Алла Дымовская
Квантор существования
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
При поддержке
© А. Дымовская, 2005
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ 1. ГНЕЗДО
ГЛАВА 1. ХОЗЯИН
ГЛАВА 2. УЧЕНИК
ГЛАВА 3. ОХОТА
ГЛАВА 4. АГАСФЕР
ГЛАВА 5. УЧИТЕЛЬ
ГЛАВА 6. КРОВЬ
ГЛАВА 7. СЛУГА
ГЛАВА 8. АРХАНГЕЛ
ГЛАВА 9. НИНДЗЯ
ГЛАВА 10. ИОРДАН
ЧАСТЬ 2. ДОМ
ГЛАВА 11. ПАЛАДИН
ГЛАВА 12. МАШЕНЬКА
ГЛАВА 13. ГЕКАТОМБА
ГЛАВА 14. АГАСФЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 15. ПЕРЕКРЕСТОК
ГЛАВА 16. ЛОВУШКА
ГЛАВА 17. НАЖИВКА
ГЛАВА 18. АПОСТОЛ
ГЛАВА 19. ТЕКИЛА-БУМ
ГЛАВА 20. РЕГТАЙМ
ЧАСТЬ 3. ПЕПЕЛИЩЕ
ГЛАВА 21. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ГЛАВА 22. АЛИСА
ГЛАВА 23. БИБИГОН
ГЛАВА 24. НЕВАЛЯШКА
ГЛАВА 25. ПТИЦА-ФЕНИКС
ГЛАВА 26. "МАКСИМКА"
ГЛАВА 27. КУКУШОНОК
ГЛАВА 28. АГАСФЕР (ОКОНЧАНИЕ)
ГЛАВА 29. АРХОНТЫ
ГЛАВА 30. ИОВ
ПРОЛОГ
Вот и прошла еще одна ночь, закончился еще один день. Еще одна ночь, и еще один день, и еще один. И каждый день был темен как ночь…
Сырость и вязкую темноту и подтекающие с журчанием лужи еще можно было как-то терпеть и даже со временем, о них забыть. Если бы не гадкий, давно уже разбухший от воды и крови обломок осины. Он по-прежнему торчал из онемелого тела, касаясь своим мерзким боком живого еще сердца. Яношу казалось, он слышит, как жалуется его сердце на такое невыносимое соседство, как жжет оно и какую несет боль. Но своему сердцу Янош как раз не сочувствовал. Счастье еще, что рука старого, воняющего страхом, горца оказалась недостаточно тверда для удара, и кол – страшный, плохо заостренный осиновый обрубок, – ушел в бок. Не убил, но пригвоздил и обездвижил надолго, может и навсегда. «Интересно, кто был тот первый дурной монах, который придумал убивать нас колом и, непременно, осиновым?», – в который раз от вынужденного бездействия спрашивал себя Янош. Убить можно чем угодно, любым оружием, подходящим и для обычных людей, но только в сердце, точно в само твое сердце. А это не так-то просто подобраться к сердцу вампира. Для простого человека это почти всегда гибель. А старик промахнулся, и острие с тошнотворным чавканием прошло мимо, но пропороло что-то важное внутри Яноша, без чего нельзя пошевелить даже кончиком бесчувственного пальца. Если бы Янош мог хоть как-то дотянуться и выдернуть проклятое дерево, рана затянулась бы в считанные часы: Солнце не успело бы пройти и половины дневного пути, как он был бы на ногах и начал бы набирать силу. Хоть бы увидеть это солнце еще когда-нибудь! «Неправда, будто мы боимся солнца. Но это надо быть последним недоумком-учеником, чтобы шляться открыто, средь бела дня по своим надобностям. Хотя был среди нас один такой. Думал: золото и власть его защитят, он и творил, что хотел. Наглый был… Из-за него-то и пошло все наперекосяк». И он, Янош, лежит тут, в кромешной тьме, и сам уже не помнит, сколько с тех пор прошло дней и лет, как суровые, одетые в патлатые козьи шкуры, полулюди сволокли его как падаль в эту дыру и, пропев над Яношем заунывный воющий плач, завалили вход камнями.
Но сейчас Яношу сильнее всего досаждало то, что уже некоторое время сверху над ним раздавались неприятные, гулкие стуки, беспорядочные и от того еще более раздражающие. Отдающая эхом возня все никак не прекращалась, а на лицо стала осыпаться колкая каменная крошка. Это продолжалось довольно долго, и Янош почти свыкся с непонятными звуками и даже напряженно прислушивался, если наступала тишина. Когда вдруг воздух разорвало диким грохотом, стократно подхваченным недрами пещеры, и Яноша ослепил резкий огненный всплеск. И тут же сильный удар по голове отправил его в небытие.
– Не понимаю я, как это могло получиться, командир! Я ведь его нечаянно уронил, да и камень-то был небольшой, – виновато бубнил, почесывая давно небритый подбородок, нескладный детина в разодранном на колене брезентовом комбинезоне.
– Ты б…, молись, что не убило никого, а то б я тебя под суд отдал. Если бы от тебя, конечно, осталось что-то! – в ответ орал на него щупленький, лысый «командир», размахивая перед собой очками в стальной оправе почему-то с одним только правым стеклом. – Это надо же, прямо на шашку! Как еще никого из нас не покалечило, диву даюсь?
– А дыру! Дыру-то какую пробило! – ахнул из-за «командирского» плеча чей-то сиплый голос, – прямо колодец какой-то.
Спелеологи столпились у пролома, беспорядочно тыча фонариками вниз.
– Смотрите, блестит что-то. Похоже – серебро или железо.
– Какое здесь железо! Ванькину флягу, небось, взрывом выкинуло.
– А там, глядите – что-то белеет. Как будто маска – вон нос, а вон вроде глаза?
– Фильмов побольше смотри, – огрызнулся лысый «командир», однако, все же опустился на коленки и заглянул в пролом, – Да посветите же, черти!
В колодце и впрямь что-то лежало. Но хоть и был он неглубок, всего лишь какие-нибудь три-четыре метра, толком разглядеть ничего не удалось. И лысый разогнал всех приводить в порядок то, что еще осталось от экспедиционного снаряжения.
Однако, после скудного, на скорую руку, обеда, любопытство все же взяло вверх. Было решено, что двое спустятся в пролом на тросах и, если обнаружат что-то интересное, попытаются по возможности поднять наверх. Остальные четверо будут страховать у колодца, по двое на каждый трос. Первым, кое-как приладив разбитые очки, в дыру стал неловко спускаться лысый «командир». За ним молодецки ухнул тот самый Ванька, чью флягу якобы взрывом забросило вниз.
На дне колодца фляги не оказалось. То, что лежало в грязной белесой луже, под обломками острой горной породы, полузасыпанное, но все же хорошо различимое, было пострашнее недавнего взрыва и порчи их имущества. Прямо у ног, будто в плохо зарытой могиле, где вместо комьев земли, блестели в лучах фонариков гранитные камешки, лежал человек. Человек этот был мертв, и, судя по почти истлевшим обрывкам его необычной одежды, мертв уже очень и очень давно.
Тело неизвестного предка, после недолгих пререканий снизу вверх, договорились все же поднять, прикрепив его к тросам на карабинах, а там уже разглядеть его получше и решить что к чему. «Командир» с Ванькой взялись за дело и, раскидав немного завал, аккуратно вытащили труп из-под оставшихся камней.
– Ничего не понимаю. Тело должно было давно сгнить или хотя бы мумифицироваться. А впечатление такое, будто-то он умер с полчаса назад.
– Может, здесь воздух какой особый,.. а, Анатолий Иваныч? Или его, перед тем как похоронить, намазали чем? – пропыхтел Ваня, подтаскивая тело к тросам.
– Иван, пожалуйста, не городи чепуху. Так труп даже в леднике не сохранить. А где ты здесь видишь лед? – «командир», нахмурясь, снял остатки очков, но тут же снова нервно водрузил их на переносицу, – И одет он, Ваня очень странно.
– Это да. Прикид, как из кино про «Трех мушкетеров», только грязный и рванный совсем, – Ванька уже крепил первый карабин, – Ну ничего, сейчас вытащим его на свет, там и будем рассматривать.
Меньше, чем через четверть часа тело уже лежало в верхней пещере на расстеленном куске брезента. Спелеологи присели рядом, мрачно разглядывая жутковатую находку. Чужой, пусть и давний, труп хорошего настроения им не прибавил.
– Ну, убили-то его ножом или кинжалом в сердце. Это понятно. Вон и рукоятка деревянная торчит… Склизкая-то какая, – брезгливо поморщился сиплый, пытаясь выдернуть из тела орудие убийства.
– Лучше не трогай его. Оставь все как есть – ты же не специалист. Может тут руками ничего трогать нельзя!?
– Да ему, бедняге, судмедэксперт уже не нужен, а на кинжал охота посмотреть, – рассмеялся негромко сиплый.
И обеими руками с силой выдернул то, что он принял за нож или кинжал, из груди лежащего перед ним мертвеца.
Янош очнулся от волшебного, до боли острого чувства легкости и пустоты внутри. Вокруг него был свет. Он пробивался даже сквозь опущенные веки, и будто уговаривал его открыть глаза и убедиться в том, что он, свет, и в самом деле существует вокруг. И Янош не замедлил приоткрыть глаза и посмотреть. И он увидел невероятную, странную, но в то же самое время, весьма приятную для себя картину. Невероятную потому, что сидевшие вокруг него люди имели совсем чудной и нелепый вид, а приятную потому, что они, переговариваясь между собой на неведомом ему языке, разглядывали, передавая друг другу, кусок осины, очевидно, только что вынутый из его, Яноша, груди. Но, посмотрев еще несколько мгновений на отрадное для себя зрелище, Янош тут же зажмурился. Он вдруг не на шутку испугался того, что сейчас эти странные люди догадаются, что к чему и уж тогда постараются как можно скорее вернуть окаянный кол на место. «А они ведь могут не промахнуться! – забилась в липком кошмаре его мысль, – И тогда уж мне конец. Защитить себя я еще долго не смогу – пока не затянется рана, и я не восстановлю хоть частичку своей силы. А мне для этого нужна кровь, очень много крови и хорошо бы свежей. Но добыть ее сейчас никак не возможно!» Холодея от смертельного страха, Янош тихо ждал конца. Но ничего такого ужасного не происходило, и ему оставалось только ждать, пока его могучий, нечеловеческий организм потихоньку сам сделает свое дело, если, конечно, Яношу и дальше улыбнется удача.
– А ножик-то деревянный. Весь! И лезвие тоже, – сказал сиплый, удивленно разглядывая то, что держал теперь в руке.
– Да не ножик это, и не кинжал. Вы будете смеяться, но это больше похоже на какой-то культовый атрибут, каким вроде бы оборотней или колдунов убивали. Было в старину такое народное поверье.
– Обратите внимание! Вот вам налицо бабкины суеверия! Бедняга, небось, прирезал чужого барана, или украл: а его колом, чтоб другим неповадно было, – Ваня забрал из рук сиплого несостоявшийся кинжал и небрежно передал его «командиру», – верно я говорю?
– Все может быть, – задумчиво сказал Анатолий Иваныч и осторожно положил полусгнившую деревяшку сверху на рюкзак, – Вот что ребята! Надо нам возвращаться. Все равно после Володиного подвига, – тут он кивнул в сторону долговязого в драном комбинезоне, – оставаться здесь смысла нет.
– Мы впятером пойдем налегке, – продолжал Анатолий Иваныч, – а ты, Ваня, останься и собери пока вещи. И жди нас. Наверное, придется вызывать милицию или пожарников, а может и МЧС-ников, чтобы тело поднять.
Ребята засобирались, что-то стали вытаскивать из рюкзаков, громко спорили, что взять, а что оставить. Лысый «командир» давал последние указания Ваньке как лучше и удобнее упаковать и сложить сильно подпорченный багаж экспедиции. На тело, лежащее в углу, уже никто не обращал внимания. Меньше чем через час «командир» со своей группой отбыл, и Ванька остался совершенно один. Напевая что-то смутно похожее на «Мой дельтаплан» и подсвечивая себе фонариком, он принялся хозяйничать в развороченной взрывом пещере.
Когда же Анатолий Иванович в сопровождении спасательных служб вернулся на место, Ивана там не было. Тело на брезенте отсутствовало тоже. Спасатели искали пропавшего спелеолога не одну неделю, но абсолютно безуспешно. Ни Ивана, ни загадочный труп они так и не нашли.
ЧАСТЬ 1. ГНЕЗДО
ГЛАВА 1. ХОЗЯИН
Рита Астахова, для друзей в просторечии просто Лесси, уже второй час одуревала от удушающей жары и осатаневших голодных комаров, которых в этом подлеске оказалось видимо-невидимо. Кэт и Ася все не возвращались, хотя спустились в гостиницу за сигаретами и пивом минут сорок назад. Лесси проклинала про себя эту дурацкую затею с поездкой на Красную поляну, дурацкий лес и дурацкий пикник, где оказываешься праздничным блюдом для кровососущих насекомых. Конечно, Большое Сочи – это не только пляж и море. Но и Поляна – не самая большая достопримечательность. Чего скрывать, они потащились сюда только из-за нового филиала гостиницы «Лазурная» в расчете на интересное знакомство, но филиал стоял полупустой и, чтобы не тратиться на посиделки в кафе, подружки расположились недалеко, на чистенькой полянке – позагорать и попить пивка. Если бы не духота и комары… Рита раскурила последнюю сигарету. Где их черти носят, этих потаскушек?
Через пару минут на тропинке снизу послышались голоса – подружек и еще незнакомые. Похоже, девчонки возвращались в компании. Ритка живо вскочила с полотенца, отряхнулась от земляной пыли и полезла в рюкзачок за пудреницей. Проверив, не сильно ли блестит от жары лицо и, на всякий случай припудрив нос, она уселась обратно, стараясь как можно изящнее вытянуть ноги. Кэт и Ася и в самом деле были не одни – с ними поднимался по тропинке молодой человек. Но как оказалось – и он был не один: его сопровождала миловидная невысокая женщина лет тридцати, сильно загорелая и с пышным шелковым платком на шее – это в такую-то жару, когда кожу хочется с себя стянуть! Ритка на всякий случай разразилась им на встречу дежурной улыбкой.
– Вот, познакомьтесь, это наша Лесси, – подойдя, сказала новеньким Кэт.
Ритка еще раз улыбнулась во все тридцать два зуба, а про себя подумала: «Катька, зараза, могла бы при чужих и по имени назвать».
– Какое у вас имя необычное, – сказала женщина с платком. И как бы с сожалением добавила – А у меня, вот, самое обыкновенное – Ирина.
– У меня тоже имя обыкновенное: Рита. А Лесси – это просто кличка такая.
Они разговорились и долго вместе пили пиво, сидя на разложенных полотенцах. Миловидного мальчика, как выяснилось, звали Артуром – очень романтично, решила Ритка, – а с Иринкой он и сам познакомился только вчера. И очень доволен – такая компанейская у нее душа – не соскучишься. Тетка действительно мировая, с такой и Ритка бы сто лет дружила, да ей, видать, с молодыми мальчуганами интересней, оно и правильно. Ритке было хорошо и просто так сидеть рядом, смеяться пустякам, смотреть, как дура Катька строит глазки Артуру, а тому ее глазки до балды – еще бы такая тетка с ним, а девиц навроде Катьки на пятак ведро.
Когда солнце стало садиться, засобирались вниз, в долину. Иринка с Артуром домой в гостиницу – переодеться к ужину, а подружкам еще надо было ловить частника до города, на гостиничные такси никаких денег не хватит. И когда уже прощались, Иринка и позвала:
– Мы с Артурчиком завтра собираемся к моим друзьям в пригород. У них что-то вроде новоселья – недавно дом купили. Пойдемте с нами, если хотите. Туда можно запросто – хозяин веселый, считает, что чем больше народу, тем лучше удается праздник.
– А удобно? Мы ведь там никого не знаем, подумают еще: какие-то нахалки приперлись без приглашения?
Ну, Аська, ну идиотка, у Риты аж руки зачесались отвесить ей плюху. Не знает она там, видишь ли, никого. Смольнинская институтка! Жаль, плюха не понадобилась, Ирочка сама красиво ей, цаце такой, ответила:
– Почему же никого не знаете? А я, а Артурчик? Вы меня, Ася, просто обижаете. Я думала, какое приятное знакомство, такие симпатичные девочки, так время хорошо вместе провели. Ну, раз мы никто, значит, никто.
– Ой, Ирочка, миленькая, да что вы козу эту нашу слушаете! – Кэт, вот молодец, вовремя схватилась,– Она ж выпендривается перед вами. Конечно, мы пойдем, спасибочки большое, а то мы тут со скуки сопьемся скоро или замуж за местных баранов повыходим. У нас билеты обратно только через неделю, так мы их уже обменять на послезавтра хотели!
Иринка, вроде бы, оттаяла, заулыбалась, и стала объяснять, где и как им лучше встретиться в городе. Договорились на семь вечера в холле гостиницы «Жемчужина». Ритку куда больше волновало, что надеть по такому случаю, она выяснила – оказалось, все что угодно, отмечать будут по-домашнему. И ладно. С вечерними туалетами у нее как всегда полный швах. Домой ехали в приподнятом настроении. И тачку поймали задешево, спасибо Артурчику, и завтра вот-те-нате, нежданное развлечение. Они с Кэт даже Аське ничего не сказали за ее дурь, таким все вокруг казалось клевым, Аська вон тоже вся светиться, принцесса малахольная, небось, размечталась, как завтра с прекрасным принцем будет знакомиться. Как же, раскатай губу, так тебе и отдай за просто так принца, не будь я Лесси. Стоящих принцев мало, а нас голодных много; конкуренция, подруга.
В номере своей заштатной гостишки с гордым названием «Кавказ» еще выпили, уже кое-чего покрепче, и Ритке стало совсем хорошо. Девчонки и вовсе расходились, стали громко петь «Стюардессу Жанну», Кэт размахивала в такт стаканом и облила полкровати, потом им стали стучать в стену, концерт пришлось прекратить. Потом завалились спать.
С утра у них сильно болели протрезвевшие головы, так что утро, собственно, началось где-то в обед. Но к вечеру, усмирив бунтующие организмы дозами кефира, подруги опять повеселели, да и пора была собираться в неожиданные гости. Когда они ровно без пяти семь пришли в «Жемчужину», Ирочка уже ждала их в вестибюле, сидя в прохладном кожаном кресле. Одета она была тоже не празднично, так – джинсики и топ, правда – вещи дорогие и хороших фирм, только яркий шарф на шее все портил и придавал ей несколько нелепый вид. Но кто его знает, может памятная вещь или просто талисман на счастье, спросить – может получиться бестактно. Через минуту подошел Артурчик, за сигаретами для дамы ходил, воспитанный малыш, и сегодня кажется особенно хорошеньким – голубая рубашечка в синюю полоску с эмблемой-крокодильчиком, Ритка знает – дорогая фирма, и глаза от этой рубашечки тоже голубые-голубые, хотя на самом деле вроде светло серые. Подошел, поздоровался:
– Привет, девчата! Вы молодцы – не опаздываете, – и повернулся к Ирочке, – ну что, может, поедем, раз все в сборе?
– Конечно, зайчик. Ты пойди с машиной договорись, а мы пока в холле подождем – здесь прохладнее, – черт, как она ему улыбается, прямо как царица Клеопатра, вот бы мне так научиться, позавидовала втихую Ритка, – а мы пока покурим. Угощайтесь, девочки, – Ирочка протянула им по очереди уже открытую, пачку.
С машиной все решилось очень быстро, и через пару минут они всей честной компанией катили по приморской дороге. Вышли где-то в частном секторе, Ритка так и не поняла куда же, в конце концов, приехали, Сочи она знала нехорошо. Потом еще немного шли по узкому проселку резко вверх, машина туда проехать не могла. Дом стоял немного на отшибе, но на вид был ничего и очень даже. Двухэтажный, с красной черепичной крышей, вроде как в швейцарском стиле, или как там называется. И участок вокруг дома был большой – с травкой и цветочками и высокими кипарисами. А вот никакого огорода не было – видать хозяева богато живут, им без надобности. И забор вокруг участка, даже не забор, а настоящая кирпичная стена выше человеческого роста – чтобы любопытные не заглядывали. Да, что не говори, дом солидный, прямо таки знатный дом. Аська, зазнайка, даже стушевалась, в землю глаза опустила, вот глупая! Ты в землю не гляди, ты вокруг гляди, слава богу, есть на что и на кого.
Гостей во внутреннем, выложенным матовой плиткой дворике, было не то чтобы много, но и не мало. А главное – были среди них гости молодые и, ничего себе, симпатичные и мужского, обратите внимание, пола. Интересно, кто же из них хозяин? Ирочка про гостеприимного хозяина-то говорила, а вот про гостеприимную хозяйку Ритка что-то никаких слов не помнит. Неужели при такой домине и неженат? А что, если он ничего себе и не старый, то такое Сочи и на Москву променять не грех. Да если и старый, то невелика беда, а страшный – так с лица не воду пить.
Потом шумно знакомились, мужчины с интересом разглядывали новеньких. Девчонки тоже не отставали, Ритка с Кэт вовсю стреляли глазками, попутно стараясь запомнить, кого как зовут. Аська тоже оттаяла, уже стояла с полным до краев бокалом и умничала перед каким-то упакованным бедолагой, на вид моложавым, но с выдающимся брюшком. Приглашенные на новоселье были люди самые разные, некоторые по своему виду походили на ответственных городских, и даже может краевых чиновников, впоследствии они ими и оказались, были и молодые и вроде бы тоже новички в компании, как Ритка со своими девчонками. Хотя некоторые из них держались как-то слишком по-свойски, как будто у себя дома, а самое удивительное – у свойских почти у всех были на шее повязаны шарфики и платки, похожие на ковбойские, на вид вроде такие же, как у Ирочки. «Какой-то тайный платочный орден», – подумала про себя Ритка и от этой забавной мысли совсем развеселилась.
– Девочки, можно вас на одну минутку, – тихо, вполголоса, позвала их Ирочка, – хотите, я вас с хозяином познакомлю?
«А то нет, не хотим! Битых полчаса мы здесь ошиваемся и без понятия у кого в гостях»,– Ритку эта мысль отчего-то привела в раздражение.
Она, нарочито чопорно, взяла под руку Кэт, и глупо ухмыляясь, торжественно объявила:
– Мы готовы. Куда прикажете пройти?
Ирочка, конечно, поняла шутку и тоже включилась в игру:
– За мной извольте следовать, – сказала она, смешно переставив слова, и поманила за собой, – сюда пожалуйте.
Ритка все еще с Катькой под ручку, пошла следом за Ирочкой, вышагивая как на параде. Отставленная Аська тащилась сзади. Ее проблемы!
Идти, правда, оказалось, недалеко, а точнее, совсем близко. Сбоку, у накрытого во дворе стола, за который еще не сели гости, стояло кресло. Не дачный парусиновый шезлонг, и не белый пластик аля-закусочная, а настоящее изящное, наверно даже старинное кресло, на гнутых инкрустированных деревом ножках. Оно было повернуто к столу своим правым благородным боком, оттого человек, сидящий в нем, был виден только в профиль. Одет он был в темные хлопковые слаксы и ослепительно белую, без единой надписи или рисунка, футболку, а ноги его были обуты в совершенно неподходящие вечерние глянцевые туфли. Ритка взглядом сначала задержалась на его руках, на удивление незагорелых, гладких и без единого волоска, с очень хорошим маникюром. Сам хозяин замечательных рук, совершенно неподвижно лежащих на мягких подлокотниках, неторопливо беседовал с вихрастым парнишкой, который в почтительной позе сидел напротив него на уже самом обыкновенном стуле. На подошедших девушек ни тот, ни другой не обратили ни малейшего внимания, даже не повернули головы. Ритка вдруг почувствовала себя преглупо, как тот пресловутый гость, который хуже татарина, однако тут Ира, слегка наклонясь из-за спинки кресла, тронула сидевшего в нем человека за плечо, и что-то еле слышно сказала ему почти в самое ухо. Сидевший в кресле кивнул ей в ответ, и небрежным жестом кисти как будто отослал прочь вихрастого парня, которого тут же словно ветром сдуло. И только после этого незнакомец медленно и, как бы лениво, поднял голову и наконец, посмотрел и на них. В тот миг, да и за все время их разговора, Рита так и не сумела разглядеть его лица, спроси ее тогда, она не смогла бы даже его описать, она сделает это только много позже, но это уже не будет иметь для нее значения. А сейчас она видела только два угольно черных, бездонных глаза, пристально, но без малейшего интереса смотрящих на нее. Как будто бы ее не собирались разглядывать, или даже просто видеть ее, просто взгляд этот не мог быть другим. И еще в Ритиной голове будто бы тонко запела некая насмешливая и очень грустная скрипка разочарования, обидный реквием ее смутным надеждам. Потому что человек с такими глазами никогда, ни при каких самых невозможных условиях, не мог стать ей ни женихом, ни тем более мужем, он вообще, она узнала это только что наверняка, не мог быть мужем никому, ни одной из них. Это было также невозможно, как выйти замуж за пушкинского «Медного всадника».
– Ян, познакомься, пожалуйста, с нашими новыми друзьями. Они очень милые девочки, приехали к нам из Москвы, – это уже Ирочка о них говорит, интересно, сколько Ритка уже стоит возле его кресла, – Море, солнце и все прочее, ты сам понимаешь. Вот эту девушку зовут Катя, такая хорошенькая, правда, Ян?
Ирочка, обняв Катьку за плечи, слегка подтолкнула ту вперед. Всегда самоуверенная, Кэт с оторопелым видом сделала шаг, запутавшись в собственных ногах, кивнула головой, будто бы здороваясь, но ни словечка не сказала. А Ирочка уже взяла за руку Аську:
– А это – Ася. У нее очень красивое русское имя.
«Да уж, пожалуй, в нашей Аське ничего больше хорошего и нет», – как-то некстати подумалось Рите, и, не дожидаясь, пока ее саму представят загадочному Яну, она совершила совершенно неожиданный для себя самой поступок: протянув руку, шагнула к креслу, и нарочно громко сказала:
– Здравствуйте. Я – Лесси. Очень приятно с вами познакомиться, – она как будто хотела сама для себя сжечь все существующие и несуществующие мосты, дать ему понять – она для него не милая девочка, она – нечто среднего рода, с глупой собачьей кличкой. Однако рука ее повисла в воздухе, и получилось только неловкость.
Этому человеку, похоже, было вообще наплевать и на ее прозвище и на ее пол. В его глазах не было ни любопытства, ни раздражения ее выходкой. Так, как он смотрел на Лесси, люди вообще не смотрят на людей, так можно разглядывать только неодушевленный предмет или в лучшем случае собаку, или хотя бы кошку. И если бы в его взгляде виделась бы усталость или признаки какой-то подтачивающей его силы хвори, Лесси бы не было ни сколечки обидно. Но нет, это было холодное равнодушие большого зверя, который насытился и теперь ленится даже смотреть на добычу. В черной радужке глаза, почти слившейся со зрачком, Лесси увидела и некую враждебную мощь, надежно спрятанную за показной неподвижностью тела.
Не обращая внимания на ее все еще глупо висящую в воздухе руку, которую Рита, засмотревшись, так и не догадалась убрать, Ян, уже ставший ей неприятным, коротко кивнул только одной Ирочке, и тут же отвернулся, давая понять, что представление гостей хозяину окончено. За все это очень короткое время он так и не сказал им ни единого слова. Однако Ирочка ничуть не была обескуражена нерадушным приемом, и едва они отошли от владетельного кресла, тут же потащила подружек к накрытым под тентом столам.
Там уже шумно, вразнобой, сновали приглашенные на новоселье, брали, кому что приглянется с фаянсовых тарелок и мельхиоровых блюд, но никто не садился, ели, стоя, даже скорее на ходу. Кто-то, будучи уже слегка навеселе, пытался спеть, и, судя по невнятным звукам, делал это с набитым ртом. Правда, еда была что надо, не магазинная, а свежайшая крестьянская, с местным колоритом: и нежнейшие шашлыки и обрызганная водой зелень. Особенно хороша была рыба – запеченная, под маринадом, жаренная с луком и обложенная салатом с какими-то незнакомыми травами. Рита съела изрядный кусок речной форели, приготовленный во фритюре, и не удержалась – взяла еще, черт с ней, с диетой, вкусно было так, что пальчики оближешь. Кэт с Аськой тоже не отставали, только Катьку скоро развезло от домашнего вина, и передвигалась она не очень уверенно, держась рукой за край стола. Рита хотела подойти, но Аська сама догадалась: взяла ее за локоть. Ну, теперь ничего, не упадет, и Рита, взяв с собой полный бокал, отправилась на поиски куда-то подевавшейся Ирочки. Вино придало ей смелости, и ей захотелось поговорить об этом нахальном Яне, кто он вообще такой и откуда он взялся, и как посмел игнорировать ее, Ритку. Прежняя ее оторопь и подспудный страх отступили под благотворным влиянием спиртного, и разговор казался ей вполне уместным. Ирочку она обнаружила неожиданно в углу веранды. Та перевязывала заново растрепавшийся шарфик и была совершенно одна. Ритка подошла к ней и молча стала рядом, засмотревшись на ее голую, беленькую, чуть коротковатую шею. Ирочка встряхнула в руках легкую шелковую ткань, посмотрела ее на свет – не запачкала ли, и только потом улыбнулась Рите:
– Что это ты так меня разглядываешь? У меня что, волосы не в порядке?
– Да нет, все хорошо. Я просто подумала, раз ты все время носишь на шее этот платок, то у тебя под ним спрятана безобразная родинка, а может большая бородавка или уродливый шрам? А ничего на самом деле нет. Я, наверное, очень глупая, правда?
– Вовсе ты не глупая, – Ирочка весело и как-то по-хорошему рассмеялась, – нормальное человеческое любопытство. Представляю, как ты ожидала увидеть что-то страшное и необыкновенное, а увидела самую обыкновенную и не очень красивую шею, а? – Ирочка засмеялась уже громче. – Ты, наверное, даже огорчилась, ну скажи честно?
– Ага, огорчилась. – Ритке тоже стало смешно, – Ну я и дура!
– А меня спросить тебе в голову не пришло? Думала у меня какой-то секрет за семью печатями?
– Да как-то неудобно было. Вдруг ты бы рассердилась?
– НЕ рассердилась, – Ирочка перестала смеяться и спокойно сказала, – на самом деле, если ты обратила внимание, здесь половина ребят с такими же платками. Это просто такая местная мода.
– Очень местная? – все еще веселясь, спросила Ритка.
– В каком смысле?
– Ну, кроме как здесь, в смысле – в этом доме, я ни на ком больше в городе таких шарфов не видела. Это же непрактично в такую жару.
– А ты на самом деле глазастая, – в Ирочкином голосе была чуть ли не неприязнь, или Ритке это показалось, но было понятно, что высказанное ею наблюдение отчего-то не понравилось.
– Ты извини меня, если я не так что-то сказала. Я же не в обиду. Ходите как хотите, подумаешь! Я когда-то волосы под еж постригла и в зеленый цвет покрасила, целый месяц так и проходила, представляешь?
– Нет, если честно, не представляю, – Ирочка опять улыбалась, наверное, это Риткино извинение подействовало, – а ты меня искала или так, мимо проходила?
Но Ритин запал давно прошел, и спрашивать о страшноватом хозяине уже не хотелось. Ей вдруг подумалось, что вдруг этот Ян какой-нибудь криминальный авторитет, а в его мире за ненужные вопросы можно потом дорого заплатить. Хотя если уж он на кого и походил, то уж меньше всего на бандита. Но береженного, как известно, бог бережет, и Ритка решила не рисковать и сказать что-нибудь совсем постороннее:
– Там, по-моему, с Катькой плохо. Я боюсь, она пьяная совсем.
– Не волнуйся, сейчас разберемся. Пошли посмотрим, что там у вас делается.
Катька и впрямь была хороша. Пока Риты не было, она успела набраться еще больше и выглядела совсем непрезентабельно: волосы распустились и лезли ей в лицо, мутные глаза смотрели совершенно бессознательно, а нижняя губа оттопырилась, как у обиженного ребенка, того и гляди потекут слюни.
Вдвоем с Ирочкой они кое-как дотащили упирающуюся подругу до туалетной комнаты, хорошо, такая была на первом этаже, и силой промыли ей желудок. Потом Катьку усадили под развесистой грушей на чугунную садовую скамейку подальше от гостей, чтоб не пугала их своим видом. Аська принесла со стола кувшин с квасом и, как настоящая сестра милосердия, села рядом поить ее потихоньку. Ритке больше рядом с ними стоять было незачем, что могла она и так сделала:
– Ась, я пойду к народу, покручусь там немного, а то неудобно. Ты за Катькой присмотри, если не в напряг, хорошо? – Аська молча кивнула. Рита пошла обратно, под расписной навес: Ирочка уже махала ей из-за стола рукой, подзывая к себе.
– Не переживай, ничего с твоей Катей не случиться, не она первая. Через полчаса в себя придет и дальше гулять будет, – успокоила она Риту, – это все из-за местного вина, с непривычки.
– Нехорошо получилось. Первый раз в чужом доме, и такая срамота. Что теперь о нас подумают?
– А тебе не все равно? Ты их первый и последний раз в жизни видишь. И вообще, скоро все важняки разъедутся и останутся только свои, вот тогда по-настоящему и повеселимся.
– Кто разъедется?– не поняла ее Рита.
– Видишь ли, малышка, хозяин этого дома достаточно большой и уважаемый человек. Поэтому местным власть имущим персонам, иначе – «важнякам», вовсе не зазорно принимать его приглашения, скорее наоборот. Только долго они не засиживаются, отметились, выпили и гуд бай, – Ирочка допила залпом вино, и, аккуратно поставив темно-синий бокал на краешек стола, наклонилась к риткиному уху, – Я пойду с Артуром пообщаюсь, что-то он без меня заскучал. А ты пока с нашими ребятами поближе познакомься, они славные, веселые. Эй, Саша, и ты Максим! – громко позвала Ирочка.
Стоящие рядом двое мальчиков с расписными платками, завязанными на манер пионерских галстуков, прервали разговор и обернулись. У них и правда были хорошие, милые лица, и они совсем не казались пьяными. Услышав, что именно от них требуется, тут же выступили в роли массовиков-затейников и, честно сказать, Ритке это пришлось по душе.
После еще пары бокалов белого вина, галантно налитого ей ребятами, Ритке и вовсе стало казаться, что она знакома с Максом и Сашком сто лет. Она смеялась их байкам и анекдотам, некоторые из них были с длиннющей бородой, рассказывала сама, может не совсем к месту и удачно, но алкоголь уже брал свое. Она напрочь забыла про оставленную под деревом Катьку, и упустила момент, когда основная масса гостей стала разъезжаться по домам.
На дворик нежно и быстро опускалась плотная южная темнота, и кто-то заботливой рукой зажег стоящие по периметру фонари. Но, как и обещала Ирочка, веселье только-только стало набирать ход. Оставшиеся, исключительно молодежь, словно перестали стесняться строгих учителей и разошлись вовсю. Уже заиграла и музыка. Рита, подхватив под руку Сашка, выкрикивавшего в задоре «Гей, славяне!», пыталась исполнить что-то похожее на кривой канкан. Танцевала даже Катька, успевшая к этому времени протрезветь и опять основательно нагрузиться. Рите же, напротив, казалось, что чем больше она пьет, тем яснее становиться у нее в голове, что, однако, нисколько не мешало ей и дальше получать максимум удовольствия от жизни. Когда же все порядком подустали, и на открытом ночном воздухе стало прохладно из-за ветра с гор, Ирочка, держа за руку покачивающегося Артурчика, предложила перейти в дом. Ритке показалось это странным, наверное, такое приглашение было бы более уместно услышать из уст самого хозяина особняка, но он, похоже, окончательно самоустранился с собственного новоселья, по крайней мере после той неприятной первой и последней с ним встречи, Ритка больше его во дворике не видела. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Раз Ирочка считает, что все так и должно быть, то пусть так и будет, ей конечно, видней.
Дом изнутри тоже производил немалое впечатление. Одни белые кожаные диваны чего стоили. Ритке как-то некстати подумалось: сколько же хлопот стоит содержать их в такой умопомрачительной чистоте. И мозаичный, изумрудно-зеленый пол был хорош, только на нем не лежало ни единого коврика или хотя бы крошечного половичка, впрочем, так, наверное, было удобней его мыть, хоть и в ущерб уюту. А техника! Настоящий огромный домашний кинотеатр, с кучей колонок по всей гостиной. Ритка могла только догадываться о богатстве отделки всех остальных комнат, но, судя по увиденному, вряд ли они были хуже. Только вот не похоже что-то, чтобы в этот дом только что переехали: конечно, мебель дорогая и, кажется, почти новая, но уж слишком прочно стоит все на своих местах, и поставлено отнюдь не вчера. Так что вряд ли они здесь на новоселье. Впрочем, Риту это мало волновало, была бы охота погулять, а повод, для приличия, можно найти любой.
Группками и парочками расселись на замечательных диванах, телик ненавязчиво транслировал бог весть какой музыкальный канал. Опять выпивали, но уже не так шумно, больше было разговоров, какие приняты у не совсем трезвых людей. Наливали исключительно иностранное и, видно недешевое виски, Рита такой марки не знала и тем более не пробовала никогда. Но коктейль из него получился удивительно вкусным: с кока-колой, колотым льдом и тонким ломтиком лимона. Общая беседа как-то сама собой вскоре сошла на нет, наступила задушевная фаза откровений с ближайшим соседом. Рите подумалось, как странно они все распределились. Сама она сидела, откинувшись на жестковатую кожаную подушку, рядом с Ирочкой, та мягко держала Риткину руку в своих ладонях и трагичным голосом рассказывала про свою не так давно покойную маму. Аська и Кэт шептались о чем-то вполголоса с рыженькой девчушкой, чье имя она так и не смогла припомнить, и время от времени смущенно хихикали. Рядом с ними сидел со стаканом Стасик, приятель рыжей девочки, и терпеливо ждал, пока они вдоволь насекретничаются, и пустят его обратно в свою компанию. Артурчик что-то возбужденно обсуждал с Сашком и Максиком, кажется, речь шла о скандалах в шоу-бизнесе. Максик то и дело, как бы слегка обнимая, клал руку Артуру на плечо. «Неужели же они с Сашком оба голубые? Жалость какая, как хороший парень, так непременно гей» – подумалось Ритке. Но, если честно признаться, Ирочка тоже вела себя не очень убедительно. Сидит возле Ритки, гладит и перебирает ее пальцы, несет какую-то ахинею про умерших родственников, а сама с непонятной жадностью заглядывает ей в глаза. Шла бы лучше к своему Артуру и охмуряла бы его, чем на Ритку время тратить. Ритка лесбиянкой никогда не была и становиться ею не собиралась, даже в угоду любой дружбе. Но и затевать ссору из-за Ирочкиного игривого настроения ей тоже было лень: Ритку уже разморило и немного стало клонить в сон. Заметив это, Ирочка предложила ей сходить вместе на кухню и принести еще льда, а заодно и немного прогуляться. Рита согласилась, но про себя решила, что если совместный поход только повод для объяснения, то она, Ритка, на любые сексуальные предложения ответит как надо и в выражениях стесняться не будет.
Одновременно поднявшись с уютного дивана, они пошли к двери, видимо ведущей в кухню, и Ирочка успокаивающе махнула рукой оглянувшемуся на них Стасику: мол, ничего не случилось, все в порядке, они скоро вернуться. Выходя из гостиной, Ирочка как бы невзначай щелкнула выключателем, и комната погрузилась в полумрак, освещаемый только мерцанием громадного телеэкрана. В коридоре свет тоже не горел, так что добираться им пришлось почти на ощупь вдоль стен. Прибыв на место, Ирочка тоже не включила освещение, а может, она просто не знала, как это сделать. Так что просторное, поблескивающее никелем и хромом, помещение не было погружено в полную темноту только благодаря фонарям, светящим из дворика сквозь два распахнутых, правда, забранных решеткой окна.
Риткино разыгравшееся в алкогольных парах воображение, вдруг представило ее в сказочном, набитом сокровищами, гроте, в который сквозь листву пробивается своим сиянием луна, как будто она сама – Белоснежка, а сейчас из-под земли вот-вот должны появиться гномы. На душе у нее стало одновременно торжественно и немного жутко, и легкие, колющие мурашки побежали по плечам и по спине. Она оперлась одной рукой на большое деревянное, шершавое на ощупь, сооружение, стоящее посреди комнаты-грота, кажется, просто обеденный стол, заставленный всякой хозяйственной ерундой, но глаза еще не совсем привыкли к полутьме, и толком она ничего разглядеть не могла. Ирочка подошла и стала рядом с ней, взяла ее осторожно и медленно за оба запястья и крепко, с необычной для женщины силой, их сжала. Они так и стояли какое-то время, глядя друг дружке в глаза, потом Ирочка улыбнулась, и Ритке привиделось в ее сверкавших в неверном свете фонарей зрачках что-то неприятно-хищное. «Вот оно! Сейчас она и начнет ко мне приставать»– решила Рита и приготовилась к должному отпору. Но Ирочка ничего не говорила, только продолжала смотреть на Ритку, и взгляд ее делался каким-то все более жадным и отстраненно-ненормальным. Она улыбнулась еще раз, широко оскалив крупные зубы. Ритке этот спектакль уже порядком надоел, ей было неприятно и неуютно, Если у милейшей Ирочки не все в порядке с очаровательной головкой, то пусть лечится, а не пугает людей по ночам на темных кухнях. Рита набрала в легкие побольше воздуха, и, на секунду задержав дыхание, приготовилась высказать в лицо новоявленной подруге все, что она по ее поводу думает. Однако ничего этого Рита сделать не успела.
Толчок был настолько силен, что отлетев навзничь на твердую столешницу и пренеприятно ударившись о край затылком, Ритка, обалдев от боли и неожиданности, на секунду решила, что началось землетрясение. В самом деле, не могла же тоненькая, изящная Ирочка, приподнять ее и отшвырнуть с такой силой, какая найдется не у каждого здорового мужчины? Тут же Ритка задохнулась от оглушающего, нестерпимого удара под ложечку, и, мгновением позже, Ирочкины пальцы впились ей в волосы и вывернули голову так, что у бедной Ритки затрещали шейные позвонки. Навалившись на нее всем телом, Ирочка, с нелюдским потусторонним рыком, свободной рукой разорвала тоненький синтетический шелк риткиной маечки, обнажив ей плечо. И Риту как будто ножом полоснуло где-то у самого горла повыше ключицы. Ее возмущенное, покалеченное тело взбунтовалось само, помимо разумной воли и сознания, которое уже ничего не контролировало и, находясь в полной прострации, увы, ничем помочь не могло. Нервы и мышцы напряглись, пытаясь защититься от смертельной угрозы, древний могучий инстинкт самосохранения раньше мозга понял, что сейчас ее будут убивать, совсем страшным и зверским способом. Изогнувшись, изо всех сил она рванулась из держащих ее как клещи, рук Ирочки, и что-то очень острое рассекло ей кожу от горла до самой подмышки. Рана тут же налилась огнем, но это только подстегнуло Ритку. Она рванулась еще раз и почти чудом вывернулась из-под намертво вдавливающего ее Ирочкиного тела. И тут в свете луны, падающем из распахнутого окна, Ритка увидела лицо своей недавней подруги. Безумное, с блуждающими глазами, с открытым, ощерившимся ртом, издающим хриплые каркающие звуки, с кровью и слюной, стекавшими с губ, оно было мерзко и ужасно, захватывающе отвратительно. Риткина нога, на миг прижавшаяся коленкой к ее животу, отстрелилась как тугая пружина, и тонкий, подобный новенькому гвоздю, остроконечный каблучок, весьма и весьма немаленькой длины, со всего маху вонзился в Ирочкин бок, пропоров и материю и плоть, и тут же, с режущим ухо чмоканием, был выдернут обратно. Ирочка отступила на шаг назад, непонимающие зрачки ее глаз заскользили сначала по Ритке, потом перешли на рану в боку, недоумевая, что же теперь в первую очередь надо делать: добить Ритку или заняться сперва собственными физическими повреждениями, но никакого решения им принять не удалось: Ирочка вдруг, коротко перехватив воздух, мешком осела на пол. Ритка не стала проверять, что с ней: инстинкт погнал ее прочь, вон от страшного места, она еще не пришла в себя и даже не была в состоянии закричать. Зарешеченные окна не могли вывести ее наружу, и она бросилась обратно в темный коридор, ориентируясь на слабую полоску света, видневшуюся из-под двери гостиной. На бегу вломившись в проем, она бомбой ворвалась в зал, еще даже не зная, как она обо всем расскажет и как объяснит случившееся с ней остальным. Но наверняка они все вместе что-нибудь придумают, свяжут спятившую Ирочку и вызовут «скорую», и, главное, включат везде свет, и вместе не будет страшно. Однако, охватив единым взглядом людей вокруг нее, Рита поняла, уже не сумев удивиться, что объяснять никому ничего не надо, а надо бежать и из этой комнаты тоже и как можно скорее. Ее подруги и Артурчик, растрепанные и окровавленные, лежали на изумрудном мраморном полу, а над ними склонились твари с такими же жуткими, как у дорогой подруги Ирочки, перекошенными и безумными, в красных потеках, лицами. Правда, в данную секунду лица эти, оторвавшись от своих, наверное, уже мертвых жертв, были обращены на Ритку, не понимая, как она могла опять сюда попасть, и тем более на своих ногах. Ритка, конечно не стала дожидаться, пока они сообразят, что к чему, и выскочила из дома на веранду, а дальше во дворик с неубранными, разоренными столами. Из глубокого, с рваными краями, пореза сочилась кровь, и Ритка пыталась ее остановить, на бегу прижимая к ране обрывки кофточки. Из дома уже неслись громкие гневные крики, и Рита заметалась по участку в поисках выхода. Въездные железные ворота оказались запертыми на внушительный амбарный замок и, не найдя ничего похожего на калитку, Рита побежала вдоль глухого забора, пребольно цепляясь за росшие там кусты декоративной малины. О том, чтобы как-то перелезть на другую сторону не было и речи, и не только из-за проклятых кустов: кирпичная, гладкая стена была вдвое выше нее! В самом углу сада она, наконец, налетела на неказистое деревянное строение, вроде бы сарай, но в темноте было плохо видно. Неслушающимися руками Рита нащупала задвижку и, слава богу, ветхая дверь отворилась. Ритка мышкой скользнула в душную, пыльную темень, и ощупью не найдя изнутри засова, как можно плотнее постаралась прикрыть за собой вход. Стараясь поменьше шуметь она стала пробираться в глубь сарая, шаря перед собой вслепую руками. У дальней стены споткнулась о груду барахла, прикрытую шершавой, грубой мешковиной. Ни о чем уже не думая, Ритка стащила с кучи вонючую рогожку, и, завернувшись в нее с головой, заползла, с трудом протиснувшись, под какие-то занозистые доски. Кровь так оглушающе стучала в ее висках, что Ритка ничего не могла слышать кроме этих барабанных звуков. Однако ничто не длится вечно, проходит и самый лютый ужас, и Ритка постепенно стала приходить в себя, страх смерти на время отпустил ее, дав хоть какую-то возможность воспринимать реальность и осознать, наконец, все, что с ней случилось. Визгливые, перекликающиеся между собой голоса, как ей казалось, раздавались уже по всему ночному саду, разыскивая ее, и Ритка разумно решила, что перво-наперво ей надо затаиться и постараться ничем себя не выдать и тем временем обдумать, что же ей делать дальше. «Самое главное – это не впадать в панику, иначе мне хана, как пить дать», – тихо шептала сама себе Рита, и шелест собственного голоса ее успокаивал. Но мысли в ее голове были совсем нерадостными. Если бы Ритка имела хоть отдаленное понятие о том, за что и почему ее пытались убить, да еще так извращенно и жутко, она, быть может, сумела найти какой-нибудь хоть плохонький вариант и, чем черт не шутит, попыталась бы договориться со своими мучителями. Ритка отдаленно слыхала о разных страшных сектах, где приносят кровавые человеческие жертвы, знала она и массу зловещих баек о темной религии вуду, почерпнутых в большинстве своем из зарубежного кинематографа. В любом случае она могла бы с три короба наврать им, что придерживается той же веры и относиться с благоговением к их культу и ее вообще приняли не за того человека, она сними одного поля ягода. Что угодно могла бы сказать и сделать, лишь бы только выжить, лишь бы отпустили. А там – до ближайшего отделения милиции, и будь что будет. Худо было, однако, то, что она не имела ни малейшего представления о предмете переговоров, ни о чем похожем на этот загадочный смертельный обряд она в настоящей жизни и ведать не ведала. И тут, вспомнив о погибших Кате и Асе, заново увидев их, лежащих на полу в луже собственной крови, Ритка, не удержавшись, заплакала, закусив костяшки пальцев. Она плакала и одновременно думала о том, как познакомилась с ними, придя на первый курс скромного медучилища в своей родной Москве, как ссорилась с ними поочереди и всегда мирилась, как обижалась и обижала сама, как временами презирала Катьку и часто раздражалась на Аськину занудливость, но за два года они все же сумели стать настоящими подругами, и вот теперь она потеряла их обеих, и неизвестно еще, сумеет ли спасти себя. И когда ей стало совсем худо, она, давясь собственными слезами в спазмах сдерживаемых изо всех сил всхлипов, подумала и о маме, которая теперь так далеко от нее, и отчего-то верила что мама ее, тихая, замученная хлопотами и непроходящей усталостью, мама уж конечно смогла бы ее защитить, окажись она рядом сейчас со своей умирающей от страха дочерью.
Бедная Рита, для нее полной неожиданностью было это дарованное ей время перед неминуемой, как ей самой казалось, смертью, и необходимость заполнения этого времени своими мыслями и чувствами. Ей то хотелось каяться в недостойных поступках, то вопить о несправедливости и незаслуженности наказания. Ибо Рита, затаившаяся мышонком под жесткой рогожкой, не могла уже помыслить о своей участи иначе, как о суровой каре, постигшей ее неизвестно за какие грехи. И мучительна была невозможность сейчас же просить прощения у близких и родных ей людей, перед которыми она в эти тягучие минуты чувствовала особо острую вину. Маленький братик Семка, сводный, не родной, она ревновала к нему мать, отказывалась сидеть с ним и часто грубо отсылала прочь, когда Семка по-детски приставал к ней со своими книжками и машинками. Только бы вернуться живой, и у Семушки, клялась она себе, будет лучшая в мире сестра и нянька. Она и за собаками отчима, дяди Гриши будет ухаживать, будет ему помогать: ведь он же для них старается, возится с огромными злющими русскими терьерами, он, инженер и кандидат химических наук, вынужден разводить этих сторожевых монстров, чтобы кормить семью. Тихий, непьющий дядя Гриша, он ведь слова не говорит в ответ, когда Рита громко, по-хамски, возмущается на всю их малогабаритную квартиру, что в доме воняет псиной и нечем дышать от шерсти и вообще не повернуться, и грозит подсыпать отравы в собачьи корма, если Гриша от них не избавится. И как должное берет у него деньги, полученные от продажи ненавистных ей животных. А бедная мама ничего не говорит, боится открытого конфликта между ней и дядей Гришей, чувствует себя будто бы в чем-то неправой перед ними обоими, и изводится, изводится без конца. Рита же видит непереносимые мамины нервы и терзания, но разве это всерьез трогает ее? Господи, мамочка, только бы мне вернуться, и ты увидишь, любимая, дорогая моя, какая замечательная теперь у тебя дочь. Уйдешь со своей дурацкой чаеразвесочной фабрики, с жалких бухгалтерских копеек, и с постоянных подработок на стороне: заплатят – не заплатят. Я буду кормить тебя, работать как проклятая и кормить тебя, вас всех. Господи, только бы мне выжить, выбраться, помоги мне, Господи…
Под повторяющиеся, как молитва мысли, разум ее постепенно впадал в полусон-полутранс, реальность расплывалась, и в глаза и сознание, сквозь мрак сарая, медленно заползали миражи и видения. Ритку тошнило, и, казалось, поднималась температура, но она не беспокоилась об этом, дурманящая слабость накатила на все ее тело, и не оставалось сил пошевелиться или испугаться. Ей было плохо и ей было все равно. Она не заснула, но и не воспринимала окружающее по-настоящему. Найдут ее или не найдут – она не станет больше волноваться.
Рита не представляла, сколько прошло времени, когда, наконец, со скрипом открылась дверь сарая. Ее по-прежнему трясло в лихорадке и мутило еще сильнее, но тело ее оставалось скованным и безразличным, только глаза приоткрылись в безотчетной тревоге. Сквозь рассохшиеся доски пробивался слабый утренний, серый лучик. Значит, уже рассвело, и вот, за ней пришли. Послышались легкие шаги сразу нескольких человек и неторопливые, приглушенные туманной дымкой голоса. Потом Ритка увидела над собой чье-то лицо, озабоченное и кажется, раздосадованное, но на удивление незлое. Лицо присевшего над ней вдруг резко отвернулось, и невидимые ей губы резко выкрикнули что-то, но Ритка уже могла услышать и воспринять что именно:
– Быстрее бегите за Яном. Скажите – непредвиденные обстоятельства! Без него ничего поделать нельзя, – и уже тише голос добавил, – впрочем, этого и следовало ожидать. Уже целых шесть часов прошло, не шутка.
Рита не видела, к кому обращался этот человек, судя по голосу, молодой мужчина, но услышала стремительно удаляющийся топот ног. Она попыталась рассмотреть и возможно, узнать склонившегося к ней, но безуспешно, было еще недостаточно светло. Тут неожиданно его прохладная рука легла Ритке на лоб, откинув не без нежности назад ее волосы, она дернулась, но незнакомец успокоил ее, слегка погладив по голове. Тогда Ритка непроизвольно прижалась щекой к его руке, на большую благодарность у нее просто не было сил.
– Вот и умница, вот и молодец. Все будет хорошо. Сейчас придет Ян, и все будет совсем хорошо. Ты уж немножко потерпи, – он, казалось, обращался не к Рите, а говорил куда-то в пустоту, и эта отстраненность его речи успокоила ее совершенно.
Ритка почувствовала, что вот теперь она по-настоящему засыпает, страха больше не осталось в ней, была только усталая опустошенность. Из дверей снова донесся шум и голоса, взволнованные, но тихие. Кто-то подошел к ней крупным, тяжелым шагом, шаги остальных словно рассеялись вокруг мелкой дробью. На секунду в сарае наступило полное молчание.
– Оставьте ее, слишком поздно, – огромная темная фигура нависла над Риткой, и твердые холодные пальцы попробовали пульс на ее израненной, измазанной засохшей кровью шее, – ее надо перенести в дом и побыстрее, – категорически жестко приказал незнакомый голос.
– Но, Ян, мы же никого из них не собирались оставлять, – прозвучал чей-то агрессивно-опасливый ответ.
– Мы не убиваем своих, ты знаешь правило не хуже меня. Делаете, что я сказал, – потом, более не добавив ни слова темная фигура – Ян, отвернулся и не глядя уже на Риту вышел из сарая прочь.
И тотчас ее подхватили, понесли прочь, достаточно бережно и осторожно, чтобы она поняла – жертвоприношение откладывается или вовсе отменяется по неясной пока причине, что никто не собирается в настоящий момент лишать ее жизни, а наоборот – ее уносят, чтобы помочь. Прохладный и свежий воздух сада взбодрил и освежил ее, и Ритка, наконец, смогла прочувствовать то, насколько ей на самом деле плохо. Тело ее ныло и болело, горячка выламывала суставы, ее одновременно и невыносимо тошнило и мучительно хотелось пить, страшно саднили десны, и язык, казалось, распух до невообразимых размеров. Ритку внесли в тот самый холл с изумрудно-зеленым полом, и аккуратно и молча положили на один из диванов. « На пол не кладут ковров, чтобы легче было смыть кровь», – некстати подумалось Рите, но ее вялый мозг уже никак не отреагировал на страшную догадку.
Человек, утешавший ее в сарае, присел возле нее, остальные куда-то разбежались. Он улыбнулся Рите и сказал, что надо еще совсем чуть-чуть потерпеть, что сейчас ей принесут лекарство, и она спокойно заснет, а когда проснется, боли уже не будет и она поправится. И Рита поверила ему, и Рита вдруг узнала его. Это был водитель машины, который вез их от гостиницы до самого этого дома. Но она уже ничему не удивлялась, ей даже показалось, что все в этом городе связаны с ней и с ее судьбой, и случайностей здесь просто не бывает. И тогда она спросила:
– Как вас зовут?
– Михаил… Миша, – ответил он, и вроде бы обрадовался, что девушка, наконец, заговорила, – Как вы себя чувствуете?
– Спасибо, плохо, – честно призналась Рита, – вы мне поможете?
– Конечно, помогу, ведь вы теперь с нами.
– В каком смысле: я с вами? – удивилась Ритка, и попыталась слегка подняться.
– Лежите, лежите, Вам сейчас нельзя двигаться, – забеспокоился Миша, – и разговаривать тоже не надо. Вам потом все объяснят. И не бойтесь, никто Вас не обидит, даю слово!
Миша протянул руку над Ритиной головой, и кто-то подошедший сзади дивана сунул ему чуть дымящуюся кружку. Потом Миша приподнял Рите голову и поднес неприятно и душно пахнущее питье к самым ее губам:
– Это нужно непременно выпить. Все до дна. Если вы хотите побыстрее выздороветь, – и, сказав так, он начал потихоньку, помалу поить ее из кружки.
К тому времени, когда Рита выпила все до последней капли, ее уже неудержимо тянуло в сон. Боль как будто понемногу отступила, оставив место томной расслабленности. И перед тем, как окончательно и блаженно отключиться, она через силу растянула рот в некое подобие улыбки, в благодарность Мише за его хлопоты. Он понял это, и кивнул в ответ. И последнее, что она услышала сквозь пеленавшую ее темноту, было:
– С днем рождения, тебя, сестра!
ГЛАВА 2. УЧЕНИК
И настал день. Солнце упрямо пробивалось сквозь единственную, узкую щель плотно задернутых, вытканных замысловатым узором занавесок. Снаружи доносились разбудившие ее звуки популярной молодежной песни, смешивавшиеся с голосом диктора, читавшего новости. Рита Астахова открыла глаза и, увидев себя в незнакомой комнате, рывком села в кровати. На ней была чужая, не по росту, летняя пижама, рука ее на сгибе локтя заклеена пластырем, от которого тянулась тонкая пластиковая трубочка капельницы. Кроме Риты в комнате никого не было. Она посидела немного, бессмысленно глядя перед собой, но внезапно накатившая дурнота вынудила ее снова лечь. Сколько времени она уже лежит больная в этой чужой постели, Рита точно не знала, вернее не помнила. В комнате то было совершенно темно, то, изредка, ей казался вокруг полусумеречный свет. Рита была больна, она совершенно в этом уверенна, и она помнит, хотя и очень смутно, возле себя дружеские лица и руки, помогавшие ей. Рите и сейчас еще было нехорошо, зато, слава богу, она полностью пришла в себя. Полежав еще немного, она ощутила естественную потребность организма в совершении кое-каких своих нужд, но встать сама не решилась. Тогда Рита позвала наудачу: «Эй!», ни к кому конкретно не обращаясь. Крик ее получился тихим и жалким, в горле от усилия неприятно запершило. Однако, как ни странно, она была услышана. Где-то за дверью засеменили торопливые шажки, и через пару мгновений в комнату проскользнула едва слышно, длинноволосая девушка. Ритка уже видела ее раньше: она была в ту роковую ночь со своим парнем Стасиком в этом доме, и, кажется, именно ее лицо Рита видела склоненным в кровавом оскале над несчастной Катькой. Но сейчас девушка выглядела абсолютно нормальной, только сильно обеспокоенной. Однако, увидев лежащую с открытыми глазами Риту, она вроде бы обрадовалась, по крайней мере, она заулыбалась, но тут же замахала на Ритку руками:
– Лежи, лежи! И не думай даже вставать! А то мне за тебя попадет!
– А ты кто? – слабым голосом, но достаточно дружелюбно спросила ее Рита.
– Я – Тата. Это имя для своих, – сказала та со значением, словно причисляя Ритку к некоему избранному кругу, – Если тебе что-то нужно, ты сразу зови меня. Тебе уже лучше?
– Да, вроде ничего. Вот только встать не получается, а мне надо… – и Рита без смущения объяснила внимательно слушавшей ее Тате, что именно ей надо.
Вопрос был тут же решен с удобствами и без проблем. «Как, однако, у них все оборудовано! Наверно, как в самых дорогих больницах», – делая свое дело, думала Рита. Но заботу о себе принимала с удовольствием, несмотря на неясное свое положение в этом доме. Оказав Рите необходимую помощь, Тата собралась уходить, сказав, что скоро вернется с завтраком, а потом поможет Рите умыться, потому что кое-кто, добавила она игриво, очень хочет ее навестить.
Когда с едой и гигиеническими процедурами было покончено, и Тата, собрав пустую посуду на поднос, ушла, тут же в дверь легко, но уверенно постучали, и, не дожидаясь Ритиного позволения, к ней в комнату почти бесшумно зашел Миша. И Рите стало вдруг как-то особенно приятно оттого, что именно Миша захотел увидеть ее, и вот он пришел и теперь берет стул и садится рядом с ее кроватью. Он был так добр к ней, когда ее принесли совсем плохую из того ужасного сарая, и Рита была уверенна тогда, что умирает, а Миша утешал ее и уговаривал не бояться. Она запомнила его как единственное, светлое пятно среди кошмара и боли последних дней, бог знает сколько их прошло, она не может вспомнить. А Миша сидел и молча и серьезно смотрел на нее. Рита подумала, что он очень симпатичный и, наверно сильный и умный, несмотря на несколько угрюмый вид. И серый, плотный костюм, и отглаженная рубашка и идеально повязанный тугой галстук выглядели на нем совершенно естественно, хоть бы и в такую несусветную июльскую жару. И еще Рита поняла: он ждет, что она первая с ним заговорит, и, наверное, боится, что она может этого не захотеть, и ему придется уйти. Тогда Рита просто кивнула ему, как бы показывая, что все в порядке, но и в разговор вступать не спешила. Миша показался ей тем самым человеком, от которого она может узнать многое, и выяснить, что же с ней, наконец, произошло и продолжает до сих пор происходить. Но следовало правильно задать вопрос. Да вот беда, у Риты не получалось собраться с мыслями, когда рядом молодой, красивый парень смотрит на тебя в упор, стараясь заглянуть в глаза. Но молчать и дальше было бы просто глупо, и Рита, была не была, все же решилась расспросить его наобум, а там глядишь, что-нибудь обязательно проясниться. Но первая же фраза, непроизвольно слетевшая с ее уст, прозвучала неумышленно глупо:
– Вы – Миша? – смешной вопрос, она же прекрасно помнит и его самого и его имя!
Но молодой человек, напротив, обрадовался ее словам:
– Так вы меня не забыли?
– Не забыла. Здорово, что вы пришли, – и чтобы перейти к волновавшей ее теме, Рита осторожно спросила, – а я давно здесь лежу?
– Относительно. Вторую неделю, точнее, девять дней, – почти сочувственно ответил ей Миша.
– Долго…Я очень больна?
– Теперь уже нет. Но в некотором смысле… – Миша замолчал, и отчего-то напрягся, словно он хотел сообщить Рите нечто весьма огорчительное, но не решался.
Ритка, почувствовав нехорошее для себя в его молчании, жалобно его попросила:
– Миша, если у меня есть какие-то заморочки, лучше скажите мне сейчас, а то я измучаюсь без толку. Все равно, рано или поздно я же узнаю.
– Не то, чтобы у Вас неприятности, – «это он меня интеллигентно поправляет», – не к месту подумалось обеспокоенной Ритке, но Миша уже продолжал, – просто Вы попали в несколько необычную для человека ситуацию. А плоха она, или хороша,– решать только Вам.
– Ну, говорите, не томите! Вы же хороший, вы же мне помогли уже один раз, пожалуйста! – голос у Ритки прозвучал как жалобный просящий плач, и, пожалуй, привел интеллигентного Мишу в некоторое смущение.
– Вы только не волнуйтесь. Вас никто здесь не обидит, скорее наоборот. И извините меня, что я хожу вокруг да около, и только терзаю Вас недомолвками, – Тут Миша запнулся и как-то обречено отвел глаза в сторону, – Видите ли, я не знаю, как и с чего начать, – тихо признался он
– Да Вы начните, как получится, а что неясно, я спрошу, хорошо? – приободрила его немного успокоенная Рита.
– Я попробую, но все не так просто, – и Миша в очередной раз замолчал. Потом, словно решившись на что-то, сел торжественно прямо, сцепил перед собой в замок руки, и, глубоко вдохнув воздух, спросил:
– Скажите мне, Рита, Вы верите в сказки?
Ритка пришла в легкое недоумение от его вопроса, но тут же подумала, что это, очевидно, какая-то игра, и посчитала за лучшее в ней поучаствовать:
– Нет, в сказки я не верю. Только в сны, – ответила она и попыталась благожелательно улыбнуться.
– Жаль. Тогда нам непросто будет понять друг друга. Однако я все же попытаюсь все Вам объяснить, – Миша перевел дыхание, и продолжил, – Понимаете, все, что с Вами произошло тогда, – Миша особенно, с нажимом, выделил последнее слово, – имеет самое непосредственное отношение к некоему сказочному, можно сказать, фольклору.
– Вы знаете, я об этом уже догадалась. Вы и Ваши знакомые, верно, вообразили себя ведьмами и вурдалаками, которые пьют кровь и питаются человечьим мясом. Как там у Бабы-Яги: «Чую, что русским духом пахнет. Конь на обед, молодец на ужин». Только зачем же людей по-настоящему мочить?
– Вы как раз ухватили основную мысль. Но есть одна неточность – мы не вообразили, мы такие и есть на самом деле!
– Вы хотите, чтобы я, как последняя дура, поверила, что вы настоящие вампиры – вурдалаки из книжек и ужастиков, – вот тут Ритке в самом деле стало смешно: «Да он просто чокнутый какой-то, а на вид вроде нормальный парень». Она слабо помотала головой: – нет, это бред полный.
– Вы не правы. Как раз не бред, как раз наоборот. Вы только выслушайте меня до конца.
– Да не хочу я ничего слушать. Играйте в ваши игры, мне-то что, только не надо лапшу на уши вешать, – веселость у Ритки уже прошла, и на ее место явилась холодная злость, – а если хотите знать правду, то вот что я Вам скажу: Вам и Вашим друзьям лечиться надо, и не где-нибудь, а в психушке для особо опасных, буйных шизофреников.
– Спасибо за откровенность, – Миша, казалось, ни сколько не обиделся на оскорбления, только лицо его приняло грустное и безнадежное выражение, какое, скорее всего бывает у здорового человека, пытающегося что-то растолковать глухонемому, – но Вы все же обдумайте трезво мои слова, если получиться, то без лишней предвзятости. Все же на свете много необычных вещей. А я к Вам попозже еще наведаюсь, и мы поговорим.
Ритка не успела и не нашлась сразу, что ему ответить, а Миша уже выходил из ее комнаты, не попрощавшись с ней и даже не обернувшись напоследок. И Ритка осталась в одиночестве, она ослабела от усилий физических и эмоциональных, которых потребовал от нее этот необычный и странный разговор, и в голове ее навязчиво крутилась только одна мысль: почему понравившийся ей парень непременно оказывается сдвинутым по фазе психопатом, и этот случай, к сожалению, не исключение. И думая об этом, она, как-то незаметно для себя уснула.
Мише же было далеко не до сна. Выйдя из импровизированной больничной палаты, он постоял с минуту в маленьком уютном холле второго этажа, досадливо теребя листочек высокой драцены, растущей в кадке у окна, и, делать нечего, отправился на доклад к хозяину. Впрочем, особого результата от беседы с пострадавшей девушкой он и не ожидал. Однако, ее агрессивность, вместо обычного в ее обстоятельствах неверия и испуганного недоумения, озадачили его. Дело могло осложниться, а этого Миша никак допустить не мог.
Хозяин, как обычно в это время, пребывал в своем, затемненном наглухо, кабинете. Днем он никуда выходить не любил, без крайней необходимости, дневной свет в его неприкрытости раздражал подозрительного хозяина. Хотя в современном мире бояться дня и обычного общения с людьми ему было нечего. Но Миша догадывался, что это всего лишь давняя привычка, а не излишняя осторожность. Постучав в тяжелую, темного дерева дверь, и услышав изнутри краткое и резкое: «Можно!», Миша поспешил войти. Его господин, как это часто бывало, полулежал на мягком, обитом темно-коричневым велюром, изящном тонконогом диванчике и потягивал кофе из хрупкой фарфоровой чашечки. Кофе хозяин всегда варил сам, прямо в кабинете, на портативной электрической плите, так что вся комната насквозь пропахла неистребимым резким запахом свежесмолотых кофейных зерен. Миша, подчиняясь раз и навсегда заведенному порядку, взял старинное полукресло и сел напротив так, чтобы хозяин мог видеть его, не меняя при этом положения тела. После, налив себе с молчаливого позволения горячего кофе из громоздкой медной турки, Миша приступил к делу:
– Должен Вам сказать, что разговор, к моему прискорбию, не получился. Впрочем, ожидать обратного было бы самонадеянно и глупо. Если бы не крайние обстоятельства, я бы посоветовал подождать, пока вопрос не разрешится сам по себе.
– Невозможно, – как обычно кратко и односложно ответил хозяин.
– Да, я знаю. Я постараюсь еще раз. Позже, – в подражание господину Миша тоже перешел на категоричный тон.
– Михаил, у тебя нет времени. Это ты, надеюсь, понимаешь? – хозяин повысил голос и даже приподнялся с подушек, что случалось редко. «Значит, дело совсем нешуточное», – решил про себя Миша, вслух же сказал:
– Понимаю, Ян Владиславович.
– В крайнем случае, завтрашний день. Больше ждать нельзя. Очень,.. очень рискованно.
– Она будет готова, я обещаю. Кто должен приехать?
– Думаю, сам Воеводин.
– А если нет? Если он возьмет и пришлет вместо себя простого опера? – забеспокоился Миша.
– Не пришлет. – Ян на секунду задумался, – Вот что. С утра возьмешь машину, и будешь ждать его у здания прокуратуры. Воеводину наш знак внимания будет приятен. К тому же он господин воспитанный, ему неудобно будет отказаться.
– Хорошо, я буду там к десяти ноль-ноль.
– Значит, вопрос решен. А сейчас иди к девочке и, хоть душу наизнанку выверни, но сделай так, чтобы она поняла. А главное, вызубрила свою роль, как «Отче наш»!
– Вряд ли она знает «Отче наш», – позволил себе пошутить Миша.
– Неважно, ты меня понял, – Ян нетерпеливо хлопнул ладонью по мягкой велюровой спинке диванчика, и резко оборвал разговор, – Все, иди. Некогда.
Поднимаясь наверх по деревянной винтовой лесенке, Миша в уме перебирал возможные аргументы убеждения и наилучшие с точки зрения доходчивости, примеры своей правоты, могущие подействовать на строптивицу – их новоявленную сестру. Обычно, внутренне равнодушный к невзгодам своих собратьев, выполняющий всю требуемую от него работу лишь из чувства долга, кодекс коего был выработан им самолично раз и навсегда, он был холоден и уравновешен перед лицом любых проблем и любых посторонних ему страданий. Религию и чувство прекрасного вполне заменял ему окончательно сложившийся в Мишиной голове образ всемогущего хозяина, которого Миша отнюдь не низводил в равный хоть одному живому существу ранг, а поместил где-то между сверхчеловеком и неким Высшим Разумом, создавшим мироздание. В Бога Миша не верил и потому считал хозяина новым высшим созданием разумной эволюционирующей природы, своего рода посредником между небом и землей, в переносном, конечно, смысле. Но сопереживать или сострадать хозяину ему бы и в мысли не пришло, ведь никто же не станет сочувствовать ангелу или Господу Богу. Однако девушка в верхней спальне, с приятным именем Рита, вызвала у него давно и нарочно забытые и отвергнутые им ощущения. И дело было не в красоте, к тому же далекой от совершенства на собственный Мишин вкус, и не в ее полной сейчас беспомощности и болезни, он знал, что это всего лишь плата за будущее могущество. Просто за всю Мишину не очень долгую жизнь ни один живой человек, да что там человек, ни один его сородич-вамп, никогда не просили его о помощи, и тем более не были благодарны за нее. Его обычную, вежливо-успокаивающую скороговорку эта несчастная дурочка приняла за чистую монету, и невольно возложила на Мишу неявную ответственность, которая требовала опеки и заботы с его стороны, так что Мише пришлось освободить для девушки уголок в своей замороженной душе, чему Миша был совсем не рад, но ничего поделать с собой уже не мог. Поэтому на второй этаж он поднимался в некотором раздражении и в то же время в твердом намерении выполнить задание хозяина.
В коридорчике перед нужной ему дверью Миша столкнулся с мадам Иреной, правой рукой хозяина, которая была рядом с ним задолго до появления самого Миши, и, как утверждали злые языки, ранее звавшейся просто Ирочкой Синицыной. Миша был уверен, что мадам Ирена не столько проходила мимо по своим делам, сколько поджидала его, Мишу. В чем и не ошибся.
– Что-то, Мишаня, видь у тебя невеселый! Девочка оказалась не подарок, или на здоровье жалуешься? Если проблемы с девчонкой, могу помочь, – первой заговорила с ним Ирена.
– Нет, мадам, никаких проблем. Я вполне справлюсь сам, – отрезал Миша, возможно что и несколько резко. Но мадам в ответ только нарочито расхохоталась:
– Ну-ну, Мишенька, смотри, если что, я буду неподалеку, – сквозь Смешки ответила мадам, пропуская Мишу к заветной двери.
«Наверняка будет подслушивать в коридоре. Тотальный шпионаж – любимое развлечение нашей уважаемой патронессы», – подумал про себя Миша, но предполагаемое занятие мадам Ирены его ничуть не обеспокоило. Он прекрасно знал, что Ирена будет стоять под дверью исключительно ради собственного удовольствия, а отнюдь не по поручению хозяина, который безоговорочно полагал в основе прочности их общины полное доверие между всеми ее членами.
Но, тихонько заглянув, после обязательного учтивого стука, в комнату девушки, он увидел, что Рита мирно спит, откинувшись навзничь на подушках. Миша тут же решил ее не будить, тем более что каких-нибудь полчаса или час ничего не меняли, а, с другой стороны, Мадам могло надоесть караулить его в коридоре, что само по себе было бы неплохо.
Когда Рита открыла глаза, было уже время обеда. И потому вскоре в ее комнате снова возникла все та же Тата, на этот раз катящая впереди себя тележку на колесиках. Но на этот раз кормить Риту ей не пришлось. Почти сразу, вслед за Татой, в спальню вошел сумасшедший Миша. Отпустив Тату кивком головы, он подкатил сервированный столик к Ритиной кровати, и сам сел рядом. Суетливо и неумело перебирая обеденные приборы, он налил Рите вкусно дымящегося супа в фарфоровую плошку и, закрепив плошку на специальной подставке, убедившись, что та не опрокинется, Миша заговорил. Говорил он долго, не забывая при этом подавать и менять Рите тарелки, и она ела и слушала его не перебивая. Сначала из некоей боязни перед явно ненормальным человеком, потом уже из нездорового интереса, и, наконец, из нехорошо возникнувшего у нее ощущения, что все, о чем ей рассказывает Миша – чистая правда. Уже сытая, Рита откинулась на подушки, но расслабиться не смогла, ее всю било, точно в лихорадке, но на этот раз не от болезни – от страха. От страха перед правдой, пока не очень убедительной, но по внутренним ощущениям, с незаставящими себя ждать доказательствами. Поэтому надо было наступать и таким образом защищаться:
– Откуда ты знаешь, что этому вашему Яну на самом деле шестьсот лет? Только потому, что он сам вам сказал? Ты же, Миша, здесь всего три года, а говоришь так уверенно, будто у его матери роды собственноручно принимал, – Ритка перешла с Мишей на «ты», и даже не заметила. Настолько были пусты и не нужны церемонии, когда, она знала это и чувствовала каждым нервом, решалась вся ее будущая жизнь и судьба. И Миша тоже стал говорить ей «ты» и даже с нескрываемым облегчением, хотя речь его и осталась безукоризненно правильной, и без малейшего оттенка наглости и фамильярности.
– Видишь ли, Рита, я не могу заставить тебя поверить мне и Яну и всем остальным из нас. Пока не могу. Но эта вера придет со временем, и основана она будет не на пустом месте. А пока я, чтобы убедить тебя хоть в чем-нибудь, представлю первое доказательство того, что я не сумасшедший и не лгун. Будь добра, открой, пожалуйста, рот и пошире. Не бойся, больно не будет.
Рита, скорее из любопытства, чем от доверия к нему запрокинула голову, и Мишины пальцы плотными и ощупывающими движениями стали массировать ее десны одновременно справа и слева. Потом он слегка надавил и сразу же убрал руки, и рот наполнился теплой солоноватой жидкостью. Рита справедливо решила, что это кровь. Но боли, как и обещал Миша, не было никакой.
– Теперь прополощи и выплюнь, – Миша протянул ей стакан со слегка розоватой водой. Потом поднес раскрытую ладонь к самым ее глазам, – посмотри сюда.
– Мамочки, что это такое? Что это значит? – шептал в ужасе Ритка, пытаясь по подушкам отползти подальше, но и не имея сил отвести взгляд от его ладони. Миша держал перед ней на весу два довольно крупный человеческий зуба, два клыка с полным набором корней, слегка замазанных кровавой жижей. Ритка провела языком по верхней десне – так и есть: два пустых страшных гнезда. Господи, да что же это!
– Не пугайся ты так, ничего страшного, послезавтра уже вылезут новые, лучше прежних, – Миша загадочно, но успокаивающе усмехнулся, – а эти клыки все равно бы к утру выпали, так что я лишь немного помог.
– Почему? – только и смогла выдавить из себя Рита.
– Все просто. Ты меняешь зубы, потому что больше ты не обычный человек, и, следовательно, зубки тебе тоже нужны особые, необычные.
– Какие же?
– По устройству они будут представлять из себя нечто вроде шприцов. Но подробности и инструкции к пользованию получишь позднее, – Миша постарался сгладить ее нервозно-напряженное состояние шуткой, хоть и не вполне удачной, – сейчас это не главное.
– А что сейчас главное? – первый шок у Риты прошел и на зубы, все еще лежащие в Мишиной руке, она могла уже смотреть без страха и особого отвращения.
– Главное, поверила ты мне, наконец? Хотя бы немного.
– Ну, допустим, что поверила. Дальше-то что?
– Дальше будешь жить с нами. Мы теперь одна семья. Ты пока это не в состоянии принять и понять, но, тем не менее, все так. Мы будем тебя учить, лечить, будем заботиться о тебе. А ты, когда придет время, определишь свое положение в нашей общине и тоже внесешь свой вклад в нашу семью.
– А если я не захочу? Если я смотаюсь отсюда? Если пошлю вас всех к такой-то матери? – Ритка сорвалась чуть ли не на визг, протест и злость затопили ее сознание помимо живой человеческой воли, она кричала и в то же время представляла себя со стороны и знала, что выглядит отвратительно-базарно, и что Миша смотрит на нее, извергающую бранные, уличные слова, и назло стала выкликать нечто совсем нецензурное.
Миша, однако, невозмутимо выждал, пока она закончит свою матерную иеремиаду, и ответил ей рассудительно и спокойно:
– Насильно никто не станет тебя удерживать, не беспокойся. Но уходить не советую. Хотя бы первое время, пока ты не освоишься со своим новым положением. Неконтролируемая самостоятельность может стать смертельно опасной для новичка, который еще даже не испытал свою первую жажду и не знает, что это такое. И тем более не умеет в одиночку охотиться и даже правильно обращаться со своим телом.
– Ты же говорил, что я теперь чуть ли не бессмертная? Или ты мне лапшу вешал? – уже миролюбиво осведомилась Ритка.
– Да, сама по себе ты не можешь умереть. Но есть вещи, которые могут тебя убить и их надо знать. И уметь от них защищаться, – Миша перешел на почти учительский тон, и голос его от фразы к фразе становился все более строгим, – и научиться жить так, чтобы ни в коем случае не привлекать к себе излишнего внимания. Ничего из вышеизложенного ты еще не умеешь, ты пока наш иждивенец и ученик. Ты даже не прошла до конца стадию перерождения, она закончится полностью не раньше, чем через неделю.
– Ну, а когда я всему научусь, я смогу сама решить, что мне делать дальше?
– Безусловно. Но имеется еще одна проблема, – Миша на минуту замолк, тут уж была не была, – в общем, завтра с утра тебя навестит следователь.
– Это с какой же стати? Что он, мне родственник, чтобы меня навещать?
– Это по поводу твоих подруг: Кати и Аси. И вот что ты должна будешь сказать ему, – тут Миша сделал паузу, многозначительную и увесистую, как занесенная дубина, чтобы значения будущих слов дошли абсолютно и грозно до его собеседницы, – В ту ночь, ты понимаешь в какую, вы трое, поругавшись с нами и обидевшись на… Впрочем, причину ты сможешь додумать сама. Далее, вы вышли отсюда и на проселке остановили машину. В ней уже сидело двое парней-кавказцев. Вы были пьяны и рассержены, вам было все равно и вы сели к ним в машину. По дороге парни вас связали и завезли в лес. Там вас стали бить и насиловать. Но так как их было только двое, и они не могли уследить сразу за вами троими, тебе удалось развязаться и убежать. Как ты добралась обратно к нашему дому, ты уже не помнишь. Утром тебя избитую и покалеченную нашли без сознания у ворот. Что стало с твоими подругами, ты не знаешь. По версии милиции они обе пропали без вести. Номера машины ты не помнишь. Марку можешь назвать любую. Это все, – Миша замолчал и в упор тяжелым взглядом глядел на Ритку, словно пытался подсмотреть в ее зрачках, как в замочную скважину, что же происходит внутри нее. Ритка, словно набрав в рот воды, не издавала ни звука. Тогда Миша снова заговорил, – Если все понятно, давай вместе повторим с тобой твою роль, чтобы в ответственный момент не было осечки.
Мишино лицо приобрело чуть ли не ласковое, материнское выражение, фальшивое насквозь зияющими дырами напряжения и подспудной боязни ее ответа. И Ритка поняла, что можно еще поторговаться, а не сдаваться так бездарно и сразу.
– А ты и твой «шеф» не боитесь, что я расскажу ментам всю правду? А если даже они мне не поверят, все равно неприятности вам обеспечат, а, как? Убить-то вы меня не можете! Это против правил – ты сам сказал. Что тогда? – издевательски и немного шутовско наигранно спросила Ритка. Впрочем, вопросы, заданные ею Мише, были нешуточные.
– Тогда нам просто придется исчезнуть из города. Мы лишимся более-менее уютного и надежного пристанища. На новом месте у нас опять будут трудности и неустроенность, придется все налаживать заново. И насколько удачно мы сможем осесть и закрепиться, сказать заранее нельзя. Тебе же придется терпеть неудобства вместе с нами. Почему? Я уже раньше объяснял.
– А вы совсем не боитесь, что когда-нибудь вас просто посадят?
– Вот это просто невозможно, – Миша первый раз искренне и от души рассмеялся перед Риткой, – по крайней мере, в ближайшие лет сто. Ведь для начала нас надо хотя бы поймать: я имею в виду чисто механический процесс. Ты еще только-только вступаешь в новую жизнь и не можешь знать и оценивать нынешние возможности своего тела и его физиологии и потому несешь чушь.
– Ладно, я знаю, что ни фига про себя, какая я есть теперь, не знаю. Но я знаю, что мои подруги лежат где-то мертвые, а не пропали без вести. И еще я знаю, что убили их вы-ы! – тут Ритка не выдержала и тихо и отчаянно зарыдала.
Но Миша не дал ей наплакаться как следует, в силу обстоятельств он должен был проявить жестокость, хотя на какой-то миг и почувствовал несвойственное ему искушение облегчить ее ношу, и даже протянул руку, чтобы погладить по спутанным волосам и приласкать и немного успокоить. Однако Миша понимал, что его жестокость – это жестокость мира вокруг, и чем раньше девушка осознает ее и научиться преодолевать, тем лучше будет для всех:
– Кто бы ни убил твоих подруг, это уже не имеет значения. Важно только будущее живых. Так что перестань плакать и соберись, чтобы я смог как следует подготовить тебя. Нет, и не может быть другого выхода, понимаешь?
Опустошенная и запутавшаяся, она только кивала головой, повторяла сквозь хлюпанье носом за Мишей нужные слова, уже не заботясь, насколько пристойно она выглядит, и отчего-то называла себя «Лесси» и в третьем лице, и как автомат бормотала один и тот же текст, пока, наконец, Миша не сказал ей, что все, хватит, и что она молодец. Потом он стал говорить что-то о том, как они оба устали и нужно отдохнуть, и, уходя, пообещал Рите, что ее сегодня еще кое-кто навестит. С тем и оставил измученную девушку одну.
Ритка не знала, да и не хотела знать, куда именно отправился от нее Миша. Возможно, побежал с докладом к хозяину, возможно, просто отправился пообедать. Собственно, она и не была в состоянии думать о чем-то, кроме завтрашнего визита к ней следователя. Несмотря на Мишины резоны и завуалированные угрозы, Рита все же не приняла окончательного решения. Мысли ее хаотично метались между вариантами безумными и гибельными и здравыми, практичными решениями, наиболее сейчас благоприятными и благоразумными, но сильно пахнувшими предательством, правда, чьим и по отношению к кому Рита даже про себя боялась признать и произнести. То ей в порыве протеста против логики обстоятельств виделось чистосердечное, возвышенное произнесение истины перед лицом сурового, непременно в форме, милицейского служаки и немедленное затем принятие смерти от неизвестно чьей руки, и прочие высокие материи в духе Жанны д’Арк. Но тело и разум очень хотели жить, и потому инстинктивно отметали представленные им беспокойной совестью сюжеты. И на Ритку накатывал противоположный страх, полный сомнений, справится ли она завтра как надо, устоит ли перед лицом закона со своим обманом, и не падут ли на нее в случае неудачи тюремно-следственные кары. Роящиеся, противоречивые, сбивчивые и неопределенные измышления заставляли Риту метаться, перекатываясь из стороны в сторону по просторной кровати, и только тоненькая трубочка капельницы накладывала некоторые ограничения на ее безумные рыскания среди сбившихся простыней. Она была вся целиком внутри собственных терзаний и не замечала, что так промаялась до самого вечера и не помнила ни услуг заходившей к ней, но ни словом не обмолвившейся Таты, ни молчаливо, кое-как проглоченного ужина. Пожелав спокойной ночи, Тата оставила ее в одиночестве при свете ночника, но Ритка ни за что не могла уснуть, так она боялась неотвратимо подкрадывающегося к ней завтра, в котором, в сущности, должна была сделать выбор между живой собой и покойными уже, но не отомщенными подругами. Закуклившаяся в своей боязни, Рита даже не сразу осознала тот факт, что возле ее постели стоит кто-то чужой. Рита не слышала ни шагов, ни дыхания подошедшей к ее больничному ложу фигуры, только тень, вдруг упавшая на ее исплаканое лицо, заставила Риту вернуться в реальность. От нее не потребовалось узнавания. Еще до того, как она подняла истосковавшиеся в муке глаза, уже знала и сама, кто перед ней.
Факт, что хозяин пришел ради нее, ибо ради кого еще он мог прийти, кроме Риты в спальне не было никого, произвел нежданный эффект, словно нажав на невидимые рычаги в ее душе, и вызвав к жизни чувства некоего тщеславия от собственной значимости и удовлетворения от внимания к ее персоне. Страх и метания были преодолены чистым любопытством и на время отставлены. На этот раз хозяин не был равнодушно-отстраненным, и можно было догадаться, что Ритка более не маленький ненужный камушек на его неведомом пути, но живое существо, обретшее, наконец, форму, сущность и определенную значимость. Набравшись храбрости, что было не так просто пред человеком, возможно уже решившим ее судьбу, Рита попыталась прощупать взглядом его лицо, узнать, чего же, добра или еще большего зла ей ожидать, и, обнаружив лишь грустное, но доброжелательное спокойствие, расслабилась и успокоилась сама.
– Что же Вы стоите? Я лежу, а Вы стоите, неудобно даже. Вы садитесь, пожалуйста, а то я не посмотрю на эти трубки и иголки и тоже встану, – озаботилась вдруг Рита.
– Не стоит. Я сейчас присяду. Я опасался напугать тебя и выжидал, когда же ты, наконец, меня заметишь, – Ян неторопливо, даже не сел, а как бы опустился мягко всем телом на маленькую трехногую табуретку, отчего стал почти вровень с лежащей девочкой, – Сколько тебе сейчас лет?
– Недавно девятнадцать исполнилось.
– Это хорошо. Чем моложе человек, тем проще ему даются перемены, – Ян дал девушке время осознать и впитать в себя последние слова, являвшиеся преддверием их дальнейшего общения, потом тихо и проникновенно сказал, слегка склонясь к Ритиному сосредоточенному личику, – Ты ни о чем не хотела бы меня спросить?
– Хотела бы, конечно. Но я не знаю даже с чего начать, – ответила Рита, и, не уловив и тени недовольства со стороны хозяина, добавила чуть ли не кокетливо, – А Вы помогите мне, ведь Вы взрослый и умный, и много чего знаете, раз целых шестьсот лет живете, если Мишка, конечно, не наврал?
– Не наврал. Даже слегка приуменьшил. Мне шестьсот восемьдесят два года, если тебе это интересно, – и, не обращая внимания на Ритины невольные: «Ух, ты! Не может быть!», Ян продолжил, – Я помогу тебе, но для этого мы немного поменяемся ролями. Скажи, ты бы хотела узнать, что сталось с твоими подругами, вернее с их телами, после того, как их убили, или, – последние слова Ян прошептал проникновенно и задушевно, как змея, почти в самые ее губы, – как у нас говорят: выпили?
– Не-е-ет! Нет! Не хочу, не говорите мне! Это страшно, я не хочу знать! – она содрогнулась и отшатнулась. Не ожидала жутких, похожих на внезапный, тихий выстрел слов, не ожидала от по-хорошему ласкового голоса, их произнесшего. Страхи вернулись, ворвались вихрем, и Рита не смогла нести на себе взгляд хозяина, заслонилась свободной от капельницы правой рукой, безвольной ладошкой. Но Ян отвел ее руку в сторону, и Рите пришлось все же посмотреть на него.
– Не кричи. Не хочешь – не надо. Иногда нежелание знать притупляет в нас чувство гнева и жажду мести, а в твоем случае – это хорошо, – Ян сжал дрожащую ручку девушки своими ладонями и так оставил, не отпустил, словно хотел подобным образом передать ей часть своей силы и спокойной уверенности, – но кое-что я все же хочу рассказать, чтобы избавить тебя от ненужных иллюзий. Ты готова слушать?
– Я готова слушать, – ответила еле слышно Рита, не зная, что хуже – знать или не знать до конца всю правду.
– Как ты уже, наверное, догадываешься, ты не должна была остаться в живых, как и никто из приглашенных в мой дом вместе с тобой. Ни твои подруги, ни мальчик по имени Артур, ни ты сама не были нам нужны иначе, как, скажем, некие сосуды, содержащие необходимый продукт питания, другими словами, как животные, добытые охотником для поддержания его жизни. И тем более нам не нужны были свидетели.
– Я не дура, понимаю это и без Вас, – попробовала огрызнуться Ритка. Сравнение с животными было унизительным и пробудило в ней утихшую до недавних пор агрессивность.
– Я еще не закончил. Имей терпение выслушать собеседника до конца, в будущем это умение может пригодиться, – Ян ни чуточки не рассердился, напротив, был благожелателен и рассудителен, насколько возможно, чтобы не раздражить девушку еще больше, – Итак, я продолжаю. В тот день охотником была Ирена, твоя знакомая Ирочка, именно она собрала вас всех и привезла в мой дом. И по праву добытчика имела возможность сама выбирать себе… жертву.
– Вы хотели сказать что-то другое, что-то неприятное. Так говорите, не стесняйтесь, я так понимаю, мне придется ко многому привыкать, – Рита тоже постаралась держать себя в руках и к тому же решила про себя, что если уж хлебать дерьмо, так полной ложкой.
– Как пожелаешь. Мои родичи сказали бы не жертву, а корову. Они сами придумали это обозначение, я здесь ни при чем. Виновато, очевидно, время, в котором они выросли и живут. Оно располагает молодых к словотворчеству, к изобретению своего собственного языка. Но вернемся к нашим баранам, – но, увидев недоуменное выражение Ритиного лица, Ян сразу поправил себя, – это просто образное выражение. Я хотел сказать: вернемся к моему рассказу. Так вот: Ирена выбрала тебя, Рита. Остальных должны были поделить те, кто нуждался в тот момент в пище. Но Ирена слишком усложнила и затянула свою охоту, была слишком слабой и голодной, потому ей и не удалось справиться с тобой. Иначе бы у тебя, Рита, не было бы ни единого шанса уцелеть.
– И что же, бедная Ирена-Ирочка так и осталась голодной, бедняжка, – чтобы придать себе мужества, Ритка отважилась на неприкрытый сарказм. Но ее издевка не была замечена и поддержана. Ответом ей были печальные, строгие слова, от которых мороз продрал по коже:
– С нею поделились.
– Кем? Кем поделились? Аськой или Катькой? – окончательно оледенев внутри, не то спросила, не то простонала Рита.
– А кого бы ты предпочла? – спросил ее Ян и тут же будто наотмашь хлестнул ее резким внезапным окриком, – Отвечай мне быстро, не задумывайся!
– Наверное, Аську, – торопливо пробормотала ошалевшая от неожиданности Рита, и только мгновение спустя сообразила, что же она, в сущности, выбрала, и к горлу ее подступила тошнота.
– Почему? Она тебе меньше нравилась? – не отставал Ян, не замечая вроде бы Риткиного состояния, и словно умышленно продолжая мучить ее.
Но Рита не могла уже говорить и только машинально кивнула в ответ и отвернулась. Ян еле заметно усмехнулся-улыбнулся и фамильярно, по-хозяйски, однако не без нежности погладил ее, ставшую вялой и безучастной, руку, которую все еще сжимал в своих ладонях.
– Все правильно. Ты ведь умница. И я думаю, у нас тебе будет хорошо, особенно когда в твоей милой головке все вещи станут на свои места. А теперь спи и ни о чем не думай. На все твои вопросы в свое время будут и ответы. Обещаю тебе.
Утро следующего дня Рита встретила с куда большей долей уверенности в себе и с просто превосходным самочувствием. Она ощущала такой необычный, такой мощный прилив физических сил, что подумала, будто она ошиблась, и со вчерашнего дня прошла не одна освежающая сном ночь, а, по меньшей мере, неделя. Ритка хотела встать и побежать в сад, во двор, хоть куда-нибудь, но из постели ее не выпустила Тата, велевшая ей дожидаться визита следователя Воеводина, впрочем, пообещала, что после его ухода Ритка сможет выйти, так как лежать ей дольше не будет никакого смысла. Ритка и сама догадалась, что ее выдают за лежачую больную исключительно по сценарию пьесы, надлежащей быть в розыгрыше перед невысоким прокурорским чином, и потому не протестовала. Роль свою она собиралась отыграть на совесть, ее будоражили нетерпение и егозливое беспокойство, как начинающего актера перед первым учебным выходом на сцену. Ей представлялось, какой жалкой и слабой, но очень убедительной, предстанет она, Рита, перед суровые очи блюстителя, и обманет его милицейскую подозрительность, вечную профессиональную настороженность, ввиду намеренного и умышленного введения в заблуждение, и бдительный аргус закроет горящие глаза и уснет убаюканный и успокоенный ее безобидной правдивостью.
Но блюститель оказался вовсе не суров, и комедия не понадобилась. Ритка даже была разочарована, что ее актерские старания не нашли применения. Воеводин оказался довольно молодым, хоть и полноватым, но живым и суетливым, сильно страдающим от жары, человеком. По крайней мере, он беспрестанно тер свое рыхлое невыразительное лицо клетчатым старомодным платком внушительных размеров, и даже не присел для проведения своего допроса, а и допроса никакого не было. Воеводин семенил, переваливаясь, вокруг Риткиной кровати, разговаривая по большей части с Мишей о каких-то далеких и непонятных делах, сильно жестикулируя и изредка кидая Ритке на ходу незначительные вопросы и не очень вслушиваясь в ответы, и только невпопад несколько раз бросил в ее сторону: «Ну, да, да, конечно, будем искать!». Хотя кого Воеводин собирался искать, Ритке было совершенно непонятно, да и уже не важно. А непоседливый следователь, потихоньку увлекаемый Мишей вон из комнаты, уже хитро и приторно жаловался на непонятный Рите, но злокозненный карбюратор: машина, ведь своя, не казенная, казенная не по чину, не положено, так что ножками, если что, товарищ следователь, ножками, а это маята и упущенное государственное время. Миша сочувственно кивал, и убеждал в полной поправимости беды и в личном и бескорыстном своем участии в борьбе с аморальным карбюратором, и, уходя, подмигнул Ритке, мол, не скучай, все в ажуре. А потом ее переодели в клевую, модную одежду, не поскупились, что приятно, и разрешили, наконец, встать и идти, и заново познакомились и приняли в семью.
И Ритка стала постепенно обживаться, не ужасаясь и смиряясь по малу, как любой человек, живущий в реальном кошмаре, постепенно перестает видеть и замечать этот кошмар вокруг себя, особенно когда видит его постоянно изнутри, и кошмар только со стороны кошмар, а так в нем есть и весьма приятные, выгодные стороны, и надо учиться ими пользоваться себе на благо, а не разводить никому не нужные, а главное, бесполезные сопли. Любознательная и любопытная от природы, Ритка быстро ознакомилась и вошла в узкий круг, и составила о нем представление, не очень ясное и полное, но достаточное для понимания. Да ее и предупреждали, что не все сразу и не за так просто дается. Кроме Ритки в общине вампов было в общей сложности девять человек, но не все они жили постоянно в большом доме, за исключением, конечно, самого хозяина. Миша, например, вообще жил отдельно на территории, в уютной, но пустоватой отдельной квартирке над гаражом. Гараж и вторые ворота вообще выходили на другую улицу с великолепной бетонной подъездной дорогой, которой в первый Риткин приезд сюда не воспользовались из соображений конспирации. Мадам Ирена в основном обреталась по дорогим гостиницам и пансионатам, но в доме ночевала часто, для чего имела на первом этаже две великолепно обставленные комнаты с отдельным душем и туалетом, лучшие в доме, после, разумеется, хозяйских. Максик и Сашок и впрямь оказались парочкой геев, они имели свою квартирку в городе на улице Орджоникидзе, в самом центре, небольшую, но, по слухам, весьма комфортабельную, однако, в большом доме оттирались с утра до вечера каждый день по делу и без дела. Как утверждала Лера, они были тайно и страстно, оба влюблены в хозяина, который этого в упор не желал замечать, но, тем не менее, ловко использовал на всеобщее благо. Лера, в частности, нравилась Ритке больше других в общине, за исключением разве слегка отчужденного Миши. Она была простая девчонка, как и сама Ритка, только постарше, в общину же попала вслед за другом, наобещавшим ей неземные чудеса, но не жалела, а напротив, была довольна, что так неплохо устроилась в жизни, имея в прошлом большую бедную семью, и не имея образования. Друг ее Фома, как его настоящее имя он Ритке так и не открыл, утверждая, что, переродившись, принял имя Фома в память о библейском Фоме Неверующем, чьим путем и он, якобы прошел, и еще в честь голливудского героя Тома «то бишь Фомы» Круза, на которого он, по его мнению, был похож. Вообще же был этот Фома попросту безобидный болтун, но с хорошей долей трусости, чтобы не болтать о чем не надо там, где не надо. Сам он практически никогда не охотился, а довольствовался тем, что добывали остальные, или, иначе говоря, «допивал». Однако ему никто не ставил нахлебничество на вид, а, наоборот, делились и считали умным лентяем, и вообще, в общине никто никого не обижал, по крайней мере Рита ни разу пока этого не наблюдала в открытую, и ей это нравилось и давало дополнительное чувство огороженности и защищенности. Тата и Стасик, так же, как Лера со своим Фомой, постоянно жили в доме, девушки и официально считались замужними племянницами хозяина, а что – дом огромный, а дядя – богатый и гостеприимный, живи – не хочу согласно южно-кавказским законам гостеприимства. Тата и Лера, собственно, и вели все немалое домашнее хозяйство, особенно Тата, хлопотунья и умница, и делали свое незатейливое дело с удовольствием, видимо не желая чего-то большего. Ребята же частенько довольно надолго пропадали днем в городе с разными важными делами, как-то связанными с поручениями хозяина, и больше всех Миша, но Риту в суть их дел пока не посвящали. Ирена, если и присутствовала, то не бралась ни за холодную воду, но никого в прислуги не унижала и госпожу из себя не корчила, так что девушки не обижались: ну, не любит человек домашнюю работу, что тут поделаешь, и делали все за нее.
На второй день активной жизни у Ритки стали прорезываться новые клыки или, как их любовно именовали в общине, «комарики». И были «комарики» с секретом. При определенных мимических сокращениях мышц лица, которые Ритка сначала совершала непроизвольно, еще не владея ими, как частью тела, зубки эти удлинялись подобно складной антенне, становились острыми и полыми внутри. И если с силой втягивать в себя воздух, неприятно чмокали где-то под десной. Потеря их, даже при несчастном случае, не грозила ничем катастрофическим, через пару дней, как объяснили Рите, «комарики» отрастали снова. Да и все ее ткани теперь, как выяснилось, обладали просто фантастически-сверхъестественными способностями к быстрой регенерации.
Но многому пришлось и поучиться. Удесятиренная тайными процессами сила мышц была непривычна и приводила на первых порах к многочисленным бытовым авариям в виде разбитой посуды и покалеченной мебели. И подумать только, откуда этакая мощь бралась, превращая худенькую обыкновенную девушку в настоящего Рембо, а ведь Ритка даже пищу потребляла в прежних, если не в меньших количествах. Фома пытался ей объяснить, сам путаясь в словах и изобретенных наспех понятиях, что-то про внутренний энергетический обмен, превращавший все структуры ее тела в маленький, но емкий реактор, сырьем для которого и служила живая человеческая кровь. Тогда, еще в самые первые дни Рита поинтересовалась у него, общинного всезнайки, почему бы просто не покупать потихоньку законсервированную кровь у медиков, сама была медсестрой и представляла механизм, тем более так показывали и в западном кино? Но, нет, не годится, плохо и никакого эффекта, а в кино все сказки и враки, кипятился Фома, хотя и сам не знал ответа, почему так, а не иначе, почему нельзя брать кровь животных и замороженную кровь людей. Хорошо хоть было то, что вампу свежее питье требовалось не так уж и часто, кому раз, а кому много два раза в месяц. И одной «коровы» за глаза хватило бы на всех братьев, если бы кровь не так быстро вытекала из артерий, а при неумелом вскрытии она порой хлестала как из брандспойта, и если бы все члены их маленького сообщества были бы голодны одновременно. Но даже и при таком расходе людского материала пропажа нескольких человек за месяц да к тому же в курортном городе не вызывала дополнительных подозрений, кроме обычных, поисково-милицейских, связанных с уголовно-криминальными делами. Тем более что сценарий охоты каждый раз менялся, иногда являя собой чудеса изобретательности и виртуозности исполнения. Хотя до первой своей жажды Рита была уверенна, что никогда и ни за что не сможет убить никакое, пусть самое бесполезное на свете, человеческое существо, даже если она больше к этим существам и не относится, и сама она уже другой биологический вид, как разъяснял ей вездесущий Фома, пусть так, но они тоже мыслящие и чувствующие, и убийство – грех. Но это было до…
Ее время пришло раньше, чем через неделю, после посещения суетливого следователя. Все эти несколько дней Ритка будто кожей ощущала пристальное, но дружелюбное внимание к себе со стороны всех обитателей дома. И даже сам хозяин, по вечерам покидавший свой любимый кабинет, участливо спрашивал ее о здоровье и самочувствии, словно ожидая чего-то. И вот однажды утром, выйдя на прохладную еще веранду, Ритка ощутила легкое головокружение и за ним следом неприятную вялость в ногах. Она не придала этому значения и не стала жаловаться на недомогание, отнеся его на счет недавней болезни и последующим изменениям в своем организме. За завтраком Риту, словно неистовый бес, обуял зверский аппетит. Ела, ела много, и за обедом и после него. К ужину ее уже стало тошнить, но голод стал только острее. Тата и Миша и все остальные молча наблюдали за ее подвигами Гаргантюа, но никак не комментировали. Только Ян, посмотрев и оценив ситуацию, попросил Стаса все приготовить. Но что все, не объяснил. Хотя Ритка и так поняла, что последнее распоряжение касается непосредственно ее. На следующий день было еще хуже. Ритку качало, как пьяного матроса на берегу, голод жег все сильнее, горло горело огнем, и никакая вода не могла этот огонь потушить. Ритка мучилась, но терпела, так как беспокойства за жизнь не испытывала, знала, что пропасть ей не дадут. И если ничего не предпринимают, значит, так надо, и ничего страшного с ней не происходит. Но на третий день Ритке уже хотелось выть от ненасытного, терзающего жара, и она бы завыла, будь у нее на это силы. Едва передвигая ноги, Рита до полудня бесцельно шаталась по саду, ни на кого уже не обращая внимания, желая только одного – утолить невыносимое голодное жжение и упасть, забыться. Как внезапно, из-за забора, возле которого она, будто в лихорадке, бродила, раздался детский, а может женский голос, визгливо требовавший помыть как следует груши, и Ритка поняла, что нашла, наконец, то, что неосознанно искала, тот источник, которому суждено исцелить ее жажду.
Когда Риту снимали с кирпичной ограды, она визжала и отбивалась, не помня себя. Она до крови обломала ногти о стену, рассадила локти и колени, и готова была разорвать и убить не задумываясь каждого, кто пытался ей помешать добраться до вожделенной цели. Не различая лиц и держащих ее рук, кусалась и царапалась, вырывалась и лягалась, но все же скрутили и потащили, и Ритка в безумном ослеплении заплакала от неистовой злобы и ненависти. А потом где-то в доме, в одной из комнат, она не помнила в какой именно, да и не имело значения, перед ней на пол швырнули связанного, давящегося кляпом паренька, с глазами, какие, наверное, бывают у бычков на бойне. И Ритка рванулась что было сил, но не пустили, а Стасик уже припал к беззащитному горлу мальчишки, и тонкой струйкой побежала кровь, и Ритка, забыв все на свете и себя саму, заверещала в отчаянии и вожделении: «Дай! Дай, убью! Да-а-а-й!». Она не знала, кто и как сунул ей к лицу фаянсовую миску, из которой тянуло самым желанным ароматом, тяжелым и горячим, но нетерпеливо опустилась туда лицом, жадно открыла и оскалила рот, и зубки заработали сами собой, и потянули внутрь сосудов и артерий спасение и утоление, и вечное блаженство.
И стало хорошо, прекрасно и удивительно. Тело вернуло всю свою силу, мышцы – упругость, а разум – ясность. Посидев немного, успокоившись и придя в себя, Ритка огляделась вокруг. Паренька куда-то унесли, и только Тата подтирала пол, как оказалась, в кухне, и ворчала на Стаса, который мог бы и поаккуратней. Миша стоял рядом и держал ласковую руку на Ритином плече. Увидев осмысленность в ее взгляде, спросил:
– Как ты, ничего?
– Ничего? Просто здорово! – Ритка вздохнула сладко, – Как в нирване!
– Ты и такие слова знаешь? Молодец! – Миша действительно был за нее рад, и рука его легонько погладила Риткино плечо, – Сегодня, можно сказать, знаменательный день. Ты узнала немного новую себя, узнала, кто ты и какой дальше будет твоя жизнь. И, надеюсь, избавилась от ненужных глупостей и представлений. Ведь так?
– Наверное, так. Только я сейчас не хочу об этом думать. Мне легко и хорошо и хочется что-то делать, мне все по плечу и я горы могу свернуть!
– Ну, дело найдется. А в следующий раз, милая, попробуешь поохотиться сама.
– Как, сама? – Ритка от неожиданности даже подскочила, – Я не умею, я боюсь!
– Нечего бояться. И, потом, на первой самостоятельной охоте ты будешь не одна, с подстраховкой, – Миша наклонился к Ритиному лицу, поправил ее растрепавшиеся волосы, – Ну, хочешь, я тебя сам буду учить?
И Ритка коротко вдохнула:
– Хочу!
ГЛАВА 3. ОХОТА
Миша свое слово сдержал. Немало времени посвящал он ежедневно беседам и упражнениям, Ритка схватывала быстро, особенно все то, что касалось физических навыков, в действительности – приемов боевых искусств, и сама удивлялась, как многое ей легко дается, ведь сколько лет своей жизни не блистала ни сообразительностью, ни силой, ни ловкостью. Было приятно, что Миша доволен ею, значит, не в обременительную обязанность их занятия, а Ритке так хотелось понравиться, словно чувствовала в нем потенциальную опору, боялась оступиться и оттолкнуть, а потому старалась не только чему-то научиться, но и по возможности Мише угодить. И было бы для Риты большим разочарованием узнать, что не главным стало Мишино желание учить, а проявилась здесь и воля хозяина, вменившая Мише в обязанность эти уроки, которые, правда, не были помощнику в тягость, в чем хозяйский, зоркий и многомудрый взгляд, конечно же, оказался прозорливым. Но Рита не догадывалась о сговоре за ее спиной и для ее же пользы, и старалась и получала удовольствие от новых, неограниченных возможностей своего тела, от всевидящих, даже в кромешной темноте, глаз, от тонких, но легко гнущих стальные пруты, рук, от тоненького, востренького, но так безошибочно определяющего самые слабые запахи, носика. По ночам она вдвоем с Мишей тихонько кралась по саду, и ни единая травинка не шевелилась под их осторожными ногами. Они пробирались на участки соседей, в одном мягком движении перелетая высоченный кирпичный забор, забирались в их спящие дома, не разбудив и охранную, дремлющую собаку, бродили по комнатам и заходили прямо в спальни, даже к чутким детям и старикам, и с рассветом исчезали, не оставив и следа. За пару недель Миша выучил ее драться, обороняться и нападать, контролируя при этом каждую мышцу и нерв, так, что Ритка без труда могла теперь в считанные секунды растерзать самого лютого десантника. Но Миша постоянно твердил ей, что до совершенства еще ого-го как далеко, и даже у мягкотелого Фомы опыта и умения куда больше, что для Риты, несомненно, планка должна быть выше, если она хочет чего-то более серьезного, чем, подобно Тате и Лере, торчать в саду и на кухне. Ритка хотела. Правда сама еще не знала чего, но очень боялась разочаровать своего убедительного наставника, и принимала важный вид, и хотела многого.
Было бы неправдой утверждать, что один лишь Миша заботился о Ритином благополучии и воспитании. Помогали и Макс и Стасик и все, кто был в данный момент свободен от дел, не говоря уже о пристальном, но не явном внимании хозяина, не выпускавшем из виду малейших нюансов Риткиных успехов. А однажды мадам Ирена посадила Риту в машину и повезла в город. И там, в немногочисленных, но дорогих магазинах одела ее заново с головы до ног, придав ей слегка мальчишеский, но шикарный вид. В парикмахерском салоне «Лазурной», где мадам знала всех и каждого, Рите обновили стрижку, а мадам Ирена заявила, что стиль «унисекс» как нельзя более Ритке идет. Рита и не думала с этим спорить, ей все нравилось, и все было для нее, нищей московской девчонки, удивительно хорошо. Она получала за просто так то, о чем не смела и мечтать, и никто не требовал благодарности и платы в возмещение, и Ритка радовалась, что в ее новой семье денег куры не клюют и есть во всех благах и ее законная доля. О родных, оставшихся в Москве, последнее время Ритка и не вспоминала, находясь под впечатлениями и суетой новой жизни, отбив им лишь длинную телеграмму, что после несчастного случая встретила в Сочи свою любовь и нашла хорошую работу, подробности письмом, на том и успокоилась. Да и телеграмму составила и отправила мадам, не сообщив обратного адреса, Ритка сама бы лучше не придумала, так что мадам Ирене от души спасибо. И не задумалась она ни разу о том, откуда, собственно, взялось, из каких средств возникло ее благополучие, все те не считанные деньги, которыми дышал каждый камешек ее нового дома и каждый предмет, к которому прикасались ее исполненные непривычной силой руки. Рита не задавала никому и самой себе подобного вопроса, а ее новоявленная семья и не думала лезть вперед с ответами. Не торопился Миша, не подгонял его и хозяин. Оба они знали, какая великая сила – время. А пока что Миша показывал новоявленной ученице хитрые премудрости «вамповского» бытия, вероятных опасностей и необходимых осторожностей, особенно уделяя внимание освоению техники разнообразных единоборств, так нравившихся Рите и превращавшихся при ее новых возможностях в жуткое, разрушительное, почти всемогущее орудие Ритиного самоутверждения и торжества в новой жизни. По сути же, Миша учил ее убивать, быстро, бесшумно, безжалостно и без малейшего риска. И это знали и понимали все, кроме, конечно, самой Риты.
А Ритка ничегошеньки не боялась. Знала уже, что до конца уничтожить вампа не легко. Наслаждалась этим знанием, освобождалась от страхов, обыденных для людей и не существенных для нее нынешней. Новые угрозы ее земному бытию казались Рите смешными и легко обходимыми. Чеснок вызывает у вампа аллергию, в больших дозах – удушье, что же, не будем есть чеснок. Оксид серебра – яд, если попадает в кровь, долой украшения и посуду из серебра! И как здорово у нее получалось, после немногих тренировок, искусственно замедлять процессы своего организма, почти останавливая сердцебиения, сводя их к нереальному минимуму, будто бы впадая в анабиозный сон, но сохраняя полную ясность ума и абсолютность чувственных ощущений. Миша разъяснял ей выгоду подобного состояния для вампа в минуты опасности, и утверждал, что опытный вамп может таким образом поддерживать свою жизнь многие века, не умирая и не нанося себе особого вреда. В качестве убедительного примера он приводил Рите случай с самим хозяином, который, по Мишиным рассказам, вынужденно провел подобным способом более двухсот лет и ничего ему не сделалось. Правда в подробности хозяйских обстоятельств Миша особо не вдавался, хотя Рита из любопытства и пыталась его на эту тему разговорить.
Однако неотвратимо приближался и день ее первой самостоятельной охоты, давно обещанный и пугающий. Скоро, очень скоро наступит время следующей жажды, и Рита должна будет сама добыть себе «свежевыжатый сок», так на своем жаргоне ребята в доме называли питающую их кровь. Уже были получены и первые инструкции, касающиеся захвата жертвы и последующего ее «вскрытия». На тонких пластиковых трубках капельниц, имитирующих артерии, Рита научилась безошибочно точно прокалывать «комариками» отверстия для всасывания «сока», который потом побежит по всем сосудам ее тела через мощные зубки-шприцы.
Хозяина Рита видела очень редко и всегда мельком. В кабинет к нему Риту ни разу за все время ее пребывания в доме не позвали, а по своему почину беспокоить Яна она не осмеливалась. Да и, по правде говоря, Ритка его побаивалась, хотя причиной ее страха были не конкретные обстоятельства (хозяин не обидел ее даже словом), а скорее внутренние причины Ритиного состояния. Ритка уже не могла преодолеть той зависимости от чужой более сильной воли, что возникла у нее в ночь их единственного и переломного разговора, и потому боялась почувствовать на себе новые проявления этой воли. Пока что, встречаясь с хозяином, Рита здоровалась первая, взамен удостаиваясь ласкового взгляда и не больше того. Видимо, хозяйское внимание нужно было заслужить, хотя Лера и Тата общались с Яном не многим чаще, чем Рита, а на Риткин взгляд пользы от них обеих было в доме уж побольше, чем от всех остальных, исключая разве что Мишу.
Миша, напротив, уже почувствовал, куда именно дует ветер, чье направление, несомненно, уловила и мадам Ирена. Хотя хозяин еще ни словом не обмолвился относительно своих намерений. Но, будучи в курсе всех хозяйских дел, фактически являясь правой и левой рукой при голове, и Миша и мадам лучше других знали состояние их «семейного» бизнеса. При внешнем благополучии и видимом богатстве и изобилии, в общине имелись серьезные проблемы. Ибо благосостояние сородичей определялось отнюдь не порядком в доме и в саду и числом трудолюбивых женских рук на кухне. И уж конечно оно складывалось не из умственных разглагольствований Фомы, хотя роль идеологии в воспитании никто отрицать не собирался. Для процветания семье нужны были не только старания кухарок и свежая кровь, добытая охотниками за «соком». Ей также очень нужны были деньги и защита, которую эти деньги с собой несли. А для успешного продвижения бизнеса, держащего общину вампов на плаву, в структуре не хватало исполнителей. Или, попросту говоря, убийц-боевиков. Потому, как «семейный» бизнес имел слегка специфический характер, предоставляя клиентам, к счастью немногочисленным и узкого круга доступа, услуги киллеров-профессионалов, безотказных, как машина и неуловимых, как тень. Надежность фирмы была стопроцентной, конфиденциальность – нерушимой, цены – заоблачно умеренные. Гениальность же проекта состояла именно в том, что физическое отличие и превосходство вампов над людьми можно было с успехом продавать последним. И не приведи господь в чью-нибудь голову мысль устранить самого исполнителя, что было бы невозможно и в силу естественных причин, а также и потому, что приходилось иметь дело не с убийцей одиночкой, а с мощной организацией, горой стоящей за всех своих членов. В курортном и криминальном Сочи в заказах не было недостатка. Сами заказчики, представляющие ограниченное меньшинство влиятельных и богатых монополистов побережья, давным-давно купили всех, кого можно было купить, а несговорчивых и вместе с ними заезжих мечтателей о куске местного пирога передавали в контору своего драгоценного друга Яна Владиславовича. Контора разбиралась с вверенными в ее надежные руки быстро и без лишнего шума, так что потом и слуху не было о человеке: ищи, свищи – нет его. И главное, к радости заказчиков, фирма Яна Владиславовича не совалась более ни в какие другие дела и не интересовалась ничем выходящим за круг ее интересов, а, следовательно, не возникало ненужных вопросов. Правда и сами достопочтенные заказчики пребывали в заблуждении относительно истинной сути конторы, так облегчающей им жизнь. Будучи трезвыми материалистами, умеренно верующими в бога в виде публичных пожертвований на храм, они полагали общину за сборище религиозных фанатиков, приверженцев восточных культов, могущих плюнуть на денежный интерес и запросто перегрызть за собрата горло. А с такими людьми лучше играть по их правилам.
Но в организации не хватало рабочих рук, так что приходилось, кроме Макса и Сашка привлекать и охотника Стаса, а иногда за выполнение бралась даже сама мадам Ирена, непревзойденный и изощренный тактик, и разработчик тонкостей любых операций. Самые сложные заказы Миша исполнял собственноручно, как старший боевой группы, не передоверяя никому. Миша мечтал о достойном и послушном напарнике, но найти подходящего человека для привлечения его в общину было не так просто. Число же вампов в семье было вынуждено ограничено, в первую очередь для того, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, да и трудности с охотой, конечно, сказывались. Так что Ритино появление не было желанным, и семья поначалу отнеслась к нему без энтузиазма. Но хозяин, по всей видимости, разглядел в новенькой девчушке нечто такое, что послужило поводом отдать Мише приказ попробовать. Миша взялся за обучение сначала с неохотой, но вскоре приободрился, по мере того, как Рита делала все новые успехи.
Теперь Мишина подопечная должна была сдать первый экзамен – выйти на настоящую охоту, а не просто заманить в укромное место или даже в дом очередную жертву, где ее вскроет Стас к взаимной радости голодных братьев, как поступили в свое время Лера и Тата. А Фома, тот даже такое простое девчоночье дело в свой дебютный выход умудрился запороть. Нет, Ритку ждало действительно боевое испытание, где выбрать и вскрыть жертву она должна была сама и в одиночку. Охотники, которые пойдут вместе с ней, представляли скорее моральную поддержку и ни в коем случае не могли вмешиваться, а тем более помогать.
Пока что в преддверии дня икс, Миша и мадам Ирена держали совет, какое место выбрать, как наиболее подходящее для предстоящего Ритке испытания. Итог их совещания следовало еще представить на апробацию хозяину, так что приходилось поторапливаться и соображать живее. Наконец оба они сошлись на варианте с местным кладбищем, отнюдь не из-за канонически зловещей репутации данного места в ночное время, а из-за его удобного расположения для их мероприятия. Кладбище и впрямь отвечало поставленной цели. Раскинувшаяся памятниками территория находилась на краю города в завокзальном районе рядом с городской больницей и прилежащим пролетарским поселком, изобиловала бомжами и подвыпившей местной молодежью, забредавшей к гробницам порезвиться парочками и поодиночке протрезвиться и поспать в тишине на природе.
– Не боишься, Мишенька, что протеже твоя опозориться может на смотринах, – спросила не без доли ехидства мадам, закончив совещание по тактико-стратегическим планам предстоящей «операции».
– Нет, не боюсь. Ты, Ирена, зря бесишься – наша девочка тебе в подружки не годиться, характер не тот. Да и хозяин поручил Риту мне, а не тебе, – ровным, лишенным эмоций, голосом отпарировал выпад Миша.
– Ох, я не могу! Хозяин ему поручил! То-то ты смотришь на девчонку как кот на сало, – расхохоталась нарочито мадам, – А между прочим, Мишенька, я ее сюда привела, через меня твоя Ритка сопливая вампом сделалась. А теперь почему-то ты, Мишаня, а не я, готовишь из этой малявки себе шестерку в подручные.
– Странная, ты, Ирена. Хочешь, чтобы тебя именовали «мадам», а сама употребляешь уличные и блатные выражения. Впрочем, это твое дело.
– Вот именно. Учить он меня вздумал! – Ирена обозлилась, – лучше расскажи-ка, Мишаня, про свои достижения в роли педагога. А то, глядишь, со временем ты целую гвардию, нам в утешение – себе на радость, выдрессируешь. Что скажешь, генерал хренов?
– Я скажу, что ты боишься как огня моего усиления в общине за счет появления преданных мне людей из боевиков, которых я сам же выпестовал, – спокойно и как не в чем ни бывало, не замечая умышленно оскорблений, отвечал Миша, – Ты боишься за свое место подле хозяина и за свое положение первой среди нас, грешных. Но ты забыла главное правило общины: никто не тянет одеяло только на себя. Если нужно будет для дела и для выживания семьи, чтобы твой номер стал шестнадцатым, ты вытатуируешь его на своем лбу и смиришься!
– Ах, ты, подонок! Выдавить меня в поломойки хочешь? Руки коротки! – по-бабьи, будто на базаре, завизжала мадам, – Сейчас же пойду к Яну и потребую, чтобы девчонку отдали целиком мне на воспитание. Имею полное право – она моя добыча!
– Которую ты, между прочим, позорно упустила, – Миша решил ударить мадам не в бровь, а в глаз, – а хозяин Риту тебе уже не отдаст, на нее другие планы, ты и сама это понимаешь. Да и не пойдет Ритка к тебе в конфидентки.
– Почем ты знаешь? Я ведь ее как родную дочь обхаживаю. Одела, причесала, человека из нее, дурочки, сделала.
– Да не сделала ты из нее человека, разве что вампа, и то в чисто техническом смысле. Но, насколько мне известно, Рита тебя об этой услуге не просила. А тряпки она скоро и сама себе купит.
– Все равно, я не отступлюсь, – мадам немного угомонилась и слова чеканила уже жестко и звонко.
– Как знаешь, Ирена, как знаешь, – покачал головой Миша и тихо, почти шепотом добавил, – Лучше ты возьмись за ум, а то доложу о твоих настроениях хозяину. Ты Яна знаешь: дурную траву выдирает с корнем.
– Да, что ты, Мишенька, ну поцапались, с кем не бывает. Чего сгоряча не наговоришь? – Ирена не на шутку испугалась доноса, могущего иметь самые неприятные последствия, – Ты забудь, и я забуду.
– Я не забуду. Хозяину пока ничего не скажу, но глаз с тебя не спущу. И говорила ты не сгоряча.
– Господь с тобой, Миша! Наболтала я глупостей, чтобы тебя позлить, а зачем, сама не знаю, – сказано было плаксиво и жалобно, но глаза мадам на собеседника поднять побоялась, так и чувствовала, как сочится из них ядовитое бешенство, – пойдем лучше к хозяину с докладом. Время поджимает уже.
Ян Владиславович план кладбищенских испытаний одобрил, но пожелал наблюдать процесс на месте, чем несказанно удивил своих помощников. Но Миша, в отличие от мадам Ирены быстро сообразил, что дело тут не в недоверии к нему, как к организатору, а видимо хозяин придавал слишком большое значение именно этой учебной охоте, и сам захотел посмотреть на новенькую в действии.
Ритка уже была в курсе, что ее выход в свет назначен на сегодняшний вечер и заметно волновалась. К тому же она чувствовала, что за последние несколько дней ее тело утратило прежнюю силу и в желудке поселилось легкое ощущение не проходящего голода. Это означало скорое наступление следующей жажды, и организм сам напоминал ей о своих будущих насущных нуждах. Ритка беспокоилась, что из-за физического упадка может опростоволоситься на охоте и подвести Мишу, но по условиям ее сольного выступления Ритка должна была взять свою первую в жизни самостоятельную добычу именно в том состоянии, в котором обычно нуждающийся в подкреплении «соком» вамп и выходит на тропу войны. То есть, как не раз внушал ей Миша, условия на испытании будут по максимуму приближены к боевым. Но Ритку смущал еще один немаловажный для нее нюанс, и с вопросом «по поводу» она, не решаясь беспокоить Мишу, занятого у хозяина, подошла к многоумному Фоме. Фома пребывал в развалено-отдыхающем состоянии с небрежно вскинутой в руках книгой в разложенном под палящим августовским солнышком шезлонге. Он то ли действительно читал, то ли дремал, прикрывая глаза тощим фолиантом от прямых слепящих лучей. Но это ровным счетом ничего не значило, Ритка уже выяснила, что Фома готов чесать языком в любое время дня и ночи и даже сидя по нужде верхом на унитазе, были бы слушатели. Поэтому, подойдя к его ленивому ложу, Ритка постучала пальчиком по цветастой книжной картонке и негромко окликнула:
– Эй!
– А? Кто? Чего? – встрепенулся Фома. Все-таки он кемарил под тенью бумажных страничек и Ритка оказалась вроде нежданного будильника.
– Извини, не знала, что ты спишь. Я только кое-что спросить хотела, но раз так, я лучше пойду, чтоб не мешать, – схитрила Ритка, – прости, что разбудила.
– Нет-нет, погоди, – оживился Фома и привстал с шезлонга, – я не спал вовсе, а так, задумался. Что ты хотела узнать?
– Да, в общем-то, наверное, глупость, – на всякий случай потупилась Ритка: Фома больше всего на свете обожал тонкую лесть в адрес своих неординарных умственных способностей, – ты надо мной смеяться станешь.
– Любая глупость имеет место проистекать от людской необразованности. А над необразованностью умные люди не смеются, они ее, в смысле необразованность, устраняют, – возвестил с долей снисходительности Фома и пригласил Ритку, – ты присаживайся там, в ногах. Поговорим, разберемся. Я сейчас Тате покричу, чтоб она нам кваску холодненького принесла. Так в чем дело?
– Понимаешь, я вот тут подумала, а что если человек, которого я поймаю, ну, «корова» по-вашему. Что если он потом не умрет?
– Что ты имеешь в виду? Я что-то не вполне понимаю, – ответил Фома, почти как строгий профессор.
– Ну, я напьюсь, ну разве еще Стас, больше голодных у нас и нету. А «корова» возьмет и не умрет, и что будет, еще один вамп? Так мне ведь попадет!
– Ну, ты даешь! Неужели Мишка, чудак, ничего тебе не объяснил, – закудахтал мелким смехом премудрый Фома, – умрет, никуда не денется, а тело наши братцы тихо приберут. Или ты думаешь, что каждый, кого укусили, вампом становится? Ожившие мертвецы, зомби из гробниц? Бабьи сказки! Переродиться в вампа не так просто, это смертельно опасный процесс.
– Ну, у меня же получилось! – не поверила Ритка, решив, что Фома просто набивает себе цену как знатоку.
– Получилось. Получилось, потому, что вовремя добить не успели, а потом было уже поздно, и хозяин трогать тебя, дуреху, запретил, – Фома, кажется, говорил серьезно, – а сколько после с тобой провозились, чтоб ты не окочурилась, с того света вытаскивали.
– Я не думала, что все так плохо было. Я ж быстро поправилась! – возразила Ритка, все еще не доверяя.
– Это ты при знающем уходе поправилась. А без нашей медпомощи ты бы коньки к вечеру отбросила. Ты хоть знаешь, что в старину из укушенных выживал в лучшем случае один из десяти, и то если тогдашние вампы ходили за ним, как за младенцем?
– Не знаю я, мне не говорили. А почему?
– А потому! Слушай, что дяденька Фома тебя расскажет, пока добрый!
И Фома рассказал. Всю правду, лишь слегка приукрашенную цветистыми метафорическими параллелями. Во-первых, при вскрытии шейной артерии кровопотеря у «коровы» была столь велика, что сердце останавливалось, и смерть наступала гораздо раньше, чем процесс превращения начинал становиться необратимым. Если же вамп промахивался и просто кусал и рвал зубами жертву, как произошло в случае с самой Риткой, то укус должен был быть достаточно глубоким, и в кровь должно было попасть большое количество слюны вампа из «комариков», чтобы произошло заражение. Так что не каждый укушенный непременно становился вампиром. А во-вторых, самое страшное испытание ждало «удачливого» претендента на статус вампа именно после заражения. Это было все равно, что подцепить бубонную чуму во время эпидемии в средневековом Стамбуле. Перерождение протекало при свирепой лихорадке и зашкаливающей градусник температуре, тело ломало в страшных судорогах боли, кровь могла свернуться в жилах в любую минуту. И длилась эта пытка не один день. Кто-то погибал уже в первые сутки, кто-то лишь считанные часы не выдерживал мучений до конца, выживали считанные единицы. И не всегда самые сильные и здоровые, тут уж как повезет. Ритке вот, например, повезло. Повезло, что родилась в наши дни, повезло, что не осталась помирать в чистом поле, а попала в благоустроенный по-больничному дом, что есть современные жаропонижающие и обезболивающие средства, что вампы вводили ей сыворотку из собственной крови, секрет изготовления которой, между прочим, известен одному только хозяину. И все равно легко могла она отдать концы, были и раньше в общине случаи, никакие капельницы не спасали. И сейчас выживает, может быть, один из трех, так пусть живет и радуется и помнит, что почем.
– А хозяин? Как он выжил-то шестьсот лет назад? – спросила, потрясенная обрушившейся на нее суровой правдой, Ритка.
– А он и не выживал, он уже родился таким, насколько я знаю, – увидев Риткино изумленное непонимание, Фома поспешил объяснить, – да, да, у вампов тоже бывают дети. Правда, редко.
– Значит, родители нашего хозяина были вампами… Как любопытно… – Ритка задумалась на какое-то время, а потом заискивающе попросила, – Фомочка, дорогой, расскажи что-нибудь еще про хозяина. Так интересно!
– Обязательно расскажу, но в другой раз, – и, заметив в Риткиных глазах явное разочарование, поспешил ее успокоить, – сразу после охоты и расскажу.
– Честно?
– Зуб даю, кормящий, – заулыбался в ответ Фома, постучав большим пальцем во рту по белоснежному «комарику», – а теперь беги по своим делам. И, слышишь,… удачи тебе сегодня вечером.
В гостиной Риту уже поджидал Миша для последнего контрольного инструктажа. Впрочем, ничего нового он Рите не открыл. Выезд на место назначался, как и было обговорено, на половину первого ночи, сопровождать Риту будут Миша со Стасом и, конечно, хозяин, не изменивший своему намерению поприсутствовать. Засада предполагалась на боковой, но не очень отдаленной дорожке. И Миша еще раз напомнил, что ни в коем случае нельзя предпринимать нападение без разрешающего сигнала одного из подстраховщиков.
Рита в тревожном возбуждении бестолково тыкалась до позднего вечера по всему дому, берясь то за одно, то за другое дело, явно мешая Тате. Но Тата, видно понимая Риткино состояние, ее не прогоняла и не делала никаких замечаний, даже, когда Ритка, пересыпая соль из бумажного пакетика в хрустальную солонку, опрокинула последнюю. После ужина расходиться не стали, и община в полном составе сидела на веранде, выражая поддержку уходящим на охоту братьям. В воздухе висел возбужденный треп, каждый наперебой вносил в него свою заветную байку, непременно начинавшуюся словами: «А вот со мной было…». Ритку на нервной почве тоже подхватил приступ болтливости, и она, как школьник перед первым в жизни экзаменом, пыталась нахватать побольше советов и рекомендаций, задавая подчас и вовсе невероятные вопросы о совершенно фантастических и потому невозможных осложнениях. Но вот на веранду, наконец, вышел хозяин, и пересуды прекратились, все поняли – пришла ехать. Миша подогнал серую «Волгу» к задним воротам. Хозяин сел впереди, Рита со Стасом – на заднее сидение. Провожающие разошлись.
На кладбище прибыли без происшествий. Да и какие могут быть происшествия на пустой окраинной дороге! Миша на всякий случай поставил «Волгу» на сигнализацию, хотя к ней, как и к любой машине, принадлежавшей семье, никто бы и под страхом смерти не подошел. Но Миша любил порядок и придавал значение каждой мелочи. В полном молчании двинулись к намеченной аллейке, но не по дорожкам, а прямо по могилам. Хотя, точнее было бы сказать над. Три непроницаемые тени будто бы парили в воздухе рядом с Риткой, неслышно и легко преодолевая препятствия, не шелохнув и веточку. И Ритка скользила в их окружении, и у нее получалось ничуть не хуже, и это добавляло ей храбрости и уверенности в себе. Дойдя до выбранного места, импровизированного Марсова поля, тени рассеялись. Ритка, как учили, скользнула за невысокий, но достаточно широкий памятник у самого края дорожки, и прильнула к нему от старательности всем телом. Миша и Стас скрылись за плитами в отдалении от нее справа и слева, заняв позиции для наблюдения, став совершенно невидимыми для постороннего глаза. Хозяин прятаться никуда не стал, просто отошел к деревцу, росшему недалеко за Риткиной спиной, и совершенно растворился в его негустой, черной тени. Луна уже взошла, и на кладбище было светло, как в парке на гулянье. Ритка чутким вамповским ухом ловила сонмы звуков, от невразумительного пьяного пения до собачьего лая вдалеке. Но к засаде пока никто не приблизился.
Минут через двадцать Ритка, окаменевшая от напряжения ожидания, уловила протяжное о-ох, похожее на вздох из-под подушки, откуда-то справа. Там, кажется, засел Стас, но она не была уверена. Сигнал означал, что в их сторону есть движение. Если жертва забредет на аллейку одна, то Стас подаст команду к нападению, шепотом прошелестев ее имя. Ритка еще усерднее стала прислушиваться. Шаги действительно были, какие-то неуверенные и шаркающие, сопровождаемые не распадающимся на слова бормотанием. Ритка огорчено подумала, что клиент, скорее всего, в стельку пьян, и с отвращением представила себе его небритую, щетинистую шею, соленую от пота и отвратительную на вкус. Чувство гадливости пробудило и чувство злобы к шаркающей «корове», заглушив последние остатки естественного страха перед неудачей. Шаги свернули на их проселок и бесповоротно тащили «корову» прямо на Ритку. Выброс адреналина и ни с чем не сравнимый азарт охотника были так велики, что Ритка с трудом дождалась своей «зеленой ракеты», чуть было не выскочив из-за памятника без предупреждения. И только боязнь Мишиных дисциплинарных репрессий удержало ее в рамках благоразумия. Тем более что несколько секунд спустя воздушная волна колыхнулась ветром ее имени: «Ри-и-та-а», и ничто уже не могло остановить ее тело в гигантском прыжке.
Ритка взлетела из-за памятника как сокол метра на три, осознавая свою жертву всего лишь точкой в пространстве, и ринулась вниз, ошеломляюще рухнув на добычу и сбив ее с ног. Немного не рассчитав силу удара, Рита довольно сильно ударилась и сама, но все это были пустяки в ее главном моменте Дианы-охотницы. Левой рукой она тут же намертво прихватила голову жертвы и с первого раза точно прошила артерию, погрузив «комарики» в пульсирующую кровь, и начала с наслаждением пить. Почувствовав, что сыта под завязку, Рита с хлюпанием втянула внутрь зубы и отпустила «корову», из артерии ей в лицо ударил фонтанчик крови, но добычу перехватил уже стоявший рядом на коленях Стас. Рита отошла и стала неподалеку, утирая тыльной стороной ладошки перемазанные губы и отплевываясь: солоноватая кровь все же довольно противна на вкус. Стасик тоже закончил насыщение «соком» и теперь собирал остатки в ловко подставленный специальный пластиковый мешок, чтобы на дорожке не оставлять подозрительную лужу. Наблюдая за его четкими и, выверенными на долгой практике действиями, Ритка понемногу остыла и могла уже уравновешено воспринимать окружающую действительность. И тогда в лунном свете она увидела. И ей стало худо. Воображая свою первую охоту, Ритка рисовала в своем воображении все, что угодно, только не это. И здорового амбала, оказывающего бурное, но бесполезное сопротивление, и наглую, визжащую, размалеванную заблудшую потаскушку, и прыщавого озабоченного подростка, тип, ненавидимый ею с детства.
На кладбищенском гравии, беспомощно откинув дряблую ручонку с зажатой в ней авоськой, заполненной пустыми бутылками, лежал древний старичок, очень бедно, но аккуратно одетый, и даже сквозь пыль и кровь, чистенький и интеллигентного вида. Глаза его, белесо голубые и мутные от старости и смерти, широко открытые жалобно и жалко смотрели на сияющую луну. Бесцветная, застиранная штанина старательно заштопанных брюк задралась, обнажив цыплячью ножку, с трогательными старческими венами. Рита смотрела на эту мертвецки синюю ногу и хотела плакать, но не смогла, а только похоронила еще одну часть себя. И не видела, как подошел и стал рядом с ней хозяин. Каким мрачным и озабоченным было его лицо, каким тяжелым, каменным взглядом он смотрел на копошащихся над трупом братьев, уже заворачивающих тело в полиэтиленовый мешок. Потом положил теплую руку Ритке на спину, будто приобнял. Без слов. И Рита не выдержала, повернулась рывком и уткнулась Яну грудь, и затряслась, зарыдала без слез. А после с удивлением обнаружила, что хозяин не такой уж и высокий, ростом не намного выше ее самой, и вовсе не такой уж грозный и загадочный. А даже какой-то родной, и все-все понимает, что сейчас с ней происходит, и говорит с ней даже когда молчит, а она его слышит и утешается. И так и не поняла ее окончательно заблудшая душа, что куплена на корню, в очередной раз и теперь уже окончательно. Что нет ей исхода, и никуда не деться от змеиной мудрости этого человека, даже в самых безнадежных ситуациях умеющего обращать ее слабости и разочарования себе на пользу.
Она не видела и старалась не смотреть, как Миша засовывал тело несчастного старичка в багажник «Волги», не помнила, как Ян усадил ее в машину и сел рядом и они поехали. Чувствовала только руку хозяина, всю дорогу обнимавшую и гладившую ее плечи, без плотского умысла, а словно они были отец и, заплутавшая по жизни, дочь. И рука говорила ей, что все забудется и пройдет, может быть даже завтра.
А на следующий день отмечали первый Ритин выход в свет. И до вечера Рита провела его в хлопотах, целебных и радостных, приказав себе не думать о старичке, давшему ей свою кровь. В суете и застольных приготовлениях это было не так уж трудно. Миша к ней не подходил, не заговаривал и не поздравлял, видимо чувствовал свою неуместность до поры до времени. Впрочем, Ритино отношение к нему не то, чтобы поменялось в худшую сторону. Только Миша из помощников и наставников отошел как бы на второй план, и мысли Риты теперь всецело занимал хозяин. Она очень надеялась, что Ян тоже выйдет к праздничному столу, и про себя, не смея попросить вслух, твердила: «Приди, ну, пожалуйста!». И он будто бы услышал, и покинул свои запретные пока для Риты комнаты, и пришел, хоть и ненадолго. Поздравил Риту, как полноправного, отныне, члена семьи и дальше беседовал вполголоса только с мадам Иреной, которая, судя по выражению лица, на что-то жаловалась хозяину. А, уходя, посмотрел на Риту со значением, чтобы она поняла, с этих пор он все время помнит о ней, он рядом и готов понять и поддержать ее.
Когда была уже глубокая ночь, стали понемногу расходиться. Макс и Сашка уехали на квартиру в город, Ирена отправилась спать. Миша последовал ее примеру и пошел в свой заповедный гараж. Лера и Тата еще уносили со стола последние тарелки, Стасик взялся им помогать. Тогда Рита, которой ложиться совершенно не хотелось, подсела к курившему на веранде Фоме:
– Помнишь, после охоты ты обещал рассказать про хозяина? – с наигранным безразличием спросила Рита.
– Помню, конечно. Могу хоть сейчас начать, вечер чудесный – сидел бы себе и сидел. Да ты, наверное, спать хочешь? – с ленцой ответил сказочник.
– Я? Вовсе нет. Мне после вчерашней дозы «сока» сил девать некуда, – сказала правду Рита.
– Это хорошо. Тогда слушай и не перебивай, а то я собьюсь или забуду что-нибудь. Это ведь длинная история, за один раз и не осилить.
Фома выкинул окурок и, положив коротенькие ножки на фигурные перила веранды, начал свою повесть.
ГЛАВА 4. АГАСФЕР
Восточные Карпаты весной – это рай на земле, по крайней мере, если верить тому, как описывает райский эдем священник Домокош Бач, человечек без возраста и без боли мысли в заиндевелых глазах. Правда Янош не может судить о других местах, он еще нигде толком не бывал, хотя уже совсем большой и родился целых девять зим назад, вот только мама запамятовала, в какой именно день. Только прошлой осенью после громких споров и немых мольб отец позволил Яношу удалиться с родного подворья ровно на то расстояние, которое отделяет их дом от местечка Секейудвархей, куда суровый и тугодумный дядя Андраш погнал быков на продажу. Путешествие было захватывающим и длилось целых четыре дня, самое яркое море впечатлений и событий, несмотря на то, что Андраш не отпускал мальчика от себя ни на шаг, так и не позволив Яношу подойти и поиграть с другими детьми. И свою крытую небеленым холстом кибитку они поставили в стороне от других, но, кажется, это никого не обидело и не удивило. Наверное, дядин нелюдимый и угрюмый нрав был хорошо известен в местечке. Но Янош действительно был достаточно взрослым и догадывался, что дело не только в характере дяди Андраша, но и в «тайне» их семьи. Семейный секрет был сокровенным и нерушимым, и маленький Янош скорее дал бы посадить себя на кол, чем выдал бы «тайну» хоть единым словом. Тут Янош, конечно, немного лукавил сам перед собой, потому что подобная казнь не доставила бы ему особых неудобств и, уж конечно же, не убила бы.
Отец Яноша Уласло Балашши жил в здешних краях так давно, что секеи принимали его за своего, вернее за внука того Уласло, который поселился в долине полвека назад. Ведь не может же человек прожить такой срок на земле и ни капельки не измениться и не постареть. Мать Яноша Юлию отец привез из соседнего молдавского княжества, взял из родственного гнезда, где красивой и не блекнущей с годами девушке было бы уже опасно оставаться. Янош был единственным ребенком у родителей, хотя старший Балашши помнил еще нашествие Атиллы и императора Константина. Но дети в гнездах редкость и надо хорошенько подумать, прежде чем решиться их завести. Яношу повезло – его хотели и любили, а отец не жалел средств на его воспитание и даже пригласил священника, чтобы учил греческому и латыни, хотя никто из секеев не мог написать даже собственное имя и в лучшем случае умел считать до десяти. Мать учила сына венгерскому и немецкому письму, дядя Андраш – искусству боя с оружием и без него. Но больше всего Янош полюбил упражняться в стрельбе из отцовского тяжелого арбалета, который сам натягивал с недетской силой. Время для забавы удавалось выкроить не всегда, надо было помогать отцу и дяде Андрашу в поле, ибо настоящий секей не только защищает, но и кормит себя сам. Поэтому в их краю мужчины с равной охотой берутся и за плуг и за оружие. И если хочешь, чтобы уважали соседи и голос твой был не последний на общинном собрании, то знай поворачивайся не ленись.
Семья Балашши считалась в округе зажиточной, если не богатой, а отец, пожелай он только, мог бы даже стать общинным старшиной. Но Уласло Балашши на виду быть не любил и потому оставался лишь всадником ополчения. Звание это было чисто номинальным, поскольку секеи никаких войн не вели, а с захожими разбойниками и конокрадами каждый двор мог сладить и в одиночку, благо в оружии недостатка не было. Королевский ишпан тоже больше сидел в своем замке для вида и престижа и во внутренние дела и распри предпочитал не ввязываться. Человек он был с понятием и знал, что секейская вольница суть те же мадьяры, и потому нет для них иной власти, кроме короля венгерского. А что свободны и горды сверх меры, так на то и граница, и ее нужно охранять.
Восточная же граница Трансильвании никогда не была спокойным местом, и шлялась вдоль нее пропасть разного люда. Из Валахии тянулись сербы и влахи, со стороны Молдавии забредали словаки и даже германцы, последние были особенно воинственны. Но и секеи, не будь дураками, открыли для себя выгодный промысел, обогащаясь за счет захожих путников, по сути, занимаясь тихим дорожным и преимущественно ночным грабежом. Братья Уласло и Андраш сочли такое положение дел очень удобным для сохранения семейной тайны. От соседей оба Балашши старались не отставать и по нескольку раз за одну темную луну выходили на большую дорогу, то есть в засаду на горной тропе, и приносили под утро добытое оружие и одежду и, если везло, медные и серебряные деньги, золото попадалось редко. Иногда приводили в дом пленника, чтобы напоить мать и Яноша. Сами же братья пили кровь на месте охоты, без страха разоблачения, так как трупы с растерзанным горлом долго в лесу не залеживались. Начатое дело быстро доканчивали лисицы, дикие кабаны и лесные птицы, оставляя от незадачливых прохожих одни только кости.
Когда Янош немного подрос, отец и дядя стали брать его с собой на разбой, и Янош поочередно ходил с ними как взрослый в ночь и убивал легко, гордясь сноровкой и ловкостью. Иногда он уходил в горы в одиночестве, но отец не ругался и не запрещал походы, считая, что мальчику полезно проверить свою храбрость. Янош все добро, добытое им самостоятельно, отдавал матери, не оставляя себе даже мелкой монетки, впрочем, благодаря отцу, он ни в чем не знал нужды. Вот только рассказывал он семье далеко не все о своих ночных прогулках и забавах, особенно смущаясь при мысли, что о его проделках узнает мама Юлия. Порой случалось так, что Янош, повинуясь внутреннему желанию и томлению тела, затаскивал в лес подальше от дороги приглянувшуюся ему девицу или молоденькую женщину, предварительно убив и ограбив ее спутников. Там, в тиши деревьев, он с неистовством молодости овладевал своей жертвой, которая часто сама изо всех сил старалась доставить ему удовольствие, в надежде, что юный и горячий Соловей-разбойник оставит ее в живых. Но Янош всякий раз после утех, в которых пока не знал меры, бывал настолько голоден, что нежные шейки не имели ни малейшей возможности ускользнуть от его зубов.
Однажды, когда Янош в одиночестве сторожил шаги на тропе, его привлек резкий травянистый запах, от которого нестерпимо хотелось чихать. Обнюхивая растения, он нашел нужное, и, выдернув один корешок, попробовал его на вкус. Домой Янош смог, задыхаясь, приползти только к утру, и мать почти неделю лечила и отпаивала травами неразумного естествоиспытателя. Так Янош впервые попробовал дикий чеснок и убедился, что слушать взрослых иногда полезно, и семейные правила придуманы не от нечего делать. Припомнив и продумав на досуге наставления дяди и отца, Янош постепенно пришел к мысли, что многое из того, что ему вбивали в голову с детства, мудро и необходимо для его же, Яноша, безопасности. Что оба старших Балашши и Юлия стараются по возможности избегать общения с другими секеями не из-за чувства собственного превосходства или нелюдимости, Янош понял только после случая с окаянным чесноком. Нельзя привлекать внимание людей излишней, нечеловеческой силой и сноровкой, нельзя есть с ними за одним столом, чтобы не отведать чесночной отравы, нельзя, наконец, близко подходить к посторонним, чтобы тебя не выдал твой собственный запах, вернее почти полное отсутствие такового. В грязную, немытую эпоху Яношева детства, крестьяне и воины пахли одинаково отвратительно и достаточно сильно, чтобы вонь от них разносилась на немалое расстояние. Нельзя сказать, что Янош и его близкие злоупотребляли гигиеной и частотой омовений, но, даже после тяжких трудов в поле тела их издавали лишь легкий запах, схожий с тем, какой идет от сильно нагретого солнцем железа.
Когда Янош вошел в зрелый возраст и давно уже принимал участие в делах семьи наравне с отцом, дядя Андраш принял решение отделиться и постранствовать немного, чтобы после опять осесть в другом родственном гнезде, поселившемся в давние времена под Кошицей. Кошицкие родичи имели немало собственной земли и проживали в достатке и относительном спокойствии, к тому же имели королевскую грамоту на «право меча» и могли предоставить безопасный приют еще одному брату по «тайне». Если бы кто из соседей поинтересовался судьбой Андраша Балашши, то получил бы ответ, что храбрый и неутомимый охотник был, к несчастью, задран лесной медведицей. Янош, однако, понимал, что и остальной его семье рано или поздно придется сняться с насиженного места и искать новое пристанище, но пока в местечке было спокойно и ничто не предвещало переезд. А вскоре в доме появился Михай.
Однажды летней ночью Янош, спавший в охапке сена на телеге, чутким ухом уловил посторонний шум, доносящийся из-за земляной насыпи, окружающей двор и постройки. Как будто кто-то тяжелый тащился ползком по траве, издавая стоны и гремя чем-то железным. Янош одним рывком перелетел ограду в месте, откуда слышал звуки, и, отлично видя в темноте, сразу же обнаружил нарушителя спокойствия. Михай очнулся только в доме на покрытой бараньей шкурой лавке, куда его положили Янош с отцом, но говорить он не мог, а только показывал рукой на грудь, вернее на закрывавшую ее старую, проржавевшую местами, кольчужку. Отец легко, одними пальцами, разодрал хлипкий металл, под которым обнаружилась ужасная открытая рана, зловонная, с черными мертвыми краями. Юлия принесла больному воды, но перевязывать его не стала, в лечении уже не было никакой пользы. Михай до утра метался в горячечном бреду, то приходя в себя, то впадая в беспамятство, а к восходу отцом было принято решение. Юлия и Янош его одобрили. Михай был все равно не жилец, так что попробовать стоило. Человек он крепкий и судя по всему, оружие в руках держал не раз и, может, будет благодарен за спасение своей единственной жизни, пусть и столь нехристианским способом. Более того, с отъездом дяди Андраша лишний брат в их маленькой общине отнюдь не помешал бы. К тому же провидение привело умирающего именно к их порогу и, возможно явило этим свою волю. А суеверная Юлия увидела в появлении Михая и некий знак свыше.
Михая все-таки удалось выходить, хоть и не без труда. Одно время отец даже поставил на Михае крест, не надеясь более, что больной выживет. Но Михай переборол и жестокую лихорадку, и сатанинскую боль, остался жить. Отцовский укус спас его, вернул с того света, хоть и в другом, нечеловеческом качестве. Сам Михай был бесконечно благодарен всем Балашши, особенно старшему Уласло, считал, что ему несказанно повезло, и только просил не снимать с него нательный крест, разрешить носить его и далее. Уласло втолковал темному Михаю, что тот может повесить на себя, все, что угодно, что они не антихристы, а такие же божьи твари, как все живое на грешной земле. Его собственные сын и жена крещены в католическую веру, а он, Уласло, за свою незапамятную жизнь познал стольких богов, что ему безразлично, какому из них служить. Уласло и сам носил на шее крестик, исправно стоял службы в сельской часовне по церковным праздникам, но лишь для того, чтобы не вызывать ненужных разговоров и пересудов.
Добродушный, но тупоумный Михай стал для Яноша лучшим другом, верным оруженосцем и добросовестным помощником в делах. Смотрел на Яноша снизу вверх, подчиняясь с радостью живому и яркому характеру, беспокойному, но трезвому и хитрому уму нового своего брата, пошел бы за ним в огонь и в воду и даже в преисподнюю, только кликни. Но Янош берег Михая, уже знал хорошо цену настоящей преданности. А на границе с каждым годом становилось все беспокойней. Порог Счастья подступал все ближе к рубежам Трансильвании, в Валахии уже шла самая настоящая война, турок пока удавалось сдержать, но Янош знал, что это ненадолго. Преодолев свой первый столетний юбилей, он обрел за прожитый век бесценный опыт, позволявший ему с большой долей вероятности предсказывать события и анализировать обстоятельства, составляя из отрывочных сведений, доходивших до их местечка, достоверную картину стремительно меняющегося мира. Михай таким даром не обладал, несмотря и на свой собственный немалый возраст, а потому полностью доверял суждениям своего друга и готовился к неприятностям.
В секейский общинах напряжение росло с каждым годом. Королю Жигмонду было не до отдаленных Трансильванских восточных границ, и, почувствовав это, секеи принялись делить власть, собирая своих представителей в Адягфальве. Секейские старшины сплачивали вокруг себя в поддержку приближенных всадников и простых пехотинцев, как на дрожжах росло взаимное недоверие и подозрительность, каждый видел в малейшем отступничестве от своих интересов предательство и злоумышление. Необычная и замкнутая семья всадника Балашши оказалась в сложном положении. Слишком много поползло лишних слухов, доходивших порой до обвинений в колдовстве и чернокнижии. Тогда Уласло, как глава семьи, заговорил о переезде. На домашнем совете после долгих споров и раздоров, в основном между отцом и матерью, не желавшей покидать Венгрию, было решено отправиться к старому Рудольфу, тоже принявшему фамилию Балашши и приходившемуся Уласло двоюродным дядей. Старик Рудольф уже некоторое время жил совершенно один и обрадовался бы родственникам. Дядя Рудольф был довольно воинственен и крут нравом, полон сил и запасов задиристости, стариком же его прозвали из-за того, что дядя был самый старший из известных отцу родичей. Жил Рудольф недалеко от Бухареста, не более дня пути от столицы, и по слухам, имел землю и свой собственный, хоть и невеликий каменный замок. Янош считал выбор отца правильным, так как в смутное время лучше всего затеряться в гуще событий, ведь когда идет война, некогда думать о том, что творится на огороде у соседей.
Старый Рудольф нежданным гостям был рад, к тому же сам собирался списаться, случись удобная оказия, с ближайшими гнездами и пригласить к себе на проживание братьев, нуждающихся в укромном приюте. А тут целая семья, да еще родственники и близкие! Михая решили объявить хозяйским племянником, благо лицом он несильно отличался от наследственных Балашши, и Михай принял оказанную честь с благоговением, пустив сентиментальную слезу. Открыто теперь мог назваться братом Яношу, которого чтил как своего святого-покровителя. И внешне были похожи названные братья. Оба белокожие, черноволосые и черноглазые, роста не великанского, но и не низкого. Черты лица у Яноша потоньше, у брата Михая – погрубее. Янош в кости тонок, ловок и быстр, как хищный барс, Михай же тяжеловесен и кряжист, как медведь. Будто две стороны одной монеты, которую разменять не под силу никому. Один, быстрый и пытливый взором, с нескованным и изощренным умом, был создан повелевать, другой, простодушный, но с хитринкой во взгляде, верный в своих привязанностях и не привыкший рассуждать, призван был подчиняться.
Выходить на большую дорогу в дядином имении не было более нужды, земли богатые, и крестьян дядюшка имел не один десяток душ. К тому же промышлять охотой на одиноких путников дядя не дозволял, покупал у добычливых конников пленных турок и прочих басурман, от них, безвестных и никому не нужных, и велел набираться крови. В бытность свою странником в Византийских пределах, старый Рудольф, нахватавшись от тамошних монахов и начетчиков богословской премудрости, пусть и поверхностной, заделался, к недоумению спокойных ко всякой религии родственников, ревностным христианином. Дядя истово соблюдал посты и ежевечерне бил на молитве поклоны, почитал Иисусовы заветы, оттого и пользовать христианскую кровь считал за великий грех. Магометанских иноверцев старик за людей не держал, обзывал грязными собаками и призывал всех, кто носит на груди священный крест, истреблять нечестивцев без пощады.
Названные братья, разъезжая по дядюшкиным полям и селениям, чувствовали себя настоящими благородными магнатами, радовались своему новому положению и вели себя соответственно. Скакали опрометью, где им вздумается, не отказывая себе в удовольствии вытянуть кнутом по спине согнувшуюся в поклоне крестьянскую душу, у которой копыта их резвых лошадок только что смяли половину урожая. И стоит ли говорить о смазливых молоденьких пейзанках, которым только моргни, как побегут наперегонки к ближайшему стогу сена, да еще передерутся между собой за право принадлежать молодым господам. Так бы жить им да поживать в свое удовольствие, не зная горя и козней судьбы, пока не настанет время для нового переезда. Но беда пришла с неожиданной стороны.
Всю нынешнюю весну влахи судачили о возвращении законного господаря Влада в столицу, о счастливом избавлении его из венгерского плена, и о неожиданном для православного подданного народа переходе господаря в католическую папскую веру. Многие осуждали валашского властелина и плевали под ноги при упоминании имени его, но находились и здравомыслящие, понимавшие и принимавшие политическую необходимость монаршего отступничества. А спустя еще некоторое время, ближе к Иванову дню, в замок прибыл таинственный посланец, потребовавший немедленно отвести себя к хозяину здешних мест высокородному Рудольфу и отказавшийся отвечать на расспросы удивленных и обеспокоенных домочадцев. Гонец просидел с дядюшкой взаперти до позднего вечера, а после убыл, отказавшись от ночлега и, что необычно, от обильного ужина.
А по окончании вечерней трапезы старый Рудольф собрал всю семью в залу на совет, удалив слуг и затворив наглухо тяжелые, окованные железом двери. То, что поведал им старик о загадочном визите, повергло в замешательство всех без исключения. Отец даже заставил дядюшку пересказать беседу с таинственным гостем еще раз, переспрашивая на каждом слове, верно ли он понял смысл сказанного. Янош же ухватил суть дядиного повествования сразу, а природная чуткость к опасностям и сообразительность позволили ему догадаться о том, о чем умолчал гонец. Предложение же посланца, как оказалось, от самого господаря Влада, сводилось к следующему. Валашский правитель предлагал дяде Рудольфу явиться на тайную встречу в указанное гонцом место, где господарь предполагал переговорить с ним с глазу на глаз о некоем необычном, но взаимовыгодном договоре, условия и цель которого гонец обсуждать уполномочен не был. Дядя прибыть на подневольное свидание согласился, так как посланник господаря исподволь намекнул ему на возможные неприятности, вплоть до монаршего гнева, обычно сопровождаемого чрезмерными по жестокости репрессиями. Выбор у семьи в действительности был лишь один – либо срочно сниматься с места и бежать из валашских земель, либо подчиниться господарю Владу. Дядя Рудольф, посоветовавшись с племянником и Юлией, решил остановиться на второй возможности и посмотреть, что из этого выйдет. Янош и так знал, что ничего хорошего от свидания с правителем не будет, и мог даже заранее предсказать, что предложит старику взбалмошный и немного сумасшедший господарь. Но промолчал, не сказал на совете ни слова, чуял сердцем, что в его чудовищное предположение не поверит не то, что отец, а и Юлия, его родная мать. Впрочем, тихо убраться подальше семья всегда успеет, нет у господаря такой силы на земле, которая смогла бы их остановить.
И Янош как в воду глядел. Полоумный Влад Тепеш, правитель Валахии, потребовал от старого Рудольфа продать за многие блага и привилегии, за место вблизи его персоны и положение первого советника и дворянские, а так же охранные грамоты всем членам его семьи мужского пола, великую тайну их племени. Хотел стать вровень с ними, поставить их кровь на службу себе. Мечтал господарь о войске могучем, непобедимом, о бессмертии для себя и своих воинов, о господстве над миром христианским и уничтожении и полном истреблении тех, кто шел против него с зеленым знаменем пророка, развернутым над головой. Как узнал Влад о «тайне», того дядя Рудольф ведать не ведал, а господарь ему правды не открыл.
Тут бы взять старому Рудольфу и согласиться для отвода господаревых глаз, а темной ночью сняться с места всей семьей и прочь, прочь с насиженной земли, куда глаза глядят, подальше за границу, за высокие горы, хотя бы в Моравию. Но демон безумия будто обуял родных, только так мог объяснить их бредовые речи встревоженный не на шутку Янош. Чему они радовались, наивные? Власти, славе, возможности жить открыто, выйти, наконец, на дневной свет? Неужели не понимали умом, что одолели их химеры и напрасный, тщетный соблазн? Он, Янош, понимал! Тщетно пытался переубедить, перекричать, переспорить. На его, Яноша, стороне был только верный Михай. Да и тот не постигал свои неповоротливым разумом всего происходящего, а поддакивал Яношу скорее по привычке и из почтения. И семья, перешагнув через протест и здравый смысл, предложение господаря Влада решила принять, а дядя Рудольф с отцом уже и делили на словах выгоды, ожидаемые ими от шкуры большого валашского медведя.
На деле же все получилось так, как и предсказывал Янош. Никакого великого карающего похода не вышло, и уж тем более не было речи о господстве совместно с полоумным господарем валашским над всем христианским миром. А был лишь кромешный ужас и страшное несчастье, полный крах и проклятье от собратьев по «тайне».
Дядя Рудольф, как было уговорено, прибыл в господарев столичный замок вместе с племянником и его женой, оставив в имении Яноша и его названного брата присмотреть за хозяйством, в чем, собственно, и состояло великое везение последних. В замке старый Рудольф наедине даровал алчущему Владу Тепешу так страстно желаемый им укус, и из благодарности к господарю не проглотил и капли крови нового брата, а сплюнул ее в специально подставленную золотую чашу. И целый лунный месяц еще выхаживала, не покладая рук и не зная покоя, мама Юлия больного Влада. Уласло и дядя помогали ей, чем могли, ибо кохали как нежного младенца, не человека, но свою безумную надежду. И Влад Тепеш выжил и почувствовал в себе недюжинную силу, и решил: пришла пора его великой мечте. И стал посылать к Уласло и Рудольфу своих рыцарей и солдат подряд, не брезговал сам приобщать к «тайне» ближайших своих приспешников, переморил таким образом почти все свое войско и двор.
Тогда оставшиеся в живых, догадавшиеся, что к чему, и не желавшие брать на душу богомерзкий грех осквернения, составили заговор. Верные люди подали к господаревой трапезе сонное вино, сами же не приобщенные к «тайне» пили в тот вечер лишь воду. Вскоре пирующие, меченые сатаной, совершенно осоловели и, ослабевшие, повалились под лавки и столы. Их для верности связали железными цепями и, покидав беспамятных на телеги, вывезли за городской вал и там, в заранее приготовленном месте, истребили. Жестокосердного и сумасшедшего господаря, растянув в цепях, по разу каждый, пронзили мечами, а после снесли голову долой. Остальных же заперли спящих в деревянной стодоле и подожгли с четырех сторон. Влада закопали тут же у леса, в безымянной могиле, без поминальной молитвы и обряда, как последнюю собаку. На пожаре же, потухшем лишь с рассветом, разворошили пепел и посекли поганые кости, перекрестились и вон обратно в столицу, делить пустующий трон. Небольшой отряд для верности отправили в имение старого Рудольфа добить оставшихся вурдалачьих выродков.
По сей день благодарит Янош всех богов подряд, что не оказалось их с братом Михаем в замке в ту окаянную, роковую ночь, когда явились за ними посланцы людского гнева и возмездия. Пребывавший в неизъяснимой тоске, Янош, взяв с собой брата, а заодно прихватив молодого вина из дядюшкиных погребов, отправился к вдовой молодке, жившей на окраине ближайшей к имению деревеньке. Петра, вдова шорника Имре Скароти, скорехонько собрала на стол для молодых господ и, с милым подхалимством, кланяясь, приняла из руки Яноша золотую монетку, от хозяйской щедрости за угощение и утехи. Гости Петры, насытившись и изрядно хлебнув виноградного нектара, только было принялись щипать притворно повизгивавшую хозяйку за бока, как издали, со стороны замка, в распахнутые по-летнему ставни, ворвался в душную горницу зловещий лязг и шум. Не успели Янош с Михаем выскочить на шаткое крылечко вдовушкиного домика, как в замке что-то громыхнуло с оглушительной силой, и через мгновение, над его железной остроконечной крышей взвился сноп ослепляющего пламени. Это рванули дядины пороховые погреба, догадались разом братья. Стена огня поднялась над ночным горизонтом, и на фоне кровавых всполохов метались, явственно видимые даже издали, фигуры вооруженных всадников. И было их великое множество. Даже вдвоем с Михаем не смог бы совладать Янош с такой ратью. Михай рванулся было к горящему замку, но Янош силой удержал его. Бежать, скорее, следовало в противоположную сторону и побыстрее. Янош понял все правильно: не найдя никого в самом замке и от бессильной злобы разрушив его, люди, пришедшие на их землю как враги, примутся вскоре обыскивать окрестности и если не дай бог обнаружат обоих братьев, то трудно сказать к чему такая встреча может привести. Вряд ли им удастся справиться с многочисленным отрядом хорошо вооруженных конников, полных отчаянной ненависти, ибо Янош уже сообразил, с какой стороны пришла беда, и кто прибыл по их души.
Наскоро оседлав коней, братья поскакали в сторону столицы, и Янош разумно полагал, что в городе искать их будут меньше всего, к тому же надеялся разузнать хоть что-нибудь о причине происходящих событий, и главное, разъяснить судьбу своих родных. Надежда его оправдалась полностью, но услышанные на Бухарестской базарной площади новости были убийственными. Слухи ползли один страшнее другого, но Януш сердцем чувствовал, что большинство из них правдивы. Так он узнал о казни господаря, продавшего душу дьяволу, и о том, что родителей его, Уласло и Юлии, равно как и окаянного дяди Рудольфа, скорее всего больше нет среди живых. Спустя несколько дней, после изнурительных разъездов по окрестным местечкам, после осторожных расспросов, они с Михаем, наконец, отыскали зловещее пепелище. По оставшейся груде не захороненных никем костей уже невозможно было разобрать, кто есть кто. Однако на одном куске безымянного посеченного скелета Михай углядел блеснувшее сквозь маслянистую сажу золото. Это был золотой с рубинами крест старого Рудольфа, зацепившийся колечком за обломок ребра. Янош не стал поднимать оставшуюся от дяди реликвию, а только вдавил крест в обугленный прах кованным гвоздями сапогом и смачно, от души, плюнул на дядюшкины останки.
Так начиналась пора скитаний. Янош и верный его Михай, неразлучный с братом и в горе и в радости, убравшись поскорее из охваченной мятежами Валахии, попытались для начала найти безопасное убежище в одном из известных им родственных гнезд. Это намерение чуть не стоило обоим головы. Яношу и его названному брату пришлось сполна испытать на своей шкуре все ужасы предательства старого Рудольфа. Противоречивые слухи о неправедной кончине господаря влахов расползлись подобно ядовитой жиже по всей Восточной Европе. Поднялась новая страшная волна охоты на ведьм, в каждой деревушке, в каждом местечке, суеверные, напуганные монахи и попы изыскивали своих Рудольфов и Владов, тащили во множестве на костер безвинных отшельников, подозрительных путников и просто не угодивших им прихожан. Целые гнезда снимались с насиженных мест и разбредались подальше в разные стороны кто куда. В тех же местах, где братьям удавалось еще застать на месте семью родичей, соплеменники гнали их прочь, как нечистых и гнусных отступников, проклиная и грозя смертью. В гнезде же, жившем под Кутно, куда братья опрометчиво сунулись, все же надеясь на некоторую помощь, зловещая угроза чуть было не осуществилась, так, что Янош и следовавший за ним неотступно Михай еле-еле унесли ноги. Семью Балашши объявили навеки проклятой и, стало быть, стоящей вне законов общин, несущих бремя «тайны». Более того, всех Балашши считали повинными в постыдном и корыстном разглашении этой «тайны», в том, что люди вообще, наконец, узнали достоверно о самом факте существования гнезд, а, значит, подлые Балашши подставили под удар всех своих собратьев и родственников. Братья оказались в положении изгнанников, постоянно опасающихся за свою жизнь.
Тогда-то Янош и перестал искать поддержку у своих собратьев, и принял решение отправиться вместе с Михаем на войну, записавшись под вымышленными именами в войско к Трансильванскому воеводе, который как раз в это время собирал в Деве армию и намеревался идти с ней на осаду Темешвара. Двое крепких, обученных владеть оружием, воинов, на превосходных лошадях, пришлись как нельзя более ко двору наместника Яноша Запольяи и проявили себя во время подавления мятежа храбрыми и не страшащимися смерти солдатами. Уже в сражении под Коловжаром Янош получил под свое начало отряд, Михай же оставался его правой рукой и самой надежной опорой. Добывать свежую кровь на войне и вовсе не составляло никакого труда, не привлекая при этом ненужного внимания. Впрочем, братья действовали осторожно, старались ничем не отличаться от других лихих и бесшабашных вояк, соразмеряли свою необыкновенную силу с людской, не позволяя ей проявляться в своем устрашающем и разрушительном действии. Даже отсутствие запаха не наводило на подозрения, так как военный лагерь был наполнен таким устойчивым смрадом, что казалось, зловонием пропитывалась не только одежда, но и оружие и доспехи.
Бесстрашный и опытный воин, Янош был отмечен наместником и взят в охранную свиту воеводы Запольяи. При нем в качестве оруженосца попал ко двору и Михай. Остались оба брата при наместнике и тогда, когда был посажен Запольяи магнатами на венгерский престол в Буде. Славные настали для них времена, сытые и покойные, ибо кто ж заподозрит в чем худом рыцарей, посвященных и опоясанных за верную службу королем, да еще несущих почетную тягость охраны монаршей персоны на своих могучих плечах. Но благоденствие продлилось недолго, так как вскоре был разбит король Янош в сражениях своим соперником в борьбе за трон королем Фердинандом. Пришлось Запольяи бежать со всех ног в польские владения, а с ним и его верным рыцарям. В изгнании пришлось несладко, и Янош подумывал уже о том, чтобы в очередной раз вместе с братом Михаем оборотиться кем-нибудь другим и покинуть опального короля, найти получше местечко под солнцем. Но тут король, уговорившись с султаном Блистательной Порты Сулейманам Великим, получил от него деньги и заручился поддержкой в своих планах вернуть венгерский престол. Колесо Фортуны совершило очередной поворот и теперь уже Фердинанду пришлось кисло.
Вместе с Запольяи к воротам Буды в боевом охранении монаршей особы подъехали и братья, теперь уже носящие имя Ковачоци и рыцарские пояса, и присутствовали в свите короля, когда султан Сулейман провозглашал того единственным государем Венгерского царства. И опять началась для Яноша и Михая сладкая жизнь. Посыпались на них золото и богатые уделы, награда за преданность, сильные и богатые придворные вмиг стали завидными женихами. Однако достигшие успеха братья ожениться на знатных девицах не спешили, предаваясь любовным утехам с женщинами попроще. Но в то же время приходилось постоянно быть начеку, стараться и в мелочах не выдать себя, своей сущности, скрупулезно следить за каждым шагом. В сердце Яноша же все больше росло беспокойство – они с Михаем оказались у всех на виду и на слуху. Помнил слишком хорошо он родительскую судьбу и дорогой ценой заплатил за урок. Им, носителям тайны лишний шум и внимание ни к чему и до добра не доведет, правда рано или поздно выйдет наружу. Таков божий суд за их долгую жизнь, за кровь и грехи.
Потому, когда советник Гритти искал надежных людей послать с поручением и письмом в родную Венецию, Янош испросил королевского дозволения сопровождать послов вооруженным эскортом. Так, вдвоем с братом Михаем, прихватив с собой все золото, какое можно было увезти, отправились к Средиземному морю, с посольством в Великую Торговую Республику. Венеция, огромный караван-сарай, где никому ни до кого нет дела, водились бы только денежки в избытке, пришлась обоим по вкусу. Янош, жадный до всего нового, впервые приобщился к подлинной, западной культуре, с наслаждением учил итальянский, певучий язык, и помогало ему в том знание латыни. Братья избавились, наконец, от ратных доспехов, тяжелых сабель и шлемов, переоделись в бархатные и шелковые одежды и отправились на поиски галантных приключений, Янош – дорогих и изысканных, Михай – тех, что попроще и подоступней.
Спустя несколько месяцев порученцы Гритти отправились обратно в Венгрию, Янош же с братом под благовидным предлогом задержались в вольном городе. В Торговой Республике ошивалось всегда много народу, знатного и худородного, богатого и бедного, прибывшего по делу или развлекающегося путешествиями. Добыть свежую кровь и вовсе не составляло никакого труда, достаточно было поймать любого нищего в порту, а затем, насытившись, пустить его с камнем на шее ко дну на прокорм рыбам. Трижды зимовали братья в славной Венеции, затем Янош, верный решению не оседать подолгу на одном месте, решил, что пора им покинуть веселый и гостеприимный город. Знакомый купец и поставщик венгерских рыцарей Карло Анунцио согласился на предложение Яноша взять его и брата с собой в плавание до самого Стамбула, где имел большие знакомства и связи. Корабль у Карло был, как и у большинства местных купцов, полувоенный-полуторговый, хорошо вооруженный, удобный и вместительный. О цене быстро сговорились. Братья по прибытии к Порогу Счастья должны были так же получить от Анунцио рекомендательные письма к влиятельным друзьям Карло, которые обеспечили бы за щедрые дары безопасность и приятное времяпрепровождение двум христианским рыцарям дружественного венгерского двора.
Не прошло и нескольких недель, как корабль Карло «Святая Изабелла» уже бороздил воды Адриатики, увозя в неизвестность грозной исламской Порты обоих братьев, Михая и Яноша, рыцарей Ковачоци. Янош за всю свою долгую жизнь никогда еще не путешествовал по морю и первые несколько дней ожидал от плавания чего-то необычного и захватывающего. Корабельная качка нисколько на него не действовала, и Янош разгуливал по всему судну, вступал в беседы с капитаном, расспрашивал об искусстве морской навигации, интересовался устройством компаса и секстанта, разглядывал в капитанской каюте карты. Михай больше отирался возле матросов, учился у них вязать узлы и ставить паруса, иногда бахвалился своей недюжинной силой и разрывал руками на спор канатные веревки. Матросы с уважением и восхищением относились к Михаю-силачу, но Михая-рыцаря считали простаком.
«Святая Изабелла» находилась в море уже пятнадцать дней, погода стояла ясная, ветер был благоприятный и однообразные занятия экипажа повторялись изо дня в день. Морской пейзаж вокруг тоже не претерпевал больших изменений, и Янош начал ощущать легкую скуку. Путешествие выходило не таким уж занятным. Янош начал уже потихоньку мечтать о том, чтобы «Святая Изабелла» ввязалась в бой с каким-нибудь пиратским кораблем. Но турки не трогали суда, идущие под союзным венецианским флагом и других морских разбойников, о которых так много слышал Януш, тоже было не видать. Однако уже на следующий день Янош получил на свою голову приключений куда больше, чем просил.
Уже под вечер море покрылось нехорошими барашками, и капитан «Святой Изабеллы» не на шутку встревожился, забеспокоился и Карло. А вскоре крепкий порыв ветра безжалостно рванул паруса. К ночи разыгрался самый настоящий шторм. Тогда и Янош осознал, наконец, ту истину, что с морем шутки плохи. Корабль бросало на волне как беспомощную скорлупку, вода переливалась через борт и «Святая Изабелла» опасно кренилась на бок. Янош с братом бросились на помощь команде, любая пара сильных рук была теперь ценнее золота. Привязав себя за пояса к мачтам, рыцари Ковачоци помогали управляться с парусами. На мостике и у штурвала от них было бы мало проку, и они взялись за простую матросскую работу, смертельно опасную и такую важную для общего спасения во время грозной бури. С небес хлестал колючий холодный ливень, ветер ревел, переходя временами на волчий вой, и рвал из рук снасти, сдиравшие с ладоней кожу. Боцман, отдавая команды, пытался перекричать рев бури, но моряки и без него знали, что от них требуется. Ураганный шторм длился, казалось, уже целую вечность, небо было беспросветно темно, и никто не знал: наступило ли уже утро или все еще продолжалась ночь. Люди выбивались из сил, только Янош и Михай не чувствовали усталости. «Святая Изабелла» трещала по швам и готова была рассыпаться на куски. Но буря вскоре все же, казалось, стала стихать. И уже будучи на излете, выбросила перед потрепанным суденышком гигантскую волну. Привязанный рядом с Яношем матрос крикнул ему, что это последняя. Янош на всякий случай обхватил мачту руками, став спиной к волне. И тут гора воды обрушилась на них. Почти захлебнувшийся в потоке, Янош сквозь залепленные солью ресницы с ужасом наблюдал, как волна вырвала фок вместе с намертво привязанным к нему корабельным канатом Михаем и с треском, снося все на своем пути, протащила его по палубе, и, выломав часть борта, вышвырнула в кипящее море. Так на его глазах сгинул его дорогой названный брат, преданное сердце, единственный, кто любил Яноша со всем пылом души, единственный, к кому и сам Янош не был равнодушен. И продолжая обнимать просмоленную мокрую мачту, Янош, нарочно с размаху, ударился об нее изо всех сил лбом и, скрежеща зубами от отчаяния, в первый раз в жизни заплакал.
ГЛАВА 5. УЧИТЕЛЬ
– И что же было дальше? Доплыла его «Изабелла» до Стамбула или нет? – спросила Ритка, когда Фома вдруг прервал свой рассказ.
– Доплыла, конечно, куда бы она делась! – ответил ей Фома и зевнул, прикрыв ладонью рот.
– Михая жалко. Наверное, неплохой был мужик, – Ритка затеребила Фому за рукав рубашки, – Эй! Не спи, замерзнешь! Давай дальше!
– Нет уж, на сегодня хватит. У меня уже башка не варит, так спать хочу. В другой раз доскажу, – Фома поднялся со стула и потянул за собой Ритку, – пошли-ка баиньки, а то у тебя уже глаза как у совы.
– Ладно, пошли, – согласилась с ним Ритка, чувствуя, что ее и в самом деле тянет прилечь. Они вошли в дом.
В последующие дни Ритка в душе еще не раз пережила подробности жизнеописания хозяина, и сам он, его образ, застывший занозой в сердце еще со времени ночи ее первой охоты, не давал ей покоя, наполняя Ритку сладким и романтически возвышенным ароматом. Она начала намеренно искать встреч с хозяином, мысленно уже не пугаясь и не стесняясь его общества. Ей стало просто необходимо видеть его и говорить с ним, хотя бы изредка. Рита не могла, конечно, навязывать хозяину свое общество, и долго, мучительно ждала, когда Ян сам найдет время и повод для встречи и беседы. С ее стороны это не была любовь в традиционном и естественном понимании этого слова. Ритины чувства скорее были сродни исступленному обожанию первыми христианками магической фигуры Христа, чей путь страдальца, пророка и учителя недостижим и желанен.
Хозяин распознал изменения в настроениях девушки, быть может, раньше, чем об этом догадалась она сама, и счел, что этот факт ему на руку. Осторожный и дальновидный, Ян Владиславович отмерял ей внимание аптекарски рассчитанными дозами, чтобы не спугнуть и не переборщить с доступностью, и в то же время окончательно завладеть ее мыслями и переживаниями. А Рита не просто хотела мыслить и переживать, она чувствовала еще и безотлагательную потребность поделиться с кем-нибудь посторонним подспудно зреющими в ней новыми ощущениями, щекочущими, захватывающими и беспокойно радостными. Единственно, что она хорошо осознавала, было то справедливое соображение, что для задушевных бесед в этот раз ни в коем случае не стоит выбирать Мишу. И Рита остановилась на двух милых рабочих лошадках, разговорчивых домохозяйках, на Таточке и Лере. В последние дни Риту никто не доставал занятиями или нравоучениями, ее, казалось, на время предоставили самой себе, отпустили попастись на волю или просто отдохнуть. Только хозяин ежедневно, словно следуя ритуалу, подзывал Риту к себе, ласково улыбался и задавал ей несколько непонятных вопросов, на которые она отвечала, что придет в голову, лишь бы подольше побыть рядом с Яном Владиславовичем.
Так, Рита стала частым гостем на кухне, забегала по несколько раз на дню, иногда помогала, в чем просили и главное, вволю болтала с девчонками о хозяине. Исподволь, через дальние огороды, подбиралась к волновавшему ее воображение и томящему сердце вопросу. Пока однажды вопрос не был, наконец, озвучен. Лето было уже на исходе, и в этот день Тата как раз затеяла возню с вареньем, сливовым и абрикосовым. Выдавливая очередную непослушную косточку из тугого, фиолетового плода, Ритка, перехватив дыхание, спросила:
– Девочки, как вы думаете, Ян Владиславович интересуется женщинами, ну, не конкретно, а вообще, в принципе?
Ответом ей был дружный хохот, перемежающийся возгласами: «НУ, ты даешь!», и «Ну, спросила!»
– Конечно, интересуется, он же не монах, – отсмеявшись, уверенно ответила Лера.
– А ты откуда знаешь, к нему, что, кто-то приходит или ребята специально доставляют, – возразила Рита, не зная сама, чего хочет больше, задеть ли Леру или подосадовать на хозяина.
– Ну, зачем ты так. Он в этом смысле с людьми дела не имеет, по крайней мере, на моей памяти, – и Лера лукаво и с усмешкой отвела глаза.
– То есть как это? Хочешь сказать, что кто-то из наших, кто-то из домашних…? – Ритка прикрыла рот ладонью, но тут же отдернула руку от лица, злого и расстроенного, – Это Ирена, да? Точно, она, больше ведь некому. Ой, девочки, неужели, правда?
– Ну и дура же ты, Ритка, – резко оборвала ее Тата, красная, распаренная, с запачканными абрикосовым соком руками. Она пыталась сдуть набок лезшую в глаза прядь волос, у нее не получалось – волосы липли к мокрому лицу, и Тата все больше раздражалась, – Смотрите, как взъелась. Что, побежишь, и мадам в морду вцепишься? Я не могу, тоже мне выискалась леди Макбет Мценского уезда.
– Причем здесь эта леди, – растерялась от неожиданного напора Рита. Лескова она не читала, впрочем, Шекспира тоже не удосужилась, и потому уловила на слух только слово леди, опустив ее титулование.
– А при том. При том, что если хочешь знать, то мы все здесь леди, и я, и Лерка, и уж конечно Ирена, – Тата помолчала с секунду и добавила, – и ты будешь, если захочешь, так что не о чем здесь говорить.
– Кем буду? – совершенно уже обалдело спросила Рита.
– Ты совсем отупела или голову морочишь? – надвинулась на нее Тата.
Возможно, мир в кухонных границах был бы нарушен, если бы не выступившая под белым флагом Лера:
– Погоди, Татка, дай я объясню толком. Ты сейчас можешь сказать лишнее и ненужное. А ты, девочка, послушай меня, – Лера подвинулась вместе со стулом поближе к Ритке и одними строгими глазами, казалось, развернула девушку к себе лицом.
– Я слушаю, – пролепетала Рита и замерла в морозном ожидании.
– Ты запомни накрепко главное – у нас в общине по личным и интимным вопросам полная свобода. Никто никого не заставляет и не принуждает, но и не навязывается, – Лера взяла многозначительную паузу, чтобы придать вес последним своим словам, – и у нас не принято лезть в чужой огород и делать братьям, и особенно сестрам гадости.
– А как же хозяин? – попыталась вернуться к главной, волновавшей ее теме Ритка.
– Об этом я с тобой и говорю. Если тебя угораздило влюбиться в Яна, а ты ему тоже симпатична, я же вижу, то вряд ли будут какие-нибудь препятствия, если вы вдруг захотите заняться друг с другом любовью. Тебе достаточно только намекнуть, что ты не против.
– Что, так просто?
– Лечь к нему в постель? Да, просто. Совсем не просто задержаться в ней надолго.
– Откуда ты знаешь? – Рита не ждала откровенного ответа, она и так уже все поняла, но Лера и не подумала уклоняться.
– Пока что, это никому не удалось. Ни мне, ни Тате, ни даже, представь, Ирене. Хотя нашу мадам попутным ветром иногда и теперь заносит в хозяйские объятия, но это уже чистая физиология, – Лера усмехнулась, но не то, чтобы весело, – да, да, не одна ты, все мы сохли по хозяину. В свое время. Пока не поняли, глупые, что Ян никому из нас не по зубам.
– Может мои зубы покрепче ваших будут, – с вызовом бросила ей Ритка, которую как кнут ожгла неведомо откуда взявшаяся ревность.
– Давай, мотылек, дерзай. Смотри, не опали крылышки, – только и ответила ей Лера, беззлобно и немножко печально.
И Рита решила непременно дерзнуть. Начать сегодня же, сейчас же. Она бросилась вон из кухни, подальше от варений и кулинарных ароматов, оставив подруг в недоумении от своего стремительного порыва. Рита выскочила в пустой холл, оттуда в сад, быстрым шагом, бормоча себе под нос, дошла до кирпичного забора, дальше идти было некуда и ей пришлось остановиться и оглядеться. Мысли ее потихоньку возвращались из сумбура бессвязного потока, приступ возбужденной, ни на что не направленной активности стал иссякать. Рита присела возле ограды на сухую, колкую травку и глубоко задумалась.
Очаровать, привлечь хозяина, влюбить его в себя, все эти желания не потеряли силу, а только видоизменились, превратившись из недосягаемой сладкой мечты в осуществимую, возможную реальность. Риту ни сколько не смущали пророчества и печальный опыт ее общинных сестер. Считая их откровенно мокрыми курицами, даже подколодную мадам Ирену, Рита уверяла себя, что вот у нее-то все получиться, что она добьется любви хозяина, и уж постарается ее не потерять, а как она это сделает, совсем не важно. Главное – не отступать и не теряться. И заблуждалась, как многие ее товарки по несчастью, в том, что любовь будто бы можно удержать настойчивостью и интригами, и что для счастья достаточно желания и решительности только одной стороны. Зная, что в дневное время Ян Владиславович обычно никогда не покидает кабинета на первом этаже, где спущены наглухо тяжелые плюшевые шторы, от коих, по мнению Таты одна пыль, и что именно в это время он совещается по деловым вопросам с мадам и Стасиком, а чаще всего с Мишей, Рита собралась выбрать удобный момент и тоже постучать в заветную дверь. Но для этого требовалось, прежде всего, подняться наверх, в свою комнатку, и привести лицо и волосы в надлежащий порядок, а, попросту говоря, постараться навести неотразимую и смертельно неземную красоту. Ибо, чем крупнее добыча, тем и мощнее должно быть оружие.
Капище бога в это время отнюдь не пустовало. Иначе говоря, в святилище, то бишь, в хозяйском кабинете находился посетитель. И у посетителя с Яном Владиславовичем происходил важный и небезынтересный разговор. Миша хоть и пришедший как обычно за указаниями и с отчетом, имел на этот раз и собственный интерес.
– Ян Владиславович, а что дальше будем делать с Ритой? Девочка вполне готова и выдержала испытание. Я думаю, ее можно привлекать к работе, – Миша вопросительно посмотрел на хозяина.
– Нужно обождать, – как всегда коротко, ответил тот.
Но Миша впервые не собирался отступать и захотел услышать разъяснения:
– Почему же? Разве ей пойдет на пользу болтаться без дела? И потом, ее физическая подготовка…
– Ее физическая подготовка ничто по сравнению с духовной готовностью, – перебил Мишу хозяин, – а в этом плане нам еще работать и работать.
– Вы полагаете, что могут возникнуть проблемы морального порядка? Вряд ли, ведь девочка почти не имеет представления об этических нормах, – Миша позволил себе улыбнуться, но хозяин пропустил его иронию мимо ушей.
– Я полагаю, что у нее голова занята совсем другим вещами, – и хозяин замолчал, обдумывая, стоит ли продолжать или он сказал уже достаточно. Но, повнимательнее вглядевшись в Мишино лицо, склонился к первому варианту, – Впрочем, я ожидал что-нибудь в этом роде.
– Будь я проклят, если понимаю, что Вы имеете в виду, – Миша в недоумении всплеснул рукой
– Скажи, эта девушка, Рита, она нравиться тебе? – видя, что привел Мишу в замешательство, Ян Владиславович строго добавил, – помни, раньше ты никогда не лгал мне.
– Я и в этот раз не собирался. Дело в том, что я и сам не знаю, вернее, я не уверен. Но то, что я невольно выделяю ее, отношусь, быть может, немного по-другому, чем к остальным нашим сестрам, – тут Миша опустил голову и закончил тяжело и тихо, – это сущая правда.
– Это сущее безобразие. Потому что если твои чувства пока и не любовь, то, во всяком случае, явное преддверие ее, – хозяин развеселился, и слова его прозвучали не как выговор, а скорее как приглашение к дальнейшим откровениям, которые делать будет легко и приятно, – а два вздыхающих страдальца в одной маленькой общине будет чересчур.
– Я так понимаю, Вы намекаете на меня и на мои возможные разочарования. Но кто же будет вздыхать еще? Рита в последнее время отдалилась от меня, и я подозреваю даже, что мое общество и я сам ей отчего-то неприятны.
– Об этом я и хотел говорить с тобой, – голос хозяина зазвучал сочувственно и вкрадчиво, – видишь ли, современные девушки, по моим наблюдениям, в большинстве своем желают луну с неба, но это еще полбеды, они, к тому же, упорно стараются ее достать. А это до невозможности обременительно, по крайней мере, для меня.
– Вы хотите сказать, что осведомлены в причинах такой резкой перемены отношения Риты ко мне, – Миша почувствовал на уровне инстинкта, что услышит сейчас от хозяина нечто неприятное, – если возможно, объясните, в чем же дело.
– Изволь выслушать меня до конца, и тебе не понадобится строить предположения, – хозяин заговорил медленно и как бы лениво, – только перед этим, будь любезен, спрячь подальше и чувства свои и свои настроения, и оставь лишь голый рассудок, как если бы речь шла о посторонней проблеме.
– Ну что ж, это нетрудно исполнить, – Миша на секунду прикрыл глаза, потом подобрался, сел ровнее и стал как-то собраннее, сосредоточеннее, – я готов Вас слушать, Ян Владиславович.
– Молодец, – коротко и одним словом оценил хозяин Мишины незаурядные способности к самоконтролю, – итак, что мы имеем на сегодняшний день в отношении девушки Риты? А имеем мы следующее. Первое: обучение ее закончено. Второе: к полезному использованию девушка, однако, не готова. И тому есть причина.
– Я весь внимание, – вставил несколько слов Миша в неожиданно возникшую паузу.
– Так вот, как я сказал, на это есть причина, – как ни в чем не бывало, продолжил хозяин, – и суть проблемы состоит в том, что бедняжку угораздило влюбиться, и в самый неподходящий момент. Впрочем, я уже говорил ранее, этого вполне следовало ожидать. Возможно, я сам переборщил в сочувствии к ней в ночь охоты на кладбище. Но душа вампа, так же как и душа человека, очень тонкая материя, тут легко ошибиться. Даже такому искушенному долгожителю как я.
Теперь, когда Мишины интуитивные подозрения были, наконец, озвучены самим Яном Владиславовичем, облечены им в слова, они становились сами по себе реальностью, действительностью, которая будет жить отныне отдельно от него, Миши, и требовать не переживаний и измышленных предположений, а конкретных действий. Впрочем, и уколов ревности Миша не ощутил – он полностью доверял своему хозяину и был уверен, что тот найдет выход из возникшего осложнения, не причинив ему, Мише, вреда. К тому же у него никогда не возникало и тени дерзновенной мысли равнять себя с Яном Владиславовичем, и выбор девушки казался Мише совершенно естественным, ведь в сиянии солнца ясным днем не видно звезд. Другое дело, что обычная, ничем замечательным не выделяющаяся девочка, пусть и настырная и преданная, не могла всерьез заинтересовать хозяина, а значит, Ян Владиславович не мог быть в будущем опасным конкурентом. Хозяин же тем временем продолжал:
– Поэтому, я думаю, было бы глупо с моей стороны оттолкнуть малышку и тем самым, возможно, нажить потенциального врага, вместо того, чтобы постараться приобрести безупречного исполнителя и преданного слугу. Здесь надо действовать осторожно и осмотрительно.
– Какова будет моя роль в настоящий момент и на будущее? – для Миши их беседа приобрела деловой оборот, а, значит, требовалось обсудить и запомнить детали и обговорить их на случай возможных недоразумений.
– Для начала – полное невмешательство. Полное! Чтобы я ни делал! Чтобы при этом ни чувствовал ты сам! – хозяин отрезал фразы жестко и чуть повысив голос, словно вдалбливая их в Мишино сознание, – Если тебе будет больно, что ж, перетерпи. Помни, я сделаю все, чтобы твои мучения, если таковые вдруг возникнут, долго бы не продлились. Но будущее будет зависеть от того, чего ты хочешь.
– Я хочу эту девушку, Риту, – признался Миша не столько хозяину, сколько себе самому, – вы знаете, Ян Владиславович, что я никогда не испытывал серьезных симпатий и никого никогда не хотел видеть рядом с собой. И я также никогда и никого ни о чем не просил. Но Рита нужна мне, хотя я и сам не пойму зачем.
– Тогда от тебя потребуется объявиться в ее жизни в нужный момент, когда – я скажу. И если ты все сделаешь правильно, то получишь верную подругу, а я – преданного мне до мозга костей вампа.
– То есть вы мне обещаете…, я хотел сказать, находите нужным уважить мою просьбу, – поправился с заминкой Миша.
– Будь спокоен, – хозяин усмехнулся, и на гладком, холеном его лице вдруг зыбью пробежала тень плохо скрываемого пренебрежения, – экзальтированные и неопытные девочки – не моя стихия. А сейчас можешь идти. И помни – ни во что не вмешиваться, пока я сам не позову тебя.
Тем временем Рита спускалась вниз во всем блеске неповторимой дважды боевой раскраски. Ее макияж, годный для светского раута на районной дискотеке несколько нелепо выглядел при свете дня и переливался всеми цветами радуги. Тоненькое и худенькое ее личико совершенно утратило всякую индивидуальность под изрядным слоем штукатурки. Наскоро начесанные короткие волосы придавали ей гротескно взрослый вид. Но Рита не могла видеть себя со стороны и оценить непредвзято плоды своих получасовых усилий, сделавших ее похожими на молоденькую и начинающую путану вокзального разряда. Слегка прищуренные зеленоватые, неяркие глаза, совершенно потерявшиеся в колючем частоколе торчащих противотанковых ежей, бывших до нанесения на них синей туши вполне приемлемыми ресницами, видели в зеркале только отражение непобедимо прекрасной, только что вышедшей из кокона бабочки, расправляющей крылья перед первым полетом. Уверенность и непогрешимость юности компенсировали ей изысканный стиль, смелость заменяла собой меру и хороший вкус. Незнакомое прежде чувство большой и жаждущей ответа любви придавало решимости идти до конца, не взирая на лица и препятствия. На свое самозванное свидание с хозяином Рита шла не как на праздник, но как на штурм. И краска на ее нежной полудетской мордашке скорее служила ей одновременно оружием и броней, нежели дополнением к собственным достоинствам ее личика, вселяя оптимистичную веру в свою неотразимость. Оттого и шаг, коим она подошла к заветной двери, отчасти напоминал солдатский – печатный и казенный.
Возле заветных райских ворот из моренного дорого дуба Рита остановилась и, не давая себе времени на опасное расхолаживающее раздумье, тут же и постучала, не нагло, но твердо и с достоинством. Услышала приглушенное и короткое: «Войдите!», и нежданно вспотевшей ладошкой повернула блестящую псевдобронзовую ручку двери. Остановившись на пороге, Рита, несколько оробев, пролепетала необязательные и бессвязные слова приветствия, одновременно пытаясь оглядеться и ничего не видя из-за пульсирующей пелены на глазах.
Ее появление пришлось как нельзя более кстати. Яну Владиславовичу более не нужно было обдумывать деликатные, иезуитские подходы, проигрывать в голове возможные варианты тонкого обольщения, требующие выверенной взвешенности каждого слова. Своим приходом Рита разрешила его от лишних забот, сняла запреты и отмела условности, превратив тернистый путь ее приручения в легкую и приятную дорогу. Так, благодарный за избавление от хлопот, хозяин поднялся с дивана, и, нарушив свою монументальность, пошел навстречу девушке.
Когда хозяин, взяв ее тоненькую влажную ручку в свою, увлек Риту за собой, серьезный и нежный одновременно, она лепетала, семеня за ним к дивану, ненужные и смешные слова, не веря простоте своего счастья. Оружие было отложено, ни зачем не надобное и бесполезное. Ее любимый понял ее без объяснений и лишних разговоров, понял с одного взгляда и принял все, что девушка принесла ему, и душу, и тело и простодушную надежду. И в полусумеречной комнате с восточными запахами и мягкими, тягучими тенями по углам парила пурпурная, переливающаяся оранжевым теплым плеском безудержная радость, не верящая до конца в свое воплощение, и холодная голубая пелена, неявная и спокойная, но всевластная и грозная, уверенная в своей победе над ликующим огнем осуществленной мечты.
Никогда еще за всю свою умеренно бурную, но достаточно примитивную, любовную жизнь, Рита не отдавалась с таким упоением и чувством, никогда не тратила столько пыла, не ощущала такого лихорадочного бреда страсти. Но страсти не дикой и животной, но благодарной и жаждущей преклоняться и боготворить, сжигающей более сердце, чем непостоянную плоть. Не имея еще достаточно опыта, чтобы в полной мере оценить мужские достоинства обожаемого хозяина, девушка все же краем затуманенного сознания уловила, что получает много больше, чем стоит сама. Трогательным, сдавленным шепотом, когда позволяло ее судорожное дыхание, она пыталась донести своему кумиру всю безмерность восторга, выплескивающегося из переполненной чаши ее любви, готовность быть вечной его рабой и наложницей, кем угодно, только бы навсегда быть рядом с ним.
Сколько бы ни было в ее нынешнем, могучем теле сил, Рита, однако, насытилась и утомилась в трудах любви куда раньше своего хозяина, но находила неизъяснимое удовольствие в том, что еще нужна ему, что желанна, и старалась уже лишь для того, чтобы доставить своему избраннику всю полноту удовлетворения. Старания ее продлились довольно долго, совершенно измотав девушку и душевно и физически. Груз ее эмоций сделался совершенно не подъемным, но Рита не решилась пожаловаться на усталость, боясь разочаровать или оттолкнуть от себя того, без кого уже не представляла дальнейшей своей жизни. Уроки самопожертвования всегда обходятся слишком дорого, тому, кто их получает, и потому единственным желанием Риты, когда хозяин, наконец, оставил ее в покое, было убежать и забиться в уединенный уголок, чтобы тихо и без посторонних глаз, пережить и принять сошедшую на нее и чрезмерную ношу благодати. Видя, что хозяин не пытается ее удержать, а как бы одной улыбкой ласковых глаз отпускает на время, Рита, радостная от его понимания, стала быстро и беспорядочно одеваться, но не смогла просто уйти, а опустилась на колени у дивана, с которого хозяин и не думал подниматься, и, взяв его руку в свои ладошки, коротко и стыдливо поцеловала и на миг прижалась щекой. Потом торопливо заговорила, что пора идти и столько дел на кухне и в саду, но она придет, как только в ней будет нужда, по первому зову или просто так, если ей будет позволено, и робко пробовала найти одобрение и согласие на дорогом ей лице. В ответ ей только опустились тяжелые молочно-белые веки, и в тенях темных веероподобных густых ресниц она прочла «да!». Девушка вышла прочь, и вихрь ее сумбурных мыслей нес ее наверх на неведомых крыльях, в ее одинокую спаленку, куда она сейчас стремилась и летела, хотя на деле ее заплетающиеся ножки едва несли ее по пушистому ковру лестницы. В ослеплении любви и первой маленькой победы Рита даже не вспомнила, а может быть, и не заметила того обстоятельства, что за все время постельных схваток, пиршества соединившихся в страсти тел, от первого до последнего скрипа закрывающейся двери, Ян Владиславович не сказал ей ни единого слова.
Когда Рита, немного придя в себя, спустилась вниз, она вовсе не собиралась держать в тайне от других братьев, а в особенности сестер, перемену, произошедшую в ее отношениях с хозяином. Напротив, Рита была готова к самому резкому отпору в ответ на любое чужое злопыхательство, ждала косых взглядов, перешептываний, ехидных замечаний и завистливых недомолвок. Но, вопреки, ее ожиданиям ничто подобное не имело место. Хотя Рита была более чем уверена в том, что каждый член общины, сидящий за вечерним ужином на открытой веранде, наверняка в курсе последних, касающихся непосредственно ее персоны, событий. Даже обычно нелюбопытные и чаще всего занятые исключительно друг другом Сашка и Макс, а уж Миша, тот наверняка если не все знал, то обо всем догадывался.
Теплый, радостно сердечный прием изумил, и чего уж скрывать, привел Риту в недоумение. Мадам Ирена, к примеру, так заботливо и хлопотливо обхаживала Риту за столом, что вызвала у девушки чувство неловкости. И ведь мадам была вполне искренна в своих стараниях. Да что мадам, и Тата и Лера обращались с ней так, что не оставалось сомнений – они обе рады ее счастью и вовсе не собираются омрачать его. Мужская часть населения вела себя на удивление дружелюбно, Миша же был в превосходной степени галантен и уважительно тактичен, хоть и наложил на Риту некое табу, словно она была неприкосновенной в святости чужой женой. Но ни в чем ином отношение к ней как к вампу в общине не претерпело изменений. Никто к Рите не подлизывался, не делал ни малейшей заискивающей или просительной попытки. Любовь делает всех живущих не только богаче, но и в чем-то прозорливее. И к Рите пришло не сразу, но постепенно осознание того, что личностные, интимные отношения ее с кем бы то ни было, пусть и с самим хозяином, ни сколько не преувеличивают, но и ни сколько не умаляют ее собственных достоинств. И подлинные, пылкие чувства не встретят здесь насмешки, но найдут понимание. Что община их слишком мала и секретна, слишком отгорожена и ополчена на внешний, угрожающий ей мир, чтобы допустить внутри себя процветание злобы и открытой зависти, малейшей ненависти и грубой нетерпимости. Граждане ее маленькой страны должны были любой ценой хранить мир и согласие внутри своих стен, если просто хотели выжить. Это понимание успокоило, уравновесило девушку, и одновременно сделало ее частью чего-то большего, чем она сама.
В этот вечер голодные сородичи устраивали очередное жертвоприношение, в котором, после изнурительных часов любви ощущала нужду и Рита. И потому она также намеревалась присоединиться к жаждущим свежего «сока» братьям. Вскоре после ужина мадам Ирена и Стас, как главный охотник за головами, спустились в подвал, где уже связанная и готовая к употреблению, трепыхалась сегодняшняя добыча. Жертву требовалось в целости и сохранности поднять наверх, а за разговором любое дело, как известно, и делается веселей.
– Правду наши болтают, что маленькая Ритка попалась на зуб хозяину? Мне, собственно, наплевать, – Стас и в самом деле сплюнул на цементный пол коридорчика, ведущего в глухой подвал, – я просто из праздного любопытства интересуюсь.
– Чем же это Ритка хуже других? Как все, так и она – той же ногой, на те же грабли, – Ирена невесело хохотнула, жутковато в тесном, трубообразном пространстве.
– Да, не говори, что в лоб, что по лбу, один хрен, – будто даже с сочувствием поддакнул бравый охотник Стасик, – только я одного не пойму: чем хозяину такие-то святые мощи приглянулись, а? Это ж не Лерка, ни рожи тебе, ни фигуры на теле?
– Ха, и не ему одному, что примечательно!
– Ну да, кому ж еще? Разве, что нашему Максу? Глядишь, в темноте ее и от Сашка не отличишь. Чистый пацан – в штанах и стриженный, – развеселился своей догадке Стас.
Мадам тем временем уже открывала толстенную, обитую стальной обшивкой дверцу в забетонированную каморку.
– Причем здесь Макс? Глупости какие. Конечно, я не его имела в виду, – Ирена подошла к лежащей на холодном шершавом полу девушке, накрепко обвязанной капроновыми веревками, и легонько пошевелила ее кончиком теннисной туфли, – я говорила о Мишке. О доблестном и многомудром Мишеньке, который гребет под себя, все, что плохо лежит.
– Вечно вы с ним как кошка с собакой. Все ужиться не можете, – развязано и с ленцой ответил Стас. Потом склонился над лежащим телом, – помоги-ка… Вот так.
Вдвоем с мадам они поставили живое угощение на ноги и, крепко подхватив с боков, понесли стоймя между собой, не прекращая, однако, приватной беседы.
– Надеюсь все же в любом случае на твою поддержку. Мы же не чужие друг другу?– проворковала мадам и многозначительно посмотрела на главного охотника.
– О чем речь! Хотя я лично к Мишке претензий не имею. Но и толку мне от него чуть – Мишка мне кровать не греет, – Стас криво усмехнулся своей собственной шутке, – только ты и меня пойми: разборки нам в общине ни к чему. Да и хозяин за такие дела по конфетке не раздаст. И, между прочим, будет прав.
– Я ведь, Стасик, о другом. Если кто из поганых людишек на того же Мишку полезет, я первая за него горло перегрызу, потому что Мишка – свой. На том и стоим, – ответила мадам, твердо и непреклонно, – но нигде не сказано, что каждому из нас запрещено хотеть кусок получше, конечно, без ущерба для дела. Но в том то и суть, что чем больше у тебя дел, тем жирнее кусок.
– Так хозяин и дает всем по справедливости, и даже больше… Осторожней неси, сейчас начнутся ступеньки, – предупредил Стас.
– Хозяин высоко, и значит, о многом судит по тому, кто и о чем ему докладывает, сечешь? – мадам разволновалась так, что даже внезапно встала на месте, от чего их ноша чуть не сверзилась на пол, – А докладывает в основном кто? Мишка, змееныш.
– Ну, не знаю, может ты и права. Отпусти ты эту тушку, дальше сам понесу, – Стас взвалил обмякшее тело на плечо, и зашагал впереди Ирены, – да ты не беспокойся, раз я сказал, что я с тобой, значит и кончено дело. Я к ночи загляну, а?
– Вообще-то я сегодня имела мысль покуролесить в городе. Но ради тебя отменяю.
– И не жалей. Я ведь тебе нужен, кисонька!
На следующее утро полная свежих игристых, как молодое вино, сил, Ритка бесцельно слонялась по дворику, не зная, чем себя занять, и томясь ожиданием и скукой. На кухню идти не хотелось, помогать Тате с уборкой – тем более. Оттого соблазнилась на предложение мадам ехать вместе в город и заняться покупками, под коими мадам Ирена подразумевала захватывающий обряд длительной примерки и необузданного приобретения новых девичьих нарядов. Сочи хоть и не столица, но кое-какой выбор магазинов и, главное, товаров в них имелся, в надежде на богатых кошельками туристов и подруг местных распорядителей.
Расположившись в соседних кабинках, отделенные легкими занавесочками, но все же невидимые друг для друга, товарки прикидывали на себя произведения, пусть не лучшие, парижских и миланских портных и негромко переговаривались.
– Не хотелось бы лезть не в свое дело, но ты уж прости, я скажу, – донесся до Ритки перешедший в доверительный регистр напевный голосок мадам, – конечно, ты и Ян, чувство и все такое прочее… Но, милая моя, нельзя же в угоду личному счастью превращаться в бессердечную эгоистку?
– Мадам Ирена, о чем это вы? – растерялась, но и встревожилась вдруг Рита.
– О, можешь называть меня и просто Ирена, мадам не обязательно. Я считала, мы с тобой подруги, но видимо, ошиблась. Жаль, что ты, детка, мне не доверяешь!
– Не доверяю что? – отупев от неожиданной атаки, бездумно спросила Ритка.
– А ты штучка. Или дурочка, если и в самом деле меня не понимаешь, – личико мадам на миг высунулось из-за занавески и, удостоверившись в том, что и ожидалось и хотелось увидеть, шустро скрылось прочь.
– Ирена, я и взаправду не понимаю. Я хочу быть подруго-ой! – крикнула Рита вслед исчезнувшему личику.
Полураздетая мадам тут же и отдернула разделяющую их преграду и мило улыбнулась девушке:
– Не шуми, я тебе верю, – мадам протянула к Рите руку и поправила шелковую морщинку на ее плече, – чудная кофточка и ладно сидит. Ты в ней просто куколка. И мне жаль Мишку.
– Мишу? Почему? – Ритка неподдельно заинтересовалась и сама, – И причем тут кофточка?
– Кофточка как раз ни при чем. А вот Миша, он переживает по поводу твоего выбора, хоть и ни словом никому не обмолвился. Но мы, близкие ему люди, мы видим и сочувствуем.
– Ох, ну я действительно дура! – Ритка сразу повеселела. Стало приятно и легко, и настороженное напряжение кануло в легкомысленные волны чисто женского тщеславия, – Представь, мне и в голову не приходило, что Миша мог положить на меня глаз! Ну, ничего не замечала, мы ж были с ним как родные, пока он меня учил.
– Вот именно: Мишка тебя учил, учил, а ты от него теперь нос воротишь, – сказала Ирена горько, но не зло, с оттенком легчайшей вселенской скорби.
– Но что же делать? – к Ритке опять вернулся тревожный холодок. Ей, новенькой в общине, совсем не улыбалось навлечь на свою голову осуждение собратьев, и отчаяние самозащиты зазвучало в ее словах, – Миша очень хороший и славный, но ни зачем мне не нужен. Я другого люблю!
– Ну и люби на здоровье! Только хозяин, он и есть хозяин, а Миша – это серьезно. Я бы на твоем месте не бросалась, – предостерегла мадам, – Не остаться бы тебе у разбитого корыта.
– Почему ты думаешь, что у меня с Яном ничего не выйдет? – Ритке стало совсем плохо, внутри обозначился и поднялся к горлу пульсирующий комочек неожиданной боли.
– Я ничего не думаю, я только советую. Тем более что и мое положение из-за тебя, девочка, не ахти какое завидное.
– Но Вам же я ничего плохого не сделала? – прошептала Ритка, уже и пришибленно.
– Нет. Конечно, нет. Но Миша уверен, что именно я приложила руку к твоему успеху в известном тебе кабинете. Что само собой неправда, тебе ли не знать! – мадам имела или изображала, не без дарований, весьма несчастный вид, – Мишка и раньше меня недолюбливал. Из-за моего легкомыслия, наверное. Он такой правильный и серьезный. А теперь, после случившегося, наверняка возненавидит.
Тут мадам замолчала, скорбно стиснув пальцы, прислушалась к себе: не переиграла ли, не выдала ли лишнего. Не хватало еще, чтобы девчонка побежала объясняться с этим скорпионом, подлизой и узурпатором ее законного места подле хозяина.
– Но что же Вы от меня хотите? – направила переменчивый ручеек откровений Рита, догадываясь, что вот теперь и будет сказано нечто.
– А хочу я от тебя, девонька, светлой и нежной взаимности, в смысле дружбы, – зазвучала сладко и нежно мадам, – нравишься ты мне. Верно, что от меня ты зла не видела, одно хорошее. А что в общину, заманила, так то случай, нежданный друг. С каждым могло приключиться. Да ведь ты и не жалеешь! Вот и помоги мне.
– Я с радостью. Только в чем? – спросила Ритка. А готова была сделать для Ирены, многое, так поманило ее многообещающее сердечное тепло, исходившее в эти минуты от мадам, – И что я могу, по сравнению-то с вами?
– Кое-что, можешь, хоть и, понятно, немногое, – ответствовала мадам. И взяла паузу, и держала ее старательно, пока не добилась от своей визави нешуточного внимания, – ты бы при случае поговорила с Мишенькой? О жизни и обо мне.
– Если нужно, я сегодня же пойду к Мише и объяснюсь. Скажу, что Вы ни в чем не виноваты, что даже понятия не имели про меня и хозяина, – заторопилась с ответом Рита, уверенная, что сумела упредить просьбу мадам, и довольная тем, что может оказать ей эту пустяковую услугу.
– Нет, нет, этого как раз делать не надо, – испугалась мадам и дала крутой, захвативший дух, обратный ход, – глупенькая, ты не знаешь, какие бывают мужчины, особенно ревнивые. Начнешь разубеждать такого, как наш Миша, только сделаешь хуже. Он еще больше укрепиться в подозрении и устроит мне ужасно развеселую жизнь!
– А как же я ему объясню…, – начала было Ритка, но мадам прервала ее:
– Господи, ничего и не объясняй. Просто не игнорируй Мишку так откровенно, не избегай его общества и иногда перекидывайся с ним хоть словечком, – просительно загорячилась мадам Ирена, – а если вдруг, между делом ты, зайка, заведешь речь и обо мне, в удобный момент и невзначай, ты сможешь, ты же не дурочка, и если Мишка отзовется, то тогда…
– Я скажу ему, какая Вы славная и как Вы огорчены его м-м… недоверием, так? – закончила мысль Ритка.
– Почти. Только, умоляю, без резких и лишних движений. Потихоньку, полегоньку, и ты сможешь достучаться до Мишенькиного сердца и приоткрыть в нем щелочку и для меня. Хотя бы потому, что в семье, такой как наша, должен, ради нас самих, царить мир.
– Как здорово Вы сказали! Я очень-очень постараюсь, – Ритка порывисто шагнула к мадам, и Ирена притянула девушку к себе, расцеловала с жаром в обе щеки, как бы скрепив тем самым заключенный меж ними двойственный союз.
В это день Рите так и не случилось дождаться от хозяина ни призывного знака, ни намека, ни малейшего нетерпения ее увидеть. Не получив приглашения в заветный кабинет, девушка все же рассчитывала хотя бы на вечерний визит в хозяйскую спальню, но и он не состоялся и даже не обозначился возможностью. Чем быстрее бежали стрелки часов, отсчитывая послезакатное время, тем ниже и ниже падал тоненький столбик термометра ее души, пока, к полуночи не опустился до абсолютного нуля. Рита не помнила, как поднялась наверх, как разделась и упала на мягкую, пахнущую свежестью белья кровать. Лежала без сна, все больше впадая в прострацию убийственной безнадежности. И только окончательно распавшись на крохотные частички горького горя, поняла с облегчающей ясностью, как недалека она и глупа. Что было бы ей сообразить ранее и так миновать страшный риф, чуть было не разбивший вдребезги хрупкую лодку ее любви, и принять вопиюще простую истину: не ожидать, терзаясь, то, чего дождаться было нельзя, а идти вперед самой. Невозможно, да и смешно было бы вообразить Яна Владиславовича, бегающего по дому в поисках Риты или пытающегося передать ей послание с приглашением через третье лицо.
Страшной нелепицей казалась теперь прозревшей Рите вероятность юношеских ухаживаний и книжных обольщений, несовместимых с величественным и высоким образом ее хозяина. Между ними не было равенства и никогда не могло быть, как нет ни одного клочка скалы на горной вершине, где можно было бы поселиться ничтожной долинной пичужке рядом с гнездовьем короля-орла. Хозяин и без того оказал скромной девушке великую честь, приняв ее безоглядную любовь, и был в своем праве и далее всего лишь брать то, что она смиренно положит к его ногам. И поняла еще, что пусть берет, что хочет и как захочет, лишь бы только брал, и более ей, Рите, ничего и не нужно. И честолюбие, и претензии, и самомнение, вздохнув, отлетели от нее, не без сожаления, и осталась только голая, ничем более не защищенная любовь.
К Рите, уже успокоившейся и умиротворенной, все не шел сон, и она лежала, раскинув руки, на спине, глядела в непримечательный потолок и думала о том, как завтра она постучится в заветную дверь и станет дожидаться ответа. И будет счастлива и благодарна без меры, коли услышит заветное «да!», а коли нет, что же, она придет еще раз. И еще раз, до тех пор, пока в ней не придет нужда. Урок, бездейственный, безмолвный и жестокий пошел ей впрок. И Рита находила детскую радость школяра в том, что правильно поняла и запомнила его. Она слегка позавидовала своей новоявленной подруге, мадам Ирене, которая, конечно, давно спит сладким сном, и ей не приходится разгадывать и решать головоломные ребусы чувств и отношений. С завтрашнего дня, решила Рита, она, как обещала, возьмет на себя деликатную миссию и отправиться искать подвигов Дон Кихота, помогая мадам в нелегком деле примирения. Потом, ощутив, наконец, долгожданное дуновение Морфея на веках Рита мысленно пожелала себе удачи, а мадам Ирене приятных сновидений этой ночью.
Рита ошибалась: мадам Ирена в своей спальне все еще лежала без сна, перебирая в уме тонкие нити опасной интриги, завязанной ее руками. Лишь в одном Ирена могла быть уверенна и спокойна: девочка поможет ей, по крайней мере, напустить проклятущему «архангелу», как про себя тайком называла она Мишу, густого туману перед глазами. Но использовать малышку без риска можно только в слепую, и некому доверять, даже и Стасу, хоть и любовник, но далекий от ее надежд, и не на кого положиться, кроме как на некую мадам Ирену Синицыну, то бишь, на саму себя. На какой-то короткий миг жало щемящей тоски по близкому, теплому плечу впилось в Ирену и почти успело выпустить внутрь нее яд слабости и смирения, но тут же было вырвано с корнем и торжествующе осмеяно. Сознание вновь потекло ровным потоком, выискивая омуты и гибельные водовороты на нелегком пути осуществления ее планов, и строило козни и ковы возможным обидчикам мадам. Так она бодрствовала до утра, леденяще холодная, одинокая, запертая душа, безмерно жаждущая власти, разучившаяся лить даже слезы облегчения.
ГЛАВА 6. КРОВЬ
Кто может предсказать неразумные, капризно причудливые зигзаги памяти! Шла и не помнила пути, просьбу и ответ, объятия и рвущуюся из пределов сердца безнадежную свою страсть, сластолюбивого кота на мягких лапках, знала и не помнила, не могла и не хотела, не доверяла себе и радости, но очнулась. Кончилось наваждение и пришло время говорить. И бог сказал слово.
Другая постель и комната, вместилище ее оправданий, тоже другая. И напротив Он, единственно неповторимый, Хозяин. Полуодет и прекрасен. Как Сияющий Аполлон, слышала, много, была тогда маленькая, рисованный бог мультипликации, но представляла только так, только такого, она уверенна, пусть и не помнит. Давно это было. И обращается к ней. Теперь слышит и слушает. Нет, Аполлону внимают, преклоняясь перед ним, но стыдно встать, голой и распустехой. Но ша!
– … мотылек в коконе. Но ты вылупилась и ты нужна мне. Всем нам, но мне особенно. Протяни руку! – ладонь хозяина, плавная, как хореографическое ню, обнаженно зовущее. Он ждал, Маргарита потянулась навстречу, повзрослевшая и достойная, – Хорошо…, хорошо!
Погладил запястье, наполнил теплом и негой. Тянет жилы, но, о, боже, как естественно и прекрасно. Но еще и еще льются слова, она должна услышать, да, да! Что Он хочет от нее? Это надо сделать? Какие пустяки! Жаль, он не просит, не требует саму ее жизнь. Вот что трудно и славно, и без усилий неосуществимо. Ведь девушка Маргарита почти что бессмертна! Ха-ха-ха!
Рита не заметила, как рассмеялась вслух, немного непристойно, но Он понял. Не замолчал, доверил и оценил:
– Потихоньку все же постарайся вникнуть. И Михаил поможет. Он друг, на него можно положиться, – хозяин сжал ее костистые пальчики. Ей не было больно, – Завтра и начинайте. Если захочешь, будь здесь в ночь субботы.
Значит, через два дня. Как долго, но и скоро – она займет это время, как хочет Он и ради Него. Но разве уже и конец? Нет, нет, он маг, волшебник и чудотворец, и из бездны возрождает новое для нее блаженство:
– Мы породнимся, ты и я. Не только телом, но и нашей сущностью, нашей особенной кровью, которая и есть жизнь. Тогда ты станешь частью меня, – и был не торжественен, но проникновенен, и Рита склонила голову. – Каждый из нас изопьет силы из жил другого, и да будет служить ему вовеки!
Как в замедленной киносъемке, поднес запястье к губам, поцеловал – горячо, приятно, – и впился, ненадолго и сладко. Потом отпрянул. Рана затянулась в мгновение. Вот и очередь Риты, неужто она осмелиться? Почти святотатство, бьет дрожь, оттого и «комарики» криво и вкось, только рваные края. Но Он не рассердился, подтвердил взглядом: «смелее!», и второй укус получился. И в нее влилось и рассеялось, и осталось неугасимо.
Хозяин, приняв ее в спальне, заветной и непроникновенной, допустил и одобрил, словно поставил на Риту печать. Но кроме поцелуев и странного, прекрасного ритуала обнаженная девушка не получила от любимого ничего. Наверно, было бы грехом опошлить плотским актом совершенное их единение, и Рита не протестовала, напротив, приняла как должное, ушла без ропота и сожаления. Из всей окружавшей ее великолепной, сработанной под старину, обстановки Рите запомнилась лишь огромная, пухово мягкая, с тяжелым балдахином на четырех резных столбах, кровать, и мрачный, давящий сверху бархат ткани. Была ли это ностальгия хозяина по древним временам или только выработавшаяся за столетия привычка почивать именно на таком ложе, Рита не знала. Да и все равно ей было
Тревожила лишь одна мысль, посетившая Риту внезапно и до сего дня не занимавшая ее беспокойную головку. Разузнать о щекотливой и деликатной проблеме Рита надеялась у кого-нибудь из домашних, имея в виду только женскую половину, и надо было еще решить, на ком остановить свой выбор. Опасаясь резкостей со стороны Таты и двусмысленностей мадам, разъяснила для себя Леру. На ее поиски Рита и отправилась.
Лера обнаружилась на площадке позади дома, возле щедрых россыпей золотистых крупных орехов тут и там на плотном отрезе промышленного полиэтилена. Никуда не торопясь, Лера перебирала эти гладкие, щелкающие целлулоидом шарики, откладывая порченные, и допускала в плетеные корзинки звонкие и достойные. При этом она напевала «На Муромской дороге» в ускоренной эстрадной обработке и, кажется, отнюдь не нуждалась в слушателях. Рита все же осмелилась нарушить полное и самодостаточное уединение хозяйственной сестры и подошла. Оторвавшись от своих орехов, Лера приветливо тряхнула волосами, мол, садись-ка рядом, и оборвала неоконченную руладу. Петь ей, видимо, уже поднадоело, и Лера не прочь была теперь и поболтать. Устроившись на перевернутом вверх дном жестяном ведерке, Рита зачерпнула горстью с подстилки:
– Давай, помогу.
– Помоги, если делать нечего. Только возьми другую корзинку, чтоб нам в одну не тянуться, – Лера перекинула ее глубокую плетенку, – Ты что, у Яна сейчас была?
– Ага. А ты откуда знаешь? – спросила Рита, без вызова и досады, довольная, что их словесная телега сразу заскрипела в нужную сторону, – Видели меня, что ли?
– Не знаю, может, кто и видел. А я так сразу догадалась, – похвасталась, не без гордой радости, Лера, – Вон как у тебя глаза-то светятся, с чего бы это среди бела дня? Я и поняла.
– Мы с Яном только что кровью братались, – неожиданно для себя вдруг без околичностей и предисловий выпалила Рита, и словно свалила с плеч драгоценную ношу, которую еле-еле, горя нетерпением, донесла до нужного места.
– Ну, дай бог, – Лера отчего-то вовсе не удивилась, только вроде бы с сожалением подвела итог, – значит, не довелось тебе на этот раз потрахаться.
У Ритки от этих последних слов глазные яблоки дружно рванули на лоб, и язык на некоторое время позабыл, что ему от природы был вменен бесценный дар речи.
– Нечего на меня таращиться! – смешливо воскликнула Лера, довольная Риткиным изумлением, – это для твоей же пользы, глупенькая, ты пока не можешь понять… И со мной так было.
– С тобой? Все-все? – не поверила сразу Рита.
– Конечно. Иначе, какие же мы друг другу братья и сестры? – удивилась Лера, – А ты думала, что особенная и исключительная, и с тобой одной может происходить возвышенное и неповторимое?
– А ты и рада мне нос утереть? – от неожиданно пришедшей обиды Рита готова была разреветься.
– Нужен мне носишко твой сопливый! Вроде, Ритка, ты и не глухая, а слышишь все шиворот-навыворот, – Лера в сердцах стряхнула так и не разобранные орехи в отборную корзинку, – нельзя же так, в самом-то деле! Нельзя ставить себя отдельно и выше всех, нельзя считать себя достойней и лучше остальных в общине! Сколько ты уже с хозяином любишься, и ни фига не понимаешь, хоть и побраталась. Даже Тата наша недалекая и та в пять минут все правильно поняла: хозяин нас всех создал, сделал такими, какие мы есть, и мы для него все одинаковые без исключений. Не может он кого-то любить больше, а кого-то меньше!
– Значит, хозяин никогда не сможет меня по-настоящему любить? – безнадежно упрямо спросила Ритка.
– Опять двадцать пять, за рыбу деньги! Он тебя любит, по-настоящему, только не тебя одну. Ты разницу, наконец, понимаешь? Как же можно быть такой эгоисткой?
– А мадам Ирена? Она разве не выставляется? С какой стати тогда она «мадам»? – возразила, но не слишком решительно Ритка.
– У мадам было очень тяжелое и неприятное прошлое. Почему бы и не сделать что-то милое, хорошее для нашей сестры и не обращаться к ней так, как она этого хочет? – Лера успокоилась немного и вновь принялась за окаянные орехи, – Тем более что Ирена первая из нас появилась возле хозяина.
– А что с ней было раньше? Мне никто же ничего не рассказывал, – полюбопытствовала осторожно Рита.
– И не расскажет. Разве что сама Ирена, если захочет. Это справедливо, согласись?
– Вообще-то, да. Мне бы тоже, наверное, не захотелось, чтобы трепали языком про мои дела, – девушка призадумалась, и тут же встрепенулась, словно вспомнила что-то, очень важное, – Лера, а трахаться сегодня нельзя было по обычаю, чтобы важность момента не растерять?
– Нет, малышка, не поэтому. Хотя обряд братания среди вампов, насколько я слышала, известен давно. Он очень древний. Но я как-то не чересчур интересовалась. Если тебе будет любопытно, спроси лучше у Фомы, он знает. Даже будто записывает за хозяином, вроде хочет создать собственную историю нашего племени. Но, по-моему, все это просто блажь. А что до остального, то лучше будет, если я тебе расскажу.
И Лера рассказала. Правду, от первого до последнего произнесенного слова. Рита поняла это сразу и сразу же поверила, как будто знала раньше и сама, да на беду забыла. В общинах вампов во все времена существования сложно и ответственно было иметь детей. Сам непростой этот процесс исключал всякую случайность и непредусмотренную внезапность. Так уж утроены были часы их почти бесконечной жизни, что одной любовной связи новоявленных и отважных родителей для появления на свет божий дитя-вампа было, к сожалению, не достаточно. Щедрый и сильный организм матери, как это ни ужасно, принимал крошечный и беззащитный зародыш за злейшего и несущего угрозу врага, потому отторгал его безжалостно и бесповоротно. Единственное, что могло остановить страшный механизм уничтожения, была кровь отца, взятая женщиной прямо из его вен. Если же потенциальная мать младенца оказывалась всего лишь обычным человеческим существом, что тоже случалось, ребенок ее мог родиться только абсолютным человеком и никем другим. А подобное чудо имело место лишь в одном удачном случае из ста.
Рита, конечно, не имела и не могла иметь никакого понятия о непростых вопросах своей новой биологии. Раздумья о продолжении рода и о последствиях ее любовных забав не ложились и слабой тенью на ее беспечную голову. И оттого было спокойно и хорошо, что кто-то мудрый и важный позаботился и решил за нее. Быть может Лера и права: не стоит искать зависть и злобу там, где есть только забота и всеобщая любовь. Эта нехитрая мысль на время уравновесила и примирила Риту с самой собой. Уходя, она произнесла слова благодарности, и хлопотунья Лера их оценила.
Но пора была подумать и об обещаниях, данных хозяину. Озаботиться, наконец, каким-нибудь полезным делом, а не быть лишь нахлебником в родной общине. И Рита устремилась, «озаботившись», на поиски Миши. Постучавшись в дверь его квартирки над гаражом и, не дождавшись никакого ответа, Рита решила подождать на веранде, авось пройдет мимо. Не бегать же ей, в самом деле, за ним по всему огромному дому. Обе машины, которые обычно брал для себя Миша, были на месте, значит и сам он пребывает где-то в доме, и рано или поздно обозначит свое нахождение. Денек выдался не из легких, и очень уж Рите захотелось посидеть на солнышке, которое в преддверии наступающей осени, становилось все нежней и ласковей.
В это же время в холостяцки безалаберной комнате Стаса-охотника имел место военный совет, и не кто иной, как Миша собственной персоной председательствовал на нем. Кроме Миши и владельца апартамента заседала в полном составе и семейная гей-ячейка общины, в лицах, на этот раз суровых, Максима и Сашка. Вопрос на повестке стоял непростой и касался он очередного деликатных свойств заказа. Загвоздка, скорее похожая на сей раз на шило в известном месте, состояла в том, что заказанное на десерт блюдо служило в настоящей жизни в полноправном штате некоего госучреждения, в просторечии именуемом ментовкой, да не простой к тому же, а районного масштаба. И предназначенный к разделке ананас, столичная штучка, незнамо кем и для чего присланная на укрепление, как ехидно поговаривали: за иконоборческие провинности, был далеко не пешкой, а первым заместителем сами знаете кого. И, опять же по слухам, так допек уважаемое лицо, кое должен был холить, лелеять и замещать, что вышеозначенный сами знаете кто тонким намеком возопил о помощи к многочисленным друзьям в самых трудновообразимых сферах местного авторитаризма и попросил о защите чести и достоинств своих выстраданных седин, что не осталось без отклика. Одни из сострадательных друзей, с гордым пролетарским прозвищем Шахтер, которое, однако, имело в основе совсем не славную горняцкую рудную биографию, и вышел с челобитной на хозяина. В другой же руке новоявленный Стаханов держал по обычаю и барашка в бумажке. Челобитная была хозяином рассмотрена и принята, барашек, на этот раз больше стандартно положенных размеров, разумеется, тоже.
И настал Мишин черед отработать щедрое приношение, а значит, предстояло озаботиться делами и дополнительной головной болью виртуозного и тонкого исполнения. План кампании уже и обозначился, осталась лишь самая муторная часть работы – хлопоты над отдельно взятыми ответственными высотками. В целом же двухзвездного начальничка решено было призвать к божьему ответу по вечернему его возвращению с боевого поста домой, но и тут не обошлось без заноз. Подполковник милицейской службы Гладких машины личной не имел, на служебную персоналку не претендовал, а брал какую завгар пошлет. А коли не обнаруживалось никакой, пользовался любезностью доброхотов из управления. Находились и такие дураки, сочувствовали и брали в попутчики. Лишнего шума или, не приведи господь, стрельбы хозяин не терпел, и Мише с командой пришлось ой как шевелить извилинами. Но было им не впервой и не привыкать.
– Если б и второго выманить из машины? А то, как не выйдет на шум, да начнет палить из кабины? Опять же рация, – Макс перебирал варианты обстоятельно, не спеша, – хорошо бы с ним непременно в этот день простой водила был, а не чин в погонах, а?
– Что же, можно и кого следует об услуге попросить. В их интересах! – отозвался Миша, – Пусть для клиента непременно сыщется, когда надо, свободное авто. И шофер из молодых, потрусливей, да поглупей.
– Вот это дело. Было бы славно, конечно, если бы в нужный нам вечер стряслось долгое, производственно-оперативное совещание, – с намеком помечтал Сашок, и зевнул, машинально, по-деревенски, перекрестив рот, – позднее и нудное. А тут, глядишь, машинка у ворот, в знак признания и уважения. Расслабуха полная – бери его тепленьким.
– Совещания не надо. Ни к чему пустяками обременять людей, – Миша, видимо, схватил за хвост некую удачную идею и, молниеносно оценив и осмотрев со всех сторон, выдал готовое блюдо, – На следующей неделе второй заместитель отмечает день рождения. Не юбилей, но посидеть – посидят. И выпьют изрядно, что неплохо. Вот к празднику и приурочим… Вместо подарка.
– А подполковник наш, конечно, не откажется. В виду налаживания контактов с вышестоящими и подчиненными. И выпить этот Гладких, как я слышал, не дурак, хоть и стукнутый народоволец, – подвел как бы итог Макс, и для порядка окликнул охотника, – а ты чего молчишь все время, будто тебя ничего не касается?
– Думки думать – не мое дело, – усмехнулся Стас, недобро прищурив глаза, – мое дело – исполнять, что приказано, и чтоб ни один долбанный листочек не шелохнулся, ни одна кровавая капелька мимо не капнула.
Распределение ролей много времени не заняло. Не так уж часто они менялись, и каждый на своем месте был в охотку. И только раз случилась заминочка. Хорошо бы, конечно, взять им кого-нибудь из сестер: девушка отвлекла бы внимание, и Стас сразу предложил опытную в деле мадам Ирену, тут же удивившись, почему мадам, собственно, вообще не присутствует. Уж кому-кому, а ей не новинку составлять головоломные задачки и вмиг раскладывать ответы на них по полочкам. Миша демонстративно при имени Ирены оглох, и потому ребята не стали заостряться, кто его знает, может так Сам велел. Однако женский пол на операции представлен будет, пообещал Миша, хоть и не уточнил, но ясно, знал, что говорит, никогда не сотрясал воздух попусту. С тем и разошлись.
Хотелось бы думать, что Миша долго-долго искал ее и вот, наконец, нашел, если б Ритка не сидела на самом проходном и видном месте в доме. Но и тщеславие не пострадало – Миша первый подошел, поздоровался, хоть она и не звала, и за завтраком уже виделись. Значит, не пустословила Ирена, не равнодушен к ней, что приятно, а мог быть в обиде на Риту и с полным правом. Решила, однако, на встречу не вставать, пусть садиться рядом с разрешения, но без снисходительности. Миша и сел, правда, позволения не спросил. И разговор завязался сам по себе.
– Знаешь, без наших занятий стало как-то скучно, – то ли призналась, то ли вздохнула Рита.
– Но мне нечему больше тебя учить, – просто сказал Миша, ничего более не добавляя и не комментируя.
– Тогда почему я бездельничаю? Жизнь вокруг кипит, все заняты, ты в разъездах и шепчешься по углам с другими братьями, а я? Мне не доверяют? – капризно пожаловалась Ритка, по-детски перекладывая свои мелкие беды с больной головы на здоровую, не замечая в упор несправедливости и смехотворности своей ревности.
– Мне лично казалось, что и твоя жизнь бьет ключом, особенно личная, – ответил Миша, и вежливость в его словах была неотличима от ехидства, – разве не так?
– Но мне бы хотелось быть полезной, – смутилась Ритка, уело метко брошенное, потому не в бровь, а в глаз, – могла бы и тебе помогать – все же ты меня учил.
– Насколько я понимаю, это значит что-то вроде "спасибо", – как тихое эхо прозвучал голос Миши, – Но разве ты знаешь, чем я занимаюсь? Прежде, чем помогать, надо для начала представлять себе, в чем именно!
– Так расскажи мне, и я представлю, – робко попросила Рита, – и вдруг, да пригожусь.
– Тебе может не понравиться род моих занятий, а назад уже не будет пути, – Миша вопросительно и чуть тревожно посмотрел на девушку, словно авансом искал ее одобрения, – так как, мне молчать или говорить?
– Звучит зловеще. Но я не испугалась, – ее легковесная сторона взяла вверх, и Рита не желала быть серьезной, как знать, вдруг Миша интригует и нагнетает только бы заинтересовать и привлечь внимание, набивает цену, недалекий и влюбленный, – выкладывай свои тайны, пока я не соскучилась и не ушла.
– Видишь ли, всем надо как-то зарабатывать на жизнь, но не у всех есть наши, к примеру, твои и мои возможности, но нет и наших ограничений, ты меня понимаешь? – превращать важность момента в балаган даже на потеху понравившейся девушке Миша никак не собирался и был сух и строг.
– Конечно, понимаю – я же не клиническая идиотка, – и Ритка тут же блеснула гениальной по банальности догадкой, – и уж деньги в общину идут точно не от продажи собачьих консервов. Дела-то у вас завариваются покруче?
– Можно и так сказать. Бизнес пусть и семейный, но высокодоходный, и по сегодняшним временам не вопиюще необычный. Так вот…
И Миша поведал, не слишком напирая на детали, основы прибыльного предприятия, особенно обозначая тот очевидный факт, что так, что эдак, убивая ради жизненно необходимого "сока" или просто на заказ, вамп одинаково добывает свои законные средства к существованию. Такова судьба обычного человека – быть источником их безбедного существования, и убийство есть убийство, разница не велика: умертвить корову ради мяса на обед или из-за шкуры на одежду. Но быть исполнителем и носителем воли общины, даже когда хозяин думает и решает за всех, тяжелая ответственность, и будет ли она по плечу?
Нет смысла отрицать пробежавшие внезапно, колющие мурашки морозного страха, была и легкая оторопь, но был и интерес, нездоровый и освобождавший внутри нечто томящееся и дикое, словно руки зачесались от зуда любопытства и нетерпения опробовать саму себя. Отчего-то на ум вспомнилась Никита и, совершенно не к месту, мускулистый Арнольд в роли злобного терминатора. Но Рита уже узнала про себя, что хотела, и нарушила затяжное молчание: да, интересно, да, она рискнет и попытает на новом горизонте удачи.
Так в боевом отряде, как Миша и обещал, появилась и девушка. Хозяин, словно одобряя незатейливый Ритин выбор, что ни вечер позволял ей появляться в своей спальне, дарил лаской и вниманием. Но не выспрашивал и не пытался влезть в душу, а только излучал уверенность и тепло, потоки нужные и освежающие, и на этот раз предназначавшиеся лишь для нее одной. Рита была на седьмом небе счастья.
Дело, как и положено в прилично поставленном заведении, шло своим чередом. Не имея возможности выхода на самый верх, Миша, представив готовый проект "Последней вечеринки заблудшего милиционера", запросил помощи у хозяина. Яну Владиславовичу пришлось явить себя на свет, то есть проехать на пассажирском сидении иностранного авто, указывая Мише лишь нужное направление. Оставив помощника сторожить у руля, хозяин посетил ресторацию известного форелевого царства, но вовсе не в качестве любителя рыбы. Миша мог только догадываться о возможных визави своего шефа, но выяснять подробности не считал нужным и на хозяина обиды за вторые роли не держал. Каждый должен заниматься своим делом, богу – богово, кесарю же – кесарево, было его жизненным девизом.
Результат вояжа сказался на следующий же день. Связной посыльный дал знать, что сами знаете кто, а в миру полковник Кривонос информацию принял к сведению и доставку груза на место по возможности обеспечит в нужной упаковке и в именинный замов вечер. Мише оставалось соответствующе организовать приемку и отправку по не имеющему земных координат адресу. Упорный и дотошный, он взялся за работу.
Настал и Ритин черед проявить и опробовать полезные свои возможности. Хотя задача ее на первый раз была мало ответственна и проста. О личном риске речь и не шла, слишком невероятным представлялся телесный ущерб. Но чистота и виртуозность исполнения не допускали темных, порочащих качество, пятен. Выкатив из гаража разъездную "Волгу" репетировали возможные варианты диалога и поведения, появления и привлечения и незаметного ухода. Рита была старательна и послушна, хлопоты с ней доставляли Мише удовольствие. Блеск милых глаз вне сомнений не предназначался ему, но Миша отгонял жужжавшую мухой ревность, верил хозяину и довольствовался наставнической дружеской близостью. Тем временем на часах их стараний шел обратный отсчет. Когда день Х, наконец, вступил в свои права.
В то утро никто в доме не суетился и не заражался нервозностью кроме самой Риты. Завтрак прошел своим чередом, мирно и традиционно вкусно, ничто даже намеком не предвещало беды. Откушав, Рита хвостиком потянулась вслед за Мишей из-за стола. Ни зачем, а только по привычке последних дней, и чтобы занять себя и унять дрожь ожидания. Чужая уравновешенность была для нее лучшим лекарством.
– Миш, слышишь, Ирена обещалась меня причесать и с одежкой помочь, перед тем, как нам ехать-то, хорошо, да? – Рита семенила по двору чуть сзади Миши, обращаясь будто вдогонку.
– Смотрите, не перестарайтесь, – мягко и со смешинкой ответствовал Миша, но не обернулся и на Риту не посмотрел.
– А почему ты не захотел в команду Ирену? Вы с ней, я слыхала, в ссоре? Я никому не скажу, честное слово! – обещание, данное мадам, Рита помнила, но не обладала ловкостью просительницы, оттого и начало вышло неуклюжим.
– Я никогда не ссорюсь, – Миша сказал спокойно, как говорят правду без сомнений, только с легким зловещим оттенком, предполагавшим иные решения возникающих неприятностей отношений, – Мадам же в ее теперешнем настроении не может быть полезной в деле, а только навредит.
– Ирена? Да что ты, Миш? Она же наша, своя? – Рита изумилась и задрала изо всех сил бровки на самый лоб, и очень натурально.
– Я не имел в виду умышленных действий, но невольно мадам вполне может осложнить нам работу, – и оглянулся, наконец, и пояснил, – если выставлять себя и свой успех, желание отличиться и стать выше других, то с таким багажом можно пустить ко дну любую лодку, тем более что мадам поплывет в ней не одна. Нам такая компания не нужна, особенно сегодня. Мы идем на тщательно спланированное задание, за что, между прочим, заплатят деньги, нужные для всех. Мы идем работать, понимаешь меня, р-а-б-о-т-а-т-ь, а не на Олимпийских играх соревноваться.
Дальше шли в молчании. Рита с вопросами больше не приставала, задумалась. Миссия примирения оказалась куда сложней, и ей самой требовалось время осмыслить, кто прав и кто плывет против течения. Выходило по всему, что Миша говорит дело, но и мадам было жаль. Проводив следом своего вновь обретенного наставника до гаража, Рита отстала. Покрутилась немного по безлюдному двору и, не найдя другой компании, отправилась к себе.
Тяжелые мысли не терзали Риту, хотя она не могла не отдавать отчета, в чем именно предстоит ей участвовать нынешним вечером. Колыхался лишь легким маревом страх, сродни тому, который испытывает всякий начинающий актер перед первым в своей жизни профессиональным выходом на сцену. Совесть не посещала ее и не туманила горизонт, новая роль диктовала свои условия и не терпела сентиментальности. Рита напросилась добровольцем, и путь свой представляла столбовой дорогой полезности и благодарности в отношении новой семьи.
Когда одиночество стало давить со стен, решила спуститься вниз, к хозяину, который в последние дни был очень нежен с ней и ни разу не хлопнул перед Ритой дверью. Ее ожидали и на сей раз. Обычный сценарий посещения тоже ничуть не изменился. Сначала была постель, позже хозяин задержал ее руку и усадил девушку рядом с собой для традиционной задушевной беседы.
– Сегодня, я знаю, твой дебют. Ты довольна выбором? – хозяин не любил длинных речей и предложений, но Рита, ей казалось, понимала его с полуслова. Все же, какие удивительные у него глаза, будто светящиеся темнотой, смотришь и не можешь увидеть дна, не в силах оторваться. И говорят с ней так, как невозможно выразить обычным земным языком, и словно читают все твои мысли, храня собственные в тайне за семью печатями.
– Я отчего-то боюсь, – призналась ему, не могла не доверить тревогу, – хотя не представляю даже, чего теперь могу испугаться.
– Не думаю, чтобы ты тряслась за свою жизнь – это было бы для вампа смешно, – опять он понимал и облекал в слова суть ее страхов, загадочное, сверхъестественное существо, – не бойся, ты храбрая и злая, когда в том есть нужда, ты не опозоришься. Тем более что будешь не одна. Всегда помни об этом!
– Хорошо, я буду помнить, – сказала и успокоила страхи, повторила снова, убаюканная звуком своего голоса, – я буду помнить.
Хозяин не пожелал ей удачи на прощание, но это и было бы лишним, неуместным. Подобным пожеланием напутствуют только слабых, а Рита отныне собиралась держать причитающуюся ей по праву удачу в собственных руках. И ее, Риту Астахову, слабой никто не назовет. Она уже видела не раз кровь и смерть и не спасовала. Устоит и сегодня. Просто ей предстоит иного сорта охота, и ничего необычного. Однако, мадам Ирены, на всякий случай, она до вечера старательно избегала.
Около шести часов вечера, плотно отужинав, команда собралась у стоящей перед домом машины. Брали на работу, как повелось, обычную отечественную "Волгу", но попробуй догони – движку несуразного шедевра русского автомобилестроения позавидовал бы и Шумахер. Не суетились: Стас с ленцой докуривал "сотку", Макс с Сашкой, неведомо зачем, проверяли миниатюрные и безукоризненно исправные передатчики. Миша велел взять технику скорее из перестраховки, потому как, по сути, настоящий вамп в ней не очень-то нуждался, любой из них, здесь присутствующий прекрасно слышал малейший шорох на многие десятки метров вокруг.
Сборы вышли недолгими. Оружия не брали никакого, да и зачем. По силе и скорости каждый был равен смертоносной торпеде, убивал голыми руками. Тем более стрелять было никак нельзя. Дескать, напали обкурившиеся из молодежной ватаги, пусть шпану и трясут, долго, пока не отпадет надобность, может, кого и упекут для понту. И ни малейшего намека на заказуху, проломили по пьяни череп и конец. Ищи – свищи ветра в поле. В семь часов и тронулись с божьей помощью. Ребята, все в защитного цвета свободных тонких куртках, Рита при параде, как и полагалось по сценарию. Накрасилась и оделась самостоятельно, без помощи мадам, и тем гордилась. Миша осмотрел придирчиво и остался доволен. Получилось очень мило – образ славной девчонки, приличной и хорошо одетой, чуть мальчишеский и задорный. Такую не отгонишь с пренебрежением, как обычную путану.
Машину бросили по приезду на проселке, в кустах. Далее на место шли пешком. По одному, в скрадывающих фигуры, предвечерних сумерках. Хорошо, дом, снятый незадачливым и семейным подполковником, находился с краю у дороги, последним в ряду частных садов и огородов. Тихо рассосались по близлежащим, еще шумным палисадникам и, никем не замечаемые, затаились. Рита на время ожидания притулилась подле Миши – ее выход приходился на момент приезда авто с клиентом. Но неудачи случились и спланировали себя еще до их прибытия в точку рандеву, непоправимо и нелепо в последние секунды офицерского разъезда.
Майор Гора Крапивин от природы не отличался особым умственным богатством, но с успехом заменял недостачу пройдошливой хитростью и благочинным лизанием седалищ вышестоящему начальству. Имея сомнительные достижения по роду своей основной службы, был непревзойден на поприще доносительства и умело замаскированного стукачества, навыка, освоенного еще со времен активной комсомольско-райкомовской юности. Важных и масштабных осведомительских интриг ему, само собой не доверяли, но и говнистость милицейского радетеля не находила желающих быть испытанной на себе. Оттого Гору обхаживали и даже, упаси бог, "за глаза" не трогали. Откликаясь на гордое и звучное имя, в бумагах майор имел совсем иное прозвище – Горсовет Иванович Крапивин. Столь срамным по нынешним временам обзывательством наградили Гору темные его родители-выдвиженцы, не погасившие своевременно в груди зарницы коммунистического завтра. Пресловутому же Сочинскому горсовету особенно был благодарен Крапивин-папаша, заимевший в нем, после тяжких добывательских трудов, пост заместителя его председателя. Пребывая на этой конечной вершине своей мученической карьеры, он и облагодетельствовал младшенького сыночка.
Гора за всю свою продолжительную трудовую жизнь не пропустил ни одной служебной неофициальной посиделки, куда был зван обычно с завидным для порядочных людей постоянством. Фуршет по случаю именин второго зама по ОБЭП Ложкина не явился исключением. Держа недремлющее око настежь, а чуткий нос по ветру, Гора улавливал и предвидел конъюнктурные климатические колебания еще до того, как им предстояло проявить себя публике. Нюхательный его аппарат именно в этот роковой вечер торжества принял необычный сигнал: в районе первого неугодного зама наблюдалось существенное потепление. Гладких и сажен был одесную от именинника, и сами знаете кто привечал и подливал, каялся в недоработках взаимопонимания и обещался исправиться, жить дружно и предлагал выпить на брудершафт. Майор Гора не стал избегать случая и рассыпался перед вошедшим в неожиданную милость Гладких мелким подхалимством, в уме уже привычно перебирая возможные выгоды и новые плацдармы для исправительных доносов. Был он, к несчастью, дурак настолько, насколько и подлец, и, что хуже всего, инициативный.
При заключительном, с объятиями, прощании на суровом цементном крыльце районного управления сами знаете кто сделал широкий начальственный жест в сторону выжидающей и готовой рвануть по первому зову милицейской с мигалкой "девятки": бери, подполковник Гладких, пользуйся. До дому домчит с ветерком, а кто старое помянет, тому и глаз вон. Сам же сами знаете кто барином сел в, недавно выбитый в фондах, новенький "БМВ" и, не дожидаясь общего разъезда, укатил первым. Если б он знал! Если бы мог предвидеть, что мудаковатый и пусто деятельный майор Крапивин решит пьяной своей головой ковать железо пока оно горячо! И, не больше, не меньше, а напросится в попутчики в благодарственную "девятку", подобострастно намереваясь проводить "успешного" Гладких до самого его родного двора, и, конечно, не закрывая словоразборный кран ни на минуту. Жалобно сетовавший на очевидную нетрезвость и последующую невозможность нахождения за рулем собственного передвижного средства "ВАЗ-2110", майор Гора был сочувственно усажен подобревшим Гладких рядом на заднее сидение, и машина тронулась, ведомая молоденьким, только что из рядов вооруженных сил, младшим и зеленым сержантом Маминым Петрушей. Пьяный или трезвый, Гора, находясь на службе и при форме, никогда и ни за что не расставался с табельным своим другом "тульским токарем", не клал его в сейф и не бесчестил изъятием обоймы. Ни разу так и не употребленный в дело вороной его спутник придавал Горе значимости в собственных глазах, вызывая из подворотен сознания малолетнего пацана, горделиво хвастающего уличным приятелям отцовским трофейным "вальтером". "ТТ" и нынешним, праздничным вечером спокойненько дремал в майорской кобуре.
Около десяти часов наблюдающий Макс подал условный радиознак, означавший появление на дороге, ведущей в Короткий переулок, транспорта с клиентом. Сидящие в засаде подобрались – три часа, проведенные в полной неподвижности и молчании, расслабили и убаюкали. Заняли по расписанию свои позиции. Миша коротко сжал Ритину руку у запястья: пора на выход. В переулке было относительно тихо и абсолютно темно. Мертвецкий свет, пробивающийся от домашних, голубых экранов сквозь деревья и кусты не многим способствовал улучшению видимости, иного же освещения улочка, в целях всеобщей экономии электричества, попросту не имела. Южная, теплая чернота прерывалась местами одними лишь яркими блестками звезд. Рита выбралась на дорогу несколько дальше подполковничьего дома, и, дождавшись появления двух осторожно ползущих, ощупывающих фар, не торопясь, двинулась навстречу.
"Девятка", прошелестев гравием, остановилась. Гладких, усталый и умиротворенный, с трудом вытолкнул свое полное тело в предупредительно распахнутую выскочившим раньше водителем Петрушей дверь. Протянул деревяшкой ладонь на прощание, поблагодарив сержанта без слов одним кивком. Крапивин, разморившийся не столь от водки, сколько от собственного красноречия, мирно и безмятежно дремал на заднем сидении. Гладких и не собирался его будить. Петруша уже сделал первый шаг к возвращению за служебную баранку, а подполковник – к родимой калитке, как из-за разлапистого куста жасмина вышла молоденькая девушка.
– Мужчины, подождите! – окликнула взволнованно девчушка, тоненькая и приличная папина дочка, и, разглядев мигалку на крыше и надпись по сине-белому борту, обрадованная, заверещала, – Ой, милиция! Как хорошо, что я именно вас встретила. А то иду, иду, все улицы одинаковые, названий не видно, я совсем заблудилась. Меня тетя дома ждет, волнуется, наверное, я ж не местная – из Москвы. Вообще-то мне на Пионерскую надо.
Гладких, благодушный и от того готовый помочь безобидной и бойкой неместной особе, повернул назад. Молоденький сержант тоже подошел, куда резвее начальника и с корыстным юношеским энтузиазмом. Развернувшись спиной к забору, стали объяснять, как опознать и преодолеть нужные два поворота до искомого места. Петруша, присмотревшись, отважился намекнуть на позволение просто подвезти девушку домой. Но разрешающего ответа дождаться не успел. Порыв ветра, обрушившийся стремительно то ли с забора, то ли прямо с неба, принял осязаемую форму и с жуткой силой врезался в стриженный сержантский затылок. Петруша рухнул как подкошенный, не успев осознать, что именно с ним произошло. Такой же порыв, но с другой стороны, раскроил череп подполковника.
Рита попятилась назад, к стоящей с ближним светом "девятке", чтобы не мешать Мише и Сашку довершить должным образом начатое дело. Умирающего, хрипящего Гладких, стали планомерно и быстро добивать, пиная ногами, имитируя хулиганское и случайное нападение. Пару раз отвесили по ребрам и беспамятному Петруше – для достоверности. Убивать сержанта не было нужды. Операция проходила в почти полной тишине, не прерываемой уже и всхлипами. Убедившись в кончине подполковника, Сашок принялся обыскивать карманы новопреставленного на предмет обнаружения бумажника. Ксивы трогать не стал, не по сценарию. Но склонился над лежащим ничком телом, отстегнуть часы. Миша проделал то же с сержантом Петрушей. Как вдруг задняя дверь милицейского "зубила" медленно открылась и из железного чрева послышалась возня, перемежающаяся чертыханиями, после чего в проеме показались обутая в казенный ботинок нога, и рука, сжимающая, вне всяких сомнений, самый банальный пистолет. Свалившийся после остановки набок, и оттого невидимый снаружи, пьяный майор Гора, на всеобщую беду, очнулся. Но, хмельной, недооценил ситуацию, погнался за дешевой геройской славой, намереваясь разогнать борзую шпану одним видом сверкающей стали и для личного удовольствия выстрелить в воздух вслед улепетывающим без оглядки нарушителям. Арестовать сразу двоих хулиганов при одних наручниках бравый майор ни за что бы не рискнул.
Оказавшись ближе всех к нелепой фигуре Крапивина, орущего: "Вот я вас, бляди! Стой, стрелять буду!", Рита не растерялась. Вмиг поняла, что нужно как можно скорее заткнуть неизвестную и неожиданную милицейскую личность, обездвижить и после уже думать, что с незаявленным в программе клоуном делать дальше. Скользнув вбок, обтекая распахнутую дверцу машины, которой на всякий случай прикрывался осторожный Гора, Рита подхватила для верности с земли приличный осколок булыжника. Но могущественный инстинкт самосохранения добавил майору прозорливости и расторопности. Его откормленный, лелеемый организм явственно ощутил, что сейчас его заботливо питаемой сытости навсегда будет положен конец. И, возмутившись неизбежности, майор молниеносно направил дуло в голову стремительно приближающегося ангела смерти в девичьем облике и с непреклонным приговаривающим взглядом.
Рассеянный свет автомобильных фар придавал движущимся фигурам бестелесную расплывчатость теней, некую зловещую незаконченность и нереальность. И потому пистолет, уставившийся черной пустотой прямо в Ритин лоб, не испугал и не произвел должного впечатления. Девушка была абсолютно уверенна, что в роковой момент, конечно же, успеет уклониться от огненно-свинцового плевка, к тому же так ли велик будет урон, даже порази пуля цель? Но Миша, в мгновение ока оценивший ситуацию, посчитал иначе. Перелетев тигриным прыжком наискосок через крышу "девятки", сбил Риту с ног, но какой-то жалкой доли секунды, похищенной у Миши впавшей в панику майорской рукой, не хватило для расправы над не вовремя встрявшим Горой. Крапивин успел все же спустить курок. Удар в грудь был настолько силен, что Миша не смог устоять и, потеряв равновесие, рухнул на оглушенную внезапностью падения Риту. Майор же, не будь дурак, что есть мочи бросился бежать прочь, стреляя на ходу в воздух и вопя изо всех сил: "Помогите! Милиция!", чем перебудил и привел в недоумение всю округу. Стас, сидевший в засаде для подстраховки с дальней стороны дома, метнулся ему наперерез. Напав на майора сбоку, первым делом перехватил запястье и резко вывернул хрустнувшую кость. Гора взвыл от страшной боли и, конечно, выронил спасительное оружие. Следующий удар по основанию черепа прекратил его страдальческую руладу, и майор мешком стал оседать на пыльную дорогу. Из расколотой головы его вовсю безудержно струилась кровь. Стас намеревался бросить околевать ретивого мента и поспешить к своим, но инстинкт охотника, свалившего добычу, взял вверх. Поверженный милицейский майор явно уже отдавал концы, так что поступок Стаса не мог иметь последствий. В сладком припадке предстоящего утоления, скорый охотник припал губами к ране: вмиг нащупали живительную струю и впились в плоть его "комарики".
У машины Сашок и опомнившаяся, наконец, Рита хлопотали над лежавшим навзничь Мишей. Рана его была не опасна для вампа, но сильно кровоточила. Потому Сашок, во избежание лишних следов, прижимал как можно крепче к Мишиной груди снятую с себя куртку, все больше пропитывающуюся красным, Рита поддерживала пострадавшему голову. На не запланированный шум явился Макс, подбегал и насытившийся Стас-охотник. Следовало торопиться – из близлежащих палисадников доносились встревоженные голоса, из дома вот-вот могла появиться и обеспокоенная жена Гладких. Где-то рядом уже хлопнула и калитка. Братья, подхватив Мишу на руки, не стали задерживаться, и, перемахнув через забор, огородами поспешили к оставленной в зарослях "Волге". Дело было завершено, хоть и с помарками.
Когда подъехали к родным воротам, Миша мог уже выйти из автомобиля без посторонней помощи. Кровь больше не текла из пробитой груди, к утру должна была выйти и пуля. Но хозяин, словно учуявший неладное, и оттого встретивший их против обыкновения на веранде, велел проводить раненого наверх, куда и поднялся следом получить отчет об операции. Тата и мадам Ирена, в глубине души возрадовавшаяся неприятности, приключившейся с непобедимым "архангелом", бросились за мазями и бинтами. Другие обитатели дома тоже отправились по насущным делам. В холе остались только Рита и невозмутимо утонувший в диванных подушках флегматичный Фома. Рита, подумав и не придя ни к какому решению, села рядом с ним. С одной стороны ей следовало идти и, хотя бы приличия ради, помогать ухаживать за братом-вампом, схватившим пулю, предназначавшуюся отнюдь не ему. Но с другой стороны Мишина трогательная и не такая уж остро необходимая самоотверженность приводили девушку в некоторое смущение. Рита не осталась равнодушной, но и не определилась в своем отношении к происшедшему и, потому, пребывала пока в бездеятельном замешательстве.
– Макс сказал мне мимоходом, что Мишка напоролся на свинцовое удовольствие из-за тебя. Это правда? – донесся до Ритиного слуха приглушенный, ленивый голос, исходящий, словно из глубин дивана.
– Господи, Фома, ну и напугал же ты меня! Я и забыла, что ты тут сидишь, – отозвалась вырванная из раздумий Рита, – Один идиот целил мне в лоб из "ТТ"-ешника, так Мишка меня прикрыл. Спасибо, конечно, но я бы и сама справилась.
– Это ты зря. Пуля в голову – это серьезно, – строго заметил ей Фома.
– Отчего же? Или мозги не восстанавливаются? – беззлобно и устало усмехнулась Рита.
– Головной мозг очень даже успешно регенерирует, если ты это имела в виду. Но вот в каком виде он восстановиться, это большой вопрос! – Фома был серьезен и не думал шутить, – Может, ты будешь опять наша Ритка, а, может, новорожденный беспамятный младенец, ходящий под себя. Как, нравиться такая перспектива? И даже не вспомнишь, кто такой Миша. А, спрашивается, оно ему надо?
– Выходит, Мишка меня, все-таки, спас, пусть и не от смерти, – Ритка вдруг примолкла, ненадолго призадумавшись, – Тогда я тем более довольна.
– Интересно, чем, если не секрет, – полюбопытствовал у нее Фома.
– Какой там секрет, – Рита непроизвольно потянула Фому за рукав, словно боясь, что тот уйдет и не дослушает, – понимаешь, я ведь не знала, не была уверенна до конца, что мне нужно работать именно с Мишей, что я поступаю хорошо. Но, оказалось, что я сделала правильный выбор!
– Что, что ты сделала? – Фома мелко, визгливо засмеялся, – Она сделала выбор! Забудь это слово раз и навсегда, деточка! С тех пор, как ты переступила этот порог, ты утратила право что-либо выбирать. Ты не в силах теперь распоряжаться не только своей жизнью, но и собственной смертью. Да, да, ты даже умереть по своему желанию не сможешь, а говоришь о каком-то дурацком выборе! Хочешь ты или нет, но у тебя есть только одна дорога, с которой невозможно свернуть, и что-либо изменить не в твоей власти. Так что, иди-ка ты лучше отдыхать, и не морочь себя и меня глупостями!
Приведенный в чувство сострадательными местными аборигенами, соседями подполковника Гладких, сержант Мамин смог принять, в конце концов, сидящее положение, держась, однако, обеими руками за нестерпимо болевшую ушибленную голову. "Сотрясение мозга, как пить дать!" – подумалось Петруше, но все могло обернуться куда хуже. Непроизвольно он перевел взгляд на лежавшего невдалеке, уже остывающего подполковника, над которым голосила поддерживаемая под руки набежавшими бабами жена, рядом жался и ее малолетний сынишка. Где-то почти рядом взвыли милицейские сирены – жители переулка времени зря не теряли, и оперативный наряд был в пути.
Откуда-то, из дальней темноты до сержанта донеслись возбужденные крики: "Ребята, глядите, да тут еще один, и, вроде, тоже холодный!" Петруша, плюнув на свою безбожно раскалывающуюся и кружащуюся голову, бросился на голоса, вспомнив, что в машине с ними ехал и неизвестно куда подевавшийся майор Крапивин. Растолкав склонившихся над телом мужиков, Петруша плюхнулся рядом с телом на колени, одновременно осветив его выхваченной из кармана зажигалкой. Сомнений не было: в кровавой черной жиже, смешанной с придорожной грязью лежал Гора Иванович. Ни на что особо не рассчитывая, сержант прижал пальцами шейную артерию майора, заранее печально вздохнув. Но под пальцами неожиданно екнуло, потом еще и еще. И, ополоумевший от радостного шока, Петруша закричал, что было сил: "Жив! Жив, он жив! Скорую сюда, скорее, скорую!"
ГЛАВА 7. СЛУГА
Утром Миша спустился к столу. Пуля вышла на рассвете, и затянувшаяся огнестрельная рана не беспокоила героя. Рита была рада увидеть его в добром здравии и более не тяготилась принесенной ради нее жертвой. Хотя приятное чувство особой своей значимости в мужских неравнодушных глазах осталось и даже послужило предметом гордости для самолюбия девушки. Она не стала протестовать, когда Миша, вопреки обыкновению, выбрал в это утро место рядом с Ритой – все же имел теперь полное право, и как бы перечеркнул прежнее отчуждение и холодок. За завтраком царило приподнятое настроение, оживление, вызванное и законченной накануне работой, непредвиденными и удачно разрешенными осложнениями, и Мишиным поступком, гусарски красивым и романтическим, и дебютом Риты, смущенной от любопытствующего излишнего внимания. Стас на пальцах пантомимой изображал молниеносный марш бросок за истошно вопящим, незапланированным майором, получалось смешно и забавно к вящему удовольствию женского пола, особенно мадам Ирены, переставшей дуться и хохотавшей громче всех.
И как ушат холодной воды, вылитый на разгоряченные жарким солнцем камни, было из ряда вон выходящее появление в дверях столовой фигуры хозяина, молчаливой и неумолимо грозной, словно статуя Командора, с лицом, помертвевшим от сковавшей его ярости. Расходившиеся вампы враз притихли. Хриплый окрик в наступившей тишине прозвучал как удар бича:
– Лгуны и разгильдяи! – чудовищное обвинение адресовано было всем присутствующим, но мрачный хозяйский взгляд уперся в Мишу, – немедленно объясните, как получилось, что майор Крапивин остался жив!
Миша от неожиданности даже привстал со стула, утратив присущую ему уравновешенность, Стас выронил вилку, издавшую неприятный лязгающий звук. Мадам прикрыла паучьей лапкой нижнюю часть лица, пытаясь скрыть охватившее ее предвкушение.
– Это невозможно, это какая-то ошибка, абсурд. Крапивин не мог выжить, у него не было и полшанса, – обескуражено и торопливо зачастил Миша, растерянно рыская взглядом по сторонам, – извините, Ян Владиславович, мою дерзость, но откуда Вы взяли подобную нелепость!
– Откуда я взял? – голос хозяина сделался ледяным от бешенства, – Минуту назад мне позвонили заказчики и сообщили сию захватывающую новость! Майор в больничной реанимации в тяжелейшем состоянии. Скорее всего, умрет, но даже если выживет, то останется полоумным инвалидом. Так что меня беспокоит не он, а вы и ваша халатная безответственность. Почему никто не удосужился проверить чистоту исполнения?
– Ян Владиславович, простите, это была моя оплошность – я не отдал приказа проследить, – Миша перевел дух и слегка расслабился. Он ожидал худшего от хозяйского гнева. Вопрос же оказался лишь в дисциплине, соблюдение коей Ян Владиславович в делах требовал неукоснительно, отсюда и выволочка, – схватил дурацкую пулю и расслабился. К тому же, как я еще вчера докладывал, время крайне поджимало – Крапивин наделал слишком много лишнего шума. Но, я думаю, ничего катастрофического не произошло. Наше дело завершит природа естественным способом. Даже если майор выздоровеет, вряд ли его умственное состояние позволит Крапивину кого-то опознать или дать более-менее внятные показания. Да и кто всерьез отнесется к словам идиота? К тому же в управлении его не слишком обожали и потому не станут переживать по поводу отсутствия ценного сотрудника. Как говориться: одним выстрелом – двух зайцев.
– И, тем не менее, учти на будущее. Вы все учтите, – хозяин проникающим взглядом василиска обвел всех присутствующих, – наша безопасность только в наших руках. И любая оплошность может быть губительной. А ты, Михаил, имей в виду, еще одна подобная выходка, и я передам командование рабочим отрядом Ирене. Раненый или нет, прежде всего помни о деле. Слишком уж это по человечески – холить собственную персону. Но ты вамп, и веди себя, как подобает вампу. Больше мне нечего тебе сказать!
Хозяин резко повернулся и собрался уже удалиться из столовой, как робкий басисто-низкий голос, от страха срывающийся на петушиный дискант, изменил его намерение. И принадлежал он охотнику Стасу.
– Хозяин, я не хотел,…то есть, я не сказал, я думал, обойдется, и не имеет значения, – сбиваясь и путаясь, начал было охотник и замолчал.
– О чем ты? Перестань бормотать и говори яснее, – раздраженно ответил хозяин, но не ушел, заподозрив неладное.
– Я,…я не смог удержаться, все было, как на охоте. Я догнал его и ударил. Из раны текла кровь, и череп был проломлен. Он все равно был не жилец. И кровь пахла, и я попробовал,… я впился и… Простите меня, – последние слова, произнесенные почти шепотом, были едва слышны, но смысл их, предельно ясный, дошел сознания до каждого.
Бомба, разорвись она сейчас в мирной до сей поры столовой, не произвела бы такого впечатляющего эффекта. Охотник, сидел, низко понурив голову, не решаясь более поднять взгляд. Головы вампов, как одна, словно в замедленной съемке развернулись в его сторону. Слов не нашлось ни у кого, и даже хозяин застыл в обескураживающем молчании. Но очнулся раньше других и приказал:
– Совет общины – все до одного в мой кабинет. Немедленно! Остальным заняться обычными делами и не мешать! – Ян Владиславович подумал немного и, обратив взор, серьезный, но искусственно потеплевший, на Риту, добавил, – Ты можешь пойти тоже, возможно, от тебя будет польза больше, чем от некоторых других.
Рита, ошеломленная скорее оказанной не по ее рангу и незаслуженной честью, чем впечатлением от проступка охотника, прошествовала, не глядя по сторонам, в кабинет на собрание совета. Кроме нее вслед за хозяином поспешили и виновник торжества, и мадам с "архангелом", и половина парочки голубых боевиков, то бишь Макс.
Расселись, кто, где придется, вокруг хозяйского дивана, не осмелившись занять лишь традиционно принадлежащее Мише кресло. Рита и вовсе скромно устроилась на подушке рядом с хорошо знакомым ей диваном прямо на полу. От Стаса не шарахались, как от зачумленного, не сторонились и не пытались отгородиться, сев подальше от провинившегося. Но для охотника именно такое отношение названных братьев и было горше всего – лучше бы бранились и плевались, он бы оправдывался и извинялся. И его вина вышла бы наружу, была бы названа и определена наказанием, которое ему не пришлось бы назначать самому себе – это сделал бы кто-то другой за него. Но хозяин и братья, даже мадам, кинули его под тяжелые танки самобичевания, занятые иной насущной бедой, которую охотник сотворил на их головы, и ему оставалось одно: помогать по мере сил. Главный вопрос состоял в следующем – выживет Крапивин или, избавив их от лишних хлопот, естественным образом отправиться в мир иной.
– Мы можем ждать только неделю, не рискуя. Если к этому времени майор все еще будет жив и, не дай бог, на лицо окажутся признаки его перерождения, тогда решение должно приниматься немедленно. Не хватало нам еще безумного вампа, не подозревающего, кто он на самом деле такой, разгуливающего беспрепятственно в центральной городской больнице, – рассуждал Миша вслух, привычно и хладнокровно раскладывая части задачи на соответствующие полки, – если Крапивин скончается от травм или не переживет изменений, в ситуацию вмешиваться неблагоразумно. На раннем этапе никакой анализ ничего необычного не выявит: наш неверующий умник собственноручно проверял. Посчитают, в крайнем случае, что пациент ко всем прелестям подхватил обычную инфекцию.
Итак, проблема была идеально разложена и препарирована, вот только для Риты явилось неожиданной новостью, что Фома Неверный занимается еще и медицинскими опытами помимо обычной болтовни. При случае стоило поинтересоваться.
– Но главный вопрос, как я понимаю, не в смерти майора на больничной койке от полученных на боевом посту травм, – подхватила Мишкины рассуждения мадам. Сегодня в ее намерения никак не входила грызня с "архангелом", слишком серьезными вышли неприятности, и потому Ирена, откинув личные выгоды, бросила все силы на защиту общины от приближающейся извне, гибельной напасти, – нам предстоит решать, что делать с укушенным подкидышем, в случае, если он все же останется в живых.
Тогда Ян Владиславович, чувствуя ожидание и пристальные, ищущие взгляды советников, тихо, но внятно, и ни к кому не адресуясь, заговорил, будто читая по памяти некий документ:
– Крапивин, Горсовет Иванович, 1951 года рождения, бывший член КПСС, имеет звание майора милиции и должность начальника кадрового отдела. С 1973 года женат, имеет двоих детей. Жена, Ольга Петровна, в девичестве Перебейнос, происходит из казачьей семьи. Старшая дочь проживает в городе Краснодаре, имеет сына Александра. В настоящий момент в доме Крапивина пребывают, кроме него самого, жена, младшая дочь, обучающаяся в колледже ведения гостиничного хозяйства, малолетний внук Александр, привезенный из Краснодара к бабушке, и старший брат Владлен с семьей из пяти человек, приехавший на заслуженный отдых в бархатный сезон из города Армавира, где он уважаемый гражданин и владелец хлебопекарни… Кто-нибудь может ответить, что нам делать со всей этой камарильей, останься укушенный майор на белом свете?
– Да, родственнички так просто не отстанут, забери мы вдруг Крапивина в общину! А нам только и не хватает впавшего в детство мента, не помнящего собственное имя, – выпалил вдруг Стас, потрясенный одной мыслью подобного нашествия на его родной дом, но тут же опомнился, – извините, что влез. Вам еще моих советов не достало.
– Охотник дело говорит, – поддержал его Макс. Остальные дружно закивали, словно отменяя бойкот, наложенный Стасом на себя самого. Макс тем временем продолжал, – и ты, Стас, не отмалчивайся. Нам сейчас твоя голова нужна, а не твои раскаявшиеся сопли. Конечно, взять в общину все обширное Крапивинское семейство невозможно, это даже не обсуждается. Но и приютить у себя убогого мента нам тоже никто не позволит. Какие могут быть к тому основания? Нормальных, людских, никаких! Вот и думайте.
– Отпускать его на свободу тоже нельзя. Ну, как перекусает он всю семью, вот шуму будет. Здесь не просто милицией, федералами запахнет. Начнут копать, тогда держись! – Мишу прямо передернуло от подобной возможности.
– Тогда выход лишь один: кончать майора в любом случае! – не по-женски твердо приговорила мадам, первой решившись озвучить страшный, но единственно возможный здравый исход.
– Да вы в своем уме! А как же кодекс? Не убивать своих, а? – опять не выдержал Стас, и сразу, вслед за ним загалдело все собрание. Спорили, брызжа слюной, доказывали и опровергали правомочность и указывали на прецедент.
Молчали только двое: Ян Владиславович и Рита. Обоим им было, что сказать расходившемуся совету. Но первый молчал из тактических соображений, вторая боялась встрять без разрешения. Когда обессиленное собрание, ни к чему не придя, наконец, умолкло, утомившись, хозяин посмотрел на Риту так, что она поняла, можно! Девушка встала с подушек, для уверенности и наглядности, и пылко заговорила:
– Я попала в общину последней из вас, и, ни для кого не секрет, что меня тут никто не ждал и не хотел! И вы все равно приняли умирающую, раненную девчонку, выходили, не дали загнуться, хотя не видели во мне никакой пользы. Но во мне не было и вреда. Человек, который сейчас лежит в больнице, враг! Он может погибнуть один, а может – утащив за компанию нас всех. По всякому выходит, что майору конец! Но я умирать не хочу, и не хочу, чтобы погиб кто-нибудь из вас. Считайте, что раз вы спасли меня, то сделали доброе дело, за которое вам проститься теперь злое… И я вам всем благодарна, и если нужно, я готова собственными руками прикончить Крапивина, а вы потом, можете убить и меня!
– Вот вам и мнение толпы, – сыронизировала мадам, но ни она и никто другой не улыбались, – девочка, ведь, в самом важном права: кодекс – для нас, а не мы – для него! Наши правила должны служить нам, а не наоборот. И когда они перестают защищать или попросту не срабатывают, долой правила!
– Но прецедент! Подумай, Ирена, здесь не только в рационализме дело. Сегодня мы все вместе ополчимся на одного из наших, а завтра начнем резать друг друга, из обиды или просто так, – не уступал Миша.
– Но он не наш, этот чертов мент! – Рита от вспыхнувшего возмущения сжала кулачки.
– Как же не наш, если мутационный вирус, возможно, уже попал в его кровь, – Миша обращался не только к одной Рите, довод был рассчитан на всю аудиторию.
– Ну, если так рассуждать, то каждая "корова", которую мы доим, потенциально – наш брат, но мы же выпиваем ее до смерти, и никаких угрызений совести, – со смешинкой в голосе ответствовал ему Макс, – наши разногласия, это все равно, что споры "за" или "против" разрешения абортов. Но ребенка то еще нет!
– Именно! А вдруг, к примеру, заранее известно, что родиться "даун" или, скажем, гидроцефал? – вновь вступила в словесную битву мадам, – В нашем же случае ясно как день, что получиться урод.
– Тогда откуда мы могли знать, что из Риты выйдет полноценный и замечательный собрат, а мы все же оставили ее в живых, – не унимался "архангел".
– Господи, да это же совершенно разные вещи! – Макс подхватил мяч и стал на подаче, – Тем более что Ритка заслужила свое право, схватившись с тогда Иреной, и сумела сбежать, надавав ей по зубам. А чем отличился этот толстопузый майор, кроме того, что, с перепугу, засадил тебе пулю в грудь? Короче, я голосую за предложение мадам: "полную и безоговорочную ликвидацию"!
Среди советников вновь началась неразбериха. Теперь наравне с другими выступала и осмелевшая Рита. Гвалт стоял невообразимый, и заседатели были готовы перейти уже и на личности. До сакраментального выражения: "А ты кто такой?" оставалось каких-нибудь полшага, когда хозяин, стукнув кулаком по изящному кофейному столику, прекратил безобразие. В кабинете наступила церковная тишина, только чашки, сахарница и серебряные ложки со звяканьем катились по полу. Не повышая голоса, Ян Владиславович подвел свое резюме:
– Обсуждение прекратить! Ждать развития событий в больнице! При неблагоприятном исходе соберемся вновь. Мнение каждого из вас я уяснил, решение приму единолично. Все свободны!
Потянулись недолгие, но мучительные дни ожидания. Братья и сестры ходили притихшие, будто даже подавленные, но и подспудное кипение в общине ощущалось, хоть и не выплескивалось на ровную, штилевую гладь, в которой смутно угадывались признаки затишья перед бурей. Все три дня, протянувшиеся мостками от известия до приговора, Рита делила свое внимание между Мишей и хозяином, отдавая последнему пока большую и лучшую часть. Но и Миша чаще пребывал в бегах и суете.
Уже к вечеру первого дня обитания Крапивина в реанимации стали поступать неутешительные для общины сведения. Пришли они от дружественного следователя Воеводина, которому между прочими обсуждаемыми делами были выражены Мишей соболезнования по поводу утраты в городских правоохранительных органах. Сам Воеводин в больнице побывать не успел, да и не имел к тому повода, но из сплетен коллег знал, что у потерпевшего вдруг открылась сильнейшая лихорадка, и врачи опасаются общего заражения. Кто же в итоге победит: сепсис или медики, вооруженные антибиотиками, пока науке неизвестно. Мише же совершенно очевидно стало одно – реакция началась, и перерождение вступало в свои права. Оставалось уповать лишь на бога и счастливый случай, которые вкупе не позволят борову-майору благополучно пережить испытание.
Благообразный и речистый Фома, милый Винни Пух, в срочном порядке свел романтическое, со стихами знакомство с молоденькой реанимационной сестричкой, которой семья страждущего приплачивала за услуги сиделки. Таким образом, община все же держала руку на неверном пульсе шаткой и могущей обостриться в любую минуту обстановки. Миша, в конце концов, извелся больше всех, но не из-за зловещего в своей неизбежности, неконтролируемого лечебного процесса. Пугала возможная неотвратимость предстоящего выбора единственного решения. Здравый смысл жестоко схлестнулся в борьбе с идеей и незапятнанной чистотой кодекса, нехорошими предчувствиями необратимых поступков. Однажды поставивший на карту собственное будущее, Миша, верный единожды выбранным принципам, проигрался в прах. Но никогда ни о чем не жалел, ибо в награду ему было послано второе рождение и новая семья. На сей же раз на кону стояла не одна лишь его голова, а рисковать жизнями близких Миша не считал в своем праве, пусть и ради искренних убеждений. Конечно, хозяин, опять снимет с них тяжкий груз ответственности, переложив его на свои плечи, и примет, как и обещал, решение единолично. Но быть обреченным на роль страуса, зарывшегося в песок, оказалось еще гаже. И "архангел", карающий и защищающий хозяйский меч, маялся грустью и неполноценностью.
На четвертые сутки серая милицейская мышь родила свою ужасную гору. Жар у Крапивина спал, угомонив майора оздоровительным сном. Медицина в очередной раз торжествовала. Мишу известие настигло в городе, исторгнувшись из мобильной трубки взволнованным речитативом Фомы. Развернув на повороте машину, Миша, направлявшийся было домой, рванул обратно, в центр. Самым нужным в эту минуту ему представлялся визит в легальный офис компании, откуда следовало немедленно забрать мадам Ирену. В том, что совет состоится незамедлительно, Миша не имел ни малейших сомнений.
Справедливости ради надо отметить, что убойный бизнес не являлся единственным источником дохода семьи. Существовал и другой, менее прибыльный, зато непререкаемо законный приработок, дававший одновременно честную крышу и материальное налоговое обоснование благосостоянию общины. Туристическая фирма, возившая курортников морем из Сочи в турецкий Трабзон, имела на балансе пару теплоходиков, сновавших без устали через водную границу, и значилась в деловых, телефонных справочниках, как экскурсионное бюро "Красоты Босфора". Обслуживались "Красоты" действительным и полноценным штатом обычных, далеких от криминала, людишек, понятия не имеющих о том, на кого в реальности им приходиться работать. Генеральным директором и совладельцем самого хозяина выступала беспокойная мадам Ирена, от души наслаждавшаяся ролью успешной бизнес-леди. Местные воротилы дружелюбно поглядывали на мелкотравчатую, но независимую фирмочку, однако, усмешек себе не позволяли, слишком хорошо догадываясь о подводной части айсберга. Рэкетиры же и на пушечный выстрел не приближались к стеклянным, лишенным всяческой сигнализации, дверям "Красот Босфора", ибо дурная слава их негласного владельца, пана Балашинского, Яна Владиславовича, была куда как велика.
Забрав растревоженную мадам, Миша, уже нигде не мешкая, погнал злобно ревущую "Волгу" к родному особняку на Пирогова. Дом гудел как ошпаренное осиное гнездо, сверзившееся с дерева. Напряжение прошедших дней хлынуло через край наружу, выражаясь в бестолковой беготне обитателей и возбужденных криках, суть которых была оглашена Татой, стоящей на крыльце и картинно всплескивающей руками: "Надо срочно что-то делать!"
Стас доложил, что хозяин уже обо всем извещен возвернувшимся Фомой, и дожидаются только Миши и мадам Ирены, чтобы начать совет. На этот раз Ян Владиславович пожелал, чтобы совет проходил в большой гостиной, и что желательно присутствие всей общины. По такому поводу обитателями были надеты знаменитые, ставшими ритуальными, шейные платки, призванные выразить на сей раз единство и готовность, братскую любовь и чувство локтя. Суть бедствия, постигшего семью, была изложена Мишей, с присущей тому лапидарностью. Вопрос об экстренной, но не допустимой кодексом, акции поставила мадам. После слово взял Фома, философ и краснобай, он, однако, был, на удивление, краток:
– Что касается уточнений и поправок, то их не избежала даже хваленная Американская Конституция. Законы требуют исправлений время от времени, сообразуясь со здравым смыслом и полезностью, и тогда, исправленные, они, само собой, не будут нарушаться. Я ни в коей мере не призываю вас преступить кодекс, а лишь изменить одно только его положение, что продиктовано жизненной необходимостью. И в уголовном, обычном человеческом кодексе убийство отделяют от самообороны. А в нашем случае мы имеем дело именно с самообороной и самозащитой… У меня все.
Раскрасневшаяся от удовольствия мадам зааплодировала, нечего было возразить и Мише. Мало что понявшая Тата одобрительно закивала. Оставалось узнать мнение хозяина, и Ян Владиславович не заставил аудиторию ждать:
– Думаю, нашей семье не стоит изображать тонущий "Титаник", … да, да, Таточка, не удивляйся. Ты, милая, так наводнила дом мелодрамами, что и я кое-что посмотрел. Так вот. Лучше обогнуть айсберг, чем всей командой напрасно пойти ко дну. Поэтому определимся голосованием. Но учтите, если большинство будет против, я, тем не менее, отдам приказ о ликвидации Крапивина, который уже не станет обсуждаться. Итак, кто "за"?… Единогласно! Что же, тогда попрошу боевую группу собраться у меня в кабинете немедленно после обеда!
Что нашло на Риту в этот момент, она не понимала толком сама. Скорее всего, боязнь остаться за бортом в предстоящей операции, неизвестность своего положения и отношения к боевой группе, в которой ее место не было явно определено, вынесли девушку на середину гостиной. Она может и хочет быть полезной, недаром ее учили, и, что угодно, только бы позорно не остаться с Татой и Лерой на кухне!
– Ян Владиславович, пожалуйста! – получилось жалко и просительно, но стыдно не было, – возьмите меня в группу, я обязательно пригожусь. Я буду хорошо служить, честное слово… Ну Вы же знаете, что я могу. Я так Вас люблю, что сделаю все, что угодно, все, что захотите мне приказать. И если Вы тоже…, если вы меня хоть чуть-чуть…
И Ритка не выдержала, расплакалась глупо, посреди комнаты, на виду у всех. От предстоящей обиды отказа, от будущего хозяйского равнодушия. Но Ян Владиславович разнюниться окончательно ей не позволил.
– Помилуй, детка, но ты и без того закреплена в группе Михаила. Не могу же я лично выписать тебе мандат по этому поводу, – он улыбался, снисходительный и понимающий, – только настоящие, боевые работники никогда не льют слез. Даже если им не позволяют отличиться. А сейчас, ступай, умойся… И после обеда, прошу пожаловать в мой кабинет.
Заседание боевой группы, включая и мадам Ирену, началось, как было запланировано, в послеобеденные часы. Время поджимало, и земля, что называется, горела у братьев под ногами.
– Обходиться должны только собственными силами. И никакой помощи в подготовке со стороны! – хозяин был здрав и категоричен, – к Шахтеру не должно просочиться и намека на готовящуюся акцию.
– Это понятно. Если заказчики хотя бы стороной узнают, что мы убрали мента, который из-за травмы скорее не человек, но растение, и потому, опасным быть не мог, возникнет масса ненужных вопросов и нехороших подозрений, – рассудил Миша и сделал вывод, – значит, необходимо инсценировать скоропостижный, несчастный случай – не выдержало сердце, внезапный инсульт.
– Я предлагаю травить. Не колом же его протыкать, в самом деле, – выступила мадам. И предложение ее было единственно правильное.
– Чем? Концентрированным оксидом серебра? Тогда надо срочно сообщить Фоме – не уверен, что он держит в лаборатории запасы столь сильного яда, – Макс поднялся и, с молчаливого согласия хозяина, вышел с миссией к Фоме.
– А разве Фома понимает в химии? И где его лаборатория? – воспользовавшись удобны моментом, поинтересовалась любопытная Ритка: нехорошо, если у семьи остались неведомые ей тайны.
– Биохимия и есть его основная специальность, а философия – так, увлечение прирожденного проповедника. Неужели ты не знала? – почти съехидничала мадам, но объяснила и далее, – у Фомы университетское образование, у Леры, между прочим, тоже, правда, неоконченное. Видишь, как у нас здорово подобраны кадры? А лаборатория в подвале. Просто ты никогда не удосуживалась там побывать.
– Мы отклонились в сторону. А безотлагательных проблем невпроворот, – строго напомнил хозяин, прервав лишнюю дискуссию, – с ядом придумано неплохо. Вопрос в том, кто возьмет на себя его доставку к телу?
– Могу и я. Пробраться среди ночи в палату не составит труда, а в вену иглой я уж как-нибудь, да попаду, – привычно выступил на передовую Миша.
– Годиться, но не совсем. Элемент риска все же остается – тебя может увидеть больной, страдающий бессонницей или спешащий на свидание к медицинской сестре, – возразил ему хозяин, – поэтому я предлагаю следующее…
План был основателен и безупречно красив, а уж Риту порадовал особенно. Все же именно ей и мадам отводились не второстепенные, а самые наиглавнейшие роли. И уж она, Астахова Рита, покажет все, на что способна, уж будьте уверены! К тому же мешкать не следует, и исполнение назначили на следующую ночь: не хватало только дождаться, пока майор начнет терять клыки. И только день на реквизит и подготовку.
В назначенную ночь, однако, все нужное было на месте. Погода стояла для южной ранней осени теплая и даже душная, отчего большинство больничных окон было нараспашку, что естественным образом облегчило доступ с гулкой, недавно чиненной крыши в дальний коридор верхнего этажа. Две темные фигуры, плавно изгибаясь, словно пританцовывая при луне, скользнули в неосвещенный, оконный проем и тут же преобразились белыми халатами и косынками, взявшимися неведомо откуда, будто кролики из шляпы фокусника. Волшебно возникшие из ничего хорошенькие сестры милосердия заспешили в тяжелую палату, бесшумно перебирая по скользкому линолеуму крепкими ножками в мягких теннисных туфельках. И, как в воду глядели, старушка – "божий одуванчик" семенила по ночному безлюдью в сторону общей уборной. Но хихикающие служебные девушки, с длинными, падающими челками и бесцветными в отсутствие косметики лицами, не вызвали у бабульки особого любопытства. Осуждающе пробормотав, что, дескать, молодо-зелено и ветер в голове, куда там доглядывать за больными, старушка своей дорогой прошаркала мимо в туалет, ни разу даже не оглянувшись вслед сестричкам.
На посту в холле дремала за конторкой настоящая дежурная сестра, но ее самозванным товаркам не составило труда тенью преодолеть бдительно спящего стража. Тут же обнаружилась и заветная палата. Не до конца прикрытая дверь позволила лицезреть больничную одноместную панораму с единственной койкой посередине и лежавшего на ней в полном одиночестве, выздоравливающего овоща-Крапивина.
Рита и мадам проскользнули внутрь. В нагрудном, на молнии, кармашке, в стальном футляре у Риты был запасен заранее заправленный смертоносной для новорожденного вампа Горы бодягой десятикубиковый шприц. Мадам проворно закатала рукав больничной пижамы у бодрствующего, бессмысленно таращившегося на нее идиота. Майор тихонько загукал и пустил обильные слюни. Вытирать их было некогда, да и не к чему, и Рита, имевшая опыт и реальную практику студентки медучилища, приступила к делу. Без перетяжки, ловкой рукой точно вонзила в вену иглу, мадам Ирена для верности тут же намертво прижала крапивинское тело к койке, не позволяя ему и шелохнуться. Жидкость из шприца перетекла в кровь, и след от укола сам собой затерялся среди точно таких же отметин, оставшихся от многочисленных капельниц и экстренных инъекций. Оставалось лишь дождаться неминуемого конца, который и не замедлил наступить менее чем через минуту. Майор дернулся судорогой, младенчески скривив толстое, масленое лицо, дрожь сведенных мышц всколыхнула его жирную плоть, и яд парализовал сердце и дыхание. Подождав, затаившись, для верности с полчаса, лжесестрички двинулись восвояси. Так же бесшумно и незаметно. Задание было ими выполнено – незапланированный эмбрион перестал существовать.
Назавтра местные газеты огласились вновь воплями по поводу безвременной кончины доблестных милиционеров, умирающих от бандитских ран на больничных койках. Маститый хирург выступил с заявлением, что сделал все возможное для спасения жизни защитника спокойного сна местных граждан, и не его вина, что тот все же загнулся от коварно нанесенных злодейской рукой травм.
Спустя три дня тело майора Крапивина, Горсовета Ивановича, 1951 года рождения, было предано земле на городском кладбище. Да, да, на том самом, где состоялась первая охота некой Астаховой Маргариты Львовны, благодаря которой новопреставленный милиционер и оказался в своем нынешнем и последнем пристанище, окруженный скорбящими родственниками и рыдающей в голос вдовой. Имела место и торжественная панихида. После, как водиться, были щедрые, с обильными возлияниями, поминки.
ГЛАВА 8. АРХАНГЕЛ
После удачного завершения работы в амплуа медицинской сестры Рита Астахова как нельзя более полно ощутила, что выросла в собственных глазах. Изменилось и отношение к ней внутри семейства. Лера и Тата, вроде невзначай, но из выражения уважения, отдалились на почтительную дистанцию, отбросив прошлое панибратство. Фома, хоть и доставал по-прежнему хохмачками и незлобивыми шуточками, заглядывался просительно – не обидел ли ненароком, не переборщил ли с намеками. Но было в его глазах и второе дно. Пожалуй, этот добродушный, егозливый ребенок оставался для Риты самым загадочным существом, конечно, после обожаемого хозяина. Как выяснилось, далекий, по сути, от бездеятельной, абсолютной лени, играл он некую темную, гласно не афишируемую никем, одинокую роль, за что имел от хозяина невиданную в семье свободу и неприкосновенность, не подчинялся правилам и распорядкам, часами греясь на солнышке или, в дурную погоду валяясь на любимом диване большой гостиной. "Уж, не в подражание ли хозяину?" – задумывалась Рита, но отгоняла от себя подобные святотатственные подозрения.
Ян Владиславович, как всегда, выразил девушке свое одобрение в осязаемой форме, определив ей по возвращению из городской больницы место в собственной спальне. Но традиционная уже для Риты награда, возможно ценимая еще более высоко, все же, незаметно для нее самой, потихоньку перетекала в разряд привычки. Как для истинно верующего священнослужителя становится обыденной, хотя и жизненно необходимой для смысла и цели жизни, каждодневная церковная служба. Но, со временем, восторг обретения заменяется удовлетворенным чувством долга, любовь новообращенного неофита переходит в усердное почитание, готовность сгореть на жертвенном огне – в радетельное, старательное служение у алтаря. Ум и сердце, отторгнув часть себя в пользу высокого и вечного, которое, однако, не в состоянии ответить взаимностью, но лишь принять даруемое, готовы, наконец, обратиться своей оставшейся частью к простым земным делам и чувствам.
Так вышло, что Рита, вернувшись ранним утром в свою собственную комнату, возвратилась мыслями к совсем другому событию, нежели заслуженное ей посещение хозяйской спальни. Вернее даже сказать, не к событию, а к реальному существу, собрату, взволнованно поджидавшего возвращения ее, Риты, и мадам с задания нынешней ночью.
Когда девушки тихонько вошли в незапертую калитку заднего двора, отпустив, предварительно из осторожности, нанятое такси за целую улицу от дома, в тишине особняка, кроме хозяина, поджидая их, не спал один только Миша. Остальные давно разошлись по комнатам, не желая сгущать краски тягостного ожидания и предпочитая узнать новости, радостные или дурные, по утреннему пробуждению, когда ночные события завершаться тем или иным образом. Хозяин же, напротив, не испытывал предубеждения перед неизвестностью и предпочитал пополнять свою осведомленность по мере поступления вестей от участников срочной и вынужденной операции. Миша, по той же причине и, как ответственное лицо, так же бодрствовал на страже. Кроме того, боевой командир имел еще одно, необязательное соображение, которое призывало его оставаться в ожидании на посту.
Приятно видеть в чертах лица, ставшего небезразличным, отражение волнения и последующего облегчения, смешанного с долей нежности и ожидания взаимной радости. Миша, спешащий им навстречу из ночного, одним окном освещенного, дома, не скрывал беспокойства. Он отрывисто бросил, точно гранату, вопрос. Мадам ответила, с достоинством удачливого диверсанта, похвалив Риту с высшей оценкой. Успокоенный и довольный, Миша, идя рядом с девушкой от калитки и не прекращая на ходу расспрашивать мадам, тихонько поймал Риту за руку, поднес ее ладонь к губам. То ли означив благодарность ее "золотым ручкам" и талантам медсестры, то ли имея в виду нечто более интимное и глубокое. Как бы то ни было, Рита не осталась равнодушной к его заговорщицкому маневру, истолковав подпольный демарш в лестную и приятную для себя сторону. И, на сей раз, она не ошиблась.
Естественное чувство любви и гордости за того, к кому испытываешь подобное чувство, что хоть и редко, но тоже случается, имело для Миши куда большее фатальное значение, чем это обычно бывает. Как будто, не надеясь особенно на жизненные дары и удовольствуясь, тем, что уже есть, он получил приз, о котором не смел и просить. И виной тому был весь ход Мишиной жизни, сотворивший из молодого идеалиста-адвоката сурового "архангела" могущественной, нечеловеческой семьи вампиров.
Как и многие его сверстники 80-х, Миша Яновский не избежал пионерско-комсомольской юности, главный период которой пришелся аккурат на момент Горбачевской перестройки. Миша носил сначала красный галстук, плавно сдавший свои позиции крохотному, но весьма важному значку. Атрибутика, столь презираемая в те годы за формализм и липовые достоинства многими людьми, не утратила для юного комсомольца своего первоначального смысла. Но, для достойного объяснения вопиющего факта, необходимо более глубокое погружение в биографию.
Мише Яновскому отчасти посчастливилось родиться в южном и богатом городе, столице благодатного края, не знавшем в дефицитные годы застоя особых проблем с продуктами питания, а, впрочем, и с остальным, труднодобываемым предметом потребления. Тем паче, что родившая его на свет семья ходила в Краснодаре не в последних, имела выходы и многие, насущно нужные связи. Отец Яновский, помимо избыточного веса и пошаливающего стенокардией сердца, числил в своем активе и должность директора книжного магазина подписных изданий, то есть, попросту говоря, был в родном городе многоуважаемым торговым человеком. Оттого и Мишиной маме, рядовому советскому преподавателю вокала в музыкальном училище, не приходилось особенно усердствовать на службе.
С детства привыкший к солидному достатку, мальчик Миша искренне и убежденно верил в преимущества социалистического образа жизни перед любым другим, и не последнюю роль в его мировоззрении сыграли часто повторяемые отцом Яновским слова: "Небось, в Америке с моих дел не проживешь! А у нас – так припеваючи, только голову на плечах иметь надо". И Миша сделал вывод, что в Советской стране плохо и бедно живут одни лишь бездельники, пьяницы и люди, головы не имеющие. В Мишиной же семье все и во всех смыслах обстояло благополучно, и в семьях, с которыми дружили или приятельствовали супруги Яновские, – тоже. Не составляла исключения и посещаемая Мишей школа, соответствовавшая положению и влиянию в городе его родителей. Школа, как модно нынче говорить, была элитная и английская, допускавшая в свои стены через видимость отборочных экзаменов, за редким и случайным исключением, детей власть предержащих, а также торговых и интеллектуальных сливок краевой, южной столицы.
Миша и многие его одноклассники являли собой тип умеренных активистов, зарабатывающих баллы и характеристики, смолоду готовили себя к карьере с неомраченным комсомольским прошлым. Миша претендовал и на медаль, в чем в тайне от мальчика немало финансово способствовал и Яновский-старший. Запечатанный с ног до головы в качественные закордонные шмотки, Миша мог при случае дать и в морду клевещущему на милую власть ровеснику, да и кто как не подобные ругателю граждане виноваты в том, что в родной стране невозможно найти отечественного модно-добротного товара.
Гладенько стелилась накатанная дорожка, и вот уже Миша выпускник и гордость родителей, отмеченный серебряным медальным знаком качества: на золотое достоинство отец Яновский не потянул – в свои права вступили высокие конъюнктурные интриги. И ничего не попишешь, и у партийного передового отряда края тоже есть дети и внуки. Но "серебро" было тоже хорошо.
Потом был юридический факультет Кубанского университета, куда юного отпрыска Яновских приняли, миную обязательный двухгодичный стаж и почетную армейскую службу, в основном опять-таки из уважения к достойному родителю. Но Миша вновь приписал успех исключительно своим заслугам и достижениям, в чем старшие Яновские и не думали его разубеждать. Пусть мальчик гордиться собой, чем считает себя неполноценным без родственной помощи, спасибо же отцу с матерью еще успеет сказать, благо вся жизнь у Мишеньки впереди.
Но на третьем курсе стряслась беда, доказав наглядно не знавшему лиха студенту, что на всякой дороге рано или поздно случаются выбоины, ухабы и опасные повороты. Как гром среди ясного неба был хвативший отца Яновского на дружеском застолье инфаркт, и в одночасье опоры и главы счастливого семейства не стало. То ли не вынесла душа Мишиного родителя великолепия перестроечных возможностей и захватывающих дух дефицитных прибылей, то ли виной всему был щедро употребленный экзотический шведский "Абсолют", об этом остается только гадать. Но факт был налицо – главного добытчика и защитника мать и сын лишились навсегда.
Жизнь для Миши Яновского резко изменилась к худшему. Мать потихоньку тратила отцовские сбережения, понимая, что музыкальным заработком не прокормит обоих. Но Миша неохотно и в самом крайнем случае брал у матери деньги, хотя стипендия его при начавшейся вдруг стихийной инфляции и вовсе составляла сущие гроши. Отцовским друзьям-приятелям враз стало не до осиротевшей семьи, времена наступали лихие и требовали расторопности и смекалки, маня неслыханной возможностью прибрать к рукам плохо лежащее государственное имущество в особо крупных размерах. После опереточного шоу 1991 года и вовсе каждый надеялся исключительно на самого себя, ревнивы глазом оценивая соседскую долю захваченного добра.
Наглый Сбербанк РФ нанес держащейся из последних сил маме Яновской последний сокрушающий удар, закрыв счета мирных и ни в чем не повинных граждан до лучших демократических времен. И вдова вынуждена была содержать себя, продавая частями нажитый за годы семейной жизни золотой и антикварный запас. Перед Мишей же во всей реальной красе встала проблема поиска хоть какого-нибудь заработка. До окончания ВУЗа оставался еще целый год, прежде чем Мишин юридический статус обрел бы официальное и законное обеспечение, выраженное в государственном дипломе. Но молодой человек ни за что не собирался бросать учебу, к тому же не утратил и веры в то, что все происходящее в его любимой и гордой стране есть явление лишь временное, что все утрясется, дай только срок, встанет на свои места. И каждый займет подобающее и заслуженное положение в новом обществе, которое выметет, наконец, из своих рядов на помойку истории бесстыдно вороватый и уголовный мусор, поднятый штормом перемен с самого его дна. Пока же Миша, засунув самолюбие в дальний карман, отправился на поклон к бывшему приятелю и партнеру отца, а именно к Георгию Николаевичу Небабе, в советские мирные времена бывшему начальником кубанского "Военторга". Ныне господин Небаба состоял в депутатах местной парламентской власти, одновременно являясь соучредителем коммерческого частного предприятия "Зеленая волна", имевшего целью своего образования эксплуатацию Новороссийского порта с личной негосударственной выгодой. Не брезговали в "Волне" и приторговывать залежалым армейским товаром, опираясь на сохранившиеся с "военторговских" времен связи Георгия Николаевича.
Принят Миша был Небабой на удивление хорошо. Можно даже сказать – тепло. Словно старый отцовский друг вспомнил о чувстве долга перед покойным и усовестился. Деятельный живчик, старательно сдерживающий подступающую полноту, жизнеутверждающий и несентиментальный, Небаба коротко изложил студенту суть своих забот. Хорошие юристы, а особенно хорошие адвокаты, нужны частным акционерам как воздух. Но еще более потребны "свои" адвокаты, которые не сдадут и не потащат компромат к конкуренту. Так что Миша должен сейчас только учиться и еще раз учиться, с деньгами Небаба поможет, да простит его бог, что не послал подмогу раньше. Когда же Миша воплотит свои знания в осязаемую форму диплома, он, Георгий Николаевич Небаба, гарантирует ему качественную стажировку и последующее успешное прохождение в местную коллегию адвокатов. Если, конечно, Мишенька также пойдет старику на встречу и выберет сферой своей дальнейшей деятельности не что-нибудь, а именно уголовное право. О клиентуре молодой адвокат может не беспокоиться, вернее сказать, у него будет один, но очень большой клиент.
Даже не раздумывая, Миша Яновский согласился. Да и усомниться и не довериться Небабе он счел для себя недопустимым, это было бы все равно, как если Миша засомневался бы в порядочности собственного отца. Ведь Яновский-старший и Небаба частенько сиживали за одними столами, гостевали друг у друга на именинах, и, вообще, что называется, были одного круга. А, значит, считались достойными, ответственными гражданами, с которых следовало брать пример.
Теперь, когда у Миши появилась обозримая цель, он удвоил старания в университете, дополнительно ориентируя себя на будущую адвокатскую деятельность. Небаба слово свое сдержал, и небольшой доход регулярно поступал в их дом, давая возможность вести сносную, благопристойную жизнь. Мать снова повеселела, смогла отказаться от унизительных продаж, и строила планы на будущую жизнь, перспективы которой связывала исключительно с дорогим умницей Мишенькой. Усердие ее сыночка увенчалось успешным получением красной дипломной корочки, и грядущая работа, как и было обещано Небабой, уже поджидала его на пороге. Мама уповала и на скорую женитьбу с будущими внуками и счастливую обеспеченную старость. Но Миша с брачными планами не спешил.
Еще на заре университетских времен выбор хотя бы непостоянной подруги был для Миши затруднителен. Школьные симпатии в счет не шли, хорошо воспитанные успевающие девочки в компанию не набивались и не напоминали лишний раз о себе, опасаясь быть навязчивыми. Юридические же первокурсницы, впрочем, и первокурсники тоже, в основной своей массе представляли усердно пробивающих себе дорогу лбом настырных провинциалов. Были они старше и возрастом и опытом далеко недетской жизни, вульгарны и мало отесаны, но с непомерными аппетитами, скорее отталкивали, чем вызывали на более близкие отношения. Зрелые и дальновидные девицы, само собой, не раз делали попытки окрутить богатенького сыночка с жилплощадью и благами, но не имели успеха. Не столько, правда, в силу Мишиной неиспорченности, сколько из-за его природной брезгливости ко всему грубому и выходящему за рамки его круга. Для необязательных, одноразовых связей легче легкого было подцепить кого-нибудь на приличной дискотеке, не обязательно даже называясь по имени.
Блатных, попавших на престижный факультет прямо со школьной скамьи, в Мишиной группе случилось мало. Сойтись же на дружеской ноге разборчивый парнишка и вовсе смог с одним единственным раздолбаем, Максимом Бусыгиным, бывшим, по слухам, внебрачным сыном чуть ли не самого Медунова. Макс ходил за ним хвостиком, но не мешал, а как бы создавал фон присутствия, учился из рук вон плохо, чем выгодно оттенял собственные Мишины успехи. К тому же Максим ни в каких проявлениях не интересовался женским полом, оттого не ходил и в конкурентах, хотя и посещал с охотой злачные места. С окончанием студенческой учебы пути-дороги приятелей разошлись: Миша отправился на нагретое заранее Небабой место, Макс отбыл в курортный город Сочи, где таинственный влиятельный отец устроил непутевому сыночку непыльную работку в новорожденной налоговой инспекции. Впрочем, Бусыгин не был свиньей, отметив с другом свое убытие шумно и щедро, а после прислал и адрес сочинской квартирки, предусмотрительно купленной сыночку все тем же загадочным папашей. На случай отпускного визита или иных жизненных осложнений. За что впоследствии Михаил его не раз мысленно благодарил.
Адвокатский статус Миша получил в свой черед и без проволочек и был зачислен по распоряжению Небабы в штат сильно преуспевшей за эти годы "Зеленой волны". Фирма к тому времени успела обрасти филиалами, дочерними предприятиями, заглотнула и изрядный кусок портового пирога. Кроме Миши, "Волна" имела в своих сомкнутых рядах не одного адвоката и консультанта, но и Мише работы хватало, тем более с его протекцией в лице уважаемого Георгия Николаевича. Хотя поначалу на его долю больше перепадала разная мелочевка, как то: ношение охранными службами незарегистрированных огнестрельных изделий, попадания сотрудников в нетрезвом виде в "обезьянник", сопровождавшиеся обычно скандалами в ресторанах и выплатами ущерба и многие подобные неосновательные вещи.
Впоследствии, приглядевшись к обстоятельному пареньку, его непосредственный шеф, Аркадий Гаврилович Никитенко, возглавлявший во всей полноте юридическую службу компании, стал поручать Мише и по-настоящему ответственные дела. В некоторых из них Мише приходилось идти и на мировую с собственной совестью, но в демократической, кровавой неразберихе трудно было судить, кто именно прав, а кто виноват. И если Мишиного клиента брали с полными карманами кокаинового порошка, то не известно еще, не подкинули ли отраву сами милицейские радетели по просьбе недоброжелателей благоденствующей "Зеленой волны". Больше всего хлопот Мише Яновскому доставлял с завидным постоянством пользовавшийся его услугами некто Карен Суренович Налбандян. Официально в бухгалтерских списках "Волны" Карен Суренович значился заместителем генерального директора по общим вопросам, имел шикарный офисный, с пышногрудой секретаршей кабинет, но не имел никакого видимого конкретного дела. Какую действительную и теневую роль играл в делах компании господин Налбандян, Миша предпочитал не выяснять, тем более что и генеральный директор "Волны" бывший крайкомовский товарищ Мамурин побаивался своего общего заместителя, имевшего ко всем своим прелестям еще и крайне взрывной, непредсказуемый характер.
Однажды, звездной летней ночью, Миша Яновский был срочно поднят с постели и вызван по звонку. Благо для разъездов имелась уже заслуженная восьмая модель отечественных "Жигулей". Так что в головной офис "Зеленой волны", занимавшей в гостинице "Центральная" полный этаж, исполнительный адвокат прибыл, по ночному беспробочному времени, уже через пятнадцать минут. В генеральском кабинете поджидали его сумрачные Мамурин и Никитенко, присутствовал и натянуто беспечный думский заседатель Небаба. Он и обратился первым к Мише:
– Здравствуй, здравствуй, соколик наш, – запричитал, вставая навстречу, Небаба, и, оборотясь к компаньонам, обнял Мишу – весь, весь в покойного отца, светлая память Валериану, так же, чуть что, только позови! Спешил на помощь… Ах, Карен, Карен, как же тебя угораздило!
– Миша, с Кареном Суреновичем опять проблема. На этот раз очень и очень серьезная, – начал было объяснять Мише причину ночного подъема Никитенко, но тут вновь вступил Небаба:
– Карен, душа человек! Но вспыльчив, вспыльчив! Такой чувствительный и к самой малюсенькой несправедливости. Горец, что поделать, святые понятия о долге, чести, – Георгий Николаевич даже сделал вид, будто утирает набежавшую слезу, – говорил я ему. Не раз говорил: смотри, доведет тебя гордость твоя до лихой беды. С его-то характером! И, надо же, как в воду глядел.
– Погоди, Жора, сейчас не до панегириков, – перебил излияния Небабы генеральный, – надо срочно Карена из кутузки хоть под подписку, а вытаскивать. Пока он там со своей гордостью дров не наломал. Пусть Мишка с Аркадием дуют по-быстрому в ментовку. Дежурный следователь уже там. Его предупредили и, уверен, нам пойдут на встречу. О Кареновских подвигах, Аркадий, просветишь парня по дороге. И вот вам наличные на самый крайний случай.
Мамурин кинул на стол увесистую пачку портретов Бенджамина Франклина. Аркадий Гаврилович проворно сгреб ее в свой объемистый портфель и потянул Мишу на выход. Машина, разъездной представительский "Мерседес" уже ждала у центрального гостиничного подъезда. По пути в милицию Никитенко коротко обрисовал Мише всю непростую ситуацию с гордым карабахским горцем Налбандяном.
Выходило, что взяли Карена Суреновича на трупе, при попытке, якобы избавиться от оного. Мертвое тело принадлежало, однако, не бритоголовому, неуважительному отморозку, а несовершеннолетней девчушке тринадцати-четырнадцати лет, изнасилованной и зверски растерзанной. Патруль был вызван бдительным сторожем бывшего совхоза, а ныне коммерческого хозяйства "Солнечный", растревоженного светом мощных фар и непонятной возней в подначальной ему лесополосе. Хорошо, что еще в отделении дежурил умный капитан, заглянувший в документы и визитные карточки задержанного, и, в справедливой надежде на вознаграждение, связавшийся с Мамуриным.
Сам Аркадий Гаврилович в виновность Карена Суреновича ни на грош не верил, в чем убеждал и Мишу. Конечно, слов нет, Карен жуткий бабник и гуляка, но чтоб такое..?! Да и зачем ему? Карен, все же, человек с понятиями. Опять, наверняка, влез не в свое дело, или, что хуже, бросился выручать на свой страх и риск очередного сомнительного приятеля, а, может и вовсе, оказался в лесополосе случайно. Но Карен Суренович, по сути, мужик неплохой, к своим отзывчивый, к друзьям безотказный, так что надо непременно выручать. Говорить в милиции в основном должен будет Миша, а он, Аркадий Гаврилович, поможет и поддержит, оставаясь на крайний случай тяжелой артиллерией. Денежные расчеты Никитенко также брал на себя.
Миша сначала просто опешил от услышанного, но, внимая разумно журчащему Никитенко, быстро пришел в себя. В том, что с Кареном произошло очередное недоразумение, Миша не сомневался. Охранительная "крыша" и связанные с ее функциями неурядицы, без которых во времена перемен не выживет нормальное, солидное предприятие, это одно, но грязное убийство ребенка – совсем другое. Миша Яновский даже в мыслях не мог допустить, что он, с детства воспитанный в идеалистических комсомольских понятиях, мог якшаться и оказывать профессиональные услуги последнего разбора подонку. И адвокатская этика и преданность интересам любого клиента не играла здесь никакой роли. Готовясь с университетской скамьи защищать людей, Миша подсознательно имел в виду лишь категорию несправедливо униженных и оскорбленных властью граждан. Тем паче, что изменившаяся до неузнаваемости власть растеряла последние, жалкие крохи справедливости и законности. Нынешняя судебно-следственная водица и подавно была мутной, но все же Мише приходилось ловить в ней рыбу и надеяться на будущее очищение родного юридического пруда. Брать под свое заботливое крыло оголтелых уголовников Миша и в случае торжества коммунистической морали отнюдь не собирался. Потому и принял за исходную убеждение в полной и абсолютной невиновности Карена Суреновича в страшном и мерзком преступлении.
Господина Налбандяна в рекордно короткий срок удалось высвободить под подписку. Задержание подозреваемого возле криминального трупа вовсе не доказывает, что пойман именно убийца, убеждал Миша благожелательно слушавшего его следователя. Сам же Карен Суренович громко вопил о беспределе и благих намерениях, когда он, уважаемое в городе лицо, остановился из сострадания у лежащего на обочине тела, попытался оттащить девочку с дороги для оказания помощи, не подозревая, что та давно мертва. И вот теперь он, господин Налбандян, страдает из-за собственного глупого альтруизма. Миша договорился с ответственными начальниками о безусловной явке своего клиента в суд для дачи свидетельских показаний и пожелал скорейшего раскрытия ужасного дела. Никитенко и Карен тем временем забирали со стоянки арестованный "Лексус" последнего, не обойдя кого надо и вознаграждением. Инцидент казался исчерпанным.
На следующий день Мишу вместе с его подзащитным, оперативно переведенным в свидетельское достоинство, попросили присутствовать на опознании, а также подписать протокол, где и при каких обстоятельствах господином Налбандяном был обнаружен труп несчастной девочки. Попритихший и будто даже пристыженный Карен без возражений согласился ехать.
В морге уже собрались оперативники и родственники погибшей. Мать и отец Оли Лагутенко и ее старшая сестра стояли отдельной группкой, словно отгородившись ото всех молчаливой завесой горя. Карен Суренович, однако, подошел к отцу Оли, и виновато заглядывая в его грубое, усатое лицо, заговорил, отчаянно жестикулируя, что ему жаль, но не смог помочь его дочери, слишком поздно он обнаружил Олю, и пусть его простят за это и примут соболезнования и помощь, если нужна. Лагутенко в ответ только безнадежно махнул рукой, словно благодарил, но и просил оставить его в покое. Карен, вздыхая с акцентом о злодейке-жизни, отошел.
Карен Суренович подписал все требуемые от него бумажки, не протестовал и против экспертизы на его счет, чем совершенно успокоил Мишу. На своего адвоката лихой Карен не взирал более свысока, словно на рассыльную шестерку, каких немало крутилось под его ногами, обращался к Мише уважительно, будто отдавая должное его знаниям и умениям, без которых ему, Карену Суреновичу, могла и вовсе случиться крышка.
Экспертиза прошла гладко, без неожиданностей, смыв с благородного Карена последние темные остатки подозрений. Понадобиться следователю господин Налбандян мог теперь только в случае поимки мерзавца-насильника, что ныне откладывалось на неопределенный срок. Миша и сам прекрасно знал, что из подобного "глухаря" шубы не сошьешь. Разве что мирному городу не повезет, и зловещее убийство еще вдруг повториться.
Тем бы дело и кончилось, и жил бы Миша Яновский да поживал, рос бы в деньгах и карьере, по мере возможностей оберегая в чистоте принципы и устремления, да вышла ему незадача. А началось все в одно прекрасное солнечное утро с одного неожиданного и неприятного визита. Случился он в воскресный выходной.
Съездив с матерью за продуктами на колхозный рынок, местную, обильную достопримечательность, Миша, поставив "восьмерку" в гараж, направлялся к своему подъезду, когда чей-то робкий голос тихонько окликнул его по имени-отчеству откуда-то сбоку. Обернувшись на зов, Миша единственно обнаружил совершенно ему незнакомого паренька лет семнадцати, который посмотрел на него так, словно испрашивал у Миши разрешения подойти. Заинтригованный Миша, однако, подошел к нему сам, одновременно оценивая и разглядывая возникшую перед ним смущенную личность. Типичный тинэйджер, в меру накачанный и обвешанный примочками, но мордашка деревенская, без намека на интеллигентность, и руки рабочие, с въевшейся грязью под ногтями, симпатичный, но чем-то очень встревоженный. Миша заговорил с мальчишкой первым:
– У тебя ко мне дело?
– Да, Михаил Валерьянович, только я не хочу тут на людях трепаться, – огляделся вокруг себя парень, словно обращая Мишино внимание на многолюдье любопытствующего двора.
– А, собственно, откуда ты знаешь, кто я такой? – подозрительно напрягся Миша, но тут же получил разъяснение.
– Да дядя Тимофей сказали, что Вы ихний адвокат, – и, увидев на Мишином лице стойкое непонимание, паренек снизошел до подробностей, – ну, Оли Лагутенко родной дядя. Он Вас в морге видал.
– И что же, у тебя от него поручение? – не зная, что и подумать, спросил Миша паренька.
– Нет, я сам пришел, – тинэйджер выжидательно замолчал, словно прикидывая, стоит ли ему продолжать. Потом, видимо, решив вопрос положительно, заявил, глядя Мише в самые глаза, – это Карен Лельку изнасиловал и убил. Я точно знаю.
"Шантаж" – это было первое, что пришло в тот миг внезапного признания Мише Яновскому на ум. Взяв жесткой рукой паренька за локоть, Миша почти силой оттащил его в укромную тень раскидистой дворовой яблони, после чего взял быка за рога.
– И ты, конечно, свидетель! И доказательства имеешь? А не имеешь, так будет лишний шум. Короче, сколько ты хочешь? – презрительно и уничтожающе холодно спросил Миша.
– Да Вы что? Да ничего я не хочу! Я с Лелькой дружил, и родители наши в одном доме живут. Думал, вот мне невеста растет, а тут этот гад! – выкрикнул Мише в лицо парнишка, обижено и отчаянно, но не заплакал, а только сжал кулаки, – Мне говорили, Вы человек, а Вы…?
Мише стало погано. Не столько от упреков расшумевшегося паренька, сколько от мерзкого, неотвратимого ощущения, что он, Миша Яновский, только что вляпался в жуткое дерьмо. Если парнишка говорил правду, а недобрая интуиция подсказывала Мише, что это именно так, то, что бы он далее ни предпринял, вони и гадости хватит с головой.
– Перестань орать. Раз пришел по делу, дело и говори. Да не здесь, пошли на угол, в кафе. И сопли утри, – Миша потащил вновь оробевшего паренька в "Бабочку", безобидную летнюю пивнушку в квартале от дома.
Затребовав пива на двоих, Миша в молчании дождался заказа и, едва лишь отошла девчушка-официантка, приготовился слушать:
– Ну, давай, Штирлиц, колись. Да, чур, не врать!
Парень врать и не собирался, обстоятельно и подробно излагая Мише суть происшествия с Олей Лагутенко, полностью оправдывая самые худшие Мишины ожидания. Мише, по мере продвижения повествования, становилось все гаже и гаже, и было от чего.
По словам Петрухи, как оказалось, звали нежданный Мишин перст судьбы, в тот окаянный вечер Оля с подругой отправились на дозволенную ежесубботнюю дискотеку. А Олина мама, как обычно, подрядила Петьку с друзьями встретить и сопроводить дочку с подружкой до дома по причине позднего времени. Дело знакомое, сам Петюня к танцам равнодушный, в просьбе не отказал, все же соседи и почти что родные люди. Вот и подгребли они с Малаховым Антошкой к "Витязю" часиков этак в десять. Дольше Олина мама дочурке выплясывать не позволяла, требовала дисциплины. Только на этот раз покладистая обычно малолетка вдруг заартачилась и наотрез отказалась следовать в кильватере за Петькой. Может, с парнем каким перемигнулась, а может так, от подростковой вредности, кто ее знает, а только Олька от него сбежала. Оставив Антошку с подружкой, Петюня бросился ловить девочку по переполненному потной молодежью залу. Догнал, схватил за руку, потащил к выходу, но на улице Оля снова вырвалась и, показав ему лопатой язык, побежала за угол к дороге. Петька выматерился отчасти вслух, отчасти, для культурности, про себя, но делать было нечего, пошел вразвалочку за Олькой к проезжей части, ведущей к универмагу "Фестивальный". А Оля уже стояла у края тротуара и призывно махала машинам рукой, в свете фонарей ясным вечером Петька ее хорошо видел. Но не успел он подойти, как возле девочки тормознула шикарная тачка, распахнув дверь почти на ходу, Олюня, дурочка, прыгнула внутрь, и сверкающая махина, газанув, умчалась. Подбежавший Петька сумел углядеть только марку и крутой номер машины, такой же, как у Карена – "777", дураком надо быть, чтобы не запомнить.
Но и Петюня, как человек порядочный, не хотел подводить глупенькую соседку. Та еще не оберется скандалов, когда воротиться домой, возможно, что и к утру. Повезли Ольку, конечно, не мультики глядеть, ежу понятно, но такое с девочками в наше время случается сплошь и рядом, никуда не денешься рано или поздно. Хорошо еще, если парень в машине один, а то будут трахать до посинения всей бригадой, но, может, хоть с преждевременным опытом добавят дурочке и ума. А уж что Олька будет врать мамаше, и особенно лютому в смысле добродетелей папаше, пусть выдумывает сама. Петька будет молчать в тряпочку, чтобы не подставляться.
Вернувшись к Малахову, уже потихоньку щипавшему Олькину подружку, Петька сообщил, что Оля сбежала от него с какими-то встречными девчонками вроде бы из ихней же школы, он толком не знает, и крикнула, чтобы шел домой без нее – маме домой она позвонит сама. Что же, ее проблемы, закивала подружка, полностью сосредоточившая кокетливо-детское внимание на мускулистом, накачанном Антошке.
Ту же версию Петька рассказал и Олиной маме. Ирина Ильинична, сначала страшно заругалась, потом, сообразив, что бедный посыльный ни при чем, извинилась перед пареньком и отпустила с миром, добавив при этом, что покажет родимой доченьке, где раки зимуют, когда та возвернется в отчий дом. Петька в глубине души посочувствовал несовершеннолетней своей соседке, но в голову ничего такого брать не стал, к тому же были у него и свои, вечерние дела в дворовой беседке.
Тревожный, долгий звонок раздался в их квартире около шести утра. Одетый странно в семейные трусы, но в кроссовки и рубашку "поло", на пороге стоял дядя Федя Лагутенко, Олин отец. Вид у него был дикий и безумно-недоуменный, словно его простецкие, бесхитростные мозги, получили непосильную для них задачку и оттого перегрелись. Дядя Федя и донес до Петькиного семейства страшную беду, что доченька его, ненаглядная Оленька, лежит, убитая в городском морге.
При виде слез и потрясений обеих семейств, сто лет проживших на одной площадке дверь в дверь, а для юга это значит ого-го как много, и ставших, наверное, уже просто одной большой семьей из двух отделений, Петька, все же, ничего не выдал и ни о чем им не рассказал. Потому что опешил и даже испугался. И позже, когда насели менты, тоже помалкивал, словно набрал в рот воды, особенно, когда увидел, как с их милицейского двора отъезжает Карен в той самой шикарной тачке и с теми же номерами – "777".
– А чего же ты, бравый солдат Швейк, ко мне-то теперь приперся? Шел бы в милицию и сдавал своего Карена? – зло, до ненависти, спросил паренька Миша, огорошенный и изгаженный Петькиным повествованием.
– Я – к ментам? Ну нет, ищи дураков! Я тогда и до вечера не доживу, тут же все схвачено, вы сами знаете. А у меня тоже папанька с маманькой имеются, и младший братишка – соплестун, – заявил ему безапелляционный Петька и заглянул уничтоженному адвокату в глаза, – а про Вас хорошо говорят, и про семью вашу.
– Кто говорит? – уже обречено и без интереса спросил Мишка.
– Как это кто? Во дает!.. Ну, да Вы, верно не помните. А вот мама Ваша, она наверняка, – и, наткнувшись на полный непонимания взор, бессильного уже говорить адвоката, Петюня пояснил, – Олькин дядька Тимофей у Вас частенько шабашил. То плитку переложить, то сантехнику сменить, то да се. Он и моего папаньку брал, коли работы много было, чтоб и тот денежку подхалтурил, тоже мастер на все руки. И всегда про Вашего папаню покойника говорил, что такого справедливого расчета нигде, окромя как у Валериана Степановича, больше не видал. И все семейство Ваше нам нахваливал и в пример приводил: дескать, равняйтесь, чувырла неумытые, на людей порядочных и культурных, вот, мол, как надо жить!
– Ну, а от меня чего ты конкретно хочешь? – поставил Миша страшный вопрос ребром, но и без Петьки уже знал на него ответ.
– Да я тут конкретно подумал и решил про Вас: раз Вы Карена этого, мразюку, защищаете, значит, не знаете про него всего, а то ни за что его бы отмазывать не стали. Ведь не стали бы?
– Не стал бы! Вот тут ты в точку попал, черт тебя задери, – и Мишка подступившие к нему чувства выразил в мощном ударе кулака об кафешный столик. Кружки подпрыгнули, задребезжали, пара посетителей обернулась, но и только. Мало ли какие могут быть у людей дела.
– Вот я и говорю! За Ольку отомстить только Вы и можете. И, чтоб гада этого посадить. А я, если Вы скажете, в свидетели запишусь. Вместе и помирать не страшно. За компанию, вон, и жид удавился.
– Помирать еще никто, слава богу, не собирается. Но и ты, малец, смотри – без самодеятельности. Скажу – сделаешь, а сам ни-ни! – укоротил Миша на всякий случай Петюню, – а сейчас беги-ка ты, буревестник, домой. И не ходи ко мне больше, понадобиться, я сам зайду.
С этого дня своего будущего краха и последующему за ним возрождению из осевшего пепла, подобно Фениксу, Миша Яновский решился отмыть себя от дерьма раз и навсегда, чего бы это ему не стоило. Для начала Миша собирался наведаться к криминалистам и кое-что по возможности разнюхать и уточнить. Но покинул он гостеприимных экспертов через пять минут своего пребывания, задав один единственный вопрос и получив на него щемяще роковой ответ. А спросил он всего-навсего сотрудника, проводившего экспертизу по делу Лагутенко, Татьяну Аркадиевну Андронову. На что ему сообщили коллективно хором, что Танечка сегодня в отгуле, но обо всем он может легко справиться по телефону, или, что еще проще, связаться с ее отцом, который, кстати, работает в одном с господином Яновским учреждении, то есть в "Зеленой Волне". Звать же отца Танечки Аркадий Гаврилович Никитенко.
Уничтожающая ясность положения лично для Миши уже не требовала других доказательств. В липовой достоверности сфабрикованного заключения сомнений тоже не осталось. Возникал насущный вопрос, что же делать дальше? В том, что он, Миша Яновский, должен разоблачить гнусного убивца Карена Налбандяна, была для молодого адвоката единственная ясность. И ни малейшей тени мысли, что молодой адвокат лезет в не свое, смертельно опасное дело, даже не возникло в правильной Мишиной голове. Мучило его лишь незнание с чего, собственно, нужно начинать.
Поразмыслив, Миша пришел к опрометчивому выводу, что начинать лучше с прокуратуры, причем с верхушки, благо кое-какие связи у него за время работы в "Зеленой Волне" уже имелись. А уж после, поставив в известность кого следует и, обойдя таким образом продажных ментов, Миша направиться прямо к Небабе со своими разоблачениями Карена и преступно злокозненного Никитенко.
Предварительно созвонившись с шишкой из прокуратуры, Миша договорился о встрече в верхах, и на следующий день, обдумав свою обвинительную речь, уже сидел в начальственном кабинете. Принят был он дружески, с ожиданием прибыльных просьб из представляемой им фирмы, усажен ласково и оделен поднесением кофе и прохладительного напитка. Но осанистого заместителя городского прокурора ожидало жестокое и невиданное доселе разочарование. И боязливое недоумение тоже присутствовало в настроениях начальничка. Если пошла подземная возня, и кто-то старается убрать его руками авторитетного Карена, то это еще полбеды, а если таким хитрым способом через дружественных коммерсантов подставляют его собственное кресло, то это худо совсем. Да еще неизвестный свидетель, пока не названный засланным к нему казачком, но, не дай бог, толково подготовленный заранее, указывал на серьезность обстановки. Простой же факт человеческой, наивной глупости был даже не принят чиновником в рассмотрение, как и существование еще не вымерших представителей расы борцов-идеалистов, действующий исключительно в мистических и мифических общественных интересах. Посему выслушан Миша был на всякий случай благосклонно, начальничек даже посокрушался и поохал за компанию в особенно злодейских местах повествования и обещал немедленно принять меры. Сам же прокурорский заместитель никаких телодвижений делать не собирался, пока досконально не разъяснит заданную ему головоломку и окончательно не разберется, откуда ветер дует.
Обнадеженный Миша тем временем отправился разыскивать Небабу. Личная секретарша милостиво проинформировала отмеченного ею молоденького адвоката, что Георгий Николаевич отправился с визитом как раз именно в "Зеленую Волну", где и собирался совместно отобедать. Когда Миша прибыл в "Центральную", обед уже имел место завершиться, и Небаба сибаритствовал с сигарой в уютной с шиком зале для отдохновения руководства.
Туда и пожаловал Миша, предварительно испросив позволение для безотлагательной беседы. Лучшего случая и представиться не могло: Небаба был один, к тому же сыт и, посему, расположен слушать не перебивая, да и послеобеденное благодушие не позволит Георгию Николаевичу немедленно начать метать громы и молнии и предпринимать необдуманные шаги в отношении преступных коллег, замаравших светлое имя его водной фирмы.
Вышло, пожалуй что, почти как предполагал Миша, но именно что почти. Небаба действительно его не перебивал, а только по ходу повествования все больше и больше по-нехорошему мрачнел, и уж совсем по-волчьи отчего-то глядел на своего протеже. А когда Миша дошел до описания посещения им прокуратуры, произошло и вовсе невероятное. Георгий Николаевич внезапно побагровел и, отбросив недокуренную сигару прямо на велюровую подушку дивана, тут же завонявшую гарью, вскочив с неожиданной для его лет прытью, набросился на Мишу. Схватив обалдевшего адвоката за воротничок рубашки обеими руками, Небаба протащил Мишу через всю немалую комнату к окну, тряся его за грудки с оголтелой яростью. При этом Георгий Николаевич брызгал Мише прямо в лицо цвыркающей слюной и орал:
– Гаденыш! Щенок! Крапивное семя! Пригрел паскудину на груди! Да я тебя!… Живым отсюда не выпущу!
Потом резко оттолкнул, отбросил от себя Мишу, мешком осевшего на подоконник, и ринулся к телефонному аппарату:
– Быстро мне сюда Никитенко! И разыщите немедленно Карена!… Немедленно, я сказал! – и уже обращаясь к Мише, Небаба злорадно выплеснул, – Допрыгался, гнида!… Счас мы тебе кишки выпустим и ноги повыдергаем, тварь неблагодарная!
Но Миша не стал дожидаться осуществления озвученной угрозы, он уже успел осознать, что крепко влип, и потому взял ноги в руки. Как выскочил на бегу из гостиницы мимо встревоженных сотрудников и не предупрежденной еще видимо охраны Миша Яновский не помнил. В себя он смог прийти только где-то на шоссе в двадцати километрах от города, обнаружив, что сидит в мчащейся сломя голову собственной машине. Инстинкт самосохранения, спасая его, сработал сам по себе и продолжал гнать вперед и вперед. И, все же, следовало остановиться и хотя бы немного подумать. Миша с усилием затормозил "восьмерку" и тихо съехал на проселочную боковушку.
Ему хватило и пяти минут, чтобы понять – в город возвращаться нельзя, а жизненно необходимо оставить между собой и краевым центром по возможности больше километров. В бумажнике имелось несколько сотен долларов в их рублевом эквиваленте, бак был почти полон, документы тоже присутствовали в полном комплекте. Однако следовало поторапливаться с принятием решения, пока заботливые милицейские друзья "Волны" не перекрыли предусмотрительно дороги. Лихорадочно соображая и одновременно перебирая бессмысленно бумажки и визитки, Миша наткнулся и спасительно зацепился глазами за неожиданно выползший затертый клочок с Сочинскими координатами бывшего студенческого приятеля Макса. Примет ли его Бусыгин даже при крутом таинственном покровительстве было неизвестно, но и выбирать как раз было не из чего. И через минуту "восьмерка" уже глотала пыль в южном направлении.
Поздно ночью, измотанный страхом и нелегким горным серпантином Миша звонил в богатую дверь Максовой Сочинской квартиры. Мише было уже наплевать даже на то, что его вычислили и откроет ему бандитская рожа со взведенным пистолетом в руке, лишь бы открыли и все, наконец, хоть как-нибудь закончилось. Но дома был мирный Бусыгин, он, собственно, и предстал пред Мишей на пороге. И даже совершенно по-детски обрадовался и кинулся обнимать и обслюнявил Мише всю щеку. Но Миша был рад и слюням.
Квартирка оказалась двухкомнатной и уютной, добротно обставленной, но с налетом легкой и заботливой розовой девичьей руки. Что предполагало наличие по меньшей мере подружки и несколько осложняло дело. Предположение оказалось верным с точностью до наоборот. Заботливая рука и впрямь была, да только не розовая, а нежно голубая. Звалась она Сашком и была без тени смущения представлена гостю. Миша же был готов признать Макса хоть зоофилом, лишь бы тот не прогнал его поутру, узнав обстоятельства, приведшие давнего приятеля в его достаточный дом.
Поутру, за щедрым южным завтраком, Миша поведал "супругам" свою печальную историю. Макс охать и ахать не стал, а тут же развил бурную деятельность по спасению потерпевшего. У Миши сразу же отлегло от сердца, и отчасти вернулась прежняя уравновешенность и рассудительность. Прежде всего, заявил Макс, нужно спрятать машину, чтоб не отсвечивала. Натруженная "восьмерка" все еще куковала под окнами, но была настолько пыльной, что и сам черт не разобрал бы ни ее номера, ни цвета. А Сашок уже отбирал у Мишки ключи и собирался идти определять тачку в зимний Бусыгинский гараж, который по летнему времени все равно пустовал, да для надежности еще хотел свинтить с "восьмерки" паленые номера. Макс же велел Мишке сидеть в квартире и не высовывать из нее носа, пока он, Макс, тишком не разузнает, как обстоят дела на Мишкином фронте. Миша и сам был готов сидеть за спасительными стенами хоть до второго пришествия, как угодно, лишь бы еще какое-то время пожить на белом свете. А со временем, как говориться, либо эмир умрет, либо ишак сдохнет. Каких чудес только не бывает. А потому Миша не терял надежды.
Сидеть пришлось долго, аж до самой поздней осени. Озверевший Карен метался от Кавказа до Ростова, ища следы сгинувшего бесследно предателя и обидчика. За это время Миша успел научиться отменно готовить, разбираться в философии Канта, Шопенгауэра и Декарта, труды коих невероятным образом были представлены в Максовой библиотечке, а так же подучить английский в переводах букинистического издания Диккенса со словарем. После чего ишак все же сдох. Карен взорвался в своей шикарной японской машине от банальной "лимонки", заботливо брошенной в его приоткрытое для форсу окно свидетелем Петюней. Остался только эмир. Но Небабе, в связи с преждевременной кончиной крыши хватало своих проблем.
Тогда Миша опасливо и осторожно стал выползать на свет. Который, если говорить откровенно, он бы и в глаза не видел. Как и то большинство "честных" и "уважаемых" людей, на нем живущих. Макс и Сашок были о колыбели человечества примерно схожего мнения. Особенно Макс, возбужденно проповедовавший идею вооруженной организации всех голубых, и утверждавший, что будь они тренированы и сплочены, как те же "афганцы", хрен бы их, то есть гомосексуалистов, оскорбил или хоть пальцем бы тронул быкообразный и пошлый подонок. И тогда они с Сашком плевать хотели бы на окружающий их тошнотворный мир.
Миша еще не знал, а жалостливые его друзья не хотели пока говорить, что мама его еще летом скончалась в своей квартире от инфаркта, случившегося через неделю после его отъезда, когда, выбив дверь, к ней ворвался матерящийся и размахивающий пистолетом Карен со своими кавказскими дружками. Тем более что Карен уже прибывал в иных, более знойных мирах, и этот счет, увы, был закрыт. Миша же в сопровождении Макса и Сашка иногда выбирался вечерами в тихие кафе, иногда одиноко бродил по городу. Надо было хоть как-то определяться с работой и жильем и не обременять гостеприимную Максову шею, а поиметь совесть. Но куда было идти? Без денег, с волчьим билетом и отвращением к жирным, продажным хапугам, перед которыми все равно придется ломать шапку, чтобы худо-бедно прокормиться. Порой Мише хотелось удавиться где-нибудь в ботаническом саду на экзотической березе, но он пересиливал себя как мог и продолжал бесцельно думать и бродить по зимнему и опустевшему городу.
Пока однажды, в холле "Жемчужной", куда он забрел посидеть и выкурить в тепле и безветрии сигарету, к нему не обратилась хорошенькая молодая женщина. Она спросила прикурить и откинулась рядом в кресле с пестрым журналом на аппетитных коленях. Женщина забавно и вслух комментировала глянцевые картинки, обращаясь и к Мише, что рассмешила его, и Миша, сам не заметив как, вступил с ней в разговор. Женщина представилась ему как Ирена, Миша тоже назвал себя. После получасовой беседы, посчитав Ирену достаточно глуповатой и неискушенной, Миша, не зная зачем, пожаловался на безработицу и неустроенную жизнь, назвавшись юристом с определенными проблемами. Ирена не то, чтобы заинтересовалась, но пожалела его, и предложила встретиться завтра здесь же в холле и поболтать еще, если ее компания Мише не надоела. Миша еще день жалел о своей ненужной откровенности со случайной незнакомкой, но к вечеру, гонимый жизнью и тоской прибрел в "Жемчужную".
Так, спустя какую-нибудь неделю, он и познакомился с хозяином и обрел в своей бесконечной теперь уже жизни второй, главный и подлинный смысл. Он переехал от Макса в другой, не менее гостеприимный дом, где уже не ел даром хлеб, а служил честно и нужно, не за страх, а за совесть. А когда назрела нужда создать настоящий, боевой отряд, Миша принял поручение на себя. Тогда-то он и возник вторично на пороге Максовой квартирки. И предложил им с Сашком ту власть и силу, о которых они так безнадежно и упоительно мечтали.
ГЛАВА 9. НИНДЗЯ
До самых ноябрьских праздников, ныне выражающих непонятное народу единение эксплуататоров с эксплуатируемыми, в общине вампов все было более или менее спокойно. Хлопотных заказов не попадалось, и потому с мелкотравчатыми поручениями справлялись Макс с Сашком. Занимались они скорее морально-прикладным внушением забывчивым вассалам, возвращая их по поручению заказчиков на стезю долга. Входили сюда и мелкие гадости в виде неожиданно сгоревших складов или неведомо как попорченного личного, ценного имущества. Иногда для разминки и закрепления неустанно получаемых боевых навыков с ними отправлялась на вылазки и Ритка. Отношения ее с Яном Владиславовичем постепенно и плавно сходили на "нет", но Риту это обстоятельство довольно мало огорчало. Слишком уж напряженно и хлопотно, обременительно и тупиково складывались они для молодой девятнадцатилетней девушки. Хотелось романтики и цветов, прогулок и совместных застолий, роль же ученицы влюбленной в учителя, старательно тянущейся к недостижимому уровню оказалась со временем тягостной и мало перспективной. Хозяин, безусловно, оставался для нее персоной номер один, но перешедшей уже в небесный, божественный разряд, что позволяло восторгаться им, преклоняться и любить, не принося жертв и на расстоянии.
Тем более что рядом постоянно был Миша, которого теперь отнюдь не прогоняли, а скорее усиленно поощряли. Цветов Миша, правда, не дарил, но во всем остальном вполне соответствовал Риткиным желаниям. А главное – уделял ей все свое свободное от производственных хлопот время. Ухаживал Миша как-то даже трогательно и осторожно, словно боялся вспугнуть девушку. И оттого Ритке, давно уже неравнодушной к влюбленному в нее "архангелу", приходилось, посмеиваясь, брать инициативу в свои ручки. Хотя с совместным сексом она решила пока что повременить. Да и Миша ее не торопил, что тоже характеризовало его как ухажера самым лестным образом. Ритка же, несмотря на то, что со временем стала совершенно спокойно смотреть на периодические визиты в хозяйскую спальню мадам и Таты, но и своего законного места возле тела хозяина оставлять просто так не собиралась. Из глупого самолюбия или просто из желания в чем-то утвердиться и что-то доказать, Ритка, хоть и редко, все же стучалась в заветную дверь, но и понимала безысходную бессмысленность своих затянувшихся визитов. Делить же постель сразу с двумя любовниками отчего-то казалось ей безнравственным, по крайней мере, в отношении Миши.
Притихла, а, может, просто затаилась на неопределенное время и мадам Ирена. И тревожные пузыри из ее глубин не вырывались на тихую семейную гладь. Возможно, успокоилась и убедилась, что Ритка никакая ей не конкурентка, а уж Миша тем более не может заменить ее в хозяйской спальне. Что же, каждому свое, а Ян Владиславович справедлив и благодарен, и пока мадам к его услугам, в обиду ее не даст.
Миша же, а уж, конечно, и сам хозяин знали, что нынешнее затишье неотвратимо приближает бурю перемен. Только по роду своих деловых занятий они были волей-неволей осведомлены о подпольных течениях городского управления и предпринимательства. В воздухе устоявшегося Сочинского бизнеса внезапно задули тревожные ветры, что предполагало в скором времени массу сложной, квалифицированной работы и, как следствие немалый денежный приток. Началось все с визита главного теневого распорядителя местного танцкласса тузов, небезызвестного Шахтера.
Человек этот, худой, очкастый заморыш, с болотно-мертвенными глазами, в миру носил сложное имя: Иосиф Рувимович Гурфинкель, то есть являлся представителем не обиженного мозговой массой еврейского меньшинства. Но по имени-отчеству Иосифа Рувимовича звали только официально и только в глаза. Давно, еще с незапамятных, застойных времен за ним прочно утвердилось почетное, ныне действующее прозвище – Шахтер. Что означало невероятную по любым временам возможность достать и пробить, что угодно, от списанной боевой техники и государственных кредитов, до места на престижном кладбище и халявного зарубежного обучения. Этот остаток схлынувшей эмиграционной волны был всего-то сорока пяти лет от роду, полон хищных не иссякающих сил, а главное, сумел пересидеть мутные, зловещие времена первичного накопления, и не особенно засветиться. То, что он был все еще жив и богат, а не покоился под дорогой гранитной плитой, говорило явно в пользу его умственных способностей.
Еще в славные, брежневские времена, молодой выпускник-экономист, попавший правдами и неправдами на бухгалтерское место в Управление Гостиничного Хозяйства курортного города Сочи, ясно понял, что лучшим и самым выгодным товаром являются обычные денежные знаки. Свободные капиталы нужны всем: и карточным каталам и старателям-цеховикам, и мандаринным торговцам и гостиничным сутенерам. И если помещать кредиты с умом и под соответствующие проценты, и, что очень немаловажно, уметь охранять свои вложения, то разбогатеть можно без особого риска и достаточно быстро. С серым веществом и пронырливостью у Шахтера, тогда еще просто Ёськи-пижона, был полный ажур, а что до защиты коммерческих интересов, то кто может защитить их лучше, чем заинтересованная власть. Тогда Ёська стал добровольно стучать в КГБ. Инициативу комитетчики одобрили и оценили, а пройдошливый Ёська вскоре нашел в организации щита и меча не только сочувствующих, но и будущих подельников. Что ж, покойный отец его оказался как всегда прав: деньги нужны всем – и власть имущим и от оной власти страдающим. На том и стоял. И прорастал жадными щупальцами во все огороды местной жизни, тихо и незаметно оплетая заборы и важные калитки.
Но в любом российском бизнесе, как в советские и тем более постсоветские времена, было много не только грязи, но и крови. Тут уж всякий раз к дружкам в погонах не набегаешься, да и палка у них о двух концах. Чуть что, глядишь, и вышло боком. Да и не за всякие дела возьмутся, а мало ли какие дела могут быть у одинокого, беззащитного миллионера? Тогда-то и стал Шахтер тесно сотрудничать с одной темной конторой, возглавляемой неким Яном Владиславовичем Балашинским, то ли поляком, то ли чехом, черт его разберет, говорившим по-русски с легким, непонятным акцентом. И не пожалел, и был куда как доволен. Даже бесперебойной работой "Красот Босфора", чьи паромы исправными челноками возили наркоту, под неусыпным оком Шахтера, о чем не ведала и мадам Ирена, а знали только двое: сам хозяин и его верный "архангел".
Перед наступлением красных дней календаря Шахтер самолично заявился к хозяину. Что могло означать только одно – переговоры будут архиважными и архисекретными. Ни одному месту под землей или под водой не доверял Шахтер так, как абсолютному в плане консервативности кабинету Яна Владиславовича. Душой чувствовал нерушимую скалу сплоченности загадочной для него общины, но поджилками ощущая непоправимость открытия общинных тайн, предпочитал не вдаваться в выяснения. Ян Владиславович был проверен в деле не раз, и промашек у него не случалось. К тому же Шахтер на уровне первобытного инстинкта был уверен, что в чем-то он и таинственный, невесть откуда взявшийся иностранец, суть один и тот же человеческий тип, и потому всегда смогут найти общий язык и договориться. И еще давно, немного пошевелив мозгами, Шахтер понял: Балашинскому меньше всего нужен шум и лишнее внимание к его персоне. Что являлось для Шахтера идеальным вариантом, а вся подпольная контора – редким подарком судьбы.
И теперь, сидя в приятной кофейной полутьме, Шахтер, не таясь, излагал хозяину истинную суть своего дурного настроения:
– Засылали уже и выползков из своей ненаглядной столицы, поцелуй ее задницу, но мы их быстро спровадили, не доводя до греха. Да и чего с них взять – подневольные люди, ничего не решают, а как "попки": велено передать. Кусок здешний ой-ой как жирен. Даже для столичных глоток, чтоб им задавиться. Теперь хотят долю. Мэра Щукина, голубя нашего, тронуть не смогут – не дотянутся. Да и губернатор не даст. Здесь им не Москва – свои порядки. А крайним как всегда окажется вечный жид Гурфинкель. Но и он без боя сдаваться не собирается. С боем, впрочем, тоже. Так как, Ян Владиславович, окажете всестороннюю поддержку? Я за ценой не постою.
– Боитесь, что перекупят? Зря! – грустно усмехнулся хозяин, и посмотрел на умницу Шахтера так, словно тот был недоразвитым ребенком, – Даже Вы, не обижайтесь уж, купить меня и моих ребят не в силах. Вы нам только платите, а это, согласитесь, разные вещи. Мы работаем с вами, потому что лично Вы нас устраиваете, и, извините за откровенность, соответствуете нашим собственным планам и перспективам. С Вашими же столичными обидчиками нам не по дороге. Так что будем работать. Цена обычная.
– Вот это правильно. Это разумно и честно. Чем больше я узнаю Вас, милейший Ян Владиславович, тем больше Вы мне нравитесь. Дай бог, чтобы нам с Вами еще очень долго было по пути, – тут, однако, Шахтер прервал свой краткий панегирик и перешел на иной, умеренный тон, – Так давайте обратимся непосредственно к делу.
По словам Шахтера выходило, если доверять его безотказному чутью на неприятности и информационным каналам из столицы, что скоро в его заповедные леса собираются наведаться самолично лихие московские охотники. Тесно ли стало браткам в стольном граде, все же и он не резиновый, или же слишком благодатен оказался их собственный прибрежный уголок под мудрым руководством местных товарищей. А только чье-то криминальное всевидящее око оказалось повернутым в их курортную сторону. Потому, посовещавшись, собрались здешние воротилы под шахтерское крылышко, ища защиты в единении, и уполномочили Иосифа Рувимовича принять любые меры от непрошеных гостей, обещая полное послушание и финансирование на все время военных действий. Только бы выручил.
Через недельку-другую ожидалось и прибытие послов. Только приезжали на этот раз не плохо владеющие русским разговорным языком босяки-разведчики, а авторитетные товарищи, и не одни, а с надежной, охранной командой, прошедшей огонь и воду, и при необходимости превращавшуюся в страшный карательный инструмент. Переговоры с ними имели лишь два реальных окончания – либо полную капитуляцию, либо большую кровь, за которую впоследствии придется дорого платить, и дай бог расплатиться. Так что напрямую убирать делегатов было никак нельзя. Но Шахтер, поразмыслив, увидел и спасительную лазейку в нерушимой обороне москвичей, которая могла дать определенные шансы на выживание.
Поскольку местные, пусть и раскормленные с рук власти, не желали замечать грядущий передел, поскольку давно уже стали равнодушными к вопросу, от кого именно получать хлеб насущный, и постольку не собирались напрягаться и защищать нынешних своих кормильцев, то можно было бы тишком прикрыться их неблагодарным именем. Суть расправы и должна была состоять в том, чтобы залетные авторитеты были бы устранены таким образом, который бы указывал на высокий государственный профессионализм исполнителей. Хоть бы и на краевое ФСБ, достаточно откормившееся и обросшее возможностями. Другое дело, что после операции Шахтер однозначно получил бы от них по шапке, но здесь не Москва – полютуют, порастрясут, да и отпустят с миром. Вопрос упирался лишь в то, где найти соответствующих уровню исполнителей. Вот тут Шахтер и вспомнил о легендарных способностях пана Балашинского и его конторы. И просит не отказать.
– Не откажем. Ваше смещение – не в наших интересах. Можете не беспокоиться: заказ будет выполнен, – только и сказал хозяин, не собираясь добавлять что-либо еще.
– Что же Вы собираетесь делать? – спросил обычно нелюбопытный Шахтер, но на карте стояла собственная судьба, и поинтересовался, нарушив негласную традицию.
– Не думаю, что Вам стоит знать секреты нашего производства. Для Вашего же спокойствия, – мягко улыбнулся хозяин, но и дал понять, что более на эту тему не скажет ничего, – могу лишь обещать, что и на сей раз мы не подведем. А Вы знаете, чего стоит мое слово. Постарайтесь лишь достоверно узнать день и час их приезда.
– Да-да, конечно, можете рассчитывать на любую помощь. Прошу лишь обращаться лично ко мне, в этом случае минуя моих помощников, – Шахтер слегка расслабился и вытер изящным, шелковым платком вспотевший лоб, – эту операцию я желаю контролировать лично. Во избежание трагических недоразумений.
– Я тоже думаю, что так будет лучше. Вашим делом займемся немедленно, – хозяин поднялся с дивана, давая понять, что разговор подошел к концу, и желая проводить работодателя, – я свяжусь с Вами на днях.
– Заранее благодарю. Если нужен будет аванс – только скажите. И…, дай бог Вам удачи!
Сразу после ухода Гурфинкеля хозяин вызвал к себе Мишу. Мусолили задачку вдвоем до вечера, пока не созрел полноценный план. Мистический, оригинальный, требующий виртуозности исполнения. На следующий день совещались уже и втроем с мадам. В предстоящем кровавом спектакле ей отводилась, пожалуй, самая важная роль. Ритка же все время совещаний ходила слегка обиженной. Не известно на кого больше – то ли на хозяина, не отметившего Риту на сей раз высоким доверием, то ли на Мишу, которому статус страстного ухажера, однако, не позволил приоткрыть Рите завесу тайных переговоров. От досады напросилась идти со Стасом на очередную охоту. И пожалела: намерзлась за ночь, пока неунывающий охотник шнырял невидимкой по темным закоулкам, в поисках залетных алкашей и за все время не перемолвился с Ритой ни единым словом. Будто давал ей понять, что лучше бы сидела дома и занималась своими делами, а раз уж увязалась – терпи и не мешай. Тогда Рита переключилась на Макса с Сашком, усердно занялась с ними тренировками боевых навыков. Здесь ей были рады, но скучала в их семейной компании уже сама Рита. Но и идти к Тате на кухню было бы совсем унизительно.
Однако маяться Рите пришлось не долго. Шахтер, как и обещал, переправил хозяину всю необходимую информацию, касательно столичных клиентов, и делу был дан ход. Работать должна была вся боевая группа, включая и охотника. За несколько дней весь ход операции был тщательно отрепетирован, как и возможные действия в случае самых немыслимых затруднений. Ритка старалась наравне со всеми и с удовлетворением замечала, что и Миша и Ян Владиславович особенно отмечают ее понятливость и немалые способности. Конечно, жаль, что главный и самый ответственный выход остается за мадам, но Ритка все же пока только новичок и еще не раз сможет отличиться. К тому же неизвестно справится ли мадам, к примеру, на ее, Риткином месте. Ведь здесь нужны совсем иные навыки. Смущал Риту лишь тот соус страха, под которым должно было подаваться все блюдо. Ритка порывалась задать вопросы, но никак не могла найти подходяще уместный случай. Да только ясновидящий хозяин как всегда обнаружил ее маяту и пригласил для разговора. Ритка, не ходя вокруг да около, и выложила ему свои беспокойства.
– Не приходилось мне еще кого-то запугивать своим настоящим видиком. Ведь придется же раскрыться, Ян! – Ритка наедине позволяла себе называть хозяина просто по имени, и глупо, право, было бы обращаться по отчеству к тому, с кем долгое время делила постель. Но хозяин не возражал против легкой интимной фамильярности с ее стороны, – А вдруг кто-то выживет, мало ли? Ну, как в тот раз, с ментом? Представляете, какие "терки" пойдут? Оно нам надо?
– Во-первых, не "терки", а слухи или, если угодно, сплетни. Сколько раз можно просить выражаться литературным языком? Ей-богу, надо отдать тебя куда-нибудь учиться! Во-вторых, никто в живых не останется, не бойся. Досадная случайность с Крапивиным вообще была единственным случаем.
– А вдруг кто-то узнает? Представляю себе, что тогда будет! – настаивала Рита.
– Ничего не будет, уверяю тебя. Если кто-то узнает, даже, допускаю, если кто-то увидит собственными глазами, все равно не поверит. В худшем случае, решат, что это чей-то дурацкий розыгрыш. В лучшем же, просто отправятся к врачу с жалобами на галлюцинации.
– Почему это? Не все же кругом дураки, есть и умные люди, – не очень уверенно ответствовала Ритка.
– Вот умные как раз и не поверят. И потом, вспомни себя: у тебя уже зубы менялись, а ты все думала, что тебе голову морочат. В мое время, да, все было бы по-другому. Но нынешние смертные не верят в сказки. Они не верят даже в бога, хоть и обвешали себя крестами. Молятся только на деньги и прогресс, вещи еще более мистические и сомнительные, на мой взгляд.
– То есть мы по любому в выигрыше? Даже если нас и застукают, можно легко отовраться и объяснить все ну…, скажем, обманом зрения?
– Люди сами все себе объяснят. Они это любят. И пока они будут объясняться, мы можем спокойно жить собственной жизнью. Ты удовлетворена?
– Еще бы! Это клево!… То есть, здорово! – поправилась Ритка. И, так как разговор, по сути, был окончен, вопросительно посмотрела на хозяина.
Но Ян Владиславович не предложил ей остаться, что Рита и восприняла с досадой, но и не без облегчения. Раз так, можно и ей чувствовать себя отныне свободной женщиной, хотя, как ей в последнее время казалось, на ее свободу никто и не покушался, но займется она отныне исключительно Мишей. Он такой милый и понятный, и она, Рита, нужна ему, к тому же "архангел", в общем-то, второй человек в общине после хозяина.
Подготовка к операции тем временем шла полным ходом. Было уже осмотрено и тщательно изучено место, было определено и время. Оставалось только ждать и надеяться, что источники Шахтера не подведут.
А Шахтер, надо сказать, в источниках своих нимало не сомневался. Сомнения одолевали его только по поводу благоразумности всей затеянной им игры в кошки-мышки с Балашинским. Но риск был оправдан и стоил затраченных нервов и сил. Объясниться с Яном можно будет и потом, не без выгоды для последнего. И тогда же Шахтер сделает свое сокровенное предложение, отказ от которого будет верхом глупости и недальновидности. Пока же собирался использовать Балашинского втемную, до поры до времени не открывая карт. Пусть докажет и оправдает: пропуск в рай тоже надо заслужить. К тому же куда больше Иосифа Рувимовича беспокоило последнее сообщение, лишний раз доказавшее, что уж на ком, на ком, а на информаторах экономить нельзя. То ли московские гости звериным своим чутьем заподозрили ловушку, то ли произошла утечка, что же, и от этого никто не застрахован! То ли на верхушке равнодушных наблюдателей гладиаторских боев появился заинтересованный некто. Но, как бы то ни было, по грешную душу Шахтера был отправлен крепкий профессионал с превосходной оптикой, работающий в одиночку и пока не позволявший себе брака в работе. Выходило, что завершись переговоры с любым успехом, конец у них был бы один – переселение Иосифа Рувимовича в мир иной.
Охоту на одиночку-киллера Шахтер решил доверить исключительно ближайшей и преданной охране, не ограничиваясь пассивными мерами противодействия. Посвящать в эту именно собственную заморочку Балашинского и контору он не собирался. Пусть пока отрабатывают свое задание, а там, уж коли свои не разберутся, будем посмотреть! Шахтер был вполне уверен, что до завершения переговоров заветный выстрел не прозвучит – приезжим тоже надо блюсти лицо, а значит, время пока работает на него.
Дата прилета столичного представителя и выразителя интересов Теймура Кирия с командой была получена хозяином за пять дней до операции. Срок не катастрофический, но и в обрез. Однако мадам не подкачала – встреча была организована грамотно. Тусовочная и общительная Ирена, к тому же номинальная хозяйка процветающего турбюро, давно и прочно обросла связями и приятельскими отношениями с местной гостиничной элитой. И потому, без труда, за нескромный подарок, урвала для себя привилегию трансфера и организации всестороннего досуга прибывающих в скором времени гостей. Управленцы "Лазурной", сами обязанные мадам кое-чем, охотно, хоть и не безвозмездно, пошли навстречу. Да и гости, как подсказывал опыт, ожидались хлопотные, так что, если Ирена видит в них особую выгоду, пусть у нее и голова болит. Оставалось только изучить отведенные заранее московской команде апартаменты и досконально проверить возможные к ним подходы. Но это было уже делом техники.
В Адлерском аэропорту мадам стояла у трапа ровно в срок, одетая с неповторимой сексуальной строгостью амбициозной хозяйки дорогого провинциального борделя, что вполне соответствовала отведенной ей роли. Задняя дверка черного представительского "Мерседеса" была заранее предупредительно распахнута, и мощный автомобильный климат-контроль с завидной щедростью пытался согреть ветреное по-осеннему летное поле. Сзади лимузина скромно приютился громадный джип, в котором полагалось ехать сопровождению и визитерам попроще. В "Лазурную" гости были доставлены без происшествий и особых капризов, что и было неудивительно, если за подобные дела брались уверенные ручки мадам. Ни самому Кирия, ни его бдительным помощникам и в голову не пришло хоть в чем-то заподозрить молодую, шикарную и явно сговорчивую женщину, услужливо выделенную им для культурного отдыха после предполагаемых трудов. Уже по дороге в отель в непринужденной, хоть и грубоватой атмосфере, были выражены различные пожелания в отношении девушек для вечерних часов, а сам Кирия недвусмысленно остановил свой взгляд на самой мадам, заявив во всеуслышание, что устал от глупых соплюшек и хочет внимания умной и опытной, к тому же ухоженной и красивой женщины. Мадам согласно улыбнулась и скрепила договор, нежно смахнув с рукава Теймура воображаемую пылинку.
Обилие в номерах спиртного и комплиментов от гостиницы вызвали пожелания за немедленным застольем обмыть приезд, к тому же, как заявил Теймур мадам, его ребята должны пройти акклиматизацию, прежде чем займутся работой, а, значит, первым делом – девушки, а потом уж и самолеты. И Ирена горячо и старательно убедила их в правильности выбранного решения. Девушек мадам обещала через тридцать, а официантов, накрывающих на стол, через пять минут. Чем заслужила громкие коллективные похвалы и витиеватое обещание господина Кирия взять с собой в Москву на полное довольствие, если Ирена пройдет еще и ответственное постельное испытание. Что ж, план мадам о недопущении немедленных переговоров в день прилета удавался. К вечеру клиенты почти не вязали лыка, а заезженный Теймур все настоятельней заплетающимся языком заводил с мадам речь о переезде в столицу.
К ночи, немного протрезвев, клиенты пошли по второму кругу, и вновь захлопали пробки от бутылок. Застолье теперь сопровождалось и хоровым пением русско-грузинского эстрадного репертуара, постепенно становясь доминирующим и более громким, и вскоре вокал затмил прочие плотские вожделения. Теймур и его команда в исполнительском пылу даже не заметили, как тихо и неприметно по одной их покинули снятые на вечер девушки, и за столом с пьяными мужчинами осталась одна Ирена.
В вечнозеленых зарослях, у пустого по сезону бассейна зоркие пары глаз сосредоточенно следили за балконными дверями восьмого этажа, уже приоткрытыми, но пока еще ярко освещенными изнутри. Вскоре, однако, лампы погасли, и мягкий полумрак сменил собой желтый электрический свет. Сторожащие глаза удовлетворенно мигнули: сигнал был дан. Четыре тени взлетели невидимо и бесшумно, заскользили от балкона к балкону и мягко осели на нужном. Пятая тень замерла в кустах, не сводя настороженного взгляда с мерцающих окон.
Чуткая мадам, незадолго до этого погасившая свет и, будто в угоду гостям, зажегшая витые, изящные свечи, мгновенно ощутила на балконном пороге постороннее присутствие и начала действовать. Плавно, как бы танцуя, не без артистизма и вкрадчивости в движениях, подошла к поющему о несчастной королевской любви Теймуру и ласково села к нему на колени, обхватила накрепко, но нежно, его голову руками, повернула, заставив смотреть себе в лицо. В то же время через балконную дверь, заметьте, восьмого этажа, в номер, на виду до крайности изумленной команды, стали проникать люди, судя по всему, сбежавшие с экстравагантной дискотеки местного сумасшедшего дома. Первой в комнату по мягкому ковру проскользнула девушка, похожая на парня, со вздыбленной красно-зеленной прической и лицом, набеленным до синевы, с неприятными и жутковатыми кроваво-алыми губами. Следом, изгибаясь и ломаясь, будто в насмешку валяя дурака, вплыл юноша, размалеванный под вульгарную потаскуху. Дурашливо и нагло лыбясь, он тащил повисшего у него на локте коротко стриженного парня, в еще более короткой, ничего не прикрывающей юбке и открытой шелковой кофточке, из которой выпирал фальшивый бюст. Больше на парне, несмотря на холодное ночное время, не было ничего, даже обуви. Намалеванные черным лаком ногти пальцев ног зияли из черных же, драных колгот. Последний же вошедший напоминал чем-то карикатурного Джеймса Бонда, хотя костюм на нем был отменного качества и покроя. Вот только ослепительная белизна ансамбля была нарушена разнообразного цвета пятнами и грязными потеками, что наводило на мысль о том, что обладатель портняжного шедевра по меньшей мере несколько суток подряд спал на некой гостеприимной помойке. Примечателен был и тот факт, что под оскверненным пиджаком не было никакой рубашки, а только абсолютно голое тело.
Онемевшие на мгновение от неожиданного визита теймуровцы пришли слегка в себя и возмущенно зароптали в предвкушении справедливого возмездия и хорошей драки, так кстати доставшейся им на закуску. Несколько любителей покрасоваться уже засверкали разнокалиберными стволами, хотя стрелять в подобную мелюзгу, конечно же, не собирались. Но, до предшествующему кулачной расправе выяснению отношений, дело не дошло. Рассекая и дробя воздух, в уши команды врезался истошный, отчаянный визг бесстрашного перед любой опасностью Теймура, продолжавшего держать на коленях мадам, все так же обхватившей его за голову. Теймур Кирия плевать хотел на вошедших визитеров, он продолжал вопить от ужаса и отвращения. И было от чего. Когда страстно смотрящее на него женское личико вдруг расплылось в торжествующей улыбке, широко обнажившей даже розовые десны, Теймуру немного стало не по себе. Он захотел оттолкнуть от себя Ирену, но сделать этого не успел. Очаровательные, жемчужные зубки молодой женщины вдруг полезли из челюсти, превращаясь в страшные клыки, и были они безупречно настоящими. Как сталь ее рук и беспощадный, убийственный взгляд. Теймура Кирия сковал, связал первобытный, всепоглощающий страх, парализовал тело, оставив за ним лишь возможность кричать не переставая.
И тут же бесстыжие, ухмыляющиеся рожи незваных, балконных посетителей преобразились в такие же точно дьявольские оскалы. Вурдалачьи маски вмиг рассыпались, рассеялись по комнате вокруг накрытого, разоренного стола, и заметались, выглядывая и щерясь из-за спин. Началась самая работа. Ответственный ее момент на крайнем пределе внимания. В обезумевших мозгах вчерашних завсегдатаев дорогих клубов, робин гудов, привыкших защищать себя единственным, доступным им способом, сработал независимый рефлекс. Теймуровцы принялись что было сил палить в мелькающие звериные морды, уворачивающиеся и утекающие, словно вода, не понимая уже, что, собственно стреляют друг в друга, не чувствуя боли от попаданий в замороженных ужасом телах, пока не умирали от пуль, продолжая стрелять на последнем издыхании.
Когда без сил опустилась последняя вооруженная рука, Миша дал отбой. Тени тут же прервали свой полет и обступили командира.
– Вроде, все готовы. Макс, будь добр, проверь. Никого, часом, не зацепило?… Нет?… Ну, и слава богу. Молодцы! Надо теперь аккуратненько выбираться отсюда, – Миша с отвращением оглядел свой изгвазданный пиджак и пошел к балконной двери, – Ирена, не забудь накинуть на дверь цепочку. И скорее, скорее…
– Сделала уже. Свечи гасить?
– Оставь, не надо. Сами догорят. Хорошо, что у пацанов стволы с глушителями, а то бы мы так дешево сейчас не ушли, – Миша сказал и перемахнул через перила. За ним поспешили остальные.
Внизу, на стреме, поджидал уже заскучавший Стас. Любопытных и зевак-постояльцев на его долю не выпало, и вахту охотник отстоял мирную. Чем был слегка раздосадован.
Доложившись хозяину, в третьем часу ночи стали расходиться. Миша направился было в свою гаражную мансарду, когда Рита остановила его, ухватив за рукав:
– К себе?
– К себе! – устало ответил ей Миша.
– А у тебя в сарае душ есть? Мне бы заодно и волосы отмыть! – Рита указала на слипшийся разноцветный колтун прически, – так что скажешь, есть или нет?
– Есть. Все есть. И душ и туалет, – опешил захваченный врасплох "архангел", еще более от того обыденного тона, которым было ему дано обещание сбывающихся надежд, чем от недвусмысленного подтекста Риткиного обращения.
– Тогда пошли? – девушка взяла его за руку, как это делают на прогулке детсадовские малыши.
– Пошли, – не очень уверенно ответствовал ей Миша, еще не веря и опасаясь жестокого розыгрыша с ее стороны.
Но никакого розыгрыша не было. Было опьянение от головокружительного успеха операции, упоение своими новыми талантами и запах человеческой крови, еще не выветрившийся из ноздрей. И эти восхитительные ощущения силы и власти над людской жизнью и смертью, которые Ритке дал отчасти и Миша, и уж конечно, именно он научил, как воспользоваться обретенными совершенствами. Оттого Ритка и определила себе немедленно разрешить их отношения в благоприятную сторону, тем паче, что сама уже хотела замечательную Мишкину персону в свою безраздельную собственность.
На втором этаже каретного сарая для Риты и вовсе все было просто. Мишку она не стеснялась и уж тем более не боялась, как некогда хозяина. Напротив, видела, что кавалер ее и сам немного робеет подруги и нуждается в одобрении. Так, выйдя из вполне приличной душевой, где с трудом отскребла с волос въевшуюся, гнусную краску, Рита обнаружила своего избранника смирно сидящим на краешке кровати все в том же грязном рабочем костюме и не решающимся раздеться. Пришлось брать дело на себя. Когда же Миша увидел и ощутил, с каким непритворным энтузиазмом любимая девушка стаскивает с него брюки, то устыдился своих сомнений и перестал быть деревянным болванчиком. Схватил Риту в охапку, целуя ее лисьеглазое личико, неумышленно грубо опрокинул на постель. Но Ритка только засмеялась и довольно сощурилась. Они завозились, словно глупые щенки, жадно и весело, незаметно для себя став частью чего-то большого и прочного, чего не смогли бы даже назвать. Рита, не задумываясь и не стесняясь, проявляла всю свою недюжинную эротическую фантазию, которой можно было теперь дать волю, Миша же просто следовал за подругой и был счастлив как никогда. Но позже не удержался и спросил, хоть и не хотел:
– У тебя с Яном Владиславовичем все кончилось?
– Ага, все. Я ему не нужна, – без обиняков ответила Ритка, не находя теперь нужным что либо скрывать. Сладко потянувшись, перевернулась на бок, уютно устроившись на Мишином плече и, засыпая, спросила, – Тебе же я нужна?
– Нужна, очень нужна… Ты моя родная, – Миша легонько поцеловал в макушку спящую уже девушку, – отдыхай мое солнышко, умница моя.
На следующее утро, ветреное и ясное, обеспокоенная Ирена Синицина, директор агентства "Красоты Босфора", тревожно стучала кулачком в дверь номера начальника охраны гостиницы, и, добившись, чтобы ее, наконец, впустили внутрь, срывающимся голоском стала объяснять шефу безопасности причину своего беспокойства. Вот уже час с лишним как она, Ирена, не может добудиться своих подопечных, заказавших машины с эскортом для утренней прогулки, но безответно. А клиенты ее и сами знаете, кто такие, и на двери нет запрещающей таблички. Уж не случилось ли чего? Начальнику, отставному милицейскому полковнику не очень хотелось вмешиваться, но некоторое рвение проявить все же стоило. И потому он отправился за Иреной на восьмой этаж исполнить свой служебный долг.
Через час у заднего входа отеля уже мигали синие маячки милицейских сирен, а из мадам вытрясали душу на предварительном дознании. Вытрясти что-либо полезное и удобоваримое пинкертонам не удалось, кроме имен вчерашних приглашенных девушек и заверения мадам, что лично она покинула московских гостей, когда те еще были в отменном здравии и отличном настроении. Но всерьез на показания мадам Ирены никто и не рассчитывал. Дело было престранное. Запертые изнутри на дверную цепочку, Теймур Кирия и его команда по совершенно невообразимой причине перестреляли друг друга. Причем огонь они вели не прицельно. А словно совсем спятили и палили во все стороны без разбора, будто по призракам. Что могло до такой степени свести с ума или до смерти напугать дюжих, безжалостных бандитов, опера не могли даже предположить. Тем более в наглухо закрытом помещении. Балконную дверь всерьез не рассматривали. Во-первых, восьмой этаж, во-вторых, постояльцы окрестных номеров, оказались людьми безусловно мирными и состоятельными, тем паче, что никто из них не слышал особенного и подозрительного шума. Оставалось предположить бредовую идею, что в номер проникла специально обученная группа горных альпинистов, но непонятно тогда, почему деловые ребята открыли по ней столь ураганный огонь.
Задачка усложнилась, когда экспертиза уверенно определила, что никаких иных пуль, кроме выпущенных из наличествующих в руках мертвых гостей стволов, в комнате не имеется. Причем оружие было зажато в ладонях настолько мертвой хваткой, что можно однозначно сказать: никто кроме москвичей огонь в номере не вел. Рухнула и последняя надежда на простую версию – никакого следа наркотических веществ обнаружено не было, ни в самой комнате, ни в крови погибших. Степень же алкогольного опьянения была далека от стадии белой горячки. Дело, во избежание неприятностей, квалифицировали как междоусобную разборку и с тем и закрыли. Предъявить же претензии Шахтеру как самой заинтересованной стороне никому и в голову не пришло. Все же Иосиф Рувимович был бизнесменом, пусть и сомнительной репутации, но отнюдь не Кашперовским, чтобы проникать сквозь стены или сводить с ума на расстоянии.
Однако, как и рассчитывал Шахтер, призадумалась Москва, и вскоре Иосифу Рувимовичу и было сделано предложение, которого он с нетерпением ждал и на которое ни за что бы не ответил отказом. Оставалось только задобрить Балашинского и заручиться его поддержкой, для чего Шахтер был намерен предложить Яну Владиславовичу неплохой куш и еще более неплохую перспективу.
Тем более что Шахтер имел необходимость поручить спасительной конторе еще одно, последнее свое Сочинское дело. Бравые охранные службы Иосифа Рувимовича так и не смогли вычислить и поймать заезжего киллера. Запущенная же убойная машина ходила где-то рядом и в любой момент могла исполнить свою страшную работу.
ГЛАВА 10. ИОРДАН
– Вот что, дорогой мой Ян Вдалиславович. Местным все равно деваться некуда. Так уж лучше им лечь под меня, чем под чужого дядю, – Шахтер был краток и удручающе талантлив, – Думайте. Думайте, на чьей Вы стороне. И думайте поскорее.
– О чем именно? Никакого конкретного предложения, кроме невразумительных угроз, я от Вас пока что не слыхал.
– Не будем усложнять. Вы меня выручили и подставились сами. Исключительно по моей вине. Поймите и меня.
– Понимаю. Более того, на Вашем месте поступил бы точно также.
– Но я благодарен, – Шахтер сделался многозначительным, – и, как Вы сами понимаете, теперь, когда я буду принят в Москве, я не могу оставить Вас на растерзание нашим легковерным коллегам. Все же, Вы, Ян Владиславович, мой, пусть невольный, но соучастник. Именно с Вашей помощью я смог доказать серьезность моих намерений и возможностей. Я имею в виду виртуозное уничтожение эмиссаров.
– Благодарю, – хозяин насмешливо склонил голову.
– Не ерничайте. Я же уже сказал Вам, я благодарен… И, посему, приглашаю Вас с собой в Москву, – Шахтер выжидательно посмотрел на хозяина, пытаясь угадать, произвели ли его слова надлежащий эффект. Но лицо Балашинского оставалось бесстрастным. Тогда Иосиф Рувимович повторился, – Так, не угодно ли Вам будет отъехать со мной в Москву?
– И полное обеспечение на всю жизнь? – пошутил Ян Владиславович, – Мы с Вами не в пьесе Островского. Так что давайте конкретно. Что, по существу Вы мне предлагаете?
– Много, дорогой мой Ян Владиславович, очень много, – Шахтер посуровел и поскучнел голосом, – В Москве у меня будут большие дела. Серьезные, большие дела. По сравнению с которыми здешние – игры детишек в дворовой песочнице. Но мне нужна будет поддержка определенного рода. Чтобы люди, с которыми я буду вести эти дела, не только отнеслись ко мне с надлежащим уважением, но и боялись. Иначе, по завершению дел, я окажусь раскатанным в блин асфальтовым катком. В сущности, работа у Вас будет та же, но с иным размахом.
– Вы предлагаете мне, что станете моим единственным клиентом? Что же, полагаю, Вы понимаете, что компенсация будет велика?
– Как Вы могли уже заметить, уважаемый Ян Владиславович, в серьезных делах я не привык скупиться.
– Знаю. Тем более что со мной торговаться просто глупо.
– Вот потому я отдаю Вам десятую часть всей моей предполагаемой прибыли, которая, гарантирую, будет всегда подсчитана честно.
– Надеюсь. Все же Вы не враг самому себе.
– Это еще не все. Долю в местных делах, которые, как Вы уже поняли, Москва оставляет за мной, Вы получите так же. Из моей части прибыли – Ваши тридцать процентов. Не считая, разумеется, "Красот Босфора". Что Ваше, то Ваше. Но, конечно, Вам лично или кому-то из Ваших ребят, это уж как Вы решите, придется изредка навещать наш гостеприимный город… Скажем, для контроля.
– Опасаетесь Ваших кинутых друзей? Что же, это разумно. Особенно, если учесть то, какой паскудный сюрприз Вы им приготовили. И теперь хотите поставить меня надзирателем и одновременно козлом отпущения?
– Зачем же так грубо, – поморщился Шахтер, интеллигентно страдая всякий раз, когда вещи, не говорящие в его пользу, назывались своими именами.
– Не переживайте, я готов стать хоть козлом, хоть огородным пугалом. Я не боюсь. И, если мы, в конце концов, договоримся, поверьте, Вам не придется ждать дурных вестей с родины.
– Я думаю, мы уже договорились, – Шахтер не ожидал отделаться так дешево. По сути, он подставил и обманул Балашинского, сделав невольным соучастником своей хитрой интриги. Убрав с его помощью заезжих разводящих, он получил доступ к их негласным хозяевам, которые тоже предпочитали делиться и сотрудничать с умными и дальновидными людьми. Но за кусок столичного пирога пришлось сдать москвичам доверившихся ему местных партнеров. Вместе с общаковыми деньгами. Шахтер сумел, конечно, выторговать свою долю, но вот его компаньонов решительно отстранили от сытного стола, оставив лишь объедки. И, пока Балашинский будет выступать на его стороне, ни одна шавка в Сочи не рискнет замутить ему поганку.
Но теперь мудрый Шахтер ожидал от своего будущего соратника громов и молний, обвинений и упреков, страхов и гарантий. Когда же ничего такого не последовало, Иосиф Рувимович удивился и растерялся. Казалось, непробиваемый Ян Владиславович и вправду ничего не боялся на этом свете. Тем больше резонов Шахтер имел, чтобы сделать его своим доверенным лицом и другом, задумавшись, однако, о том, уж не переиграл ли в чем-то Балашинский его самого.
А Яну действительно было наплевать. В Москву, так в Москву. Все равно еще год, от силы два, и общине пришлось бы из соображений безопасности подыскивать себе иное место обитания. Другой город или другую страну. Огромная столица была не худшим выбором. Шахтер, ограниченный в своем земном существовании коротким человеческим веком, не мог увидеть смехотворность своих забот и стремлений с точки зрения Яна Владиславовича, никакими временными рамками практически не ограниченным. То, что Шахтер полагал главным успехом в жизни, для Яна было всего лишь эпизодом, случайным и малозначащим. Оттого хозяин, повидавший за столетия немало подлостей и предательств, испытав часть из них на своей шкуре и применив с успехом вторую часть к шкуре других, не стал устраивать истерик, в которых, кстати сказать, не видел ни малейшего смысла. Ибо, снявши голову, никогда не плакал по волосам.
– Судя по тому, что Вы не торопитесь уходить, Вы имеете сказать мне еще что-то? – вывел Шахтера из раздумий требовательный голос Балашинского. – не крадите время ни у себя, ни у меня.
– Да… Да. Есть еще одна небольшая проблемка, которая может привести к краху все наши совместные планы, – заторопился объясниться Шахтер. И, без околичностей и недомолвок, рассказал Балашинскому всю эпопею с киллером.
– Я избавлю Вас от этой напасти. И денег за это не возьму. Считайте акцию подарком или жестом доброй воли, как Вам угодно. Я же спасу Вашу жизнь исключительно по той причине, что теперь я все равно, что вложил в Вас капитал. И не хочу, чтобы банк лопнул, прежде чем я получу свой вклад назад и с выгодой, – резюмировал хозяин и жестко добавил, – однако, зря Вы не пришли ко мне с этим раньше. Впредь, что бы ни случилось, обо всех грозящих Вам и нам неприятностях я хочу быть информирован немедленно. Это будет так же одним из условий моей работы.
Пока же хозяин поделился условиями заманчивого предложения только с одним Мишей. "Архангел", уже начавший мыслить иными временными категориями, был двумя руками за переезд. Довести до сведения всей общины весть о грядущих переменах планировали после устранения неведомого убийцы. Ведь иначе, в случае дурного исхода, сделка с Шахтером теряла всякий смысл. Миша представил боевой группе грядущее, далеко не простое дело, всего лишь как обычный заказ. Но, на этот раз, требовалась не фантазия и организаторский размах, а чуткий нос ищейки семейного охотника. А, значит, Стасу досталась основная часть всей работы. Ведь, главное заключалось отнюдь не в том, чтобы вовремя захватить киллера, не подняв при этом лишней пыли. Для начала его еще следовало попросту найти.
Охотник, всегда предпочитавший действовать в одиночку, вышел на тропу войны. Времени было в обрез, и Стас пропадал неведомо где днями и ночами, изредка заскакивая в большой дом и коротко сообщая о розыскных мероприятиях Мише или непосредственно хозяину. Как настоящий вамп, Стас практически не чувствовал особой нужды в продолжительном сне, а долгие его ночные экспедиции приучили охотника временами и вовсе обходиться без оного. К тому же он, как истый бродяга, приучил себя спать в засаде в самых неудобных и немыслимых положениях, инстинктивно и мгновенно пробуждаясь при малейших изменениях ситуации. В городе не существовало улочек и подворотен, подвалов и чердаков, о которых бы не знал охотник. Владел он и в полной мере сведениями о тайной, ночной жизни веселого курорта, о подземном ее течении, о молодежных притонах и сборищах местных бомжей. И, в скором времени, по прошествии двух ночей, Стас определенно взял нужный след.
– Здесь он и осел. У Лельки, что ошивается в "Жемчужине". Ты, Ирена, наверняка эту деваху знаешь. Среди братьев-кавказцев на нее бешеный спрос. Ее подруга Стелла проболталась своей напарнице, с которой вместе трахается по машинам, что у Лельки объявился загадочный ухажер, вроде при деньгах и культурный. Снял Лельку вчерашней ночью, заплатил немеряно баксов и попросился пожить у нее денек-другой. Девки трепались, пока писали за кустиком, на поляне, куда привозят клиентов в тачках. Хороший лесок – как чувствовал, что не напрасно там решил покрутиться.
– Откуда у тебя такая уверенность, что это именно он? – перебил нетерпеливо охотника Макс.
– Подожди, дай досказать. Где Лелька живет, мне объяснять не надо. Не успели девочки натянуть штанишки, как я уж отчалил по адресу. Часа полтора провисел на карнизе, благо там фонарей нет, пока углядел, что надо, – охотник на секунду умолк, перевел дух и продолжил, – парень сперва дрых, но не долго. А после вытащил из-под дивана сумку, взял из нее то ли бинокль, то ли прибор ночного видения. Точнее не скажу – он спиной стоял. И пошел вон из квартиры. Серенький такой, незаметный.
– Ну, а ты? – снова влез Макс.
– А что я? Я, естественно, за ним. Попетлял, попетлял мой умник по городу, да и подался в домик о трех этажах, что как раз наискосок будет от городской штаб-хаты Шахтера. Он ключиком отпер квартирку на верхнем этаже, угловую, заметьте, и мышкой юрк туда. Я, конечно, с крыши спустился, аккуратненько заглядываю. Парень нацепил свою бандуру на рожу, все же прибор ночного видения оказался, огляделся в нем, походил, походил по комнатам, их там две, из окошек посмотрел. А после ушел.
– Все это очень подозрительно, не спорю. Но почему ты так уверен, что этот парень тот, кого мы ищем, – не выдержал уже Миша.
– А потому. Я же не дурак. Смекнул, что у Лельки он так, в лучшем случае кантуется. И если что и станет держать в ее комнатенке, так только разве свою ночную лупу. А главный его инструмент, если он есть, непременно на второй квартире должен быть. В общем, он в дверь, а я в окно. Ну и нашел, что искал.
– Что именно? Стас, говори ради бога, не томи, – взмолился Макс.
– Что-что! Игрушку с оптикой. С такой хоть на президента выходи. Но я ничего не трогал, все оставил как было. Чтоб не вспугнуть.
– А кому принадлежит вторая квартира? – на всякий случай поинтересовался Миша
– Вот тут и начинается самое интересное. Хозяева жилплощади, некие Антоненки, уж целых две недели как пребывают в Канаде в гостях у замужней дочери. И вернутся не скоро. А хату они никому не сдавали, я потихоньку разведал. И соседи уверены, что квартира стоит пустая, даже приглядывают за ней на случай воров. Так что парень наш не промах. Серьезный. А из хаты – на чердак, а там по крышам утечь – плевое дело.
– Значит, вовремя мы поспели: если оружие на месте, значит, ни сегодня – завтра оно выстрелит. Стало быть, с сегодняшней ночи заступаем на дежурство. В засаду пойдут Стас и, пожалуй, Ирена. Опыта ей не занимать, а женщина в нештатной ситуации может оказаться кстати, – сказал заключительную речь Миша, но, увидев обиженные, любимые глаза, требовательно воззрившиеся на него, не устоял, погладил при всех Ритку по руке, – не расстраивайся, малышка. Как-нибудь в другой раз. На такую охоту тебе еще рановато.
Отношения Риты с "архангелом" уже стали достоянием их маленькой общественности. Но, как и в случае с хозяином, особых эмоций не вызвали. Понравились друг дружке – сошлись, надоедят – разбегутся. Тем более что все три общинные пары словно подобрались по интересам: диванный завсегдатай Фома и домовитая, невозмутимая Лера, Миша и Ритка оба солдаты невидимого фронта, про Макса и Сашка и говорить не стоит. Да и сам хозяин негласно семейственность поощрял, считая, по всей видимости, что счастливая пара – надежная ячейка и опора общины.
В тот же день, без промедления, другая, отнюдь не задушевная и темная парочка, состоящая из охотника и мадам, засела на конспиративной квартире. В переулках, строго по графику меняя место дислокации, в "Волге" должны были поочередно дежурить Миша и Макс. Киллера решено было брать живьем. Во-первых, чтобы не пакостить чужую квартиру, а, во-вторых, это был удобный случай доставить свежее питание некоторым из оголодавших домочадцев. Искать подобную одиозную личность никто наверняка не станет, а, исходя из рода занятий, служивый с винтовкой должен был быть здоров и полнокровен.
Ритка, оказавшаяся вдруг временно безработной, вызвалась помогать Лере с уборкой. Теперь, доказав своему маленькому мирку собственную профпригодность, Рита не считала унизительным труд домохозяек. К тому же был и дальний расчет явить Мише и иные таланты, приличествующие каждой женщине, и лишний раз продемонстрировать, какой замечательный выбор сделал ее новый возлюбленный.
Убрав первый этаж споро и ладно в четыре руки, включая и кабинет хозяина, милостиво освобожденный Яном Владиславовичем на полчаса, девушки сделали перерыв и спустились в полуподвал на кухню попить чайку. Тата, в ответ на их гастрономические пожелания, сунула им в руки две дымящиеся кружки и вазочку с печеньем, которую она, предусмотрительная хохлушка, каждый раз заботливо прибирала в шкафчик со стола, хотя в доме не наблюдалось недостатка в продуктах, и, при желании, обитатели его могли купаться в черной икре. Но привычка – вторая натура, особенно если речь идет о врожденной, совковой бережливости.
Сама Тата в этот раз была раздраженной и нервной. Руки ее с фантастической скоростью мелькали над мойкой среди чашек и тарелок. А ведь в кухне имелась вполне современная посудомоечная машина. Но Тата сегодня ее проигнорировала, предпочитая греметь посудой собственноручно. Ритка и Лера в разговоры с товаркой предусмотрительно вступать не стали, опасаясь резких ответов, и скромно сели в уголке у необъятного разделочного стола. Когда, откушав, они вернулись к прежнему занятию и начали прибирать второй этаж, Рита, не удержавшись, по-бабьи полюбопытствовала:
– Чего это Татка сегодня на взводе? Случилось что?
– Случилось! Эва, хватилась! Все, что могло, уже давно случилось! Это она из-за Стаса с Иреной. Хоть дело прошлое, а ревнует. Черт их знает, что эта парочка сейчас наедине вытворяет!
– А разве у Татки действительно со Стасом было? Я краем уха слыхала, да думала: так просто болтают.
– Было. Давно еще. До нас с Фомой, да и, пожалуй, что и до Мишки с его бандой, – Лера в глубине интеллигентской души все же считала род занятий "архангела" глубоко предосудительным, хотя вслух и не осуждала, – прости, я не хотела обидеть. Так, вырвалось.
– Ничего. Я понимаю. Но должен же кто-то и на хлеб с маслом зарабатывать, – великодушно отказалась переходить на личности Ритка, – ты дальше рассказывай, интересно же!
– Ну, я сама при их хороводах не присутствовала, но Тата со мной делилась. У нее, бедняжки, ближе меня никого нет. Да и не завидует она мне – с моим то Фомкой, рохлей, – и Лера вздохнула, то ли над незадачливой Таткиной судьбой, то ли над недостаточностью мужских качеств у своего сожителя, – Они ведь со Стасом вместе в общину пришли. Как мы с моим ненаглядным. Сначала хозяин где-то Стаса нашел, а он уж привел подружку, чтоб нескучно было. Да после они разбежались.
– Из-за мадам?
– Из-за нее. Но и из-за Стаса тоже. Кобель он порядочный, что есть, то есть. Ирена его живехонько в койку уложила, опытная дамочка. К тому же крутили они чуть ли не у Татки на глазах. Вот девчонка и не выдержала. Послала его.
– Что же выходит: любила, а сама к Яну бегала, – явила злопамятность Ритка.
– Дура ты! Никуда Татка тогда не бегала. С хозяином уже после было. Да и влюбилась она в Яна. То ли серьезно, то ли с горя, кто теперь знает. Но с хозяином много каши не сваришь. Кому-кому, а уж тебе должно быть известно.
– Ну, я то себе замену нашла! А Татка до сих пор к Яну по ночам бегает.
– Бегает. А куда денешься? Она, когда поняла, что сук рубит не по себе, хотела Стасу все простить, и назад вернуться. Да где там! Парень вкусил свободы: в Сочи полно девок, и любая, только свистни, его будет.
– А как же Ирена?
– Ха, Ирена! Нужен он нашей мадам, как зайцу стоп-сигнал. Она выше забирает. Да, что-то без особого успеха. Но Стаса все равно придерживает поблизости. Как искусственный спутник на орбите. Вдруг пригодится.
Уборку закончили в молчании. Также молча разошлись. Ритка – к себе, Лера – на кухню. Но, не оттого, что рассорились, а из-за задумчивости, нахлынувшей вдруг на Риту. По всему выходило, что из всего женского населения общины, ее судьба была самой завидной. Она, Ритка, все же не одна, и парень у нее крутой, не то, что у Лерки, да и Мишка любит ее, это же и дураку ясно. Задумчивость получалась приятной и оптимистичной, и вывод, которым она завершилась, свидетельствовал о том, что Рита повзрослела, наконец, не только телом, но и умом. А решение у девушки созрело следующее: раз уж судьба определила ей на руки удачливый билет, то выигрыш надо холить и лелеять, ибо второго может уже не быть. И за примерами далеко ходить не надо. И если уж повезло, и достался ей Миша, то уж Ритка позаботиться, чтобы "архангел" своим выбором оставался доволен. Ему, любимому и, отныне, единственному, не грех и кофе в постель подать и пуговицы пришить и брюки погладить.
Тем временем засада на улице Ордждоникидзе функционировала уже вторые сутки. Охотник и мадам за день совсем обжили квартиру, не пропустив, однако, во внешний мир и намека на свое присутствие. Выбрали и обозначили точки, из которых удобнее всего будет осуществить захват. Резину тянуть не имело смысла, и потому единогласно решили брать наемника прямо у входной двери. В отличие от органов правопорядка, контора хозяина не нуждалась в вещественных доказательствах вины и тем более не имела необходимости заставать киллера в момент совершения преступления. Оттого момент истины совокупления снайпера с винтовкой был в сценарии излишним. Не театр, и не кино.
Атавистическая Таткина ревность, на сей раз, оказалась совершенно беспочвенной. Мадам Ирена и неверный Стас в данной рабочей обстановке, нервной и ответственной, составляли скорее две зубастые половинки одного капкана, чем воркующую и милующуюся парочку. Зверь мог просунуть лапу в железные челюсти в любую минуту, и оттого приходилось быть начеку. Не до любовных игр напарничкам было и даже не до серьезных разговоров. Первая ночь прошла спокойно, но ни мадам, ни охотник особо не дергались. Появление киллера ночью, когда офис Шахтера закрыт, а предварительная разведка уже произведена, выглядело более чем сомнительным. Охотник, опираясь даже не на свою сверхразвитую интуицию, а на обычный здравый смысл, присущий и обычному человеку, полагал, что появление стрелка надо ожидать ближе к вечеру, когда по темному зимнему времени Шахтер будет покидать свое рабочее место. К тому же, по понедельникам, Иосиф Рувимович, случалось, засиживался допоздна в руководящем кресле, составляя планы и мероприятия на текущую неделю. Прибор ночного видения у убийцы, как выяснили, имелся. С наличествующей в квартире оптикой ювелирный выстрел можно было произвести в считанные секунды, которые потребуются Шахтеру на то, чтобы проскользнуть в окружении охраны из подъезда в бронированный автомобиль. Уйти же по вечернему городу куда легче, чем среди бела дня, на виду у досужих и глазастых дворовых старушек.
Расчеты и надежды засадного дуэта полностью оправдались. Около девяти вечера, когда весь дом, да и не он один, глазел по телеку отечественный криминальный сериал и оттого не гремел шагами и входными дверьми, у порога заветной квартирки прошелестел ветерок, не обеспокоивший бы и чуткую собаку. Но уши вампов уловили движение, и охотники тут же сделали стойку. Еле слышный поворот отмычки для обостренного нечеловечьего слуха прозвенел лязганьем амбарного пудового замка.
Если бы знаменитый и безотказный до тех пор киллер вдруг оказался бы жив и мог говорить, вряд ли бы он, опытный и уравновешенный в любой кризисной ситуации, смог бы описать, что же с ним в действительности произошло. Как могло случиться, что бы в проверенно мертвой квартире, прямо у двери в прихожей перед ним возникло милое женское лицо, с невиданной легкостью ушедшее от убойного, страшного движения. А сверху, чуть ли не с потолка на него обрушилось, что-то или кто-то, и меткий удар невиданной силы отправил убийцу во временное небытие.
Все случилось быстро, гладко и строго по намеченному плану. Добычу тут же в коридоре плотно спеленали и упаковали в огромную брезентовую, с кожаными ручками, сумку. Охотник, словно детский ранец с учебниками, небрежно перекинул поклажу через плечо и безмолвно кивнул Ирене в сторону одной из комнат. Мадам тут же метнулась и возвратилась с продолговатым футляром, в котором отдыхала не пригодившаяся своему работодателю винтовка. Затем Ирена нажала кнопку на сотовом телефоне, и напарники с удачей в бауле утекли вон из квартиры. У безлюдного подъезда тишком забрались в подлетевшую "Волгу" и всю честную компанию и след простыл.
Когда стрелок, человек удивительной и жестокой судьбы, навидавшийся и натворивший в своей жизни немало лиха, пришел в себя, то, оглядевшись, не смог даже предположить, куда его занесло. Что сам он пленник, было, конечно же, ясно. Но руки и ноги не были связаны. В отведенном ему чулане горел свет, и многоваттная электролампочка не была ничем защищена. Даже простым проволочным каркасом. Люди, державшие его в заточении, словно имели дело не со зловещим убийцей, с весьма гадостной репутацией, а будто пригласили на постой лоха, разводимого на деньги. Ведь ничего не стоило разбить стекло и из остатков соорудить неприятное в темноте оружие, а там и посмотреть, кто выйдет из чуланчика, а кто останется. Но пойманный киллер ничего такого делать не стал. Потому что, кроме доступной лампочки вокруг были и иные странные вещи.
Маленький, полностью забетонированный бункер, куда он попал, наводил стрелка на нехорошие размышления. Потому что был этот бункер идеально чистый и такой же идеально пустой. Ничего, к чему бы можно было приковать наручниками или просто привязать, ни жалкого матрасика или подстилки на полу. Пусто, светло и ни пылинки. Если чуланчик так тщательно и часто моют и ничего в нем не хранят, то страшно предположить, для чего его могут использовать. К тому же, кажется, гости в этом бетонном заведении надолго не задерживаются. Впечатляла и дверь бункера, непроницаемо стальная и представлявшая, по сути, вход в односторонне запирающийся сейф. Чем дольше стрелок думал над своим положением, расхаживая из угла в угол бетонной клетушки, тем хуже и хуже становилось его мнение о неведомых хозяевах этой импровизированной тюрьмы, пригласивших его против воли на постой. Особенно, если учесть обстоятельства его появления в бункере.
Наручный и очень дорогой хронометр, на который никто не позарился, еще одно удручающее обстоятельство, показывал глубокую ночь. Когда массивная дверь защелкала запорами и неслышно отъехала в сторону. Киллер внутренне напрягся и приготовился к отпору. Внутрь вошли две девушки, всего-навсего две хрупкие девушки! Одна, чье лицо он видел перед собой на злополучной квартире, перед тем как был вырублен и обездвижен, и другая, незнакомая, по виду – еще совершеннейший ребенок. Однако долго рассуждать не было времени, и стрелок бросился на женщин не раздумывая, надеясь в секунду смести их с дороги одним лишь приемом рукопашного боя. И пушинкой отлетел к стене, распластав по бетону кости. Причем девушки даже не рассердились и не обратили на досадный инцидент особенного внимания. А после легко скрутили и перемотали стрелку руки скотчем за спиной слишком привычными и отработанными движениями. Но наибольший ужас у бывалого бойца вызвало то обстоятельство, что молодые дамы не обругали и не стали насмехаться, не сунули ему пару раз для профилактики, а вели себя так, словно он не существовал вообще как человек, а только как надоедливая муха, которую надо забрать из чуланчика. Девушки вязали его, переговариваясь между собой, о посторонних делах, никак с текущим моментом не связанных. Будто бы мясники, разрубающие коровьи туши, и беседующие о беспардонном воровстве начальника скотобойни и беспорядках в Палестине.
Девчушки, без напряжения и видимых мышечных усилий проволокли стрелка по темному коридору и вверх по каменной лестничке, хотя дядька он был здоровый и, к тому же, нарочно загребал пол носками говнодавистых ботинок. Очутились, судя по блестящим в ночном фонарном свете донышкам развешанных всюду кастрюль, в кухонном помещении. А там, успел удивиться киллер, уже расположилась пропасть народа. И самого разномастного. Несколько немирных, несмотря на отсутствие громоподобного телосложения, мужиков, один барином единственный сидел в центре. Рядом стояли две девицы, с полубезумными глазами и чуть что не облизывались, глядя на связанного стрелка. "Извращенки", – отчего-то подумал о них киллер, и оптимизма у него еще поубавилось. Вся публика выглядела на редкость странно – какой-то недоделанный молодняк и с ними дядька Черномор. Особенно, если припомнить, как давеча черноморовы сопливые витязи скрутили самого неуловимого стрелка. Да что там скрутили, а вычислили и нашли!
Девчонки не зло, но сильно толкнули стрелка на твердый плиточный пол, но он не протестовал, наоборот, остался лежать на спине, надеясь, что для здешних детишек еще живы дворовые правила чести, по которым лежачего не бьют. К нему тут же подскочили и склонились низко двое парнишек, от которых так и несло голубизной. Подняли под руки, посадили, не жестким рывком, а так, словно мягкую куклу. "Будут допрашивать!" – догадался киллер, и немного приободрился: все же, выходило, что дело его не вовсе гиблое, если с ним решено вести разговоры мордобой пока не предвидится. Но первый же вопрос, адресованный вовсе не к нему, убавил стрелку радужного настроения и вызвал неясные, но крайне нехорошие ассоциации.
– Ну, и кто первый будет? – скучным голосом осведомился жердяистый детина, с объемистым пластиковым мешком непонятного назначения в руках.
Далее последовала легкая и не очень оживленная перепалка голосов, которая постановила, пусть уж первый будет некий Мишка, после неведомый Сашок, который уж очень ослаб, и оттого может точно не попасть, а говорили ему не тянуть и правильно питаться. А после уж, Стас поднесет хозяину. "Чего поднесет-то?" – спросил самого себя вконец затурканный киллер, – "пить, что ли, в честь моей поимки собрались, дурачье?" Если так, то для стрелка выходило очень даже фартово. С нетрезвыми людьми беседу вести в его положении было предпочтительнее, да и реакция у пьяного не та, что у трезвого. Стрелок поднял глаза, посмотрел прямо перед собой на сидящего в центре, явно старшего Черномора, попросил взглядом, но не без достоинства, о снисхождении и уважении к своему классу и послужному списку. Черномор в ответ улыбнулся даже почти сочувственно, будто видел стрелка насквозь и понимал все его проблемы, а после небрежно махнул рукой кому-то из присутствующих.
К стрелку тут же подошел один из нехорошего вида парней, опустился рядышком на коленки, и обнял одной рукой за голову. Наклонил, словно собираясь поцеловать. "Все же голубые извращенцы", – с брезгливой тоской заключил про себя киллер, но до конца печальный вывод додумать не успел. Шею, у самой ключицы, пронзила в двух местах резкая и зловещая боль, и дернулся бы, да тело будто попало в железные тиски, не шелохнуться. Перед глазами поплыло, закачалось, но стрелок был еще жив и в сознании и успел увидеть, как детина с мешком склонился к его лицу и в развернутое пластиковое чрево бьет его собственный артериальный фонтанчик крови. Но киллер уже не пугался ничего. "Хорошо, что без мучений", – в последний раз покойно и неземно подумалось ему.
Тело определили в соседнее с бетонным чуланчиком помещение, оборудованное в мини-крематорий по последнему слову техники с вытяжками и фильтрами. Ни одежду, ни дорогие часы никто трогать не стал, покойного не обыскивали, но и не отпевали, просто сложили внутрь печи и дали огню сделать свою работу. Если стрелок мог видеть всю процедуру с неба или из иных полагающихся ему мест пребывания, то собственные похороны ему, несомненно, понравились.
Назавтра, после удачного завершения операции и расправы над стрелком, хозяин объявил общий и чрезвычайный сбор. По такому случаю были вытащены из комодов и шкафов ставшие традиционными цветные шейные платки, чем обозначилась важность предстоящего мероприятия. Ритка, безуспешно применив весь свой арсенал уловок и подходцев, пыталась вызнать у "дорогого Мишеньки" повестку таинственного заседания, но ее любимый молчал как рыба и только загадочно, но по доброму усмехался, словно заботливый отец, приготовивший ненаглядному чаду подарочек, но прежде времени не желающий портить впечатление.
Вечером, когда все, принарядившись, собрались в большой гостиной, Ян Владиславович, не вдаваясь в патетику, озвучил перед всей общиной предложение Шахтера о переезде. Реакция ребят на услышанное была самой разной, но лишь варьировала положительные оттенки. Миша особых эмоций не проявил, хотя переездом был доволен, ему еще, в отличие от хозяина, было куда расти. К тому же о предложении знал он заранее и оттого съел свой кусок пирожка раньше остальных. Тате и Лере было все равно, в каком именно городе будет стоять их дом, но прельщали новые интерьеры, хлопоты и магазины. Хотя сам переезд внушал и опасения: сколько всего упаковать и отправить, да чтоб не перебить! Охотник, предвкушая новые, беспредельные угодья, про себя только облизывался. Фома развел мерлихлюндию, про повышение культурного уровня общинного населения в связи с адаптацией к столичной жизни, благо, что сам был родом из Москвы, где и доселе имел дальних родственников, оставшихся на родной земле после массового исхода собственной родни в райские кущи американского империализма. Обещал музеи и театральные походы, пока не осточертел и не был вынужден заткнуться. Взгрустнулось только Максу и прильнувшему к его плечу Сашку. Жаль было и уютной квартирки, служившей им гнездышком и свидетелем их любви с самого ее романтического начала, и южного, маломерного как кухня в "хрущобе" городка, будто сшитого по мерке их камерно звучащей жизни. Но они были еще достаточно молоды, чтобы не устрашиться перемен, особенно если у тебя в запасе вечность и ты толком еще не видел даже собственной страны. Больше всех, не таясь, радовалась мадам Ирена, мысленно уже примеряя на себя и столичный бизнес и столичную тусовку. Блеск нарядов и шеренги кавалеров и мощная, нерушимая поддержка за спиной, готовая вывести ее к вершине женского успеха. Ян Владиславович считал амбиции мадам пустой тратой времени и, не стесняясь, сказал Ирене об этом в глаза, предсказывая, как скоро, максимум лет через пятьдесят-семьдесят ей надоест такая мышиная возня. Но пока было ново и ничего не надоело, мадам собиралась вкушать радостей от жизни, имея все же негласной целью свое окончательное место подле хозяина.
Рита тоже радовалась своему возвращению в Москву, но тихо и умиротворенно и как бы секретно про себя. Хотела увидеть вновь и маму, и братишку и даже отчима с его собаками. И главное, показать им Мишу, свою самую большую жизненную удачу. Последнее время она часто писала письма домой, пусть полуправду, но домашние верили ей, судя по ответам, так, как ни за что бы не поверили, открой она им, как обстоят дела в ее нынешней действительности. Дома знали уже и про Мишу и про хорошую работу и благодарили за деньги, которые она время от времени отсылала в Москву. К тому же хозяин и сам и через Мишу побуждал Риту учиться дальше чему-нибудь полезному для семьи, и вот теперь в столице ей будет доступен любой, самый заоблачный вуз.
Что думал по поводу переезда сам хозяин, было неведомо, да и думал ли вообще. Ничего нельзя было прочесть по его бесстрастному лицу. Да и то, мало ли он повидал и поездил, так стоит ли брать в голову еще одну, не более как временную веху на долгом пути, не ведущую ни в рай, ни в ад, а бог знает к чему.
Переселение в столицу спланировали на нынешнюю весну.
ЧАСТЬ 2. ДОМ
ГЛАВА 11. ПАЛАДИН
Никогда не мог он подумать и просто предположить, что найдет новизну и удовольствие в городских прогулках. Но в одном Ян остался верен себе и привычке – время для выходов в свет выбирал исключительно вечернее или ночное. Хотя, по правде говоря, огромный, невиданный им никогда ранее мегаполис оживал красками исключительно после захода солнца, расцветая бутонами и фейерверками вывесок, неонами необозримых рекламных щитов. Гигантская столица поглощала без остатка и обезличивала своих стояльцев, как пришлых, так и коренных жителей, и казалось, на бессчетных ее улицах, улочках и проспектах и за всю жизнь невозможно было б повстречать дважды одно и то же лицо. Но нет худа без добра, и Ян отнюдь не стремился к известности и узнаваемости, и рад был, что может совершать приятный городской моцион, не привлекая внимания, не запоминаясь, оставаясь мелкой, безымянной частичкой спешащей вечно толпы. Одетый по прохладному времени в длинный кожаный плащ и не слишком изящные, но удобные спортивные ботинки, блуждал по центру сказочной столицы, не удивляя своим видом никого, благо Москву не очень изумил бы и парад нудистов, проходи он средь бела дня в лютый мороз.
А, справедливости ради, надо заметить, что Яну Владиславовичу несмотря на возраст, считаный веками, никогда прежде не доводилось бывать в граде столь небывалых размеров. Конечно, в былые времена ноги его имели честь попирать мостовые Венеции и Буды, месить пыльную грязь Стамбульских базаров и площадей, да мало ли еще каких поселений и городишек. В настоящем же времени нигде он и не бывал, ничего не видел, кроме пальм и пляжей Большого Сочи. И то сказать – изобильный и шумный курорт мало чем уступал по части многолюдия городам из памяти о его прошлом. Теперь же все было для Яна удивительно и внове: и подземные железные дороги – муравейники метрополитена, и бесконечные автобаны кольцевой дороги, и умопомрачительные шпили небоскребов, прячущие свои шапки в туманных облаках. И нравы, нравы, нравы. Ничего похожего в своей безнаказанной лютой бесшабашности Яну до сих пор встречать не доводилось. В мире нового Вавилона было все дозволено и, буде ты не искал дешевой минутной популярности, подчас криминальной и сомнительной, хоронить концы в воду не приходилось. Гигантский круговорот сам затягивал, засасывал происходящее в омуты забвения, топя в илистой грязи людей и события. Миновала весна переезда, а теперь вот и лето подошло к концу, но вкус к городским путешествиям и эскападам, зачастую совершаемых вместе с Иреной, не иссяк и не пропал, словно безалаберная столица имела неограниченный запас новизны, неисчерпаемую кладовую разнообразий своей многоликой жизни.
Поселился Ян Владиславович со всей своей общиной, однако, за городом, хоть и недалеко от кольцевой дороги, выкупив участок неподалеку от Одинцово, в недавно отстроенном поселке, где и жил в окружении однообразных особняков новорусской ранней архитектуры. Зато владельцы окрестных угодий в соседские дела не лезли, разве что издали любопытствовали о марке машины и примерной стоимости имущества внутри изрядной бетонной ограды. Последняя отчасти отбивала охоту к более близкому знакомству, поскольку наличие неприступной изгороди и в без того тщательно и на совесть охраняемом поселке наводила любопытных на боязливо-почтительные мысли. За бетонными стенами находился же не один, а сразу три дома, благо размеры усадьбы позволяли. Главный, традиционный Большой дом, место сбора семьи, и два маленьких, ибо двум любящим парам, "архангелу" со своей половиной и голубым, нежным супругам предпочтительно было проживать отдельно. Большой дом строгим фасадом без колонн и излишеств, бойницами узких окон выходил на главные подъездные ворота – глухие чугунные створки, ощерившиеся мутными глазницами видеокамер. Два одноэтажных особнячка поменьше были отстроены в глубине участка, образуя со своим старшим братом как бы букву "п". Весь сельский жилой комплекс можно было коротко охарактеризовать одним емким словом: "твердыня", не только на глаз неприступная.
Шахтер же в целом не разочаровал своего опасного компаньона, условия сделки выполнял добросовестно, не считаясь по мелочам. Работы хватало, пригодились и юридические Мишины достоинства. Последние месяцы верный "архангел" разрывался между Москвой и присмотром за Сочинским бизнесом, но доход стоил усилий. Куда труднее было удержать мадам в рамках безопасной неизвестности, ограничить хотя бы словесным убеждением ее тягу к светским мероприятиям и богемным тусовкам. Не пробыв и полугода в столице юркая, состоятельная и красивая женщина, бесстрашно уверенная в себе, Ирена стала узнаваемой и приглашаемой на элитные сборища. К тому же созданный ею с разрешения Яна "Фонд помощи молодым талантам" был щедр на спонсорство не только молодым, но и звездным грандам искусства. Первый же клиент фонда, доснявший на щедрое пожертвование мадам зависший было отечественный блокбастер, превозносил дающую руку до небес, но делиться с каждым встречным своим открытием не собирался, а потому лично ввел Ирену в те круги, куда тщеславная мадам так жаждала попасть. И понеслось – приглашения, банкеты, юбилеи, собственная свита из не обученных просить с достоинством полузвезд. Денег на благотворительность у конторы хватало с избытком, и "архангел" был не промах – использовал фонд для общинных коммерческих нужд. Ян пришел в неописуемую ярость лишь когда Сашок простодушно похвастался популярным еженедельником, где на первополосных фото с дня рождения поющей и знаменитой дивы присутствовала хоть и не на первом плане, но вполне узнаваемая мадам. Состоялся тяжелый, не вынесенный за кулисы разговор и последующее предупреждение прикрыть лавочку, буде впредь безобразие повторится. Ирена побесилась втихомолку, однако более промахов не допускала. Правда, вынужденная скромность не пошла ей во вред, а совсем наоборот: за мадам укрепилась репутация серьезного ценителя прекрасного, не разменивающегося на мишуру. Отчего последовали приглашения на достойные и закрытые для журналистов деловые рауты, постепенно превращавшие Ирену в уважаемую и труднодоступную столичную бизнес-леди, не подающую кому попало.
Однако, Яну приходилось считаться с неугомонной натурой мадам, которая повадилась в возмещение тусовочных убытков таскать его по злачным и развеселым местам. Но ночная жизнь, на удивление, пришлась ему по вкусу, словно вернула дни развеселого венецианского периода его жизни, и Ян шел на поводу, в действительности получая от вылазок удовольствие. Клубные знакомые мадам, коих было превеликое множество, встречая ее в обществе странноватого и явно денежного мужчины, понимающе кивали и отводили глаза в сторону, хотя на деле не понимали ничего, да и не могли понять. Ночное общество принимало ее зловещего, несмотря на вполне добродушный вид, который мало кого мог обмануть, спутника за "крышу", которую необходимо время от времени прогуливать, и, в общем, было недалеко от истины. Ошибаясь лишь в скрытом и ехидном презрении псевдоинтеллигентов к его криминальному образу. Но снисходительное отношение к себе со стороны новоявленных приятелей мадам только забавляло Яна и играло ему на руку. Ему, рожденному вампом, никогда даже в глубине души не отождествлявшему себя с человеческим родом, было глубоко наплевать, что может думать о нем какая-то "корова".
Частенько Ян Владиславович выбирался в город и сам, в одиночестве погружаясь в суету вечерней жизни, которая, в чем он ни за что не признался бы и самому себе, заполняла вечернюю пустоту его существования. Ибо, в сущности, преданные ему братья и сестры общины как-то само собой разбились на устойчивые пары и оставили своего хозяина в гордом одиночестве, как церковного Христа на кресте, которому молятся и поклоняются, но не зовут третьим на бутылку. Для общения оставалась лишь мадам, да изредка, для ночных удовольствий, глупенькая Тата. Стас, как истый волк-одиночка, примитивный и малоразговорчивый, далекий от лишних рассуждений, тем более в компанию не годился. Ян временами даже жалел о Рите, подумывая, не зря ли так опрометчиво дал ей отставку, уступив девушку ближайшему помощнику. Но возвращать Риту теперь было никак нельзя – приходилось держать марку.
В тот памятный осенний вечер Москва праздновала свой 850-летний юбилей, гуляла и шумела, цвела огнями и местами уже пьяно икала. Гулял с гражданами столицы и Ян Владиславович, на сей раз в гордом одиночестве. Откушав с мадам на плавучем "Викинге", дальше, однако, по заведениям ехать не пожелал, а, отмежевавшись от захмелевшей спутницы, углубился в веселую концертную толпу позади Блаженного собора. Там Ян и расслабился душой, рассекая подобно крейсерскому ледоколу плотные, вопящие людские массы. В руке он сжимал плоский коньячный мерзавчик "Мартеля", вызывая мимолетную зависть отоваренной низкосортным пивом молодежи. Ян и в мыслях не имел предаваться "крутому выпендрежу", а просто терпеть не мог пиво, ни в дорогом, ни в дешевом разливе. К тому же, чтобы напиться всерьез, требовалось ему куда большая емкость французского изысканного напитка.
Толпа вокруг Яна Владиславовича, напротив, изрядно умудрилась захмелеть и с пива. Кое-где ловкие руки, потихоньку от дозорных, умудрялись солидно бодяжить налитую в пластиковые стаканчики пенистую пивную массу традиционной водочной отрадой. Драк покамест не наблюдалось, но отдельные словесные перепалки доносили эхом вероятность их возникновения в близлежащих переулках поукромней, вдали от бдительного милицейского ока.
Щекочущих застоявшиеся нервы приключений должно было хватить до утра, но для начала можно было начать и с тинэйджеровских потасовок. После можно было бы и ввязаться в рукопашные отношения с самоуверенными патрулями "ОМОНа", а потом сгинуть в неизвестном направлении, оставив поверженных противников в озабоченном состоянии. Затеи шутейные и для храброго рыцаря Яноша жалкие и недостойно унизительные. Но что поделать, если на крохотных останках мощенных камнем улочек и площадей не звенят более ни мечи, ни шпаги, не ломаются в безрассудных поединках копья. И нынешние человеки, полагающиеся более на пистолеты, газовые шашки и водометы, чем на крепость собственных рук и ног, никакие не противники, а только простые "коровы", неверующие и оттого легкодоступные.
Выбравшись на волю с пьяной площади, Ян, немного осмотревшись кругом, отправился претворять в жизнь ночные свои планы. Была и потасовка с цепями и кастетами, были и милицейские свистки, и, даже непредусмотренная полноценная погоня. Отдых удавался, и Яна не расстроила и порча любимого кожаного плаща, продранного от пояса до кармана о неведомый гвоздь. Столица рокотала волнами, и ночь могла иметь в запасе еще некоторые сюрпризы. Ян навестил ближайший круглосуточный "Континент" на Лубянке и запасся еще одним мерзавчиком, неожиданно для себя прикупив здоровую плитку черного шоколада, хотя закусывать коньяк обыкновения не имел. Вид для посетителя фешенебельного супермаркета он имел престранный, но ни кассирша, ни охранник у выхода напротив кассы удивления вслух не выразили, лишь уважительно кинули взорами на увесистую денежную пачку, извлеченную Яном из травмированного кармана и плотно стиснутую золотой громоздкой прищепой с клеймом "Дюпон", насильно врученную Иреной для солидности. И то сказать, мало ли в Сумасшедшем Городе свихнувшихся миллионеров, которые обожают ходить в свежепродранных кожаных плащах, рубашках с оторванными с мясом пуговицами, и разлохмаченными модельными стрижками. Однако, Ян отметил и полный нехорошего интереса взгляд магазинного стража, проследивший за ним на улице и удовлетворенно отметивший отсутствие собственной машины у подвыпившего миллионера. Назревало очередное приключение и Ян Владиславович провидчески нарочно замедлил шаг и слегка юродствуя стал заплетать ногами. Пройдя несколько домов за светофор по направлению к Садовому кольцу, провокатор, замешкавшись на углу, свернул в нехороший, темный переулок.
Ожидания Яна Владиславовича не замедлили исполниться. В проулок тут же, следом, неспешно шурша шинами, свернул автомобиль. Медленно, по пятам, протащившись с десяток метров, словно принюхиваясь в засаде, авто остановилось и, вдруг, шумно газанув, обогнало Балашинского. Но тут же затормозило, вылетев передним колесом на узкий тротуар и отчасти перекрыв проход.
Из доисторической серии раздолбанного "БМВ" вышел нагловатый, с щетинистым черепом, отморозок, как на вскидку определил его статус Ян, и ухмыляясь в превосходной степени, занял своим раскачанным корпусом остатнее свободное место между припаркованной колымагой и стеной дома. Из мутных, затемненных окошек "БМВ" на Балашинского пялились по крайней мере еще две широченные рожи, сладко предвкушающие свой скорый выход на сцену. "Скорее уж на арену!" – позабавился про себя Ян, – "как первые христиане, не подозревающие за ее железной решеткой голодного льва". Парень, шагнувший навстречу приближающемуся Яну, несмотря на наличие увесистого креста поверх черной с алой надписью футболки, менее всего походил на мученика-христианина, но и Балашинский, чтобы продлить остроту удовольствия, продолжал валять дурака.
До быкообразного качка оставалась пара-тройка шагов, и Ян остановился, скалясь пьяненькой, приветливой улыбкой. Отморозок, довольный легкой добычей, доверчиво идущей на заклание, пружинисто выпрыгнул вперед и со словами: "Здорово, братан! Закурить не найдется?", плюхой опустил тяжелую руку Яну на плечо.
Ян сильно качнулся под напором мощной длани, и помахав в воздухе уже на треть пустой бутылкой, дружелюбно ответил:
– Извини, командир, сигареты все вышли, – и с напускной щедростью предложил, – но есть отличный коньяк. Выпей, не пожалеешь.
– Ну, давай, – громила развязано взял из рук Яна бутылку и, не отпуская, однако, его плеча, перелил в горло изрядную часть жидкости, – смачная халява!
Отморозок отхлебнул еще, посмотрел на Яна внимательнее, и, видимо, решил не тянуть резину и потрошить клиента немедленно. Рука, лежащая на плече Балашинского, тут же свирепо сжалась, впиваясь железными пальцами в кожаный отворот, и благоухающий поднесенным коньяком голос мерзко фыркнул слюнями Яну в лицо:
– Но с куревом ты, братан, не прав! Не могешь огоньку поднести, так отстегни шуршиками.
– У меня, командир, и мелочи нет. Только крупные купюры. Такие в ларьке не разменяют, – доверчиво, но и чуть-чуть глумливо, словно бахвалясь превосходством над безденежной шпаной, развел руками Ян.
Лицо бугая просветлело довольством от ответа добровольно нарывающейся жертвы.
– Ничего, братан, нам и крупные сгодятся. Разменяем! – и лиходей коротко и зло ткнул Балашинского каменным кулаком в подвздошину.
Но плотно сжатые, набитые до мозолей костяшки пальцев, вместо того, чтобы пропороть мягкую, пьяно расслабленную плоть, врезались будто в бетонную стену. Громила грязно выругался сиплым голосом и занес кулак во второй раз. Но и вновь его постигла неудача. Непонятная сила развернула его за корпус, и вместо челюсти доверчивого пьянчужки кулак рассек пустоту. Не удержавшись на ногах, в чем ему и помогли, отморозок бухнулся на асфальт, пребольно ударился мясистым затылком и на время затих. Однако, виновник его падения не стал добивать лежачего и, что еще более странно, убегать тоже не стал. Просто стоял рядом памятником в долгополом плаще, хотя не мог не понимать, что секунда-другая, и из видавшей виды иномарки гоблинами полезут обозленные подельники.
Что, разумеется, немедленно и произошло. Захлопали скрипучие задние дверцы, и вот уже двое из ларца, одинаковы с лица, предстали в лихой злобе перед Яном. С боевым кличем: "Ты, че, козел!", ребятки бросились вперед на амбразуру. В одной из ладоней щелкнул, взрезав отблеском лезвия негустую фонарную темноту, изрядный нож. Отморозки, дюжие и по-звериному бесшабашные, с двух сторон налетели на несговорчивую жертву. Надо ли говорить, что и их через мгновение приняла в дружеские объятия тротуарная панель. Ян же остался стоять как стоял, дожидаясь, когда быки придут в себя. Для верности, чтобы скоротать ожидание, спрыснул их сверху из мерзавчика остатками коньяка.
Громилы потихоньку очухались и сели на асфальт, глядя на невозмутимо стоящего над ними обидчика снизу-вверх. Волки как-то незаметно преобразились в шакалов, засветив в мутных глазах по трусливому огонечку. И совсем не оттого, что так непредвиденно и обидно получили по роже. Нет, ребята и сами были не дураки подраться и по мордасам получали не раз и не два, да и другим частям их сбитых накрепко тел доставалось изрядно. Пара ударов и позорное падение не могли сломить их хищнический, бойцовый дух. Но вот выражение лица их недавнего клиента, начисто утратившее вдруг былое пьяное радушие, заставило дрогнуть и пустить мурашками по коже их уличную бандитскую лихость.
Так безголовые пацаны взирают на откопанную ими в овраге фашистскую, чудом уцелевшую с войны мину, только что представлявшую мертвый и ржавый кусок металла. И вот ребячьи пальцы, курочившие ее смертоносную плоть отдергиваются в испуге, и она оживает и неотвратимо тикает чем-то внутри. И детвора понимает, что надо бежать, очень быстро и далеко, но нет на это сил, и сковывает страх и щемящее любопытство смертника, стоящего у последнего порога. И предвзрывная тишина оглушающа и сковывает уста, и невозможно отвести взгляд от предмета, соединившего в себе твою жизнь и смерть.
Мина еще только мирно тикала, но быки уже знали, что в этот раз неудача столкнула их с грозным матадором, которого бесполезно пытаться поднять на рога, а можно лишь умолять. Ян тоже почувствовал их покорную сдачу, и поняв, что более никакого захватывающего продолжения не предвидится, тут же потерял к отморозкам интерес. Но уходить не торопился, раздумывая, как с ними поступить дальше. Не то, чтобы Ян Владиславович вдруг озаботился безопасностью на улицах или проникся сочувствием к подгулявшим денежным кошелькам, следующим возможным жертвам поверженных им громил. Не было в его голове и мыслей о мести и воздаянии за проступки, роль людского судии никогда не привлекала Яна Владиславовича. Но Ян еще с незапамятных времен детства и юности любил во всем порядок и знал, что в окружающем его мире способствует его сохранению, а что ведет к анархии и безобразиям. Порядок людского существования и существования вампов должен был быть непреложен, иначе худо придется и тем и другим. И в первую очередь, недопустимо было, как мыслил себе Балашинский, чтобы подобные так откровенно и нагло грабили и истребляли подобных себе. Конечно, далеко не во всех случаях Ян Владиславович мог или позволял себе вмешиваться в человеческий распорядок и уклад жизни. Но вот на этот раз был подходящий случай исправить чужую ошибку.
Тащить этих троих с собой за город на прокорм семье не имело смысла. Во-первых, дома у него, слава богу, все были пока сыты, а держать в подвале несколько недель дебильных отморозков представлялось ненужными хлопотами. Во-вторых, доставить в поселок добычу можно было только в собственной машине быков, а Балашинский не только не удосужился научиться водить автомобиль, но имел смутное представление даже о том, что следует делать, чтобы запустить хотя бы двигатель. Да, собственно, Ян не видел ни удовольствия, ни нужды самолично управлять железной и неживой четырехколесной коробкой, то ли дело лошадь.
Но надо было принять, наконец, хоть какое-то решение. И Ян, с присущей ему жестокой фантазией, придумал, как сложить из разрозненных человеческих кубиков нравоучительную, и в то же время, не пугающую обывателя кровавыми пятнами, картину. Он сделал полшага к главарю шайки, требовавшего у него всего минуту назад закурить и теперь съежившегося на нечистом тротуаре, и коротко приказал:
– Садись в машину. За руль, быстро, – потом повернулся к оставшейся парочке, – а вам – сидеть и не двигаться.
Двое громил жалко закивали, а их предводитель сунулся к автомобилю, причем первые несколько шагов были им проделаны на карачках. Когда же он, наконец, занял водительское место, Ян отдал следующее распоряжение:
– Съедь на дорогу и припаркуйся нормально, как положено. Потом заглуши мотор и открой дверь.
Бык без возражений исполнил все в точности. Балашинский подошел к водительской двери, не очень беспокоясь о том, что происходит у него за спиной, а там не происходило ровным счетом ничего – одуревшие от сверхъестественного страха подельники и не думали рыпаться. Его черный плащ, будто грозовая завеса заслонил собой происходящее внутри салона. Они не могли видеть, как темная фигура, чуть наклонясь, одними пальцами правой руки сжала борцовскую шею их главаря, и не услышали, как хрупко и жалобно раскрошились под сжатой рукой позвонки. Но тут пришел и их собственный черед.
– Теперь, вы, по одному, марш на заднее сидение, – негромко и страшно повелела фигура в плаще.
Быки переглянулись, и один из них нехотя поднялся. Но, увидев, что с его командиром вроде ничего страшного не произошло – он тихо-мирно сидит, положив крупные руки на руль, пошел живее и уже секунды спустя бодро лез на заднее сидение. И усевшись, ощутил на своем загривке цепкий, стальной захват, и безболезненно отошел в лучший мир.
Покончив без шума и с третьим отморозком, Ян аккуратно прикрыл в машине все двери, и оглядел свою работу. Ребята сидели в салоне как живые, с предусмотрительно закрытыми глазами, и, казалось, предавались безмятежному сну.
Балашинский рассчитывал, что слух об этом тройном и необычном смертоубийстве быстро разойдется по здешней округе, и бравый смотритель магазинного порядка в следующий раз остережется посылать своих варягов вдогонку неповинному прохожему.
Испытал ли Ян удовлетворение от своей добровольной миссии, он не знал и сам, но настроение его перешло в мирный и благодушный регистр, отчего тяга к поиску приключений совершенно улетучилась. Больше всего в настоящий момент хотелось отыскать средней руки, но пристойное питейное заведение, где можно выпить в тепле и покое, пребывая в согласии с самим собой. И Ян, не торопясь, пешком отправился к Садовому кольцу, но не людными улицами, а дворовыми закоулками срезая путь, ведущий к оживленной и в ночное время автодороге. В какой-нибудь приглянувшейся забегаловке на обочине загазованной городской артерии он и намеревался осесть. Но у его судьбы-фортуны нынешним поздним вечером были иные планы.
Выйдя из облупившейся арки в очередной проходной двор и уже отшагав немного по протоптанной посреди чахлого газончика тропинке, Ян в стороне, за мусорными баками, чутким ухом уловил противное сопение и возню. Затем отчетливо в гулком дворовом колодце прозвучала и звонкая оплеуха, за ней еще одна. Ян и не подумал обращать внимания на шалости столичной шпаны, его путь на сей раз лежал мимо. Но тут за звучными затрещинами последовал тяжкий вздох-крик, умолявший о помощи, и немедленно кем-то задавленный, задушенный. Голос был женский, да что там женский – девичий, почти детский, полный безнадежной жути и безысходного отчаяния. Словно его владелица и не рассчитывала хоть на малейшую подмогу, а вскрикнула, чтобы не задохнуться от собственного ужаса.
Балашинскому, против воли пришлось остановиться. Не из христианского милосердия или рыцарского полузабытого долга, а от того, что был уверен: пройди он сейчас равнодушный мимо, и все его благодушное вечернее расположение будет непоправимо отравлено и разрушено, и для посиделок в пивной уже не будет повода. Дело было минутное, но польза от его разрешения представлялась очень даже ощутимой. И Ян, оставив колебания, свернул к бакам.
Так и есть – пьяные, вонючие от бормотухи, подростки, драли в куски одежонку на светловолосой девчушке. Один из них, похотливо оскалясь, зажимал девушке рот заскорузлой пятерней. Парни негромко ржали и перекидывались похабными словечками, словно предвкушением насилия продлевая жестокие радости от своей забавы.
Ян вмешался быстро и без злобы, даже никого из пьяных, малолетних дурней не покалечив. Да и удирала пэтэушная ребятня от страшного дядьки так, что в лунном свете часто-часто сверкали подошвы их разношенных кроссовок. Девчушка вроде не потерпела особенного урона, не считая отдельных деталей ее туалета, и Ян вознамерился уже следовать далее намеченным путем, как вдруг девушка, всхлипнув и шмыгнув мокрым носиком, схватила его за рукав:
– Не уходите, пожалуйста, я бо-о-ю-юсь, – и по всамделишнему разревелась.
Ян не стал вырывать руку, только досадливо хмыкнул. Но решил уж быть последовательным до конца.
– Ты где живешь, детка, – спросил, стараясь выказать голосом участие и тем самым остановить зарядивший было ливень слез, Балашинский, – ну, успокойся. Ну, же! Видишь, я никуда не ухожу, и уходить не собираюсь. До тех пор, пока не отправлю тебя домой. Так где же ты живешь?
– Здесь не очень далеко, – девушка еще всхлипывала, но была уже в состоянии говорить и слушать, – на Лефортовском валу. С мамой… У меня и пятьдесят тысяч на такси есть.
– У меня тоже, – усмехнулся ее простодушному страху Балашинский, – ладно, пойдем к Садовому кольцу…И чего тебя носит по подворотням в ночную пору?
– Не-а, обычно я дома в это время сижу, – горячо, словно непременно пытаясь оправдаться в его глазах, залепетала девчушка, – сегодня же День Города. И в университете я на первом курсе всего-то четыре дня. Мы пошли гулять с одногруппниками, чтобы поближе познакомиться. Познакомились.
– Так это твои приятели-студенты, тебя у помойки тискали, – нехорошо усмехнулся Балашинский.
– Нет, что Вы, – голос у девчушки сделался испуганным, – здесь, в доме, одна из моих новых подружек живет. Нина, кажется. Она всех к себе и позвала. Ребята еще долго у нее просидят. А мне домой надо. Я маме позвонила – она ругается.
– Ну, что же, все понятно объяснила. А теперь пошли, что ли, – Ян, на всякий случай взял в дворовой темноте девчушку под локоть, – тебя как зовут, студентка?
Девушка ответила чисто и просто:
– Маша.
Пройдя от силы десяток метров, Ян и его спутница вышли в пристойно освещенный проулок, и Балашинский как следует разглядел девушку. При электрическом свете она выглядела старше, чем показалось ему на первый взгляд и, действительно, могла быть и студенткой. В заблуждение относительно детского ее возраста Балашинского ввела ее коса, оказавшаяся сложным и декоративным предметом прически. Толстая, русая, искусно заплетенная, но недлинная, она придавала владелице несколько школьный вид. Голубые, чуть на выкате глаза со светловатыми, ненакрашенными ресницами, только усиливали это обманчивое впечатление. О достоинствах студенческого личика в целом ничего определенного сказать было нельзя, так как было оно заплаканным и местами распухшим.
– Мама у тебя как, очень строгая? – спросил вдруг Ян мнимую школьницу.
– Нет, она не строгая, просто нервная очень, – Маша подняла к нему лицо, подумала, посмотрела и объяснила, – мы с ней вдвоем живем. Она говорит, что у нас с ней, кроме друг друга никого на свете нет.
– А на самом деле? – поинтересовался для поддержания разговора Ян.
– А на самом деле есть еще папина мама в Воронеже. Только она пьет сильно, – девушка вздохнула вовсе с недетским сочувствием, – мама ей изредка и деньги посылает. Когда может.
– А отец где? – продолжал расспрашивать из праздного любопытства Балашинский.
– А он с нами давно не живет. Раньше помогал, а как в Америку переехал, так и забыл. Теперь даже и не пишет, – но осуждения не было в словах девушки, – он у меня врач. Кардиохирург.
– А мама у тебя кто? – с какой-то тупой инерцией задал Ян следующий ненужный вопрос.
– Тоже врач. Терапевт, но в хорошей поликлинике, – Маша на миг призадумалась и вдруг отважно предложила, – если Вы заболеете, я маме скажу, она Вас бесплатно вылечит. Хотите?
– Я не заболею, – от нелепости самой этой возможности Ян расхохотался, но увидев недоумение в Машиных глазах, перевел стрелку разговора, – Ну, и как же ты представишь меня своей маме? Познакомься – вот дяденька, который спас меня от хулиганов поздно ночью у мусорной свалки. Вылечи его, пожалуйста.
– Это трудно будет объяснить. Я как-то не подумала, – ответила ему Маша, но и добавила, – Если надо будет – объясню. Тем более мама – она умная. Она Вас увидит и все сразу поймет.
– И что же поймет твоя мама? – Балашинского начал занимать этот нелепый диалог.
– Что Вы очень сильный и очень храбрый. Вы – настоящий и замечательный!
– Интересно, с чего ты это взяла? Мы с тобой знакомы-то всего несколько минут, – Яну стало немного зябко и противно от ее незаслуженной похвалы.
– Вы же не прошли мимо. А другие прошли, – увидев его вопросительный взгляд, Маша пояснила, – до Вас там еще двое проходило. Я видела. И ни один не остановился и не подошел. Наоборот, чуть что не бегом прочь бежали. А я ведь громко кричала. Это мне потом уже рот зажали.
– Ладно, детка, все это уже в прошлом, – Ян снова увел разговор в сторону, хотя слова девушки задели его и были приятны, – а пока, раз уж у тебя имеется нервная мама, лучше тебе привести себя в порядок. Сейчас зайдем в какое-нибудь кафе, ты пойдешь в туалетную комнату, а я тебя подожду… Не беспокойся, я не уйду.
Ян остановил свой выбор на заведении с романтическим названием "Кантри-бар". Девушка направилась в туалетную, а Балашинский, как и обещал, расположился за столиком в ожидании. Маша отсутствовала порядочно времени, и к ее приходу Ян успел опорожнить пузатый графинчик со сносным армянским коньяком. Идти ему уже никуда не хотелось и, напоив девушку кофе, он предложил ей отправить ее домой на такси:
– Не волнуйся, я запишу номер и хорошо заплачу, чтобы тебя проводили до подъезда. Меня обычно не рискуют обманывать, – сказал он обеспокоенной Маше и сказал правду, – а чтобы было спокойней, оставь мне номер телефона и через пятнадцать-двадцать минут я перезвоню и спрошу, как ты добралась до дома.
– А если к телефону подойдет мама? – схватилась за соломинку Маша.
– Не беда. Скажу, что я отец этой твоей Нины и беспокоюсь, как доехала ее подружка, – рассудительно ответил ей Балашинский, – не бойся – в одно и то же место пушка дважды не стреляет, – перефразировал он на свой лад известную поговорку.
Как и договорились, Ян усадил Машу к мирному пожилому частнику, которого не было нужды запугивать или предупреждать – дедок съежился от одного его взгляда, но везти не отказался – очень уж хотелось легких, немалых денег. Даже одолжил обрывок оберточной бумаги и замусоленный карандаш, и Маша крупными четкими цифрами записала спасителю номер своего телефона. После чего, помахав из-за стекла сжатой ладошкой, девушка отъехала.
Балашинский вернулся обратно в ресторанчик и, как ни в чем не бывало, продолжил приятное распитие в одиночестве. Но через полчаса, неведомо зачем, запросил у официанта трубу и набрал номер с замасленной бумажки. Подошла и впрямь именно Машина мама, он представился, спросил, получил ответ и благодарность за заботу. Потом повесил трубку и машинально сунул ненужный теперь клочок обертки в карман многострадального плаща.
Домой беспутный странник вернулся около четырех утра. Но загородное его именьице еще не спало, и в Большом доме нижние бойницы окон сияли белым верхним светом. В зале, по интерьеру напоминавшей его Сочинскую гостиную, только роскошней и куда огромней размерами, сидело целое общество. В центре его разглагольствовал Фома собственной персоной, аудиторию ему составляли Лера и Тата и изрядно подвыпивший Стас. Тут же парочкой расположились в углу на одном широченном кресле и "архангел" со своей половиной, заглянувшие на огонек из своего особнячка. Рита спасала в руках высокий стакан, истыканный соломинками и наполовину пустой, который ее ненаглядный Миша пытался отобрать и немедленно допить. Ритка же держала и не давала. Оба при этом хохотали и в шутку ссорились. Остальные члены семьи еще, по-видимому, отрывались в городе.
Ян не пошел к себе сразу, а присоединился к общей компании. Болтовня приняла еще более оживленный характер, так как каждый старался рассказать хозяину, ставшему в последнее время на удивление общительным, о своем, о личном. Ритка, которая, как и встреченная им сегодня девушка, третий день пребывала в студенческом статусе, со снисходительным пренебрежением забавно передразнивала страх первокурсников перед обязательной "анатомичкой". Ей, навидавшейся за время работы в боевой группе самых разных покойников и в секунду вскрывающей "комариками" шейную артерию с ювелирной виртуозностью, были смешны их детские волнения. Честно говоря, для Яна не было неожиданным ее стремление продолжить врачебное образование, и он извел порядком денег, пристраивая Риту в 1-й Медицинский. Теперь Мишино подразделение должно было пополниться палачом с профессиональными хирургическими навыками.
Ритка в Москве даром времени не теряла. Нанесла визит и родителям, представила им и Мишу. Пока в качестве перспективного и богатого жениха. Ничего не подозревающие ее родители были рады и ее возвращению, и серьезному молодому кавалеру. А, когда от Ритки потекли неиссякаемым ручейком деньги, и вовсе стали молиться на дочь.
Обещания же Фомы устроить для самообразования семьи насыщенную культурную программу отзвучали и остались сотрясением воздуха. Премудрый идеолог и сам выбирался из дома в исключительно редких случаях, а мысль о коллективных образовательных походах и вовсе выводила его из себя. Фома так и остался бы декоративной барской фигурой, дополняющей диванные подушки, когда бы не его недреманное око и не всеслышащие уши. Однако, он всегда оказывался в нужном месте и в нужное время, хотя его собственные передвижения и были сведены к минимуму. Но Фома увещевал, разъяснял, одергивал, спорил и выходил победителем. При этом не стравливал и не доносил. Потому в общине с ним делились, хоть и не принимали всерьез. Все, за исключением хозяина и, быть может, отчасти, "архангела". Но последнему было все равно.
На следующий день в Большом и малых домах спали заполдень. До обеда резиденция напоминала неспешное сонное царство, и не потому, что братья так уж нуждались в долгом отдыхе после разнообразной ночи. А только дел по выходному времени не было ни у кого, разве что у Таты. Да и она не торопилась, лениво возясь на кухне.
Ян по случаю праздничной неспешности выходить в столовую не пожелал. И Тата отправилась к нему с обедом. Подав все, что полагается, оглянулась в спальне в поисках непорядка. Так и есть – одежда разбросана как попало, значит раздевался прямо здесь, не в гардеробной. Но ничего, сейчас она скоренько все соберет и унесет. Тата подхватила с полу кожаный плащ и охнула:
– Батюшки светы! Ну и дырища! – Тата разглядывала вчерашнюю прореху, единственный видимый результат вечерних развлечений, – Ян, где это тебя так угораздило?
– Ерунда. Убегал вчера от милиции и зацепился, – Ян на секунду оторвался от суповой тарелки.
– И что теперь с этим кошмаром делать? Может, охране из поселка отдать?
– Не вздумай, я к нему привык, – прогудел с полным ртом Балашинский, – отдай в починку.
– Зачем это? Я и сама прострочу, – горделиво ответила хозяйственная Тата. И стала выкладывать на прикроватный столик содержимое хозяйских кожаных карманов, – А это что за обрывок? И на нем телефон. Без имени. Выбросить?
– Выбрось… Хотя нет, погоди. Дай-ка сюда.
Тата протянула криво оторванный кусок обертки и Балашинский сразу вспомнил, кому принадлежал безымянный номер и при каких обстоятельствах он был получен.
Не то чтобы Ян Владиславович имел жалобы на память, скорее сознание его, чтобы не переутомляться многовековой ненужной и лишней информацией, действовало избирательно. Вчерашний инцидент был доведен до логического завершения, последствий не имел и иметь не мог, а, посему, был безжалостно вычеркнут, вытерт, выкинут вон. И бумажку следовало отправить в мусор там же на месте, сразу после звонка, да и звонок был лишним, нелепым сантиментом. Однако же позвонил. И бумажка по рассеянности не выброшена, вот она лежит. Конечно, можно это сделать сейчас, просто отдав Тате. Но Ян знал, что это было бы уже бесполезно – дважды попавшись ему на глаза этот проклятый номер намертво впечатался, врезался в память, так что его символическое уничтожение будет бессмысленным и бесполезным.
– Положи на стол. Рядом с деньгами, – Балашинский сделался внезапно хмур и раздражен, – а что, Ирена вернулась?
– Вернулась. Уже восемь утра было, когда они изволили пожаловать, – ехидно и с шутовскими нотками в голосе отвечала Тата, – еще не вставали и будить не велели. Или все же разбудить?
– Не надо. Пусть себе спит. Надоела, – к чему или к кому хозяин отнес последнее слово Тата не поняла. Но ясно, что не к ней – Ян смотрел мимо нее и взгляд его был беспокоен, – Тата, ты вот что. Ты тарелки уноси. Я вставать буду.
– Хорошо, – Тата положила стопкой собранные с полу вещи и приняла у хозяина поднос, – Из одежды что принести? Для выхода или по-домашнему?
– Как хочешь, – не вникая в суть ее вопроса, ответил Балашинский, но увидев недоуменное выражение Таткиного лица, опомнился и сказал, – Давай для выхода.
– Ты в город, что ли, собрался? – поинтересовалась Тата, – Так, может, вызвать такси или ты с кем из ребят поедешь? Только учти – еще никто не обедал. Ты первый.
– Подожди, Тата, не наседай, – Ян досадливо сморщил лоб, – я еще сам ничего не знаю. Поеду – не поеду. А если и поеду, то куда?
– Как это так? – совсем растерялась Тата.
– А вот так, – отрезал Балашинский. В спальне на минуты повисла неподвижная тишина. Потом Ян, словно очнувшись от задумчивости, попросил, – Подай мне телефонный аппарат, пожалуйста. А сама иди.
Когда нагруженная посудой и одеждой заботливая Тата, наконец, закрыла за собой дверь, Ян снял трубку. Но на кнопки нажимать не стал, держал трубку на весу, словно удивляясь тому, зачем она вообще в его руке. Потом сказал сам себе: "Глупость какая. Это все от скуки". Однако, встал, взял со стола найденную Татой бумажку, посмотрел в нее, словно проверяя себя. Подумал, постоял, выругался в сердцах по-мадьярски и набрал номер, не зная зачем и что будет говорить.
ГЛАВА 12. МАШЕНЬКА
Нервное возбуждение отпустило девушку только на пороге дома, когда, в ответ на дребезжащее курлыканье звонка, за дверью послышались торопливые, шаркающие тапками, шаги матери. Словно добралась до безопасной гавани: войди и спасись. Но еще не провернулся до конца замок, по ночному времени запертый на два оборота, как тревожный бесенок толкнул Машеньку в бок – никак маме не надо знать, что приключилось давеча с единственной дочкой. И Маша повела плечиками, выпрямилась бодро и загодя широко улыбнулась.
Мама резких слов говорить не стала, хотя Маша видела – до ее прихода было волнительное ожидание и много сигарет. В большой комнате, читай гостиной, меньшая, смежная – спальня, накурено и сизо. Маша открыла балконную дверь настежь и после вышла на кухню:
– Мамуль, давай чайку попьем. Я чайник ставлю, – позвала Маша, а мама, Надежда Антоновна, уже тут как тут, зашла следом и взгляд все еще цепкий, встревоженный, – давай прямо здесь и посидим. Я тебе про новых подружек расскажу… Я по тебе соскучилась ужас как. Раньше всех ушла.
И не покривила душой. Не часто, но бывало, не то, чтобы Маша, не видя мать целый день, а на больший срок они и не разлучались, испытывала всамделишную тоску и грусть, а все же щемило сердце, если мама, особенно вечерами сидела дома одна и ждала, ждала. Маша, находясь в такие минуты далеко от дома, будто кожей ощущала ее ожидание и почти истеричную тревогу и боязнь за дочь. И если по возвращению случались резкие монологи и укоры и иногда слезы с неисполняемыми никогда угрозами, то Маша не пререкалась и не выражала обид. Она была уже большая, чтобы понять – это мамин неистребимый страх выходит наружу. Потому что, откричав и отплакав, Надежда Антоновна прорывалась ласками и счастьем, что ненаглядное ее дитя цело и невредимо и у нее под боком, и повезло, и на этот раз тоже волнения были напрасны.
На сей раз, увидав в дверях дочь, с личиком, сияющим улыбкой, Надежда Антоновна и вовсе воздержалась от высказывания тревог. Хотя Машенька, сообщив по телефону, что вот-вот едет домой, задержалась на добрых полчаса от самого оптимистичного, предполагаемого времени своего прибытия. И опоздание ее, как всегда, стоило Надежде Антоновне седых волос, трясущихся рук и полфлакона валерьянки, подкрепленного десятком сигарет. Но не хотелось именно сегодня портить дочурке настроение. Тем паче, что вот уже Маша и студентка. Вырастила, выпустила, довела ее до порога взрослой жизни и теперь, хочешь не хочешь, а терпи. Нельзя же доченьке все время быть подле ее юбки. Не станет матери, совсем пропадет. Через материнскую боль и литры отравленной страхом крови пусть вкусит самостоятельности – с другой стороны в этом есть будущий покой для Надежды Антоновны.
Маша, чтобы увлечь маму на иную, приятную дорожку, начала неспешный, подробный рассказ, как была в гостях и как живет новая сокурсница и какие милые в их группе подобрались ребята. Словно и не было кошмара у помойки и ночного спасителя и угрозы страшной беды. Разливая по тяжелым, фаянсовым кружкам чай и выставляя из шкафчика-пенала баночку покупного джема и блюдце с шоколадным печеньем, Маша говорила не умолкая. Мама слушала, почти не перебивая вопросами, и видно было, отходила, оттаивала душой.
Про обещание своего спасителя-провожатого позвонить и узнать, все ли с ней в порядке, Маша позабыла, как только переступила порог родной квартиры. Нужда в чужой помощи и заботе улетучилась подле матери, и ее ночной заступник начисто выветрился из Машиной головы, тем более, что она даже не знала его имени и в глубине души не ожидала никакого дальнейшего в ней, Маше, участия с его стороны. Звонок был, собственно, уже ни к чему, но тем не менее, прозвучал.
Девушке и на ум не пришло, что телефонное сиплое треньканье может быть адресовано ей, и потому Маша, прервав свое занимательное повествование, равнодушно ждала, пока мама снимала трубку с параллельного кухонного аппарата. Надежда Антоновна сначала слушала, чуть посуровев, потом просветлела, отвечала тепло, рассыпаясь в благодарностях и извинениях за беспокойство, после чего, мило попрощавшись повесила трубку. Маша была уверена, что это звонила сочувствующая Лиля, ближайшая мамина подруга и поверенная всех ее тревог. Наверняка мама, дожидаясь любимую дочь, оповестила Лилю о своих ночных страхах, и вот теперь верная подруженька сделала дежурный осведомительский звонок. Но Надежда Антоновна обратилась к дочери с совершенно нежданными словами.
– Какой все-таки милый человек, – и горестно, против воли, вздохнула, – везет же некоторым женщинам… и детям. Надо же: чужой ребенок, первый раз в доме и так беспокоится. Что же ты мне не сказала, что отец Нины тебя проводит, – в голосе мамы зазвучала запоздалая досада, – я бы не изводилась так из-за тебя. Какая же ты, Маша, жестокая!
– Чей отец? Кого провожал? – опешила на мгновенье Маша. Но увидав совершенно уже неописуемое выражение материнского лица, вдруг вспомнила и сообразила КТО и ЗАЧЕМ сейчас звонил, – Ах, да! Так Нинин папа не меня одну провожал. Со мной еще две девочки ушли. Потому и задержалась, пока их ждала. А зачем он звонил? – наивно спросила Маша, полностью успокоив маму вдохновенным враньем.
– Зачем, зачем? Хороший, порядочный человек, потому и звонил. Как ты доехала спрашивал, беспокоился, – проурчала, впрочем, миролюбиво, Надежда Антоновна, – не то что наш эмигрант. Уехал и плевать хотел на родную, между прочим, дочь!.. Но не будем на ночь о плохом.
Надежда Антоновна разлила еще по чашке, заметив, однако, что до утра в туалет теперь не набегаешься. И что у нее завтра утренний прием, а Маше предстоит первый, серьезный день занятий. И стала вслух вспоминать свой собственный первый институтский выход, и как забыла от волнения дома новенький медицинский халат, как переживала и боялась выволочки, а он в тот день и не понадобился. Но Маша слушала в вполуха.
Нехорошо и некрасиво – такой приговор зачитала девушка собственной забывчивости. Как страх долой – так и спаситель из сердца вон! Действительно, хороший человек, права мама, хотя по его виду и не особенно скажешь. А может Маше просто с перепугу все казалось в ином, черном свете. И не бросил, не сплавил на такси, а вот же, позвонил, как обещал. Не видел никакой реальной для нее опасности и потому отпустил одну. А она, Маша, бессовестная, неблагодарная. Могла бы думать о людях лучше, и вспомнить, и подойти, и ответить на звонок. Ах, как же неприятно! Конечно, этого человека она никогда больше не увидит и не услышит, но стыдно-то перед самой собой, и ничего уже не поправишь.
Нельзя сказать, что Машенька, Мария Александровна Голубицкая, в свои полные семнадцать лет была законченной и нудной моралисткой. Совсем наоборот. Коря себя время от времени за подлинные или кажущиеся нравственные промахи, Маша готова была тут же на месте прощать подобные же грехи близким и посторонним людям, находя тысячи оправданий их неприглядным поступкам. Не то, чтобы Маша страдала вселенской скорбью и слабодушным всепрощением. Но, ведая про себя причины собственный проступков и неблаговидностей, ничего подобного не могла знать о других и мыслей читать не умела, а потому и не считала себя в праве осуждать кого-нибудь. И был у такого ее поведения свой корень.
Маша Голубицкая с раннего детства, насколько она его помнила, любила своего отца, Александра Даниловича Голубицкого, весельчака, балагура, циника, неверного мужа и хирурга божьей милостью. Отец, которого Маша помнила в доме лишь урывками, никогда ее не наказывал и не ругал, как, впрочем, никогда и не воспитывал, ничего не запрещал и не говорил "нет" на любые Машины просьбы что-то купить или принести, будь то щенок или новый велосипед, и обещал на следующий же день все исполнить. Но, за редким исключением в виде Новогодних праздников и Дня ее Рождения абсолютно ничего из обещанного не выполнял. А Маша и не думала обижаться. Попросив о чем-нибудь отца она и сама через короткое время об этом забывала, а если и помнила, то терпеливо ждала, успокаивая себя тем, что папа ее занятой человек, сильно устающий на работе, и он не виноват том, что ничего сделать для дочери просто не успевает.
Но мама ее ничего подобного во внимание принимать не хотела и постоянно корила отца за невнимательность к собственному ребенку, за пустые обещания, за полное пренебрежение к мужским домашним обязанностям, то и дело поминая при этом какую-то загадочную прописку, поманившую его в семейную жизнь. Александр Данилович на упреки жены обычно не отвечал, а если и делал это, то находил, на взгляд Маши, очень забавные, смешные слова, совершенно, однако, не веселившие маму, а совсем наоборот. Обычно, при первых признаках надвигающегося семейного бурана, отец ускользал, утекал прочь, находя сотни неотложных дел вне дома. А однажды не пришел совсем. Как, захлебываясь слезами, поведала ей мама, отец нашел другую дуру с пропиской.
После родительского развода Машина жизнь ничуть не ухудшилась, а скорее даже изменилась в лучшую сторону. Отца, Александра Даниловича, Маша видела куда чаще, чем в семейные совместные времена, да и сделался ее любимый папа куда более заботливым и куда менее забывчивым, по крайней мере по отношению к ней, к Маше. Когда же Маша пошла в четвертый класс, Голубицкий, ставший к тому времени одним из ведущих и труднодоступных хирургов небезызвестного в Москве кардиологического центра, своим влиянием перевел дочь во 2-ю школу с математическим уклоном. За что получил даже одобрение Надежды Антоновны. Впрочем, Маша никогда не понимала и не поддерживала материнских обид на отца, хотя не озвучивала, из жалости к маме свою позицию. Даже, когда Александр Данилович Голубицкий еще три года спустя отбыл в Соединенные Штаты, и до сей поры от него не было ни слуху ни духу. Справедливости ради надо заметить, что не только Маша и ее мама, но и еще две бывшие, разведенные жены талантливого хирурга не имели от него ни известий, ни какой-либо помощи.
Однако, продолжая хранить детские теплые чувства к отцу и не смея осуждать его, Маша не могла оценивать в худшую сторону и поступки менее близких ей людей. Поступить иначе значило нарушить некое табу, допустить крамольную мысль, что отец ее, как и многие другие, подл и нехорош, что она, Маша Голубицкая просто дура.
На следующий день, первый ее день серьезных занятий, Маша честно отсидела три пары с часовым перерывом на обед и в около четырех была уже дома. Лекции и один семинар показались ей довольно скучными, ибо, учитывая ее подготовку в спецшколе, Маша не узнала пока ничего нового. Но знала так же, что физический факультет университета на Воробьевых Горах заведение серьезное и поблажек не дает, и потому мужественно села листать учебники впрок. Надежда Антоновна еще не вернулась из клиники, но, конечно, отзвонилась и осталась довольна занятиями дочери.
Маша усердствовала еще и оттого, что надеялась на мамино позволение осуществить некую вечернюю программу. Вчерашняя Нина, отец которой, кстати сказать, читал в настоящий момент лекции в Пражском университете, и другая новая подружка Леночка, крошечного росточка хохотушка из Питера, проживающая в столице у бабушки-москвички, затевали настоящий разгул с посещением Пушкинского кинотеатра и "Макдональдса", расположенного напротив. Из предполагаемых развлечений можно было сделать вывод, что обе затейницы были девочки ученые и домашние, далекие от недетской дворовой жизни, то есть воспитанные и, как говориться, из хороших семей. Звали присоединиться и мало чем отличавшуюся от них Машу. Пока есть силы и время и учебная машина не запущена на полную катушку.
После маминого контрольного звонка не прошло и десяти минут, как окаянный телефон, сбив с мыслей, вновь противно затренькал. Или мама забыла что сказать и поручить, или, что вернее, Нина, а может, Леночка беспокоятся о вечерних планах. Во-втором случае Маша была не прочь отвлечься и поболтать.
– Алло, – раздался в трубке низкий мужской голос с едва уловимым, но с определенно откуда-то знакомым иностранным акцентом, – будьте добры позвать Марию.
– Я слушаю, – ответила настороженно Маша и на всякий случай уточнила, – а с кем я говорю?
– Меня зовут Ян Владиславович, или, если угодно, просто Ян, – представился голос в трубке, – мы встречались с Вами вчера при обстоятельствах, которые лучше не упоминать.
– Ох, так это Вы! – Маша и обрадовалась, и смешалась одновременно. С одной стороны, она могла оправдаться перед собой в непростительной вчерашней забывчивости, а с другой, чувствовала неловкость от звонка и совершенно не представляла, что сказать собеседнику, кроме банального, – Спасибо еще раз за Вашу помощь. Вы меня вчера по-настоящему спасли. Я ни за что этого не забуду.
– В самом деле? Что же, это весьма кстати. Чем Вы сейчас заняты?
– Я только что из университета и вот, села за книжки. А Вы, наверное, с работы звоните? – аккуратно и невзначай попыталась прояснить абонента Маша.
– Нет, не с работы. Я не студент и не государственный служащий и посему на сегодняшний день объявил выходной себе и своему окружению.
Надо же как! Он что, принц или президент – "моему окружению"? А может и кое-кто похуже. Но тут Маша осадила себя: ну, вот опять. Какое она имеет право думать гадости про незнакомого человека, к тому же оказавшего ей бесценную услугу. Да и не похож он на бандита, ну ни капельки. Ни на киношного, ни на взаправдашнего. К тому же, может ее спаситель и впрямь иностранец и оттого выражается не вполне понятно. Спаситель тем временем продолжал развивать свою мысль.
– Вот что, Маша. Если и Вы предполагаете объявить своим трудам на сегодняшний вечер выходной, то я с удовольствием составлю Вам компанию. Если, конечно, Ваша мама будет не против. Как Вы уже могли убедиться, в моем обществе городские прогулки будут вполне безопасными.
Еще бы не безопасными! Маша, как ни была вчера напугана, но не могла не заметить, как пренебрежительно легко этот Ян раскидал свору далеко нехилых уличных зверят. Но зачем он приглашает ее, неужели на настоящее взрослое свидание? Машу бросило в жар. Да нет же, глупости какие, зачем она, ничем не замечательная Маша Голубицкая, такому взрослому и серьезному, а, главное, совсем не простому человеку? Но что же это она, так непозволительно долго и невоспитанно молчит в трубку!
– Вы знаете, Вы извините, но мама наверняка будет против. Поэтому, я даже спрашивать ее не буду. Но вот мы с подружками сегодня собираемся в кино. Часов в семь. Так что если хотите…, – о, господи, ну какую чушь она несет. Какое кино! Какие подружки! Детский сад, да и только.
– Весьма замечательное предложение. Встречаемся сегодня в семь. Какой кинотеатр?
– Пушкинский, – пролепетала ошарашенная его легким и неожиданным согласием Маша.
– Тогда я буду ждать Вас и Ваших подруг у памятника. Итак, до встречи, Маша?
– Да, до встречи, Ян… э-э…, – вот, как всегда прослушала отчество. Опять конфуз – она настоящая гусыня, – извините, я…
– Ничего. Для Вас я просто Ян, – постановила трубка и дала отбой.
Маша еще несколько ненужных секунд сидела со снятой телефонной трубкой в руках, гневно пищащей короткими гудками. Потом все же положила ее на рычаги. Сегодня, в семь часов! А с чего она, глупышка, взяла, что непременно будет в это время у памятника? Мама пока о ее планах не оповещена, и добро на посещение кинематографа не получено. Да и разве только в этом дело. Ну хорошо, ну придет она к памятнику. Но и Нина с Леночкой придут. И как им объяснить, что к их девичьей компании собирается присоединиться взрослый, чужой дядька, которого неизвестно даже как и в качестве кого представить? Разве что выдать за иногороднего родственника. Но об этом надо было думать и договариваться заранее – теперь этого Яна ищи-свищи. Телефона-то он не оставил. А не приходить вовсе – некрасиво и бессовестно. Значит, любым способом придется убеждать и ублажать маму, а с подружками уж как повезет, так и разъяснится.
А главное, что надеть-то? Одно дело – с подругами в кино, другое – с малознакомым мужчиной, которому, чего уж греха таить, очень хотелось бы понравиться. Хотя бы уж потому, что вчера, после случившейся с ней неприятности, вид у Маши был не ахти какой. а хотелось бы произвести на спасителя благоприятное впечатление. Что не зря старался и тратил на Машу время. А то вдруг он решил, что Машенька сама по себе девица легкомысленная и легкодоступная, отсюда и сегодняшнее свидание у памятника. И опять она думает гадости! Если бы этот Ян и вправду так считал, то уж не в кино бы приглашал, а в ресторан или к себе домой.
Отложив учебники и уже не думая о них, Маша подошла к мебельной стенке и распахнула дверцы гардероба. И на добрый десяток минут застыла в тяжелой задумчивости. Джинсы и теплый, вязаный мамой, пусть и искусно, свитер, наряд, намеченный ею на сегодняшний поход, Маше совсем не показались. Можно было бы надеть черную, долгую юбку, красивую итальянскую вещь, купленную Надеждой Антоновной в подарок дочери к прошлому дню рождения, дорогую даже и по распродажной цене. А к ней, допустим, белую, строгую, но модную по сезону кофточку, сшитую давнишней маминой знакомой-портнихой, да так, что не отличишь от фирменной, разве только материал. Но тогда совершенно не годиться спортивная, балоньевая, в надписях, куртка. А более сверху надеть и нечего. Единственная подходящая вещь, длиннополая дубленка не годится для ранней осени и выглядеть в ней, даже в расстегнутой, Маша будет совершенно нелепо.
Постояв еще немного перед шкафом, Маша вздохнула, приняв единственно возможное решение, и захлопнула дверки. В чем собиралась идти с подругами, в том и пойдет. А если кому не понравиться, то тут она не виновата. Да и какое там свидание, навыдумывала на смех курам. И мама может заподозрить неладное, вырядись Маша подобным образом в обыкновенное кино.
Но, все же пошла в ванную и, склонясь над раковиной, тщательно вымыла голову. Подсушила волосы феном, после распушила. К маминому приходу они должны были высохнуть совсем. А там уж Маша заплетет их в косу пооригинальнее, она на это мастерица. Все равно больше ничего не придумаешь и не изобретешь. Косметики у нее нет и не было, Надежда Антоновна этого не одобряла, украшений, тем паче золотых, не наблюдалось тоже, не те у них с мамой доходы. А вот французские духи, их на трюмо в спальне стояло с десяток коробочек от благодарных и богатых пациентов, можно, пожалуй, и взять. Что, что, а пахнуть хорошо в их дружном с гигиеной доме совершенно не возбранялось. Тем более, что мама сама призывала к активному их использованию, чтобы не выдыхались и не застаивались.
Мама пришла домой около пяти и застала Машу за неизменным учебником, а стол накрытым к позднему обеду. Сам обед пребывал в разогретом состоянии на плите. И необходимое разрешение было Машей очень скоро получено. Правда, пришлось позвонить домой к Леночкиной бабушке и передать трубку маме, которая обстоятельно обговорила вечернюю программу сначала с Леночкой, а потом и с не в чем не повинной и наполовину глухой бабушкой. Набрать Ниночкин номер Маша побоялась, во избежание ненужных вопросов и неприятностей. Отговорилась занятостью Нининых родителей на работе и отсутствием дома самой Нины, якобы спешно дополучающей недостающие книжки в библиотеке. Было поставлено условие о возвращении не позже, чем в двенадцать часов и обязательном звонке из кинотеатра по окончании сеанса. С Леночкой и Ниной место встречи и время было оговорено, конечно, до маминого прихода, но объяснить свои настоятельные просьбы подругам встречаться непременно у памятника со скверной репутацией и непременно в семь, Маша так и не решилась. Может, ей просто повезет, и сумеет удивиться и сослаться на случайную встречу с маминым знакомым, а может Ян и вовсе не придет, и все это просто нелепое недоразумение.
Около шести Маша стала потихоньку собираться, объяснив маме – она хочет прийти заранее, чтобы, упаси бог, не разминуться с подружками. Надежда Антоновна такую предусмотрительность одобрила, заметив, что сама она в жизни еще ни разу никуда не опоздала, в отличии от небезызвестного гражданина, когда-то разделявшего с ними жилплощадь и опаздывавшего везде и всюду, даже туда, куда ни один порядочный человек не позволит себе опоздать. И как хорошо, как замечательно, что любимая дочка пошла в смысле пунктуальности и обязательности в нее, а не в этого гражданина.
Однако Маша имела совсем другие основания и мотивы для раннего прихода. Ее надежда и расчет состояли в том, чтобы перехватить Яна до прихода Леночки и Нины и обговорить с ним правдоподобную версию его появления. И было бы совсем хорошо потихоньку выяснить без свидетелей, зачем, собственно, ему было так нужно встретиться сегодня с Машей.
Но, к несчастью, ни одной из Машиных надежд не суждено было сбыться. Первая же неприятность подстерегла Машу у входа на станцию "Авиамоторная". Был конец первого послепраздничного рабочего дня, и у окошек касс выстроилась немалая очередь за жетонами. У Маши на беду ни одного проездного жетона не оказалось, и ей пришлось стать в хвост длиннющей человеческой гидре. Из четырех касс, как водится, открыты были только две, да и к ним то и дело норовили пристроиться без очереди.
После мытарств с жетонами Маша пробилась, наконец, к переполненному эскалатору и на перроне была благополучно внесена толпой в вагон. Но на перегоне к "Площади Ильича" поезд простоял по неведомой причине добрых четверть часа в душном туннеле. Так что, когда Машенька Голубицкая, в конце концов, вырвалась из метро на свежий вечерний воздух, растеряв в подземной сутолоке ароматы французского парфюма и идеальную целостность искусно уложенной косы, весь ее получасовой временной запас был полностью исчерпан.
А Леночка и Нина уже стояли неподалеку от памятника, опасливо озираясь на шумные тинэйджеровские компании и на развязанных и размалеванных девиц, в избытке фланирующих мимо. Яна нигде поблизости не было видно. То ли он задерживался, то ли просто не попадал в ее поле зрения, а может и передумал, решил вовсе не приезжать. В любом случае выбора у Маши не было, и она пошла к ожидавшим ее девушкам, тем более, что Леночка уже заметила ее и призывно замахала рукой.
Маша, подойдя к подругам, хотела уже, сбиваясь на ходу с мыслей, объяснить, что ей необходимо еще кое-кого? или чего? дождаться у памятника на площади, но растерялась, замолчала на первых же невнятных фразах и отказалась от своей затеи. Она пришла на условленное место вовремя и ведь не ее вина, что вчерашний Машин спаситель опаздывает по неведомой причине. Да и не придет он, успокоила себя Машенька, и звонка тоже никакого не было, это ей просто почудилось. И улыбнулась Леночке и Нине, и кивнула в сторону кинотеатра, что, мол, здесь стоять, пошли? И повернулась уходить и бросила последний рассеянный взгляд в сторону проезжей части Тверской. И взгляд Маши зацепился, и она обомлела.
Из припаркованного прямо у парапета перехода, в нарушение всех правил, дорогущего, "глазастого" "Мерседеса", с невообразимыми номерами, из распахнутой задней дверцы как раз в этот самый момент и вылезал вчерашний Машин спаситель, и он видел ее и улыбался ей. И вот уже шел к ней, легко и непринужденно перемахнув через железную трубу ограждения. И ни о какой случайной встречи речи и быть не могло: Ян небрежно, наперевес, нес в руках изящно и тонко исполненный, но совершенно шикарный по виду букет незнакомых Маше цветов. Девушка машинально сделала шаг навстречу. Подруги остановились и повернулись, смотрели с недоумением и любопытством. Когда же поняли, что и букет, и незнакомец адресованы лично Маше, то и с завистью. И не одни только Машины подруги. Как по команде в их сторону развернулись в боевом порядке все наличествующие на площади девицы, уставились и досужие, коротающие время на лавочках зеваки. И было отчего.
И кавалер, и букет, и машина выглядели сказочно и необычно, словно попали на замусоренную площадь прямо с картинки глянцевого, сладкого журнала. Особенно кавалер, богатый и интригующий на вид. На Яне уже не было вчерашнего гангстерского, с прорехой, плаща и громоздких полувоенных ботинок. Теперь его стремительную и стройную фигуру окутывало распахнутое, струящееся дорогой шерстью, осеннее пальто, дозволявшее видеть и однобортный, идеально пригнанный, темный пиджак и ослепительной белизны рубашку и умопомрачительной расцветки, но безумно шедший ему галстук. Ян был шикарен, мужественно красив и неповторим. И он шел к ней, к Маше. Он не опоздал и нигде не задержался, он просто ждал ее в черном немецком авто, не на площади же было ему стоять в таком виде, в самом деле! И увидел, что она приехала, как и когда обещала, и вышел на встречу.
– Здравствуйте, Маша, – это он обращается к ней, и протягивает цветы. И обратного хода нет, – я очень рад, что Вы пришли. Вы замечательно выглядите сегодня.
– Здравствуйте, Вы тоже, – и, конечно, первым делом сморозила глупость. Маша неловко переложила цветы в одну руку, второй указала на Леночку и Нину, которые ничего не понимали и жаждали объяснений, – Это мои одногруппницы и подруги. Это Нина. Это Лена… Девочки, а это Ян..!
– Очень приятно, – Ян слегка в знак приветствия склонил голову. Девушки сделали то же самое, но от неловкости бессловесно, – как вы уже понимаете, милые барышни, вашу подругу Машу я сейчас от вас похищаю. Надеюсь на вашу скромность и понимание. Побережем уравновешенное состояние души Машиной мамы. Вы со мной согласны?
Леночка и Нина опять ничего не смогли сказать и лишь жестами дали понять, что возражений не имеют.
– Отлично. Что же, желаю вам приятно провести время. Маша, прошу Вас, – Ян улыбнулся и широким взмахом руки указал на припаркованный "Мерседес".
У Маши все смешалось в голове, и картинка поплыла перед глазами. Не понимая, что и зачем она делает, Маша Голубицкая пошла рядом с Яном к машине. Только раз виновато оглянулась на брошенных подруг. Нина смотрела ей вслед с обидой и вызовом, во взгляде же хохотушки Леночки сквозило нездоровое, пачкающее любопытство. Машу передернуло.
ГЛАВА 13. ГЕКАТОМБА
Машина мягко, словно катер на речке, подминала пружинящий асфальт дороги. Плотные, тонированные стекла создавали эффект абсолютного вакуума в замкнутом, маленьком пространстве салона. Девочка потерялась, забилась в кожаные подушки сиденья и сжалась, как натужная пружина. Но Яну, отчего-то именно такое ее робкое и боязливое поведение пришлось по душе. Будто мышонок, подчинившийся гипнотически дудочке крысолова, заманилась она, не задумываясь о смысле и цели собственных поступков. Была понятна, проста до умиления в своем безропотном следовании, и все же загадочна и маняща сокрытым, истинным, не проявившимся вторым дном. И вот сидит почти рядом и ни за что, он чувствует, не решится первой начать разговор. Что же, не беда, он сам выступит застрельщиком и посмотрит, вылупится ли из куколки на этот раз бабочка. Любопытство и не более. И еще скука, тоска и расслабляющее благополучие. Нужны ли ему подобные игры? Вот в чем вопрос.
Машенька и без маминых подсказок понимала, что ведет себя сверхнеприлично. Мало того, что без расспросов и возражений она последовала за Спасителем в его авто, так теперь сидит букой и не находит сил повернуть даже голову в его сторону, не говоря уже о том, чтобы хоть поинтересоваться, а куда, они, между прочим, направляются.
Слава богу, что в машине они были не одни. Два передних сидения "Мерседеса" были оккупированы вполне милыми, улыбчивыми мальчиками, которые, хотя и не вступали с Машей и ее спутником в разговоры, то и дело оборачивались, даже тот из них, который непосредственно управлял автомобилем, и одним своим видом и выражением лиц давали понять, что очень рады новой гостье. Вид у обоих был весьма элегантный и самую чуточку женственный. Видимо, из врожденного воспитания и интеллигентности. Так что спутники Спасителя произвели на Машеньку благоприятное впечатление. Банальное и единственно правильное объяснение впечатлившей ее женственности даже не пришло в Машину далекую от богемных искушений голову.
Наконец авто плавно, без рывков и усилий, затормозило, и один из передних мальчиков, поспешно схватившись со своего места, распахнул перед Машей дверь. Спутник ее вышел с другой стороны без посторонней помощи. Интеллигентный водитель тоже покинул машину, щелкнув напоследок брелком от сигнализации. Из всего этого Маша справедливо заключила, что окружение Спасителя скорее не прислуга, а близкие друзья или любимые сотрудники. Сделав про себя подобный вывод, Маша, наконец, догадалась оглянуться и определить настоящее свое местоположение.
"Мерседес" оказался припаркованным у левого крыла гостиничного комплекса "Россия", и Маша, припомнив нехорошие слухи о повадках "новых русских", испугалась, уж не в снятый ли заранее номер они сейчас направятся. Но нет, у красочно оформленного выхода тускло и внушительно обозначилась ресторанная вывеска "Токио", к ней Спаситель и повел Машу, легко и цепко взяв за локоть. Тоже мало хорошего, в такие заведения известно кто ходит, но все же не настолько страшно.
Ресторан, по крайней мере на вид, был элитный и баснословно дорогой. На четверых им отвели целый отдельный кабинет, уютный и полностью отчужденный от остального пространства. Больше всего Машу устраивало то, что в этом райском гастрономическом уголке ей не придется ужинать наедине со своим новым знакомым. Может и Спаситель наперед предвидел ее затруднения и оттого пригласил этих милых мальчиков составить на сегодняшний вечер компанию. Его предусмотрительность, возможно, надуманная, была Маше приятна. Однако, до сих пор, хотя уже сидели за столом, всеми четверыми не было произнесено ни слова. И Спаситель не торопился представлять Машу своим друзьям. Осознав подобную странность в поведении, Маша почувствовала неловкость. И огляделась, и обнаружила, что и Спаситель, и интеллигентные мальчики смотрят на нее и улыбаются. И в ответ расслабилась и улыбнулась тоже.
– Вы успокоились. Вот и хорошо. Уверяю Вас, Маша, ничего плохого с Вами не случится. Я уже говорил Вам, что прогулки в моем обществе совершенно безопасны. Как только Вам надоест или наскучит наша компания, Вы покинете нас без малейших возражений. И Вас отвезут домой или куда Вы сами скажете, – разом расставил Спаситель все точки над "и", – а теперь давайте я Вас познакомлю со своими друзьями и в некотором роде деловыми партнерами.
Мальчики, однако, преставления дожидаться не стали, а назвались самостоятельно, по очереди, слегка привстав с мест:
– Максим.
– Александр.
И затеяли шутливую, легкую беседу, перемежая занятные байки комплиментами даме, впрочем, ненавязчивыми и изящными по форме. Ян больше слушал и смотрел со стороны, будто бы даже наблюдал и присматривался, в разговор по началу вступал редко и с несущественными замечаниями. Но когда, наконец, вознамерился обратиться к Маше, мальчики, как по мановению волшебной палочки, умолкли, оборвав на полуслове очередное занятное повествование.
К этому времени Маша чувствовала себя уже совершенно в своей тарелке, и даже получала удовольствие от незапланированного приключения и необычной еды. Слава богу, что заказ официанту был сделан без ее, Маши, участия, и ей не пришлось краснеть за свою полную неосведомленность в нюансах японской кухни. Даже традиционные палочки были заменены лично для нее на обыкновенные нож и вилку.
– Так что, же, Маша, Вы в самом деле студентка? – то ли насмешливо, то ли с недоверием спросил Спаситель.
– В самом деле. А что, непохожа? – Маша оказалась в силах и пошутить.
– И что же изучаете? Экономику? Финансы? Или, может быть, юриспруденцию? – вопросительно перечислил Ян модные постсоциалистические дисциплины.
– Не угадали. Физику в университете, – ответила ему Маша и отправила в рот огромный, цельный кусок рыбы с рисом. Поняв, что переборщила, усиленно заворочала челюстями, давясь и стараясь жевать, но держать рот закрытым. Оттого, занятая нелегким делом, Маша и не углядела, какой эффект произвел на Спасителя и его ребят ее ответ.
Не то, чтобы Ян Владиславович был ошарашен, подобного с ним давно уже не случалось. Но ответ девушки не укладывался в придуманный им легкий и ненавязчиво развлекательный сценарий нынешнего вечера.
Сначала все шло по нужному ему плану. Уж кто-кто, но Янош Балашши, венгерский рыцарь и венецианский затейник, мог вспомнить свое прошлое и произвести впечатление на кого угодно и когда угодно, было бы желание. И шикануть, и пустить пыль в глаза, и в несколько приемов увлечь любую горожаночку или дворяночку. И впечатляющее свое появление на Пушкинской площади Ян продумал заранее, но адресовано было оно вовсе не девушке Маше, а личной прихоти и мимолетной причуде.
Еще только собираясь на неожиданно придуманное свидание, Ян закапризничал, сгонял недовольно бурчащую Тату несколько раз в гардеробную и обратно. Потом и вовсе решил никуда не ехать, потом передумал, почему бы и нет? И велел принести парадное одеяние. После придумал и машину и взял из гаража самую шикарную, купленную Мишей всего пару дней назад для особо представительских случаев. В водители, вежливо полупопросив, полуприказав, снарядил Макса и Сашка. Неразлучная, любящая пара особо и не возражала, а скорее, наоборот. Ведь когда еще доведется увидеть дорогого хозяина в ослепительном наряде, направляющегося на всамделишнее свидание. Макс и Сашок, виновные в грехе любопытства, ни за что бы не пропустили такого события, а тут была и возможность поучаствовать лично.
Когда выходил к автомобилю во двор, из окна первого этажа выглянула ему в след Ирена, все еще заспанная и полуодетая. Пару секунд глазела на невиданное чудо, а после демонстративно покрутила указательным пальцем у виска и отвернулась. Ну и наплевать, он, Ян Балашинский, никому не обязан давать о своих поступках отчет и, если ему угодно дурить, то он и будет дурить.
Все же любопытно будет еще раз взглянуть на ту, которую он спас вчера от большой неприятности. Да и чужую благодарность увидеть и услышать тоже, наверное, будет приятно. Обычные люди почти что никогда не выражали и не испытывали в его, Яна, адрес подобных чувств. И благодарить Яна Владиславовича, им, по большому счету, было совсем уж не за что. Что и говорить, человеческое племя видело от него мало хорошего. А встреча с девушкой, обязанной ему и не имеющей ни малейшего понятия, с кем имеет дело, могла стать забавной.
Скорее всего, малышка и в самом деле этакая домашняя кошечка, мамина дочка, которую ничего не стоит смутить и заинтриговать. А на серьезные усилия Балашинскому тратиться не хотелось. Он выстроил для себя и соответствующий образ девушки, "студентки" на каких-нибудь не очень престижных и недорогих секретарских или бухгалтерских курсах, мамочкиного начинания для успешного устройства в жизни, не очень умной и недалекой, но скромной и самую малость затюканой. Иная и не была нужна. Развязных, раскрашенных, все на свете знающих девиц и малолеток были полны и приличные клубы, и затрапезные бары, и никакого интереса к этому дешевому товару Ян не испытывал. Роль же благодетеля невинной, пусть и простенькой милашки, с подходящим именем Машенька, щекотала уставшее и сонное самолюбие. Отсюда возникли и цветы.
Маша так естественно опешила и засмущалась подружек, что Ян Владиславович на миг ощутил себя взаправдашним коварным соблазнителем, компрометирующим в глазах всего света безупречную в праведной репутации монашку. Чего с ним не случалось уж давно. Девушка выглядела как съежившаяся от ветра мимоза, почти не воспринимала внешний мир, сжимала пышный букет так, словно он был спасительной соломинкой: отпустишь – пропадешь. Поэтому для начала даму развлекали менее стесняющие Макс и Сашок. Ян только наблюдал, наслаждаясь ее растерянным видом.
Но девочка, неожиданно, собралась и пришла в себя. И стала слушать и смеяться, там, где было смешно, и отвечать, там, где требовался ответ, и даже дерзить. И уже никому не показалась бы она глупой и недалекой. И Ян, по-настоящему заинтересовавшись, попытался уточнить ее статус, и уточнил, на свою голову.
Старательная, средненькая "студенточка" исчезла и на ее месте нарисовалась, неясными пока штрихами, умная и неординарная, судя по роду занятий и престижности учебного заведения, девица, уже не Машенька, а, наверное, Мария, чуть ли не по отчеству и с уместным обращением на "Вы". И сфера повседневных интересов этой девицы лежала вне пределов познаний и талантов самого Балашинского, далекого как от Луны, от всех областей естественных современных наук. Интрига обострялась и затягивала. И теперь уже самому Яну приходилось по переписанному внезапно сценарию быть настороже и не попасть впросак из-за собственного полного невежества и незнания основных тем и законов мироздания. Впрочем, никогда в его голову не приходило и тени мысли интересоваться подобными вещами. Но и в принадлежащей Яну колоде оставалось полным-полно козырных карт. Главные же два туза именовались "жизненный опыт" и "материальное благосостояние".
Пока же навел девушку на разговор о ней самой. Было довольно интересно и познавательно.
Маша, между тем, весьма толково излагала, все же больше адресуясь к Максу и Сашку, подробности своей будущей научной карьеры, попутно объясняя основы современного обучения и жалуясь на предстоящие учебные тяготы. Ян, словно исподтишка, без прежней непогрешимой самоуверенности, разглядывал девушку, будто только что впервые ее увидел.
Никакая она не серенькая мышка, разве чуть-чуть, самую малость "синий чулок". И не накрашена и не разряжена в крикливую юношескую попугаистость скорее не от робости и застенчивости, а от равнодушия к ненужным на ее занятой взгляд хлопотам, от заботы и уважения к матери, может быть, и не считает нужным тратить время на споры и пустые доказательства своей зрелости. Да уж, у этой-то Маши в голове явно вещи поважнее, чем тряпки и молодежные гулянки, крепкий орешек. А жаль. Она славненькая: и чистенькое личико, и промытая коса, и голубой, бесхитростный взор. Один только недостаток, что умна. А это трата времени и трата мысли, и быть может, пустая трата сил. С такими, как Маша, результат наперед не предсказуем, и любая собственная фальшь может выйти потом боком. Уж он знает.
А с другой стороны, можно подумать, он, Балашинский, Ян Владиславович, ограничен в своем времени и торопиться жить. А торопиться ему давно, с самого рождения, некуда. Ничто и нигде его не ждет, ни слава, ни крест, ни могила. Ждут только в Большом доме. Но и его обитатели тоже не связаны узами ни времени, ни спешности существования. Все дело только в трусости и лени, в никому не нужной и оттого бессмысленной экономии сил. В спячке желаний, куда Ян отправил себя сам, выбравшись по невероятному случаю из погребальной ямы и испугавшись на веки вечные ее черного безмолвия. Оттого и обрек нынешнего Балашинского на прозябание невидимым червем, глистом в теле человечества, которое сам же презирает и еще больше боится. Питается его соками, оставаясь тайным и невидимым. Но чего ему, ему-то перворожденному вампиру, вурдалаку Яношу, почти неуязвимому в нынешнем стремительном мире, бояться? Да он и не один – вон сколько новообращённых, родных душ идут рядом. Ловят каждое слово, будто он пророк, и во имя им созданной семьи готовы на все. Надо – и будет их больше… Вот только больше не надо. Хватит. Было уже когда-то.
А что касается сегодняшней, новой Маши, то он еще посмотрит, подождет. Спешить и впрямь некуда.
Однако, беспокойные, противоречивые мысли за богатым, изысканным ресторанным столом, одолевали не только одного Яна Владиславовича. Посещали они и Машину достойную и смышленую головку. Девушка постепенно словно распалась на две половинки, независимые между собой. Одна часть ее, активная и волевая, слушала и говорила, и даже, случалось, вела за собой беседу. Шутила с Максимом и Сашей, как последний разрешил именовать себя, немного даже умничала, тут же была и настороже и, вообще, старалась не ударить в грязь лицом. Другая же Машина половинка, затаившись в засаде, выглядывала украдкой и сразу пряталась, унося кусочки разрозненной мозаики впечатлений в свое прибежище. Эта партизанская полумаша наблюдала и стерегла Спасителя.
Человек, вырвавший Машу из рук вчерашней шпаны, и человек, сидевший сейчас справа и наискосок от нее за столом, немало отличались друг от друга. И сегодняшний определенно нравился Маше Голубицкой намного больше. И дело было не только в роскошном антураже их свидания, хотя и в нем, конечно, тоже.
Случайный знакомый, еще до сегодняшнего дня мог Спаситель пройти лишь эпизодом с соответствующими выводами, Маша бы подумала о нем немного времени и вскоре позабыла бы. Фигуру вчерашний Ян, тогда для Маши еще безымянный, просто смелый и сочувствующий прохожий, имел неопределенную. Придумать его любым не стоило труда, вообразить каким угодно, героем или подвыпившим и расхрабрившимся отцом семейства, отпускным офицером спецназа или загулявшим охранником президента. Кем угодно, только не богатым владельцем нарядного лимузина, с эскортом из аристократичного вида мальчиков, наверняка входящим во многие двери без стука. Потому, что минувшей ночью, он, не имеющий имени, не был таким.
Теперь обозначился и иностранный, хоть и едва уловимый акцент, и нерусское имя Ян, а отчество как назло Маша так и не вспомнила, но что-то длинное и ритмичное. Определился и сам человек, и его лицо, которое Маша узнала, только увидевшись со Спасителем вновь на площади, а так и припомнить по памяти не смогла бы. Да ей с перепугу тогда и не до разглядываний было.
Самое удивительное, конечно, не преобразившая его одежда, и не изменившиеся в лучшую сторону манеры. Самое удивительное, это его взгляд. Как он смотрит на Машу, на мальчиков, на официантов, вообще кругом себя. Не притушенный алкоголем, бесшабашный и пустой, как запомнилось Маше, но взгляд сверлящий, и, если чуть подольше посмотреть в глаза, то и обжигающий. И в то же время – это взгляд-взломщик, вторгающийся без спроса в чужую душу и выворачивающий ее наизнанку для собственной нужды. Таким, по читанным Машей описаниям, должен быть взгляд у важного следователя, раскалывающего на допросе особо опасного преступника.
И Ян ей ничуточки не соврал: рядом с ним было безопасно. Так безопасно, как Маше не было никогда рядом ни с одним человеком. Даже с отцом. Какая-то неведомая, непреодолимая мощь и уверенность были в этом не самом высоком и крепком на вид человеке, что и взвод матерых, прошедших огонь и воду, десантников, сильно подумал бы, прежде, чем стал бы его задирать. И еще Маша отметила, правда смотрела она от некоторого смущения лишь уголком глаза, что у Спасителя красивое, хоть и излишне белое лицо, но может, это только из-за контраста с черными, немного вьющимися и жесткими волосами. Руки его, особенно пальцы, тонкого и картинного рисунка, были полны спокойной неподвижности, без следа нервозности. Вся фигура и неспешный поворот головы изящны без хрупкости, и одновременно будто насторожены и начеку, но без тени страха и сомнения в себе. Словно взведенное, готовое в любой момент выстрелить, оружие. Но не угрожающее и не нападающее попусту, без причины.
Она все говорила, не переставая, ее уже понесло в какие-то совершеннейшие математические дебри, но Ян ничего, слушал, хотя было видно, что едва понимал с пятого на десятое. А мальчики совсем уж скисли и заскучали, но продолжали внимать из вежливости. Тогда Маша, сделав над собой усилие, потихоньку приостановила охвативший ее словесный понос. И украдкой бросила взгляд на свои и часики и обнаружила, что вечернее время перевалило за одиннадцать. Куда и как подевались три часа было совершенно непонятно. Однако, мама! Как же она могла позабыть?
– Вы извините, я Вас совсем заболтала. А ведь мне уже пора уходить. Понимаете, мама, она… В общем, я должна попасть домой не позже двенадцати, – тут уж Маша повернулась и обращалась исключительно к Спасителю.
– Да, да, конечно, – без тени недовольства ответил ей Ян. Неужто рад наконец от нее отвязаться? Маше на миг стало обидно и нехорошо.
– Так я пойду? – полувопросительно и ожидающе прозвучал Машин голос.
– Конечно. Но через пару минут и вместе с нами. Я Вас пригласил, я же Вас и доставлю домой, – сказал Ян тоном, исключающим любые альтернативные предложения с ее стороны, – это Вы меня должны извинить. Для меня таким удовольствием было Ваше общество, что я совершенно забыл о времени.
Врет, наверняка, подумалось Маше, но все равно было приятно. Какое там удовольствие, если он за весь ужин едва сказал ей два десятка фраз.
– Мне, однако, надо позвонить и предупредить маму, что я скоро буду. Видите ли, она очень просила отзвониться, как только закончится кино. Но так как я…, – Маша осеклась, не зная, как деликатней сформулировать неловкость своего положения.
– Но так как Вы ни в какое кино не попали и исключительно по моей вине, то будем считать, что оно только что закончилось… Макс, телефон сюда! – скомандовал Спаситель одному из мальчиков.
На столе в мгновение ока возникла мобильная трубка. Маша ее взяла и неловко затыкала в кнопки, путаясь в клавиатуре. Но справилась самостоятельно. Спустя довольно изрядное время мама была умиротворена и Маше даже удалось обойти острые углы с подзыванием подружек к таксофону. Интересно, на какую сумму она наговорила? Хотя, судя по нордически спокойным лицам Яна и мальчиков, им было на это обстоятельство абсолютно наплевать.
Когда же Ян достал из внутреннего кармана облегающего пиджака невиданную доселе Машей никогда в реальном мире зеленеющую денежную пачку и небрежно отделил на глаз несколько купюр, Маша Голубицкая поняла, что все ее телефонные опасения были напрасны. Однако, сам вид этих денег подействовал на нее угнетающе и вновь пробудил чувство неловкости и собственной неуместности.
До дома Машу домчали почти в одно мгновение. Однако, прежде чем позволить Маше выйти из машины, Спаситель неожиданно и впервые взял ее руку в свою.
– Если Вам не скучно и не противно мое общество, то могу я надеяться еще раз встретиться с Вами? – спросил он так вежливо и галантно, что немыслимо было ответить отказом.
– Да, я тоже…, то есть мне тоже понравилось э-э… Ваше общество. Я с удовольствием, только вот как же..? Ведь у меня мама? – заикаясь, ответила Маша.
– Не беспокойтесь, я вовсе не собираюсь еще раз звонить Вам домой и тем более беспокоить маму. Я найду Вас иным способом. Какой номер, простите, я запамятовал, Вашей группы на факультете?
– Сто четырнадцать, – отозвалась Маша тихо, но и радостно.
– Замечательно. Значит, до встречи? – Спаситель посмотрел Маше прямо в глаза, страшно сказать, выжидающе и просительно. И Маше стало совсем легко и хорошо на сердце.
– Да, до встречи, – и девушка выпорхнула из машины.
Конечно, маму во все перипетии сегодняшнего вечера Маша Голубицкая и не думала посвящать. Хотя на сей раз ее вранье было иного, необычного рода. И дело было даже не в сокрытии правды, что стало обычным, а в том, какова сама эта правда была. На этот раз Маша защищала уже не душевное здоровье и нервное равновесие Надежды Антоновны, а свое собственное спокойствие и, быть может, собственное, личное, пусть и маленькое, счастье. В том, что у матери весть о ее сегодняшнем свидании вызовет настоящую и, с тяжелыми последствиями, бурю, Маша даже не сомневалась. И была к тому же уверена и разумом, и всеми чувствами, что Ян не может понравиться Надежде Антоновне ни при каких обстоятельствах. Ни как спаситель, ни тем более как ухажер. Ни тушкой, ни чучелом, как говорил их школьный учитель математики. Значит, любым способом и как можно более долгое время, Маша обязана держать свое новое знакомство в секрете, если хочет, чтобы отношения ее и Спасителя хоть как-то продолжались.
Хотя, стоп, стоп! Какие отношения? Урезонила Маша саму себя. Свидание было-то пока одно. Да и было ли это свидание? И будут ли в ее будущем другие? Обещать-то он, конечно, обещал, но найдет ли ее в самом деле. Захочет ли? Не очень удалось у Маши сегодняшним вечером, так будет ли другой? Ведь заметила и сама: сидел и слушал Ян больше из вежливости, да и не расходиться же всем голодными. А слова, что слова! Такие, наверное, всем говорят при расставании, по ритуалу, хотя и не увидятся больше никогда. Но вот глаза его, как смотрел на Машу при прощании, смущали и порождали надежду. И эту надежду Маше тоже хотелось укрыть от чужих глаз, схоронить, защитить.
Маша не заметила и сама, как из прилежной, однодневной, но нацеленной в будущее студентки, рассудительной и не тратящей себя по пустякам, той, что отложила любовь и романтику как ненужный до времени учебник на дальнюю полку, превратилась всего за один только день в совершенно другое существо, живущее по иным законам. Была она еще слишком молода и неопытна, чтобы осознать, а значит, и испугаться такой в себе перемены, и потому оказалась без главного женского оружия самообороны в руках – знания о себе самой, новой и опасной.
Новоявленный ее кавалер и вовсе ни в какие подробности не вдавался. По правде говоря, Балашинский и сам до конца не знал, для чего вообще ввязался в эту авантюру и для чего ему нужна вся эта канитель. Что выйдет, то выйдет, но забивать свою голову лирикой Ян Владиславович тоже не собирался. Однако, всю дорогу домой молчал, развалился на мягкой коже заднего сидения и ни в какие переговоры ни с Максом, ни с Сашком не вступал. Хотя передней парочке ох, как хотелось по косточкам разобрать, а после и перетереть и сегодняшнюю девушку Машу, и весь неожиданный экспромт со свиданием. Но молчал хозяин, не смели и холопы.
Но были в Большом доме и те, кто смел. Поджидала в холле Ирена, и, невдалеке, в смежной гостиной, сидел на страже Фома. Смел бы и "архангел", но, довольный собственными, семейными обстоятельствами, не видел нужды отказывать и хозяину в редкой личной жизни.
– И как же прикажешь тебя понимать? Совсем сдурел на старости лет? – когда никто из семьи не наблюдался поблизости и не мог слышать Ирену, она порой позволяла себе хамско-интимные грубости по отношению к тому, с кем бог знает уже сколько времени делила постель, хоть и не одна.
– Можно подумать, что от тебя убудет? – в тон ей ответствовал Балашинский, который тоже, если требовали обстоятельства, мог быть весьма нелюбезен и груб.
– От меня-то не убудет. А вот тебе это на кой черт надо? Свеженького захотелось? Так ты намекни только, я тебе целый табун девок нагоню. По первому разряду, – Ирена нарочито зло расхохоталась, – или тебя на целочек-малолеток повело?
– Заткнись, идиотка, язык как помело, – в свою очередь разозлился Ян, – тут другое. Тебе, дуре, не понять.
– Ха-ха. Вот это новости. С добрым утром, родная страна, – тут Ирена, уперев руки в бока, сделала несколько шагов в сторону гостиной и по-базарному громко закричала в раскрытую дверь, – Фома, а, Фома, ну-ка, подь сюды! Тут без тебя и пол-литра не разобраться.
Ян весь сжался от возмущения, зашипел змеей, но выругаться не успел. Фома, скорый, когда не надо, был уж тут как тут.
– Ну, я пойду, а вы, мальчики, сами потолкуйте, – и Ирена на всякий случай проворно улизнула наверх.
Фома степенно откашлялся, приосанился, словно поп перед проповедью и, поправив на носу очки, в коих, кстати вовсе не нуждался и носил с простыми стеклами, изрек:
– Вот ведь, Ян, какая петрушка получается. Народ беспокоится!
– Какой народ, что ты несешь? У нашей гулены очередной приступ ревности, – возразил, впрочем, довольно мирно, Балашинский.
– Не скажи. Ревность, конечно, да. Но и не только. Случай, согласись, из ряда вон выходящий.
– Да какой случай! – Ян начал выходить из себя. Много воли взяли, распустил он их на свою голову. Но на Фому вот так запросто, нахрапом, не попрешь. Головастый, да языкастый, хоть и лентяй и краснобай. Но с такими-то ухо и надо востро. Такой хорош, пока за тебя с душой и потрохами, а коли пойдет поперек, то держись. Знает он эту породу. Оттого Фома в семье на особом положении и на отдельном счету, – Я, что же, и с бабой теперь развлечься не могу? – добавил Ян нарочно пренебрежительно и грубо.
– Можешь, конечно, кто бы посмел запретить. Да только ты в общине хозяин, так тебя называют. Оттого и спрос с тебя другой. Ты скажи хотя бы мне, чего теперь ждать?
– Это в каком смысле? – удивился Ян.
– Ну, как в каком! Может ты и так, поматросишь, да и бросишь, и бог с тобой. А может в семье новый вамп объявится? Так это уже не только твое личное дело. Надо и родичей спросить. Хорошо, с Риткой повезло. А если нет?
– Да ты что, обалдел совсем? Какие родичи? Какие новые вампы? Я с девчонкой в кабаке посидел всего-навсего! – Ян взбеленился настолько, что сорвался на крик.
– Лиха беда начало, – спокойно и твердо отозвался Фома, – по мне, хоть целый гарем заведи. Я с тобой до конца. Но вот в остальных не уверен. Как бы чего не вышло. Надо учитывать конъюнктуры.
– Чего учитывать? – переспросил Балашинский.
– Конъюнктуры. Иначе – разброд и шатание. Оно нам надо? Особенно сейчас, когда только-только осели, и все вроде тихо и хорошо? Даже слишком тихо и хорошо. А это уже само по себе плохо. Расслабляет неокрепшие умы.
– Успокойся, – оборвал панегирик Балашинский, – ничего подобного не будет. А если возникнут сложности, – последнее слово все же выделил, невольно подчеркнул, – первым, с кем я посоветуюсь, будешь ты. Доволен?
– Абсолютно. Безоговорочно доволен, – Фому будто что-то отпустило изнутри, – и ты ведь знаешь, я плохого не посоветую. Кому я нужен и кто я без тебя?
Фома ушел, и Ян, постояв немного, тоже поднялся к себе. Позвал Тату, но, когда та пришла, отослал прочь. Давешний разговор не шел у него из головы и рождал нехорошее беспокойство. Надо же, до чего дошло. Навыдумывали! Новый вамп в семье! И тут Ян представил такое, и тошнота подступила к горлу. Только не эту девочку. Это хуже, чем убить. И не такая она нужна ему. "Вот это новости!", – испугался собственный выводов Ян. Он вамп и, отныне, будет жить с вампами до конца своих дней, если они когда-нибудь наступят. И никто другой ни ему, ни братьям не нужен. Прав Фома, а он дурак, и болен дурью. И пора завязывать с хандрой и брать себя в руки. И всегда, постоянно и без лишних фантазий помнить, кто он такой, Балашинский, Ян Владиславович, хозяин и урожденный вамп.
ГЛАВА 14. АГАСФЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Когда "Святая Изабелла", наконец, причалила в бухте Золотого Рога, Янош одним из первых, опередив даже гребцов, прыгнул в спущенную с правого борта шлюпку. Лишь бы скорее на твердую землю, на берег, и прочь, прочь, с проклятого корабля. Он даже не смог до конца прочувствовать всю боль и горечь от потери верного Михая, так худо пришлось ему весь последний отрезок окаянного морского путешествия. После злополучного шторма плыли кое-как на остатках парусов при нескончаемой, выматывающей душу и внутренности, болтанке. Янош, уж на что был крепок и неуязвим, но и он поддался тошнотворной, мутной хандре, от которой спасало только в больших количествах поглощаемое им крепкое вино из запасов Карло. Но когда трезвел, становилось еще гаже и хуже, и приходилось манипуляции с вином начинать сначала. Карло из бравады и жадности старался не отставать от своего гостя и пассажира, но только довел себя до скотского, ужасающего состояния, и под конец в лежку лежал под обрывком парусины прямо на палубе в луже собственной блевотины.
Постояв, однако, на портовой пристани, Янош кликнул матросов-гребцов, чтобы доставили обратно, на "Изабеллу". Куда идти и как вести себя в совершенно чуждом ему восточном городе, Янош понятия не имел, а у сошедшего с ним вместе на берег Петруччо, доверенного лица Карло Анунцио, и без него хлопот был полон рот. Петруччо уже был при деле, только и мелькал то там, то сям по пристани. За ним поспешали, отчаянно жестикулируя, несколько колоритных и грязноватых турок, то ли местных чиновников, то ли торговых порученцев компании Анунцио.
Следовательно, Янош имел всего лишь один правильный путь – разбудить и привести в божеский вид мертвецки пьяного Карло, а после, с его помощью и определиться в городе. Многого от потерявшего первозданное имя Константинополя, варварски превращенного в мусульманский Стамбул, Янош и не ожидал. По крайней мере порт его разочаровал. Такой же, как и в Венеции, только более многолюдный, шумный и вонючий. Те же крики и ругань, только на другом языке, те же бесконечные цепочки оборванных носильщиков. Пожалуй, лохмотья живописней и безобразней, да воздух жарче, а так, пожалуй, разница невелика.
Привести в чувство недовольно мычащего Карло удалось лишь к вечеру. Поэтому первую свою Стамбульскую ночь Яношу пришлось опять провести на злополучной "Изабелле", которую ощутимо кидало на прибрежной, разошедшейся волне. Однако, на следующее утро, пришедший в себя и вернувший непоколебимую купеческую стать Карло сам уже торопил Яноша скорее отправиться в город.
Остановились на постой в особняке, арендуемом домом Анунцио у одного османского чиновника, отбывшего санджакбеем в Румелию по месту государственной службы. Вместительный и относительно комфортный, дом стоял неподалеку от Айя-Софии, откуда вела дорога прямо к знаменитым воротам Баб и-Хумаюн. Но, осмотрев под руководством Карло Стамбульские достопримечательности и попялившись вдоволь, но издали на дворец Топкапы, Янош восточной экзотикой не впечатлился. Слишком много помпезности и суеты, хотя турки вроде никуда не поспешают и о времени имеют очень размытое впечатление. Однако, уж очень их много, пусть и велика столица, но не протолкнуться, а на знаменитом рынке, на Бедестане, который и сам по себе целый город, верхом не больно-то и проедешь.
В ночь Янош тишком, чтобы не обеспокоить гостеприимных хозяев, особенно чутко спящего Петруччо, отправился на охоту. В морском путешествии от качки и переживаний, и неумеренного возлияния вин, Янош совсем изголодался. На "Изабелле" приходилось под конец держаться из последних сил, но поживиться за счет экипажа было делом немыслимым. Без возни бы не обошлось, а всплыви его проделки наружу, пришлось бы лучшем случае перебить всю команду, и кто бы тогда, спрашивается, управлял кораблем? А в худшем на его шее оказались бы ненадежные и неопытные новые братья, лишняя морока на голову.
За пропитанием дело не стало. Как и положено добротному портовому городу, на причалах ночевало неисчислимое количество нищих и бродяг, продажных женщин и не имеющих своего угла мелочных торговцев. Выбрав добычу почище и поопрятней, Янош неслышно утащил ее за груду каких-то мешков, и, удовлетворив свою нужду, благополучно утопил в заливе. Можно было жить не хуже, чем в благословенной, христианской Венеции.
На следующий день отправились с визитом к французскому послу, коему Янош вручил одно из посланий Грити. Что было в запечатанной сургучом шкатулке ему было вовсе наплевать, тут с выбором гонца мудрый Луиджи не промахнулся. Но деньги венецианца Яношу еще предстояло отрабатывать, тем более, что ушлый и богатенький сверх меры Луиджи обещал в случае верной службы еще и еще. Янош же, как настоящий рыцарь, не ведающий истинной цены деньгам, собирался ни в чем свою персону не ограничивать.
И началась приятная жизнь. Карло, изрядное время проводивший в плавании из Адриатики к Босфору и обратно, любезно предоставил дом в распоряжение благородного и веселого порученца всемогущих Грити, и денег за постой не брал, видимо, подразумевая некую другую благодарность или возможную будущую услугу. Обязанности Яноша были нехитрыми, суммы же, получаемые за них – солидными и весомыми. Приходилось только принимать посланцев с попутных, заходящих в Босфор судов, и передавать полученное от них по назначению. Для этого Янош, имея при себе заранее врученные Грити рекомендации и отчасти с помощью услужливого Карло, завязал в Стамбуле обширные знакомства. Одно из них, случившееся в доме Стамбульского управляющего казенным имуществом, по-местному – шехир эмина, оказалось для Яноша впоследствии очень кстати.
Эмин Хасан-бей праздновал свадьбу старшей своей дочери и на застолье не поскупился. Праздник почтил своим драгоценным присутствием и новый султанский приближенный Мехмед Соколлу, которому слухи прочили в ближайшем будущем место великого визиря в диване и за которого, что было достоверно, держала руку могущественная и любимейшая жена падишаха Хуррем-султания. Был Мехмед ренегатом и по происхождению серб из рода славных Соколовичей. Но давно забыл и родину, и бывшую веру, но не обрел и тошнотворного фанатизма новообращенного. Словно очень занятой человек, устремленный к одному лишь ему ведомой цели, и не разменивающийся на чувства и повседневные пороки, Мехмед Соколлу производил впечатление настоящего государственного мужа, зоркого и мудрого, внутренним оком распознающего подлинную суть людей и вещей.
Соколлу и рыцарь Янош, будто два орла, парящие в одиночестве, тут же засекли друг друга, хотя и сидели поодаль. Янош – на отшибе, рядом с лояльными и допущенными христианскими гостями, Мехмед – на почетном месте рядом с Хасан-беем. Однако, чутьем уловил каждый необычность и мощь другого, и некоторое взаимное, необъяснимое родство.
Вскоре Янош получил и приглашение посетить для приватной и частной беседы высокого чиновника. Соколлу и в самом деле принял его, расспрашивал больше для порядку о венецианских впечатлениях, о нравах двора в Буде, о том, о сем, а в сущности, и ни о чем. Так завязалась между ними дружба не дружба, но приятное и необязательное пока знакомство. До той поры, когда бравый молдавский господарь Петр Рареш не повесил на подходящем суку Луиджи Грити, как последнего вора и грабителя с большой дороги. Так Янош утратил руку кормящую и дающую. А Соколлу был уже и визирем.
Яношу же в ту нелегкую, но кратковременную пору, пришлось всерьез задуматься о хлебе насущном. Запасов на черный день, он, вечный перекати-поле не сделал никаких, да и не видел в них нужды. Драгоценности, украшавшие его особу, весьма быстро перекочевали к менялам. Карло, с каждым днем становившийся все более тревожным и беспокойным, вскорости собирался навовсе оставить Стамбул. Отношения Республики и Порога Счастья стали уже протухать и неприятно попахивали. Следовало решать, плыть ли Яношу вместе с Карло за море, и решать быстро. Однако, государь Венгерский, тезка Янош Запольяи был уж в могиле, и в Буде о рыцаре Ковачоци наверняка никто и не вспоминал. Попасть на венецианской земле в зависимость от поручительства дома Анунцио и вовсе не хотелось. Наняться же в армию кого-то из европейских воинственных монархов попросту означало начать жизнь с нуля. Заниматься же доходным разбойничьим промыслом Янош мог с успехом и по эту сторону Средиземного моря, вовсе не обязательно было в поисках легкой наживы плыть за тридевять земель.
Но, как всегда и бывает в грешной, земной жизни, наилучший выход предлагается в той стороне бытия, куда мысленно не думал даже обращать взор. Оттого, прежде чем переступить его порог, Янош и замешкался слегка в раздумье.
Дело же было в следующем. Всезнающий, как и положено добросовестному великому визирю при особе падишаха, почтенный Мехмед Соколлу прослышал о затруднениях, постигших его знакомца, и сделал тому недвусмысленное предложение. От Яноша требовалось всего лишь принять ислам и хотя бы на словах поклясться в верности новому своему покровителю, и коли будет держать он слово, то и должности, почести и немалые доходы будут ему обеспечены, пока жив великий визирь. А дальше кто станет загадывать?
Переход в ислам, важный и страшный шаг для любого христианина, вовсе не заботил Яноша. Да и христианином определял себя только на словах, не крещенный и с детства не определенный ни в какую веру. Не придавал значения и магометанству, и ради выгоды стал бы и солнцепоклонником, ибо обреченный жить на земле, не страшился ни ада, ни загробной кары.
Останавливало только опасение, а не прогадает ли, не пожалеет о том, что остался, не продастся ли задешево? Но и опасение вскоре исчерпалось. Сам не зная, отчего, но Янош верил Мехмеду, хотя и знал визиря не близко. Но все же решил предложение принять. Будто чувствовал заранее, что сможет великий визирь достойно оценить чужую преданность.
Новообращение свершилось на удивление быстро. Обряд был прост и на редкость прозаичен. Процедуру же обрезания Янош перенес шутя, вызвав невольное к себе уважение со стороны совершавшего его благообразного старенького муллы. Вот что только толку? Янош посмеялся про себя: до завтрашнего дня все зарастет без следа и вернется в первозданный вид. Но поразмыслив, пришел к выводу, что смеяться-то рано. Мехмед уже обещался поднести в подарок неофиту пару отборных рабынь для обязательного магометанину гарема. А если пойдут слухи, а они обязательно пойдут, хоть сторожи, хоть нет, и тогда шуму не оберешься. Но с другой стороны, не может же Янош собственноручно каждый божий день совершать обрезание заново. Впрочем, был он уверен, что, как и всегда, выход со временем непременно найдется.
Пока же привыкал к новому своему имени. На этой османской земле больше не существовало ни Яноша Балашши, ни рыцаря Ковачоци. Зато родился на свет праведный мусульманин, капыкулу – новый "государев холоп", и приближенный великого визиря. Имя ему отныне было Джем, по прозвищу Абдаллах, что означало "угодный господу". Что ж, пусть будет Джем Абдаллах, звучит приятно на слух. Тюркский и фарси успел он за стамбульские годы выучить почти безупречно. Интереса ради осилил и Коран, на его взгляд не так уж сильно отличавшийся от Библии, которую читал еще давным-давно по настоянию дяди Рудольфа.
Мехмед Соколлу, справедливо полагая в новоявленном Джеме человека военного и бывалого, и службу определил ему соответственно. Джем Абдаллах получил по свое начало отряд кавалеристов, угрозу и противовес янычарам, и звание заима. А с ним и полагающуюся ренту – "тимар" в 20 тысяч акче. Само собой разумелось, что и сам заим и его конный отряд будут опорой и вооруженной поддержкой, а придется, то и охраной, прежде всего ему, великому визирю дивана.
Как быть с гаремом подсказала собственная тоска от тайного одиночества. Хоть был обласкан великим визирем, и ни в чем не знал нужды, был доволен и новым званием и новым подчиненным ему войском, а там признали сразу за невиданную силу и бесстрашную отвагу, но во всем обозримом мире был он такой один. И то, что носил новое гордое имя и тюрбан больше головы, что заискивали многие правоверные, кто подношением, кто с великой честью для себя сватал красавицу дочь, богатую приданным, дела не меняло. Назовись хоть Яношем, хоть Абдаллахом, человеком все равно не быть. А значит – жить и таится, не обмолвиться ни словом, не допустить и намека на тот великий секрет, что скрыт в его теле. Да разве может понять смертный, будь он хоть трижды великий визирь дивана, что такое тайная мощь, свербящая тебя изнутри, огромная власть, для которой нет выхода, ибо сила ее лишь в тени. И не с кем поделиться, некому тебя понять, и опереться со своей ношей тоже не на кого. Потому что здесь, под палящим стамбульским солнцем, есть только ты, а более никого. А те, кто сродни тебе, все за далеким морем, и знать тебя не хотят, а если поминают тебя и твой род, то не иначе, как проклятиями. Да и есть ли кто? Может и сгинули как Михай.
Для присмотра за гаремными рабынями, само собой, требовались и евнухи. Пусть гарем не велик, все же Джем Абдаллах воин и некогда отвлекаться на глупости, но без евнухов никак не обойтись, да и где это видано, для особы с его положением. Вот тут новоиспеченного заима и осенило. Да это же есть самые что ни на есть подходящие братья! И слухи из гарема не пойдут, и болтливым одалискам чуть что, удавку и в воду.
Евнухов подобрал сам. Искал не самых красивых и не самых ученых, а самых обиженных и обозленных на судьбу. Но не без змеиной хитрости. И сам не был ей обделен и почитал в других. И не прогадал.
Для начала приручил двоих. Впрочем, его скромный, импровизированный, восточный бордель больше до поры и не требовал. Так появились при нем Хайдар и Ибрагим. Сначала Ибрагим. Мальчиком увезенный из родной Армении, в глубине души люто ненавидел османов, но изворотливый и хитрый, умело принимал раболепный и полный преданности облик, тая у пылающего сердца отравленный клинок. За что и был продан бывшим своим повелителем Ахмед-челебией, имевшим под своим началом стамбульский рузнаме – палату учета доходов со всей столицы. Видно, почувствовал заплывший доходным жирком, опасливый султанов чиновник в Ибрагиме неладное и, не имея ни сил, ни желания изобличить и покарать подозрительного евнуха, к тому же, будучи человеком практичным, продал Ибрагима новоявленному приближенному Мехмеда Соколлу.
Предложение господина своего Джема принял Ибрагим с радостью. Но и без него рад был бы служить ренегату не за страх, а за совесть. И одного взгляда на нового господина хватило Ибрагиму, чтобы насквозь проникнуться чувством – Джем Абдаллах, друг великого визиря и султанский военачальник, необычный человек. Сам не зная почему, но с первых шагов своих в новом доме был Ибрагим уверен, что купили его неспроста. Что господин его и хозяин Джем все знает про него, Ибрагима, до самой тайной и задней его мысли, и что господину Джему эти мысли по нраву.
Ухаживал за страдающим евнухом сам, не доверяя забот о нем служанкам. Велел даже перенести больного в свои покои, что было по тем временам неслыханно. Но домашние его слуги кивали понятливо – как же, заплатить кровопийце Ахмеду-челебии немалые деньги за приличного евнуха, да и тут же его потерять. Опять же, хозяин их – бывший неверный, оттого и причуды. А все же хорошо, когда господину не чуждо пусть и корыстное, но милосердие.
Ибрагим его неусыпными заботами выжил и начал поправляться. И благодарность его Джему не имела границ. Долго не мог уразуметь, что отныне он больше не раб, а младший брат по крови, и послушание его должно идти от родства и уважения к знанию и опыту старшего брата, а не от купленной обязанности.
С Хайдаром было уже проще. Был он по природе своей куда менее хитер и изощрен в злобе, чем Ибрагим, зато обида его была приземленней и понятнее. С раннего детства Хайдар, крестьянский сын, мечтал стать воином или на худой конец разбойником. Но был продан в тяжелый год, оскоплен торговцем и вот, вместо сипахского войска, предела его мечтаний, обречен был до конца своих дней присматривать за гаремными затворницами, окаянным бабьем, которое ненавидел больше всего на свете. Джему немного тяжеловесный и упрямый в своем гневе, крупнокостный Хайдар чем-то напоминал сгинувшего безвозвратно Михая.
По поручению старшего, кровного брата, Хайдара выхаживал Ибрагим. Дюжий и упорный даже в болезни евнух посвящение перенес на удивление легко. Перерождение только добавило ему угрюмой злобы, однако Джему Абдаллаху новый брат был предан беззаветно, и это было главным. В глазах Хайдара Джем был тем самым идеальным воином, каким он и сам когда-то мечтал стать. Теперь его мечты благодаря новому господину могли и воплотиться в реальность. Ведь ни для кого не секрет, что в великой империи евнухи подчас назначались и сераскерами войска и даже становились визирями, был бы могущественный покровитель. А у Хайдара отныне он был. Но называть хотя бы в мыслях господина своего Джема братом Хайдар так и не осмелился. Это было выше его понимания. Вот Ибрагим, хитрец и умница, другое дело. Его можно было почитать за старшего брата, к тому же был Хайдар благодарен Ибрагиму за уход и заботу, когда был немощен и болен.
Участь рабынь из небольшого гарема Джема определил именно Хайдар. Новая плотская сущность вернула и Ибрагиму, и Хайдару стройность тел и дала невиданную крепость мышц, избавив навсегда от женоподобной расплывчатости и дряблости, так свойственной всем евнухам. Однако, вернуть утраченное давно мужское достоинство не смогла. Что было отрезано ранее, то было утрачено навсегда. Ибрагиму вроде было и все равно, новые возможности ставшего почти вечным тела полностью извиняли его некоторую ущербность. Нельзя сказать, что сильно переживал и Хайдар, ибо по незнанию не очень представлял, чего был в детстве лишен, но добрых чувств по отношению к женской половине рода человеческого у него не прибавилось.
Когда мудрый господин и хитроумный Ибрагим додумались постоянно обновлять гаремных рабынь и служанок, попросту время от времени надевая им мешок на голову за выдуманные преступления, и таким образом прекращать нежелательные толки, Хайдар и выступил со своей пламенной и короткой речью. К чему просто так переводить дорогой товар, когда можно использовать его с благой целью, а после уж и отправлять на корм рыбам! К чему ловить грязных портовых бродяг и пьяниц, когда к их услугам чисто вымытые нежные шейки, безответные и беспомощные! Справедливость его слов была неоспорима, и господин Джем и Ибрагим полностью согласились с находчивым Хайдаром. Ибрагим же некоторое время от души переживал, что это Хайдар, а не он, со всем своим хитроумием додумался до такой простой идеи.
Отныне в доме Джема словно запустили кровавый, безостановочный конвейер. Примерно раз в месяц какая-нибудь служанка или рабыня отправлялись в магометанский рай, предварительно побывав в маленькой, ничем не обставленной комнатушке, рядом с покоями господина. Очередную жертву по-братски делили на троих, ключ же от импровизированного каземата никогда не покидал пояса Ибрагима. После тело обескровленной жертвы наглухо зашивалось в мешок и благополучно топилось уверенными руками Хайдара. Ни одна из женщин не задерживалась в доме более года. Не спасали ни красота, ни искусство в танцах и пении, ни извечная женская изворотливость. Для самого же Джема Абдаллаха и лучшие из них были слишком глупы и примитивны, чтобы видеть в них что-то, кроме купленной гаремной плоти. Для обоих евнухов несчастные женщины, волей обстоятельств оказавшиеся в их непререкаемой власти и вовсе были ничто.
По Стамбулу о гаремных обычаях в доме заима Джема ползли разнообразные сплетни. Но не было в них ничего от сверхъестественного. Гарем Джема пользовался дурной славой из-за жестокости хозяина, но и только. Зато для любой строптивой рабыни не было худшей угрозы, чем обещание продать ее в виде наказания в страшный гарем Абдаллаха. Но кого в самом деле, кроме досужих кумушек и сплетниц могли тревожить судьбы купленных рабынь? Уж конечно не воинов из отряда Джема, и не его покровителя великого визиря Мехмеда.
Жизнь же шла, как ей и положено, своим чередом. В царствование султана Селима Второго, власть великого визиря достигла своей вершины. Мехмед Соколлу был преданным слугой и сторонником Селима, еще когда тот носил сомнительный титул шах-заде. Соколлу доказал свою верность будущему султану, подняв войско против брата его Баязида, попытавшегося отнять мечом у Селима его права на наследство. В том войске рядом с Мехемедом был и верный ему Джем Абдаллах, получивший впоследствии в награду от Селима Второго звание паши и место в султанском диване. Надо ли говорить, что взлет Джем-паши в святая святых власти империи не обошелся без вмешательства в его судьбу и покровительства дальновидного великого визиря.
То были годы сладостного благополучия и относительного покоя. При нынешнем султане власть Мехмеда была прочной, почти непререкаемой. Что и говорить, Селиму Второму далеко было до усопшего великого отца! Падишах всех османов любил кутежи и гаремные забавы куда больше, чем заседать в диване, и, если бы не твердая рука великого визиря, то царствование Селима могло бы иметь весьма печальный конец. Однако, казалось, уже никакая сила не была в состоянии остановить захлестнувшее все ступени власти казнокрадство. Немало перепадало и любимцу великого визиря Джем-паше. От сытой жизни и безнаказанности разленился даже его верный Хайдар, переставший уже и мечтать о воинской славе. Евнух дошел до самой вершины довольства, так что и гаремных наложниц казнил и шпынял уже без прежнего воодушевления.
Так было при жизни порочного султана Селима. И кончилось все в одночасье, когда в Топкапы воцарился его преемник султан Мурад Третий. Но дело было даже не в самом владыке всех правоверных, а в Сафие-султании, красавице венецианке, волею злой судьбы подчинившей себе сердце падишаха. Великий визирь Мехмед и впрямь был велик во всем. Держал в руках все нити власти, имел и преданные одному себе клинки, и был при нем верный и бесстрашный Джем-паша. А вот от подлого удара спину прикрыть не сумел. Или, быть может, со временем позабыл, какой страшной и тайной силой обладала, взявшая его когда-то под руку свою, могущественная султанша Хуррем. Или от неимоверной ноши своей власти великого визиря устал и не захотел оглянуться. Так или иначе, но Мехмед Соколлу, опора трех османских государей, был предательски убит. И Сафие-султании не стало удержу. На смену славянским капыкулу пришли итальянские ренегаты, которые отныне решали все. А на визиря Джема Абдаллаха султанша Сафие имела особый зуб, хотя никогда и не видела пашу в глаза. Но печальная слава его гарема дошла и до ее царственных ушей. Сама вышедшая из рабынь и хлебнувшая лиха, возненавидела от всей души жестокого к несчастным одалискам Джема, к тому же ближайшего слугу и друга проклятого великого визиря Мехмеда.
Но простая смерть паши показалась Сафие-султании недостаточным наказанием. Султанше хотелось унизить, проучить, отравить высоким презрением того, в ком она видела лишь злодея в отражении своей собственной судьбы. И судьбу паши Джема Сафие определила так, как лучше для себя не мог бы выбрать и он сам. Назначение санджакбеем в окраинную глухомань империи, санджак Диярбекир, позорное для вчерашнего визиря дивана, было бы для любого другого на месте Джема Абдаллаха утонченной пыткой, насмешкой и издевательством. Для любого другого смертного, но не для него. Ибо в наступившие, смутные времена Джем-паше было предпочтительней оказаться подальше от готовой вот-вот захлебнуться мятежом столицы, в которой сам великий падишах, опора ислама, не гнушался взяток и подношений. Вожжи власти, по смерти выпавшие из умелых рук великого визиря, серба Мехмеда, некому было подхватить и уж тем более удержать. И кони понесли почти уже неуправляемую империю вскачь по ухабам и бездорожию.
Джем-паша, с обоими евнухами и насильно обкорнанным и поредевшим гаремом, отбыл к месту ссылки. Со скорбью на лице и облегчением в глубине души. И не просчитался в своих надеждах. В столице янычарские мятежи вспыхивали один за другим, словно порох, от малейшей искры. А вскоре полыхнуло огнем и по всей необъятной империи. Настали времена страшной " джелялийской смуты", кровавой беспредельщины и безудержного разбоя. То были славные времена, пришедшиеся по сердцу опальному Джем-паше, в мгновение ока вспомнившего почти уже позабытые навыки храброго рыцаря с большой дороги. Ума хватило и на то, чтобы в открытую пытаться для виду обуздать разбойные отряды, мало ли как повернется переменчивое колесо удачи. Левая же рука, будто в тайне от правой, поддерживала восставших сипахов. За изрядную долю добычи отдавал и часть своих наемников, и сам не гнушался вылазок. Сбылась и давняя мечта Хайдара – наконец взялся за оружие, убивал и грабил вволю. И никому уже на этом ополоумевшем магометанском свете не было дела ни до гарема, ни до самого загадочного паши Джема. Лишь Ибрагим временами опасался за нестареющего, неистребимого хозяина, боялся дурных слухов в окружении паши. Но люди в наступившее смутное, опасное время, не заживались подолгу на свете. И из нынешних слуг и наемников не было уж ни одного, кто помнил бы прибытие Джема Абдаллаха в злополучный Диярбекир. А в столице и подавно было не до того, чтобы вести счет годам жизни какого-то санджак-бея, о котором позабыла и сама султанша Сафие, занятая добычей османского трона для любимого сына Мехмеда. Дела в санджаке по донесениям обстояли не так уж плохо, как в большей части разграбленной Анатолии, справляется кое-как опальный чиновник и пусть себе. Да и время ли думать сейчас о делах окраинной глухомани, когда для османов потерян далекий Тунис, и вот-вот можно лишиться и благодатных Ливана и Сирии, а Египет и вовсе почти что потерян для Порога Счастья.
Вольная жизнь продолжалась без малого тридцать лет. За это время собственная казна Джем-паши изрядно пополнилась золотом, сохраненным и приумноженным во многом благодаря стараниям хитрого и бережливого Ибрагима. Когда же суровый султан Мурад Четвертый наконец привел железной силой шатающуюся страну к алтарю "законности" Сулеймана Кануни и относительному порядку, мудрый Джем-паша, Диярбекирский санджакбей, одним из первых высказался и словом и делом за грядущую реставрацию. И сам собственноручно расправился со вчерашними своими тайными друзьями из разбойничьих отрядов сипахов. Так и пережил, пересидел свирепые времена одиозного и жестокого Мурада Четвертого.
А после смерти тирана страна упивалась кратковременной весенней оттепелью и частично вернувшимся временам прежнего безвластия. Все вокруг свободно продавалось и покупалось, и двор купался в невиданной роскоши, за которую непонятно как и чем было платить. Паша Джем Абдаллах тоже не терял зря драгоценного времени, и посоветовавшись для порядку с Хайдаром, и для дела с Ибрагимом, купил, не ощутив особого ущерба своей казне, благодатную должность управляющего финансами – дефтердара в приморском Трабзоне.
И вновь были море и порт, и новый гарем на радость желчному Хайдару, и словно вернулась прежняя, хоть и уменьшенная до размеров миниатюры, стамбульская жизнь.
Империя же безостановочно вела войну. То с католической Венецией, то с православной Россией. С Австрией и с Польшей, с Испанией и с иранским падишахом Абассом Первым. На суше и на море. За Крит и Далмацию, за Багдад и Киев. Но Джем-паша уже устал от бесконечной войны и без толку пролитой крови. Лишь собирал исправно налоги и отправлял деньги в столицу, тем и довольствовался на государственной службе. Даже Хайдар, за лихие годы порядком подрастерявший свою воинственность, не желал более браться за оружие. Ибрагим же, самый дальновидный из всех троих, постоянно трясся над каждым акче, пополняя казну паши всеми доступными ему средствами, вздыхал и пророчил новые скорые беспорядки в измотанной непрерывными военными походами державе.
Когда же пророчества мудрого Ибрагима словно по волшебству начали сбываться, призадумался и сам Джем-паша. "Священная лига" теснила османов сразу на трех фронтах. Вскоре пала и Буда – "щит ислама" в Европе, за ней был сдан и Белград. Тогда и Джем Абдаллах решил не дожидаться развязки. Золото давно было собрано в дорогу опасливым хитрованом Ибрагимом, Хайдар покончил напоследок с оставшимися еще в гареме рабынями, устроив всем троим прощальный пир. Осталось только лишь определить в какую сторону света теперь податься их маленькому тайному братству. Самому Джему порядком поднадоели за целый век мусульманский быт и моления, и бритая, убранная тюрбаном голова, и собственное, нелепое имя. Но опасался он и полных темных суеверий христиан, особенно церкви и недремлющего ее инквизиторского ока. Тем более, что уж, кто-кто, но Джем-паша, рыцарь Ковачоци, как и юный Янош из лесов восточной Трансильвании, достоверно знали, что некоторые из суеверий и легенд и шепотом передающихся из уст в уста страшных историй есть не что иное, как абсолютная, чистая правда.
ГЛАВА 15. ПЕРЕКРЕСТОК
Мягкая, солнечная, осенняя погода держалась и следующие несколько дней. Но ни ясная безветренность прохладного утра, ни сухая позолота листвы не радовали Машиных, подернутых разочарованием глаз. Загадочный ее знакомец не объявился и никак не дал о себе знать. Никто не искал и не спрашивал Машу Голубицкую ни на факультете, ни в домашней, телефонной трубке. Вечерами девушка, к тихой радости Надежды Антоновны, сидела дома, через силу склонясь над книгами. Что безусловно было на пользу студенческой ее успеваемости, но совсем не шло впрок Машенькиному душевному здоровью. Обремененный греческими буквами текст заталкивался в голову, а между строчками, стоило на миг отвлечься и замечтаться, всплывал, сервированный в японском стиле, ресторанный столик, как ассоциативное приложение к черноглазому человеку, словно сбоку наблюдающему за Машей Голубицкой.
И Маше в такие секунды и впрямь казалось, что пропавший в неизвестном направлении Ян и в действительности смотрит на нее сквозь стены и пространства. И она даже выпрямлялась осанисто на стуле и непроизвольным жестом оглаживала, поправляла волосы, словно за ней наблюдали скрытые шпионские камеры. А после становилось стыдно и досадно на собственную ребяческую глупость. Но поделать Маша ничего с собой не могла. И жила будто на сцене, за которой, на беду, не стоял единственный, нужный ей зритель.
Одиночество сказывалось тем сильнее, что из-за происшествия на Пушкинской, Маша навсегда утратила возможность завести в своей группе подруг. Шепоток о шикарном ухажере, с соответствующими домыслами и украшениями мгновенно прошелестел по сто четырнадцатой, тем более достоверный, что имелись две неопровержимые свидетельницы: Нина и Леночка. Так что девушки-одногруппницы откровенно сторонились Машенькиного общества, полагая себя высокоморальными и углубленными исключительно в строгую науку, весталками, пусть и не имеющими завидных поклонников. Мужская половина сто четырнадцатой была более лояльной и многочисленной, но и она не отваживалась на близкую дружбу с Голубицкой. По большей части скромные и застенчивые будущие ученые, тихие мальчики пугались одного намека на более сильного и взрослого возможного соперника и конкурента, и оттого тоже особенно не приближались к Маше. Для них она, вчера еще милая и такая своя по духу и интересам, девушка, вдруг в одночасье превратилась в роковую и опасную кокетку, умело маскирующую подлинную и порочную суть.
И никому Маша не смогла бы объяснить, даже если бы захотела, что все это выдумки, нелепая случайность и, к ее несчастью, полная, несостоятельная чушь. Что великолепный ее кавалер сгинул после единственного, неудачного свидания, разбередив ей душу и утопив в зловонной луже репутацию. Что ничем Маша не заслужила ни дурную славу, ни остракизм злорадствующих товарок, ни, тем более, бегство от нее Яна, отягченное к тому же лживыми и пустыми обещаниями, побудившими в ней ненужные надежды. С Надеждой Антоновой своими печалями поделиться было совершенно немыслимо, а больше у Маши никого и не было. Школьные, бывшие ее подруги, в силу маминой строгости никогда не были особенно близкими, а в настоящий момент и вовсе заняты собственными делами и новой жизнью после школы. Оставалось терпеть и носить невысказанное в себе. Так в смутной тоске прошла для Маши добрая половина сентября.
Но канувший в неведомый омут, единственный в жизни Маши Голубицкой кавалер ее не позабыл. Хотя и честно старался это сделать. Воззвание праведного Фомы не осталось без внимания. К тому же обильным потоком хлынули проблемы и дела. Помимо каждодневной текучки, с которой почти самостоятельно справлялся Миша, Шахтер, наконец, подкинул конторе нешуточную проблему. И деньги, и доверие надо было отрабатывать теперь с головной болью и всерьез. А хотел на сей раз достопочтенный Иосиф Рувимович не больше не меньше, чем голову депутата Государственной Думы, которую Балашинский по уговору и был обязан ему предоставить. Сам Ян Владиславович плевать хотел на титуляцию будущего клиента. Хоть депутат, хоть министр, Балашинскому было все едино. Но вот братья, не столь много еще успевшие навидаться в жизни, могли и заробеть. Однако, Ян Владиславович возлагал немалые надежды на златоустого Фому, который и должен был разъяснить, что настоящий вамп на чинопочитание смертных не посмотрит, и будь ты и сам Римский Папа, но для бессмертных братьев всего лишь человек, а значит, заведомая жертва и "корова". Да и пусть попляшет общинный блюститель за свои проповеди в адрес не кого-нибудь, а самого хозяина.
А дело и в действительности было не простым. Не столько по замыслу и исполнению, сколько по возможности неприятных для конторы последствий. О них-то у боевой группы, собранной в срочном порядке Балашинским, и болела голова.
– Если это и подстава, то на проработку уйдет масса времени. По срокам заказа не уложимся, – без околичностей резюмировал Миша, – И Шахтера, между прочим, как проработаешь? А если он чист? А если дознается о проверке? Тогда мы окажемся в полном дерьме и можем закрывать лавочку.
– По-моему, мы просто перестраховщики. Ну с чего мы решили, что Шахтер не чист на руку? – раздраженно-нетерпеливо вступила мадам Ирена.
– Оттого, что был прецедент, – хмуро ответил Миша.
– Так, когда это было! И потом, он хотел как лучше. Для нас же.
– Ой, Ирена, я тебя умоляю! Вот чего не терплю, так это когда кто-то хочет как лучше для меня без моего согласия и за моей спиной. Если бы мы тогда хоть чуть-чуть лажанулись, то сидели б сейчас не в Москве, а где-нибудь в Северной Африке без гроша за душой. Потому как пришлось бы срочно делать ноги.
– Мишенька, вот только не нагнетай. Давай лучше по делу.
– Давай. Тем более, что дела у нас хреновые. Как известно, от заказа, в силу соглашения между господином Гурфинкелем и конторой, отказаться мы не имеем права. А в случае исполнения мы вполне вероятно попадаем в эпицентр небольшого цунами, – тут Миша умолк и вопросительно посмотрел на Балашинского.
– Можешь рассказать все как есть. Братья должны знать, на что они идут, – разрешил Ян Владиславович. Миша кивнул в ответ и продолжил.
– Итак, коротко. Что мне удалось выяснить, а что и додумать, чтобы составить ясную картину. Во-первых,..
Устранение депутата Чистоплюева, как выходило из слов "архангела", было только первым шагом в предполагаемой многоходовой комбинации Шахтера и компании. Своеобразным катализатором, спровоцирующим, видимо, изрядный скандал, который будут усиленно подогревать. И личность Чистоплюева была выбрана не случайно. Решающую роль в этом сыграло довольно близкое знакомство потенциального кандидата в покойники с ныне здравствующим на посту генеральным прокурором РФ. Под которого в сущности и отрывали яму веселые приятели горняка-стахановца. Для чего вдруг Гурфинкелю понадобилось свободным проклятое прокурорское кресло, Миша не стал даже и выяснять. Не их ума это дело, да и мотивы Шахтера в раскладе были посторонними. Но существенным было то обстоятельство, отчасти угаданное на кофейной гуще, но не менее от этого достоверное, что, после насильственной смерти Чистоплюева, у него непременно должны были обнаружиться сильно воняющие, гадостные компроматы на дружка-прокурора.
Далее сценарий мог иметь два вероятных пути развития. Или наиглавнейший прокурор страны устрашится, что мало вероятно, или просто плюнет на все слюной, да и уйдет с поста, что тоже не исключено, слава богу на улице не останется и с голоду не помрет, а хлопот меньше. Но в конце концов, при первом варианте прокурорский трон освободится хоть и шумно, но безболезненно. Но если действие станет развиваться по второму пути, и высокопоставленный дядя пойдет на принцип! Тогда наиболее вероятной козырной картой может быть обвинение самого генерального в организации убийства нежелательного очевидца или даже шантажиста. Сегодня лучшие друзья, а назавтра табунок свидетелей во все глотки подтвердит, что и не друзья уж вовсе, а враги, и между черная кошка пробежала. И вот тогда генеральная прокурорская личность будет землю тренированным носом рыть, чтобы подозрения от себя отвести, и убийц дорого и любимого депутата Чистоплюева на чистую воду вывести. Вот такой у Миши получился каламбур.
– А в распоряжении у него не доморощенные братки и авторитеты. Уж если натравит, то хорошо если только Петровку, а может и кого еще похуже. У нашего клиента тоже своя партия имеется, и просто так нужного человечка она не отдаст.
– То есть все упирается в потенциальную вшивость Гурфинкеля, – подытожил сообразительный Макс, – сдаст он или не сдаст, если вдруг совсем кисло ему с дружками придется.
– Да, в такой игре можно и джокера скинуть, чтобы шкуру недырявой сохранить, – подтвердил вывод "архангел".
– А нам-то что! Ну и свернемся. Ментам нас не достать. Набегаются – не догонят. Да и мой фонд остается, – возразила Ирена.
– Как у тебя хитро все получается! Мы – в бега, а ты – в Москве жировать. То есть плевать на общину, на всех нас. Только мне что-то в бега не охота. Мне и здесь неплохо. И остальным тоже столица пока не надоела, – "архангел" обвел присутствующих тяжелым, вопрошающим взглядом, словно ища у них поддержки. Он ее и получил, безмолвную, но выразительную. И тогда нехорошо и свирепо посмотрел на мадам, – Да и не выйдет у тебя с фондом. Не надейся. Во-первых, если что, то и до тебя доберутся, не отбрешешься. А прикрыть будет некому. Во-вторых, денежки для твоих искусствоведов идут через мои руки, и, стало быть, ключик к ним – у меня. Сколько баксов будет на твоем счету, когда мы свалим отсюда?
Мадам потемнела лицо, сообразив, что сказала лишнее и опасное. Но тут же попыталась отыграть назад.
– Мишаня, если ты лично меня ненавидишь, то это не значит, что непременно надо искать в моих словах второе дно, – начала отходную мадам, – все же, кроме тебя понимают, что я имела в виду крайний вариант. На самый плохой случай. В том смысле, что безвыходных ситуаций не бывает.
– Ну, в общем, Ирена где-то права, – встрял тут же и Макс, – но только сейчас не время думать о том, как в случае чего сматывать удочки. Надо думать, как нам рыбку съесть и никуда при этом не влезть.
В кабинете Балашинского на время повисло задумчивое молчание. Ян Владиславович его первым же и нарушил.
– Вот что я вам скажу. В договоре с Гурфинкелем все же есть одно слабое звено.
Совет мгновенно навострил уши. Каждый знал, что хозяин вступает со своей скрипкой, только когда самодеятельность братьев заходит в тупик и готово пасовать перед препятствием. А если Балашинский начинает петь соло, то остается только изумляться, держа рот открытым, и слушать, и учиться, учиться, учиться.
Ян Владиславович тем временем продолжал развивать свою мысль:
– Нам дали заказ убрать, то есть живого Чистоплюева превратить в мертвого. Но нигде не было сказано, что это должно быть безусловное убийство. Со стрельбой, взрывами и насилием.
– То есть, Вы хотите сказать…, – непроизвольно перебил хозяина озаренный догадкой "архангел".
– То есть я хочу сказать, что депутата можно… ну, хотя бы тихо отравить. Результат тот же, а правды доискаться будет трудней. Да и глаза отвести не сложно.
– Ну, там, любовница ревнивая, если она есть, или, наоборот жена, – мечтательно протянул Макс Бусыгин, – а если Шахтеру наше исполнение не понравится, то тут и думать нечего – подстава определенно. Тогда и с Иосифом Рувимовичем не грех будет поквитаться. По понятиям и по справедливости. Вампы такие поганки "коровам" не прощают, ведь верно?
– Верно, – благосклонно согласился Балашинский, – как к Чистоплюеву подобраться поближе, вы уж сами обдумаете, не маленькие. А способ отправки клиента предлагаю следующий. В бытность мою на востоке…
Предложение хозяина было оригинальным, действенным, абсолютно убойным. Хотя дорогим и вызывающе экстравагантным. Одно было безупречным – такими методами ни братки, ни даже спецслужбы конкурентов и противоборцев никогда еще не убирали. Никому в голову не приходило воскресить хлопотную и утонченную восточную забаву, когда имелись разнокалиберные верные стволы и тротиловые эквиваленты, и изощренные, химические продукты современных лабораторий. Не возникало нужды у нынешних киллеров толочь в мельчайшую пыль дорогостоящие и сверхтвердые алмазы. Эстетика убийства ушедших веков была прочно позабыта, и вот теперь Балашинский намеревался ее реанимировать, тем более, что саму механику процесса помнил еще со времен, когда украшал свою гордую голову османским тюрбаном.
– Если случится необходимость, можете смело пить с ним на пару, хоть из одной посуды. Вам-то ничего от этого не будет, разве малость пощиплет в животе. А клиента через час, другой вынесут на носилках. Да и в больнице вряд ли помогут. Да пока еще разберутся! А разберутся, то глазам своим не поверят, – Балашинский замолчал, о чем-то приятно задумавшись. Потом добавил комментарии: – В мое время алмазную пыль было принято подсыпать в кофейный напиток. Утонченно и благородно. Но сгодится на крайность и коньяк и даже чай или водка. Пыль, на то она и пыль – ее не видно.
Мише оставалось только проработать, собственно, план выхода на приговоренного депутата. Это были уже частности, но требующие тщательного обдумывания и подготовки. Предлогов для визита к Чистоплюеву имелось множество, хотя бы и пресловутый фонд Ирены. К тому же любил "архангел" виртуозное исполнение и не терпел ни малейших, пусть и исправленных, впоследствии, промахов.
Однако, пока "архангел" вдумчиво копался на предварительном этапе, а срок тому был не одна неделя, Балашинский получил некоторое, свободное от забот, время. И его вновь стали одолевать изгнанные было бесы. Фома, как назло, постоянно вился возле кругами, покинув любезные сердцу диваны, словно чувствовал опять вернувшееся неладное. Ссориться с ним Яну очень не хотелось, объясняться же – и того меньше. И Балашинский, как бывалый партизан, стал обдумывать возможность побега. Как запудрить мозги заботливому стражу и получить временную от него свободу.
Пока недремлющий Аргус бодрствовал на посту, в общине не переживали о благополучии хозяина. И напрасно. Ян Владиславович сумел отвести Фоме глаза. Поводом послужил все тот же фонд. Фома, хоть не присутствовал и не мог бы присутствовать на "военном совете", далекий от дел боевой группы, однако, наслышан был, вездесущий и всеведающий, о заявлении мадам. Посему, желание Яна самому вникнуть в тонкости благотворительных дел фонда и посетить некоторые организации и нужных людей, не вызвали почти подозрений у недоверчивого, в силу своих природных наклонностей, Фомы.
– Ребят не возьму, не уговаривай. И не смотри, как солдат на вошь. К таким людям еду, что свидетели не нужны. Не поймут. Тата такси вызвала, им и обойдусь, – Балашинский на ходу, надевая заштопанный любимый плащ, скороговоркой кидал слова Фоме, семенящему сбоку. В глаза ему не глядел, головы не поворачивал, – и не ходи за мной тенью! Сам видишь, какие дела пошли, до баб ли теперь!
– Да я и не из-за баб! – Фома все не отставал, вышел за Яном на двор, – я уж и думать про тот случай забыл, а ты все обижаешься. Меня Ирена беспокоит, и, честное пионерское, с каждым днем все больше. Вот ты с проверочкой, да с подстраховочкой, а она возьмет и свинью в отместку подложит. Мадам такая, у нее самолюбие – больное место. А я, как не крути, а все же не психолог, повлиять не могу. Да и руки коротки.
– У тебя коротки, у меня достанут, если будет нужда. Опять же, кроме Ирены, в общине еще восемь братских душ, друг за друга горой, и предательства не простят. Один "архангел" со своей подружкой чего стоит.
– Многого стоит, не спорю. Хитер, умен, стратег от бога, – Фома задержал Балашинского у ворот, за которыми уже ожидало желтое, в шашечках, авто. Ухватил за рукав, невольно заставив Яна повернуться, заглянул в лицо, словно непременно хотел донести до хозяина весь важный смысл следующих слов, – Только подлости в Мишане нет, не было и не будет никогда. А у Ирены этого добра вагон не растраченный. Она вне логики и предсказуемости. Как змея – не заглотит, так хоть покусает. Пусть даже и своих.
– Ты говори, да не завирайся. Сколько я на белом свете живу, а живу немало, сам знаешь, но такого, чтобы вамп на вампа из корысти руку поднял, никогда еще не бывало, – Балашинский садился уже в такси, и перед тем, как окончательно захлопнуть заднюю дверь, наставлял Фому, – Не было такого, даже не думай.
– Не было, – вздохнул Фома, и сказал тихо уже вслед отъезжавшему автомобилю, – Не было, так будет. Все когда-нибудь случается в первый раз, Ян Владиславович. Эх, жизнь наша!
Однако, и происшествие на совете, и напутственная, прочувствованная речь Фомы, зародили в уголке сознания Балашинского смутное беспокойство. Потому, прежде, чем приступить к сердечным своим делам, он все же завернул в офис "Молодых талантов". Зачем, не знал и сам. В бухгалтерии Ян не разбирался, в аудиторских проблемах и подавно, о собственно работе фонда имел самое неясное представление. Но чуткий на смердящие гадости нюх, некий независимый от него потусторонний локатор, уловил тлетворный запашок. Хотя поводов внешне не было никаких. И любезность персонала, от охранника в офисных дверях, до заместителя мадам, чуть ли не шаркнувшего ножкой перед Яном в коридоре. И сама Ирена, выпорхнувшая взбесившейся бабочкой из кабинета навстречу. На личике мадам хорошо читалось: да, знаю, виновата, и дура последняя, сама все заслужила на свою голову, так что проверяйте и не доверяйте, братья мои добрые, так мне и надо. И реакция Ирены была нормальной, вамповской, родной. И преклонение перед хозяином в ней светилось неподдельное. Но все же верный, скрытый прибор показал отклонения. Не в самом месте и не сейчас, а так, словно нынешнее хорошее недолговечно и время его подходит к концу, и никто об этом пока не знает и не подозревает, но прибор, качнувшись стрелкой в будущее, уже определил срок. У Балашинского нехорошими мурашками, какие бывают, наверное, у, внезапно встревоженного охотниками, волка, пробежало неприятное предчувствие. Как у зверя, в чудный и теплый, мирный солнечный день, заскулившего на поляне в ожидании грядущего землетрясения или стихийного пожара.
Но не было никаких, видимых глазу доказательств, только виноватая преданность в голубых, распахнутых по-детски, очах Ирены, и Балашинский подавил нахлынувшее на него беспокойство. Выругал про себя маниакальную подозрительность Неверующего Фомы, и, успокоив мадам, отбыл прочь.
Теперь уже без колебаний называл и новый адрес шоферу. Тот, что без малого две недели носил в голове, хотел выкинуть, стереть из памяти, но потерпел неудачу. И вот теперь, вопреки, а может наперекор, Фоме и ревнивой мадам, наконец, назвал: Воробьевы горы, Московский Университет. Время было подходящее, учебное – около полудня, и Ян надеялся застать.
С полчаса еще проплутал по громадной территории. По недомыслию велел таксисту высадить его у главного входа, прежде чем поинтересовался, где находится нужный ему факультет. Оказалось, что совсем в другом здании и нужно обходить. У студиозуса, объяснявшего дорогу, как выяснилось уже впоследствии, были нелады с право– и левосторонней ориентацией. Оттого Балашинский сначала забрел на противоположный, химический факультет. Когда же, наконец, отыскал требуемый корпус и доску с расписанием в нем, наступило время большой обеденной перемены. Пришлось без дела прослоняться еще час. К аудитории на третьем этаже, где сто четырнадцатая группа должна была постигать на семинаре премудрости математического анализа, Ян подошел загодя. И первыми, кто увидел его, ожидающим у дверей, были, по закону подлости, Нина и Леночка.
– Здравствуйте, а Вы к Маше? – тут же подскочила к нему бойкая и более смелая Леночка, – а она еще обедает. Хотите, я за ней сбегаю в буфет?
Обе девочки замерли в предвкушении ответа, трепеща от острого любопытства. Чтобы избавиться от их, жадного до скандальных новостей общества, Ян охотно откликнулся на предложение:
– Если Вас не затруднит.
– Что Вы? – захлебнулась от восторга Леночка, – Мы мигом слетаем, правда, Нин?
Не дожидаясь согласия во всю глазеющей в сторонке Нины, Леночка метнулась вдоль по коридору. А пять минут спустя уже чинно выступала впереди пунцовой от смущения Машеньки, едва плетущейся за ней следом.
Бедная Маша не в состоянии была и глаза от пола поднять. И не столько из-за любопытствующего скабрезно общества товарок, сколько из-за неожиданно нагрянувшего к ней визитера. Которого уже и перестала ждать и стала забывать потихоньку, как прекрасный, но невоплотившийся сон, и даже грусть-печаль постепенно отпускала ее сердечко. И тут глотающая на бегу слова, запыхавшаяся Леночка: "К тебе! Там! Твой, на мерседесе!" И не ее, и непонятно, при чем мерседес, но Маша сразу сообразила, о ком речь. И покорно пошла за Леночкой.
Отчего-то страшно было именно просто увидеть Его, не так даже, как заговорить. Еще и не дошли до аудитории, а в голове у Машеньки шумело, и мутилась частыми мошками тьма перед глазами, и сердце билось уже где-то в ушах, а сами уши и щеки полыхали малиновым. Так же до смерти хотелось видеть Его, как и немедленно провалиться под землю. А когда наконец увидела – растерялась окончательно, и чуть не расплакалась от неловкости и стыда. Но Ян словно и не заметил ничего. Спросил, может ли она освободиться и составить ему компанию, и Маша ответила безропотным: "Да!", хотя не могла, и сидеть ей было еще две пары. Но примерная ученица внутри нее не стала возражать, и не подала голоса, видя безнадежность попытки.
Занятия она, конечно, прогуляла. И домой тоже не попала вовремя, наврав Надежде Антоновне, что сидит в библиотеке и готовится к коллоквиуму. Мама, услышав только это ученое и ответственное слово, тут же отправила Машу назад, к книжкам, велев заниматься и не отвлекаться на звонки. А Машеньке не стало и на секунду стыдно от своего беспардонного вранья.
Ресторанов на сей раз не было, но сидели в кафе, и не в одном. Маша не помнила где именно, да и все равно. Когда уставали просто гулять, заходили и присаживались за столик. Гуляли сначала по Старому Арбату, а потом, очутились, неведомо как, на перегороженном стройкой Охотном Ряду. И все время говорили. И Маше было страшно интересно слушать, хотя про себя Ян ничего совсем не рассказывал. Но так увлекательно описывал обычаи и достопримечательности Европы и Востока, со знанием дела вдаваясь в исторические подробности, что Маша Голубицкая заподозрила в нем историка по образованию. Или, на худой конец, вдумчивого путешественника. И слушала, открыв рот. Правда, из коротких замечаний, сделала радостный вывод, что кавалер ее холост, но обременен многочисленной родней, перед которой имеет обязательства моральные и материальные. Наличие у Яна большой семьи и обрадовало, и огорчило одновременно. Обрадовало потому, что человек, заботящийся о близких своих, несомненно, человек порядочный и во всех отношениях достойный. Огорчило же тем, что будь Ян совсем одинок, Машенька могла бы его нежно жалеть и испытывать от этого особенное удовольствие. Хотя даже на вид ее самоуверенный спутник и жалость были понятия вовсе несовместимые.
Около восьми Ян по собственному почину проводил Машеньку домой, видимо, помятуя о проблемной маме. Однако, на этот раз заранее сговорился с девушкой о следующем свидании. На следующий день и опять в обеденный перерыв. И Маша опять позабыла о вечерних занятиях, и согласилась. Сообразила только назначить место встречи вне факультетских стен, у памятника Ломоносову.
Зачарованные прогулки продолжались еще три дня. Подряд. Потом наступило выходное воскресенье, и Маша вынуждена была остаться дома. Предстояла совместная с мамой уборка квартиры, да заодно Маша собиралась подтянуть хвосты за исправно пропущенные послеобеденные учебные часы. Утешало лишь то, что у Яна тоже обнаружились домашние обязательства, которыми невозможно было пренебречь. Жаль только, что видится им придется впредь не каждый день, предупредил ее Ян, ведь у него есть еще важные рабочие дела, а деньги, как известно, с неба не падают. Но Маша готова была ждать сколько угодно. За четыре дня она успела немного освоится со странным новым знакомым, перестала смущаться и бояться дурного, но напротив, прониклась уважением и еще одним чувством, которое отныне не позволяло ей представить дальнейшую свою жизнь без милого Яна. Впечатлило Машу и то обстоятельство, что за все совместное их времяпровождение Ян ни разу не попытался пристать к ней, даже и поцеловать, хотя Машеньке казалось, что она несомненно нравиться своему спутнику. Иначе зачем бы Яну сдалось ее общество? Для разговоров можно найти и кого-нибудь поинтересней. И девушка приписала его примерное поведение хорошему воспитанию и серьезным намерениям. Дальше от истины Машины предположения просто не могли быть.
Хотя Балашинского и привлекали и радовали совместные прогулки с Машей по Москве, но он так и не мог ответить сам себе на вопрос: а на кой черт ему это нужно? Хотелось, и он делал. Конечно, девушка нравилась ему, и, может даже, больше, чем нравилась. Но задумываться над последствиями своих отношений с Машей Яну Владиславовичу отчего-то было неприятно. И в первую очередь от того, что Маша Голубицкая принимала его совсем не за того, кем Балашинский являлся на самом деле. Для Маши он, естественно, был просто человеком, и, судя по ее глазам, человеком хорошим. И вот это-то обстоятельство было хуже всего. Словно Яну Владиславовичу насильно навязали обязанности, которые он ни за что не захотел бы добровольно принять. Но как не крути, он-то, Балашинский, был вампом, то есть, по сути питал свою плоть кровью таких как Маша! А ну как оставь его и понравившуюся ему девушку надолго взаперти и дай скрутить себя непобедимой жажде! Как долго тогда прожила бы Маша с ним наедине? Время считано было бы в лучшем случае на минуты. Лучше уж и не думать. Хотя бы до тех пор, пока можно.
Опять же был Фома. Три последующих дня он послушно внимал вранью о неотложных городских делах и заморочках с "Молодыми талантами", но, кажется, ни на грош в них не верил. А если был не совсем дурак, а Фома не дурак, это уж точно, то, наверняка, задал определенные вопросы Мише. И Балашинский мог только представить себе удивленное лицо "архангела", который все проблемы с фондом решил давным-давно. Но Фома пока хранил гробовое молчание. Вопрос, надолго ли? И Ян Владиславович, искушенный и расчетливый, удар постановил себе упредить. Лучше пойти на откровенность с Фомой и иметь его в наперсниках и союзниках, чем позволить ходить в обиженных недоброжелателях. К тому же имелся и повод для приглашения в кабинет. Дело Чистоплюева было принято конторой в работу, и именно Фоме предстояло превращение в своей подземной лаборатории драгоценных алмазов, уже раздобытых Иреной, в смертоносную пыль.
Во дворе строгая Лера надзирала за наемным приходящим садовником, который укутывал в полиэтилен облетевшие розовые кусты. Ян Владиславович подошел к рачительной хозяюшке и ласково сказал пару слов похвалы ее заботам. Потом попросил Леру на секунду оставить садовника и ненаглядные ее сердцу кусты и сходить поискать свою благоверную половину. Лера с готовностью услужить сообщила, что в воскресный полдень Фома еще наверняка валяется в постели наверху, где он всего какой-нибудь час назад вкушал завтрак ею же и принесенный. И с одобрения хозяина тут же отправилась поднимать лентяя, которому было назначено Балашинским рандеву через полчаса.
Не через полчаса, а через добрых полтора Фома, наконец, добрел до хозяйского кабинета. Но Балашинский и не подумал обидеться. Совсем не обязательно, что Фома умышленно хотел заставить его ждать. Для Фомы и полтора часа на подъем и утренний туалет были космической скоростью.
– Ну, заходи, садись, – Ян Владиславович сделал широкий, приглашающий жест рукой и улыбнулся как можно шире, – как у нас обстоят дела с камнями? Надеюсь, Ирена уже передала тебе?
– Передать-то передала. Да вот я жду одну машинку, так сказать, ювелирное приспособление, но Максик только послезавтра привезет. Так что дел никаких пока и нету.
Фома говорил и одновременно усаживался в пышное, зеленой кожи, кресло, ерзал и обстоятельно кряхтел, стараясь устроиться повальяжней и поудобней. За полгода в столице он совсем обленился физически и утратил форму, так что, пожалуй, дюжий, тренированный десантник его бы и заборол, даже и в одиночку.
Апостол новой веры все же пристроил с удобством свои телеса и огляделся кругом, ища, куда бы определить ноги, но ничего подходящего не обнаружил. Ни столика, ни пуфика, ни подушечки. И то сказать, нынешний хозяйский кабинет разительно отличался от прежнего, курортного. Не было более ни изящных, антикварных диванчиков, ни кофейных столиков, ни тяжелых, пыленакопительных штор. А был профессорский, солидный столичный стиль, выполненный на заказ дорогим дизайнером. Чистое, забранное деревянными жалюзи, окно, и красного дерева шкафы с книгами у стен. Фома не удивился, если бы узнал, что хозяин и почитывает некоторые из них. И сам Балашинский уже не валялся словно в прострации на подушках, пропитанных кофейными запахами, а чинно восседал за необъятным, полированным, о двух тумбах, столом, в совершенно современном, кожаном же офисном кресле, правда эксклюзивном и баснословной цены.
– Я ведь зачем тебя позвал? – откинулся за столом Балашинский, придав лицу выражение задумчивости и некоторого смущения, – и не из-за стекляшек вовсе… Извинится хотел. Наврал я тебе, брат.
Ян Владиславович на этих словах умолк и выжидательно посмотрел на Фому. Тот перестал, наконец, ерзать в кресле, замер и в ответ только часто-часто замигал. Потом, словно прикинув что-то в уме, придал себе важности и, отечески назидательно склоня набок голову, произнес:
– Если ты о своих городских прогулках, то я все знаю. На второй же день догадался, а на третий уж был уверен.
– А кроме тебя еще кто-нибудь уверен? – обеспокоено спросил его Балашинский.
– Не волнуйся, мадам сейчас держит в голове только оплошность на совете и собственное реноме. Ты очень напугал ее своим внезапным визитом. Остальным братьям, да и сестрам до этого пока дела нет. Но это пока… Пока кто-нибудь не станет заострять и нагнетать. Кто-нибудь, вроде мадам… И подпевалы найдутся. Тот же Стас. Он сейчас малость не при делах.
– Он – охотник. Его дело ювелирное, компании не требует. К тому же наше снабжение "коровами" лежит на нем целиком. По-моему, почетная и важная обязанность.
– Так-то оно так, да не совсем. Ну, сколько нам требуется "коров"? – Фома на секунду умолк, словно ведя в уме подсчет, – Три, много четыре в месяц. Ну, даже пусть будет пять, если питаться вразнобой. А это на пару вечеров работы.
– Но мы привлекаем охотника иногда и для дел боевой группы, – возразил Балашинский.
– Вот именно, что привлекаете. От случая к случаю, а такое отношение наводит на мысли о собственной его, охотника, важности для общины. И выводы он делает соответствующие. А это, как ты сам понимаешь, может иметь печальные последствия. В здоровом теле – здоровый дух.
– И что же надо охотнику для здоровья духа? С телесным здоровьем, как я понимаю, у Стаса все в порядке? – ехидно, но и с некоторым раздражением спросил Балашинский.
– Введи его в военный совет. Пусть присутствует, делает замечания. Где четверо, там и пятеро.
– Здрасьте, пожалуйста. Да даже у Риты больше прав присутствовать на совете, не говоря уж о Саше!
– Ритке и Сашку наплевать. Они делом заняты. Им самокопанием заниматься некогда. А когда такая ограниченная личность, извиняюсь за откровенность, как наш охотник, начинает задумываться, то его слаборазвитые мозги легко поддаются нежелательным влияниям.
– То есть ты предлагаешь кинуть собаке кость?
– Вот именно. И пусть спит спокойно, – видя, что хозяин с ним согласен и предупреждению внял, Фома перевел стрелки разговора на иную стезю, ради чего, собственно, и был зван, – А что касается твоего нового увлечения, то, как я понимаю, там еще нет ничего определенного?
– Нет. Пока нет, – Ян Владиславович решил все же быть с Фомой откровенным до конца, – но может и быть. Видишь ли, я и сам не знаю. Так бывает иногда.
– Не знаешь, ну и ладно. Но как узнаешь, Ян, я умоляю тебя, поставь меня в известность. О большем я и не прошу.
– Обещаю… Да, обещаю, – повторил Балашинский, словно разговаривал в эту минуту сам с собой. Потом уже, обращаясь к Фоме, сказал, – Обещаю тебе, что если в моем отношении к Маше, а ее зовут Маша, – пояснил он мимоходом для Неверующего, – что-нибудь переменится, я сообщу тебе. И более того – я с тобой посоветуюсь, как мне поступать далее.
ГЛАВА 16. ЛОВУШКА
Рабочее время уже приближалось к обеденному, когда Миша подъехал к зданию Государственной Думы. Машину возле думского подъезда поставить не удалось. Пришлось делать круг и парковаться возле украшенного нарядной вывеской бюро "Трансаэро". Не успел Миша выйти из своего мерседеса, не новенького "глазастого", а более старого, разъездного 300-го, по случаю купленного с рук, как тут же обозначился ГАИшник. Не вступая с ним в объяснения, Миша сунул за отворот милицейской краги пару разменных купюр и молча кивнул в сторону машины. Полосатый палочник благодарно осклабился и без возражений встал на страже поблизости.
Пропуск на имя Яновского Михаила Валерьяновича, адвоката и представителя культурного фонда, был заказан заранее. Встреча назначена на половину первого. Пока не с самим Чистоплюевым, нет. Только с доверенным помощником. Оно и правильно. Какое дело может быть у киношного спонсора к депутату, занятого исключительно вопросами земельной реформы? Разве что задумали снимать фильму о новом русском фермере. Подозрительно. Но, впрочем, Миша на первых порах иного отношения к себе и не ждал.
Хорошо уже было то, что помощник Чистоплюева, неприятный, мордоворотистый мужик с отвратительной фамилией Гимор, принял Мишу сразу, не заставив дожидаться в приемной. То ли помощник хотел сплавить непонятного посетителя по-быстрому, то ли разъяснить визитера немедленно из простого любопытства. Миша охотно и без предисловий, как и положено занятому сверх меры человеку, изложил свое дело. Вернее, предложение. Или даже приглашение к выгодному сотрудничеству. Гимор, не смотря на свою каменную рожу и мерзкую фамилию, оказался куда как понятливым типом. Хотя сам он, по-видимому, ничего не решал, но Мишино предложение его, несомненно, заинтересовало. По крайней мере Гимор пообещал уважаемому Михаилу Валерьяновичу, не откладывая, доложить о приглашении и предложении Чистоплюеву. И, коли доклад выйдет успешным, то и встреча адвоката с Чистоплюевым непременно состоится. Конечно, после того, как он, Гимор, наведет некоторые справки о фонде, и пусть уж господин адвокат не обессудет, но таков уж порядок.
Миша и не думал обижаться. Пусть себе проверяют. Что бы не нарыл в итоге этот Гимор на свою и депутатскую голову, будет свидетельствовать только в пользу фонда и его представителя. И клюнет Чистоплюев, жадный как Кащей, обязательно клюнет. Тем более, что червячка на крючок "архангел" насадил жирненького.
Да и какой бы дурак не клюнул, предложи ему дело такое верное и доходное. По-всамделишнему – без подвоха и без попрания законности. Потому, что выдумал Миша дело чистое, без тайного второго дна. Коли дожил бы Чистоплюев до его завершения, большой куш получил бы за пустяковые услуги. Но в том то и состоял весь смысл чистого, верного и доходного дела, чтобы Чистоплюев не дожил и вместо того, чтобы получить большой куш, получил бы небольшой шиш, в виде удобного и комфортного земельного участка, размером два на три метра. Для реформ.
А предложение Миши Чистоплюеву было простым как прическа призывника, и незатейливым, как анекдоты про Чапаева. Ни для кого не секрет, что любой фонд, претендующий на популярность и тридцатисекундное упоминание в "Новостях", хочешь не хочешь, но обязан иметь в своих рядах людей уважаемых и в народе известных. Как то, звезд кино и эстрады, пару узнаваемых критиков, желательно хоть одного сатирика и одного престарелого лауреата советских времен, и непременно, действующего политика, лучше всего депутата Российского парламента. То есть, одна звезда, состоящая в "Молодых талантах", откровенно признался Миша Гимору, имела статус депутатской неприкосновенности. Но, как известно, деятели от кино – люди несерьезные, в государственных делах мало смыслящие. Оттого полноценными депутатами их считать, конечно, нельзя. А без своего депутата и фонд не фонд.
Так вот не соизволил бы господин Чистоплюев присоединиться к "Молодым талантам" и, так сказать, оказать им поддержку. Боже упаси, материальную. Слава богу, на паперти не стоим, капиталы имеем, и даже готовы щедро оплатить уважаемому депутату его представительство. И Миша назвал сумму, не безумную, но круглую и солидную. И тут же разъяснил, что пособие это, исчисляемое пятизначной цифрой, не единовременное, а представляет собой регулярно выплачиваемую величину. Опять же Чистоплюеву бесплатная реклама и оплаченный фондом эфир. И, как приятный довесок, общение с киношными знаменитостями в непринужденной обстановке. Почему именно Чистоплюев? Да нипочему. Собственно, на выбор имелось несколько кандидатур, персон солидных и уважаемых, рекомендованных ему государственных мужей с весом и стажем. Чистоплюева определили, ткнув в список пальцем и наобум. Если же господин депутат приглашения не примет, что же, обратятся к следующему, и так далее по списку.
В этом месте Мишиной тирады Гимор занервничал и забеспокоился. Упускать возможно выгодный случай не хотелось, тем более, что и Чистоплюев за раззявистость помощника по головке бы не погладил. Потому Гимор немедленно и с заискивающим выражением, которое сделало его гранитную физиономию вовсе противной, рассыпался перед Мишей в обещаниях похлопотать перед Чистоплюевым о благоприятном ответе. Намекнул и о своей немалой роли и влиянии на решения народного избранника, и уверил в положительном ответе почти наверняка. И вряд ли имеет смысл Михаилу Валерьяновичу пока обращаться к иному депутату с его интересным предложением.
Миша ответил совершенно искренне, что ни к кому другому не обратиться прежде, чем получит от Чистоплюева окончательный ответ. И уверил Гимора, что помощника в фонде тоже не обидят и намек понят правильно. Перед тем, как покинуть чиновничий кабинет, словно в порыве благодарности, кинул тигру последний кус мяса. Тряся на прощание с энтузиазмом буханкообразную руку Гимора, Миша доверительно сообщил помощнику, что члены фонда охотно пользуются его услугами в превращении безналичных средств в наличные, а также для перевода через счета фонда сокровенных сумм за пределы любимой родины. Услугами все довольны и нареканий пока не поступало. Полная конфиденциальность гарантируется. Процент самый мизерный. Можно сказать, чисто символический. После этого Гимор стал трясти Мишину ладонь в рукопожатии с удвоенным энтузиазмом.
Конечно, Гимор и его шеф Чистоплюев далеко не дураки, и палец им в рот не клади. Будут проверять и выяснять. А что же, пусть себе проверяют. Фонд действительно нередко использовался и с такой целью, и процент был небольшой, и клиенты довольны. Возможно, если операция пройдет гладко, и на фонд не падут подозрения, то и Гимора еще можно будет использовать с выгодой. Наверняка, потеряв своего хозяина, помощничек не замедлит найти себе нового. А заманчивый адрес уже будет ему известен.
Главное, контакт с Чистоплюевым установлен. О чем Миша и доложил хозяину. Теперь оставалось дождаться ответа. Чутье же подсказывало "архангелу", что за депутатским словом дело не станет. И действительно, по прошествии всего двух дней Гимор вышел с адвокатом на связь. Чистоплюев намерен был познакомиться с представителем "Молодых талантов" лично. Обговорили место и время встречи. "Архангел" получил приглашение на депутатскую дачу в ближайшее воскресенье и даже с супругой, если, конечно, имеет таковую. Хозяин велел Мише для убедительности прихватить с собой Риту. И то хорошо, ведь мотаешься как собака, а с любимой женщиной и в люди выйти некогда. Рита не то, чтобы обижалась, хватало и учебы в медицинском и работы иного рода, но некий укор в ее глазах все же читался.
Дача Чистоплюева оказалась на деле небольшим и по европейски ухоженным поместьем. Была не казенной, хотя и таковая имелась, построенная, скорее, как загородный дом, претендующий в будущем на достоинство родового дворянского гнезда. Гнездо, разумеется, было записано на жену, вероятно, получившей наследство от бабушки-революционерки. Располагалась дача в местечке с уютным названием Подушкино.
Принципиальное согласие было получено от Чистоплюева еще до обязательного дачного застолья. И Мише оставалось только развлекать депутата и его плюшку-жену, да заодно и Риту, рассказами о похождениях и чудачествах звездных членов фонда. Информацию об их личной жизни сам Миша почерпнул из частых и громогласных высказываний на весь дом мадам Ирены. Жена Чистоплюева Зоя Васильевна слушала благосклонно и вслух мечтала, с кем из знаменитостей познакомится в первую, а с кем во вторую очередь. Сам Чистоплюев время от времени между рюмками строил глазки Рите. Но скорее из чувства хозяйского долга занимать гостей и особенно молоденьких женщин. Было очевидно, что худощавые спортивные брюнетки совсем не в его вкусе.
Распрощались с депутатом и его гнездом уже под вечер. Перед тем, как откланяться, Миша уговорился с Чистоплюевым, что в ближайшие дни представит его президенту "Молодых талантов", ни словом не обмолвившись при Зое Васильевне, что президент этот – женщина, к тому же красивая и блондинка.
Дело было на мази. Докладывая хозяину, Миша даже поплевал, чтоб не сглазить, через левое плечо. У Фомы был готов уже и смертоносный порошок. Оставалось обсудить последние детали операции и подготовить и поинструктировать на случай неожиданностей Ирену. Ей на этот раз отводилась в сценарии ключевая роль.
Балашинский собрал Совет, пригласив Риту и Сашка, как членов Боевой группы. Не забыл он и рекомендаций своего апостола. А, посему, без объяснений был зван и охотник. Хотя объяснений никто не спросил. Раз зван хозяином, значит, так и надо.
– Завтра, в крайнем случае, послезавтра, Миша сведет тебя с Чистоплюевым. На этом он свою миссию практически закончит. Дальше судьба заказа, а значит, и наша, будет зависеть главным образом от тебя, – серьезным голосом, но словно про себя, адресовал Балашинский слова свои мадам Ирене.
Мадам сидела притихшая и строгая, как институтка перед классной дамой, и за все время Совета не позволила себе ни одной шуточки или колкости.
– Может, ситуацию отработать дважды? Первый раз для репетиции, а во второй уже и подсыпать порошок? – Ирена была неподдельно встревожена и не скрывала своего состояния, – не дай бог, что-то пойдет не так!
– Я тебя хорошо понимаю, детка, но у нас нет времени. И сроки заказа поджимают, и медлить опасно. Прокурорская сторона тоже не дремлет, – Балашинский сменил суровый, деловой тон почти что на ласковый и отеческий, – ты не бойся, страх скверный помощник. Если не удастся отравить Чистоплюева без шума, если произойдет непредвиденное, то группа будет поблизости. Будут убирать его обычным способом. Ты ведь член семьи, для нас ты на первом плане, а не заказчик. Хотя, если наш план не сработает, боюсь, что придется туго.
– Ну, будем надеяться, что обойдется, – Ирена нервно и коротко вздохнула, – кто будет меня страховать?
– Пойдут Рита и Саша. И Максим, конечно, – ответил мадам уже Миша, – я, как ты понимаешь, даже вдалеке светиться не могу. К тому же, когда начнется работа, мое дело будет – Шахтер. И не дай мне бог ошибиться.
– Думаешь, поехать прямо к нему? – осведомился у "архангела" Балашинский.
– Думаю, да. Первая реакция, она самая правильная. Это потом уже можно в игры играть. А в первую секунду что-нибудь, хоть те же руки и глаза, а выдадут. Поэтому важно именно в эту секунду быть рядом, – ответил хозяину Миша.
– Не спорю, – Ян Владиславович благосклонно кивнул, – из тебя вышел неплохой психолог. Только место твое на время всей операции получится самым опасным. Ты уж обставь все как следует. А запахнет жареным, не вздумай рисковать. Сразу же уходи, – Балашинский не притворялся нисколько. И в самом деле был неспокоен за Мишу. Привык, привязался к верному своему "архангелу", уже не представлял без него своих успехов и благоденствия в сумасшедшем веке, в который прыгнул из могилы, минуя два столетия. Но раскисать не стал, не позволил, и подвел черту, – давайте еще раз повторим сценарий с самого начала.
Выходило так, что Ирена непременно должна была расстараться и увлечь собой заказанного депутата. Любым доступным ей способом. Обольстить, закружить и спать с собой уложить. И на все про все несколько дней. Впрочем, задача для мадам посильная. Но на этом этапе ни в коем случае не травить. Чистоплюеву полагалось начать есть из ее прекрасных ручек и выполнять необременительные капризы. А именно сопровождать мадам в свет. Посещать казино "Метрополь" и ресторацию "Романов" и прочие блистательные заведения. Пока, в один прекрасный вечер, субботний или воскресный, когда даже в Центральной Клинической только дежурные врачи, каприз мадам не заведет парочку в разудалую арбатскую "Метелицу". В этом райском ночном уголке любовникам полагалось, согласно расписанию, целоваться украдкой за столиком под развесистой пальмой в кадке, и пить баснословный коньяк по прихоти разошедшейся мадам. Пить из одной бутылки и на брудершафт, и, непременно на глазах у официантов, из одного бокала, играя в нежную страсть двух голубков. Боевой группе было определено место в казино, где Максим должен был ожидать предупредительного звонка на трубку. Если телефон прозвонит дважды, мирно сопровождать Ирену далее по маршруту. Если же, не дай бог, гудка будет три, немедленно выходить к машине и приступать к ликвидации самим.
Могло случиться всякое. Недотепа официант, пьяный завсегдатай, собственная неуклюжесть клиента. Бокал с великолепной пылью могли опрокинуть любые неловкие руки. Самого Чистоплюева могло стошнить от алкоголя, да и мало ли еще что. Но если роковой коньяк будет выпит, то тут и начнется самая работа. Клиента надо будет срочно уводить из клуба во что бы то ни стало. И мадам придется постараться.
В распоряжении Ирены и всей команды от силы окажется часа два. За это время в "Метелице" столик их будет давным-давно убран, а бокалы сданы на кухню и вымыты. Приступ желудочной боли должен будет схватить Чистоплюева непременно в клубе "Метрополя", с гордым и романтическим названием "Луксор", кстати навевающем мысли о роковых "египетских ночах". В "Метрополе" Ирену знали достаточно хорошо – мадам нередко арендовала изысканные гостиничные номера для полуночных приключений и постельных забав. Апартаменты будут оставлены для нее и на этот раз.
Главное, чтобы в клубе и обслуга и посетители непременно обратили внимание на плохое самочувствие клиента. Ирене предстояло хлопотать вокруг и проводить занемогшего депутата в номер, бережно и под ручку. И не забыть сообщить по дороге портье, что очень обеспокоена, и, возможно, ее спутнику понадобится врачебная помощь, если не удастся справиться с недомоганием подручными средствами. В номере мадам должна продержать страдальца, изображая суету и заботу до тех пор, пока медлить с вызовом неотложки будет уже опасно и невозможно. И, только тогда, сдав клиента на руки медиков, Ирена закончит и свою миссию, и сможет отдохнуть, ни в коем случае, однако, не покидая пределов гостиничных апартаментов. Группа будет ожидать выхода или выноса тела в припаркованной неподалеку машине, один сменный наблюдатель напротив входа в гостиницу, и проследит доставку заказа до самой клиники. Это, конечно, если не возникнет ненужных затруднений. Тогда – убрать Чистоплюева при первом удобном случае. Чтоб в кашу и в лохмотья. Хоть из гранатомета. Лишь бы и следа не осталось от бриллиантовой пыли в его нежном желудке.
Мадам же поутру, возможно, предстояло бы объяснение с людьми в погонах, но вряд ли при четком исполнении она попала бы под действительное подозрение. Опять же и светлая, неомраченная память покойного. И без того за думскими закрепилась дурная слава, и скандал вокруг Чистоплюева будет совершенно лишним. Ну, оказалась рядом очередная девица, и не девица даже, а респектабельная дама, хоть и шалунья в известном смысле слова. С кем не бывает. А к делу это не имеет отношения. Разве что показания тихо снять для выявления настоящего преступника.
Хотя, какой там настоящий преступник! Не в депутатских же кишках искать отпечатки пальцев! А подозрение, как водится, падет на жену, или на постоянную любовницу, у Чистоплюева и такая имеется. "Архангел" выяснил и проверил. Так, ничего особенного. Порядочная стерва и посредственная моделька. Вполне могла в порыве ревности к той же мадам сделать покровителю утонченную гадость. И вернее всего, что заподозрят модельку. На мирную Зою Васильевну, повидавшую на своем веку не одну мужнюю пассию, глупо и думать. Только доказать сыщики все равно ничего не докажут, и дело замнут и представят как скоропостижную смерть от внезапной болезни. Прободной язвы, к примеру. А врачи в депутатских палатах умеют не болтать лишнего.
Схема была красива и в идеале решала сразу две проблемы. Заказчика и клиента. О результате оставалось только молиться богу и просить его отвратить непредвиденные случайности с пути боевых братьев и сестер. Молиться Балашинский оставил "архангела" и компанию, а сам занялся другими, куда более приятными делами.
Машенька ждала его появления уже целую неделю. А, впрочем, ничего другого ей и не оставалось. Ян Владиславович не оставил очарованной им девушке ни номера телефона, ни адреса, предполагая возможность связи только в одну сторону. И вот, позвонил, назначил свидание у, ставшего за короткий срок традиционным, памятника Ломоносову. Проинформировал о предстоящей встрече с Машенькой и Фому. Для своего, в основном, спокойствия. Апостол немедленно запыхтел и даже раздулся от удовольствия и тайны и благословил хозяина напутствием. Однако, Балашинский потешаться над ним не стал. Ни вслух, ни про себя.
Звонок его пришелся некстати. Хотя Балашинский вроде бы все рассчитал правильно. Позвонил девочке во второй половине дня, ближе к вечеру, когда Машенька уже должна была вернуться с учебы. Но до семи часов, когда с работы обычно возвращалась Надежда Антоновна. А именно в этот понедельник была она послана начальством на конференцию, проводимую Минздравом, и воротилась с мероприятия домой раньше дочери.
Пока Маша переодевалась в домашнее, Надежда Антоновна с довольным видом уже грела обед. В кои-то веки хоть подаст поесть уставшей доченьке, деточка совсем измордовалась со своей физикой. Даже вроде похудела, хоть мать и следит за правильным питанием. А уж нервной и рассеянной стала наверняка. То роняет все из рук, то задумается над книгой и ничего не слышит. Надежда Антоновна как-то из праздного любопытства заглянула в одну и ужаснулась, не поняла ни строчки: ни значения беспорядочно на ее взгляд написанных греческих и латинских буковок, ни сносок и разъяснений к ним. Попалось единственное знакомое слово "предел". Что правда, то правда – не учебник, а полный предел. Есть от чего уму за разум зайти. И стоит ли удивляться, что в книжках и кино людей ученых изображают растеряхами и неряхами. Но у Машеньки, слава богу, рядом любящая мама, которая проследит и позаботиться. И дочка сама с малых лет приучена к порядку и аккуратности. А привычка, как говорится, вторая натура. Если бы Надежда Антоновна ведала подлинную причину Машиной рассеянности! Непонятные символы и загадочные "пределы" были для Маши, в действительности одаренной от природы, просто детской игрой, не требующей сверхъестественных усилий и напряжений. В отличие от загадочного и неповторимого кавалера Яна. Который, как и предупреждал, пропал неведомо куда по загадочным своим делам, и вот уже неделю не объявлялся и не звонил.
Оттого и вышла неожиданность. Когда хлопотливая Надежда Антоновна бросилась подавать второе: куриную котлету и пюре на сметане, у Машиного локтя на столе затренькал телефон. Ни о чем не подозревающая Маша и сняла трубку. И обомлела. До заикания. Надежда Антоновна, словно чувствительный барометр, тут же уловила смущение в атмосфере и, отвернувшись от плиты, застыла с шумовкой наперевес. Так и простояла до конца разговора.
Собственно, Маша за все время телефонной беседы произносила в трубку только два слова: "да" и "хорошо". Не могла же она в открытую сказать Яну, что мама рядом и на страже. Да и не только это не могла она сказать, хотя сказать хотелось многое. А Ян, как назло, пустился в долгие комплименты и жалобы на занятость, которая не позволила ему возобновить немедленно прогулки и встречи с прелестной девушкой. Так прямо и сказал: прелестной! Маша очутилась на седьмом небе от счастья, а в ответ могла произнести все то же тихое "да". И одновременно сжалось сердце – вдруг заинтригованная мама подойдет к параллельному телефону, как бывало в их семейной жизни уже не раз. Но, видимо, шумовка в руке ограничивала передвижения Надежды Антоновны.
Ян все же, наверняка, почувствовал неладное, пусть и не задал вопроса о маме и, назначив встречу, дал отбой. Маше оставалось лишь собраться с духом и повернуться лицом к Надежде Антоновне, стараясь не выдать смущения и волнения. Что соврать матери, все еще пребывающей в стойке гончей, Маша обдумать, конечно, не успела, и надеялась на счастливую звезду и вдохновение.
– Кто это был? – спросила дочь Надежда Антоновна, продолжая игнорировать и плиту, и шумовку в руке.
– Куратор группы, – коротко ответила Маша, и похвалила себя за находчивость.
– Что случилось? – мама и не собиралась ограничиваться одним только вопросом, – Я же вижу – на тебе лица нет.
Вот незадача! А Маше казалось, что смогла она принять веселый и беззаботный вид. Плохая из нее актриса, но что поделать. Да и как тут притворяться, когда звонит самый, наверное, дорогой и долгожданный человек. Но, придумать проблему – это не проблема, пошутила Маша про себя. Мало ли какие огорчения может обрушить на голову студента собственный его куратор. Тем более, если он – она, и к тому же, препротивная баба. Читает морали о пропусках и опозданиях, а сама, как ученый, полный ноль. Оттого и поставлена возиться с первокурсниками. И имечко у нее под стать натуре: Аделаида Гавриловна Штырько.
– Случилось, – Маша вздохнула с притворной, но выразительной скорбью, – мне отказали в дополнительном компьютерном времени, хотя я так просила. Говорят, первокурсникам не положено.
– А зачем тебе это время? – Надежда Антоновна словно и сочувствовала, и не понимала сути несчастья.
– Как зачем? – совершенно искренне удивилась Маша, – мне в декабре зачет сдавать по программированию. Дома у нас компьютера ведь нет, а учебных часов не хватает.
– Детка, ты уж прости, но у нас нет возможности пока купить компьютер. Вот, разве позже, – было видно, что мама не на шутку расстроилась. Но пусть уж лучше расстраивается по этому поводу, а, не дай бог, по всамделишней причине Машиных переживаний.
– Ничего, мам, это не катастрофа. Перебьюсь, – ответила как можно непринужденней Маша.
– Может мне сходить к твоему куратору или к тому, кто решает этот вопрос? Если я объясню и попрошу..?
Только этого не хватало, и Маша почти закричала:
– Н-е-е-т! Ни за что! – и осеклась, увидев в каком изумлении смотрит на нее мама, но пришлось продолжать для правдоподобности, сочиняя на ходу, – Я большая уже, а ты за меня…, как в детском саду… Стыдно ведь.
– Доченька, вовсе это не стыдно. Вот если бы мы украли компьютер… – но Надежда Антоновна, видя перед собой не на шутку расстроенное лицо Маши отказалась от мысли читать проповедь, – а, впрочем, как скажешь. Я только хотела помочь.
– Спасибо, мам. Но просить никого не надо. Проживем и без компьютера, – тихо, но твердо ответила Маша, – ерунда это все.
– Ну, ерунда, так ерунда, – и Надежда Антоновна отвернулась к плите за котлетой.
Напрасно, однако, Маша думала, что ей удалось заговорить в матери змею сомнений. Неудача постигла ее впервые в жизни, но и влюбляться в кого-то всерьез Маше еще не доводилось. А, быть может, Маша, привыкшая с детских лет кормить мать враками, утратила бдительность и добросовестность в этом нелегком искусстве, позволила себе расслабиться. Но и Надежда Антоновна в свою очередь прожила жизнь долгую и богатую разочарованиями. Оттого в серьезном деле и не купилась до конца на придуманную Машенькой легенду.
Надежда Антоновна слишком хорошо знала свою дочь. Не все поступки Маши и их последствия, конечно, становились ей известными, но то были несущественные знания. И Машина скрытность и обман затевались лишь с самыми благими намерениями и имели целью оберечь Надежду Антоновну, любимую маму, от нервных расстройств по пустякам. Если мать о чем-то и догадывалась, сердцем чуя недоговоренность или ложь, то виду не подавала, отчасти даже довольная заботой со стороны Машеньки. К тому же сама понимала, что страхи и боязни за дорогую свою девочку чрезмерны и болезнены, потому и получалось, что Машино предусмотрительное вранье компенсировало собой издержки характера матери. Подобное равновесие, пусть и шаткое, позволяло обоим женщинам, пожилой и юной, мирно сосуществовать под одной крышей. Но до поры до времени.
Наступил уже и вечер. За ним своим порядком пришла и ночь. Надежда Антоновна уже несколько часов никак не могла заснуть, но лежала тихо, как мышка, не ерзая и не переворачиваясь от бессонницы волчком с бока на бок. Телефонный звонок все не шел у нее из головы. Надежда Антоновна могла и была готова поверить во многое. В переставшие ходить на маршруте троллейбусы, в потерянные случайно, а не украденные, деньги и вещи, в забывчивых учителей и в заболевших подруг. Но никогда и ни за что ее единственная дочка не стала бы так волноваться, бледнеть и заикаться в телефонную трубку из-за каких-то компьютерных часов. Ведь Машенька держала себя в руках и даже ни разу не заплакала, когда узнала, что Александр Данилович, родной отец, навсегда уезжает в заокеанскую эмиграцию. А ведь любила она отца. Очень любила, и был его отъезд для Машеньки нешуточным ударом. Надежда Антоновна это знала наверняка. Хотя Маша никогда ей об этом не говорила. Но так радовалась каждой встрече с ним, хотя и пыталась скрывать свои чувства от матери. И ничего, не плакала и не убивалась горем. Пережила и приняла отцовский отъезд, хотя была еще совсем ребенком. И тогда, и всегда, как помнила Надежда Антоновна, дочь ее отличалась удивительным, не по годам, самообладанием. И чтобы прийти в такое смятение из-за звонка куратора и дурацких компьютеров! Для ее Машеньки это было невозможным и невообразимым.
Объяснений у мающейся без сна Надежды Антоновны было два. Одно утешительное, второе кошмарное. Конечно, сама она, человек от суровой физико-математической науки далекий, и может до конца не понимать важность этих проклятущих, компьютерных часов. Может, для Машеньки компьютерные часы сейчас самое главное в жизни и без них наступит настоящая катастрофа в учебе. Может, Машенька делала на этом компьютере что-то очень важное, хотя бы для нее самой, и хотела отличиться, а теперь ее планы рухнули. Может, все может. И этот первый вариант Надежде Антоновне установить и проверить будет легко. И если все дело в злополучных часах, то, так и быть, бог с ними с деньгами на черный день. Купит она Маше компьютер, самый лучший, какой только позволят средства.
Но, если причина Машенькиного беспокойства никак с компьютерами не связана, то вывод оставался только один, и холодящий сердце. Звонил не куратор, а кто-то совсем другой. Кто и зачем? Этот-то вопрос и не давал спокойно заснуть Надежде Антоновне. Кто-то из преподавателей давал нагоняй дочери за плохою успеваемость? Но университет ведь не школа. Тут родителей не вызывают и о студентах особенно не беспокоятся. Хочешь – учись, не хочешь – иди на все четыре стороны. Никто не держит и не уговаривает. Тем более что убираясь на Машином письменном столе, Надежда Антоновна нет-нет, а и сунет нос в толстенные тетради и набросанные без порядка, исписанные листы бумаги. Может мать и не поймет ни слова из написанного, но поставленную красным жирным фломастером пятерку или стремительно выведенное "отлично!" распознать сможет. И в журнале лабораторных занятий и на отдельных листках с контрольными работами выведены почти одни красные цифры "пять". Значит, нет никаких проблем и неудач в учебе.
Думала Надежда Антоновна и о сердечном увлечении. И новая обстановка, и умные ребята-ровесники, и опять же возраст у дочери для первой серьезной любви самый подходящий. Однако, было и существенное "но". Она, хоть и строгая мать, но все же не зверь, и Маша это знает. И, если приглянулась какому-то мальчику, а он ей, то давно бы все рассказала и познакомила, и с маминого разрешения привела бы в дом. И ничего удивительного и сверхъестественного тут нет. И Маша не постеснялась бы познакомить приличного, понравившегося ей паренька с мамой. Нет в ней ложного и глупого стыда, она разумная и серьезная девочка. Значит – мальчик не приличный. Или не мальчик вообще. Дальше и додумывать не хотелось. Но и сидеть сложа руки тоже нельзя. Придется Надежде Антоновне потихоньку выяснять все самой, пока с дочерью не стряслось уже настоящей, не надуманной, беды. Впервые в их совместной жизни она не решилась спросить Машеньку напрямую, побоялась спугнуть, заставить уйти в подполье. Рассчитывать Надежда Антоновна могла только на себя и свое чутье. Что нисколько ее не успокоило.
А Маша уже успела и отойти впечатлениями от звонка, и сны видела ангельские и блаженные, какие бывают только на пороге некоего неосознанного перехода из несведущего детства в искательную юность. Даже в сумраке без образных сновидений была она вся полет в завтра, в долгожданную встречу. От ночи требовалось лишь одно – пролететь незаметно и невидимо во времени.
Встреча с Яном после недолгой разлуки неожиданно вновь привела Машу в смущение. Словно недельное расставание оборвало некие связи, тонкие ниточки узнавания, успевшие протянуться между ними. Впрочем, это касалось одной Маши. Ян и раньше не испытывал в ее обществе никакого смущения и вряд ли вообще был способен на подобное чувство. А Маше приходилось теперь заново обвыкаться со своим кавалером и новым положением девушки, за которой, пусть и ненавязчиво, ухаживает взрослый мужчина.
Балашинский, хоть и не смущался и не впадал в сантименты, на свидание ехал с радостью. Хотя, благодаря миру, подписанному с Фомой, уже не испытывал и захватывающего чувства, которое возникает от сознания, что ты тишком воруешь запретные яблоки в чужом саду. Выходило, что встречи с Машей были Яну нужны. И не из-за мальчишеского задора и не из баловства. Но и понимал, что в то же время продолжает он дразнить гусей, пусть и других. И более опасных, чем одомашненный Фома.
Гулять с Машенькой Ян Владиславович, как у них и повелось, отправился пешком. Никогда не ощущавший усталости, он находил особое удовольствие при таком способе передвижения, когда не мчишься, сломя голову, в железной колымаге, не успевая толком оглядеться по сторонам, или, того лучше, без толку не стоишь в нудной, автомобильной пробке. Машенька, было видно, радовалась и просто идти рядом с ним, не заикаясь ни о чудном его "мерседесе", ни о иных, престижных средствах для городского путешествия. Однако, считаясь с невеликими ее силенками, часто ловил и машину, проехать до места их прогулки. Больше всего притягивал их обоих Старый Арбат. Балашинского, скорее от того, что, мощенная камнем, эта улица пробуждала в нем ностальгические воспоминания о похожих улочках ушедшей в прошлое Буды, где шествовал он гордо, на пике своей дворцовой карьеры, богатый и знатный господин, и верный Михай, оруженосец и друг, был еще жив. И неважно, что те полузабытые улочки были куда шумнее и грязней, и ходили по ним совсем иные люди. Главное, что, неизвестно как, но присутствовал незримый на нынешнем Арбате, все тот же знакомый ему с детства средневековый дух. Машенька же, с присущим юности символизмом, считала эту старейшую московскую улицу местом романтическим и судьбоносным, и оттого приятно загадочным.
Главным же событием дня стало то, что Ян, против сложившегося между ними обыкновения, не просто шел с ней рядом. А предложил Машеньке опереться на его руку. Маша от его предложения смутилась еще больше, но и обрадовалась и предложенную руку, конечно, приняла. А, когда уже сидя за столиком в уютном арбатском ресторанчике с пиццей, Ян, рассказывая о своих первых впечатлениях после переезда в Москву, откуда, впрочем, он не сказал, осторожно взял ее ладонь в свою, Машенька почувствовала себя на седьмом небе от счастья, хотя и натурально залилась краской. Надо ли уточнять, что послеобеденные занятия она и в этот ослепительный день прогуляла.
– Хотелось бы мне, Маша, как-нибудь пригласить Вас к себе в гости, – вдруг сказал Балашинский Маше, когда уже провожал ее домой. Сказал и осекся. Куда и кого он собрался пригласить? Увлекся девушкой и совсем обалдел? Тут же попытался исправить собственную оплошность, – однако, дом мой полон родственников, близких и дальних. Некоторые из них могут показаться Вам странными, а некоторые и излишне любопытными и даже навязчивыми.
– А почему Вы хотели бы меня пригласить? – спросила после недолгой паузы Маша. Ей, бедняжке, момент показался удобным и подходящим, чтобы прояснить немного отношение к ней Балашинского и причину его внимания. Возможно, что и услышать приятные признания. Маше и в голову не пришло, что вопрос ее мог быть истолкован Яном превратно. Если родственники являли собой помеху, то, не имелась ли в виду встреча у него дома и наедине? В таком случае слова ее были рискованы и вызывали Яна на лишние откровенности.
Но и у Балашинского вопрос вызвал некоторое замешательство. Требовалось от него некое решение, которое он не готов был принять и, значит, было бы оно преждевременным. Но он ответил Маше. И ответил так, как хотелось ему именно в это мгновение.
– Потому, Машенька, что Вы мне нравитесь. Вы, наверное, и сами это давно поняли, – и, чтобы не допустить новой неловкости, пояснил, – вот мне и захотелось, чтобы Вы узнали меня поближе. В том смысле, что и дом, и родня, и даже домашние животные многое могут рассказать о человеке. Но, всему свое время. Вы согласны?
Благо, дошли уже до угла ее дома, и Маша только коротко кивнула в ответ, сглотнула с судорогой слюну и стала спешно прощаться. Балашинский ее не удерживал. Пообещал навестить в университете на днях и только. Но лишние слова были не нужны обоим. И так уже, против воли каждый услышал и сказал больше, чем хотел. Надо было осадить в себе, передумать и воспринять события и слова случившегося вечера.
Переступив порог квартиры, Маша приготовилась к объяснению с матерью, на ходу придумала и спешное задание, потребовавшее усидчивых поисков в библиотеке, и заставившее ее позабыть о реальности времени. Но Надежда Антоновна ничего у дочери не спрашивала и валерьяновых капель не пила. Словно был поздний Машин приход уже и в порядке вещей. А, может, мама и пообвыклась с непредсказуемостью ученой, студенческой жизни, и отныне Машины опоздания не нуждались более в оправданиях.
Причина внешнего спокойствия Надежды Антоновны лежала совсем в другом измерении и ничего общего с привычкой не имела.
Утром того же дня Надежда Антоновна проснулась с тревожными воспоминаниями о вчерашних беспокойствах и сомнениях. Откладывать в долгий ящик разъяснения, касающиеся благополучия дочери, было не в ее характере. Оттого Надежда Антоновна и отпросилась у заведующего отделением на послеобеденное время. К счастью, амбулаторный прием вела она с утра, а в клинике уговорился подежурить на ее месте душка Иван Всеволодович Петухов, вдовый и сочувствующий жизненным перипетиям врача Голубицкой.
На факультете Надежда Антоновна прежде всего сверилась с расписанием, чтобы ненароком не столкнутся с дочерью и не вызвать в ней недовольства своим рвением. Потом уже собиралась заглянуть прямиком на кафедру к кураторше Аделаиде Гавриловне и разъяснить с ей компьютерный вопрос. Но в последний момент не удержалась, очень уж хотелось украдкой полюбоваться на Машу.
В Восточной аудитории читали линейную алгебру, бог знает, что за предмет такой, как раз для Машиного потока. Туда Надежда Антоновна и отправилась. Центральная дверь была приоткрыта и даже словно приглашала войти. Надежда Антоновна тихой мышкой проскользнула внутрь. Большая аудитория расходилась многорядным амфитеатром, и с высоты верхнего яруса просматривалась как на ладони. Но, как ни вглядывалась Надежда Антоновна, даже и очки одела, но Машу среди студентов, внимающих лектору, она не обнаружила.
Притаившись за колонной, Надежда Антоновна стала ждать. Вдруг дочь отлучилась по срочной туалетной надобности? Однако, отзвенел и звонок на перерыв, и начался следующий академический час, а о Маше не было ни слуху ни духу. И старшей Голубицкой стало ясно, что ожидание ее бессмысленно, и еще более бессмысленен ее поход к кураторше. Компьютерный, утешительный вариант отпадал сам собой. Надежде Антоновне оставалось только собрать нервы и волю в кулак и ехать домой. Ждать, наблюдать и, главное, сохранять спокойствие. И думать, думать, думать. О том, как спасать собственного, дорого ребенка. И прежде осторожно выяснить, от чего или от кого предстоит спасать Машу.
ГЛАВА 17. НАЖИВКА
Гимор позвонил Мише в середине недели и от имени своего босса назначил день и время представления. Выходило, что знакомство Чистоплюева с мадам должно было состояться в пятницу, после присутственных часов. Что вполне соответствовало плану задуманной операции. Субботний день – выходной, пятничный московский вечер – разгульный и тусовочный. А уж мадам постарается придержать возле себя ходока-депутата, и дай бог Чистоплюеву выбраться из ее пылких объятий к следующему утру.
Вечером, возвратясь из Большого Дома в собственный коттеджик, Миша пересказывал Ритке свои удачи за день. Хозяин деятельность помощника одобрил, Ирене же велел не зевать.
Рита слушала не очень внимательно, дурачилась, и то и дело висла на муже, зажимая ему ладошками глаза со спины. Когда Миша вернулся домой, она уже собиралась спать и теперь разгуливала в байковой пижаме с трогательными розовыми котятами.
– Все-таки, здорово, что Ирена тебя терпеть не может, – Ритка расположилась у Миши на коленях и хулиганила, дергая его за уши.
– Чего ж хорошего? Общине от этого только вред, – как ни трепала и не тормошила его Ритка, рассудительности "архангел" не утратил.
– Дурак ты, и уши у тебя холодные, – Ритка, будто в подтверждение дернула Мишу за оба уха особенно сильно, – а то бы она тебя давно увела.
– Ничего бы у нее не вышло, я – не Стас, и уж тем более, не Чистоплюев, – Миша про себя даже пришел в негодование от мысли, что Ирена может поставить его на одну доску с таким как Чистоплюев, и ради прихоти попытаться отнять и разрушить самое дорогое, что есть у него в сегодняшней жизни.
– Ты – мое сокровище. Ни у кого на свете больше такого мужа нет, – и довольная Ритка стала тормошить его с удвоенной силой, одновременно целуя в нос и щеки. Однако, с присущей ей в домашнем обиходе непоседливостью тут же перескочила на другую тему, – а правда, что у Яна в городе есть девушка?
– Господи, какая еще девушка? Зачем это ему? – удивился Миша, – С чего ты взяла?
– Мне Лерка за обедом намекала, но как-то туманно…А Тата сидела расстроенная, – с довольным видом всезнайки сообщила Ритка.
– Ну, не знаю, я ничего не слышал. Наверное, враки. Или Ирена зачем-то опять мутит воду, – Миша умолк ненадолго, словно задумался. Потом решительно сказал, – Даже если и правда, то – какая разница?
– Как, какая разница? Значит, кроме хозяина, у нас теперь и хозяйка будет? – Ритка звонко рассмеялась, – Мне, конечно, все равно, у меня ты есть. А вот Тате, положим, не все равно. А Ирена просто взбесится… Только ты прав – это наверняка очередные враки и сплетни. Хозяин ведь не может.
– Почему это – не может?! – тут уж Миша возмутился, – Ян нам разве навечно няньки поставлен? За всеми и каждым в отдельности присматривай, чуть что не сопли утирай, а для себя жить – ни-ни? Ведь так нельзя. Ты только посмотри, сколько в нашей общине вампов по-настоящему делом заняты. Не для себя или из-под палки, а для всех и от души. Я, да пожалуй, еще Макс. Ирене только бы власть над другим, а еще лучше, хозяина в личное пользование. Лерка и Тата дальше огорода ничего не видят. Стас только охотится и кайф ловит, а нос дерет не меньше, чем президент России. Ты и Сашка, вы больше о своей любви думаете, оттого и помогаете. Ты – мне, а он – Максу. Спасибо, конечно, но глобальных проблем это не решит. Про Фому я вообще не говорю. Он, как Моисей на горе. Наверху пастырь, а внизу одни овцы заблудшие. Всех учить жить еще не великая заслуга. Надо иногда и работать.
– Мишанька, ну чего ты завелся? Ну, не хотят Фома и девчонки дела делать, и не надо. Сами справимся, – миролюбиво сказала Рита, пытаясь перевести разговор в иное, безоблачное русло.
– Справимся, конечно, – согласился с ней "архангел", но и помрачнел, – но полезно иногда и понятие иметь, откуда что берется. Те же деньги, или, к примеру, наша безопасность. Ведь не на Луне же живут, а в семье. Я уж Фоме предлагал – веди хоть общинную бухгалтерию, все равно на диванах целый день валяешься. Так нет. У него голова, видишь ли, для этого не устроена. Как будто я или Макс всю жизнь мечтали дебет с кредитом сводить! А надо, и делаем. И не жалуемся, между прочим.
– Ну, хочешь, я на бухгалтера выучусь? Медицинский брошу, пойду в "Плехановку"? – ласкаясь к мужу, жалобно спросила Рита.
– Ты уж учись. Мало ли когда и зачем понадобится, – Миша улыбнулся, прижал Ритину голову к своему плечу.
– Думаешь, когда-нибудь найдется средство, чтобы нам без "сока" обходиться и никого не убивать? – тихо и грустно прозвучал Риткин голос.
– Это-то меня меньше всего беспокоит. Не нами такой порядок вещей заведен, не нам его и менять. Каждый пьет и будет пить кровь другого, в том или ином смысле, – тут Миша сделал паузу, специально для Ритки, чтобы следующие его слова как следует прозвучали, – А людей мне не жаль. Они сами виноваты – сделали все, чтобы не оставить в моей душе места для этого чувства… А в нашем с тобой мире все просто. Община, она по одну сторону баррикад, "коровы" – по другую. Это и есть идеальный мир. Начни его менять и придет беда. От тех же людей, которых ты не хочешь убивать.
– Значит, выхода нет?
– Выхода ни у кого нет. Людям – так или иначе умирать. Нам – жить бесконечно, если осторожно и с умом. Но и у вечной жизни есть своя цена. И ее надо платить. Конечно, хочется бессмертия задаром, кто спорит. Да только и вода в кране бесплатной не бывает. И потом, разве тебе плохо? Разве не выбрала бы ты нынешнюю жизнь, будь у тебя в ту ночь шанс что-нибудь добровольно выбирать?
– Не знаю, наверное, выбрала бы. Только выбора своего испугалась бы. Тут к гадалке не ходи.
– Страх – это хорошо. Вампу без страха никак нельзя. Иначе он забываться начнет. Опьянеет от вседозволенности, а ее-то как раз и нет. И сам себя до погибели доведет… И хорошо, если только себя.
Насчет Риты Миша не сказать, чтобы переживал. Молодая еще, почти ничего не видела, оттого и вопросы и сомнения. Но это пройдет. И он всегда рядом. А слухи о хозяине, пересказанные женой, не могли не запасть в душу и не встревожить. И "архангел" своей властью решил их пресекать. И в первую очередь сделать внушение Фоме. Если ты пастырь, так следи за порядком. Чтобы твои бабы языки не распускали.
Ян о тех пересудах не знал или, вернее будет сказать, знать не хотел. Пока молчит и тем как бы одобряет его невольно Фома, и во всем курятнике обойдется без переполоха. А что до Таточкиных нервов, то тут и вопрос-то не постельный, а об амбарных ключах. Которые никто у Таты забирать не собирался и не заберет. Была бы охота такой хомут на шею вешать. Экономка – должность только в Татиных глазах первостепенная и завидная. Лера, та и вовсе флюгер на ладони у Фомы, куда он дунет, туда и повернется. А от пустой болтовни никто еще не застрахован.
Впрочем, бабьи сплетни меньше всего занимали Балашинского. Даже милая сердцу Машенька отошла на второй план. Хотя Ян Владиславович от признания, сделанного неведомо почему у самого ее дома, не отказывался и слов тех не позабыл. Но вставали во весь рост другие заботы и напасти. В первую очередь – пятничное представление Ирены. Было оно как выстрел на старте, в знак того, что гонка началась. Не то, чтобы Балашинский опасался провала, немыслимым было предположение, что мадам могла бы напортачить в таком деле. Это была не просто работа, это – сама суть и натура Ирены, ее естественное состояние, ее стихия и природа. И подстраховка, он был в этом уверен, не понадобится. Но ребятам из боевой группы Ян этого не сказал, и Мише не велел. Пусть будут готовы ко всему и не расслабляются. Вот только сам "архангел"!..
Знал уже Балашинский, знал, хотя сам справок никаких и не наводил. Информация в обход Шахтера шла исключительно через Мишу. Но достаточно было и того, что в голове его сложилась мозаика в единственно правильный рисунок. Другого варианта у собранных осколков и быть не могло. Яну уже не нужно было видеть лица Шахтера в момент получения им сообщения о смерти Чистоплюева. Он уже знал. Что Шахтер трус и сволочь. Что он сдал и разыграл карту их конторы еще до того, как поручил своему дорогому компаньону Яну Владиславовичу эту грязную работу. И что Шахтера ждет впереди большой сюрприз. И что одним врагом у вчерашнего их работодателя и друга Иосифа Рувимовича стало отныне больше. И враг этот Шахтеру не по зубам. Иногда Балашинский думал и о том, что излишняя скрытность и туманность его персоны временами осложняет дело. Знай Шахтер наверняка, какую страшную силу представляют Ян и его контора, вряд ли бы стал он шутить свои шутки. Но тень от глухой стены тайны и есть, к несчастью, издержки их существования. Однако, проснувшийся в Балашинском хитроумный и дальновидный визирь османского дивана ни в чем не уступал, а, пожалуй, даже и превосходил в коварстве интриги зарвавшегося Шахтера.
Но иное дело Миша. Не мог Балашинский на блюдечке преподнести ему готовое решение. "Архангел", его правая рука, сам должен был учиться владеть карающим мечом. Через собственный опыт и разочарования, минуя на пути камни ошибок и неверных расчетов. Иначе никогда ему не постичь как использовать до конца ту власть, какую на благо всей общине Ян вложил в его нынешнее предназначение. А у Миши были и талант вождя, и опасливая мудрость царедворца. И должен был он, в тот самый миг, когда предательство будет открыто, принять его и сделать выбор тут же на месте, как поступить с человеческим существом, поднявшим руку на его семью. Любой исход Мишиных действий был, однако, поправим, и уж за жизнь "архангела" Ян Владиславович и вовсе не опасался. Но присутствовало волнение – оправдает ли верный ученик его смелые надежды и сможет ли стать хозяину подлинной и мудрой опорой.
Нельзя сказать и то, что Балашинский так уж переживал за своего помощника. Опыт и почти потустороннее чутье, помогавшее ему издавна и верно разбираться в людях и вампах, подсказывали, что испытание "архангел" пройдет. Если и не за счет изощренности рассудка, то в силу своей несгибаемой воли и веры в собственную правоту, холодного гнева мстителя и пыла истинного защитника своих братьев.
И все же червь точил душу хозяина. Откуда он выполз, выродился, из каких глубин был исторгнут, Балашинский не знал и не ведал. Главное, что червь был. И свои шевелением означал одно – где-то он ошибся и просчитался. И если не найдет Ян прореху сейчас, то худо будет потом. Червь был предвестником беды. Каждый раз, как он начинал свою могильную работу, Ян это помнил, смертное лихо приходило в его дом. Так было и с дядей Рудольфом и с его боязнью моря, и с поглотившей его пещерой. И каждый раз в его власти был хотя бы один, пусть и очень ничтожный шанс, беду отвести. Но он упускал его, оттого что из беспечности не предвидел, откуда придет несчастье, и потому не успевал его предотвратить. На этот же раз и вовсе никакого объяснения своим предчувствиям Балашинский найти не мог. И сама операция, и терзавшее его беспокойство о том, выдержит ли испытание "архангел", и Фома и даже Шахтер не могли служить тому причиной. Это были естественные мирские дела, которые могли внести в дом беспокойство и ссору и даже, провались на корню вся будущая операция, заставить семью переехать. Но погубить ни общину, ни кого-нибудь из братьев, конечно, не могли. Да и предвестие беды доносилось пока лишь эхом. Червь только-только начал шевелится. И Балашинский решил отложить свои поиски на потом, когда события немного проясняться. И, как бывало и раньше, дал богу обмануть себя, и потерял время. Но сам он об этом еще не ведал.
Пока же, в ожидании пятницы, Балашинский решился на встречу с Машей. Слово не воробей, и за него приходится отвечать. Выхода из ловушки, в которую Ян загнал сам себя, он видел только два. Либо отношения с Машенькой придется развивать, а иначе поступить после его признания было бы смешно и бессмысленно, либо встречи с девушкой надо прекратить совсем, чего Яну вовсе не хотелось.
Когда девушка, как у них повелось, пришла в обеденный перерыв к "Ломоносову", Балашинский начал свои приветствия с комплимента. Раз главное было произнесено, то он не видел смысла в притворстве.
– Вы чудесно выглядите, Машенька. Я всегда Вами восхищался, а сегодня особенно, – сказал Балашинский и не соврал. Маша, розовая от неловкости и вновь появившегося смущения была и в самом деле очаровательна. И полностью оправдывала поговорку, что скромность украшает девушку. Правда, далеко не каждую.
– Вы тоже, – подняв на Яна прозрачные в своей чистоте глаза и тут же, немедленно, их опустив, ответила Машенька, и тоже не солгала. Вид у Балашинского действительно был довольный и радостно светлый.
– Тогда будем гулять и разговаривать. Последнее, я думаю, нам сделать необходимо, – легким нажимом Ян Владиславович словно подчеркнул последнюю свою фразу, затем предложил Машеньке руку. Они неспешно пошли в сторону Мичуринского проспекта.
Ян решил не откладывать дела в долгий ящик и разъяснить, насколько это возможно, свое отношение к Маше. Обижать и отталкивать девушку ему не хотелось, оттого Балашинский не стал раскрывать перед ней своих легкомысленных колебаний и сомнений.
– Знаете, Машенька, Вы первый человек, который вызвал во мне чувство, похожее на любовь, – и так как говорил Балашинский о людях, а не о вампах, то и слова его были недалеки от истины, – не могу Вам сказать, что я влюблен в Вас безумно, это было бы и смешно в моем возрасте, но такое душевное влечение я не испытывал еще ни к одному человеческому существу на свете. Вы мне верите?
Вопрос с его стороны был скорее риторического характера, но Машенька испугалась, что задан он всерьез, и ее недоверие может заставить Яна замолчать.
– Верю, да-да. Конечно, верю, – она заторопилась, говорила, глотая слова. Вдруг вспомнила важное и спросила, – а как же Ваша родня? Вы же их любите, и они близки Вам?
– Это совсем другое. Мои родичи – это все равно, что я сам. Они вроде как часть меня. Я же говорю о том, что находится вне моего привычного домашнего мирка. То, что приходит со стороны, из мира большого, – Ян Владиславович вопросительно посмотрел на Машеньку, словно спрашивал взглядом, понимает ли она, видит ли разницу. Машенька утвердительно закивала, приглашая его к дальнейшим откровениям. Балашинский же вел беседу так, чтобы держать ее в постоянном напряжении и сосредоточенности, не давая выбраться на поверхность стыдливости и робости, могущих произойти от его недвусмысленных признаний. Чувство застенчивости и неловкости могло лишь рассеять внимание девушки, чего Ян вовсе не хотел. Он желал, чтобы каждое его слово дошло в перворожденном своем виде до Машиного сознания.
– Так вот. Я хотел, собственно, Вам сказать, что чувства мои к Вам внове для меня. Оттого я не могу сказать Вам сейчас большего или что-нибудь обещать на будущее. Мне необходимо еще некоторое время, чтобы свыкнуться с моим новым ощущением и понять, необходимо ли оно мне, – говоря это Балашинский не взглянул уже на Машу, а бросал слова прямо перед собой, в пустоту, – Но мне важно на сегодняшний день знать одно. Приятен ли я также и Вам? Вызываю ли в Вас хоть какое-нибудь ответное чувство? Если же ничего похожего нет, то и мои старания разобраться в себе и продолжать вместе с тем наши встречи совершенно бессмысленны. Потому что в таком случае меня ждут только неприятные переживания. Надеюсь, Вы достаточно добры, чтобы не пожелать мне подобной доли?
– Что Вы, у меня и в мыслях не было ничего подобного, – Машенька заговорила, почти что оправдываясь перед Балашинским, будто бы он и в действительности мог думать то, что сказал. Что молоденькая, неискушенная и ослепленная им девушка и в самом деле была способна жонглировать его чувствами. Но Маша принимала игру всерьез, не зная ее правил.
– Мне лестно это слышать и знать, что я в Вас не ошибся. Но, все же, каков будет Ваш ответ? Поверьте, что бы Вы не сказали, я отнесусь спокойно к любому Вашему приговору. И мне не нужна ложь во спасение. Если я Вам не нужен и не мил, то я тотчас уйду и никогда больше, даю Вам честное слово, не обеспокою Вас своим присутствием, – и Балашинский сделал изрядный шаг в сторону, одновременно отпуская Машенькину руку, опиравшуюся до той минуты на его локоть. Будто бы немедленно по одному Машиному неблагоприятному взгляду собрался исчезнуть, сгинуть навсегда прочь.
И простодушной девушке, конечно, пришлось его удержать, позабыв о приличиях и скромной застенчивости:
– Нет. Нет, подождите. Постойте, – Машенька сделала даже шаг следом за ним, так боялась, что Ян уйдет, ухватила его за рукав, чего в иных обстоятельствах не позволила бы себе никогда в жизни, – Я тоже…, я также… Я не могла первая сказать… Не уходите… Вы… Вы… нужны… мне.
Если бы Ян Владиславович и Машенька могли наблюдать себя со стороны, то увидели бы счастливо прогуливающуюся парочку, степенную и согласную, у которой вышла вдруг случайная размолвка, тут же, впрочем, улаженная. И благожелательному взгляду сцена с мнимым расставанием между ними показалась бы трогательной и умилительной, присутствуй неподалеку этот положительный, добродушный свидетель. Оку же придирчивому и подозрительному увиделось бы иное. Пессимистичный наблюдатель увидел бы юную девушку и взрослого, не подходящего ей по возрасту мужчину тревожной внешности, умышленно интригующего свою милую спутницу. И такой наблюдатель, к несчастью, был.
Не изменив внешне никак своего отношения к дочери, Надежда Антоновна скрытно за ее спиной развернула настоящую партизанскую деятельность, достойную самого Ковпака. Жгучая тревога, вместо того, чтобы излиться в буйной истерике с приступами и лекарствами, усилием воли взявшей себя в руки матери, переросла в холодную и несгибаемую решимость узнать Машину тайну любой ценой. Надежда Антоновна не доверяла отныне дочери ни в чем. Пассивное ожидание беды просто свело бы ее с ума. Оттого собственные гложущие страхи Надежда Антоновна превратила в некий двигатель спасения Маши, хорошо если от воображаемой опасности.
Первым делом Голубицкая-старшая повидалась с мегеристой кураторшей. На подобных дамочек, депутатских скандальных жен и рангом пониже, Надежда Антоновна достаточно насмотрелась у себя в спецполиклинике, знала к ним подходы и умела дружески разговорить. Случай с мадам Штырько не составил исключения.
– Только умоляю Вас, Аделаида Гавриловна, Машеньке ни слова о нашем разговоре! Из-за этого несчастного компьютера у нас в семье постоянные осложнения. А мои скромные заработки, к сожалению, не способствуют его приобретению. Конечно, Машенькина близкая подруга позволяет ей работать на своем, но боюсь, моя дочь из-за этого стала не так исправно посещать занятия?
– И правильно боитесь, – Аделаида Гавриловна многозначительно помахала в воздухе толстенной декоративной ручкой с золотым пером. В кафедральной комнатушке не было никого кроме них двоих, и кураторша могла спокойно позволить себе разыгрывать перед уважительной родительницей роль бескомпромиссного судебного заседателя, – иногда Голубицкая Маша позволяла себе прогуливать все послеобеденные часы. Староста это отметил. Правда это бывало нечасто.
– Я как сердцем чувствовала, – Надежда Антоновна картинно вздохнула и для достоверности схватилась рукой за сердце, – но почему же им так много приходиться работать с компьютерами? Они же только первокурсники! Или я, возможно, чего-то в современном обучении не понимаю?
– Да вовсе не нужен вашей дочери компьютер! – словно оправдываясь за курс и факультет с досадой воскликнула Аделаида Гавриловна, но увидев побелевшее лицо матери, поправилась, – то есть лишним он, конечно, не будет, распечатать там что-то или график нарисовать. Но для этого вполне достаточно нашей оргтехники и времени, отведенного для занятий. Ведь Голубицкая Маша не глупая и не тупица. Наоборот, она одна из лучших наших студенток первокурсниц. Почти все лабораторные и контрольные работы у нее зачтены на "отлично", и это несмотря на пропуски. Я ею очень довольна. Что же касается компьютера, то дело здесь совсем не в работе, я уверена.
– А в чем же? – голос Надежды Антоновны стал тревожным. Она наклонилась к Штырько, словно ждала услышать на ухо некую тайну.
– В баловстве, – уверенно ответствовала ей Аделаида Гавриловна, – игрушки разные, стрелялки и бродилки. Вся эта зараза. Их, нынешних детей и за уши от дисплеев не оттащишь. То рейхстаг штурмуют, то терминатора убивают. Даже и лучшие из них. Но бороться с этим необходимо.
Еще какое-то время Надежда Антоновна выслушивала наставления по борьбе с вредным времяпровождением, мешающим учебе и здоровому образу жизни, но самое важное она уже узнала. Все жалобы дочери и неурядицы с кураторшей – сплошное вранье. И Надежда Антоновна стала действовать уже в другом направлении.
Осевший в записной книжке телефон подруги Нины был найден и набран, но разговор с девочкой результатов не дал, лишь усугубил тревогу. На осторожные расспросы старшей Голубицкой Нина отвечала настороженным и отчужденным "не знаю", что говорило матери только об одном: Нина знает, но ни за что не скажет. Значит, ей есть, о чем молчать. Со второй подругой Леночкой Надежда Антоновна решила встретиться лично. Леночка, по рассказам дочери, казалась немного легкомысленной и с неустойчивым характером. Такую можно будет и подловить.
На следующий же, после посещения кураторши, день, Надежда Антоновна отправилась на Воробьевы Горы к концу учебного дня. Затаившись за квадратной колонной в подвальном этаже у гардероба, она стала ждать, держа на всякий случай в руках общую цветную фотографию Машиной группы, сделанную еще в начале сентября. Леночка на ней стояла в первом ряду и вышла хорошо.
И узнана была Надеждой Антоновной с первого взгляда, без подсказки фото. Слава богу, в раздевалке Леночка появилась без сопровождения Нины или Машеньки, вместе с каким-то пареньком-студентом совершенно безобидного и затурканного вида. Когда Леночка получила, наконец, в небольшой свалке свою нарядную курточку, и, оставив паренька у стенки, побежала прихорашиваться к огромному настенному зеркалу, Надежда Антоновна вышла из своего укрытия.
– Вы Лена? Федорова? – тихо спросила девочку Надежда Антоновна, и услышав в ответ недоуменное "да", тут же поспешно назвалась, – Я – мама Маши Голубицкой.
– А-а, – протянула в ответ Леночка и кивнула в сторону лестницы, – а Маша еще не подошла.
– Я знаю. Собственно, я хотела переговорить с вами, Леночка. Если вы не спешите, то может, пройдетесь со мной немного? – Надежда Антоновна почувствовала, что выбрала с девочкой верный тон, обращаясь к ней, как ко взрослой и равной себе.
– Да, я конечно. Только одну секундочку, – тут Леночка повернулась в сторону смиренно ожидавшего ее студентика и крикнула ему громко, сквозь гвалт раздевалки, – Паша! Ты меня не жди, иди один! У меня дела!
Леночка и Надежда Антоновна вышли из здания и пошли к автобусной остановке на улицу Менделеева. Погода была мерзкая, с мокрым осенним снегом и ветром и к разговору не располагала. Голубицкая предложила зайти в какое-нибудь студенческое кафе или столовую и выпить хотя бы чаю. Леночка против не была и повела Надежду Антоновну в буфет недалеко от спортивного манежа. Там выпили чаю, и Голубицкая по-матерински настойчиво накормила Леночку бутербродами и пирожными. Пока пили чай и подкреплялись на скорую руку говорили ни о чем, о погоде и тягостях учебы, о преподавательской вредности и маленьких стипендиях. И как-то само собой, как представлялось Леночке, перешли на глупых студентов, словно в школьные времена провожающих понравившихся одногруппниц домой.
– Вы не думайте, Пашка мне совсем не нравится. Мне и без него проблем хватает, с одной только учебой, и потом, у меня бабушка строгая, – Леночка пила уже второй стакан чая, разомлела и разоткровенничалась, – Он живет в одной стороне со мной и домой вместе ехать не так скучно. И сумка тяжелая. А Пашка, хоть и дохленький, а сумку все равно у меня каждый раз забирает и сам несет. Но это все так, несерьезно.
И Леночка, играя во взрослую опытную женщину, высокомерно помахала испачканной фломастером ладошкой воображаемому Пашке. Надежда Антоновна поняла, что подходящий момент настал и приготовилась играть роль.
– Это хорошо, что вы, Лена, бабушку слушаетесь. Старшие плохого не посоветуют. А моя Маша совсем от рук отбилась, – и Надежда Антоновна пустила слезу, сперва притворно, а потом уже и по-настоящему расплакалась, – что-то происходит с моей девочкой, а что не знаю, только чувствую. И никто-никто не хочет помочь, сказать мне в чем дело. А если с Машенькой беда случится? Самим же стыдно будет. А я не переживу.
– Ой, Надежда Антоновна, вы только не плачьте, – бросилась утешать Леночка, – вы бы сразу меня спросили, я бы вам все-все рассказала. Мне Нинка говорила, что вы ей звонили. Да она злюка, только о себе и думает. Я, если хотите, вам все, что знаю, расскажу. Только вы не плачьте так.
– Расскажи, деточка, расскажи. Никто знать не будет, о чем мы тут говорили, только ты, да я. Ведь Машенька у меня одна.
И Леночка, захлебываясь словами и эмоциями, рассказала. Без злорадства, но красочно. Надежду Антоновну тут же в буфете чуть инфаркт не хватил.
– Сколько, говоришь, ему лет? – громко Голубицкая говорить уже не могла, получилось почти шепотом.
– Точно не знаю, но на вид где-то под сорок. Выглядит-то он здорово, гладкий такой и нарядный, весь в дорогой фирме, а глаза умные, совсем взрослые. Сорок, не меньше. И богатый. Бандит, наверное, – предположила впечатлительная Леночка.
– О господи, – только выдохнула Надежда Антоновна, потом все же спросила, – и давно он к моей Машеньке ходит?
– Может и давно. Я лично его в первый раз увидела еще когда мы на день города в кино ходили. Может, конечно, они и раньше знакомы были. Да я же Машу только в университете узнала. Я же из Ленинграда, – словно в оправдание пояснила Надежде Антоновне Леночка.
– Кто он такой, ты знаешь? – дружеская беседа переросла в настоящий допрос, но увлеченная откровениями Лена Федорова этого не заметила.
– По-моему, иностранец. Но не совсем.
– Как это не совсем? – не поняла Голубицкая.
– Наверное, поляк или чех, а может болгарин. Он вроде бы говорит по-русски правильно, но как-то не по-нашему. И имя у него иностранное – Ян. Наверное, поляк. Хотя поляки, те светлые. А у этого и глаза и волосы темные. Наверное, болгарин.
Надежде Антоновне было уже достаточно и поляков, и болгар. И взяв с Леночки душевное обещание держать несчастную мать в курсе событий, она стала прощаться с разговорчивой Машиной подружкой. Главное, что встречи дочери с загадочным импортным кавалером происходят как раз на большой обеденной перемене. И Маша обратно на занятия уже не возвращается. Выследить дочку во время свидания было уже делом терпения и техники.
Уже на второй день Надежде Антоновне повезло. На удачу ее предприятию светило холодное ноябрьское солнце, и не было нужды мокнуть под дождем. Погода располагала к городским прогулкам, а для тепло одетых граждан и к получению от оных удовольствия.
Все стало ясно, когда Надежда Антоновна увидела у памятника дочь и загадочного иностранца. Идти за ними далее не было нужды, но Надежда Антоновна все же решила проследить. И, таясь за деревьями и припаркованными машинами, наблюдала за Машей и ее спутником, пока они оба не укатили в попутной машине в неизвестном направлении. Сцену с воображаемым расставанием она видела тоже. И утвердилась в наихудших своих подозрениях.
Машенькин ухажер, иностранец он там или нет, произвел на старшую Голубицкую жуткое впечатление. Такой втянет ее девочку во что угодно, по всему видать – нет у него ни стыда не совести. И получит тогда Надежда Антоновна на свою голову что-нибудь вроде "скажи "нет" наркотикам". Или еще что похуже. Один вид чего стоит: глухой черный плащ из кожи, под ним, поди и пистолет спрятан. Маша же, дурочка, ничего в жизни не понимает. И думает, что встретила первую настоящую любовь. А вся любовь будет: наиграется с ее доченькой за месяц-другой и пустит по рукам. Только-только у ее девочки что-то сложилось – университет, успехи, планы на будущее. И все коту под хвост пойдет из-за этого типа. У которого на лице написано, что ни одного дня он честным трудом не жил.
Главное теперь для Надежды Антоновны было продумать, что же делать дальше. Немедленный скандал по возвращении дочери устраивать не хотелось. Но и нервы и силы душевные уже на исходе, приходится с самого донышка зачерпывать. Сколько она сможет выдерживать эту муку смертную и не выдавать себя неизвестно. Надежда Антоновна пребывала в таком напряжении от отчаяния, что готова была уже на любой конец истории, пусть и самый плохой, лишь бы он случился поскорее. Но благоразумие подсказывало ей обождать, повременить до удобного момента, который, если только бог есть, непременно случится.
Ян Владиславович же вернулся в Большой Дом легкий и довольный. Отношения его с Машенькой, после объяснения сделавшиеся особенно приятными и увлекательными, радовали сердце. О будущем он не задумывался, да и не видел пока в том нужды.
В Большом Доме же в его отсутствие имел быть большой скандал. А началось все, казалось бы, с пустяка. Мадам Ирена держала речь перед Фомой. Хвалилась успехами, достигнутыми в охмурении депутата, набивала себе цену. Чистоплюев и впрямь был слеплен ею тепленьким, спеленут и доставлен в постельку. Где вкушал от души внебрачные удовольствия и готов был в меру сил потакать капризам мадам. Попросту говоря, был приручен. Но вскоре разговор как-то сам собой перешел на личности и в частности на персону хозяина. Ирену интересовали слухи и причины постоянных хозяйских отлучек. В первопрестольной Ян Владиславович не явил себя уже прежним затворенным отшельником, не чурался и прогулок при свете дня, но все же не до такой-то степени.
– Хоть бы и на стороне, какое тебе дело? И семьи это никак не касается, – только и ответил ей Фома, – это все, что я тебе скажу.
– Да уж, конечно. Зачем тебе делиться? Кто я такая? А говорить не хочешь, оттого, что боишься, – Ирена встала в любимую свою позицию: руки в боки, грудь и подбородок задиристо выставила вперед. Словно шумливая торговка на людном базаре, – моей ревности испугался. Только ревновать мне не к кому. Подумаешь, тварь человечья, если правду Татка говорит. Я при хозяине на веки вечные буду, и на людских потаскух мне смотреть нечего. И с Яном сама разберусь, ты при этом не надобен.
– Очень интересно ты говоришь, – Фома потянулся, и из полулежачего положения перевел себя в сидячее. Для тех, кто близко знал его, то был дурной знак, – особенно, насчет разобраться с хозяином. Что-то новенькое в нашем семейном лексиконе. И как же ты будешь разбираться с Яном? По понятиям или…?
Фома вопрос не стал закруглять, оставил висеть в воздухе. Для пущего эффекту, доморощенный Макиавелли. Но на далекую от риторической науки мадам впечатление произвел. Словно ушат холодной воды вылил. Ирена заюлила, завиляла перед ним хвостиком, попыталась подольстится.
– Ты же у нас умненький-разумненький, а я баба глупая. И влюбленная, вот сердце и не спокойно, – Ирена присела рядом, одной рукой словно в шутку ласково теребила негустую соломенную шевелюру "апостола". В глаза ему заглядывала, но доверия к себе там не обнаружила, – ну, пусть и не влюбленная. Это дело проходящее, как костер: погорит, подымит, да и погаснет. Да пепел же все равно остается и долго еще тлеет. Тебе этого не понять, а мне тошно. Хоть скажи, кто она такая? Не мучай.
– А никто. Ты верно сказала: тварь человечья, и ничего более, – Фома ссоры продолжать и до конца доводить не любил, больше тишком, словом и талантом своим демагога и софистика людей ломал, – Ненадолго это, уж поверь. Как зверек диковинный в зоопарке, или медведь в яме. Барину забава, а там глядишь, надоел и на шкуру пошел.
– Имя у зверька хоть есть? – вкрадчиво полюбопытствовала мадам.
– Вроде Маша, – снизошел до ответа Фома, но голос все же понизил. Почти до шепота.
– Ух ты! Хорошо хоть не Дуняша и не Аглаша. Небось нос пуговкой и глазища голубые. И там, руса коса до пояса, – мадам заиграла смешинкой, с презрением, – И для этого надо было в Москву перебираться? В любой деревне такого добра навалом. Хочешь, вот тебе доярка, хочешь – птичница. А?
– Не так уж и навалом. В нынешней деревне один рахит да алкаши. Настоящую русскую красоту еще поискать надо.
– А тебе, жиденку, как раз русскую красавицу подавай, да? – вроде и пошутила Ирена, да с обидной подковыркой.
– Во-первых, я еврей наполовину. По отцу, а это не считается. Уже сколько раз говорено-переговорено. А во-вторых, меня и Лера вполне удовлетворяет, хоть и без косы.
– Ишь, ты, и как же твоя Лера тебя удовлетворяет, ну-ка, ну-ка, расскажи? – мадам уже от души хохотала. Увидела, Фома не в обиде, тоже подсмеивается, осмелела, – А что, у хозяина и впрямь такая красавица завелась?
– Не знаю, не видел, и врать не буду. Но, наверное, что-то в этой Маше есть, раз Ян к ней зачастил. Только баловство все это.
– Да из ума он выжил на старости лет. Тут операция, можно сказать, в самом разгаре, а Ян по машкам бегает.
Вот последние Иренины слова и услышал случившийся неподалеку "архангел", ставший в последнее время примечательным к праздным пересудам. И уж мимо не прошел. Будто лавина с гор сошла на мирных чесателей языков. Досталось по большей части мадам, но случись бы услышать "архангелу" такое от Фомы, и он бы огреб по первое число. Не посмотрел бы Михайло Валерьянович на его идеологические заслуги перед родиной, даром, что "архангел" и никого, кроме хозяина над собой не ставил. Мадам в первую же возникшую в Мишиной брани передышку чухнула наверх со всех ног, от греха подальше. Слава богу, что в открытую доносить не в "архангельских" привычках. А уж большими друзьями, чем теперь, им вряд ли когда с Мишаней придется быть. Так что мадам не много и теряла. Однако, в гостиной наедине с хозяйской разъяренной правой рукой оставался еще и ленивец "апостол". Тот никуда удирать не стал, продолжал внимать Мише.
– Ну что, Геббельс, мать твою так, распустил совсем бабью свору? Если уж язык у тебя удачно подвешен, чего ж ты им для пользы дела не машешь? Сидишь тут, как татарский хан, вон уже жопу какую насидел. Жирный вампир, скажи кому – обхохочутся!
– Да не до смеха сейчас, Мишенька. И на меня ты не крысься, – Фома хоть и говорил тягуче, медленно, но голос его был серьезен, почти тревожен, – давно хотел с тобой словом перекинуться, да ты весь в делах, а я все лежу. Вот пролежал и проморгал. Но раз завелись, давай продолжим. Момент подходящий.
Миша от криков мгновенно остыл, учуяв запах гари. Подумал, подумал, да и сел рядом с Фомой и приготовился слушать.
– Дела у нас нехороши. У Яна с той девочкой, ты слышал уже, с Машей, похоже серьезно. Хотя он сам еще может о том не знает. Но Фома все видит и все замечает, и знает иногда про человека или "вампа" такое, чего он и сам про себя ведать не ведает. Недаром, значит, Фома и лежит здесь. И вот что я тебе, Миша скажу. Свары с хозяином допускать никак нельзя. И перед выбором ставить тоже. Не он от нас, мы от него зависим. Оттого он ни тебя ни меня не испугается. Он волк матерый. А если и слушает иногда своего Фому, то потому только, что о благе семьи печется. А пойди мы на Яна с колом, знаешь, что будет? Не знаешь? Так я тебе скажу. Плюнет он на нас, да и уйдет себе. Ты-то, конечно, против Яна не пойдешь, а пойдешь с ним. Значит, и Ритка с тобой. И Макс со своим Сашкой почти наверняка уйдут. Да если и не уйдут, разница невелика. И кто останется? Я с двумя девчонками несмышлеными на шее и Стас, который как кошка, гуляет сам по себе. Еще Ирена. Она одна таких бед понаделает, что только держись.
– Отчего же так мрачно? Не проще будет недовольных передавить? – "архангел" в мерах был радикален, – И никому никуда уходить не придется.
– Не станет Ян своих давить. И тебе не позволит. Но даже, если и передавим, все равно конец придет общине. И закону нашему конец.
– А ты отчего, высокоумный, с нами уйти не хочешь? Если случится такое, не дай бог?
– Меня хозяин не возьмет. Я в бегах не нужен. "Апостол" без общины, это же бред собачий. Да и не уйду я никуда. Девчонки наши отсюда ни за что не тронутся. У них и здесь все есть. Домохозяйки же, не бойцы. И дальше носа своего ничего не видят. Опять же, зачем Яну хозяйки, если дома никакого не будет. А будет, так у него другая сыщется. Из чьих рук и яд сладкий, – Фома задумался, и в гостиной на время повисло мертвое молчание. Миша его не нарушал, пусть думка думается. Фома вскоре заговорил вновь, – Я, может и подонок, но не настолько. Девчонок я не брошу. И не потому, что так уж Лерку люблю. А только, может в этом и будет смысл моей жизни… Хотя, что это мы? Рано еще марши похоронные исполнять. Все в наших руках. Если правильно себя вести, то и общину сохраним, и хозяин будет счастлив и доволен. А это – залог нашего процветания.
– Мудро, ничего не скажешь. Ты, Фомич, голова! Зря я здесь, конечно, разорялся. Горлом много не возьмешь. Тут мозгами раскинуть надо, да еще как. Ты думай давай, что нам со всей этой музыкой делать, – Миша хрустнул пальцами в кулаке, словно хотел задавить в нем надвинувшуюся на семью угрозу.
– Чего тут думать. И так ясно, что делать, – Фома вздохнул тяжело и отвернулся от "архангела".
– И что же? – спросил Миша и отвернулся в другую сторону. Получилось что-то, навроде двуглавого орла.
– Только одно. Всем иметь довольный вид, что бы не происходило. А главное – молчать… Всем молчать.
ГЛАВА 18. АПОСТОЛ
Совет, конечно, был дан хороший. Молчание и на деле золото, не только на словах. Но сам Фома, в миру же просто Фельдман Борис Семенович, молчать не собирался. А собирался он вести неустанную идеологическую пропаганду в общинных рядах. В пользу, разумеется, хозяина. План кампании был прост. Начать Фома намеревался с собственной душевной подруги, чью свободу давно уже не ограничивал, однако, опасался и чуждых на Леру влияний. Главное на его взгляд было отвадить от Леры, а значит, и от Татки, саму мадам, закрыть, так сказать, их доверчивые ушки от ненужных ее высказываний известно в чей адрес. А после, с подходом, обработать и охотника. Проще всего, предполагал Фома, будет с боевой гей-парочкой, так что Макса и Сашка можно оставить и напоследок. Таким образом рассчитывал "апостол" изолировать мадам Ирену, и, если та не осознает ошибок и не примкнет к общинному большинству, то и начать с ней безжалостную, холодную войну.
Бремя забот о состоянии умов в общине Фома взвалил на себя добровольно. Собственно, чтобы реализовать в себе сокрытый глубоко талант проповедника и неясную тягу к интеллектуальному превосходству над другими представителями рода человеческого, Фома в свое время и примкнул к общине "вампов". И оказался на своем месте.
Хотя изначально, естественно, помышлял о совсем другой карьере, в силу семейных и денежных обстоятельств, далекой от его истинного призвания. Но жизнь рассудила иначе, подкинув Бореньке Фельдману карту, которой не было и не могло быть в его колоде, и обернувшуюся фигурой, посильнее любого джокера, хоть и зловещей на вид.
Но самая суть же Боренькиной натуры заключалась вовсе не в стремлениях и притязаниях на особую роль в человеческом социуме. Пусть и точила его с юных лет жадная ржа зависти к чужой славе и власти. Были в Бориной душе и другие совсем темные закоулки, в которые он страшился даже заглядывать. И тем более мотивировать этим страхом свои поступки.
А боялся Боря самой обыкновенной, человечьей смерти. Которая приходит неизбежно и в непредсказуемых мучительных обличиях. Боялся с самого детства, со времени, когда стал осознавать мир, а в нем себя. Но совсем не так, как другие дети, видя смерть злобной букой с косой, от которой можно спрятаться за маминой юбкой или под одеялом. И даже не как взрослые уже люди, смирившиеся с ее неминуемостью и занятые обычными суетными делами. Нет, Боря Фельдман впадал в леденящий столбняк ужаса, стоило ему подумать и представить собственный конец, так, словно костлявая фигура должна была явится ему немедленно. В его понимании через семьдесят лет или завтра получались совершенно равноценными сроками. Раз уж смерть все равно неотвратима, то, когда бы она ни случилась с ним, для Бори это было все равно, что сейчас. Единственный выход, чтобы сохранить здравый рассудок и саму жизнь, Боря нашел лишь в том, чтобы не думать, даже через силу, о своей будущей смерти. И он заставил себя, затолкал страшные мысли на дальнюю полку и попытался забыть. Результатом его усилий на первых порах оказалось то немаловажное обстоятельство, что мальчику удалось выработать в себе достаточно сильную и подвластную его разуму волю. Что, несомненно, пригодилось ему в последствии.
Во всех остальных смыслах жизнь Бори Фельдмана с самого детства была благополучной. Его семья, всего лишь часть разветвленного и могучего еврейского клана Слуцких-Фельдманов, основной массой проживавших уже за границей, считалась более чем благополучной. И отец его, большая шишка в ВАСХНИЛ, и мама, преподаватель в "Гнесинке", не испытывавшие недостатка ни в средствах, ни в жилплощади, баловали и Бореньку, и сестру его Софу просто-таки немилосердно. И это не принимая во внимание любвеобильных бабушек и дедушек с обеих сторон.
С самого рождения Боря считал естественным для себя окружением антикварную роскошь огромной квартиры в старомодном доме на Новинском бульваре, приходящую помощницу Тамару, черную папину "Волгу" с усатым шофером Василием, смешливым и почтительным парнем, отвозившем младших Фельдманов сперва в детский садик, а позже в общеобразовательную и музыкальную школы. Впрочем, на музыкальные мучения вскоре оказалась обреченной только старшая сестра Софочка, так как, к несказанному удивлению Бориной матушки, у ее дорогого сыночка не обнаружилось и зачатков музыкального слуха. Первое время мама, Римма Львовна Фельдман, на что-то еще надеялась, упрашивая лучших из знакомых преподавателей позаниматься с сыном индивидуально и по возможности развить в нем хоть какие музыкальные способности. Но старания ее окончились неудачей. Преподаватели, все как один, потерпели неудачу, а самый опытный из них, старый приятель семьи Фельдманов, прямолинейно заявил Римме Львовне, что из абсолютного нуля получить можно только такой же ноль, и ничего больше. С мечтой о воспитании из отпрыска второго Ойстраха или Рихтера пришлось распроститься.
Но самого Борю это обстоятельство нисколько не расстроило. Подспудный страх уже жил в нем, прорастая и принося первые плоды. Будучи школьником еще начальных классов, пухленьким и ухоженным очкастым увальнем, Боря пришел к выводу, что дело его еще не так безнадежно и вовсе не проиграно, и что современная наука и медицина без сомнения должны найти рано или поздно средство от старения, а там глядишь, и саму формулу бессмертия. По крайней мере так утверждала большая часть заслуженных писателей-фантастов. Да и отец Бореньки, Семен Абрамович, биолог и академик, на расспросы сына отвечал, что ничего для науки невозможного нет и дело теперь за молодым поколением, которое и скажет свое слово. Боря тогда же и решил это слово сказать. Семен Абрамович умилился и довольно потирал руки, видя, что сынок с малолетства не на шутку интересуется химией и биологией, и явно собирается идти по отцовским стопам. Конечно, поиски эликсира жизни, это всего лишь детская и наивная игра в романтику и мальчишеский героизм. Но если поощрять похвальный интерес к наукам, то со временем из сына может выйти серьезный ученый и главное – деятельный администратор, что немаловажно для жизненного успеха. В Бореньке уже была видна упрямая целеустремленность, старательность и готовность доводить любое начатое им дело до победного конца.
Если бы только Семен Абрамович, по-настоящему умный, но очень занятой человек, нашел желание и время прозреть подлинный смысл Бориных увлечений наукой и вслушаться в то, что стоит в действительности за его словами и намерениями, то семья Фельдманов, возможно, смогла в будущем избежать многих несчастий и трагедий! Сам же Боринька, после нескольких безуспешных попыток объяснить любому из родителей косноязычным от ужаса языком смысл своих страхов, остался в гордом одиночестве на поле боя за свою жизнь и рассудок, и понял, что рассчитывать в своей борьбе может только на себя. Оттого больше и не искал ответов на извечные вопросы у родителей, а докапывался до истины самостоятельно. Ранний его интерес к религиозной и эзотерической, философской литературе только укрепил старших Фельдманов во мнении, что сын их необычно талантливый ребенок и вместо того, чтобы обеспокоиться, мать и отец поощряли Бориньку в его занятиях, гордясь его совсем недетской эрудицией. А Боря в пятом классе читал "Критику чистого разума", Платонова "Федра", библейский "Ветхий завет" и Декарта, и главное, мальчик прекрасно понимал прочитанное. Понимал, но не был удовлетворен. Он не желал ни рая, ни ада, ни будущих счастливых реинкарнаций, ни существования в виде высшей духовной субстанции. Он желал не только вечно мыслить, но и вечно быть, здесь, сейчас и всегда. Но это-то, как объясняли ему мудрые книжки, было совершенно невозможно. А в сказки Боря, чересчур начитанный и практичный мальчик, не верил, и на чудо не надеялся. Но и смиряться тоже не собирался.
В школе же, специализированно английской и достаточно закрытой, чтобы в ней не обучались представители многоликой дворовой шпаны, Боря без труда добился уважения и преклонения большинства сверстников. Развитый не по годам, мальчик довольно быстро пришел к выводу, что здоровые кулаки при известном бесстрашии и упрямстве всегда будут уступать здоровой голове и отточенному языку. Самые хулиганистые и неуспевающие его одноклассники вскоре поняли, что от неповоротливого и очкастого отличника лучше держаться подальше, если не желаешь стать посмешищем для всей школы. Одним метким, язвительным замечанием, произнесенном в надлежащий момент, примерный мальчик Боря мог повергнуть во прах, уничтожить морально почти что любого противника. Однако, ему всегда хватало ума не связываться с собственными учителями. Но даже опытные педагоги, словно чуя скрытую в Бориньке угрозу, предпочитали, даже высказывая ему свое неудовольствие, не задевать юного эрудита и насмешника никаким обидным словом. Девочки же были готовы и к насмешкам, лишь бы привлечь Боринькино капризное внимание, и чем больше становилась цифра в словосочетании "№… класс", тем настойчивее и ревнивее становились девочки. Однако, Боринька, занятый поисками вечности и оттого неспособный влюбиться в нечто, в нем самом не заключающееся, подруг менял часто, иногда отличая девушек, вереницей следующих одна за другой, исключительно по имени. Если бы не его извечный страх, без сомнений Боря Фельдман вкусил удовольствий от одержанных побед и не только над девушками, но проклятый, нависший над ним мрак неотвратимости конца мешал наслаждениям.
Как и было задумано изначально, Боря, не без тайной поддержки отца, так, на всякий случай, пересчитав своим чередом все классы, до последнего, держал и выдержал экзамены в Московский университет. Правда, отчасти разочаровавшись в биологии, факультет он назначил для себя химический. На него и поступил. Однако, к его разочарованию, чего алкал, того так и не нашел. Хотя, благодаря трудолюбию, хорошей наследственности и изрядному уму обещал в недалеком будущем стать изрядным ученым-биохимиком. Родители, впадая в столбняк от удовольствия, гордились сыном безмерно. В особенности потому, что в Смутные времена Боринька не променял грядущий "красный" диплом на коммерческие занятия и не бросился в опасный водоворот большого и малого бизнеса. Заслуга самого же Фельдмана-младшего в этом была совсем невелика. Деньги, как таковые, слабо интересовали будущего доктора Фауста, ибо за них, смешно и говорить, никакого бессмертия обрести было нельзя, а вот лихую конкурентскую пулю вполне можно. К тому же, никаких экономических талантов студент Боря в себе не наблюдал.
Справедливости ради надо сказать, что и в период первичного накопления капиталов Борис Семенович материальных тягот вовсе не изведал. Отец его, вовремя подставив свой академический плащ новому ветру, вскоре причалил к гостеприимным берегам большой политики, консультируя чуть ли не президента по вопросам сельскохозяйственных заморочек, мелькая то и дело на голубом экране в роли провозвестника грядущих фермерских перемен, а позже и красуясь на всевозможных проходных корочками депутата Московской городской думы. В меру сил повышала материальное благосостояние семьи и утонченная Римма Львовна, давая за баснословное в России вознаграждение уроки вокала начинающим звездам эстрады, имеющим щедрых спонсоров. И, видимо, в силу своей утонченности, а также легкого высокомерия академической дамы, никогда не знавшей проблемы штопанных чулок, постепенно вошла в моду, сделавшись в среде поющих попрыгунчиков чуть ли не эталоном престижа и хорошего тона.
Вскоре на Боринькином горизонте замаячила аспирантура. И, к несказанному его удивлению, рядом определилась постоянная девушка. Он называл ее коротко: Лера, и сам удивлялся, зачем она нужна вблизи его страхов. Была она на самом деле никакая не Лера, то бишь Валерия, а Александра, но имя такое казалось Бориньке грубым на слух, а, стало быть Александра была переименована. Впрочем, Лере было по-видимому все равно. Из-за своей врожденной уравновешенности и какого-то безразличия к суровым законам окружающего мира Лера ему не мешала, а даже вносила успокоение в его жизнь, подобно тому, как умиротворяюще воздействует тихий провинциальный морг на уже остывшего покойника. Ибо к концу своих студенческих занятий Боря Фельдман утратил всякую надежду не только на получение спасительного эликсира, но и на реальные успехи экспериментов по продлению жизни. Вера в науку иссякала тем быстрее, чем больше Боринька занимался ею. А Лера, студентка только еще второго курса, и смотрела на грядущий свой диплом, как на средство добыть в будущем сносные средства к существованию. И то сказать, юристами и экономистами можно было прудить не один пруд, а хорошие химики встречаются все-таки реже, и когда-нибудь, зачем-нибудь понадобятся. Боринькина мама Лере симпатизировала.
– Конечно, сынок, никакая жена не присмотрит за тобой так, как родная мать, но мужчина должен иметь семью и детей, – Римма Львовна после появления Леры все чаще заводила матримониальные проповеди, – Я не имею в виду, что ты должен немедленно жениться, пусть девочка тоже закончит образование. Но ты можешь уже и сейчас высказаться о своих намерениях и планах на будущее.
– Вроде, как застолбить участок, – Боринька не противоречил маме, только грустно шутил. Жениться или не жениться, ему было без разницы. Последние несколько лет он, словно автобус без мотора, катился по инерции в колее повседневных занятий, прекрасно представляя, что дорога не может вечно идти под гору. И, рано или поздно, инерция исчерпает себя и автобус навеки остановится. Но пока, чтобы занять чем-то это время качения и не пугать близких, возлагающих на него надежды, Боринька играл роль обычного человека.
– Что за нелепые сравнения! Нельзя так говорить о важных вещах, – но на самом деле он развеселил Римму Львовну, – и откуда только в твоей голове что берется? Я, например, никогда не могу сказать что-то смешное к месту. Но как тебе мое предложение?
– Никак. В смысле, если Лера тебе подходит, то договор может быть подписан хоть завтра.
– Какой договор? – не поняла мама, довольная, однако, что сын доверяет ей выбор будущей спутницы жизни.
– Как какой? Брачный, разумеется. Я, такой-то такой-то, обязуюсь жениться на девице, такой-то такой-то, а в случае невыполнения с меня будет взыскан штраф в размере… В каком размере, а мам, чтобы вам с папой было не очень накладно?
– Ну, Боря, ну я же серьезно, а ты…, – Римма Львовна развела руками, словно демонстрируя свою незащищенность перед умственными упражнениями сына. Она поила Бориньку чаем в гостиной, нарочно пытаясь направить его мысли в уютное домашнее русло и легкомыслие сына в ее планы никак не вписывалось.
Однако, Боря поскучнел, желание подразнить мать пропало. Ушло как вода в песок.
– А если серьезно, мама, то лучше будет, я думаю, пригласить Леру к нам вместе с родителями. И невзначай узнать и их мнение на этот счет.
– Да какое у них может быть мнение! Насколько я знаю с твоих слов, люди они хоть и приличные, но до наших достатков им далеко. И сын у меня не наркоман, не пьяница, без пяти минут аспирант и перспективный. Пойди найди такого в наше время, – но все же мама согласилась с его предложением, – хотя ты прав, родителей пригласить нужно. А потом ты поговоришь с Лерой.
– Это без проблем, – постановил Боринька, и спешно занял рот пирожным, чтобы не говорить уж более ничего.
Состоялось все, как и хотела Римма Львовна. Встреча на Эльбе прошла по-союзнически тепло. Родители Леры, оба преподаватели в платной школе-лицее, не только не были против, а даже были готовы отдать дочь замуж немедленно, плюнув на диплом и университет, но для приличия не возражали подождать.
Так вот и вышло, что в конце этого сумасшедшего года, сдавший на "красные" пятерки госэкзамены и защитивший дипломную работу, молодой аспирант Борис Семенович Фельдман и его официальная невеста Александра Куропаткина, она же Лера, очутились на солнечном сочинском пляже. В романтическом путешествии, оплаченном из щедрого кармана Фельдмана Семена Абрамовича, академика и консультанта. Гостиница "Жемчужина" все еще была в престиже, номер был "люкс", деньги на карманные расходы были представлены объемной пачкой, Лера была мило уравновешена, настроение Бори было похоронное.
Дело было не в море, солнце и даже не в Лере. Ни то, ни другое, ни третье не играло роли в Бориных ипохондриях. А только получалось – один этап жизни он уже прошел, отшагал свою юность, отшагает и молодость. Без всякого толка. Будто в компьютерной игрушке перешел на следующий уровень, набрав призрачные очки и абстрактный опыт. То есть не набрав ничего. И что будет на следующих уровнях Боря знает не хуже, чем многострадальную, поминаемую всуе, таблицу Менделеева. Он будет аспирантом, потом кандидатом, потом профессором, и если очень постарается, то и академиком. По меньшей мере, членом-корреспондентом. Будет читать лекции, брать взятки за экзамены и поступления, и воровать научные идеи беззащитных ассистентов, потому что на саму науку ему давно уже плевать. А вот на то, как он, Боря Фельдман проживет остаток своих дней до могилы, нет. И прожить его он постарается как можно сытнее и комфортнее. И конечно, женится на Лере. Ведь это все равно, что завести собаку. Даже лучше. По крайней мере, удобнее. У него родятся непременно какие-нибудь дети, и он их вырастит и воспитает, как должно, и внуков тоже воспитает, если доверят. А потом оставит им все то барахло, которое нажил за свою несправедливо короткую жизнь, и они будут ему благодарны за всю эту денежно-материальную лабуду, на которую не купишь и одного лишнего вздоха. И ляжет под гранитный дорогой памятник, к которому благодарные потомки его, идиоты, сделают позже подзахоронение. Положат рядом его горячо любимую жену, ведь женщины живут дольше мужчин, как будто двум разлагающимся трупам не все равно где валяться. И будут проливать слезы от умиления, про себя подсчитывая долю причитающегося наследства.
Ах, как бы все сложилось иначе, вознагради его бог, черт, Демиург вечной, неисчерпаемой временем, жизнью. Он свернул бы горы, добился бы бессмертной славы, изжил бы ужас и скуку, сам стал бы подобен вечному, неугомонному двигателю. Испробовал бы добро и зло, и выбрал бы добро, ибо бессмертный может позволить себе быть милосердным. Так он мечтал, но мечтал, как фантазер, без надежды и веры, потому как был он человек науки и мир знал только как материальную, безжалостную гадость, а буддисты, магометане и даже лучшие из христианских философов все врут. Жизнь души после смерти тела такая же сказка, как его фантазии и никем и ничем не доказана. И оттого в ней нет для него утешения.
Однако, мысли и настроения не мешали Бориньке каждый день выходить с Лерой на пляж, загорать, купаться, вступать в беседы с другими курортниками. Лера по большей части плескалась в море, Боря же принимал солнечные ванны на берегу. Так что они были вполне довольны друг другом и не пресыщались совместным времяпровождением. Когда хотели есть, шли в один из ресторанчиков на берегу, когда хотели любви, поднимались по обоюдному согласию в номер. Такая упрощенная жизнь отчасти успокаивала Борю.
Пока, в один прекрасный день не появилась незнакомка. Прекрасная не прекрасная, но приятная, холеная и безусловно, симпатичная. По незначительным нюансам одежды и взятого ею на пляж багажа, Боря сделал вывод, что незнакомка не из числа гостиничных постоялиц, а местного происхождения. И, видать, не из последних, если допущена на гостиничный пляж и облачена в умопомрачительный купальник, предмет завистливых взглядов его Леры, да и не ее одной. Однако, незнакомка не долго оставалась незнакомой.
Устроившись, не без намеренного кокетства, на соседнем лежаке, незнакомка какое-то время листала блестящий журнал, потом отбросила его, сморщив носик в неудовольствии, и стала неторопливо оглядываться вокруг. Очевидно, потеющий на солнце Боринька приглянулся ей более других как перспективный собеседник, и незнакомка окликнула его естественным пляжным вопросом:
– Молодой человек, не подскажете, который час?
Боря, конечно, подсказал. Потом сообщил любопытствующей незнакомке и иные сведения. Давно ли он прибыл в Сочи и откуда. Затем естественно было и представиться друг другу:
– Борис. Можете для удобства называть меня просто Боря.
– Ирена. Лучше без сокращений.
– Не возражаю. Имя красивое, – конечно, претенциозное и явно выдуманное, но Боря этого вслух не сказал. Да и какие на пляже могут быть имена. Смело называйся хоть Наполеоном, никто и не удивится.
Они разговорились. Правда, разглагольствовал по большей части Боря, собеседница его лишь задавала изредка вопросы и совершенно очаровательно вставляла "да" и "ну, конечно" в нужных местах. Лера поначалу обеспокоилась, что случалось с ней нечасто, и даже вылезла из моря, но вскоре вернулась в соленую стихию, успокоенная. Дамочки хлопотные и привередливые, а новая знакомая производила впечатление именно таковой, никогда не удерживали надолго Боринькиного внимания. Пусть краснобайствует перед ней, если хочет. Такая небось не побежит среди ночи добыть льда измученному жарой жениху.
Отдых, рассчитанный на целых три недели, шел своим чередом. Знакомая незнакомка Ирена появлялась на пляже почти что каждый день, и на правах уже старой знакомой устраивалась на ближайшем лежаке. Она и с Лерой была отменно вежлива и мила, и на седьмой день знакомства Лера, по своей собственной инициативе, уже заняла для Ирены на всякий случай соседний топчан.
А на восьмой день пляжных отношений состоялся роковой для Бориньки и Леры разговор. Никогда бы он не случился, не такой Боря был человек, чтобы приоткрыть чужому и постороннему темный уголок своей души, да что там чужому, и родного бы не допустил, но зацепило его и потащило, и незнакомка была в том виновата.
Началось же все совсем невинно. Захотелось Бориньке эрудицией блеснуть перед молодой дамой. Сначала пересказывали чуть что не в лицах поход Иисуса Навина на Иерихон, и про Моисея на горе, о смерти Аарона и наказании Мириам, потом пустился в собственные комментарии к изложенному. Тут трепетно внимавшая ему Ирена и затеяла с Боринькой словесную пикировку, довольно презрительно отозвалась о пророке, так и не вошедшем в дарованную его народу землю, а первосвященника Аарона и вовсе обозвала дураком. Будто человеческие немощи, старость и смирение перед волей божьей и даже сама смерть не вызывали в ней уважения, а лишь пренебрежение к ним, какое бывает у бесстрашного дурака, намерявшего себе два срока жизни. Такого Боринька стерпеть не смог, был задет и оскорблен в своих страхах, к тому же солнце припекло ему голову. И он выступил.
– Да как вы можете, Ирена! Сбросьте хоть на мгновение пелену с глаз и вы увидите! Только, ради бога, оставьте свое легкомыслие. Вы только вообразите, какое это отчаяние понимать, что уходишь навсегда, и никогда, вы слышите, никогда не увидишь плодов собственного труда и счастья, будущего своего народа, ради которого страдал и сражался, за который заступался и перед богом. И все напрасно. Дальше жизнь пойдет без тебя, кончился твой срок, а дело, тобой начатое, только на середине.
– Зачем же так трагично? Может Моисей как помер, так наоборот, от радости и обалдел. Что можно ничего не делать. Уселся себе на облаке будто в киношке и прикалывался, как внизу за него другие отдуваются. На заслуженном, так сказать, отдыхе, – ответствовала Бориньке Ирена, и было видно, что она-то не прикалывается, а так в действительности и думает.
– О господи! – выдохнул Боря и завелся не на шутку, – Да если бы наверняка знать, что это облако у тебя будет и жизнь внизу "смотри не хочу"! Но неизвестно же! Оттуда, знаете ли никто еще не возвращался. Или для вас это новость? Ах, согласны. А раз, согласны, то должны же вы допускать и такую возможность, что никакого облака и нет вовсе. И мир, вполне возможно, погибает в момент твоей собственной смерти. Все, конец, финита ла комедиа, ужас какой!
Боринька опять представил себе бесконечную пустоту, ожидающую его за гранью жизни, и пошел весь бледными пятнами, крупными пупырчатыми мурашками. И это несмотря на тридцатипятиградусную, черноморскую жару и палящий обеденный зной. О собеседнице на этот миг он даже и позабыл. Но Ирена о себе напомнила.
– Вы что, помереть, что ли боитесь? – прямо и грубо, совсем бестактно спросила она. Весь вид ее и тон был высокомерен, неприятен, с налетом немыслимого в данной ситуации превосходства и совершенно непонятного небрежения.
– А вы будто нет? – отпарировал Боря, а все равно, что ответил утвердительно.
– Я? Я – нет! – И Ирена засмеялась. И опять в превосходной степени.
"Ненормальная какая-то", – подумал Боринька, – "или издевается. Нет, не похоже. Совсем даже искренне надо мной смеется. От души. Дура просто, тут рыдать надо, а ей смешно". Он почувствовал желание плюнуть на их спор и уйти куда-нибудь, хоть в море, хоть в гостиницу, чтобы потешно не расплакаться при ней от обиды и поднявшегося в нем панического страха, но Ирена остановила его:
– А что бы вы, Боря, дали, чтобы никогда не умирать? – спокойно, со смешком спросила, и увидев по Боринькиным глазам, что тот готов ее ударить, торопливо добавила, – Я не подкалываю вас, я серьезно. Что бы вы дали за это?
Окончательно сведенный с ума собеседницей, смертью, солнцем и жарой, Боринька слетел с катушек и ответил, будто и не с Иреной говорил, а адресовался в более высокие сферы.
– Чтобы я дал? Вы еще спрашиваете! Да что угодно! Да! Что угодно! Любая цена слишком большой не будет!
– И из дому бы ушли, и из университета? Чтобы родных никогда не увидеть, и знаменитым ученым тоже никогда не стать?
– Да что там родные, что дом! Я бы как вечный жид по земле ходил. И счастлив был бы, – почти закричал в ответ Боря, а в голове бешено крутилось: " глупость какая, бессмыслица, все ерунда!"
– Вы только потише, а то люди на нас оборачиваются, – осадила его Ирена и затем спросила нечто и вовсе несуразное, – Ну, а к примеру, младенцев вы бы стали убивать? Если так нужно для вечной жизни. Как в книжке, не помню какой, где купались в ванне из крови младенцев для вечной молодости.
– Младенцев царь Ирод истреблял и еще фараон Рамсес, – машинально поправил обалдевший Боринька и тут до него дошел смысл сказанного Иреной, – Вы что, с ума сошли? Или с вами солнечный удар приключился? Что за идиотские, чудовищные провокации?
– Вы же сами сказали, что готовы на все. Вот представьте, что это и есть то самое "все". Ну, так как? – и голос у Ирены задрожал, зазвенел возбуждением.
– Я от своих слов не отказываюсь, – только и смог выдавить из себя ничего уже толком не понимавший Боринька, но вдруг его горячечный мозг явил ему картину подобного обмена и Боря озвучил его результат, – Стал бы, чего уж скрывать. Да только это пустой разговор. Даже если я скажу вам, что согласен, так это всего лишь слова. И у вас, и у меня.
– Да-а, грех смеяться над убогими, – нараспев, глумливо протянула на одной ноте Ирена, – а вот мы и проверим. Завтра и проверим, какой вы храбрый. И честный.
– Что проверим? – Боря уже не искал смысла в ее словах, и диалог с Иреной решил вести как психиатр с заговаривающимся, беспокойным пациентом.
– Как что? Правду вы говорите, или, извините за выражение, гоните? Насчет младенцев. Хотите испытать себя? Или передумали?
– Отчего же, не передумал. Извольте, – Боря подыгрывал помешавшейся него его глазах, видимо от жары, девице, словно воспринимал ее всерьез. Что ж, с сумасшедшими так и надо. Только как ее к здоровым людям выпустили, вот в чем загадка?
– Отлично. Правда, мне надо спросить позволения у одного лица. Вы не против?
– Нет, что вы. Спрашивайте, – милостливо согласился Боринька, а про себя подумал, что новая знакомая его наверняка будет просить врачебного согласия на посещение ее в дурдоме.
– Тогда завтра я сообщу вам ответ. Если "да", то будьте готовы. И кстати, вашу подругу вы намерены брать с собой в вечную жизнь? Иначе ее придется убрать.
– Зачем же? Я возьму ее с собой, – великодушно определил Лерину судьбу Боринька, играть так уж играть до конца, – она мне еще пригодится.
– Вам виднее. А ей можно доверять?
– Вполне. Лера любит меня и пойдет за мной куда угодно, хоть к черту ад, не то что в жизнь вечную, – с пафосом провозгласил Боря, про себя, однако, отметив, что на счет Леры немного преувеличивает. Но какое это имело значение? Хотя, возможно, Лера и в самом деле пошла бы за ним куда угодно, только не из большой любви, а скорее оттого, что ей абсолютно все равно, куда идти.
– Может быть, лучше спросить у нее самой? Дело ведь такой важное.
– Это совершенно лишнее. У нас принято, чтобы важные вопросы решали исключительно мужчины. И Лера с этим полностью согласна, – не хватало еще, чтобы Лера услышала. Она церемониться не станет, может и в "03" побежать звонить. А зачем раздражать неадекватного человека?
– Тогда до завтра. И еще раз подумайте хорошенько.
– Обязательно. Не в моих привычках принимать скоропалительно такие важные решения, – и Боринька привстал с топчана, чтобы раскланяться с отбывающей с пляжа психичкой. Слава богу, пока все обошлось без эксцессов. Но похоже эта Ирена не буйная, хоть и явно не в себе. Что же, завтра он сделает вид, что ничего не произошло и никакого разговора и договора промеж ними не было. Да и появиться ли еще завтра Ирена. Может от перегрева у нее случился рецидив, и завтра она уже благополучно будет отдыхать в известном месте.
Но Ирена появилась. И не успев даже толком поздороваться с Боринькой и Лерой, а та дожидалась компаньонки, не шла в море, с места в карьер объявила:
– Можете плясать. ОН сказал, что вы подойдете. Вместе с подругой. Вы как, не передумали?
Боря не знал, что и сказать. Будь он с Иреной тет-а-тет, не постеснялся бы, послал ее подальше распоследними словами, какие были в лексиконе. Но при Лере объясняться не хотелось. А его будущая половина, конечно же, заинтересовалась, тут же влезла в разговор:
– А? Что? Куда? – вот курица, и что теперь?
Но Боря нашелся. Вернее, ляпнул несуразное, что первое пришло в голову:
– В гости идем. Ирена спрашивала разрешения нас привести. Сказали – можно.
– Здорово! А к кому? – будто он знает. К покойному Сербскому, наверное.
– А разве Боря вам ничего не говорил? – удивилась Ирена, и даже стала беспокоиться.
Этого Боря допустить не мог, и приступ беспокойства пресек в корне:
– Я же говорил вам уже, Ирена, что Лера и без слов пойдет за мной хоть на край света. Правда, детка?
Лера на детку среагировала незамедлительно:
– Конечно, пойду. За Борей, куда угодно. Тем более в гости, – знала бы она в какие гости! Дуреха.
– Шикарно. Тогда в девять вечера я за вами заеду. Встречаемся в холле.
– А как надо одеться? А народу много будет? – стала задавать вопросы детка-Лера. А Боря еле сдержался. Что одеть! Белый халат и тапки!
Пляжный день, тем не менее, прошел на удивление мирно. К опасной теме Ирена больше не возвращалась, вела себя прилично, не заговаривалась. Видимо, получив согласие Бориньки отправиться в потусторонние гости, она успокоилась и стала адекватна.
Вечером Лера под предлогом гостей пыталась было отказаться от ужина, но Боря категорически, почти резко настоял на обратном. В холл спустились ровно к девяти, и попробовал бы он не спуститься! Лера предстоящим походом проела ему плешь на макушке. Боря утешался лишь мыслью, что пытка продлиться недолго, потому как никакая Ирена, разумеется не приедет. Но и на этот раз он ошибся.
Она даже не опоздала, уже ждала у входа. К тому же оказалась на машине, водила довольно навороченную фиолетовую девятку. Боря поразился, разве сумасшедшим выдают права? По дороге рассказала, что стесняться не надо, если хозяин дома о чем-нибудь спросит, отвечать непременно. А в самом доме кое-где еще идет ремонт, только недавно построились. Участок еще и вовсе не окультурен, местами остался мусор и даже битый кирпич. Но пусть они не смущаются, неудобства эти временные. Будто Боря туда ехал на веки поселиться!
Дом оказался ого-го. Даже и не дом, а целый особняк. И мусор на лужайке имелся и ведро с засохшими остатками краски. Встречать их вышла милая девчушка примерно Леркиного возраста, отчего-то грустная и с Иреной неприветливая. Однако, на вид абсолютно нормальная. Поздоровалась, пригласила в дом. А на Леру смотрела прямо-таки с радостью. Скучает здесь, наверное, а подруг маловато или нет совсем, решил Боринька. Еще бы не заскучать, если живешь под одной крышей с психом! Девчушка назвалась Наташей, но попросила называть ее запросто – Татой. И имя это было домашнее, приятное.
Тата подала чай в большую комнату, где, кроме нескольких изящных деревянных столиков и двух кресел с диваном, ничего больше не было. Видно, обставиться еще не успели. Но кондиционер старался во всю. Что было очень кстати – кресла и диван были кожаные, липучие в жару, а так ничего, даже приятно скользкие. Одно кресло было как бы отставлено в сторону, словно обозначало некое табу, видно было хозяйским. Что Тата и Ирена не главные в этом доме было заметно и без дополнительных объяснений.
А потом появился Он. Неслышно, словно возник прямо из воздуха. Боря посмотрел на Него и понял в секунду: нет, здесь не сумасшедший дом, и этот человек ждал их, и он не псих. И в Бориньке поднялась жаркой волной внезапная, безумная надежда, которой не могло быть, а вот взялась же она откуда-то. И он понял вдруг, что надежда эта словно перелилась из глаз в глаза, из взгляда вошедшего, возникшего ниоткуда хозяина этого странного дома, прямо в его, Боринькино нутро, осела и вмиг проросла ожиданием. И Боринька смотрел и смотрел, и не говорил ничего, да хозяин ни о чем его и не спрашивал, и все-таки они говорили. А потом рядом возник еще один человек, но этот был обычный, кажется назвался Стасом, и сказал что-то вроде того, что все готово и можно начинать.
И, кажется, именно этот Стас и повел всех в подвал. ОН шел рядом, будто помогал и один раз ободряюще дотронулся до Бориного плеча, но не заговорил. Впрочем, в словах не было нужды. И без того происходило нечто необыкновенное, что Боря не мог назвать из страха, что спугнет. В подвале лежал связанным неизвестный с кляпом во рту, живой и трепещущий. Слава богу, не младенец, неожиданно обрадовался Боринька. А дальше не удивлялся ничему.
Лица людей, окружавших его, изменились вдруг ужасным, но ведомым ему по сказочным легендам, образом. Лера, увидел он, осела на пол, и похоже была без сознания. Но это не имело значения. Боря больше не боялся. Он смотрел во все глаза, привыкал и смирялся, жадно впитывал свое будущее. Он видел лицо хозяина, и оно не казалось ему отталкивающим, наоборот, огромные белые, хищные клыки делали его невыразимо прекрасным, таким, что Боря опасался за его реальность. Не оттолкнула его и кровь, короткой струей рванувшая из артерии, когда хозяин отпустил шею жертвы. Потом видел и остальных – Тату, Ирену, Стаса. Стас пил кровь прямо из умирающего тела, Ирена и Тата – по очереди из чаши. А Он подошел к Бориньке, с нормальным уже лицом и вполне человеческими клыками. Спросил:
– Сможешь?
Боринька понял, о чем Он. И еще раз, для верности спросил сам себя, годится ли для ТАКОЙ жизни? Конечно. Конечно, да. Он видел, он знает, он может, он согласен. Право, для бессмертия это невеликая цена.
– Ты готов? Тогда дай руку. Потом будешь болеть, – честно предупредил Он, – недолго.
Когда Тата перехватила руку повязкой, только тогда Боря стал понимать понемногу, что не спит. Что великая мечта его и в самом деле сбылась. Но до конца поверить он не мог, не мог вот так сразу отпустить свои страхи, забыть о бесплодных страданиях.
– Ее тоже? – это ОН о Лере. Достало сил лишь вяло кивнуть.
ОН сам делать не стал. К Лере подошла Тата, погладила по щеке, как любимую сестру. Взяла за руку. Лицо ее изменилось.
Когда Боринька и Лера поправились, оказалось, что вот уже больше недели, как они мертвы. Что в номере их случился страшный пожар из-за проводки, а дверь пожарные сразу выбить не смогли. И нашли только два совершенно обезображенных трупа. Которые уже отправили в Москву и даже похоронили и оплакали. Лера какое-то время похныкала, но, как уравновешенная девочка, скоро смирилась и успокоилась. К тому же жених ее никуда не делся, а жизнь стала лучше и веселее.
Боринька же обрел долгожданное бессмертие и выбрал новое имя – Фома. Но в отличие от тезки пальцы в раны от гвоздей совать не стал. Хотя вопросы и задавал. Теперь, когда в его распоряжении оказалась сама вечность, он вдруг расслабился и разнежился. И, вместо того, чтобы приняться незамедлительно за великие дела, возлег на диван. Надолго. Торопиться отныне ему было некуда.
ГЛАВА 19. ТЕКИЛА-БУМ
Наконец, День "икс" настал. Чистоплюев совсем созрел, бери хоть голыми руками, так заморочила его мадам. И саму операцию по срокам откладывать было уже никак нельзя. Шахтер безвылазно сидел в Москве, не желая упустить момент. С утра Миша предусмотрительно информировал Иосифа Рувимовича, что к ночи, вероятно, навестит его с известиями. Шахтер не возражал, известия хотел получить из первых рук, оттого просил пожаловать в любое время. О самом плане Шахтер, конечно же, для чистоты эксперимента, не имел ни малейшего понятия.
Ирена с утра крутилась по комнатам, будто Наташа Ростова в предвкушении первого бала. Даже фонд, любимая, ненаглядная ее игрушка, в эту, назначенную к действию, пятницу, остался без надзора и высочайшего посещения. Выход на бис ожидался в ином месте, и мыслями мадам была уже там. Но пока, приятно возбужденная, она коротала время, приставая с бестолковыми разговорами к Фоме. Добралась и до кухонных Татиных владений, послонялась там, и даже писала под Лерину диктовку список белья, предназначенного быть сданным в стирку. Яна все же мадам беспокоить не решилась. Тем паче, что последние несколько вечеров Балашинский пропадал неведомо где, хотя Ирена-то как раз догадывалась, где, а возвращался в Большой дом в странном настроении, рассеянный духом, и мог на лишний вопрос ответить даже невежливо. А вчера и вовсе опустился с мадам до базарной перепалки. И обидно, что из-за пустяка. Всего-то и сказала, что похож он на кота, от которого на крыше сбежала кошка, и услышала в ответ такое! Даже и не знала, что Яну подобные слова из русского языка ведомы. Пошутила, называется. А дальше, слово за слово, оглобля за грабли, Лерке с Таткой на потеху. Спасибо Фоме, развел и умиротворил. Но Ирене пришлось извиниться. Так что, нарываться лишний раз не хотелось.
Балашинский, словно в насмешку над строгой, сумрачной сосредоточенностью этого решающего дня, велел к обеду приготовить машину. Правда, не такси. Брал с собой в город Макса, и за водителя, и последнее напутствие заодно произнести. Макс оставался старшим в прикрытии, отвечал за ликвидацию Чистоплюева, если оплошает мадам. Он же должен был предупредить Мишу, если сценарий изменится. "Архангел" в операции непосредственно не участвовал, его дело на сегодня – вести Шахтера. И дальше, по обстоятельствам.
Но прогулка в город имела и другую цель. Обязательно сегодня должен был Балашинский повидать Машу. Их встречи, ставшие за последнее время каждодневными, превратились для Яна Владиславовича в почти болезненную потребность. Он нравился себе именно таким, каким отражался в любящих, наивных и, одновременно, полных неведомого ему знания, Машиных глазах. Нравился в той роли, которую играл рядом с такой достойной, хоть и очень юной и доверчивой партнершей. И роль постепенно сжилась, срослась с ним самим, стала его второй кожей, и уже невозможно было ту кожу содрать, не причинив себе мук и вреда.
Машенька же и вовсе не мыслила свою нынешнюю жизнь без этих встреч-свиданий, без милого своего Яна, человека, загадочного и сурового порой, но единственного и безоговорочно любимого. И нежное сердечко ее, чуткий и верный барометр, подсказывало, замирая стрелкой на "ясно", что мужчина, так искренне любимый ею, тоже сделался слугой жестокой Венеры, даже и против своего желания. И принял какое-то решение относительно нее, Маши, и теперь это решение выполняет. Машенька, с истинно женской мудростью, откуда что берется!, события не торопила, а терпеливо выжидала. Как каждый чистый и неискушенный жизнью юный человечек, только-только нащупывающий в лабиринте событий свой единственный путь, Машенька ниоткуда не ждала лихой беды, потому как ни разу по-настоящему беды испытать ей не довелось, а ждать и представлять неведомое трудно, если не невозможно. Для нее собственные юность и неопытность и были самыми надежными залогами спокойствия и душевного здоровья. Любовь в представлениях Машеньки мало чем отличалась от тех счастливых романов, развивающихся по классическим канонам галантной литературы, читанных ею в недалеком прошлом и казавшихся ей эталоном любовных отношений. Ведь было и обязательное вызволение рыцарем своей дамы из рук разбойников, и изысканное ухаживание без постельных притязаний, и почти театральное объяснение в испытываемых чувствах. Оттого, поглотивший ее мысли и воображение Ян вытеснил из Машенькиной головы былую осторожность.
Балашинский в этом смысле тоже не составлял исключения. Как и всякая другая подлинная любовь, его чувство к Маше, которое он упорно продолжал именовать "увлечением", постепенно дополнялось беспокойством и заботой о благополучии дорогого существа. Тогда и был выдан Машеньке связной номер телефона, конечно, не самого Балашинского, попросту не имевшего мобильной связи и не желавшем таковую иметь, а доверенного лица Макса Бусыгина. Макс был предупрежден, хотя и без подробностей, но в случае непредвиденном передал бы что надо тому, кому надо.
Свидание втроем нисколько не обескуражило Машеньку. Напротив, давно имелась у нее мечта узнать своего любимого и с другой, "домашней" стороны, взглянуть на дом его и близких его, этот дом образующих, быть в этом доме представленной и принятой, но просить о приглашении Яна Маше не хотелось. Пусть додумается сам, сам захочет и сам скажет. Тем более, что Максима, Макса Бусыгина она уже видела и знала. И оттого не испытывала неловкости, смело и приветливо посмотрела, даже и руку протянула:
– Здравствуйте, Максим, – и увидела, что тому приятно ее узнавание, тем более по имени, которое Маша и слышала только один раз, а все же запомнила.
– Здравствуйте, Маша, – сказал в ответ Макс. Он тоже запомнил ее имя, еще бы не запомнить, если с утра до вечера в большом доме только и пересудов, что о загадочной девушке хозяина. А поскольку лишь Сашок и он удостоились чести лицезреть эту неведомую Машу, то и от расспросов было не уйти. Макс и отвечал, конечно, в рамках дозволенного. Ни то, ни се, девушка как девушка, совсем еще молоденькая, руки-ноги и все, что полагается на месте. На вопрос "красива ли?" только пожимал плечами, хотя с первого взгляда на Машу решил, что та определенно хорошенькая. А это со стороны Макса, совершенно женским полом не интересовавшимся, было полновесным комплиментом.
Разговаривали будто бы наспех, стоя у машины, у открытой до упора задней дверцы. Макс тактично не стал мешать, сел за баранку и включил погромче стереосистему. Демонстрация безучастия, собственно, предназначалась исключительно для Маши, Макс сквозь стекло и музыку не пропускал мимо ушей ни звука. С его-то абсолютным слухом "вампа"!
На улице стояла холодина, Машенька прятала предусмотрительно носик в высокую стойку воротника серебристой финской пуховой куртки, чтобы не покраснел и не засопливился. Сморкаться при Яне в платок, пусть и безупречно чистый, ей не хотелось. А с Балашинского ноябрьский промозглый холод был как с гуся вода. Как ходил в неизменном кожаном плаще и без намека на головной убор, так и стоял сейчас, словно на дворе май месяц, и даже руки не прятал в карманы, а был он без перчаток.
– Маша, ты извини меня, но гулять сегодня не получится, – слегка наклонив голову, словно бы извиняясь, сказал Балашинский. Уже третий день, как они были на" ты", но Маша еще не обвыклась. Когда приходилось обращаться ей к Балашинскому, то стоило немалых сил не запнуться на этом "ты", хотя именно такое обращение было ей сладостно и приятно.
– Ничего, не страшно. После обеда порадую физкультурника своим приходом. Я уже, наверное, сто лет в манеже не была. А у тебя, наверное, дела?
– И очень важные. Я заехал потому, что не мог хоть на минутку тебя не повидать, – Балашинский сказал и сам опешил от своей откровенности. И постарался отчасти оправдаться в собственных глазах, – к тому же, надо было тебя предупредить, что все отменяется. Чтобы ты напрасно не ждала на морозе.
Конечно, это было беспардонное вранье. Что на сегодня назначена операция Ян Владиславович не мог не знать, сам же ее и назначал. И Машу он мог преспокойно предупредить еще вчера. Однако же, не сделал этого. А потащился в город и теперь валял дурака перед самим собой.
В Большой дом вернулись, когда уже начало темнеть. Но время было еще не позднее, около шести часов. Мадам вот-вот надлежало выезжать. В холле собрались все действующие лица. Ян перед отправлением отечески чмокнул Ирену в напудренный лоб, словно перекрестил благословением. Двинулись со двора на двух машинах след в след. Впереди мадам, оседлавшая черную спортивную "тройку" "БМВ"-купе, позади в зеленом четырехдверном "Паджеро" ехала боевая группа подкрепления. Макс, Сашок и Рита. Миша пока оставался в доме. Связаться с Шахтером он должен был не раньше, чем получит подтверждение от группы. Все равно: о провале или об удаче. Покинет ли Чистоплюев сей мир нежно и бескровно или с большим ба-бахом.
Чистоплюев, как и было договорено, ровно в восемь уже сидел за "их" с Иреной столиком в ресторане "Метелицы". По раннему времени посетителей почти и не было, хотя день был пятница. Замороченный депутат недоумевал, отчего его киска-затейница выбрала для свидания столь необычно раннее время, но вскоре нашел для себя удовлетворительное и лестное объяснение. Наверное, соскучилась без него за целый-то день, вот и звонила даже сегодня раз пять. Все ворковала, когда увидит наконец своего дорогого папочку. На папочку Чистоплюев не обижался, Ирена и сама поди не юная девица. Юной девице за такое обращение Чистоплюев, пожалуй, и в морду бы дал. А от кисоньки ничего, можно. Это она так ластиться, ему ли не понять, шутка ли, сколько баб повидал на своем веку. А сколько прошло через его руки и не пересказать. Но такой! Такой ни разу не было, подумал Чистоплюев и ни капельки не покривил душой. Такой опытной, такой разгульной, такой капризной, такой бесстрашной, такой щедрой, неутомимой и бурной на ласки. И главное ведь, ничего у него не просила, и, вот удивительно, чувствовал, что и не попросит. А на эти вещи у Чистоплюева был как раз отменный нюх.
Когда мадам появилась в дверях, учтиво сопровождаемая метрдотелем, Чистоплюев аж привстал от восхищения. Ирена и всегда-то одевалась нарядно и к лицу, являя собой венец претенциозного стиля и новорусского шика, но сегодня она была поистине ослепительна. Длинное в пол черное платье, расшитое черным же ярким стеклярусом по краям извилисто обрезанного подола и обширного декольте, обольстительная ножка в чулке с намеком на ажурность, выглядывающая то и дело сквозь прорези прозрачного шелка, туфельки с вытянутыми носами, кокетливо обтекающие высокий, зазывный подъем. И огромные голубые глаза, почти синие в тенях косметики, и карминные, подчеркнутые умело карандашом губы, и прическа, замысловато вечерняя с локоном, падающем на розовое ушко. Банальная, эталонная, ресторанно парадная, мадам была убойна для жаждавшего ее Чистоплюева.
А дальше все пошло, как в импортном кино. Ни одного блюда на столе дешевле пятнадцати баксов. Столько стоил креветочный салатик, так и не съеденный под закуску. И, король банкетов – коньяк-флибустьер. Стрекало для мужчин и убивец слабого пола. Был он мягок и великолепен. Чистоплюев принял за раз двести "Реми Мартин" и под триста за вечер "Хенесси ХО", зачем мешал разные погреба, несчастный избранник и сам не понял. Оправдался перед собой гусарским куражом. Мадам хохотала и задевала ножкой под столом. Чистоплюев мечтал уже и об укромном уголке под ниспадающей тяжестью ресторанной занавеской, но в клубе было полным-полно народу, и лихорадочные мечтания пришлось придержать. А местные "хачики", бесцеремонные и горяче-южные, строили Ирене многозначительные глазки, у Чистоплюева непроизвольно сжимались кулаки. Но статус не позволял встать и набить морду – в кураже Чистоплюев ощущал способность на многие поступки. А Ирена, гордая, будто королева на рождественском балу, и головы не повернула, хотя не могла не осязать их липких взглядов. И за ее пренебрежение к их кавказским капиталам Чистоплюев был особенно ей благодарен.
Когда ее полнокровный кавалер в очередной раз, мучимый начинающейся аденомой, отбыл в уборную, мадам приступила к плану ликвидации. Полукруглое, стеклянное лоно подогретого фужера переливалось коньячной, неотпитой массой. В которую мадам, помавав изящно ручками, скучая и закуривая, пересыпала содержимое пробирки, с невидимым логотипом "Мейд ин Фома лаборатри". И, конечно, возвратясь, Чистоплюев ухарски опрокинул бокал за здравие присутствующих здесь дам.
Народ в ресторанной зале все прибывал, уже образовалась и шеренга ожидающих места за барной стойкой. В казино во всю гремели фишками, вот-вот должна была начаться эстрадная программа. Ожидали Губина и "Стрелок", пока же гремел приличный джазовый квартет. Но мадам, томно закатив глазки, весомо двинула коленкой посоловевшего и опухшего от похоти и коньяка Чистоплюева. Дескать, бог с ней с программой, есть занятия и поинтересней. Тем более, что часовой механизм был запущен и время поджимало. Чистоплюев с энтузиазмом потребовал счет.
В гардеробе, накинув на плечи пышную норковую шубу-клеш, игнорируя ее боярские рукава, Ирена, игриво хихикая, уткнулась носиком в край воротника, одной рукой придержав шубку у горла, а другой украдкой нажав кнопку вызова на мобильном телефоне. И тут же, наверху, в казино, в кармане у Макса раздался мелодичный звон. Макс отвечать не стал, лишь взглянул на определитель. Немедленно вся троица, Макс, Сашок и Рита, не потрудившись даже обменять фишки на "кэш", проследовала непринужденным вразнобоем в вестибюль. Словно и не торопясь, но слажено и четко группа вышла на улицу. Чистоплюев, ведомый мадам, только и успел дотанцевать до машины. В депутатской "Вольво" было темно, тепло и интимно уютно. Водитель, он же по совместительству и охрана, исправно топил салон.
– В "Метрополь", – небрежно бросила ему мадам, не дожидаясь распоряжений своего кавалера, только ожгла Чистоплюева полным африканской страсти взглядом.
– В "Метрополь", – подтвердил великодушно Чистоплев, словно позволяя себя похитить буйствующей вакханке.
И пятнадцати минут не прошло, как они очутились в гостиничном номере, где мадам, даже не сбросив шубы, увлекла Чистоплюева на кровать. Шуба распахнулась сама собой, образовав экзотический любовный плацдарм, дальнейшее уже было делом техники. Чистоплюев одновременно оказался в алкогольном и сексуальном раю, не отличая одного от другого. Сколько времени длилось блаженство, он не считал и не ведал, пока, прямо посреди очередной страстной атаки на прелести мадам, резкая боль не свела ему желудок. Чистоплюева прошиб холодный пот, тут же обильно выступивший на разгоряченной еще коже, хмель отступил, и вся эрекция сошла на "нет". Мадам, будто недоумевая, скорчила недовольную гримаску:
– Ну, папочка, ну же! Да что с тобой?
– Сейчас, кошечка моя, сейчас, – Чистоплюев приподнялся на руках с тела мадам. Тут же, скорчившись, завалился на бок, судорожно прижимая руки к животу.
– Господи, да тебе же плохо, – мадам, как есть голая, тут же вскочила, тревожная и хлопотливая, и принялась развивать бурную деятельность, – это коньяк виноват. Наливают в бутылки всякую бурду, а на этикетке пишут, дескать "Хенесси". Ну я им задам! И баранину ты ел зря. Она тяжелая для желудка. Но ничего, ничего, сейчас я тебе минералочки…
Ирена метнулась к бару, выхватила запотевшую бутылку "Боржоми". Стакан клацал о стиснутые болью зубы Чистоплюева, но мадам все же заставила его проглотить пузырящуюся жидкость. Газированный напиток произвел в желудке эффект маленькой бомбы, подняв осевшую было в пищу смертоносную пыль и выбросив ее на беззащитную слизистую плоть, увлекая остатки алмазной крошки дальше вниз. Чистоплюев тихонько завыл.
– Погоди, потерпи немножко. Это несварение, это сейчас пройдет. Если хочешь, позову врача? – участливо спросила мадам, прекрасно зная, что жалкий, голый Чистоплюев на врача ни за что не согласится. Хотя боль была ужасной, лишних глаз и ушей он не хотел. К тому же, близко знакомый с утехами чревоугодия, от несварения желудка несчастный депутат страдал не в первый раз.
Боль, однако же, и не думала проходить. Наоборот, рези в животе становились все нестерпимее. Ирена добросовестно суетилась вокруг, поила его минералкой. Чистоплюев через силу пил, и ему становилось еще хуже. Так продолжалось до четырех часов утра. Он не мог уже толком и говорить, лишь жалобно и бессильно стонал. Теперь Чистоплюев был согласен и на врача, на любого врача. Он попытался сказать об этом Ирене, уже одетой и сидевшей на корточках у кровати с обеспокоенным и напряженным выражением на лице. Но вместо слов изо рта тихой, тонкой струйкой потекла зеленая слизь, густо смешанная с кровью. Чистоплюева заколотило уже не только от боли, но и от страха. Ирена, видимо не понимая его желания, взяла его за потную, рыбью руку, нежно, с сочувствием погладила. Чистпоплюев из последних сил замотал головой, прохрипел что-то похожее на "ва-ва-а", попытался указать на телефон, но на это его уже не хватило.
Согласно инструкции, полученной ею от Фомы на использование "порошка счастья", Чистоплюев должен был вот-вот потерять сознание, и Ирена ждала этого момента. Когда мутные, стекленеющие от болей глаза Чистоплюева стали терять осмысленное выражение, мадам взяла свой реванш. Именно этой минуты Ирена ожидала как наибольшего своего удовольствия, как высшую награду за свое выступление перед этим кретином, вообразившим себя неотразимым донжуаном, перед ничтожным придурком, на которого ей пришлось расходовать свои великие женские таланты. И теперь уж она покажет ему свое подлинное лицо, и это будет плата за все. Конечно, никогда она не расскажет никому в Большом доме о своем поступке, но это их и не касается, даже и хозяина. Это дело касается только ее. Счет ее собственный из мира настоящего к миру ее прошлого, до конца не оплаченный и не отомщенный.
Когда Чистоплюев в последний раз сделал исполинскую попытку удержать взглядом окружающее, зацепится за него страдающим своим сознанием, мадам склонилась к самому его лицу. Она знала, что Чистоплюев смотрит на нее и еще видит ее, словно ищет в ней последнее свое спасение. И тогда Ирена улыбнулась, так как может улыбаться лишь торжествующий над жертвой "вамп", показывая в оскале свои изумительные зубки. Напускное милосердие начисто пропало с ее лица, оставив лишь то нечеловеческое выражение жестокой беспощадности, какое бывает у нечисти из злой ночной страшилки. И ей удалось уловить в ответ дикий испуг понимания, старающегося не верить и верить вынужденного, страх такой силы и глубины, что будь у беспомощного и обреченного Чистоплюева хоть малейшая возможность, он кричал бы от этого страха громче, чем от терзающего его внутренности огня. Но уже в следующее мгновение ошалевшее от ужаса сознание до конца жизни оставило депутата.
Когда мадам поняла, что Чистоплюев не может более видеть и слышать ее, она с отвратительным причмокиванием втянула в себя воздух и вернула "комарики" на место. Удовлетворенная, встала с колен, неторопливо прошлась по номеру, напоследок обернувшись, и показав бесчувственному Чистоплюеву непристойный, одинокий средний палец, торчащий из сжатого кулака. Больше мадам в его сторону не смотрела. Выждав для верности еще около получаса, она натерла до красноты глаза, придав им заплаканный вид, потом сняла трубку и вызвала ночного портье.
Было уже около пяти часов, когда Сашок, дежуривший в смену у "Метрополя", зоркий и незаметный, вернулся к припаркованному позади гостиницы джипу. Макс велел ему и Рите оставаться в машине до дальнейших его распоряжений, сам же отправился лицезреть финал пьесы, устроившись наблюдателем у занесенных снегом кустов со стороны Большого театра. Он видел, как на носилках внесли в кремовую роскошную "скорую" тело, накрытое одеялом, правда не с головой, но это вопрос времени, еще накроют, если не в "неотложке", так в больнице. А минут через десять-пятнадцать прибыли и люди в штатском. Собственно, миссия Макса на этом заканчивалась, страховать более было некого. С организацией, стоящей на страже, мадам разберется и без его помощи. Боевик Бусыгин, так и не применивший в эту ночь свои удивительные способности, отряхнулся от снега, собранного с кустов, и тишком кружным путем пошел к машине. Потом, уже раскинувшись на просторном заднем сидении джипа, набрал Большой дом и сообщил хозяину. Это означало не только подтверждение успеха всей операции, но и, как прекрасно понимал Макс, сигналом к действию для "архангела". После его звонка Миша, который уже полночи куковал в гостях у Шахтера, исподволь наблюдая и нагнетая беспокойство Иосифа Рувимовича, должен был разворошить осиное гнездо.
Но имелось и еще одно обстоятельство, о котором из всех присутствующих в несущемся по ночной Москве "Паджеро", был осведомлен пока один только Максим. В тот вечер персональный его номер мобильного телефона, только для внутреннего пользования и не известный никому, кроме членов общины, не имел права набирать никто, кроме мадам. Даже для хозяйских экстренных указаний существовал другой, стационарный, установленный рядом с коробкой передач. Один сигнал на этот личный номер прозвучал в свое время, второй, предусмотренный на случай провала, к счастью не состоялся. Но был еще один звонок. От того единственного человека, которому хозяйской волей разрешено было знание этого номера, но который понятия не имел ни о запрете, ни об операции. Без пяти минут одиннадцать в казино Максиму позвонила Маша.
Это было неожиданным и непредусмотренным никакими инструкциями поворотом. С одной стороны Макс имел полное право проигнорировать вызов с неизвестного ему номера, не определившегося на дисплее и оттого подозрительного, но с другой стороны, Макс, как настоящий профессионал не мог пройти мимо незапланированного события, не прояснив его в такой ответственный момент. Поэтому Бусыгин принял решение все же ответить на звонок.
Сначала он, обеспокоенный и ожидающий из трубки только дурных вестей, даже не понял сразу кто говорит. И лишь позже попросив собеседника повторить, что же ему, вернее ей, от него надо, Макс вник в суть и сообразил, что лично к нему полученное сообщение имеет отношение лишь косвенное. Давешняя девушка Маша просила его передать Яну, и по возможности срочно, что она, Маша, ожидает его в вестибюле Ленинградского вокзала под табло с расписанием поездов, и будет ожидать сколь угодно долго, потому как идти ей некуда. В голосе девушки звучали чуть ли не трагические рыдания вперемешку со страхом и прямо-таки детской растерянностью, и Макс клятвенно пообещал передать все немедленно по назначению. Тут же, повинуясь безотчетно велению здравого смысла, Бусыгин взял с Маши обещание никуда не уходить, заодно уточнив и место ее пребывания.
Делать было нечего, и Максу пришлось нарушить радиомолчание, хотя риск был велик. В любую минуту мог последовать вызов Ирены, связь была предусмотрена только в одну сторону. Подозвать Сашка или Ритку с их постов у бара и за соседним с Максом игровым столом, Бусыгин не отважился. По сценарию все трое пришли как бы сами по себе и не имели права афишировать на публике связь друг с другом, и тем более привлекать постороннее внимание. Пришлось тактично и незаметно отойти в тихий уголок и набрать Большой дом. Хозяин в ответ на краткое изложение ситуации ответил одним словом: "Понял!", и сразу дал отбой. Но ни взбучки, ни недовольства в сторону Бусыгина не прозвучало. И Макс решил, что поступил правильно. И тут же выбросил эту историю из головы до лучших времен, сосредоточившись целиком на предстоящей им операции.
Маша не думала шутить или разыгрывать Балашинского. Она действительно ждала его на Ленинградском вокзале, месте, неизвестно почему пришедшем на ее расстроенный ум. Может быть в ней отозвались грустные и жалостливые ассоциации с бездомными людьми, традиционно ищущими приюта на станциях путей сообщения. Может сработали сквозь душившее ее отчаяние остатки здравого смысла, подсказавшие ей, что ожидание на вокзале совершенно бесплатно, и оттого немаловажно для человека с двадцатью тысячами рублей в кармане, к тому же многолюдье и хорошая освещенность гарантировали хоть какую-то видимость безопасности для одинокой, убитой горем девушки.
А ведь день так хорошо начинался. Конечно, досадно было, что Ян отменил прогулку, но с другой стороны, все же явился лично ее предупредить, и, похоже был раздосадован не меньше нее. Значит не врал, и Маша значила для него достаточно много. По крайней мере из его поведения Маша сделала именно такой вывод.
Что же, Маша Голубицкая, как и сказала Яну, вернулась к своим студенческим обязанностям. Которые последнее время напрочь исключали из себя вечернюю часть. Мысли ее вертелись по нескончаемому кругу вокруг любимого и сегодняшнего несостоявшегося свидания, оттого на тренировке в манеже взор ее был рассеян, а слух отсутствовал вовсе, игнорируя замечания преподавательницы-физкультурника. И конечно Маша совсем не обратила внимания на встревоженные, беспокойные взгляды, которыми так и стреляла в ее сторону Леночка, волей обстоятельств и юношеских спортивных заслуг занимавшаяся тут же в легкоатлетической группе. Сама Машенька отбывала физкультурные часы в секции спортивной гимнастики, которой увлекалась в далеком детстве и даже имела разряд. Правда, сегодня разгневанная тренерша пригрозила перевести Машу за злостные пропуски в общую группу, но девушку ее угрозы отчего-то совсем не расстроили. Ради встреч с Яном она была согласна и на инвалидную.
После последней пары, в семнадцать десять, Маша спустилась в гардероб и стала в очередь за одеждой. Пристраиваться к стоявшим впереди одногруппникам она не стала, не хотелось толкаться, да и отношения ее с ровесниками были далеки от приятельских, словно Маша окончательно сделалась для них чужой, белой вороной. Ее неведомая, щекочуще интригующая личная жизнь создала вокруг Голубицкой нечто вроде санитарной зоны, и не было добровольцев лазить через колючку. По своей инициативе Машенька никаких шагов к сближению не делала, и потребности в таковых не ощущала. Потому, спокойно и в одиночестве стояла в хвосте многоногой и многорукой студенческой гидры, с боем выдиравшей у красных и потных гардеробщиц предметы верхнего туалета, кои можно было получить без всякой толкотни и ругани каких-нибудь двадцать минут спустя после часа пик.
Спустя некоторое время, все еще ожидая своей очереди в изрядном отдалении от гардеробного барьера, Маша от скуки стала лениво озираться вокруг, разглядывая наряды прихорашивающихся у стенного зеркала старшекурсниц и забавляясь видом трущихся вокруг мальчишек-студентов, добывших куртки своим подругам и напрашивающихся на их одобрение. И вдруг увидела и не поверила своим глазам. У сбегавшей сверху правой половины лестницы стояла ее мать собственной персоной, а рядом суетилась Леночка, испуганно и торопливо что-то ей говорившая.
Маша не знала и не могла знать, что вот уже больше недели как Надежда Антоновна, неумолимо, как смерть, ежедневно являлась на факультет, чтобы выслушать очередной Леночкин рапорт, словно боялась пропустить нечто, что Леночка могла не донести до нее, пропусти Надежда Антоновна хоть один визит. Отчеты Леночки были однообразны и безнадежны – страшный тип неукоснительно объявлялся в обед, и дочь, также неукоснительно отбывала с ним в неизвестном направлении. Чего хотела Надежда Антоновна от добросовестно штампованных сообщений, она уже не знала и сама. Но заговорить с Машей все не решалась, боясь сознаться в своем продуманном шпионаже и, что важнее, боясь услышать ответ, после которого многое в жизни Надежды Антоновны могло необратимо измениться.
Но в этот день случилось непредвиденное. Маша никуда не уехала, а Леночка, конечно, не имела возможности предупредить старшую Голубицкую. И Маша увидела обоих, а, спустя мгновение мать увидела ее. Леночка предусмотрительно тут же рванула по лестнице вон из раздевалки, а Надежда Антоновна направилась к дочери.
– Мама, что ты здесь делаешь? – Маша была совсем не обескуражена, только удивлена.
Надежда Антоновна на вопрос не ответила, лишь холодно поздоровалась с дочерью:
– Здравствуй, Маша, – сказала она, словно постороннему человеку, и уж вовсе сухо добавила, – пойдем, нам надо поговорить.
По дороге домой, однако, никакого диалога между ними не состоялось. Обе, словно сговорившись, молчали на улице, молчали в метро и в автобусе. И, лишь переступив порог дома, даже не раздевшись, застегнутые и замотанные в шарфы, не сняв и шапочек, набросились друг на друга.
– Мама, что происходит? Ты меня будто преступницу конвоируешь. У тебя глаза, как у надзирательницы женской колонии, – Маша, чье напряжение копилось всю дорогу, заговорила сразу на повышенных тонах.
– Интересно, откуда ты можешь знать о женских колониях? Впрочем, со своим дружком до тюрьмы тебе не далеко! – Надежда Антоновна, забыв об осторожности, взорвалась атомным грибом. Нервные ее силы подошли к последнему пределу и, незаметно для нее самой, этот предел тут же перешли. Теперь сорвавшаяся с барабана цепь раскручивалась необратимо и стремительно.
– Дружком? Каким еще дружком? – не поняла Маша. Ян и тюрьма были для нее понятиями столь противоположными и несопоставимыми, что не могли стоять под общим знаменателем.
– Каким? Тем самым. С которым ты вечерами прохлаждалась, а мне врала, да-да, врала, нагло, в глаза, что в библиотеке загибаешься! – Надежда Антоновна неслась без тормозов, и кювет ее уже был близок, – Я знаю, я все знаю. Что же я за мать тогда, если за своим ребенком уследить не могу!
– А-а, так вот причем тут Ленка! – Маша, хоть и оказалась в мгновение ока разбитой и уничтоженной, однако, аналитические, четкие ее мозги прирожденного ученого тут же, независимо, свели факты воедино, – Ты что же, следила за мной? Как в кино шпионила?
Слово было произнесено, обозначив не самый красивый и порядочный поступок в жизни доктора Голубицкой. Но Надежда Антоновна вошла в раж, из которого был лишь один выход, и отмела прочь оправдания, как несущественные и никчемные в кульминационный момент ее истины.
– Соплячка! Тварь неблагодарная! Я тебя растила, лелеяла, я за тебя сражалась, и вот на тебе! Кушай, мамочка на здоровье! Вырастила потаскушку и брехунью! – Надежда Антоновна сорвалась на крик. Но не ради убедительности и самозащиты, не ради атакующей обороны, не ради сокрытия под громом слов собственной неправоты. Нет, это было то самое состояние, которое хоть однажды в жизни приходится испытать любому человеку, душевно мающемуся от внутреннего, тлеющего гноем, нарыва. Когда в один непрекрасный и тошнотворный момент набухшая капсула не выдерживает напора, и воспаленный, горячий поток зловонно разливается вокруг.
– Мама, что ты говоришь? – Маша и слушала, и не слышала. И не верила тому, что слушала, пытаясь отбросить подальше от себя то, что слышала, – За что ты сражалась? Это всегда только твои нервы! Ты из себя выходишь на пустом месте, и сейчас, и всегда.
– На пустом месте? Ах ты, тварь!.. Тварь…, – повторила Надежда Антоновна тихо и зло, незаметно для себя самой скатываясь в беспомощные, гневные слезы, – Так я и знала! Так я и знала и всю жизнь боялась! Вся ты в своего папашку, поганца неблагодарного! Не зря я мучилась, предчувствовала, сердцем исходилась вся! Нет, не зря!… Господи, что же я говорю! Какое там – не зря! Зря, зря! Напрасно все, что выросло, то выросло! Из змеиного яичка…!
– Мама, да ты что? Ты с ума сошла, да? Отец здесь причем? – Маша говорила слова наугад, не зная, как остановить поток сквернословий и обвинений, больше по наитию, чем в действительности отдавая себе отчет, как лучше успокоить мать и попытаться хоть как-то договориться.
– При том. Его кровь, и гены его, – Надежда Антоновна перестала вдруг кричать. Голос ее сделался твердым, неприятно глухим и зловещим. Слезы текли по лицу, она утирала их краем пушистого, мохерового шарфа, – И ты тоже… Связалась. А с кем связалась? С уголовником. Учебу забросила. Корми тебя, а потом и передачи носи? За что мне все это?
– Он не уголовник, – сказала Маша. Ей стало на мгновение легче. Показалось вдруг, что если правильно все объяснить про Яна, про себя и их необыкновенные, нежные отношения, то мать поймет. Успокоится, убедится, что страшного не произошло, и, пусть немного попереживает и поворчит, но скоро все снова станет между ними хорошо. Или хотя бы выносимо. А главное, можно будет не таиться и ничего больше не скрывать, и сегодняшнее испытание и объяснение пойдут на пользу всем.
– Да, и кто же он такой? – в голосе матери был только чистый, отравленный ядом, выпад. Но Маша еще надеялась.
– Человек. И очень хороший. Он меня любит, я думаю, даже сильно. А я люблю его. Просто он странный немного и занятой. А то, что он старше меня, так это даже хорошо. С ним интересно, и надежно, наверное. Или лучше какой-нибудь мальчишка-студент, из которого неизвестно что еще может получиться?
– Из твоего "человека" уже получилось. Причем известно что. Невооруженным глазом видно. Всем, даже твоим подружкам, кроме тебя, – Надежда Антоновна сделала паузу, чтобы набрать побольше воздуху в грудь. Словно решалась на что-то, – В общем так, Маша. Мое условие такое: чтобы о твоем "человеке" больше не было ни слуху, ни духу. Из дома ни на шаг никуда. В университет и обратно – вместе со мной. Придется на работе договариваться, но ничего.
Маша попыталась было встрять в эту уничтожающую тираду, вставить хоть слово, но Надежда Антоновна не давала ей заговорить.
– Это еще не все. Сейчас же, немедленно, будешь просить у меня прощения. За мой позор и унижение, за то, что плюнула мне в лицо! – Голубицкая старшая опять сорвалась на крик, под конец уже не понимая, что именно она выкрикивает, – На коленях, будешь просить, прямо здесь! Твой отец, подонок, не просил, так ты будешь, за себя и за него ползать! И живо мне сюда адрес или телефон твоего хахаля, что там у него есть! Я ему все скажу! Сейчас! Немедленно! Ну?
Маша стояла в узеньком, полутемном коридоре, словно в страшном, мутном сне. Будто по ту сторону мира и добра, за гранью которых попала в нереальную злую трясину. Но единственное, что было еще доступно ее пониманию, очевидно и однозначно светило ей маяком – ни в коем случае не поддаваться и не совершать то, чего требовала от нее мать. И Маша тихо, не своим, охрипшим вдруг голосом спросила:
– А что будет, если я ничего этого не сделаю?
– Что будет? – Надежда Антоновна на секунду выпала из бушующего состояния, удивленная неожиданной репликой. Но тут же ураган забушевал с удвоенной силой, – Не сделаешь? Тогда убирайся вон из дома, к нему, в колонию, в бордель, под забор, куда угодно! Не будешь больше сидеть на моей шее, и нервы мне мотать больше не будешь! Тебе понятно?
– Мне понятно. Что же мама, тогда до свидания, – Маша, благо была одета, повернулась к двери. На мгновение замешкалась, полезла в сумку. Вытащила ключи из бокового кармашка, аккуратно положила их, не бросила, на пол. И вышла, как было предписано, вон.
Надежда Антоновна осталась одна стоять в полумраке коридора. И стояла так еще долго. И чем дальше уходило невозвратное время, тем легче становилось у нее на душе. Будто освободилась от ноши, которую несла через силу, много лет, истощив все запасы человеческой выносливости. И, когда груз был скинут, словно разогнулась и успокоилась. Возвращения можно было не опасаться. Не такой человек ее Маша, чтобы пойти на попятную, разве только она сама позовет дочь. Но не позовет, с нее хватит. Для Надежды Антоновны она все равно, что умерла. Неожиданно вдруг, старшей Голубицкой стало ясно, на сколько проще и лучше было бы для них обеих, если бы Маша не словно, а в самом деле умерла, ушла бы бесповоротно и навсегда, без соблазна возврата. Но Надежда Антоновна тут же одернула сама себя, будто захлопнула дверь перед такими мыслями. Как бог даст, так все и будет!
Как очутилась она на Ленинградском вокзале, Маша представляла смутно. Здравая доля ее взбаламученного рассудка еще в какой-то степени управляла ее действиями, направляла и побуждала к движению и поступкам. Ленинградский вокзал эта же доля выбрала по странным ассоциативным предположениям того, что европейские и скандинавские направленности поездов, отправляющихся с перронов именно этого вокзального сооружения, гарантируют подобие цивилизации и безопасности. Но оказавшись внутри многолюдного здания, Маша, потолкавшись немного среди людей, как приблудная молекула в броуновском движении, пришла в себя и растерялась. Дальше то что? На вокзале жить не будешь. Идти же в реальности было совершенно некуда. Возникали и смутные идеи о студенческом общежитии. Но кто бы оставил там обеспеченную жилплощадью москвичку? За деньги может и оставили бы, но из наличности имелись сущие копейки. К подругам? Если бы они были!.. Но господи! Куда же еще ей податься, у кого просить помощи и поддержки, как не у того, с кем больше всего в жизни она жаждала быть рядом! С ней была сумка, а в сумке записная книжка. И телефонная, не использованная до конца, карта. Оставалось только найти автомат.
Когда Маша набрала номер и услышала приветливое: "Добрый вечер, я вас слушаю", то, не выдержала и разрыдалась. Слезы ее были сродни тем, что проливает потерпевший крушение бедолага, долго и мужественно сражавшийся с морской стихией, и рыдающий на берегу, после того, как милостивая волна наконец вынесла его на сушу. Ангельский благовест голосом Максима повелел ей оставаться на месте и ожидать. Что Маша с надеждой и благодарностью в точности и исполнила. Впрочем, никакого другого выхода у девушки все равно не было.
Сколько прошло времени Маша не знала и не считала. Но в последствии ей стало казаться, что между звонком и появлением Яна на вокзале прошло не более нескольких минут. Чего в действительности, конечно, никак не могло быть. Балашинский добирался до Комсомольской площади не меньше полутора часов. Из всех машин в гараже оставался только парадный "глазастик", но и от него толку было мало. Балашинский самостоятельно вряд ли смог бы его даже завести, не говоря о том, что Ян Владиславович не имел ни малейшего представления, где могут находиться ключи от зажигания. В Большом доме с началом операции оставались только четверо: девушки, Стас и Фома. Из всех троих для поездки Балашинскому было предпочтительнее выбрать Фому, который худо-бедно, но управлял автомобилем и, главное, был в курсе хозяйских сердечных неурядиц. Пришлось идти наверх и будить. Фома, операция там или нет, спал сном истого праведника. Однако, услышав, в чем дело, не он один, и Лера держала любопытные ушки на макушке, собрался в рекордно короткий срок. Но, к несчастью, блаженный "апостол" тоже не имел понятия, где могут пребывать ключи от "мерседеса". Пришлось срочно будить остальных. Но ни Стас, ни тем более Тата подобной информацией не владели. Профессиональных угонщиков или, на худой конец, умельцев-электриков среди разбуженных тоже не оказалось.
Выход нашел "апостол". Будучи, из чистого любопытства, осведомленным в делах коттеджного поселка, Фома заявил, что у сменной охраны на въезде обязательно должна быть машина. Конечно, не лимузин, но с мотором и на четырех колесах. Балашинский тут же кинулся за ворота. Фома крикнул, что поедет вместе с ним, все равно уже одет, а там, на месте, мало ли на что сгодится, и выбежал следом.
Кинутые с размаху на стол в сторожке полсотни баксов тут же подняли стражей ворот на ноги. И незамедлительно прогремел стройный хор голосов: "Что нужно делать?". Спустя еще минуту старая, обшарпанная, но бодрая пятерка покидала пределы поселка. Охранник Дмитрич, Фома и Ян Владиславович резво катили на Ленинградский вокзал.
На вокзале Балашинский, не оглядываясь, помчался под табло в зал ожидания. Фома еле-еле поспевал следом. Но все-таки отстал. Когда "апостол" добрался до нужного места, ему оставалось только наблюдать издалека захватывающую картину. И не ему одному. Многие из ночных постояльцев вокзала, те, которые не спали или спешили по своим делам, тоже получили порцию бесплатного зрелища. Посреди зала стоял хорошо одетый, повелительного вида мужчина с отрешенным и растроганным лицом, а на плече его в голос рыдала прелестная, нежная девушка, с длинной белокурой косой. Оба, и мужчина, и девушка, вели себя так, словно находились не в переполненном и плохо пахнущем вокзальном отстойнике, а будто бы посреди бескрайней и безлюдной пустыни, где вместо недоумевающих и забавляющихся зевак вокруг были только небо, дюны и песок. И ничего, кроме бескрайнего песка под ослепительно золотым небом.
ГЛАВА 20. РЕГТАЙМ
Битый час Миша и Иосиф Рувимович только устало смотрели друг на друга, уже даже не переговариваясь. Не хотелось, да и ни к чему. В полупустом зале "Шатильона", клуба и казино, догуливали пятницу последние парочки. Шлюхи и те давным-давно разъехались. Если Шахтер и недоумевал, почему его именно сегодня вытащили в город, в такое шикарное заведение, для пустых посиделок, то свои сомнения он держал при себе. Не станет такой серьезный человек, как Михаил Валерьянович попусту тратить время в ночных клубах, а если и станет, то компанию себе найдет повеселее, чем утомленный делами, скучный старикашка. На самом деле Шахтер в старики и не думал записываться, но и подходящим напарником тридцатилетнему парню себя не считал. Однако, Иосиф Рувимович мудро рассудил, что Миша вызвал его неспроста, а не иначе, как в связи с важным и опасным делом, порученным его конторе.
"Шухеру Балашинский нагоняет, чтобы цену себе набить. Ну, да ничего, пусть. Его карта – в сброс. Опасен и знает много. Вообще, зря я его в Москву потащил… Ох, лишь бы дело сделал, а там…", – думал про себя Иосиф Рувимович, но виду, конечно, не подавал, продолжая вымученно улыбаться Мише, – "Сидим, ждем. Чего ждем? Зачем сидим? Ишь, какой серьезный. Опять на часы смотрит. Что толку, скоро светать начнет. Может у них, не дай бог, не заладилось? Тогда плохо". Но тут, словно в ответ на его беспокойство, в кармане у Миши запела "Моторола". Шахтер оживился, вопросительно посмотрел на Мишу. Тот слушал молча, в трубку ничего не говорил. Выждал после отбоя несколько секунд, принял торжественную позу, и только затем сказал:
– Иосиф Рувимович, ваш заказ выполнен.
У Шахтера сразу отпустило внутри, одновременно ему до смерти захотелось дать хорошего пинка Михайле Валерианычу за его идиотские приемчики. Но Шахтер только огляделся по сторонам, и, удостоверившись, что в окрестности нет ни одной живой души, даже халдейской, наклонился к Мише и тихо, но вполне разборчиво спросил:
– Как все прошло?
Миша тоже в свою очередь наклонился к Шахтеру и, уцепившись намертво взглядом за его глаза, также тихо ответил:
– Хорошо, – и, все еще не отпуская тем же взглядом от себя Иосифа Рувимовича, добавил, – клиент скончался в центральной клинической больнице предположительно от прободной язвы. Впрочем, вскрытие покажет.
Если у Миши Яновского до сего момента и были чувства благорасположения и симпатии к Шахтеру, то в следующую же за этим секунду им пришлось бесславно улетучиться. Идя на сегодняшнюю встречу, Миша надеялся в первую очередь на то, что предположения, сделанные хозяином о возможном предательстве Иосифа Рувимовича, не подтвердятся. И только во вторую он думал о том, что ему, в самом нехорошем случае, придется взять на себя роль карающего правосудия.
Еся, бледный как полотно, с детским ужасом смотрел на Михаила Валериановича. Такой поганки он не ожидал, не был к ней готов. Какая еще больница, какая язва? То есть, никакого шума не будет, и прокуратура дело не заведет? Даже если контора по доброте душевной траванула Чистоплюева, и вскрытие это докажет, то совсем не факт, что преступление непременно станут расследовать, а не спустят натихушку на тормозах. Во избежание, так сказать, скандала. Что же тогда получается? Что контора заказ выполнила, а его, Есю, утопила? Ему, дураку, надо было заранее обговорить способ ликвидации. Впрочем, о чем это бишь он? Тогда у Балашинского возникла бы масса вопросов и, что еще хуже, небеспочвенных подозрений. Ай, да Ян Владиславович, ай, да сучий сын! Но тогда получается, что Балашинский знал о подставе с самого начала? Не дай то его, Иосифа Рувимовича, еврейский бог! Хотя беспокоиться об этом преждевременно. Может добросовестный Ян Владиславович просто увлекся чистотой исполнения. Но зачем тогда этот адвокатский ублюдок целую ночь продержал его в клубе у себя на глазах?
Это "зачем", как и, впрочем, все остальные его мысли, так ясно читались на лице Иосифа Рувимовича, что Мише уже не нужны были иные доказательства его вины. Он лихорадочно принимал решение.
Решение же Миши было достойно не мальчика, но мужа. Свернуть Шахтеру шею тут же в клубе, попросту в дружеском объятии пережав артерию, тем самым имитируя сердечную недостаточность, труда не составляло. Уйти, утечь после исполнения приговора для Миши тоже не являлось проблемой. Но он отбросил такой способ действия как недостойный своего статуса. Иезуитская школа хозяина дала себя знать. Месть будет полновесной и утонченной, кара – виртуозной в своем исполнении, пусть и немного растянутой во времени.
На лице же "архангела" ни единая его мысль, ни волна гнева и возмущения предательством Шахтера, не отразились ни в малейшей степени. Самообладание адвоката оставалось железным, черты – непроницаемыми и неподвижными. А в голове стройным изяществом линии обозначился план возмездия. С момента же заявления о кончине прошло всего-навсего не более минуты.
Шахтер тоже сумел взять себя в руки, и рассудив здраво, что его молчание становится неестественным и подозрительным, заговорил:
– Что же, Михаил Валерианович, огромная моя благодарность за решение проблемы. Надеюсь, ваша фирма осталась в данных обстоятельствах, так сказать, за кадром?
– Само собой. Спасибо за беспокойство. Но оплошностей мы не допускаем, как вы уже могли убедиться за время нашего с вами сотрудничества, – ответил ему Миша, не пытаясь придать своим словам лишнего намека, но и не скрывая потенциальной опасности их смысла для собеседника.
– Что же, вы безусловно правы. А раз так, то думаю, что нам пора расходиться, – Шахтер спешил поскорее покинуть тревожное общество адвоката Яновского. Тем более, Иосифу Рувимовичу экстренно необходимо было собраться с мыслями и начать соображать, какие контрмеры он вынужден будет принять в связи с неудобоваримой кончиной Чистоплюева. Ведь в деле он был не один, а объяснение его с компаньонами грозило чрезвычайными осложнениями.
– Одну минутку, Иосиф Рувимович, если вы позволите, – остановил Шахтера повелительно вопросительный голос Миши, – я, собственно, хотел поинтересоваться, когда вы произведете расчет за выполненный заказ? Надеюсь, платить вы намереваетесь обычным способом?
Шахтер от души чертыхнулся про себя. Еще одна неприятность и опять целиком на его плечи. Сумма контракта с конторой на сей раз представляла собой величину просто астрономическую. Договариваясь с Балашинским о цене, а речь шла не больше, не меньше, как о ста тысячах в наличной американской валюте, Шахтер, конечно, имел в виду, что денег платить вовсе не придется. А если и придется вдруг в силу выгодных обстоятельств, то и расходы будут по справедливости поделены между всеми, участвующими в деле компаньонами, то есть, разделены на четыре части. Но только лишь в том случае, если ликвидация пройдет при обговоренных с пайщиками условиях. И гарантию исполнения этих условий Иосиф Рувимович, как последний болван, возложил на себя. Очень уж ему хотелось избавиться от маячившей за его спиной фигуры загадочного и плохо контролируемого Яна Владиславовича, так тяготившей его в последнее время. Теперь же платить придется непременно и, что особенно нехорошо, исключительно из его, Иосифа Рувимовича, кармана. Может, сто тысяч для него и "тьфу!", пустяк, но не сейчас и не в наличной валюте. Когда деньги задействованы практически до копейки, а те, которые можно в срочном порядке реализовать, понадобятся ему самому, чтобы утрясти неувязку с компаньонами. Но и не платить конторе, да что там не платить, даже медлить с оплатой было смерти подобно. И потому Шахтеру пришлось дать исчерпывающий и благоразумный ответ:
– Расчет произведем завтра, вернее уже сегодня, по договоренности. Разумеется, обычным способом. Я могу идти? – спросил он на прощание с подчинительными интонациями, выдававшими его в глазах Миши с головой. Никогда ранее ничего подобного "архангел" от самоуверенного и снисходительно надменного Шахтера не слышал. Только великий страх и полный провал заставили звучать командирские литавры этого набитого деньгами авантюриста в искательной тональности.
Миша в ответ только кивнул. На прощание никто из них не сказал даже обычного "до свидания", не подал традиционной руки. Причем Иосиф Рувимович, занятый уже с головой обрушившейся на него проблемой, не отдавал себе отчета в необычности своего и Мишиного поведения. Зато "архангел" все видел и из всего сделал выводы.
Когда Миша возвратился в Большой дом, обитатели его все еще глухо и мирно спали. Кроме хозяина, одиноко дожидавшегося его в малой гостиной при свете телеэкрана, вещавшего ранние новости. Даже Тата, первая утренняя пташка, еще не гремела кофейником в столовой. О ночных событиях и приключениях хозяина на вокзальных просторах столицы Миша, разумеется, ничего знать не мог.
Вопрос, которым встретил его Балашинский, сразу отрезвил Мишу от упоения собственными успехами.
– И как ты решил с ним поступить? – спросил его хозяин, даже не обернувшийся в сторону вошедшего "архангела".
Господи, выходит, что хозяин все знал. С самого начала, до того, как он, верный страж, разоблачил и вывел на чистую воду врага. Никогда, никогда ему не сравнится с тем, кого он выбрал своим наставником, поводырем и божеством. Один только этот тон спокойной уверенности и почти ясновидящего знания, каким обратился к нему хозяин, наполнил всю Мишину душу, до самых ее краев, благоговением и восторгом подлинно выбранного им служения своему владыке. И Миша, желая поскорее заслужить и дальнейшее поощрение, немедленно стал излагать свой план.
– Я подумал, и решил, что справедливо будет, если предатель понесет наказание от руки тех, кого хотел погубить, – с пафосом начал "архангел", но тут же осекся, поняв, что впадает в излишнюю библейскую патетику. Далее, помолчав и перестроившись на нужный лад, продолжал он обыденно и спокойно, – Что же, нужно, как мне кажется, просто-напросто слить без шума известную нам информацию тем, против кого была направлена акция. Умолчав о нашем в ней участии, само собой.
– Как? – только и спросил хозяин. Но вопрос прозвучал, как дополнительная задачка со стороны благожелательного преподавателя успешному студенту.
– Ну, нужный человечек имеется. Гимор ведь теперь как бы одинок, вот мы и поможем ему найти нового хозяина. А если он не совсем дурак, а он далеко не глуп, уж поверьте, то о нас он будет молчать даже под пыткой. Тем более покровительство нашей фирмы и в дальнейшем лишним для помощника Чистоплюева не будет. Тут получится взаимная услуга.
– Да, обмен равноценный. Наша безопасность на его, – тут Балашинский все же оторвался от экрана и посмотрел, наконец, на Мишу. И глаза его были довольные и бесшабашно веселые, – А ты молодец!
И Миша расплылся в улыбке, счастливой и неудержимой, чего раньше с ним много лет уже не случалось, разве вот только что с Ритой, но это было совсем другое дело. Однако, строгий кодекс верного помощника и рачителя общинных интересов тут же взял верх. Радость от похвалы никуда не денется, а вот дела ждать не могли. Если вопрос разъяснить можно сегодня, то к чему откладывать на завтра. Иначе, какой он к черту "архангел" и хранитель?
– Ян, если разыграть все правильно, а уж я не ошибусь, то Шахтеру конец. Тогда мы остаемся без покровителя, или, иначе говоря, без крыши. Нам, стало быть, придется искать другую?
– Не придется. Мы сами будем своей крышей. Если ниша освободилась, то надо ее занять.
– ??, – Мишины глаза чуть не вылетели из орбит от неожиданности, но с хозяином всегда так, не знаешь на каком свете себя считать в каждый следующий момент, – Ян, ты что же, хочешь, чтобы мы вышли в свет? Но ты же сам всегда был против этого! А теперь все наоборот?
– Бог ты мой, конечно, нет, – хозяин расхохотался, словно он удачно сострил, а Миша на эту шутку купился, – мы будем работать на себя, хватит с нас Шахтеров. А когда наберем достаточно средств, уберемся из страны. Хоть к черту на рога, хоть на мою историческую родину. В общем, в любое спокойное место. Надеюсь, в этой странной России никого из нас особо ничего не держит?
Конечно, не держит! У Миши все близкие давно и мирно покоятся на краснодарском городском кладбище, остальные члены общины, имеющие родственников, для последних все равно что покойники. Кроме разве что Риты. Но ее семейству ровным счетом наплевать, где будет проживать их падчерица, дочь и сестра, лишь бы деньгами помогала. Ритке тем более все равно. Бессмертная ее сущность давно и естественно слилась с ее "я", и близких своих Рита Астахова рассматривала теперь не более, чем кратковременный эпизод на своей теряющейся в бесконечности жизненной дороге.
– Нет, Ян, не держит. Никого и ничего, – твердо ответил Миша хозяину. Почувствовав, что разговор исчерпал себя, спросил, – наверное, теперь мы можем разойтись и отдохнуть? А через пару часов, как только откроется думское присутствие, я тут же свяжусь с Гимором. Он, конечно, будет суетиться в больнице и на устройстве похорон. Но я же не обязан об этом знать.
– Все верно. А сейчас иди. Отдых ты заслужил, – сказал ему в ответ Ян Владиславович так, словно награждал царской милостью. Но уловив некую вопросительную тень на Мишином лице, вдруг, по-детски озорно и обрадованно хмыкнул. А после тень эту разъяснил, нагнав, однако, еще больше тумана, – ты иди, иди. А я еще посижу. Мне надо непременно дождаться пробуждения одного человека.
Но в эти ранние, предрассветные часы из всей их дружной семьи бодрствовал не один только Ян Владиславович. Ирену взяли в оборот сразу же, как только страждущее тело Чистоплюева покинуло на носилках гостеприимный "Метрополь". Пока, правда, велась учтивая беседа между нею и охраной в штатском, по обязанности интересовавшейся происшествием. Блюстители неприкосновенности персон "грата" были вызваны по настоянию врача, прибывшего со "спецскорой", и очень недовольного увиденной клинической картиной.
Беседа между Иреной и двумя благовоспитанными блюстителями в добротных, темно-серых костюмах, продолжалась уже более часа. Иван и Костя, как мило и любезно охранники позволили себя именовать Ирене, о подробностях ночного куролесенья Чистоплюева интересовались крайне осторожно и даже слегка. Впрочем, картина традиционного разврата вне строгой супружеской клетки была и без того ясна и банальна. Поскольку же партнерша депутатских игрищ и забав на сей раз оказалась не обычной модельной шлюшкой, а вполне обеспеченной и самодостаточной "бизнес"-леди, то и тон Кости-Ивана не выходил из уважительно-снисходительного звучания. Мол, интерес служебно обязательный, долг есть работа, посидим-поокаем, да и пойдем себе с миром. А обожравшегося желудочно и генитально депутата пусть потихоньку себе откачивают медики. Но Ирена обостренным и развитым в передрягах инстинктом понимала, что дело так просто не кончится, и милые Иван-Костя всего лишь первые ласточки перед грядущей бурей. Ястребы и стервятники вот-вот на подходе.
И сама себе прозорливо нагадала. Хотя Ирена была готова и заранее репетировала. У блюстителей запели передатчики, причем у обоих слажено одновременно. Тоже из разряда потусторонних парадоксов, что машинально отметила про себя мадам. Лица Кости и Ивана сделались враз официальными и напряженными, но, однако, все же не хамскими и глумливыми.
– Ирина Аркадьевна, обстоятельства изменились и не в нашу с вами пользу, – строго сказал Иван или Костя, Ирена не потрудилась запомнить кто из них конкретно кто, но это было и не важно, – нам с вами придется еще какое-то время составить компанию друг другу, пока не подъедут, кхм.., как бы сказать, наши коллеги по службе.
– Что-то случилось? Что-то нехорошее? Совсем нехорошее? – мадам рывком подалась в кресле навстречу. Мольба и тревожное ожидание на ее расстроенном лице были воистину неподдельными, а сверхзадаче всей сыгранной ею мизансцены позавидовал бы и Станиславский, – Что с Ленечкой? Не молчите же! Я прошу вас, вы скажите, мне можно! Умоляю, господи!
Видавшие всякие виды Костя-Иван, однако, на секунду все же стушевались и замешкались. Женщина, трепетавшая перед ними в ожидании ответа, вот-вот готова была разрыдаться, и как она называла этого распутного борова! Надо же, Ленечка. В охранных кругах этого Ленечку для простоты обозначения именовали не иначе как "тихой жопой". Что и говорить, любовь зла, повязка на глаза! Но молодую, элегантную, пусть и легкомысленную даму, Косте-Ивану стало жаль. Потому блюстители заюлили и вильнули хвостами. Пусть поганцы с "Петровки" сами с ней объясняются, не хватало еще бабских обмороков и истерик. Все равно ничем не поможешь.
– Да успокойтесь, вы, Ирина Аркадьевна! – чуть прикрикнув, призвал мадам к порядку один из Костей-Иванов, – Ничего не случилось. Просто в больнице диагноз пациента вызвал некоторые подозрения.
Второй Костя-Иван радужно закивал в подтверждение, словно определитель на детекторе лжи. Мадам еще поозиралась, переводя недоверчивый взгляд с Ивана на Костю или наоборот, и, наконец, просверлив их на вшивость, попросила налить ей выпить для успокоения. Стражи, облегченно повздыхав, просьбу тут же исполнили. А за компанию плеснули и себе. Выпивали молча, как на поминках. Что в самом деле соответствовало ситуации.
Вскоре в дверь номера решительно и громко постучали, так, что ясно было – пришли не горничная и не коридорный, а кто-то, кто и в "Метрополе" имеет право ломиться в дверь. Ирена внутренне подобралась как кобра перед броском, выставив наружу испуг и растерянность. Костя-Иван успокоили ее подбадривающими улыбками и пошли открывать и встречать гостей.
Аполлинарий Игнатьевич Курятников, подполкан и старший опер, третий час усердно тер воду в ступе. А воз как завяз, так ни в какую не желал трогаться с места. Аполлинария Игнатьевича уже стали хватать черти. Любой его вопрос совершенно произвольно, независимо от содержания, мог вызвать поток слез и причитаний на добрые четверть часа, и даже строгий окрик не помогал. В ответ на требование не валять дурака или хотя бы просто взять себя в руки, дамочка разражалась уже не просто слезами, а целым их водопадом. Тогда Курятников, за неимением иного выхода, наливал свидетельнице очередной стакан для успокоения, и теперь сильно опасался, что допрашивать ему вскоре придется безжизненно пьяное тело. Однако, Ирина Аркадьевна, то ли под воздействием стресса, то ли оттого, что виски в стакане был щедро разбавлен содовой, пока держалась молодцом. Конечно, когда не предавалась регулярным завываниям.
Что и говорить, известие он прибыл сообщить молодой любовнице народного избранника пренеприятнейшее. Голубка уж не дождется голубка. Мало того, что отрада сердца врезала дуба прямо на столе операционной, выставив на обозрение истекающие кровью внутренности, так еще и без криминала не обошлось. Пока что стенающей Ирине Аркадьевне было сказано, что любимый ее злодейски отравлен. Но не сказано чем. И то у Аполлинария Игнатьевича не повернулся язык произнести такое. Вовсе не только в интересах следствия. А и как сообщить, что злоумышленник напихал в депутатскую утробу ни много ни мало, изрядные караты толченных в крошево, в мельчайшую пыль, драгоценных алмазов. Скажи и не поверят, а потешаться будут. Уж чего только не было в многотрудной жизни подполковника Курятникова, и радиоактивный цезий в подкладки пиджака случалось зашивали, но такой невообразимой белиберды он ни разу за всю оперативную свою карьеру не встречал. Однозначным для Аполлинария Игнатьевича был лишь тот факт, что дело это определенно станет закрытым для общественности и, так сказать, частного характера. Потому что, ничего, кроме изощренной женской мести на его сыщицкий ум не приходило.
Вот только рыдающая перед ним безутешно аппетитная молодуха скорее всего ни при чем. Хорошо, что ей самой не досталось, а вполне могла бы сейчас отдыхать в морге рядом со своим возлюбленным. Но вытрясти из нее подробности последнего в жизни депутата Чистоплюева вечера Курятников был просто-таки обязан. Не взирая ни на какие обмороки и слезы. И Аполлинарий Игнатьевич потянулся, чтобы налить свидетельнице очередной стакан.
Ирене пожилой, за пятьдесят, опер понравился. Видно было, что подполковнику до смерти хочется замять нехорошее происшествие. Но депутат есть депутат, в дальний ящик не задвинешь, а громкой славы тоже не сыскать. Копаться в грязном постельном белье удовольствие не из самых первых на свете. И сверху, видать, велели поделикатнее. Чистый образ и так далее. Заголовки в газетах – "Скончался на передовой демократии от сердечной недостаточности", "Врачи мужественно сражались за жизнь народного агрария, положившего живот на алтарь Отечества". К тому же, явно, с недосыпу, и она, мадам, таки достала подполкана своей безутешностью. Конечно, будет и ее трясти, да хрен что вытрясет! Нет у мадам никакого явного мотива, нет и быть не может. А до конторы не дотянешься – руки коротки. Ну, фонд. А что фонд, если это Чистоплюев с "молодых талантов" поиметь хотел, а не они его? К тому же Макс правильно подстраховался. Вызвал модельную дурочку, отставную любовницу в "Метлу" на предмет встречи с продюсером нового сериала. Звонком из автомата у пивной в Столешниковом переулке. Не отследишь, да у бедняжки и определителя в мобильнике не оказалось. Проверено. А в "Метле" будущая телезвезда никакого продюсера, конечно, не дождалась. Но бывшего ухажера и действительного члена Государственной Думы Чистоплюева тут же засекла. И мимо демонстративно медленно продефилировала, скорчив Ирене презрительную рожицу. Почти голое тело, и белье розовое торчит во все стороны из-под серебристого платья-комбинации. Официанты и распорядитель, не говоря уж о бармене, которого она полчаса доставала, уж конечно, вниманием модельку не обошли. И если спросят, ответят. А что спросят непременно, можно было не сомневаться. Мадам поможет, даром что ли столько времени проревела.
А Курятников Ирену не только отпустил, правда в одиннадцатом часу, и карточку визитную дал, если помимо модельки вспомнятся еще фигуранты. Но и глаз на мадам положил, определенно. У Ирены на такие вещи нюх безошибочный. Пообещал, что госпожу Синицыну вызовет непременно и не раз. Но без угроз и ехидства обещал, а даже как-то игриво.
Домой Ирена словно на крыльях летела. Будто Ника Самофракийская. А в Большом доме стояла нездоровая тишина, как будто где-то лежал свежий, еще не отпетый покойник. И Яна нигде не было видно. Не встречал он мадам, и никого не послал пригласить ее с отчетом. Невиданные и нехорошие чудеса. Фома смотрел будто сочувственно, а чертов "архангел" скалился и злорадно ухмылялся. И мымра его, Ритка, тоже. Расселись, кофе с плюшками пьют. Шли бы себе в свой курятник, ан нет, сидят и чего-то ждут.
Тут скоренько, помелом, подлетела Тата, глаза в пол, и стала совать Ирене дымящуюся, пахнущую свежим кофе, кружку. Ирена отхлебнула глоток, но кофе впрок не пошел. Сорвалась с места, кружку сунула обратно Татке в руки. И бегом наверх, в правое крыло, в комнату к Стасу. Охотник, слава богу, был на месте, перебирал коллекцию ножей, смотрел для самообразования по спутнику канал "Дискавери".
– Что тут стряслось? – с порога выпалила Ирена, опустив необязательное "здрасьте".
– Ты про что? – лениво зевнул в ответ Стас, подкинул на ладони изящный охотничий ножик с драгоценной, резной ручкой слоновой кости, и потом все же удостоил мадам взгляда.
– У нас кто-то помер? Почему внизу все сидят с дурацкими рожами, как родственники усопшего? И где Ян?
– А-а, вот ты о чем, – Стас отложил ножик, обтерев лезвие фланелькой, и невозмутимо вонзил отравленный шип в самое сердце мадам, – нет, никто у нас не помер. Скорее наоборот. Ян бабу свою привел. С ней и заперся у себя от посторонних глаз. Велел не беспокоить. Так что с прибавлением в семействе!
Охотник, черствая дубина, загоготал, но мадам прикола не оценила, и как ошпаренная бросилась вон.
У лестницы Ирена остановилась, опомнилась. Куда бежать? К сопернице, рожу бить? Глупо. Тем более на глазах у хозяина. Так можно было совсем уж все испортить. Ян вовсе никому на свете не принадлежал, разве самому себе, и права на собственную персону мог даровать лишь он один и по своему желанию, и также по желанию отобрать. А у Ирены с хозяином и изначально никакого договора не было: она приходила, он принимал, если, конечно, хотел. И Ирена, постояв немного у кованного чугуна балюстрады, тоскливо поплелась в свою половину крыла. Коли у Яна будет интерес, так пусть уж сам обеспокоится за ней послать. А ей надо прийти в себя и подумать на покое. Успех и торжество минувшей ночи более не грели сердце, напротив, в душе засвербело и потянуло колким холодом обиды. Как будто, если бы отличник и умница ответил блестяще выученный урок, а разгильдяй учитель забыл по рассеянности поставить "пятерку" в классный журнал.
Возможности войти к хозяину с отчетом о проделанной работе дожидался и Миша. Но время "архангела" ждало. С утра пораньше, хотя и в рамках приличий, он связался с Гимором, который, обескураженно заикаясь в трубку, поведал о горестной кончине своего начальника. Миша выразил удивление и подходящие к случаю соболезнования, и тут же, не мешкая, настоятельно потребовал встречи с помощником покойного депутата. Гимор поначалу отнекивался, ссылаясь на занятость в связи с хлопотами по организации погребения, и даже было пробовал возмущаться по поводу Мишиной черствости, но вскоре все же согласился встретиться часика этак в два дня, и он не собака, и пока еще, слава богу не покойник, должен же прерваться на обед. Видимо, что-то в Мишином тоне встревожило чуткого к перемене ветра Гимора. А может, лишившись старого работодателя и покровителя, отставной теперь помощник Чистоплюева не прочь был обзавестись новым хозяином. И не в его положении отталкивать возможно денежную дающую руку. Миша на обеденное приглашение согласился. Человек, вкушающий пищу после трудов праведных, на его взгляд должен был быть куда восприимчивей и рассудительней, чем голодный волк, которого ноги еще не успели накормить.
Пока же "архангел" в приятной компании дожидался развития событий, попивая кофе в гостиной Большого дома. Отчасти причиной его ожидания являлось банальное старушечье любопытство, которое Миша про себя пышно именовал бдением на страже общинных интересов, и даже Рите ни за что бы не признался в тайном удовольствии, получаемом от этого бдения. Впрочем, интерес "архангела" к событиям, происходящим с утра в Большом доме, был абсолютно бескорыстным и даже возвышенным, какой бывает у продвинутого зрителя первых рядов партера, следящего за захватывающими перипетиями сюжета новой пьесы. Мише в глубине души было решительно все равно, пополнится их семья новым, приятным лицом женского пола, или увлечение хозяина окажется временным и скоротечным. К его положению помощника и хранителя происходящее имело малое отношение. Тем паче, что "архангел" никаких видов на хозяйскую постель и в страшных ночных снах не имел. Пилюля, которую отныне ежедневно придется глотать мадам, приводила Мишу и вовсе в веселое расположение духа.
Однако Мише, по уговору поспешавшего в город на встречу с Гимором, не суждено было дождаться кульминации общего ожидания. Ровно через час с четвертью после его отбытия, когда вся семья, за исключением самого "архангела" и запершейся наверху Ирены, не сговариваясь, собралась в Большом доме за обеденным столом, витражные двустворчатые двери чуть торжественно распахнулись, и Ян Владиславович собственной персоной ввел под руку в столовую загадочную ночную гостью.
Хотя загадочной незнакомкой Машенька была далеко не для всех. Макс и верный его Сашок с Машей держались чуть ли, что не приятельски. С Фомой знакомство состоялось еще в машине, во время ночной поездки, хотя Маша от волнения едва запомнила его имя, но сам-то "апостол" разглядел изгнанницу хорошо. Тата лично Машеньке еще представлена не была, но украдкой из-за угла наблюдала ее прибытие. Утренний Машенькин тихий и застенчивый вид привел Тату к умиротворяющему выводу, что такая рохля и недотепа в хозяйство лезть ни за что не станет, а за заботу скажет "спасибо", что далеко не всегда приходилось слышать Тате от родичей в ответ на ее неустанные о них хлопоты. Лере прибытие незнакомки было почти безразлично, разве что новое лицо и можно поболтать-посплетничать, а так, она, Лера, все же замужняя дама, хоть и муж у нее объелся груш, но не последний в семье человек. Ревновать же хозяина у Леры ни теперь, ни когда-либо ранее, повода не было.
А Ритке новенькая понравилась. Так уж получилось, что не сложилось у Риты в семье с подружкой. Татка и Лерка ходили парой, интересы и беседы у них были мирные и скучные. Ритки обе даже будто боязливо сторонились. Или вернее делали вид, мол, им домашним и уютным неловко рядом с остриженным коротко ниндзей-черепашкой, пусть и женского пола. С Иреной отношения и вовсе стали напряженно официальные, но в рамках семейных приличий. Да и как могло быть иначе, если ее Мишка мадам терпеть не мог, а сторону мужа Рита принимала раз и навсегда безоговорочно. И может именно от того, что были они одна сатана, Лера и Тата при Ритке языки особенно не распускали, напрягались, будто свободного воздуха им не хватало. А с появлением у хозяина подружки, к тому же такой милой и славной на вид, а уж для Ритки это признание дорогого стоило, ситуация резко менялась. С девушкой Яна они могли бы быть на равных, а если и Ритка ей приглянулась бы, то, глядишь, они бы и сдружились. Мишка, конечно, слов нет, не парень, а чистое золото, но иногда хочется по-бабьи душу отвести, а не с кем. Опять же ее "архангел" неустанно в полетах, а институт, хоть и медицинский, все время не займет, на то и с детства отличная память и новая, "вамповская" выносливость. Работа же случается не так уж часто, что даже обидно и умаляет Риткины таланты. Так что новенькая была очень кстати, и Ритке до ужаса захотелось, чтобы та осталась в общине. Коротать бесконечность с подругой куда как веселей. Мысль, кощунственная и нелепая, что девушка может жить в семье, не пройдя при этом "посвящения", даже не посетила Риткину голову.
Зато мысль эта, вернее факт, ни на секунду после прибытия в Большой дом с вокзала не покидала Фому. Когда хозяин устроил по приезду измученную девушку в собственной спальне, как в самом неприкосновенном месте дома, они с "апостолом" сошлись в малой гостиной. Тогда хозяин и обнародовал вердикт. Что Машенька будет жить в доме, так он решил и сделает все от него, хозяина, зависящее, чтобы его любимая этот дом никогда не захотела покинуть. Что ни о каком вступлении ее в общину и речи идти не может, он, хозяин, ни за что подобного святотатства не допустит. Что Машенька ни в коем случае не должна иметь даже тени представления о том, кто они все такие по существу, иначе будет кисло и худо. И его, Фомы, главная задача, отныне следить за неукоснительным исполнением сего постановления.
Как и под каким соусом преподнести родичам горькую пилюлю, а, точнее сказать, оглушительную оплеуху, Фома до конца не решил. Новая девушка, любовница она хозяина или пусть даже обожаемая жена, еще полбеды. В принципе, только и нужно, что усмирить и задобрить Ирену. И Маша эта сама по себе милый человечек, и ужиться с ней будет несложно. К тому же, явно умненькая, и из одних с Фомой пенатов, хотя и с враждебного химикам факультета, но это должно сблизить в конечном итоге еще сильней. Вот тебе, дедушка, и свободные уши, готовые внимать "апостольским" умствованиям, и не бездумно, а с пониманием. Приятная беседа в приятной компании, а, возможно, что и паритетный диалог. Но вердикт?
Разве мыслимо сообщить семье, что все они вместе и каждый по отдельности уроды и полное дерьмо, и их нынешнее существование, коим они так гордятся, мерзость и недостойная гадость? А именно так и следовало понимать хозяйское установление. Словно нечто позорное и отвратительное скрывать подлинную свою природу, и от кого, от обычного человека, презренной "коровы", низкой ночной их добычи, которую сам же отец их апологет Ян Владиславович учил презирать и не жалеть. И, видит бог, никто из них и не жалел, считал недостойным себя жалеть. И были они семьей и выше всех сущих, вечные и не боящиеся греха, а презирающие его. Даже из тайны своего бытия сотворили предмет гордости и возвышения над миром, незаслужившим того, чтобы узнать об их существовании. И что же? Оказывается, вступление в их узкий круг отныне не неслыханная честь и сверхъестественное провидение, а грязное святотатство? Впрочем, собственно сам "апостол" был полностью согласен с этим неутешительным выводом, более того, про себя давно его сделал. Но за великие сокровища и цена должна быть непомерна. Если за бессмертие надо заплатить добровольным заключением в яму, полную падали, упасть ниже самого себя, то разве он не готов? Но вот остальные! Как сказать "архангелу", что сверкающий меч в его руке лишь зловонное чертово помело? Как намекнуть охотнику, что он не бесстрашный ночной кормилец семьи, ловкий и самоотверженный, а отброс и отверженный, грязный убийца, шакал, таскающий в логово пьяных, распутных командировочных и бомжей, и сам хуже и отвратней их всех? Как объяснить "хозяюшкам", что лучше и достойней им стелить постели бандершам в борделях, чем подстригать лужайки возле их, проклятого всеми богами на свете, дома? И что все они, до одного, включая и самого искусителя хозяина, в этом своем страшном существовании виновны?
Фома ощущал себя в своих раздумьях прямо-таки Аэндорской волшебницей, предрекающей полное банкротство торговому дому "Саул и сыновья". Только семью надо было спасать любой ценой. И к концу обеденного застолья у "апостола" в голове сложился план, который при известном везении мог и выгореть. Главный расчет, как ни странно, затейник Фома делал на ту самую Ирену, которая, по его мнению, могла нуждаться в усмирении. Ведь если девушка не вступит в общину полноценным "вампом", то это может говорить не только о предательстве Яном собственных адептов, но и о том, что девица, им приведенная, не представляет такой уж огромной для него ценности. И появление Маши всего лишь эпизод, так сказать, хозяйская прихоть, игрушка страстей и прочее в том же духе. Оттого и не требуется никакого "посвящения", что Ян вовсе не желает видеть ее при себе черт знает сколько, стань эта девица одной из них. Поматросит да и бросит. А не бросит сразу, так выгонит потом, когда девица будет уже не девица, состарится и пожухнет от времени. Слава богу, какой-то десяток лет ни для кого в семье не срок. А вот мадам при таком положении дел и его правильном толковании будет обеими руками "за", да еще и ноги поднимет. Пока девушка остается в своем природном, человеческом достоинстве, ни о каком долгосрочном захвате хозяйского сердца речи идти не может, а там Ян, глядишь, и перебесится, нахлебается новизны по самое горло, что стошнит, и больше никаких любовных похождений знать не захочет, тем более поселять в общине "коров". Она же, мадам, всегда будет тут как тут, и рано или поздно, хозяин оценит ее чувства и преданность, и вновь приблизит и позовет. По крайней мере так представлял себе возможные повороты Иреновой мысли "апостол".
Сам же Фома, не лишенный наблюдательности и логического предвидения, сильно сомневался в том, что увлечение Яна пройдет со временем. "Апостол", всю свою жизнь избегавший сильных страстей и переживаний, однако, научился вычислять их в сердцах ближних своих. И уже одно только трепетное отношение хозяина к своей возлюбленной, забота о собственном добром имени в ее глазах, говорили Фоме о многом. Хотя бы то обстоятельство, что, уложив Машеньку отдыхать, хозяин остался бодрствовать в гостиной до ее пробуждения, чего бы не сделал по отношению ни к одной особе женского пола, свидетельствовало о серьезности его намерений и чувств. Что стоило бы многоопытному соблазнителю и ловцу душ немедленно добиться девичьего тела и подчинить себе на утеху неопытное сердце? Но ведь не добивался и не подчинял. Значит, Ян желал другого. Чего именно, Фома даже и думать не хотел, потому как ничего, кроме неприятностей, от вероятных желаний хозяина в будущем не видел.
А Маша словно попала в рай. Сказка, начавшая плетение нити своего повествования, как только девушка открыла глаза, постепенно обращалась в реальность и становилась все восхитительнее. Комната, где совершилось утреннее пробуждение, нисколько не пугала чуждой обстановкой, а лишь радовала взор. Никогда Машеньке еще не доводилось просыпаться среди такого великолепия, да и ничего подобного в своей скромной жизни она прежде не видела. Усталая и выпитая до донышка вошла она глубокой ночью в дорогой для нее и долгожданный приют, не разглядев его измученными, поблекшими от слез глазами. И заботу своего любимого и смутно ощущаемую суету вокруг нее забавного, незнакомого толстяка Машенька помнила еле-еле, до такого дошла предела. Теперь же отдохнувшее ее сердечко готово было внимать новым впечатлениям.
Кругом были одни лишь покой и уют, богатый и доведенный до совершенства. Огромная постель, в которой она лежала, белье восхитительной нежности, которое обнимало тело ласкающим ручейком, светлое дерево и легкий шелк расписных занавесей, необъятный ковер на полу, творение мастера, обворожительно пушистый даже на вид, старинная картина в золоченной раме, кавалер, сидящий у ног полуобнаженной дамы, небрежно брошенная рядом на ночном столике книга, пожелтевшие страницы и неведомый язык, современный радиотелефон, хрустальный, переливчатый неровными гранями кувшинчик с водой и такой же, низенький стакан. И во всем неуловимое присутствие мужчины, хозяина и этой комнаты и заключенных в ней вещей.
Не успела Маша оглядеться как следует, как в дверь постучали, вежливо и вопросительно. Машенька ответила, разрешая войти, да иное было бы с ее стороны и неуместно. И, конечно, как и положено в сказке, вошел принц. Как только мог он догадаться, что гостья его только что пробудилась ото сна? Если только слушал под дверью. Однако, не все скрытые таланты принца были ей ведомы. И принц поцеловал спящую, вернее, проснувшуюся красавицу, хоть и весьма и весьма целомудренно, и красавица, не стесняясь, ответила ему тем же.
Позже, за обедом, Машеньке представилась возможность познакомиться и составить впечатление о других обитателях ее нового дома. Все решительно, без исключения, пришлись ей по душе, уже потому, что состояли в свите принца и относились к последнему чуть ли не с обожанием. Особенно приятной показалась Машеньке коротко, под мальчишку, стриженная девушка, чуть старше ее самой, ободряюще улыбавшаяся Маше каждый раз, как они обе встречались взглядами за столом. Толстый, милый вчерашний хлопотун оказался носителем забавного и почти ныне забытого имени, такого же милого, как и он сам. И подруга его, хрупкая, тонкая и спокойно равнодушная, тоже казалась милой и незлой. А как хлопотала вокруг нее, накладывая в Машенькину тарелку чуть ли не насильно горы еды, подвижная и крепкая Тата, похожая на портрет молодой Леси Украинки! Чудный обед и чудесная родня ее принца!
Миша познакомился с пришелицей только вечером. И одного взгляда на Машеньку хватило "архангелу", чтобы умиротвориться сердцем и порадоваться за хозяина. Маша ему показалась. Будто на их семью снизошел еще один, "тихий" ангел.
Ирена в этот день так и не вышла из своей части дома. Зато Фома самолично навестил затворницу. О чем они говорили добрую половину ночи, осталось для обитателей Большого дома загадкой. Но Лера, разбуженная шумно укладывающимся на свою половину постели "апостолом", уловила невнятное мужнино бормотание: " И обошлось, и слава богу!"
Ян по-джентльменски расположился на ночлег в рабочем кабинете, хотя и уловил в выражении лица предмета своего обожания нечто, похожее на досаду. Последнее обстоятельство сильно его порадовало, однако, он не решился торопить события.
На следующий день, в утренних новостях московского канала телевещания короткой сводкой о криминальных событиях, произошедших за ночь в столице, прозвучало сопровождаемое картинкой сообщение. В своей машине был расстрелян, предположительно из ручного гранатомета, гражданин России и Израиля некто Гурфинкель Иосиф Рувимович, предприниматель и благотворитель, миллионер и международный экономический столп. Генеральный прокурор Российской Федерации самолично заверил общественность, что убийцы знатного полуиностранца непременно будут найдены. Следствие ведется.
ЧАСТЬ 3. ПЕПЕЛИЩЕ
ГЛАВА 21. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Утро было как утро и началось как обычно. С запальчивой перебранки по поводу каши. Маша, спустившись к завтраку, застала ее в самом разгаре. Тата возмущенным речитативом провозглашала полезность овсянки на молоке и от беспомощности словесного убеждения прибегала к насильственному запихиванию ложки в рот. Владелец рта кашу незамедлительно выплевывал фонтаном на скатерть и на пол и довольный рокотал в ответ. Что, было не разобрать. Из-за остатков каши за щекой и того немаловажного обстоятельства, что терпящему муку утреннего кормления лицу мужского пола был всего лишь год с небольшим хвостиком отроду. Однако, заметив входящую в столовую мать, малыш тут же сделался серьезным и с благонравием херувима открыл ротик как мог широко, зажмурив от старательности оба глаза. Тата тут же воспользовалась перемирием, и ложка так и замелькала в ее проворной руке, развивая успех. Маше она кивнула, не отвлекаясь от процесса, но с благодарностью за своевременное появление. Не то чтобы Лелик так уж боялся своей мамы, точнее сказать, не боялся совсем, но маму он любил и, главное, жалел. Так почему бы ее и не порадовать, тем более, если кашу рано или поздно все равно придется съесть.
Тетю Тату маленький Лелик тоже любил, хотя уж конечно не так, как маму, слишком она была шумная и надоедливая. То ли дело другая его тетя, которую про себя он называл правильно – Рита, вслух же пока выходило невнятное "Дида". Вот с кем здорово играть и кататься в обнимку на качелях! Только у этой замечательной тети всегда так мало времени. Как и у мамы. А вот у Таты времени много, и оттого она все время рядом с ним, с Леликом, и никак от нее не отделаться и не спрятаться. Все равно найдет, даже если сидеть тихо-претихо. Дядя Фома или просто "Дада" был любим больше Таты, но уж гораздо меньше тети "Диды", оттого, что хоть времени у него было полно, играть он соглашался только, когда не спал в большой нижней комнате, не смотрел скучные картинки в телевизоре или не приставал к остальным взрослым с непонятными разговорами. Игры у "Дады" были всегда тихими, но до ужаса интересными. Он так здорово складывал большие, разноцветные квадратики, что всегда получался кто-нибудь или что-нибудь. Тогда "Дада" говорил Лелику, кто и что у него получилось, а Лелик, как мог, повторял за ним "мяч" или "муха", хотя уже знал и "стрекозу", но такой длинный кошмар ему было никак не выговорить. Часто "Дада" сам рисовал разные картинки, и Лелик должен был показывать ему, где синий цвет, а где розовый, где круглое, а где квадратное. Когда картинки надоедали, Лелик каждый раз тянул "Даду" с собой побегать и поиграть с машиной на ковре, но "Дада" не бегал никогда.
Но вот кого Лелик в самом деле любил, и иногда даже больше мамы, что удивляло его самого, так это Яна. Конечно, Лелик знал, что Ян и папа это совсем одно и то же, такая же его собственность, как и мама. Но маму Машей он не называл никогда и никогда даже не пробовал это сделать, а вот отцовское имя ему понравилось куда больше невыразительного и простого слова "папа", которое к тому же было легко перепутать с "мамой". Лелик и сам знал, что говорит еще очень плохо, и родители не всегда понимали, кого именно он зовет, пока Лелик решительно не заменил "Яном" невнятного "папу". Тем более, что папа на это совсем не обиделся. Он вообще никогда не обижался на Лелика и ничего ему не запрещал. У Яна тоже было не так чтобы много времени, но уж когда оно было, то целиком принадлежало Лелику. Хотя и Ян никогда с ним не бегал и даже нельзя сказать, чтобы особенно играл. Чаще всего он просто брал Лелика на руки и гулял с ним по дому и по двору, или сидел с ним вместе у телевизора. Лелик смотрел мультфильм, а Ян обнимал его и слушал комментарии к увиденному. Такие прогулки и посиделки с отцом Лелик не променял бы и на качели, даже если бы "Дида" позволила раскачиваться до самых кустов. И всегда, когда они оставались вдвоем, Ян рассказывал Лелику разные истории на совсем другом языке, которого не знали ни мама, ни Тата, ни даже "Дада". И Лелик тоже ни с кем на нем не говорил, хотя запомнил этот язык куда лучше, чем тот, который был на каждый день. И сказки на папином языке были захватывающими, хотя и не очень понятными. В них говорилось про волка и про горы, про мальчика, который зачем-то бегал за этим волком, а потом взял и убежал и от волка и от гор.
Остальных членов семьи Лелик воспринимал равнодушно, скорее как одушевленную, но изменчивую обстановку интерьера, мало пригодную к употреблению. Кроме разве что Ирены, которую Лелик не особенно жаловал, но не показывал этого в открытую. Правда Ирена не слишком часто появлялась в доме, и каждый раз по приезду непременно старалась приласкать малыша, дарила дорогие игрушки и внушительных размеров фигурки шоколадных зайцев и прочьего зверья. Лелик для виду брал и игрушки и конфеты, но норовил засунуть их подальше в глухие углы дома, никогда не принося в свою комнату. Когда Тата находила спрятанные таким образом подарки, то не сердилась и даже напротив, целовала Лелика в щеку или в маковку, называла умницей. Как-то раз Лелик увидел, как Тата отдала добрый мешок этих конфет и игрушек чернявому и некрасиво одетому старику, каждое утро убиравшему двор и общую площадку перед домами их семьи. Из чего Лелик сделал вывод, что правильно делает, отказываясь от подношений Ирены, и даже строгая Тата с ним согласна, раз не оставила игрушки себе и не отдала никому из домашних. С тех пор Лелик уже не рассовывал куклы и сладости по углам, а сразу нес их своей Тате.
Как обычно по будням, и в это утро понедельника Маша позавтракала в столовой и из соображений удобства и для того, чтобы подать благой пример малышу. Да за одно и пообщаться с сыном.
– Когда вернешься? – поинтересовалась у нее Тата, когда Маша, покончив с едой, встала из-за стола. Вопрос был скорее риторическим и являл собой верховное право Таты быть в курсе всех дел Большого дома как его правительницы и отчасти домашнего домового, коего никак обижать не рекомендуется.
– Поздно, Таточка. Никак не раньше восьми. Четыре пары сегодня, последние две – лабораторная по ядерной физике. Так что замотать не получится. Да я еще в клуб хотела заехать. Поплавать и на аэробику. Там как раз вечерняя группа, – словно извиняясь за свои планы ответила Маша. Но и извинения были формальностью, данью уважения Таткиным хлопотам. Тата, хоть и не одобряла Машины фитнесс-начинания и выбранный ею путь к физическим совершенствам, но выражала это неодобрение в весьма специфической форме. Сама же она, как истинный "вамп", в подобных упражнениях совершенно не нуждалась.
– Вот видишь, была бы как все, не пришлось бы тебе мотаться по всяким-там клубам. С ребенком бы сидела, а то ведь Лелик и не видит тебя почти, – завела Тата пластинку, которую в последнее время Маша слышала все чаще. Насчет Лелика, конечно, Тата загнула. Никак ее бы не устроило, если бы малыша вдруг забрали из-под ее опеки, имей Маша время самой заниматься сыном, – да что еще за клуб такой, неизвестно!
– Хороший клуб, Янек сам для меня нашел. "World Class" называется. Туда кого-попало не принимают, ты не волнуйся. А насчет остального, ты же знаешь! Янек ни за что не разрешит. Не хочет он этого, – сказала Маша в ответ, будто бы с сожалением. Хотя в настоящем и не знала уже, делает вид или начинает сожалеть в действительности.
– А ты попроси. Хорошо попроси. Так, небось, разрешит. Уж тебе-то! – настаивала на своем Тата.
– Хорошо, попрошу, – покорно согласилась с ней Маша, но увидев, как насупился лицом домовой, сменила тактику, – да, правда же, попрошу. Как только удобный момент будет, так сразу и попрошу. Вот честное пионерское.
– У тебя каждую ночь удобный момент, только ты дурочка. Делом надо заниматься, а не… – тут Тата сообразила, что благородное негодование занесло ее куда-то не в ту степь, и замахала на Машу рукой. Лелик ее жесты, конечно же, принял за веселую игру и тоже стал размахивать ручонками. И, естественно, перевернул стакан с молоком, и, разумеется, себе на штанишки, – Ты только посмотри, что ты натворил! Теперь переодевать надо. И брючки и тапки. И "памперс", наверное, тоже. А каша остынет!
– Хочешь, я пока подогрею? – предложила ей Маша, чувствуя в происшедшем и свою частичную вину, хотя время уже поджимало.
– Да когда тебе? Ведь опоздаешь, – отмахнулась Тата. Но потом что-то вспомнила, остановила собравшуюся было уходить Машу, – совсем ты меня заморочила. Я что сказать-то хотела. Ты подумай и хорошо подумай. Это к тому, что не спокойно мне. И из-за Ирены и вообще. И потом Лелик…
– Я поняла. Я ведь не слепая, тоже кое-что замечаю… А вообще, спасибо тебе, Тата, – слова вышли неожиданно искренние и от души, Тата даже опешила немного.
– За что это "спасибо"? Если за Лелика, то не надо. Это мне в радость. А за себя не благодари, ты мне не чужая, – сказала Тата, как отрезала. Но ей было и приятно.
– Новый Год скоро. Две недели только осталось. Хочешь, я тебе помогу и с елкой и со столом? – вместо прощания спросила Маша доброго своего домового.
– Ты поможешь! Тарелки бить. Мы с Леркой и вдвоем управимся, – проворчал в ответ домовой, – Ладно, иди уже. Мне Лелика переодевать. Да смотри, не гоняй по дорогам. Гололед вон какой, еще и снегопад обещали.
– Не буду, – пообещала ей Маша, и ушла уже совсем.
По дороге в гараж больше никто из домашних ей не встретился. Мороз был не так, чтобы очень силен, и сам гараж пусть слабо, да отапливался, но Маша все же пару минут потратила на прогрев двигателя. Новенький джип-"лексус", последний подарок Янека, сделался не только любимой ее игрушкой, но и верным другом вроде собаки. Настоящих собак никто в общине не держал, было нельзя. Младшие братья человеческие в присутствии "вампов" обычно начинали выть в голос, поджимали уши и хвосты и при малейшей возможности пытались смыться прочь, чтобы никогда уже не возвращаться. Вот кошки, те вели себя совершенно иначе, не то, чтобы прыгали от восторга, но пушистым, хвостатым зверькам было, похоже, решительно наплевать, какого происхождения их хозяева, лишь бы кормили вкусно, чесали шерстку и позволяли дрыхнуть в самых неподходящих местах. Правда, кот на все три их дома имелся лишь один и официально принадлежал Фоме. Был он палевый персидский бандит, толстый и наглый, ворюга, каких поискать. Но за красоту и умение подольстится к аборигенам, как правило, получал полное отпущение грехов. Лелика Тата держала от него подальше.
Маша медленно и осторожно вела машину по шоссе, точнее сказать, еле тащилась. Тата как в воду глядела – гололед на дороге был еще тот. О том, чтобы успеть к началу первой пары нечего было и мечтать. Однако Машу это обстоятельство мало беспокоило. А вот Таткины слова, напротив, не шли из головы. Не спокойно в их датском королевстве, ох, не спокойно. Угроза словно нарастала откуда-то со стороны, невидимая и разумом необъяснимая. Но Маша ощущала ее той частью своей сущности, которой нет названия. Нужно было, наконец, решаться и не столько ради себя, сколько ради Лелика. Главное – это убедить мужа, который и слышать ни о чем таком не желал. Но Маша в глубине души была убеждена, что сопротивление Янека временное, как бы условное, что-то вроде отсрочки для собственного малодушия. Считает, что Машенька еще очень молода, двадцать один год это не срок, и можно тешить себя иллюзиями. А через десяток-другой лет ее милый и ненаглядный совсем другое запоет, к гадалке не ходи. И не из-за Машенькиных внешних достоинств – уж что-что, а то, что Янек не разлюбит ее и в девяносто, Маша знала хорошо. И не потому, что были сказаны слова, а просто знала и все тут. А запоет оттого, что отпустить не сможет и будет готов заплатить. Вот только есть ли у них этот десяток лет?
И потом Лелик. Тата права. Пока маленький – это одно. Легче принять то, что за тебя, не спросясь, решили другие и для твоего же блага, и совсем другое сделать выбор самому. Не потеряют ли они оба сына, когда мальчик вырастет и узнает обо всем. Понятно, что существование, которое они могут Лелику предложить, не самый лучший жребий на земле, но, по крайней мере, они будут вместе. А семья, все же, значит в жизни куда больше, чем любое общество и любая мораль, пусть прекрасные и замечательные. Это Маша за последние несколько лет усвоила накрепко. Любовь же свою и подавно ставила выше, чем даже спасение нетленной и вечной души. Если бог так безгранично милосерден, то он-то как раз поймет. А людям ничего объяснять и не надо.
В девятом часу вниз спустилась Лера. Лелик с нелегкими боями был уже водворен в огромный, мягкий манеж на колесиках, водруженный прямо посреди кухни, и Тата смогла, наконец, передохнуть и испить чаю. Лера к ней присоединилась.
– Говорила? – спросила она, после выразительного, но недолгого молчания, не уточняя, однако, о чем речь. Но Тата и так поняла.
– Говорила, – ответила Тата, и уткнулась взглядом в чашку.
– И что? – не отстала Лера, даже и руку протянула, дернула Татку за свитер.
– Все то же, – в сторону сказала Тата, и снова уставилась в чашку.
– Ты сказала, как договаривались? И про Ирену?
– И про Лелика тоже. Только на словах как-то слишком несерьезно выходит. Ну что мне, ей про наши с тобой предчувствия рассказывать? Ведь все равно не поймет. Это как слепому про светофор.
– Поймет, не поймет… Наши-то предчувствия дорогого стоят, дай бог каждому. Просто пусть поверит и все. Будто мы для себя стараемся!
– Лерусь, я же не отказываюсь. Каждый день как попугай, одно и то же. Ты бы хоть Ритку на себя взяла. Тоже ходит и подпевает: пусть идет, как идет, раньше или позже – без разницы! Если бы…
– И не думай! И вслух не произноси! – Лера и чаем подавилась. Откашлялась, отдышалась, с шумом хлопнула кружку о пластик столешницы, – Ян всем ноги из жопы повыдергивает, прости за грубость. Правому и виноватому. И очень просто. И разбираться не станет.
– А если, к примеру, несчастный случай? Ведь бывает же…– не пожелала отступить Татка, хотя упоминание о хозяйском запрете и подрезало крылья полету ее навязчивой фантазии.
– Ты себя послушай. Со стороны. Это же бред сумасшедшего в лунную ночь! Какой несчастный случай? Прямо анекдот – потерпевший сам упал на нож и так семнадцать раз подряд, – пусть и ерничала, а только голосок у Леры был невесел, – ничего у нас не выйдет, хоть язык измолоти. Что не созрело, то и не родится. Видно, еще не время.
– Так ведь и выжидать не к добру. Неужто Ян сам ничего не чувствует. С его-то нюхом на поганки?
– Может и чувствует. Даже наверняка. Только решиться не может. А Маша просить его не станет. Пока, по крайней мере. А если и попросит, так без души, чтоб отстали, и понятно, без толку. И нам попадет – Ян, он вмиг сообразит, откуда ветер дует.
– Тогда остается только молиться, – сказала Татка и почти серьезно.
– Вот и помолись. У тебя и иконка освященная имеется. А я в бога не верую. Да и не увижу его никогда. В рай нас, наверняка, не пустят, ведь так? Значит, и помирать смысла нет. Тем более добровольно, – Лера поднялась, чтобы идти, – пойду, за уборщицей пригляжу. И ты не рассиживайся. Ничего хорошего не высидишь.
– Машку жалко, – всхлипнула ей вслед Тата, утирая салфеткой нос. Но смотрела она исключительно на Лелика, сопевшего над игрушечным слоником в манеже.
– Себя пожалей, – только и нашлось в ответ.
Утренняя летучка, обязательная, как пение деревенского петуха, затянулась. А Макс и Сашок еще и не завтракали. Мишке, конечно, было хорошо. Дома его потчевали отдельно, добротно и под завязку. Рита, хоть и уходила чуть не с рассветом за медицинскими познаниями, оставляла своему благоверному полноценный, горячий завтрак, только не поленись и возьми. Макс же и Сашок столовались в Большом доме, оттого, желая поспать подольше, попадали на завтрак только после утреннего совещания.
Хозяин и Мишка, оба вражески сытые, обсуждали долго и нудно сочинские дела. И чего столько тереть об одном и том же? Все равно Максу придется лететь и разбираться с Ариком на месте. Не то, чтобы Арик, он же нынешний впередсмотрящий "Красот Босфора" Артур Тер-Ованесян, много наворовал, бог с ним, а вот то обстоятельство, что стал он ввозить на свой страх и риск левый товар, никуда не годилось. У конторы сбыт был до виртуозной точности налажен, Арик же имел дело с мелкооптовыми и несерьезными покупателями и, следовательно, запросто мог засветиться. К тому же порошок он бодяжил, что плюсов к его репутации отнюдь не добавляло. Убрать говнюка ничего не стоило. Вопрос состоял в том, кого определить после Арика на доходное место. Это и обсуждали хозяин со своим "архангелом". Но они-то с Сашком всего-навсего боевая группа, скажут – чик-чирик и нет Арика, им-то зачем высиживать? Стасу хорошо, доложился и отвалил. Но Макс и Сашок себя уважают, вот и сидят теперь, от голода причмокивают. И опять на летучке нет Ирены. Четвертый раз за одну только неделю.
А дела в конторе пошли ой-е-ей какие! Что при прошлом президенте, что при нынешнем. Миллениум справили на славу. Дружной семьей выехали на воды, то бишь, на море, на Мальдивские острова, шутка сказать! Кроме Татки, конечно. Осталась с полугодовалым Леликом, чего я там не видела, море и море, и Машку забирайте, без нее еще лучше справлюсь, не волнуйтесь, папаша. Куры, огород, свой глазок смотрок. Порезвились и без Татки. Так уж случилось, что кроме Мишки и самого хозяина за границей никто из них никогда не был. Да и то, хозяин те границы пересекал, когда от них было покамест одно только название, в доисторические времена, а "архангел" дальше Трабзона турецкого никуда не залетал, в смысле, не заплывал. Так то заграница ненастоящая.
Хозяин в самолете первый раз на их глазах выглядел беспокойным и не в себе. Видно, в воздухе почувствовал, что и он до конца не бессмертен. Случись чего и привет, "вамп" ты там или нет, на земле, на месте происшествия по уголькам не разберут. До этого исключительно по суше и по воде передвигался. Даже до Москвы – на поезде. Не доверял адской машине. Только на Мальдивы поездом слабо, а теплоходом запаришься. Ничего, долетел, тем более, что Машке понравилось. Дергала Яна все девять часов, какое море внизу, да как солнце садится. А он ничего, поил ее шампанским. Кроме Машки никто эту гадость не пил, все больше насчет виски прохаживались. Хозяин, тот коньяк наворачивал, и надо сказать, от души. И от нервов, и отдых тоже, конечно. Прилетели, однако. Гуляли под большое декольте. А Стас, он Стас и есть, в смысле, охотник. Местной полиции "глухаря" повесил. Захотелось небелой кровушки испить. И не голодный, чтобы так уж. Туземца, все же завалил, не побрезговал. Только, куда там, его словить! Охотник с большой буквы. На акулу заблудшую досужие и списали, три дня хороводились, патрули, то, да се. Забава, да и клиент так, электрик из отельных – низовой разряд. Потом по девкам приезжим охотник пошел, для куражу, но без душегубства. Потенция – будь здоров, после дозаправки. "Стабу Стабелла". Куда же деваться – все по парам, а мадам, хвост задравши, по залетным иностранным капиталам порхает. "Хау ду ю ду" и "Авек плезир", а только распоследний из них кретин и тот допирает, что дамочка тревожная и акцент у ней подозрительный, не говоря уж о неприличных брюликах и сопровождающей гоп-компании. "Не хочу тебя.... Таня Караваева".
Машка, все же, что ни говори, а молодец. И видит, и понимает. Хорошо, когда рядом кто-то просто так вот, от балды, по доброте душевной тебя жалеет, а сам не такой. Будто индульгенцию бессрочную выдает. Иди и не греши. А и согрешишь, не убудет. Правильно Ян на ней женился. Может и хорошо, что она не с ними, что бы там "апостол" в подпол не каркал. И с хозяином у нее не на пять минут. А как Лелик родился, так его и вовсе стало не узнать. С одной стороны, клыки как у саблезубого выросли, с другой, бери голыми руками, только оттуда не каждый зайдет, пароль индивидуален. Призадумаешься и диву даешься. Теперь вроде и не "архангел" в семье старший разводящий, а гранд-маман Наталья Ивановна, она же Тата. Как гаркнет, Лелику вредно то, Лелику вредно се, в доме не курить. Так и хозяин с сигарой дальше кабинета ни-ни.
Дела, однако, призывали вернуться в реальность. И Макс оборотился. Тем паче, что дела в последнее время пошли в семье большие. Что уж там восьмикрылый Михаил Валерианович проделал с хитрозагогулистым Гимором, рядовым гражданам неизвестно. Только отныне и навек и сам и Гимор и его новые околопрокуратурные и отчасти правящие бал друзья вошли с хозяином в паритетную коалицию. Балашинский, особа битая и за века свои так и не добитая, на рожон не лез и не высовывался. Община мирно копила денежки, и столь же мирно складывала их в заграничный чулок. Как только, так сразу. Урвать, пока не дали, и на зимние квартиры в жаркие страны. Однако, пока шла масть, с отъездом не поспешали.
Наконец, магистры договорились. Макс благодушно выслушал "ЦУ", которые и так знал, испросил позволения откланяться, подхватил Сашка, и ну-у, бегом в Таткины владения! Пиво и пироги. "Архангел" и владыка престола остались в одиночестве.
– Чума на три наших дома! Когда же заживем спокойно? – Миша хлопнул себя по колену, задав вопрос чисто риторический и патетический одновременно. В последнее время "архангел" благодатно раздобрел и разнообразил речевой стиль, однако, цепкости от этого не утратил, а, пожалуй, даже и приобрел.
– Никогда. Закон отрицания отрицания. Каждое новое разрешение порождает следующее препятствие. Ты просто мало жил, – спокоен был хозяин, но так ли, как хотел показать?
– Сколько есть, все мое, – Миша не обиделся, скорее вопросил, – не нравится мне положение вещей.
– Я не могу позволить Ирене подолгу оставаться в доме, – хозяин был печален и столь же категоричен, – по крайней мере до тех пор, пока ее болезнь не пройдет.
– Она не пройдет. Гордыня – диагноз хронический. А держать в остуде опасное животное чревато.
– Миша, мальчик, я пережил много разных жизней, а видел еще больше. Если что знаешь, говори прямо, – хозяин усмехнулся, но все невесело. Худ он стал и как-то прозрачен, Миша видел и переживал. Не то чтобы болел, смешно, но истончились и без того ювелирного резца черты, словно под кожей остались одни только голые нервы. Спокойствие, шедшее раньше изнутри, утратило гармоничность. Словно железной рукой держалось у последней грани.
– Напугали ежа голой жопой! – полыхнул Миша. Хозяин улыбнулся еще печальней. Что же, не у него одного нервы. Да разве ж Миша о себе! – Чего скрывать, если ничего толком не известно. Не нравится мне все это. Да!
Факты, голые факты. Говорят сами за себя. Как только Маша въехала в дом, так проблемы и начались. Фома держался сколько мог, но и он спасовал. А после Ирениной поганки и вовсе грянул гром. Хорошо еще, что Машенька оказалась кладом, какой поискать. Не то хозяин бы за себя не отвечал. Тогда и был выдвинут ультиматум. На который Ирена не согласилась и выдвинула свои условия. На которые хозяин не стал отвечать отказом. Отдельное проживание с краткосрочным появлением. Деловые свидания в городе и офисе, отдельная квартира на Бережковской. Рассчитывал, что одумается, и время лечит. Только что-то не очень стремится мадам обратно к своим ларам и пенатам. А как одарит своим появлением Большой дом, так юлит лисой. Это-то "архангелу" более всего не по сердцу. А попросту сказать, скорпионы тревожно жалят. От дел Ирену никто ведь не отстранял, и фонд ее аз есмь кормушка и кубышка. Но хозяин не может вот так, за здорово живешь, на родного "вампа", своего по крови и обращенного руку поднять. Пока за ту руку публично не поймал. Средневековье и шпоры рыцарские громом по мощеной булыжником площади. Только у нас тут асфальт, и скоростные лимузины и арбалеты от Калашникова. Хакеров и инопланетян боятся больше, чем вурдалаков.
– Нужна негласная слежка. Только вы, да я. Никого из группы и из семьи не посвящать. Тотально. От сумочки до посещений сортира. Под подушкой в момент оргазма. Денег не жалеть. Хоть через спутник, – резюмировал Миша. От напряжения аж покраснел. – Тошно мне. Как Чернобыльскому кролику под Припятью. Чую падаль.
– Не ты один. Но как же Маша? – хозяин сказал и не сказал. Будто вздохнул про себя.
"Архангел" же понял вопрос буквально. Оттого, как советник, осмелел и высказал наболевшее:
– Ян, хватит дурака валять. Уж прости, но не время миндальничать. Поиграли и хватит. Твои же жена и сын! Пусть вступают в общину и поскорее. Не можешь сам, так давай я или моя Ритка. Они с Маняшей самые подруги. А Татка для Лелика что хочешь сделает. Хоть луну с неба.
И договорить не успел. Как Ян взвился над столом. Во весь рост и хвать ладонью по стеклу. Вдребезги и телефоны на пол. Ящик с сигарами туда же. Никогда таким не видел. Белый, что твой покойник, и губы в нитку продернуты. Зыркнул так, хорошо, что взглядом не убить. Потом грянул.
– Не сметь! Мне заикаться! Даже! – и замер. Глаза бешенные. Постоял, постоял, как струна натянутая. Но пар быстро вышел, и обмяк хозяин, словно сдувшийся шарик. Так, что ноги не удержали. Упал в свое застольное, рабочее кресло, будто подкошенный, выдохнул слабо: – Прости. Не могу я. Вот сейчас прямо не могу. Может потом? Как-нибудь?
Мише аж не по себе стало. Сам себя вопрошал хозяин или, действительно, обращался за советом к своему "архангелу", было не так уж важно. Но вот интонации его, чуть ли не жалобные, выбили у Миши почву из-под ног, и сердце сжалось. Конечно, Машка тут не виновата. Что на душу запала, чистый божий одуванчик. Она не то что, в общину, в ад за Яном пойдет. Да не в ней дело. В нем, в нем, в хозяине и любимом друге, за которым и сам Миша отправился бы к черту на блины.
– Ян, ты пойми, выслушай, только спокойно. Это ведь в конечном итоге без разницы, сейчас или потом. Раз уж все равно когда-нибудь случится. Считай, что внутренне ты уже смирился. А промедление может быть смерти подобно… Нет, нет, ничего не произошло, я образно говорю! – поспешно и горячо воскликнул Миша, вовремя заметив, как тревожно и напряженно сдвинулись хозяйские брови к самой переносице. Однако, был "архангел" честен и перед собой и перед тем, кого не в шутку боготворил, и потому продолжал. – Но может произойти. Когда-нибудь. Но когда грянет это "когда", никто ведь не знает. Но многие из нас чувствуют. Да что я говорю! Раз мы чувствуем, ты и подавно! Разве нет?
– Разве да, – почти пошутил хозяин, а Мише от этого подобия юмора сделалось почти тошно. Что там игра слов, Ян и на остроумнейшие анекдоты никогда не улыбался, не то, что бы хохмить самому, даже если праздник в общине, и в доме веселая чехарда. Прозвучало так, как если бы поп в алтаре принялся громко распевать перед паствой матерные частушки.
– Как будто ты мчишься по скоростному шоссе на большой скорости. И тачка у тебя – высший класс, в полном порядке. И трасса, как идеально ровная доска. Погода самая летная и солнце сияет медным тазом. А на душе кошки скребут. Потому что за поворотом сразу обрыв, глубокий и отвесный. Ты его еще не видишь и не увидишь, пока не повернешь. Только чувствуешь поганку. И указателей на этот обрыв нету никаких. Выбор тут простой – или ты веришь в собственное чутье и тормозишь, или, увы, превращаешься в проблему патруля "ДПС" и ремонтной дорожной службы.
– Все верно, – согласился Ян. Вроде взял себя в руки. Не мудрено, такая сила. Да Миша особо и не сомневался, что может быть по-другому. Все-таки хозяин. – Только, давай договоримся с тобой считать, что до обрыва еще далеко, и пока дороги хватит. И не дави на меня.
– Я не буду. Я понимаю, – примирительно согласился Миша. Главное, что начало положено, а, значит, со временем к разговору вернутся. Но все же контрольный выстрел сделал. Не мог не сделать. – Если можно, ответь на самый распоследний вопрос: когда? В смысле, когда ты сам сочтешь возможным решить с Машей и Леликом?
– Я думаю, крайний срок – перед отъездом. Конечно, если Машенька будет согласна. Еще немного заработаем и долой. Года два, много три. Не срок. И Лелик еще маленький будет, ничего не поймет. Заодно подрастет, окрепнет. Как подумаю, что им мучиться…
– Вот ты о чем!.. – у Миши как-то даже отлегло внутри, – Об этом и вовсе переживать не стоит. Я согласен, мне легко говорить, Лелик не мой сын, но, по-моему, у тебя просто родительская паранойя. На что же тогда Фома с его арсеналом? Целую кучу денег переводит у себя в подполе. Неужели для Лелика и Маши что-нибудь особенное не изобретет? Чтоб все прошло не тяжелее насморка.
– Да уж, наверняка, сварит какую-нибудь бурду – он Лелика любит. А потом нос задерет до потолка. Алхимик…Но это – ради бога. Лишь бы толк вышел.
– Выйдет. Не сомневайся. И у Лелика и у Маши все будет хорошо.
После полудня студенческая братия традиционно потянулась к столовым и буфетам. И Маша вместе со всеми. Уже не одиноким столпом, а, скорее, плавучим островом, вокруг которого вовсю плещутся теплые, обтекающие волны. Леночка, как это стало обычным, так и увивалась вокруг, то и дело норовя взять Машу под руку, выставляя себя перед другими сопровождающими особой, наиболее приближенной к императору. Нина вела себя более сдержано, но своего места о другую Машину руку никому уступать не собиралась. Хвостиком тянулись и Тома с Вероникой, и Никита с Рязановым Шурой, сыном знаменитого ядерного профессора. Когда-то старший Рязанов сидел вглухую в Дубне, невыездной, как кремлевские куранты, но времена изменились. И ядерное светило заколесило по Европам и Америкам, собирая титулы и разномастную валюту. Сын его Шура в группе считал себя номером первым по положению моральному и материальному, нещадно задирал нос, рискуя пересчитать ступени факультетских лестниц, но и он со временем примкнул к Машиной свите. Еще бы: "лексус" последней модели – это тебе не двухдверный "фиат", пусть и с иголочки новый. Плевать, что на курсе у большинства и такого нет, особенно после августовского дефолта. А карманные денежки, выдаваемые скитальцем-профессором, ни в какое сравнение не идут с теми средствами, которыми шутя распоряжается Маша.
Так и повелось, что вокруг Маши, особенно в обед, собиралось целое королевское окружение. Маша Балашинская была далеко не дура, и подоплеку своей популярности видела и понимала, но и принимала сложившееся положение вещей. Потому, что это ведь была ненастоящая ее жизнь. А значит, все происходит как бы понарошку и значения не имеет. Сейчас, например, она точно знала, что Леночка начнет шумно призывать всех не травиться столовской едой, а смотаться по скорому в хитрый и навороченный трактирчик на Ленинском, где как раз в это время накрывают ланч. Проехаться в шикарном джипе с неподсудными номерами захочется и остальным. Тем более, что платить за всех будет, конечно, Маша. Ей не жалко, да и не в первый раз, а, точнее сказать, чуть ли не каждый божий день. И в трактирчике их уже знают, вернее, немного представляют себе, чья Маша жена, оттого обслужат быстро и по первому разряду.
Обидно немного, что видят в тебе лишь удачливый денежный мешок, но можно и пережить. Тем более что Маша на иных началах сближаться ни с кем не хотела. Да и нельзя было. Тут уж срабатывал инстинкт самосохранения и охранения близких от беды. Даже в гости немыслимо пригласить, хоть и набиваются вовсю, особенно Леночка. Не дай бог напороться на Ирену, которая может выкинуть неизвестно что. Сие непредсказуемо. Уж это Маша знала на собственном опыте. Хотя в ее случае мадам и просчиталась.
ГЛАВА 22. АЛИСА
А дело было так. Маша жила к тому времени в Большом доме добрых полгода, обосновавшись в нем прочно и надолго. Уже и первый курс был отработан и запечатлен в зачетной книжке похвальными оценками, а вскорости в доме ожидали ее торжественную свадьбу с Янеком, по летнему времени пышно планируемую на лужайке внутреннего двора. Маша на церемонии особенно не настаивала, а попросту говоря, даже и не заикалась, ей было и без того хорошо. Но ее возлюбленному этот законодательный акт был для чего-то необходим. И Маша рассудила, что все, что ни делается, то к лучшему. Тем паче, что в ее новой семье на бракосочетание не скупились, и на стоимость одного только заказанного для Машеньки платья можно было прикупить приличную однокомнатную квартиру. Дело было, конечно, не в деньгах, но юная невеста видела в подобной щедрости лишнее подтверждение нежных чувств не только со стороны своего будущего мужа, но и всей его многочисленной родни.
Однако, как выяснилось впоследствии, ликованием оказалось охвачено не все семейство. Было и одно исключение. Хотя некоторые странности в поведении исключения, и не только его одного, Маша замечала и раньше. Не могла не заметить, вот только значения не придавала. Вернее, не придавала того значения, которое было единственно подлинным. Но ее незнание и полная невозможность знания служили Машеньке тогда оправданием.
Близкие Янека приняли девушку хорошо. С кем-то Маша впоследствии сошлась лучше, с кем-то хуже, а кое-кто сделался по настоящему близким ей и родным человеком. Ближе всех неожиданно оказалась Тата, хотя поначалу Маша даже побаивалась строгую домоправительницу, старалась не сердить и не перечить. И дело было не только в Лелике, хотя и в нем тоже. Будучи выходцами из совершенно разных слоев несоприкасаемых мировоззрений, малообразованная провинциалка и блещущая интеллектом москвичка неожиданно друг для друга нашли общий для обеих знаменатель. Хотя порой им не о чем было и поговорить, кроме житейский сплетен Большого дома, погоды и ухода за младенческим тельцем Лелика. Но слова оказались не всегда нужными и важными. Важной оказалась та безусловная опора, которую добровольно взялась представлять собой Тата, когда Машенька, лишенная навсегда материнской поддержки, нуждалась не только в пламенной и оттого еще неровно горящей любви своего Янека, но и в простом и жалостливом женском участии, по возможности, бескорыстном. Тата такое участие охотно предоставила. Сама же взамен получила право выражать свою возникшую привязанность, тратить некий внутренний и нетронутый ресурс искренней и благодарно принимаемой заботы, иногда переходящий в простительную деспотию, выраженную народной поговоркой "люблю, как душу, трясу, как грушу". Поговорка, что естественно, распространилась и на Лелика, с завидным постоянством бунтовавшем против Таткиной тирании.
Но в то лето о Лелике еще не было и речи. А Машенька только-только полегоньку начинала воспринимать окружавших ее в Большом доме людей не как единую, родственную ее Янеку массовку, но как ряд непохожих между собой, совершенно отдельных личностей. И не потому, что ее собственное чувство к любимому стало иссякать, не дай-то бог, как молилась про себя, скорее наоборот, оно окрепло, нашло свою точку опоры, отдохновения и первого начала, но и потребовало от Машеньки некоего движения вперед, как и положено естественными законами развития. Тогда она и ощутила впервые потребность переносить внутренние свои переживания в мир внешний, иначе говоря, стала воспринимать окружавших ее в Большом доме людей не только через призму своего и их отношения к Яну, но и сама, независимо от этого, по-разному к ним относиться. И различать оттенки отношений к себе.
Справедливости ради надо отметить, что Маша и с самого начала своего пребывания в доме подмечала многое, пусть бессознательно и без далеко идущих выводов. Так, например, не очень внятная степень родства в ее новой семье вызывала уже сама по себе массу вопросов. Многочисленные родственники никоим образом не были друг на друга похожи, родом были из разных мест и фамилии имели неодинаковые. Конечно, пустяки, но степень их привязанности к Яну превышала меру даже тесной братской любви. И называли Янека не по имени, и не по отчеству, что было бы приемлемым для дальних родственных связей, а обращались коротко и емко: "хозяин". Это была не единственная странность.
Занятия многих членов семьи лежали вне дома, что было нормально и естественно. В то же время Фома, человек неординарный и изрядно образованный, имел какие-то странные занятия в подвале за глухой железной дверью. Тата позже объяснила, что этот странноватый, но в общем благодушный человечек, дипломированный химик и к тому же талантливый, и в бункере под домом у него лаборатория. Но трудился в этой подпольной лаборатории Фома исключительно один, и судя по всему, никаких связей с ученым миром не имел. По крайней мере, к нему никто не приходил и сам Фома Большого дома не покидал. Так что о непосредственном общении с коллегами-химиками речи не было. Маша же, последний год вращаясь в атмосфере академической, научную работу, практическую или теоретическую, представляла себе несколько иначе. Вряд ли кто-то в наши дни, по ее твердому убеждению, может серьезно заниматься серьезными же исследованиями в одиночку. Наука есть дело коллективное. Фома же представлял собой полную автономию, разве если только не занимался чем-то совершенно противозаконным. Но чем? Изготовлением наркотиков? Маша отвергла эту мысль, как совершенно нелепую. Во-первых, для крупномасштабного производства такого рода усилий одного человека явно недостаточно, а во-вторых, нужно какое-никакое, но сырье. Однако никто из домашних или посторонних Фоме ничего похожего не приносил, а из его лаборатории ничего не выносилось. Фома копался в своем подвале в гордом и полном одиночестве, и результат его трудов для Маши был неведом, если он, то есть результат, вообще был. В конце концов, Машенька стала считать этого безобидного, разговорчивого пухлячка законченным горе-неудачником, в пику коллегам колдующим над ретортами рецепт эликсира бессмертия, вечного родственника вечного двигателя, в надежде когда-нибудь удивить мир. А добрый дядя Ян из родственного сочувствия оплачивает его изыскания, благо есть чем.
Не меньшее недоумение вызывала и Ирена. Причем недоумение это было двоякого рода. То, что эта уверенная и полностью самостоятельная дама проживает по большей части где-то в городе, как раз казалось Маше абсолютно в порядке вещей. Но другие члены семьи, похоже, придерживались совсем другого мнения. Хотя зачем Мише, преуспевающему адвокату и к тому же женатому, держаться упорно за дядюшкину юбку, или точнее, брюки, было непонятно. Однако, ни его семья, ни Максим с Сашком и в мыслях не имели разъехаться и зажить своим домом. Ладно еще Фома и его жена, которые без поддержки Янека, возможно, просто пропали бы! Или холостой Стас, не говоря уже о Тате, которым удобно проживать в благоустроенном и богатом доме. Но зачем это нужно остальным, было для Машеньки неразрешимой загадкой.
Из редких замечаний Риты, Мишиной жены, с которой у Машеньки возникла приятная и необременительная дружба, выходило, что раньше Ирена также проживала вместе со всеми в Большом доме и даже имела собственное крыло на втором этаже. О причинах ее переезда Рита решительно умалчивала, а у Маши недоставало нахальства для напористых расспросов. Кроме Риты и вовсе никто в доме не желал затрагивать тему Ирены. А Тата, та просто невежливо обрывала робкое Машино любопытство репликами вроде: "Оно тебе надо?" или "Не тронь дерьмо – вонять не будет!" Лера по этому поводу и вовсе молчала и делала вид, что не слышит, так что обсуждать Ирену с ней было бесполезно. Хотя именно Лера недолюбливала энергичную свою родственницу совершенно открыто, возможно в силу диаметральной противоположности их характеров. Но может как раз неприязнь и вызванная ею предвзятость мешали Лере высказываться в адрес Ирены. Можно было, конечно, о прошлом существовании Ирены в Большом доме и ее отъезде спросить непосредственно у Янека, но Машеньке отчего-то именно этого вопроса своему любимому задавать не хотелось. Нежелание было инстинктивным и безотчетным. В каком-нибудь ином случае Маша могла бы предположить существование между Иреной и хозяином дома прошлой любовной интрижки, ведь были же у ее Янека какие-то привязанности до Машиного появления. Но Ирена тоже была близким его родственником, то ли двоюродной сестрой, то ли сводной. А такого святотатственного и противоестественного союза со стороны Янека Маша не могла и вообразить. Одно было ясно: Ирена своим переездом недовольна и считает Машу отчасти в этом виновной.
Внешне, однако, все выглядело радужно и благопристойно. В каждый очередной свой приезд Ирена, а наведывалась она в Большой дом как минимум раз в неделю, иногда оставаясь и на ночь, почти что и не отходила от Машеньки. Расспрашивала о жизни, давала подробные и не очень нужные Машеньке советы по поводу одежды и магазинов, и все это почти что с подобострастной, угодливо-заискивающей улыбкой. Шпилек и колкостей в Машин адрес она не допускала, поэтому отшить ее было бы невежливо. Иногда Ирена демонстративно и подолгу смотрела на Машу с напускным сочувствием, но причину объяснять отказывалась, только нарочито глубоко вздыхала. Если по близости случался Миша, то он отгонял Ирену прочь от Машеньки, причем бывал при этом груб и лапидарен. Но Ирена никогда на него не обижалась, только разводила руками, словно говорила Маше: "Вот видишь, как со мной обращаются? И за что?" Тогда Маше становилось ее жаль и стыдно за Мишу, хотя Ирена чем дальше, тем больше становилась ей неприятна.
Все случилось за неделю до свадьбы. В дом уже несколько дней как полноправной хозяйкой въехала предвещающая праздник суета, поднятая в основном женской половиной населения. Втянулся в хлопоты и Фома, как советчик и независимый эксперт. Советы он давал на удивление толковые и потому чаще всего дамами отвергаемые. Тата колдовала над меню, доводя до белого каления приглашенных поваров, пытавшихся как-то обуздать ее застольную фантазию, и доказывавших, что рагу из крокодила, хоть и экзотично, но все же уступает по вкусовым качествам правильно приготовленному молочному поросенку. В конце концов кулинарным чародеям удавалось ее убедить, но тут Тата переходила к следующему блюду, и песня начиналась сначала. Рита тем временем доставала флегматичного старичка-садовника и двух подсобных работяг, нанятых ему в помощь для обустройства двора, даже Сашка подключила, заставила выбирать цвета для тентов и рисовать на бумажке расположение гирлянд. Единственно спокойными в эти суматошные дни оставались сами будущие новобрачные. И немудрено. Ведь для них грядущее свадебное торжество имело совсем другой смысл. Хотя и для каждого свой.
Ян, понимая, что в такое время запросто от домочадцев и их забот отмахнуться не сможет, спасался бегством вместе с Мишей, пребывая главным образом в городской конторе. Иначе никак нельзя было отделаться от Леры, которой казалось, что парадный черный костюм все как-то не так на нем сидит, а из дюжины галстуков ни один не подходит по цвету. Как разумную альтернативу, Ян предложил ей выбрать галстук того же цвета, что и костюм, на что Лера, в силу природной своей уравновешенности, резких слов, конечно, не сказала, но вся гамма ее чувств в этот момент однозначно отобразилась на ее личике. Маша, в отличии от Янека, возможности потихоньку смыться не имела, поскольку по жаркому июльскому времени уже и экзамены остались в прошлом. А потому каждый день, начиная с раннего утра, ее дергали и тормошили, то заставляя в сотый раз примерять платье, заказанное не где-нибудь, а у самого Юдашкина, то требуя ее немедленного мнения по поводу букета, торта и цвета лимузина.
И, разумеется, Ирена не пожелала оставаться в стороне. Она приезжала из города каждый божий день, привозила с собой визажиста или парикмахера, коробки духов и ворох модных журналов. Вообще вела себя как задушевная и ближайшая подружка невесты. Маша ее безропотно терпела, считая непорядочным высказывать неприязнь в ответ на столь нешуточные хлопоты. К тому же, Машеньке определенно казалось, что Ирена хочет сказать ей что-то очень важное, и что она это вот-вот скажет.
До свадьбы, как и было упомянуто ранее, оставалась ровно неделя. Была суббота, а значит, все домашние собрались в Большом доме. Не потому, что подобно иудеям, почитали этот день, а просто такой обычай существовал в семье по выходным. Конечно же, приехала и Ирена. К Машеньке она особенно не липла, намеков и больших глаз не делала, может угомонилась, а, может и побаивалась присутствия в доме Миши.
Около полуночи родственники хозяина стали расходиться на покой, и Машенька, уставшая за день, последовала их примеру. Янек проводил ее до спальни, подождал пока Маша выйдет из ванной и уляжется, но сам ложиться не стал. Только крепко поцеловал и сказал, что должен еще поработать с Максом и Мишей. Маша нисколько не удивилась, такое периодически случалось и раньше, видимо, ночные совещания давали единственную возможность спокойно обсудить дела без суеты и посторонних ушей. Ее только всегда забавляло то обстоятельство, что уходя по ночам, Янек всегда запирал за собой дверь спальни на ключ. Не столь уж великое она сокровище, чтобы ревностно опасаться за его сохранность. Хотя, возможно, Янек всего лишь не хотел, чтобы Машенька отправилась его проведать на этом импровизированном заседании среди ночи, и таким образом, услышала бы что-то, что знать ей не полагалось или могло огорчить. Подобная заботливость ее трогала, но, с другой стороны, что страшного и криминального может быть в строительном бизнесе? А если и есть что-то, то у кого из бизнесменов сейчас нет проблем либо с крышей, либо с налоговым управлением? Впрочем, Янек, конечно, прав: о чем не знаешь, о том и голова болеть не станет.
Среди ночи Машу разбудил равномерный и глухой стук. Стучали в раму окна, плотно закрытого из-за работающего кондиционера. Часть дома, которую единственно занимали Янек и Маша, находилась на первом этаже, в стороне, противоположной холлу и общим залам. Тот, кто сейчас стучал в окно, расположение комнат этой части особняка, несомненно, знал. Значит, стучал, кто-то из своих. Потому Маша не стала пугаться, а попросту встала и подошла к окошку. Садовый фонарь светил хоть сбоку и издалека, однако, силы его хватило, чтобы Машенька разглядела приставленную к подоконнику стремянку, а на стремянке – Ирену. Из-за двойного, звуконепроницаемого стекла ничего слышно не было, и потому пришлось повернуть ручку и открыть.
– Тс-с-сс! – сразу же, как только открылось окно, зашипела, словно заправская змея, Ирена. Приложила палец к сведенным бантиком губам, потом громовым шепотом заговорила с Машей, – Лезь вниз. Ко мне. Лезь, не пожалеешь. Только тихо… Я тебе такое покажу-у! Не будешь знать, как после отдариться.
Машенька сначала ее не поняла, потом решила возмутиться, потом передумала. А Ирена все призывно махала со стремянки рукой, повторяя одно и то же: "Ну же, ну! Ну, лезь же! Ну!", и при этом опасливо озиралась кругом, рискуя упасть со ступеньки и свернуть себе шею. И Маша полезла, в последний момент все же догадавшись схватить с прикроватной скамеечки теплый, велюровый халат Янека. Зачем поддалась Ирене, она не могла до конца объяснить, оправдывая себя то любопытством, то тревогой за любимого человека. Но вернее всего, как обычно, спасовала перед чужой бесцеремонностью и напором.
Сперва на сырую, ночную траву полетели плюшевые, расшитые золотой ниткой домашние туфли, потом сама Маша осторожно вылезла на стремянку. Ирена помогла ей спуститься вниз. Потащила за руку вдоль стены, к южному торцу дома, выходящему на глухую, каменную ограду, за которой заканчивался, собственно, и весь поселок. Маша послушно позволила себя вести, но то и дело оглядывалась назад, не понимая, что им может быть нужно у окраинного забора, когда кабинет Янека находиться как раз в противоположной стороне. Что ночная вылазка некоторым образом связана с ее дорогим и единственным, Маша не сомневалась.
– Нет их там. В кабинете пусто. И темно. – одернула ее Ирена, когда Маша в очередной раз обернулась назад, – И под ноги смотри. Еще, не дай бог, упадешь. Тогда вся затея насмарку. Тут тихо надо.
Маша покорно стала смотреть под ноги, хотя действие фонаря уже закончилось, а никакого его собрата в этом углу двора сроду не было. И то верно: кто будет в здравом уме шляться по ночам у обнесенного колючкой ограждения, куда выходят исключительно окна кухонного флигеля и дверь трансформаторной будки.
Ирена, однако, ступала исключительно уверенно, и не менее уверенно увлекала за собой совсем уже покорную своей судьбе Машу. А та и не думала сопротивляться, полностью отдавшись во власть тащившей ее со злорадным энтузиазмом стихии. Маше было уже не до Ирениных выгод и намерений. В голове ее крутились мысли одна радужнее и веселей другой. И самая счастливая из них была о том, что по прибытии на место она непременно застанет своего будущего законного супруга в объятиях куражащейся соперницы. Простым перебором Маша вычислила, что это будет непременно либо Лера, либо "архангелова" Рита. Других подходящих женщин-неродственниц в семье попросту не было. Приходящих к Янеку по ночам тайком наемную горничную и судомойку Маша исключила сразу. И, не дай то господи, чтобы на месте Леры или Ритки, оказался, к примеру, Сашок. Пока Макс и Миша заседают… Этого Машенька просто бы не пережила.
Остановились они, как ни странно, у трансформаторной, встроенной в стену дома, будки. Обычная, крашеная суриком, металлическая дверь, с традиционным "Веселым Роджером", заботливо предупреждающим о том, что "не влезай, убьет!". У двери Ирена отпустила, наконец, Машенькину руку, толкнула локтем в бок, мол, не дрейфь, то ли еще будет. И, судя по шороху ткани, полезла зачем-то в карман. Маша послушно стояла рядом, уже отказываясь хоть что-нибудь понимать. Туфельки ее, пусть и на кожаной подошве, безнадежно промокли в траве, соответственно намочив и босые ноги, коса, небрежно и не туго заплетенная перед сном, растрепалась и теперь свисала космами. Сам облик Машеньки со стороны был довольно комичен: шелковая, до пят, кремово-белая рубашка, подол которой безбожно мокр и грязен и липнет к лодыжкам, а поверх рубахи – необъятный, синий до черноты, халат, с длиннющими, как у Пьеро, рукавами, нелепо волочащийся по земле неподвязанным своим краем.
Что могло им понадобиться в безлунной темноте у трансформаторной будки? Разумного ответа на этот вопрос у Машеньки не было. Кажется, Фома как-то мимоходом, знакомя Машу на первых порах с ее новым домом, обмолвился, что за дверью, кроме трансформаторов, находится спуск в подвал, где стоят запасные дизельные генераторы, столь мощные, что способны обеспечить в экстренном случае электричеством все семейное поместье. Но Машу ни тогда, ни потом, особенно не заинтересовали подвалы и расположенные в них генераторы. Янека же она хоть и считала достаточно исключительным и необычным мужчиной, но все же не настолько, чтобы таскаться с любовницами по трансформаторным будкам. Тем более, что в действительности ее любимый ни разу не дал ей повода усомниться в своей верности, скорее наоборот. Только одно лишь Машенькино буйное воображение, рисовавшее ей, как водится, самый страшный, но и самый невозможный вариант развития событий, натолкнуло девушку на мысли о тайной измене жениха. Однако, все же, и она и Ирена зачем-то сейчас стояли у этой дурацкой будки!
Тем временем Ирена извлекла из кармана полотняных бриджей нечто, оказавшееся ключом. И тут же легко, словно дело происходило средь бела дня, вставила его в замочную скважину.
– Теперь иди за мной след в след. И ни единого звука. – едва слышно прошептала Машенькина провожатая, и приказала: – Возьмись за мой пояс и держись крепче.
За открывшейся бесшумно дверью никаких трансформаторов не оказалось, не было даже намеков на их существование. Только пустота, настолько черная, что побивала ночную темноту, оставшуюся у них за спиной. Ирена уверенно двинулась в эту черноту, вовсе не закупоренно-затхлую, а приятно-прохладную, словно наполненную кондиционированным, освежающим воздухом. Маша семенила следом за Иреной куда-то вниз, ухватившись за предложенный пояс, и, однако же, чувствовала себя собачкой на поводке, зависимой в выборе маршрута и продолжительности прогулки от своей капризной хозяйки. Но вскоре впереди показался тусклый, сильно рассеянный свет, и вслед за ним Машу настиг неясный шум, выдававший присутствие в подвале других людей.
Свет шел из-за полуоткрытой двери, тоже железной, но куда более тяжелой на вид, чем наружная ее товарка. Перед тем, как войти, Ирена, обернувшись на ходу, мертвой хваткой вцепилась в Машенькину руку, словно пресекая любую попытку побега. Машенька оказалась уже не за спиной, а идущей рядом со своей спутницей. Так, парой, они и вступили внутрь ярко освещенного, подземного бункера.
Из-за резкого перехода от почти полного мрака к дневному электрическому свету Маша на короткий миг будто ослепла, но тут же заставила себя сосредоточиться и смотреть. И увидела, и услышала.
В подвальной, эстетично отделанной бетоном, комнате собралось все семейство. В дальнем углу, на алюминиевых стульчиках, восседали Фома с Лерой и Татка, державшая на коленях керамическую, расписную миску, всю в отвратительных бурых потеках. Макс и Сашок стояли рядом у стены, а у их ног лежал грудой длинный, объемистый куль, завернутый в непрозрачный, черный полиэтилен. В самом же центре бункера, совсем даже немаленького размерами, а в добрых двадцать квадратов величиной, как непроизвольно прикинула про себя Маша, находилась ошеломляющая скульптурная группа. Добрый и заботливый "архангел" Миша одной рукой обнимал сзади за талию неизвестного задрипанного мужичка в разорванной на груди футболке, а другой удерживал голову незнакомца в запрокинутом состоянии, крепко ухватившись за растрепанные и грязные волосы последнего. Из-за спины "архангела" выглядывал Стас, с развернутым, черным же пластиковым мешком наготове. А Ритка, веселая и сильная Ритка, которую еще минуту назад Машенька была готова заподозрить в непростительном легкомыслии по отношению к супружескому долгу, являла собой самую жуткую часть композиции. Пристроившись сбоку от мужичонки, Мишина жена, словно пиявка, присосалась к его шее как раз у разорванного ворота майки, издавая при этом звуки, схожие с довольным поросячьим хрюканьем.
Любимый и единственный ее Янек восседал в удобном полукресле, поставленном спинкой к выходу, и обернулся только, когда Тата, первой заметившая Машенькино появление, испуганно вскрикнула и уронила на пол миску. Ритка тоже оторвалась от своего мужичка, уставилась безумными глазами на Машу. Изо рта ее, полуоткрытого и ощерившегося, торчали два безобразных, совсем нечеловеческих клыка, подбородок был густо залит кровью. А из разорванной шеи незнакомца, как из неисправного душа, хлестала залпами кровавая пыль, взмывая к потолку и опадая проливным дождем на Риткину голову.
Маша не лишилась чувств и не закричала. Не успела, потому, как дальнейшие события стали развиваться с захватывающей быстротой. Ян взмыл со своего места, как ужаленный. Полукресло от страшного удара ноги отлетело к стене и разлетелось вдребезги. Ирена истошно взвизгнула, выпустила руку Машеньки, и бросилась бежать прочь, но была немедленно настигнута. Орущий благим матом, накрашенный ее ротик украшали точно такие же клыки, какими только что щеголяла жена "архангела". Янек, бешено ругаясь не по-русски, протащил отчаянно упиравшуюся женщину за шиворот через весь бункер, потом рывком повернул к себе лицом и отвесил оглушающую плюху такой силы, что Ирена, перелетев вверх тормашками к противоположной стене снесла на пол Фому вместе с его стульчиком. Никто из присутствующих даже не попытался прийти им на помощь. Однако, Ян не стал продолжать расправу. Очнувшись от необъятного гнева, он обнаружил вдруг перед собой изумленное и испуганное Машенькино личико, и только теперь до конца осознал происходящее. И, более ни на что и ни на кого не обращая внимания, как на второстепенное и неважное, подхватил на руки Машу и бросился из подвала вон.
Как Машенька попала обратно в их с Янеком комнаты, как ее донесли и уложили и дали выпить что-то жгучее и противное, она впоследствии припоминала с трудом. Но когда полстакана неразбавленного джина прояснили голову, для нее стало возможным понимать и воспринимать окружающее. И Маша первым делом задала вопрос, пусть глупый и комедийно-затасканный, зато, несомненно, осознанный:
– Что это было?
– То, что ты видела, – тихо и грустно ответил ей Ян. Он сидел рядом на краешке дивана, где, укутанная в одеяло, лежала Маша, в их собственной небольшой гостиной, которую еще давеча Машенька в шутку называла "будуаром". В руке у Яна был пустой стакан, так и не отставленный в сторону. От его одежды явственно и тяжело пахло кровью.
– А что я видела? – спросила Маша и, не дождавшись ответа, догадалась сама. – Вы сатанисты, да?
– Нет, мы не сатанисты, – ответил ей Янек еще тише и как-то обреченно. – Мы именно то, что ты видела.
– Не понимаю. Ничего не понимаю… Не хочу ничего понимать…– Маша судорожно замотала головой, будто пыталась таким образом отогнать от себя страшное. Потом повторила тоже самое, но уже в вопросительном смысле: – Я не понимаю!?
Надо было решаться, и Балашинский рискнул, поставил все на кон. Чтобы не мучить более себя, и не заставлять впоследствии страдать ее.
– Тут нечего понимать. Мы просто обыкновенные вампиры. Вот и все.
– Обыкновенные вампиры? – Маша подобного ответа никак не ждала, оттого не выдержала и истерически засмеялась. – Обыкновенные! Значит, бывают еще и необыкновенные?
– Погоди. Я ведь не шучу. – Ян на всякий случай взял Машенькину руку в свою. – Посмотри на меня, пожалуйста. И, главное, ничего не бойся. Помни, что я тебя люблю, и никогда не причиню тебе вреда.
Он выждал немного, словно обдумывал, как и с чего начать. И он начал с главного. И он улыбнулся. Так, как в последний раз улыбался своим бессчетным жертвам, перед тем, как нанести им решающий удар и впиться в обреченную им плоть. Только на сей раз, против воли, без желания и жажды крови. На Машу он не глядел, не мог и не насиловал свои чувства. И, через какое-то, неизвестное время, по пытающейся вырваться от него руке и легкому шелесту: "нет, нет…, нет", понял, что ему, пусть и не до конца, но поверили. Тогда он заставил свое лицо вновь принять человечий вид, отпустил Машеньку от себя, закрылся ладонями и сквозь душащие его слезы заговорил, в тщетной надежде поправить непоправимое.
– Я такой и есть. С самого рождения вот такой и есть. И родители были такими. И их родители тоже. Все погибли. Давно уже. По разным причинам. Один я жив. По крайней мере, больше ни о каких своих родичах я ничего не знаю. Я уже много, ужасно много лет жив. – тут Ян, все же, опустил руки и осмелился взглянуть на Машу. Глаза его были влажными, но слезы так и не пролились. – А что же мне было делать? Перестать убивать людей и пить их кровь? Я не умер бы и в этом случае, только обессилел бы и страшно мучился. Стал бы живым мертвецом. Убить в сердце самого себя? Это непереносимо жутко – взять и просто убить себя. И почему я должен был это сделать? Я не хуже других тварей божьих, просто другой. И тоже хочу жить. Уж как могу.
Маша молчала, совсем неподвижная и невозможно спокойная. Однако, было видно, что она все же слушает Яна. Он продолжал говорить, хотя более не мог смотреть ей в лицо и снова опустил голову.
– Уж, поверь, жизнь у меня была несладкая. Не знаю, что я от нее приобрел, но потерял достаточно. Хотя и я, конечно, бывал счастлив. В детстве, и в ту пору, когда мы еще всей семьей жили в Трансильвании, и была жива мама. Ее звали Юлия. И пока со мной оставался мой брат, тоже было не так, чтобы плохо, но и он сгинул, и я ничего о нем не знаю. Потом скитался с места на место по Малой Азии, еще во времена османов, старался устроиться получше, но это все было уже не то… Пока не угодил в проклятую пещерную могилу, куда меня загнал нищий поп, проповедовавший Христа среди полуголых горцев Кавказа. И хоть бы добил до конца! Так нет, этот осел даже не проверил, жив я или мертв! Приказал завалить камнями и ушел, а ведь и в древних, детских сказках сказано, что вурдалакам для верности лучше отрезать голову. А он своей тупой осиновой деревяшкой и в сердце толком попасть не сумел. Только задел. Но похоронил меня надолго. Так что умереть, я не умер, но за эти два столетия чуть не сошел с ума. Безнадежность во тьме хуже любой смерти. Но я чудом вышел из могилы и все еще живу. Хочешь, чтобы я умер теперь? Жизнь у меня поганая…
И еще долго Балашинский продолжал свои откровения, будто в бреду, и не замечал, что речь его, как пошла, так и движется по одному кругу, повторяя уже сказанное и вновь возвращаясь к нему спустя время. Он так ушел в себя и в свое отчаяние, что не почувствовал ни нежных прикосновений, ни легкой ласки на лице, не услышал и нежных слов кроткого утешения.
Машенька, как могла, старалась вернуть его в реальность. От давешнего страха не осталось и следа, да и бояться, собственно, было уже некого и нечего. Перед ней теперь сидел не жестокий убийца и не свихнувшийся сатанист, а родной и очень больной человек, которому нельзя помочь, но и отталкивать тоже тяжкий грех. Машенька хотела видеть и видела положение вещей именно в таком свете, и свет этот был для нее благим. Теперь ей надо только достучаться, донести до несчастного свое видение и свою любовь, и, конечно, свое прощение. Хотя разве он так уж виноват, что скрывал от нее жуткую правду? Поступила бы она сама на его месте иначе? Машенька знала, что нет, и оттого не могла судить.
К тому времени, когда она привела Яна в чувство, Маша наверняка знала, как себя вести. И уже Яну пришлось слушать свою невесту. Слушать изумленно и недоверчиво, не веря в собственную удачу.
– И ты не уйдешь? – задал он в первой же возникшей паузе этот животрепещущий вопрос.
– Ты смешной… А ты бы ушел, если бы я заболела, ну скажем, СПИДом? Бросил бы или просто выгнал?
– Ты что!? Я бы тебя лечил. Но я бы тебя вылечил, если бы ты захотела. Я – другое дело, меня излечить нельзя, хочу я того, или нет, – с жаром возразил Ян, но и сам знал, что аргумент его для нынешней Маши зыбок и безоснователен. И это было хорошо.
– Ну, ладно. Если бы и меня нельзя было вылечить? Тогда бросил бы?
– Я – нет!
– И я – нет. Что есть, то есть. Главное ведь, что мы вместе?
Ян ответить уже не мог – перехватило горло, и вместо слов обнял свою единственную отныне женщину, спрятал горевшее лицо в ее волосах. Так они и сидели молча бог знает сколько времени. Потом отпустило, полегчало.
– Ирена, вот ведь, дрянь. Я ее непременно накажу, чтобы накрепко запомнила, – сказал, наконец, Балашинский, словно таким образом хотел искупить сегодняшние Машины беды.
– Не надо никого наказывать. Я прошу. – совершенно искренне взмолилась Маша, – Знаешь, говорят, худой мир лучше доброй войны.
– Ты не понимаешь, чего она добивалась! Чего хотела, и почему. Она…, она была раньше…, понимаешь, она…
– Не надо. Ничего мне не объясняй, – Маша каким-то внутренним чутьем уже знала, что с таким трудом пытается объяснить ей Янек, и не хотела для него нового унижения. – Меня ведь тогда еще не было.
– Ты знала о ней…, о моих с ней отношениях и раньше? Кто тебе сказал? – забеспокоился Балашинский.
– Никто не говорил. Да я бы и не поверила. Я же считала ее твоей сестрой. Это я уже сейчас догадалась. Но ты ее не суди. Если бы ты ушел от меня к другой, даже если бы никогда не любил, я бы не знаю, что натворила. Пообещай, что не тронешь Ирену?
И он, конечно, пообещал. Хотя это обещание далось Балашинскому с трудом: руки чесались поставить зарвавшуюся дамочку на место. Но Маша уже заговорила о другом.
– А остальные твои родственники – они тоже никакие не родственники на самом деле? Не подумай, что для меня это имеет значение. Просто интересно, – Маша спросила, чтобы разрядить ситуацию, но отчасти и из естественного любопытства.
– Нет, конечно. Но удобнее, чтобы нас считали именно одной семьей. – ответил ей Ян, и счел разумным разъяснить кое-что еще: – Ты не думай, их никто не заставлял. Каждый здесь добровольно, по собственным причинам и обстоятельствам. И каждый сам делал свой выбор с открытыми глазами. За исключением одной лишь Риты – с ней произошел несчастный случай. Но она прижилась лучше многих, и, кажется, единственная в семье, кто полностью счастлив и всем доволен. И вот еще что: не каждый в нашей общине убивает, хотя кровью, конечно, питаются все. Фома, тот в жизни никого пальцем не тронул, не говоря уже о наших домохозяйках. Они только наблюдают, и то лишь затем, чтобы не отрываться от семьи. Вроде как объявляют: мы все одно целое. Хотя и Наталья и Александра частенько украдкой отводят глаза. Но это как раз нормально. Моя мать тоже никого не убивала, и видеть этого не могла. Отец и дядя ей приносили.
– Ну, значит, все не так уж плохо, – ответила Маша, ласково и успокаивающе, – и знаешь что, давай-ка ложиться спать. День был тяжелый, и ночь не то, чтобы задалась.
А через неделю была свадьба. Такая, какой ее и затевали. Пышная и фееричная. Пришла и Ирена. Но самым большим праздником для семьи явилось то, что Маша осталась с ними, приняв каждого таким, как есть, хотя и не присоединившись к общине физически. Впрочем, многие не без оснований полагали, что это дело времени.
Полной неожиданностью, однако, стало в скором времени появление на свет маленького Лелика, хотя Тата и уверяла Машеньку, что та вытащила счастливый билет, один из миллиона. Рождение ребенка, объясняла Тата, когда один из родителей "вамп", а другой лишь человек, редчайшее, почти невозможное дело. Сама Маша ее словам не очень доверяла, считая, что на самом деле просто не было возможности толком проверить это утверждение на практике. И то сказать, ее брак наверняка единственный в своем роде. По крайней мере, в общине ни о чем подобном не слыхали, а значит, в прошлом Янека и его родичей подобные вещи никогда не случались.
Лелик и стал со временем пусть шатким, но все же мостиком, между Машенькой и Надеждой Антоновной. Старшая Голубицкая в гости к зятю-бандиту гордо идти отказалась, но Машеньку с внуком у себя приняла. Яну мнение о нем новоявленной тещи было до лампочки, но он счел свои долгом, больше для Машенькиного спокойствия, помогать Надежде Антоновне деньгами. А теща, помолодев и приодевшись, переехала в Крылатское, прикупив на "криминальные" деньги трехкомнатную квартиру с евроремонтом, и вскоре вышла замуж за коллегу-невропатолога, хотя наличных средств, выдаваемых ей регулярно ненавистным зятем, хватило бы, чтобы содержать и Ди Каприо.
И все бы было ладно в датском королевстве, если бы не призрак отца Гамлета. То есть Ирена.
ГЛАВА 23. БИБИГОН
Плотный снегопад, затянувшийся с ночи, навевал тягучий сон, однако, нежиться в постели времени не было. За окном – ледяная река и стынущая гранитом набережная, с деревянным, притулившимся к ее монументальному боку, корабликом, сказочно-наивным в кружащихся, снежных хлопьях. На палубах кораблика, ныне стоявшем на вечном приколе и переделанном под уютный ресторан, жизнь еще и не начиналась, а вернее, только недавно закончилась. Везунчик мог теперь спать спокойно до самого обеда.
Но Ирене пора было вставать и уж, конечно, давно следовало разбудить заночевавшего друга. Будильника в ее квартире сроду не имелось, но Ирена, как и все "вампы", мало нуждавшаяся в продолжительном сне, никогда еще не просыпала. А вот у приятеля ее могли возникнуть и проблемы, хотя его мобильный страж пока не подавал голоса. Так что Ирена решительно стянула с сердечного дружка пуховое одеяло.
Полковник Курятников без одеяла, в первозданной наготе, выглядел не очень презентабельно, даже несколько гротескно. Хотя полнотой он был обижен и за физической формой следил исправно, одни только волосатые до курчавости ноги, в синих, выпуклых венах, похожих на скрученные веревки, эстетику его голой натуры убивали начисто. Но что же поделаешь в сорок четыре-то года! И это при собачьей работе опера, когда волка кормят сами знаете что. К тому же Курятников препротивно храпел во сне, не как все порядочные мужики, басом и равномерно. Нет, его храп больше походил на визги ведомой под нож мясника свиньи, с высокими руладами и непредсказуемыми переливами оттенков. Уснуть под подобный аккомпанемент могла разве только Ирена с ее стальными, непрошибаемыми нервами.
От холода Аполлинарий Игнатьевич тут же проснулся, и повернувшись с бока на спину, явил фасад своего тела во всей его шерстистой красе.
– Иришечка, солнышко, уж ты мне – кофейку! – детским, капризным голоском проворковал Курятников, и сел на край кровати, шаря по полу босыми, корявыми ступнями в поисках теплых, байковых тапочек.
– И кофейку, и ням-ням. А пока – живенько умываться… Ну-ка, брысь в ванную! – строгим, материнским голосом приказала Ирена в ответ на недовольную гримасу Аполлинария Игнатьевича. Впрочем, это была всего лишь ритуальная утренняя мистерия, исполнявшаяся с добровольным удовольствием обеими сторонами. – Давай-давай. Мафия не дремлет. Вперед, на стражу мирных будней российских граждан! Смотри, без тебя всех авторитетов переловят.
– Да уж, они переловят. Пока пистон не вставишь, никто задницу от стула не оторвет, – заворчал Курятников, но и это тоже был всего лишь элемент игры.
А надо сказать, что к описываемому нами времени Аполлинарий Игнатьевич некоторым образом сменил не только место своей службы, но и чин, в коем он эту службу имел честь отправлять. Вот уже год, как он служил не на славной Петровке, а в рядах не менее славного российского РУБОПа, и именовался теперь уже полковником Курятниковым. То есть ушел с повышением и по достоинству оцененными заслугами. Конечно, сам он, грубоватый и в меру честный служака, пусть и послушный начальству, ни за что бы новую звезду на милицейские, незапятнанные свои погоны так просто и скоро бы не получил. Но и мадам не дремала. Был у нее в этом деле и собственный интерес. Оттого в нужный момент кому надо были поднесены солидные презенты, и один соблазненный ею, но благодарный бабник-чинуша вовремя сказал, где следует, свое веское слово.
Квартира, объемистая, переделанная многосемейная коммуналка, наполнялась упоительным, летучим запахом кофе, какой не купишь в обычном супермаркете. Сей благородный напиток в специальной обработке зернах ввозился контрабандой из-за границы по сочинско-турецким каналам для самого хозяина, и Ирене, тоже любительницы кофейных прелестей, перепадало из запасов Большого дома.
– Тебя подбросить? – как обычно поинтересовалась мадам, когда полностью одетый и даже умытый Курятников покончил с обильным завтраком.
– До угла, рыбонька моя, до угла! А дальше – мы уж пешочком, – как обычно ответствовал Апполинарий Игнатьевич. Не хотелось ему отсвечивать у служебного заведения своей завидной любовницей, а уж тем более ее сверх меры завидной машиной.
Бедный полковник и сам не понимал, чем уж так он приглянулся столь богатой и красивой даме, у которой до него не было недостатка в кавалерах денежных и влиятельных. И то вспомнить – как и при каких обстоятельствах свели они с Иришкой знакомство. Не кто-нибудь, депутат Государственной Думы и не из последних скончался тогда, четыре года тому назад, на божественных ее ручках. А как убивалась! Не корысти ради, видать, сожительствовала, а из нежных чувств. Что и следствие подтвердило. Убийцу же в тот раз сыскали быстро, благо ходить было недалеко. И загремела моделька-мандавошка туда, куда Макар телят не гонял. Уж как отпиралась, какие сцены и драмы разыгрывала, руки на себя наложить грозилась. Да только какие руки в Бутырском СИЗО! Пусть спасибо скажет, что комитетчики ее финтифлюшистое высочество тогда в Матросскую Тишину не закатали, а ведь легко могли, только не стали на такую говнюшку разоряться. Улики – вот они все, как одна, на лицо были. Попарилась девочка недельку с обстоятельными рецидивистками и сама закуковала: хочу, мол, на допрос, в полную сознанку. А не залупись она поначалу, глядишь, и следователь наш Еремеев, мужик в общем-то не злой и до молоденьких дур жалостливый, так бы и скостил ей маленько в бумагах за хорошее поведение. И не пошла бы в суд с волчьим билетом.
Если бы Ириша в тот раз оказалась при делах, а он своей властью ее из помойной ямы бы вытащил, то любовь можно было объяснить хотя бы женской благодарностью. Но, чего не было, того не было и врать ни к чему. О чем вообще говорить, ведь Ирочку Синицыну Курятников толком допрашивал всего-то один раз. Потом приглашал на беседы больше для вида, да и она не отказывалась, глазки строила и поощряла. Когда приходила и без приглашения, и Курятников, если находился на месте, спускал для нее пропуск, хотя шляться по Петровке Ирочке было глупо и совершенно незачем, но сказать "нет" он не мог. Правда, Ирочка, умница, быстро все усекла, и место встречи было решительным образом ею изменено. А когда этим местом вдруг как-то само собой оказались ее внушительная квартира и не менее внушительная в ней кровать, Аполлинарий Игнатьевич неожиданно обнаружил, что ни от встреч, ни от Иришкиной кровати отказаться он уже не в силах. И, бог свидетель, не отказывался. Вот уже четыре года. Иногда ощущал себя почти что женатым человеком, однако, предложение делать все же не решался. Куда ему такую жар-птицу, да и возраст. Оставалось только ждать, когда он, Курятников, естественным образом надоест своей богине, и та его покинет по собственному желанию, после чего, ему, старому и никому не нужному, останется только утопиться в реке под ее окнами.
О причинах своего карьерного, внепланового продвижения Курятников, если и не знал наверняка, то, определенно, догадывался. Но Иришке ничего не сказал ни тогда, ни потом. Ни к чему было обижать, и забота ее, по всему, выходила приятной. Напрямую Аполлинарий Игнатьевич благодарностей не говорил, но иногда, как бы случайно и со значением, называл милую Ирочку своим ангелом-хранителем. Конечно, о фонде и о тех, кто стоит за его спиной, Курятников по долгу службы не мог не быть осведомленным, и слава о его потусторонних учредителях ходила темная, но не так, чтобы слишком дурно пахнущая. На очень уж большие выходы и фигуры завязанная. А это – почти что уже власть. Ведь она, власть, тоже не всегда в белых одеждах ходит, Курятникову ли не знать. Иногда и серым, грязным плащом бывает прикрыта. И коли нужна власти эта серость, коли дозволяется ей существовать, то не его, Курятниковское, это дело. В такие вещи сунешься – без головы высунешься.
А Ирочка, что же! И фонд ее сам по себе вещь нужная и полезная. Не все же нам на Голливуд оглядываться, пора и свои таланты миру являть. Особенно молодые. Но на это тоже деньги нужны и немалые. А деньги, они известно у кого. И не просто красивой женщине эти деньги из заветных карманов выудить, да еще на такие сомнительные и малоприбыльные цели. Тут уж приходиться, как в поговорке: мы – вам, вы – нам. И никуда не денешься. Ирочку не то, чтобы осуждать, ею восхищаться надо. Ведь могла давно завести себе постоянного хахаля побогаче, даже и замуж выйти, и послать этот фонд подальше вместе с его учредителями. Так нет же, бьется, как рыба об лед, с молодыми дарованиями, и не с молодыми, но до халявы жадными, тоже. Значит, душой за дело болеет. И его самого подобрала, небось, как приблудного щенка, пожалела, пригрела и оттого полюбила. Что же, он, Курятников, совсем не против, щенком так щенком, лишь бы подольше не прогоняли.
Самого, главного владельца денежных потоков, Аполлинарий Игнатьевич, разумеется, никогда в глаза не видел. Тот, по слухам, на людях бывать не любил и популярности себе не искал, ни светской, ни телеэкранной. Кличку в определенных кругах имел уважительную и неблатную – Хозяин. А вот с представителем его, адвокатом и уполномоченным по делам знаваться приходилось. Человек он был хоть и молодой, но обстоятельный, слов на ветер не бросал и вообще тратил их скупо, ничего сверх необходимого. Такого не заговоришь. И имя его звучало солидно, хотя и отдавало слегка поповщиной – Михаил Валерианович. Познакомила с ним Курятникова, конечно, Иришка.
Аполлинарий Игнатьевич при знакомстве тогда профессионально заподозрил неладное, как был все же лицом должностным и из карающего ведомства. Про себя решил, что твердо даст новому знакомцу понять – взяток не берет и брать в будущем не намеревается. А с Иришкой уж потом как-нибудь объясниться, она баба добрая и не вредная. Но Михаил Валерианович ничего такого не предлагал и даже намеком не озаботился, словно подполковники с Петровки в его друзьях числились пачками. "Рад. Очень рад. Знакомству." – только и сказал да руку пожал, и больше уж конкретно к Аполлинарию Игнатьевичу не обращался, а как бы разговаривал с ним и с Иришкой одновременно. Да и то недолго. Дело-то было в ресторации, на двадцать третье февраля, не до разговоров, когда закуска стынет.
Однако, попович о знакомстве не напоминал и впоследствии, хотя обмен визитками и состоялся. Ни лично, ни косвенно, через Ирочку. Выходило, что Курятников Михаилу Валериановичу ни за чем не был нужен. Аполлинарию Игнатьевичу в какой-то момент сделалось чуть ли не обидно. Неужто же он такая шестерка в колесе, что людям сильным и вращающимся около не до его "скромной" фигуры. Но адвокат Михаил не звонил и никаким другим образом не объявлялся, дружка-наркомана с кичи вытащить не просил. Не то, чтобы Курятников бросился вытаскивать или помогать хоть советом, но само обращение и последующий отказ с благородным негодованием очень бы не помешали Аполлинарию Игнатьевичу покрасоваться своей принципиальностью в Ирочкиных глазах. Но к услугам, оплачиваемым и деликатным, его никто не призывал. И в какой-то момент, уязвленный Курятников не выдержал. Спросил у Иришки, отчего ее юридический куратор воротит от Курятникова нос, мог бы и привет передать, благо с Ирочкой видится почти что каждый божий день.
Пожелания его определенно дошли до адресата. И был получен ответ на ожидания. "Как дела?" и "как здоровьице" и вообще "как оно, ничего себе?". И предложение при неопределенном случае попить пивка. Да еще плюс извинения, что оторвали от дел. Курятников извинения принял и насчет пивка не возражал. А вскоре и случай определился. На Ирочкин собственный день рождения, в аккурат пришедшийся на июнь, на самое его начало. Стало быть, по гороскопу богине выпадали в Зодиаке двуличные Близнецы, но Курятников к астрологии и ее приговорам относился скептически, в предписываемые звездами характеры не верил. Оттого к празднованию отнесся с почти юношеским энтузиазмом: выкроил из блохи кафтан. То есть "удачно" заначил копеечку с милицейского своего содержания. На настоящий подарок, понятно, Аполлинарий Игнатьевич не замахивался, не с его доходов, но на памятный пустячок средствами располагал. Презенты в виде парфюмерии отпали сразу: у богини французские флаконы имелись в количестве, достаточном для ежедневного мытья полов. А Курятников совсем не хотел, чтобы его подарок, пусть и скромных достоинств, затерялся в рутинном однообразии. После продолжительных и старательных размышлений был куплен симпатичный плюшевый щенок, рыжий и ушастый, размерами не мелкий. И сделанный не где-нибудь в Китае, а всамделишнее бундесовое изделие, если, конечно, верить этикетке. Что хотел Аполлинарий Игнатьевич объявить своим подарком, он до конца не знал, но полагал ему некоторое скрытое значение, наводящее мысли на определенные параллели. Щенок, кстати, вышел удачным, обжился на расшитом шелком покрывале той самой необъятной кровати, бывал частенько треплен за уши и целован хозяйкой в пластиковый носик.
День рождения Ириши отмечали вчетвером. До этого, само собой, состоялось празднование и в фонде, с приездами осчастливенных талантов и поздравлениями от штатных единиц. Курятников, конечно, не пошел, хотя зван был. Но и сам понимал, что Ирочка приглашала только из истинно женской деликатности и недопущения обид. Не хватало ему еще щеголять милицейскими регалиями среди обормотов-циников, каких пруд пруди среди служителей муз, способных запросто унизить офицерское его, выстраданное годами достоинство ради сиюминутного красного словца.
Служитель московской адвокатуры пришел не один, а под ручку с попадьей, единственной и законной, как мимоходом выяснилось в разговоре. От такой старомодной благонадежности в сознании Курятникова образ Михаила Валлериановича окончательно обрел свой коррелят в раннее данном прозвище "попович". Супруга поповича оказалась ничего себе, хотя на вид и совсем девчонка. Но тоже основательная и степенная. Медицинская студентка и усидчивая спортсменка, хотя и не комсомолка. Правда, иногда мелькала в ней и озорная смешливость, которой воли не давали, но и до конца не сумели подчинить. С таким мужем и не удивительно. Как говориться, с кем поведешься. Но как раз подобную сдержанность в молодых людях Курятников от всего сердца одобрял. Слишком многого он насмотрелся за годы своей беспорочной службы и не раз был свидетелем тех печальных последствий, к которым приводила юношеская невоздержанность и пылкость. Молоденькая "попадья" явно к его потенциальным клиентам не относилась.
Посидели в тот раз хорошо, от души. В "Кавказской пленнице" его Иришу, судя по всему, знали, обслуживали с особенным вниманием. Несколько раз подходил и главный распорядитель заведения, болтал с именинницей как с давней знакомой, но корректно и на общие темы. Поднес и подарок от ресторана в виде пышного букета и бутылки шампанского умопомрачительной стоимости.
В тот раз никаких обязывающих слов сказано не было, никакие просьбы тоже не прозвучали. Повеселились и разошлись, по-приятельски и легко. И после несколько раз выбирались в компании. Курятников с Иришкой и Михаил Валерианович со своей "попадьей". Адвокат, по-видимому, и в самом деле ничего от Аполлинария Игнатьевича не хотел, но относился с почтением к его званию и сединам, одним словом, действительно, пытался дружить. Курятников в расположение к себе поповича верил, считая, что мало пьющему и мало разговорчивому, сильно женатому адвокату не так-то просто найти приятелей в своем разбитном возрастном кругу, где для приятельствования нужны совсем иные мужские достоинства.
Потому-то, когда последовала несмелая просьба, упаси боже, не лично, а через Иришку, кое-что разузнать относительно криминального прошлого одного крупного строительного подрядчика, Курятников не смог отказать. Тем паче, что Михаил Валерианович ни о каком денежном вознаграждении за услугу и не заикался и даже не передавал намекнуть. И Аполлинарий Игнатьевич таким образом не был должен и обязан. Да и просьба с его-то связями была пустяковая. А попович лишний раз доказал свою осторожность в делах – доверяй и проверяй. Вот с проверкой Курятников и помог, снисходительно и доброжелательно. Потом еще и еще. Но тоже по пустякам и без обязательств.
А надо сказать, что к тому времени Аполлинарий Игнатьевич уже установил некоторые факты из прошлого адвоката Яновского, и впечатление те факты на Курятникова произвели благоприятное. Временами он поповича и жалел. Надо же было бедолаге тогда попасть как куренку в ощип. Кем являлся покойный Карен Налбандян Курятников приблизительно себе представлял, и полагал, что не в меру ретивого мальчишку уберегли бог и случай от зверской над ним расправы. Знал он и о трагической смерти матери поповича. Но хорошо то, что хорошо кончается. Парень, конечно, расстался с некоторыми жизненными иллюзиями, зато теперь попал в хорошие руки и стал понимать, что к чему. И если может он, старый, тертый опер помочь правильному человечку, то отчего бы этого и не сделать. Вроде как добровольное шефство взять. Опять же и Иришке приятно. И совесть спокойна и чиста – за деньги ведь нипочем помогать бы не стал, но парнишка уважительный, понимает, "спасибо вам, Аполлинарий Игнатьевич" и бутылку хорошую дарит, но не в смысле взятки, а от верности исконно русским традициям.
Впрочем, последние несколько лет о финансовых проблемах Курятникову всерьез задумываться не приходилось. Решались они как-то сами собой, помимо его усилий. Ирочка усиленно опекала своего великовозрастного щенка, баловала разнообразием кухни, после трудов позволяла и опрокинуть рюмашку, да не какую-нибудь, а настоящего "Хенесси ХО", другого не признавала, считала вредным для щенячьего желудка. Сама и одевала. Поначалу Курятников пробовал сопротивляться и даже ерепенился, но Ирочка ударялась в слезы, а расстраивать женщину в пылу любовных забот никак не годилось. Курятникову только и оставалось смирится, да по мере возможности удерживать подругу от чрезмерных трат на шикарные предметы туалета, несовместимые с его служебным положением. Возникали и иные подарки. То Ирише казалось, что любимый ее должен страшно скучать, когда оперативные обстоятельства вынуждают его проводить ночи на собственной жилплощади, и в скромной его квартире возникали дорогие телевизоры и видео и прочие технические совершенства. То богине никак не нравился грязно-серый цвет облезлых его обоев, и на Часовой 6-21 поселялась бригада молдаван-ремонтников. О возвращении "сюрпризов" не могло быть и речи – Ирочка обижалась всерьез, и Курятникову приходилось ради собственного спокойствия уступать. Но все же не мог Аполлинарий Игнатьевич игнорировать и тот факт, что впервые за все его самостоятельные годы скромной милицейской зарплаты стало хватать Курятникову с излишком. Когда же РУБОП одарил старательного опера полковничьими погонами, то и приобретение собственного автомобиля было уже не за горами. Хотя, благодаря Ирише, и в личном транспортном средстве у Аполлинария Игнатьевича не было особенной нужды.
В то утро, снежное и мутное, мадам предстояло исполнить одно немаловажное дело, о котором, само собой, сердечный ее друг Курятников не имел ни малейшего представления. Дело это никак не вязалось с устоявшимся имиджем заботливой подруги, чуть легкомысленной, но безобидной, как зелененький кузнечик, и оттого Аполлинарий Игнатьевич об этом деле, как, впрочем, и обо всех почти что семейных и личных делах, осведомлен Иреной не был.
К девяти утра мадам прибыла на Плющиху, в маленький, но жутко охраняемый особнячок, где и квартировал последние годы Фонд. Шиковать с отделкой мадам благоразумно не стала, и двухэтажное, подновленное здание вряд ли ослепило бы кого-то своим внешним видом. Однако и домик и прилегающий к нему дворик были чистыми, ухоженными и радовали глаз. Хотя и не имели фонтанов и колонн, орнаментальной лепнины и позолоты входных вывесок. Внутренний мирок особнячка во всем соответствовал его внешнему облику. Та же свежесть и чистота плюс уют, какой может быть только допустим в офисном помещении, и вышколенный, но и не без самоуважения персонал и наемные сотрудники Фонда, общим числом двадцать семь человек.
Был день дани. То есть день обязательной, ежемесячной выплаты высокосидящим священнослужителям-кураторам их законной десятины. Шахтерское место, прочно занятое конторой после насильственной смерти израильского гражданина, несомненно, оказалось удачным вложением, но, как и всякое другое доходное место, хоть и на Лужниковском рынке, требовало от арендаторов аккуратных взносов квартирной платы. Которая в данном случае являла собой число шестизначное. Разумеется, дань была "черная" и наличная, в американской валюте новенькими, клейкими еще купюрами. Сумма, обналиченная через "Молодые таланты", привозилась из банка в домик на Плющиху, куда и отзванивался представитель дань взимающих жрецов, сообщая место встречи с курьером, каждый раз иное, из конспирации или по въевшейся с годами привычке не доверять надзираемым.
Курьером, как повелось в недавние времена, выступал охотник Стас. И не без успеха. Должность свою он почитал весомой и, по общинной иерархии, ответственной, к тому же сохранял независимость и индивидуальный подход в исполнении. То есть, попросту говоря, охотник напарников в работе не имел, и начальственности над собой не ощущал, за исключением хозяйской, какую готов был терпеть и чью необходимость признавал. Оставался же, по существу, свободным художником в рамках. Курьерская должность его была необременительна и требовала именно присущих охотнику навыков – острого зрения и слуха, да звериного чутья на неприятности. Ведь в курьерской работе главное что? Вовремя и в целости доставить груз получателю. Помешать же чистому исполнению миссии при добросовестности и честности светлой курьерской личности могут лишь несколько обстоятельств. Во-первых, так называемый форс-мажор в виде землетрясений, каверзных чеченских взрывов, нашествия инопланетян, переворотов, и внезапных инфарктов на почве постоянного стресса, явлений фантастических на первый взгляд и мало учитываемых, но далеко не редких. Во-вторых, конечно, нечистоплотность самих получателей, захотевших и рыбку съесть и добавку получить. Но подобный фортель уместен мог быть лишь в отношении только тех опекаемых, чья слава далека от худой, а благополучие лишь приближается к стабильному. И в-третьих, случайная утечка информации, когда сторонние лихие молодцы-затейники выходят по наводке на большую дорогу, и, ежели повезет, оседают с экспроприированным капиталом где-нибудь в районе пляжей Ботани-бея, на другой стороне матушки Земли.
Ровно в половине десятого охотник уже раскинулся на диване в приемной мадам, попивал свежезаваренный чаек и дразнил секретаршу Галочку намеками на звездных поклонников из числа опекаемых Фондом талантов. Деньги подвезли к одиннадцати, а в половину первого была уже назначена встреча. Курьера получателей охотник знал в лицо, оттого, как обычно, деньгами и подтверждением в получении предполагалось обменяться из машины в машину.
Стас резину тянуть не стал, как обязательный и ответственный порученец, выехал сразу же, хотя путь его лежал относительно не далек. К смотровой площадке Воробьевых гор. Там под сенью трамплина и придворной студенческой церквухи и должен был состоятся обмен любезностями. Пробки по зимнему времени для столицы куда как обычное дело, но охотнику в этот день на дорогах везло. Добрался с ветерком, до полудня, и добрых полчаса имел в запасе. По сторонам особенно зыркать не стал – встречный курьер, парень бывалый, охотничий японский джип-вездеход видел не раз. Узнает – так подъедет или подойдет, тоже не мастак опаздывать. И Стас, приоткрыв окошко, с удовольствием закурил. Чего ж здоровье беречь, коли оно казенное. Пускал на волю дым, вдыхая взамен острый, морозный воздух, пахнувший мокрыми валенками и дизельным выхлопом.
Встречный порученец, пунктуальный, как атомные часы, прибыл тютелька в тютельку, словно рассчитал путь по секундомеру. Авто свое, тоже джип, но менее габаритный поставил впритык, вышел, водительскую же дверь предусмотрительно оставил чуть приоткрытой. Стас легким движением выпорхнул навстречу собрату-курьеру, поручкался, протянул черный матерчатый чемоданчик, на манер тех, в коих транспортируют по надобности портативные ноутбуки. И сразу же узрел поганку. Партнер его, стоявший к дороге спиной, то ли чутье на неприятности имел совсем никакое, то ли сказался охотничий "вамповский" инстинкт, каким чужой порученец, вестимо, обладать не мог. А только на лихую беду, ту самую, одну из трех, среагировал один лишь Стас и то с сомнительным успехом.
Из проезжавшей мимо, на умеренной, ничем не примечательной, обыденной скорости, рвотного цвета девятки полыхнуло грохотом и огнем, по Стасу – уже в полете к спасительной матушке-земле. Кураторский порученец, упал, как сносимый бульдозером памятник, убитый на месте, скорее всего, даже не осознав, что его жизни, курьерской и мирской положен ныне предел. Стас достиг грязного, снежного асфальта дороги живым, но далеко не невредимым. Две свинцовые маслины все же достали охотничье тело, удачливо и невезуче одновременно. Потому как, если первая засела в животе и никакого вреда, кроме временного неудобства охотнику доставить не могла, то со второй дело обстояло иначе. Повезло неслыханно охотнику оттого, что автоматный снаряд прошил драгоценное его сердце, средоточие жизни и бессмертия насквозь, навылет, не разорвав и не остановив навеки, а только повредив. Что было, безусловно, удачей. Оборотная сторона медали явила же себя в том, что ближайшие пять-шесть часов требовали от охотника полной неподвижности и снижения сердечный ритмов до самого минимума, дабы дать важному органу восстановиться и вернуть тело к нормальной жизни.
Грязно-бежевая передвижная огневая точка тем временем делала резкий, с визгом шин, разворот, и из задней открытой дверцы уже торчала хмурая рожа в зеленых очках. Одну руку обладатель рожи держал наготове подцепить чемоданчик, в другой был зажат, что уместно и неудивительно, изрядный ствол. Подельники его на передних местах тоже отсвечивали совсем не водяными пистолетами. И Стас счел за благо притвориться мертвым. Слава богу, лихие люди спешили, и контрольных выстрелов производить по безусловно неподвижным телам не стали. Все ограбление с двумя убийствами заняло не более тридцати секунд. После чего беспредельщики, с естественно не читаемыми от грязи номерами, убыли с добычей. Охотник и незадачливый напарник-курьер остались лежать в соленой, снежно-красной жиже у бровки.
К окровавленным телам уже бежал суелюбопытный и охающий народ, числом небольшой. Обмен между курьерами происходил за церковью, вдали от лотков с сувенирами и немногочисленных туристов, однако, перестрелка средь бела дня никак не могла не привлечь внимания. Стас же счел за лучшее из роли покойника не выходить, лежать совершенно натурально мертвым, благо упал он лицом вверх, а не физиономией в раскатанную снежную грязь. И были у охотника к вынужденному лицедейству веские обстоятельства. Сигнал тревоги, нажав кнопку на мобильном телефоне, он передать все же смог, следовательно, Миша о "ЧП" уже осведомлен и передаст хозяину. А вот скорые помощи и реанимационные отделения больниц в планы охотника никак не входили. Сердобольные зеваки, однако, уже отзванивались по "03", и невдалеке тормозила подлетевшая милицейская машина с мигалкой.
Прекрасно представляя себе, какой фурор произведут его медицинские показатели на много чего повидавших на своем веку медиков, Стас решил, что мертвым телом ему пребывать выгоднее, а там, как повезет. Повезло же, вернее будет сказать, повезли циники-медбратья, врач и фельдшер, ушлые мужики, незадачливого охотника прямехонько в морг, дожидаться вскрытия и судмедэкспертизы. Предварительно накрыв с головой вонючей от хлорки простыней и незаметно отстегнув с покойницкой руки баснословной цены "брегет", хозяйский новогодний подарок за беспорочную службу.
Стас от возмущения подобной наглостью чуть не подавился слюной, и ритмы сердечные непроизвольно ускорились, что тут же отозвалось полыхающей, обессиливающей болью по всему телу. Пришлось взять себя в руки и успокоиться. Часы, ну что, часы и есть часы, слава богу не последние. Мимо смерти, можно сказать, пронесло, а он за погремушку ерепениться, корил себя Стас. Но знал, однако, что дело не в часах, а в тырщиках-ублюдках и в том, что часы эти совсем даже не часы, не куплены и не зажилены, а получены, как награда и символ из рук, из которых и копейка – счастье. Оставалось только прикидываться покойником и далее, теша себя воображаемыми картинами того, как бы расправился с бессовестными воришками, имей он возможность стоять на ногах, или хотя бы рану менее серьезную.
В морге охотнику решительно не понравилось. Отвратительное оказалось место. Холодно, воняет формалином, нетрезвые служители гогочут и матерятся. Но и это бы все ничего, да только вот раздели догола, не церемонясь, и так, в костюме от Адама и бросили, словно чурку, на цинковый стол, в приятном соседстве с настоящими уже покойниками. Стас, однако, издевательство терпел. Хорошо хоть не отправили сразу на вскрытие, а то пришлось бы здешнего прозектора сильно удивить, а резкие движения для охотника сейчас были – верная смерть. Но вскрывать его пока что не особенно торопились.
Часа этак через два охотник ощутил заметное облегчение. Вышла и пуля из живота. Известное дело, брюхо – такое место, что заживает, чихнуть не успеешь. Осталось только дождаться полного выздоровления и заодно обдумать план побега из запертого морозильника.
Чтобы не беспокоить попусту домашних, экстренную летучку хозяин созвал непосредственно в здании Фонда. Сам явился в город, не поленился ради такого дела, пакостного и чреватого. По номерам охотничьего джипа и правам личность мнимого покойника была установлена представителями закона быстро и со старанием, не без надежды на вознаграждение. Так что уже к трем часам по полудни Миша, а с ним и вся Боевая группа имели сведения чуть ли не о всех подробностях наглого разбоя. Хотя достоверные предположения были налицо задолго до получения непосредственной информации из милицейских рук. Что дело дрянь, Мише стало ясно, еще когда от охотника произошел "пустой" звонок в условленное к передаче денег время. После связь с ним была прервана. А спустя без малого час в тревоге отзвонился и посланник высоких кураторов. Вскоре он прибыл на Плющиху собственной персоной, уполномоченный и нервный. Впрочем, заседанию посланник или "адъютант", как сам он указывал называть себя, не желая раскрывать инкогнито, помешать ничем не мог, а вот помочь – очень даже. "Адъютант", моложавый мужчина около средних лет, был, что называется, высоколобым, совсем не быкообразный, а скорее даже интеллигентного типа, если бы не сильный народный акцент, с неправильными ударениями и неточной фонетикой. Спустя первые десять минут общения с ним, и Мише и хозяину стало с почти стопроцентной вероятностью ясно, что кураторы к "бяке" не причастны совсем. Чутье подсказывало то же. Тем более что преставившийся курьер получателя был не просто тренированным наемником, пусть и доверенным, а не больше и не меньше, как родным племянником одного из надзирающих за конторой лиц.
Что опекаемые – также всего лишь невинно пострадавшая сторона, хозяин доказал самым надежным и наглядным способом. Просто-напросто привез с собой причитающуюся кураторам сумму. Всю до последней копейки. Взятую из неприкосновенных наличных запасов Большого дома. Но случай был особый, спокойствие и репутация дороже. Тем самым как бы давал понять: ограбление – ограблением, а долг – долгом. Одно другого не касается. Лихих ребят, конечно, будут искать, а коли надзирающие захотят поспешествовать, то контора отказываться не станет. "Захотят, еще как захотят", – заверил присутствующих "адъютант", и намекнул, что племянник был не просто так племянник, но непутевый в ранние годы и оттого любимый, и счет за него будет предъявлен особо. Сам же "адъютант" расслабился лицом, как только увидел деньги, положенные к выплате, и чуть было даже не поклонился в благолепии, когда хозяин не просто передал ему упакованные пачки, а еще с невыразимым достоинством извинился за неудобство и попросил денежный вопрос на сем считать исчерпанным. Словно не его несколько часов назад опустили залетные на баснословные доллары. "Адъютанту" оставалось только снять шапку.
После убытия удовлетворенного исходом беседы посланца у группы оставался один весьма больной вопрос. А именно: как вызволить Стаса или то, что от него осталось из скорбного покойницкого заведения? Милицейские служители и лично "адъютант" однозначно записали охотника в умершие души, и некоторые из группы были того же мнения. Однако, Ян, больше руководствуясь своим прошлым, печальным опытом так скоро выводов делать не стал. Все же "вампы" живучи, куда там кошкам, а что в морге подтвердили, так это еще ни о чем не говорит. Но даже мертвое тело оставлять в руках эскулапов было никак нельзя. Черт их знает, что могут накопать при вскрытии. По сему, как стемнеет, решено было идти на приступ больничного царства Аида и добыть хладные останки безвременно погибшего собрата.
Однако, идти никуда не пришлось. Штурм был отменен за ненадобностью. Не обошлось и без некоторой комичности.
Когда уже Макс с Сашком собирались в скорбную путь-дорогу из Большого дома, около половины девятого вечера, на периметре ограждения сработала сигнализация. А через несколько мгновений кто-то истово колотил в наружную дверь. Заплаканная Татка незамедлительно бросилась открывать, и вскоре из холла донеслись всхлипы и радостные охи вперемешку с ядреными, от души, матюками. Последними оживил траурную атмосферу охотник собственной персоной, он же и явился в гостиную вслед за, предвосхитившими его появление, звуками. Фигура его была нелепа и по зимнему времени забавна. Охотник прибыл к родным ларам и пенатам почти что обнаженным, словно греческий атлет, и совершенно босой. Из одежды на нем имел место один лишь тоскливо-зеленый врачебный халат, грязный и противно-вонючий, видимо, неоднократно использованный в прозекторской работе. К тому же одетый задом наперед, с распущенными завязками, которые не только не скрывали голый фасад, а наоборот, подчеркивали во всей его мокрой от снега эротичности. Ноги, грязные по колено, звучно хлюпали талой водой по паркету. И, конечно, мат продолжал струиться из уст страдальца непрекращающимся потоком. Лера и Машенька тактично отвернулись, а Рита, напротив, взирала на явление боевого собрата с любопытством ребенка, впервые отправившегося на экскурсию в зоопарк.
Охотник стряхнул с себя повисшую на нем еще в дверях Тату, плюхнулся с размаху на диван, и, прервав очередную многоэтажную тираду, простонал:
– Чаю мне… или водки! Помираю!
Сердобольный Миша плеснул ему сразу целый стакан. Охотник заглотил сорокаградусную единым махом, поперхнулся, подавился, и половину с фырканьем выплюнул на ковер.
– Эх,..... мать! – исторг вслед за жидкостью из себя бывший покойный. Ссыпал в пустой стакан зажатую в кулаке, сплющенную пулю, посмотрел посудину на свет. – Видали!? Во как!
Татка тем временем притащила сверху пушистый, мохеровый плед, кутала страдальца. Видя, что охотник слегка захмелел, а скоро будет совсем хорош, хозяин повелел, не желая откладывать на потом:
– Рассказывай, как выбрался. И, по возможности, подробно, – потом все же счел нужным поощрить, – молодец, что выжил. Без тебя было бы плохо.
Стас на похвалу отчего-то расклеился и жалобно-плаксиво изрек:
– Часы сперли! Даренные! Сволочи!
Потом внезапно замолк, махнул рукой, дескать, хрен с ним, и протянул Мише стакан. Миша отжалел еще, но не более, чем на два пальца. Стас поднес живительный напиток ко рту, но пить не стал, только понюхал, сморщился и сунул стакан обратно в руки "архангелу". И сразу начал свое сказание.
Когда рана его окончательно затянулась, в морге, кроме дежурных хануриков никого уж не было. Да и те пили горькую где-то в подсобке. Как высадил изрядную, оцинкованную дверь даже и не услышали. Но дверь дверью, а как на улицу в первозданной наготе выйти – призадумался. Единственное, что удалось сыскать, на нем сейчас и надето. Телефон в близлежащих помещениях обнаружен не был, шуметь же и привлекать внимание охотник не имел в виду. Пришлось на просторы столицы выходить в чем есть, благо уже стемнело. Почему не отзвонился? Потому, дура баба, что в автомат х… вместо карточки не засунешь! И пешочком, пешочком, временами и резвой рысью домой. Два часа топал, силы все ж не те. Еще и тайком по задворкам, но ему опыта не занимать. Охрану поселковую беспокоить не хотел, оттого через забор. Тут и сказочке конец.
– Ну, что же. Все понятно. – подвел итог хозяин. – Только придется тебе трупом побыть еще какое-то время.
– Как это? – опешил Стас. – Я не хочу.
– И я не хочу. Но другого выхода нет. Пропавший покойник – это одно, а вот оживший и сбежавший покойник – совсем иное. Так что из дому носа пока не высовывать и никак себя не являть. Временно ты не существуешь.
Стас уныло кивнул всклоченной головой. Он уже и спал.
ГЛАВА 24. НЕВАЛЯШКА
О явлении Стаса с того света мадам узнала только на следующее утро. История ее позабавила. Впрочем, сочувствия к записанному в покойники герою Ирена не испытывала. Охотник и без того в конторе служил на независимых началах, официально не числился нигде, словом, был лицом без определенных занятий. А временный, загробный статус никак не мешал его индейским вылазкам по ночам. Роль курьера пока же передали Сашку. Открытым оставался один лишь болезненный вопрос: кто так опрометчиво и неуважительно позволил себе шутить с общиной?
Прощать грабителям отнятое неправедным путем и с душегубством ни хозяин, ни его верный "архангел" не собирались. И вовсе не потому, что так уж заботились о престиже и имени своего заведения, а просто жалко было немалых денег.
В последние месяцы Миша с общего согласия семьи начал потихоньку переводить наличные запасы Большого дома в виртуальную реальность счетов в надежных английских и американских банках. А совсем недавно отоварил собратьев и первой недвижимостью за рубежами своей исторической родины – купил на имя хозяина домишко на Атлантическом побережье в городке Майами, штат Флорида. И оттого наглое похищение денежных средств общины, заработанных, между прочим, нелегким трудом, и созданная им, то есть похищением, финансовая прореха, пусть и не на много, но отдаляли светлый день великого исхода. Конечно, слов нет, Россия – такая страна, где денежки зарабатывать легко и приятно, но жить с приобретенным капиталом, безусловно лучше за ее пределами. Оно и безопасней, особенно, если ты вынужден скрывать не только источник вдруг возникшего благополучия, но и кое-что еще. Оттого Европа не подходила: слишком все друг у друга на виду. Третьи страны, развивающиеся и окончательно загнувшиеся, семья в виду не имела. То ли дело Вселенский Вавилон, лоскутно скроенный из законодательно независимых квадратиков! А в благословенном богом и криминалом Майами и вовсе человеческая карусель. Кого там только нет! Опять же много граждан славянской национальности. И ничего себе живут, надо заметить.
Достать же покусившихся на семейное добро было делом несложным, да и кураторы в случае чего помогли бы. Так что не спасут ребят ни казахские степи, ни занзибарские джунгли. Но для осуществления возмездия как минимум надо было установить личности шутников. Тут уж пришлось задействовать все связи по полной программе.
Не осталась в стороне и мадам. Курятников, как персона, знающая почти все о разбойной Москве, как о владетельной, так и о гастрольно-залетной, мог быть весьма и весьма полезен. Поручение было несложным и отвечало и некоторым личным мотивам мадам. Хотя роман ее с Аполлинарием Игнатьевичем был в некотором роде неожиданным и для самой Ирены. Отношения ее с новоиспеченным полковником хоть и походили внешне на трепетное и нежное обожание мадам покойного Чистоплюева, по сути же были совсем иного рода.
В отличие от убиенного депутата, обжоры и бабника, Курятников вовсе не вызывал у Ирены физического отвращения, а, скорее, наоборот. Особенно пикантным и возбуждающим обстоятельством неожиданно явились для мадам его погоны. Приручать, а впоследствии и повелевать высоким офицерским чином из блюстителей правопорядка оказалось захватывающе и приятно. Да и сам Курятников, как мужчина, по мнению мадам, был хоть куда, но, конечно, не то, что Ян. Впрочем, Балашинский для Ирены представлял отныне зеленый виноград из басни, и вечный жупел перед глазами. Ирена же в последнее время все чаще расценивала поведение Яна по отношению к ней как прямое предательство. И чувство мести все настойчивее стучало в двери. С точки зрения мадам, у нее были основания впустить это чувство внутрь. Но объяснить и понять мотивы, коими руководствовалась в этом случае Ирена, можно было только зная далекое и недалекое прошлое Ирочки Синицыной.
Из всей семьи только одна Ирина Аркадьевна Синицына родилась и всю свою жизнь, до недавнего времени, проживала в южном городе Сочи, который, собственно, можно было считать и городом рождения их необычной общины. И проживание ее в этом знаменательном для семьи месте с детства было неблагополучным.
Мать Ирочки, Людмила Ивановна Синицына, впрочем, так и оставшаяся до конца своей жизни для людей, ее окружавших, просто Люськой, служила официанткой-разносчицей в "Доме Актера". Девка разбитная, видная и в теле, к тому же имеющая на иждивении инвалида-мамашу, наполовину парализованную алкоголичку, Люська не брезговала и оказанием сексуальных, подпольных услуг прибывшим на отдых, одиноким постояльцам. Многие из них, в особенности личности известные и знаменитые, за Люськино веселое общество щедро платили. Впрочем, тем же ремеслом промышляла чуть ли не половина женского персонала пансионата, кроме древних старух-сторожих и администрации. С последними же девушки по справедливости делились.
Маленькая Ирочка родилась, когда Люське было уже под тридцать. Бабка-инвалидка к тому времени два года как померла, и Люська с дочерью остались в ненарушаемом одиночестве. Кто был фактически Ирочкиным отцом, Люська наверняка определить так никогда и не смогла, одно не вызывало у нее сомнений – папаша точно принадлежал к отдыхающему контингенту пансионата. Люська, прикинув в уме обстоятельства, грешила на двоих: лысого администратора одного из столичных театров, прибывшего поправлять душевное равновесие, и блондинистого, голубоглазенького гримера с "Мосфильма", завладевшего престижной путевкой лишь оттого, что был ноябрь месяц и хронический несезон. С последнего материального прибытку имелось не много, но на безрыбье, как говориться, и рак – рыба. К тому же гример лет от роду насчитывал никак не больше двадцати пяти, да еще научил Люську неотразимо скрывать ранние морщины под умело наложенной, пусть и простенькой, косметикой.
От мамки-покойницы Люське достался в полное владение саманный домик в Мацесте, с прирезанным к нему небольшим огородом. Домик, пусть и неказистый на вид, имел две, смежные между собой, хоть и небольшие комнаты, и пристроенную к нему деревянную, неостекленную веранду, выкрашенную зеленой, заборной краской и жутко скрипучую. Зато неоспоримым достоинством усадьбы являлся проведенный в дом всамделишний водопровод, так что не нужно было бегать с ведрами на близлежащую уличную колонку. В смысле остальных удобств в домике наличествовали лишь свет и ОГВ, туалет отдельно сосуществовал в виде щелястой, деревянной будки напротив ветхого сарая. Люська все собиралась поставить в чулане газовую колонку для нагрева воды и завести настоящую, городскую ванну , но, конечно, так никогда и не собралась, что в отсутствие в их доме постоянного мужчины было неудивительным. Оттого мыться по генеральной программе приходилось в душевой пансионата, по мелочи же грели воду на плитке в тазу.
Огородишко же, невеликий размерами, Люська содержала в порядке. Тут тебе и зелень, и огурец с помидором, и даже кабачок, и на рынке тратиться не надо. Курей и прочей домашней живности Люська не заводила. Негде, да и возиться было неохота. Целый год с нескольких куриц не прокормишься, только больше денег на зерно изведешь. Да еще подспорьем были пышные кусты малины, которые, собственно, в отсутствии всякого иного ограждения, отделяли Люськин участок от соседних, и абрикосовое дерево, росшее сбоку от веранды, дававшее тень и сочные плоды в урожайный, без заморозков, год. Варенье, абрикосовое и малиновое, Люська каждое лето варила исправно.
Не то, чтобы Люська недолюбливала свою случайно образовавшуюся дочурку, все же живой человечек рядом, но и особенными материнскими заботами Иришке не докучала. По-своему Люська, безусловно, привязалась к девочке, хоть и родила ту по бабскому недомыслию, но вот возиться с несмышленышем было ей недосуг. Опять же соседи и всяческие Люськины знакомые. Прижитый неизвестно от кого ребенок доброй славы одинокой женщине никак не добавлял. Оттого росла маленькая Иришка вольно, как полевой сорняк. Без надлежащего досмотра и дисциплины. А до школьного времени так и попросту на улице. Матери ее и в голову не приходило определить девочку хоть в самый, что ни на есть, завалящий детский сад, ведь никак не обойтись было при устройстве без хождений и хлопот, с просьбами и унижениями, а ничем таким Люська не собиралась себя обременять. Когда Иришке стукнуло три года, мать отказалась и от услуг соседской досужей старушки, за двадцатку в месяц приглядывавшей за малышкой. Так, по необходимости, Ирочка Синицына с раннего детства сделалась совершенно самостоятельной. Уходя на службу, частенько включавшую в себя и ночное время суток, Люська оставляла Иришке еду: закутанную в огрызок одеяла кашу и бутерброды с вареной, мокрой колбасой, иногда и плитку шоколада, дополнительный презент от постояльцев. Иногда, мать, измотанная жизнью и ночными удовольствиями, про еду забывала, и тогда Ирише приходилось выкручиваться самой. Пока была совсем маленькой и не освоила еще простейшую премудрость приготовления той же каши из перловой и манной крупы, Иришка перебивалась огородом и вояжами по сердобольным соседям. Те кормили ребенка охотно, словно в назидание и в укор, в куске никогда не отказывали, иногда чужая мать или бабка, вздохнув, гладила бесхозную Иришку по голове и на прощанье совала в руки пряник или домашний пирожок. Но Ириша, когда и умышленно спекулировавшая на соседской доброте, однако, уже и в маленькие свои годы осознавала, что в ее положении есть что-то некрасивое и позорное. При ее появлении взрослые зачастую шушукались, а отцы хлебосольных домов, где христарадничала Иришка, лишенные женской тактичности, позволяли себе и грубые шутки, высказываемые маленькой, незванной гостье прямо в лицо. "Яблоко от яблони, мать таскается, и эта туда же" составляли еще самый невзыскательный репертуар.
И все же улица – великая школа выживания для тех, кого судьба намеренно оставляет с жизнью один на один. Иришка оказалась способной и даже талантливой ученицей. Для начала ей пришлось усвоить простейшую аксиому – крохотными и слабыми своими кулачками защитить себя она никак не сможет, а значит, надо искать иной способ, помимо драки и уличной ругани. И способ нашелся, на первых порах, опытным путем.
Как-то раз, разодравшись с соседским Петькой, шестилетним внучком той самой досужей старушки, сильно поколоченная им Иришка, не выдержав обиды и боли, разрыдалась прямо на улице, на пыльной обочине у калитки Петькиного дома. На громкий ее рев из соседского дома выскочили мать и приезжая Петюнина тетка, посмотреть что случилось. Обнаружив у калитки вывалянную в пылище, похожую на дранную кошку, Иринку, рыдающую в три ручья, и рядом смущенного собственного сыночка, обе женщины справедливо предположили драку между обоими детьми с наглядным ее исходом. Петюнина тетка, взглянув лишь раз на Иришку, сразу отвернулась и поджала губы. Однако, Петькина мама, движимая чувством справедливости и нежеланием разлада с соседкой, грозно двинулась к сыночку с кухонным полотенцем в руках. В глазах Петюни вспыхнул вдруг неподдельный страх, он глянул на всхлипывающую Иринку жалко и просительно, словно мог надеяться на ее невозможную защиту. Тут и посетило пятилетнюю Иришку ее первое озарение.
С криком: "Не надо, тетя Надя, это не он!" Иринка бросилась суровой матери наперерез. "Это хостинские мальчишки, они у нас малину крали, а я не давала. А Петюнька меня защитить хотел, только не добежал!" – затараторила девочка, схватив тетю Надю, мать Петьки, за подол халата, словно опасаясь, что та недослушает и все же огреет своего сыночка жестким, вафельным полотенцем. Петюнина мать на мгновение недоуменно замерла, потом кивнула и заулыбалась, тетка тоже посветлела лицом. Сам же Петька стоял, зажмурившись, не веря в собственную удачу, в то, что на этот раз лиху беду пронесло мимо него.
– Бедненькая ты моя, надо же как изваляли! И черт бы с ней, с той малиной. Я с Люськой-то и своей поделюсь. Оно так, по-соседски все ж, – Петькина мать присела перед заплаканной девочкой на корточки, осматривала синяки и повреждения в одежде. Потом повела за руку в дом – умыть и причесать, заодно и ласково поманила Петьку: – Пойдем, кисельку положу. Ишь, защитник выискался, ну надо же!
И тетя Надя, довольная, засмеялась. За ней прошлась смешком и тетка, тоже польщенная рыцарским поведением племянника. Отблеск семейной гордости за Петюнины достоинства упал и на беззащитную Иришкину голову. Даже зловредная тетка уже не смотрела на девочку косо, а принесла откуда-то дешевенькую, синюю капроновую ленточку. Подарила. Иринка, наращивая успех и постигая правила игры на ходу, ленточку, дрянную и на ее неискушенный взгляд, взяла с трепетной благодарностью и попросила тотчас ее повязать. Тетка ленточку не без удовольствия завязала в кривой и лохматый бант, очевидно, казавшийся ей верхом совершенства, и пошла в погреб за остывающим киселем. Ирочка не только получила здоровущую порцию киселя заодно с обалдевшим от счастья Петюней, но и свежий бублик, осыпанный вкуснейшим маком, на дорожку. Надо ли говорить, что с этого дня Петюня не только не обижал свою догадливую подружку, но и всячески оказывал той протекцию перед остальными соседскими сорванцами.
Так оно и шло. За одним уроком следовал другой, и маленькая Ирочка потихоньку набиралась полезного ума-разума. Пока однажды не поняла, что вся жизнь ее – абсолютное и полное дерьмо.
К восьмому классу школьные ее приятели и подружки стали потихоньку определяться на будущее. Кто оставался заканчивать полноценную десятилетку, кто поступал в престижный техникум или училище. Школа, в которую волей случая мать определила Иринку, хоть и считалась самой обычной, дворовой, без уклонов и языков, все же стояла в хорошем районе и учила детей в основном из средне, а то и из более чем хорошо обеспеченных семей. Даже те из сверстников, чьи родители были многодетны или попросту бедны, не оставались обделенными заботой. Папы и мамы в меру сил старались пристроить своих чад к обучению выгодным материально и перспективным в будущем специальностям.
Иринка и сама не прочь была бы поступить в училище гостиничного хозяйства или медицинское, об институте она не смела и мечтать. Но без протекции или солидного подношения и то и другое было равно невозможно. Тем более с тройками в аттестате. Да и как могла она миновать этих троек, если собственной ее матери было недосуг наставлять дочь на путь усердия и знаний. Нет двоек и ладно. Так и повелось еще с первого класса. А когда Иринка осознала необходимость школьных баллов, то время оказалось безнадежно упущенным. Самостоятельно девочке догнать отличников выходило делом невозможным, о репетиторах же не могло быть и речи. Учителя и вовсе в помощники не годились. Задарма стараться ради посредственной, пусть и послушной, ученицы дураков не нашлось.
Думала Иринка, а как же, не без этого, пробудить в матери хоть какие-нибудь, если не родительские, то на худой конец, просто амбициозные чувства, и найти для дочери лучшие возможности. Но Люська, к этому времени полинявшая и раздобревшая, опустилась совершенно, и плевать хотела и на Иришку, и на ее жизненные перспективы. Из "Дома Актера" незадачливая официантка давно уже уволилась. Точнее сказать, была уволена за выход на работу в подпитии и пререкания с отдыхающими, многие из которых, люди все значительные и обидчивые, на Люську неоднократно жаловались. И Люська определилась, не без помощи молоденького водителя Рафика, развозившего на грузовом мотороллере молочные заказы по пансионатам и санаториям, торговать к его дальним родственникам на городской рынок. В ведение Люськи поступил кусок прилавка, летом занятый зеленью и помидорами, осенью и зимой – расцвеченный в оранжевые цвета хурмой и мандаринами. Заработок был бы ничего себе, если бы Люська хоть иногда доносила б его до родного дома. Но подобный праздник в последнее время случался все реже.
Вольная пташка, да еще с непоправимо испорченной репутацией, Люська совершенно махнула на себя рукой. Подружившись на рынке с такими же, как она, бабами, незадачливыми в жизни и горластыми любительницами пропустить стаканчик, Люська, отстояв базарный день и сдав выручку перекупщику Ашоту Донатовичу, толстому и невероятно потному, но безупречно честному с продавщицами, и получив причитающуюся ей долю, отправлялась с новыми товарками, что называется, "заслуженно отдохнуть". Отдых в летнее время происходил в дешевой портовой закусочной, в холодное же – на квартире у Мурки, прозванной так за абсолютно дранный кошачий вид. Мурка жила совершенно одна в не по-женски загаженной, однокомнатной квартирке-пристройке без горячей воды и ватер-клозетных удобств. Муж у Мурки давным-давно помер, отравившись собственного приготовления самогоном, сын же сидел по тяжелой статье с незапамятных времен.
Если с дамами увязывались кавалеры, в основном приехавшие сдать товар поставщики-частники, веселье обычно длилось до самого утра, а за "дополнительные" услуги Люська по привычке взимала с них наличными, теперь всего лишь пять рублей с носа, но зато уж, в отличие от бесплатных подруг, ни в чем кавалерам не отказывала. Иногда особо щепетильных клиентов, стеснявшихся тесноты и непотребства Муркиной комнатушки, приводила спать домой.
Эти-то ночные постояльцы, когда наглые, а когда и протрезвевше-застенчивые и доставляли Ирочке скудное денежное довольствие. Техника вытягивания наличности была не очень даже и хитра. Когда мать, с утра, как поезд по расписанию, отправлявшаяся неукоснительно на родную рыночную площадь, велела накормить, чем придется, пробудившегося гостя, Иришка прежде, чем подать поесть, на глазок определяла сущность и утренний настрой постояльца. Если тот вид имел невыспавшийся и понурый, или просто растерянный от пробуждения в неведомо какой части света, Ирочка без обиняков, но ласково намекала, что за завтрак надо бы заплатить отдельно, хотя бы рубль, одновременно при этом заботливо опекала гостя, старалась накормить от души. И денежку в этом случае получала всегда, иногда и больше рубля – за приветливость и доброе слово. Если же гость вставал бодрячком и в совершенно чужом ему доме чувствовал себя, как в своем собственном, был с утра авантажен и нахален, то подход к нему у Ирочки имелся совсем иной, да и денежный расчет тоже.
Когда самоуверенный постоялец, чаще человек горячий и кавказский, видя смущение прислуживавшей ему миловидной и полуодетой девчонки, пытался продлить ночные удовольствия и неожиданно обнимал Иринку, тянул к себе на колени, тут и начиналось основное шоу. От наигранного, девичьего смущения не оставалось и следа, Иришка принималась отбиваться и орать на всю улицу, поминая соседа-участкового и мамашу, которая, скажи ей дочка хоть полслова, не оставит от нахала мокрого места. Далее дело, ловко доведенное Иришей до мирного разрешения, редко заканчивалось меньше, чем выдачей малолетней вымогательнице десятки за молчание.
Но на червонцы Люськиных хахалей определиться в жизни было нельзя, на мать же у Иринки и нерадужных надежд не имелось. Оставалось позаботиться о себе самой, а там, как говориться, что бог даст.
После восьмилетки определиться удалось ученицей дамского парикмахера, не без заискиваний и обещаний служить одновременно и в должности сменной уборщицы, в цирюльню на Курортном, и то было редкой удачей для бесхозной девчонки. Поначалу и мастерицы и вообще все, кому было не лень, отрывались на новенькой по полной программе, об учебе и вовсе никто даже не заикался. Подай, прибери, сбегай, "пошла вон, лахудра", а когда и тычки до синяков. Иришка же терпела, понимала, что на первых порах никак не может быть иначе.
Но терпение и труд и камень перетрут. Исполнительную, улыбчивую, а, главное, необидчивую послушницу третировали недолго, благо мастерицы в дамском зале подобрались не до конца бессовестные. Когда и подменяла Иришка наставницу свою Нютку – вымыть голову постоянной клиентке, случайные, чай, не баре, сами до мойки дойдут и обслужатся, бигуди снять или накрутить, химию для завивки в посуде развести. У Иришки все получалось, все выходило хорошо. Через год с небольшим Нютка стала доверять старательной ученице иногда и стрижку сомнительной заказчицы. И тоже без нареканий. Деньги, пусть совсем пока небольшие, все же капали в Иришкин тощий карман, были честно и нелегко заработанными.
Одно только наблюдение, ежедневное и злое, не давало Иринке наслаждаться грядущими успехами и настоящими достижениями на жизненном поприще.
Они проходили нескончаемым потоком, с утра до вечера Иринкиного рабочего дня, веселые и богатые, местные, приезжие, разодетые и в большинстве своем привередливые, подруги картежных катал, рыночных рэкетиров, подпольных фабрикантов и торговых дельцов, многие – не сильно и старше ее самой. И уж, конечно, без институтских дипломов всего на свете добившиеся. К ним наперебой кидались мастерицы, зная щедрую манеру разбрасывания чаевых, о них злословили не без зависти, копировали наряды и словечки, заискивали и деликатно выспрашивали захватывающие подробности их "светской" жизни.
Вывод из коротенького своего выхода "в люди" Иринкой был сделан неутешительный. Стань она хоть самой-самой выдающейся парикмахерской примой, как местная их звезда беленькая Светка, пусть записываются охочие до красоты клиентки к будущей Ирине Аркадьевне хоть за год вперед, все равно останется она обслугой и халдейкой, даже если состарится и умрет позади этого растреклятого цирюльничьего кресла. А пока она будет горбатиться за ним годами в надежде на приличный заработок и услужливо принятые чаевые, другие девчонки, удачливые и свободные, расхватают лучшие места и лучших же мужиков, и останется Иришка старой дурой, не нужной никому и уж тем более себе самой. Печальный опыт матери Иринку ни в чем не убеждал, напротив, ясно подсказывал, каких подводных камней надо избегать, если не хочешь, чтобы лодка твоя потерпела безнадежное кораблекрушение. Оттого Иринка и дала для начала зарок спиртного в рот не брать, и не трепать себя по пустякам. Было ей об ту пору уже полных шестнадцать лет.
Реальность с планами юной покорительницы высот благополучия считаться, однако, не пожелала. В хороший ресторан одной так запросто было не сунуться, да и не в чем, на закрытый пляж тоже не попасть, приставать самой к состоятельным на вид мужчинам прямо на улице Иришке казалось пока зазорным. Опять же работать приходилось по шесть дней в неделю и все на ногах, что к вечерним хождениям не очень-то располагало. Однако, размышления о выходе из сложившихся волей судьбы неудобств, много времени у предприимчивой девчушки не заняли. Для начала Иринка посчитала правильным снизить запросы, поднабраться опыта и необходимых для антуража денег, а там уже, подготовленной и вооруженной, идти на штурм тугих кошельков.
Первым делом Иринка недрогнувшей рукой похоронила недавние свои достижения и старания. Уволилась с работы, сославшись на совсем захворавшую мать. Люська и в действительности последнее время была нездорова, врачи подозревали рак желудка, о чем потихоньку и сообщили дочери. Но Иришка всамделишних ухаживаний за матерью в намерениях не имела, и с чистой совестью отправила ту на больничную койку. Люська давно уж превратилась в ненужную и хлопотную обузу, и Иринка про себя не без радости надеялась, что при таком диагнозе мать в скором времени откинет копыта.
Закона о тунеядстве еще не отменили, и Иринка, как-то раз навещая мать в больнице, сговорилась с тамошней санитаркой-пенсионеркой о подмене. Лишний оклад куда как устраивал бодрую старушку, а вопросов никто и не задавал – больничные санитарки на дороге просто так не валяются. По документам же все выходило удачно. Даже стаж рабочий помаленьку набирался на трудовой книжке. Оставалось разрешить самый главный вопрос – как и где обменять тело и молодость на денежные знаки? Будущую свою профессию Иринка даже в мыслях и откровениях перед собой не считала уместным называть проституцией. Проститутки в ее совковых, пионерских представлениях были опустившимися, развратными тварями, грязными и грубыми, без разбору отдающимися кому попало за любые, самые жалкие копейки. В чем-то схожие с несчастной, непутевой Люськой. Иринка же ставила перед собой высокие цели и средства для их достижения ограничивать не собиралась. Страхов и неуверенности она почти что и не испытывала, первичный сексуальный опыт тоже имелся… С тем самым соседским Петюней, выросшим в здоровенного обалдуя и маменькиного сыночка, потихоньку от родителей таскавшим для Иришки конфеты и трешки из дома.
Затащить долговязого и флегматичного Петюню в постель никакого труда и не составило, да Петюня и не упирался, а скорее наоборот. Иришка же действовала отчасти из праздного интереса, отчасти и из корыстных побуждений, накрепко, словно бычка к ограде, привязав к себе слабохарактерного Петюню сексуальными удовольствиями. Нельзя сказать, что сама Иринка эти удовольствия искренне разделяла, но кое-какой опыт и материальную выгоду все же приобрела. И чувствовала себя вполне подготовленной для будущих покорений сильной половины человечества.
С первым клиентом Иринка определилась на удивление быстро. Не понадобились ни пляжи, ни рестораны. Идея пришла в жадно ищущую вариантов Иринкину головку внезапно и оказалась до смешного простой. Настолько, что Иринка даже удивилась сама себе, как ни разу не додумалась до этого раньше. То ли трудовой энтузиазм повлиял на ее мыслительные способности, то ли привычная к переполненным во всякое время общественным автобусам и пешему способу передвижения, Иришка упустила из поля зрения владельцев индивидуальных транспортных средств. И однажды под вечер, но до наступления ночной темноты, чтобы и себя показать и с выбором не лопухнуться, Иринка, приодевшись и подпустив косметического блеску, вышла на шоссе, идущее из Адлера через все Большое Сочи. Машины хоть и проносились, не взирая на узость дороги, с приличной скоростью, однако, возле одиноко стоявшей девушки с выставленными напоказ голыми, недурными ножками, все же притормаживали. Но Иришка разумно не спешила, выбирала. Чтобы клиент был в машине один и трезв, да и машина чтобы была не раздолбанный "москвич" или, того хуже, горбатый "запорожец". Наконец, остановилась на лиловой, увешанной стекляшками, "семерке", с приличной музыкой из раскрытого из-за жары окна.
Так Иришка и познакомилась с Мирзой. Мирза, чистокровный аварец из Махачкалы, привозил в город партии самопальных пластиковых шлепанцев, в просторечии именуемых "мыльницами", обратно в родной Дагестан увозил пачки "Мальборо", подпольно изготовленные в Гудаутах, и по качеству куда лучших своего заокеанского тезки. Только и отличий, что в полиграфии и в отсутствии фирменной надписи в основании левой сигареты, да кто станет разбираться? "Мальборо" как "мальборо". Рубль – пачка, отпускная цена из первых рук. А в родной Махачкале уже два пятьдесят, оптом и для родственников – полтинник скидки. Мирза, конечно, и табачный и обувной товар возил не каждый день. Когда и по две недели гостил в Сочи у замужней сестры. И так – с мая по октябрь. После закрытия курортного сезона наступал черед для торговли дубленками, подпольной же выделки и пошитых на загляденье Махачкалинскими скорняками-умельцами. Так что Мирза круглый год был при деле, и недостатка в средствах не испытывал. И для Иришки Мирза послужил неплохим началом.
Попала она и в кабаки, в которые прежде ход ей был закрыт. И приоделась у подпольных спекулянток в импортные шмотки от сухумских цеховиков. И даже прически у бывшей своей наставницы Нютки заказывала. Нютка делала укладку и вздыхала, завидовала тому, на что ни за что не решилась бы сама, и брала рубль на чай.
Мирза оказался, по Иришкиным тогдашним меркам, хахалем – первый сорт. За приезд тратил на Иришку когда и до трехсот рублей, немыслимые деньги, и это не считая гулянок в ресторанах и подарков из привезенного товара. И рад был, что у несовершеннолетней его любовницы имелся собственный домик, где он мог оставаться на ночь без помех. Конечно, в постели Мирза сильно отличался от соседского Петюни, и Иришка многому научилась у него с расчетом на будущее, и даже получала неподдельное удовольствие от забав с горячим и неугомонным дагестанцем. Мирза ко всему оказался и совсем не ревнив, чтобы не болтали о суровых кавказских нравах. Отбывая в родную Махачкалу, сам же и рекомендовал Иринку как местным, так и приезжающим по делам друзьям и родственникам. И благодаря такой заботе Иринка не знала простоев в работе и денежных перебоев.
Постепенно у нее сложился и свой круг постоянных клиентов, людей деловых и с деньгами. Пусть пока и не удалось Иринке обзавестись одним-единственным покровителем, который взял бы ее на долгое содержание, но все еще ожидалось впереди. Конечно, платные ее любовники были всего лишь чужими торговыми посредниками, и не самых высоких выходов, но Иришке и такая жизнь казалась совсем даже неплохой.
Со временем, осмотревшись и прикинув, что к чему, Иринка уразумела, как иметь и дополнительный навар, помимо торговли своими юными прелестями. К тому времени у нее уже появились и свои собственные подруги из числа знакомых ресторанных девчонок, таких же, как она курортных подстилок, более или менее удачливых. С их помощью и через парикмахерскую Иринка помогала сбывать своим клиентам те же сигареты и самопальные американские джинсы, накидывая поверх установленной цены и на свою долю.
Более-менее обеспеченная и задуманная ею жизнь продолжалась у Иринки до времен рухнувшей на ни в чем не повинный советский люд горбачевской перестройки. С одной стороны, накопленные Иринкой с бережением и старанием трудовые деньги стали прямо на глазах превращаться в пустые бумажки, и только с большой переплатой Иринке удалось обменять их по блату у знакомой ювелирши на золото Ереванского завода. С другой стороны, в полулегальном кооперативном бизнесе, только-только набиравшем силу, откуда-то вдруг стали выплывать невиданные и неслыханные доселе суммы, а с ними крепкие, будто вдруг выросшие из-под земли бритые ребята, умело эти суммы отбирающие. В Сочи отчетливо запахло зелеными долларами, совместными предприятиями и свежепролитой кровью.
Вчерашние ее клиенты, хоть и горячие, но мирные и гражданские грузины, абхазцы и дагестанцы теперь не на шутку воевали между собой, сплоченные и вооруженные. Отхватив свой кусок или пулю, одни уносились в московские выси, другие ложились в землю под гранитные, черные плиты. В Дагомысе и "Жемчужине" из каждого окна ныне смотрело по раскормленной бандитской роже, отдыхающей на экспроприированные капиталы или ожидающей следующего, недоделенного еще пирога.
Иринка на какой-то момент даже и растерялась. С валютой завязываться ей было пока что боязно, все же совковое воспитание не позволяло. Встревать в новую, волчью коммерцию без защиты и должных связей Иринка и подавно опасалась. Оставалось лишь одно, знакомое с ранних юношеских лет дело, которое она в свои двадцать два года хорошо умела и знала. И тут подруга ее Вика, давняя знакомая еще с безмятежных времен Мирзы, предложила выгодное дело. Если бы им и еще двум-трем девчонкам объединиться, то можно было бы с успехом обслуживать по коллективному подряду тех же бритоголовых постояльцев из Дагомыса и Сочинского Интуриста. Тамошние ребята, Вика уже выясняла, снимают сразу нескольких девчат для групповых удовольствий, пусть обращение у них и хамское, зато и платят хорошо. А если приглянешься, то могут забрать и с собой в личные полюбовницы. Недолго думая Иришка на предложение согласилась.
На первый вызов ехали вчетвером, взяли с собой в компанию безработных на тот момент сестер-двойняшек Лику и Снежану. Переговоры с заказчиком вела Вика, она же и была будто бы за старшую. Трем своим товаркам Вика обещала минимум по двести баксов на каждое тело, себе же брала триста, за хлопоты. И не обманула.
В тот вечер Иринка заработала первую в своей жизни валюту, которую и взяла с некоторой опаской. Попотеть за две зеленые, тощие бумажки ей пришлось немало. Приезжие братишки отымели и ее и подруг по полной программе, и оптом и в розницу, насколько позволяла фантазия. К тому же пришлось пить. Отказаться Иришка побоялась и правильно сделала, однако, тем самым нарушила данное себе самой обещание вечной трезвости. Но, зато, быстро опьянев, плевать хотела на то что, с ней вытворяли расходившиеся заказчики.
Дальше было уже проще. Вика свела самое тесное знакомство с дежурными администраторами, и последние без зазрения совести сами сватали заезжим гастролерам "проверенных" девочек. Иришка с подругами ждать себя не заставляли, выезжая, когда вчетвером, а когда в их команде появилась новенькая – татарочка Земфира, то и впятером.
Но свободной жизни молодежной, ударной, девичьей бригады скоро пришел конец. Как и следовало ожидать в лихие времена перемен, нашлись ушлые и сильные люди, захотевшие прибрать к рукам и выгодный бизнес по вызову. Вике, а с ней разумеется, и всей ее команде было предложено: или уйти под крышу к местным распорядителям, и подчиняться беспрекословно поставленному доглядывать смотрителю, который и решит, в какой мере оделять деньгами ту или иную работницу, или получить большие неприятности в виде больничной койки и безнадежно попорченных личика и рабочих принадлежностей. Испуганная Вика немедленно согласилась, выторговав персонально себе некоторые подручные привилегии. Остальные девушки, а с ними и Иришка, попали в жуткую, бессрочную кабалу.
Деньги, которые перепадали после всех расчетов, непосредственно на руки Иринке, никак не могли компенсировать ни каторожной, унизительной работы, иногда с побоями и членовредительством, ни низменного и позорного ее положения в роли копеечной жучки для любого охочего кобеля. Узнала она и бесплатные субботники, и ночные выходы на набережную, когда с вечера у их сутенера-смотрителя Гарика не набиралось достаточно заказов. И попробовала бы она не выйти! Гарик точно указывал сумму, которую надо было под страхом жестокой и неотвратимой расправы добыть к утру, и никакие отговорки не принимал во внимание. Жить стало совсем невмоготу. Мечты о богатом покровителе окончательно и бесповоротно канули для Иришки в Лету, она еле-еле сдерживалась из последних сил, чтобы не запить. В беспросветном хаосе и кошмаре протащились-проползли два года ее изгаженной молодости.
Пока, у последнего предела, судьба не послала ей, наконец, неожиданное и невероятное спасение.
ГЛАВА 25. ПТИЦА-ФЕНИКС
В тот день, вернее, вечер, а для мирных обывателей – и в ночь, Иришка и вышедшая с ней в пару Снежана караулили клиентов в греческой таверне на набережной с мифологизированным названием "Диоскурия". Пик курортного сезона ожидался не ранее, как через пару недель, майские же праздники они отгуляли. Оттого заказов было не густо, и простои Гарик велел компенсировать выходом на свободную охоту.
И Иришку, и Снежану в "Диоскурии" давно и хорошо знали, не без рекомендации смотрителя Гарика, и оттого никогда не гнали, а даже напротив, ставили в кредит дежурную бутылку слабого сухого вина, пусть и низшего разбора. Стоять порожняком, однако, долго не пришлось, место было доходное и прикормленное, и еще до полуночи девушки уже подсели по недвусмысленному приглашению к диковатой, но щедрой на вид компашке лихих кабардинских джигитов, прибывших по своим загадочным делам на берега Черного моря из неблизкого Нальчика. Джигиты были относительно молоды и безусловно горячи, так что работать Иришке и Снежане предстояло без дураков, на полную катушку. Но судя по тому, как захмелевшие за богатым столом кабардинцы сорили деньгами при расчете с раболепно склоненным перед ними халдеем-официантом, за одну поездку девушки при известном везении могли бы не только отработать заданный урок, но и сколько-нибудь положить безвозмездно и в собственный карман. А джигиты и не думали с ними торговаться, на объявленную цену, явно для дальнейшего торга завышенную, только махнули рукой. Мол, пустяки, и не о чем говорить.
Из "Диоскурии" хмельная компания, три порядком пьяных кавказца и две сомнительной трезвости красотки, не мешкая отправилась на паре нанятых частников куда-то в горы, в район форелевых рыбоводческих хозяйств, где у одного из джигитов проживал новорусский холостой кунак в собственном доме с биллиардной и сауной. Этого кунака Иришка и Снежана знали хорошо, правда, всего лишь понаслышке, но кунак – личность в Большом Сочи известная и уважаемая, и попасть в его дом, пусть и случайно и в наемном статусе, было для девушек удачей. Будто косвенно поднимало их на новую высоту и набивало в известном смысле цену на будущее.
В горном шале джигитов приняли как дорогих гостей, и даже платным их спутницам кунак бросил вполне добродушно: "Ну-ка, девки, залетай! Эх, не обидим!" А Снежанке так и вовсе подмигнул. В доме помимо хозяина и его друга уже свили гнездышко две пташки, рангом повыше Иришки и Снежаны, капризные и дорого одетые. Очень может быть, что и не проститутки, а постоянные подруги, или распутные дочери начальственных отцов.
Веселье, с банькой и напитками, шло своим чередом, мирно и без свинства, ставшего в большинстве случаев для девушек нормой подобных мероприятий. На джигита – по девочке, и не на виду, а по-людски, в укромном уголке. Когда же осоловевшие кабардинцы наладились поспать, то Иришке и Снежане ничего не оставалось как составить компанию кунаку и его другу Мавру, – то ли имя, то ли кликуха, было не понятно, – в виду отбытия по домам их собственных подруг. Хозяин-кунак, вот что называется большой человек, тут же выдал девчонкам по сотне зеленых, да еще намекнул, что в виде аванса, так что Иришка и подруга ее от нежданной удачи были рады стараться и готовы на что угодно. Но, как выяснилось в последствии, все же не на все.
Кунак не медля, завладел прямо-таки урчавшей от самодовольства Снежаной, на которую еще и с начала гулянья положил глаз, и увел новоприобретенную подругу куда-то в верхние покои своего горного замка. Иришке же достался загадочный Мавр, впрочем, совсем не черный и не грозный, а скорее изнеженный и хиловатый субъект, слегка смахивающий на голубого и трагично лирического поэта. Иринке отчего-то стало чуть ли не жалко этого разодетого, словно скоморох, в бело-розовой конфетной гамме, сморчка, и она нежно и поощрительно взяла поэта за руку, будто приглашая его последовать примеру кунака и Снежаны. Однако на ее молчаливый призыв Мавр отреагировал немного странным образом. Не отпуская Иришкиной руки, лирический поэт ни с того ни с сего по всем правилам галантной науки опустился перед ней на одно колено и, целуя поочередно оплаченные кунаком пальчики девушки, высокопарно изрек:
– Семирамида моя, Астарта, жрица, божественная! Прошу, нет, умоляю не отказать! В такую лунную ночь… Вы, я и природа, что может быть прекраснее. Долой из душных стен и – в поля, в луга!.. То бишь, пардон, в горы. Но это не имеет значения. Так вы согласны?
– На что? – одновременно улыбаясь и недоумевая спросила поэта Иринка. Этот странный Мавр и весь вечер нес совершеннейшую чепуху, а теперь его околесицу совсем уж было не понять.
– Как на что? На романтическую поездку в кабриолете! Ночью, при луне, я же вам говорю. И кругом деревья, и горы и слышно море вдалеке… Только Вы да я! А кабриолет имеется, самый натуральный, да. Вот и ключи.
Лирический поэт Мавр извлек из белых штанин пару ключей, висящих на серебристом брелоке с символикой знаменитого концерна Бенца и призывно, словно шут бубенчиками, помахал ими перед Иришкиным носом.
– Так вы хотите на машине покататься! – догадалась, наконец, Иришка и озабоченно спросила: – А сможете? Вы ведь выпивший.
– Какие пустяки, право, – обиженно отозвался поэт, впрочем, вся еще стоя на коленях, – я чувствую себя превосходно, как никогда. И стражи строгие правопорядка давно уж спят… По крайней мере в этом медвежьем углу. К тому же мы поедем созерцательно и степенно, а не понесемся сломя голову, как поступают те, кто не способен наслаждаться великолепием спящей природы и нежным женским обществом. Так каков будет ваш ответ, моя прекрасная вавилонянка?
– Ну ладно, Маврик, тогда я согласна, – в тон поэту, но не слишком удачно, отозвалась Иришка. Перспектива прогулки в "кабриолете" отчего-то вдруг прельстила ее, показалась праздничной и романтичной, и отчасти даже событием в ее чуждой всякой романтике жизни. К тому же и впрямь в эти минуты представлялась она самой себе дамой и музой, приглашенной на прогулку страстно влюбленным в нее кавалером, к тому же поэтом, мечтательным и нежным. А поскольку сам Мавр своей рукой никаких денег Иринке не платил, то о том, что ее время и расположение оплачены гостеприимным кунаком, можно было и вообще забыть.
И они поехали. В кабриолете. С откинутым верхом и двигателем, страшно сказать в сколько лошадиных сил. Поехали, как было сказано ранее, медленно и степенно. Относительно, конечно, к скоростным возможностям данного кабриолета. То есть, не менее шестидесяти километров в час. Луны уже давно не было и в помине, а ночь не спеша, но решительно и неотвратимо переходила в рассвет. Что, впрочем, при езде по неосвещенной горной дороге не могло не радовать. Спутник Иришки, хоть и казался лирическим поэтом, стихов, однако, по пути не читал. А только нес ту же ерунду про ночь и звезды и одиночество вдвоем. Хотя вроде был не дурной и не слепой, и не мог не видеть, что с гор уже ползет предутренний туман и скоро выйдет солнце, а одиночество то и дело нарушается петушиными криками и далеко слышной бранью хозяек на непослушно бредущих к выгону коров. Но, как говориться, хозяин – барин, и Иришка старалась поддержать нелепую игру, в которую втянул ее Мавр, детский сад, да и только.
Но скоро кабриолет затормозил на горном проселке, уходящем неведомо куда. И Мавр пылко и настойчиво начал уговаривать Иринку прогуляться в лес, по-прежнему называя ее вычурными именами из дремучей давности мифов и истории.
– Вы – как прелестная Сиринга, а я – козлоногий Пан. Я настигну вас среди деревьев, и вы будете моей навек, – бормотал Мавр, таща Иринку за руку к лесу.
"Козел,.. как есть козел, этого уж точно не отнять", – думала про себя Иришка, перебираясь через канаву, тянувшуюся вдоль обочины дороги. Что поэту просто-напросто захотелось потрахаться на природе было понятно с самого начала, только Иринка предполагала осуществить сей процесс на заднем сидении машины, а не посреди буреломов, царапучих кустов и мокрой от росы, больно режущей ноги травы. Да и почти новые, на громадной шпильке, босоножки портить не хотелось. Сколько на них копила! Но босоножки, положим, можно и снять, и попросту нести в руках. А вот юбчонку и сетчатую белую майку куда девать? Не бегать же ей, в самом деле, голой по лесу!
Поэт, однако, довольно скоро разрешил ее тревоги и сомнения, избавив Иришку от принятия решений по поводу одежды. Не заходя далеко в лес, так, что и дорогу было видно сквозь деревья, Мавр, шепча непонятную, но полную страсти абракадабру, обхватил Иришку обеими руками и прижал к ближайшему пыльно-сырому, в грубой коре, стволу. Тут же и полез под юбку.
– Лилит, моя Лилит… Я твой демон… и принесем с тобой жертву, – и все в том же духе еще добрых четверть часа нес Мавр, вовсе уже непонятное, трахая при этом Иринку так, что на ее копчике и спине не осталось уже живого места от ритмичных ударов о ни в чем не повинное дерево. Юбка и майка пришли в полную негодность, слава богу, хоть обувка уцелела. Иринка через силу изображала африканскую страсть, пытаясь по возможности приблизить конец, и думала про себя, что с козла-поэта непременно надо будет стребовать компенсацию за безнадежно испорченный наряд. Такие полоумные дохляки, сделав свое дело, как правило, потом сильно смущаются и робеют, так что бери их за горло голыми руками. И тут же, словно в ответ на ее мысли, воображаемая ситуация внезапно перешла в реальность. Только за горло взяли Иришку.
Поэт вдруг перестал бормотать, а дико взвыл и схватил Иринку за шею. И воя вовсе уж не по-человечески, принялся душить. И совсем не в шутку, а всерьез. Иринке и доли секунду не понадобилось, чтобы понять – дело плохо. Требовалось срочно предпринять спасительные контрмеры. Надежда была лишь на хилость сбрендившего поэта и собственные силы. Но дохляк Мавр оказался хилым только с виду. Оторвать его руки не было никакой возможности, а Иришка уже задыхалась. Дать мерзавцу по яйцам она тоже никак не могла – прижатая намертво к дереву, да еще с раздвинутыми ногами. Оставалось только вцепиться маньяку в лицо ногтями и попытаться добраться до глаз, но Мавр уворачивался, да еще пребольно кусался, не переставая при этом выть. Бесплодная борьба затягивалась. А легкие Иринки уже рвались на части, требуя воздуха. Пространство вокруг стало уплывать, покрываясь рябью черных мошек, на дно тянул парализующий, черный, смертельный ужас. Только не так, не под этот звериный вой свихнувшегося извращенца!
И когда в глазах свет померк почти совсем, у той грани, которую разум переходит только один раз в земной своей жизни, вой вдруг прекратился, отзвучал, сорвался, будто обрезанный, с полной звука ноты. Руки душителя опали с полумертвой жертвы, и Иринка, обессилевшая, но живая, сползла по стволу вбок на мокрую траву. Откашлялась, отдышалась. А спустя довольно короткое время, она, живучая, как кошка, и до конца пришла в себя. И первой мыслью Иринки было, что полоумный Мавр и не собирался душить ее до конца, а скорее всего, просто был редкого вида садистом, психическим, конечно, но без кровожадных убийственных намерений в ее отношении. Получив свое, видимо таким вот нетрадиционным способом, он и отпустил девушку за ненадобностью. Тут же в Иришке проснулась и злость. Поскольку из поэта вышел, скорей всего, весь его сексуальный запал, то вот сейчас она этому мозгляку и задаст. Одними деньгами не отделается. Получит по морде и за ночь, и за звезды, и за Семирамиду, демон сраный.
Иришка привстала на колени, и прежде, чем подняться окончательно, огляделась вокруг, пытаясь отыскать поэта, не без членовредительских намерений в его сторону. Он лежал тут же, рядышком, раскинув руки-веточки, на вид немощные и трогательно худые. Белые, но сильно измазанные землей штаны лирического поэта были безобразно расстегнуты, являя наружу жалкий и сочувственно невнушительный предмет его мужского достоинства. Из головы Мавра вялой струйкой сочилась кровь.
А рядом, возле окровавленной головы, Иришка разглядела еще пару ног, обутых в грубой кожи, почти армейские ботинки, высокие, с плотной шнуровкой. Подняла глаза и естественным образом увидела и владельца ботинок, который являл собой невыразимо чудное и ни с чем не сравнимое зрелище.
Перед Иринкой стоял странный человек. Стоял спокойно и о чем-то явно размышляя, причем предмет его раздумий несомненно составлял лежащий с пробитой черепушкой Мавр. Человек то смотрел на лежащего у своих ног поверженного поэта, то задумчиво отводил взгляд в сторону. При этом никуда не спешил и не делал попыток помочь ни истекающему кровью Мавру, ни самой Иришке. Был незнакомец роста высокого или же нет, Иринка, оставаясь в сидячем положении, пока не могла сказать, но то, что внешность он имел необыкновенную, не вызывало сомнений.
Одет незнакомец был не то чтобы странно, но для грибника или туриста как-то неподходяще – брезентовый, местами прожженый комбинезон, явно на несколько размеров больше, чем требовалось, клетчатая, серо-бордовая рубаха, с оторванными напрочь и с мясом пуговицами, зашнурованная на груди обрывком веревки, вдетой в образовавшиеся дыры. Да еще поверх рубашки, скрывая лямки комбинезона, наброшен был диковинного фасона длинный кожаный жилет с позеленевшей металлической пряжкой, грязно-полосатый и заплесневелый. В дополнение ко всему на незнакомце имелась в качестве верхней одежды еще и нейлоновая, ярко-желтая куртка, но не надетая по-людски, в рукава, а болтающаяся свободно на спине и держащаяся вокруг шеи на завязках от капюшона.
Но одежда, бог с ней, была все же делом десятым, хоть и примечательным. Само лицо незнакомца – вот что привело Иришку в трепещущее любопытством недоумение. Бледно-оливковое, в потеках то ли грязи, то ли от своеобразно присущего ему загара, спокойное и немного отстраненное, одновременно счастливое и озабоченное, но и с непререкаемой силы взглядом очень темных, до черноты, глаз. Волчьих, ярких, с затаенным на дне шальным бешенством. В данный момент эти глаза, оторвавшись от созерцания отдыхающего поэта, так же сосредоточенно стали изучать стоящую на коленях Иришку. Разглядывание выходило взаимным.
Нимало не стесняясь изодранного своего вида, Иринка встала, наконец, на ноги, так же молча продолжая изучать странного лесного человека. Роста он получился не многим выше ее, то есть самого что ни на есть среднего, а придирчивый женский взгляд подметил в незнакомце еще кое-какие особенности. То, что Иришка сперва приняла за потеки грязи на лице истребителя поэтов, оказалось, при ближайшем рассмотрении, засохшими следами крови из многочисленных, заживших уже порезов на щеках и подбородке. Словно незнакомец брился негодным лезвием вслепую у ручья, неумело и с категорическим неуспехом, что, как выяснила впоследствии Иришка, было с ее стороны правильным предположением. А волосы на голове и вовсе напоминали разоренное воронье гнездо, словно их хозяин от роду не имел представления о расческах. Очень длинные и запутанные до состояния "макраме", да к тому же с застрявшей в них лесной трухой. Если бы Иринка верила в сказки, то несомненно охарактеризовала бы незнакомца одним емким словом – леший.
Однако, леший, или нет, но чувство самосохранения и отчасти долга подсказывало Иришке проверить, что же с убиенным поэтом – до конца ли он убиен этим странным лесовиком? Не хватало ей еще впутаться в "мокрую" историю! Этот дикий тип сейчас свинтит отсюда на раз-два-три, а она, не дай-то бог, останется у дороги с трупом на руках. Доказывай потом, что ты не верблюд.
Поэт, по счастью, хоть и валялся в глухом отрубе, но жив был. Череп его достойно выдержал удар, вот только сильно кровила лопнувшая кожа. Иришка перевязывать его не стала, неохота, да и нечем, лишь застегнула психопату штаны. Незнакомец же никуда уходить не спешил, а с интересом, но пассивным созерцателем, наблюдал за Иринкиными манипуляциями. Силушкой леший, видно, от природы не был обижен, раз голыми руками, а скорее, просто ударом кулака поверг вошедшего в убийственный раж маньяка. Во всяком случае ни палки, ни иного какого орудия возмездия поблизости не наблюдалось. А руки у лешего были пусты.
Надо было уходить, пока не очнулся словоблудный Мавр, ох не зря и прозвище! Но простая благодарность требовала от Иришки каких-то слов в адрес странного незнакомца, который, это было уже совершенно очевидно, спас девушку от нелицеприятной и даже позорной смерти. А тот все так же молча продолжал стоять столбом, словно на дармовщинку развлекаясь происходящим. Когда Иринка, подойдя ближе, тронула его за плечо, с лешим не до церемоний, он только улыбнулся, дружелюбно и будто оценивающе.
– Ну, ты даешь! Между прочим, спасибо. Если б ты этому ханурику не врезал, мне бы точно были кранты. Выходит, я тебе должна! – Иринка тоже улыбнулась, ей стало весело. – Только знаешь, что? Давай-ка валить отсюда по-быстрому, а то этот тип в белом, он же не простой. Ну, что, бегом?.. Ну, чего ты стоишь и лыбишься?.. Ты..? Вообще, как тебя зовут, чудак? Имя у тебя есть?.. Ты что,.. ты не понимаешь, что я говорю?!
Незнакомец по-прежнему молчал, и лишь уловив в последних словах вопросительные интонации, недоуменно поднял брови. "Приплыли!" – ошарашенная, только и смогла подумать Иринка,– "или глухонемой, или идиот, или и то и другое сразу… Нормальные-то люди в таком виде по лесу не ходят. Надо сматываться подобру-поздорову. Неизвестно еще, что у этого чудика на уме. Два психа за один раз – будет уже перебор". Но уйти не успела, незнакомец крепко взял ее за руку, чуть выше локтя. Не схватил, а именно взял, спокойно и уверенно. И что-то сказал, что-то непонятное, но вполне членораздельное. Значит, немым леший все же не был. Иришка посмотрела ему в испачканное лицо, пытаясь сообразить, что же он хочет сказать, и по выражению его глаз сразу же поняла, что леший – никакой не идиот.
Незнакомец заговорил снова, медленно и будто по слогам. Иришка разобрала сперва нечто вроде "алейкум салам", а через паузу молчания – несколько слов, отдаленно напоминающих сильно исковерканный суржик кубанских станичников. Леший, однако, вскоре замолк и выразительно посмотрел на Иринку, а потом, не дождавшись от нее никакой ответной реакции, слегка поклонился и приложил руку к груди, имея в виду приветствие. Тут Иринку словно осенило: леший вовсе не глухой чудик, а верно заплутавший по неизвестной причине в лесу заезжий иностранец, турок или, может, румын, оттого и не понимает ее, Иришку. Иностранец – это же совсем другое дело, может прибыльное и перспективное. Тем более, что первый контакт уже есть. Интурист спас Иришку, а Иришка спасет интуриста, то есть выведет его из лесу к людям. В голове тут же сложился и подходящий случаю план: везти заплутавшего иностранца не в гостиницу, а для начала к себе домой. Привести его хотя бы отчасти в приличный вид, а заодно постараться расспросить и завязать приятельство для небескорыстных отношений. Бедноты своего наследственного владения – оставшегося от матери саманного домика, – Иринка ничуть не стеснялась, а наоборот, решила, что чем скромнее покажется иностранцу ее достаток, тем щедрее будет первое пожертвование.
Не вступая более в бесплодные переговоры, Иринка потащила интуриста за собой к дороге. Тот и не думал сопротивляться, покорно шел следом за своей новой знакомой. На дороге по-прежнему сиротливо стоял, приткнувшись к обочине, Мавров кабриолет, и Иринка, проходя мимо, мстительно харкнула на водительское сидение.
Через полчаса леший и Иришка вышли к нормальному шоссе, где не составляло труда поймать попутку до города. Хорошо, что сработала железная привычка – с клиентом или без, но деньги Иришка всегда брала с собой. Вот и сейчас вся ночная выручка лежала, надежно упрятанная, внутри специально подпоротой чашки ее лифчика. Пришлось лезть и доставать, что выглядело не вполне приличным, но интурист к Иришкиным обнажениям остался более чем равнодушен, ей же было и вовсе наплевать.
До дома добрались, слава богу, без приключений. Водитель и хозяин чахлого "москвича", согласившийся подбросить до Мацесты, хоть и косился по началу на их внешний вид, однако, позже успокоился, когда Иринка удрученно пожаловалась, что полночи искала по горам своего старшего брата, свихнувшегося на афганской войне, и время от времени удирающего из дому "партизанить" в лес, хорошо еще, что в одно и то же знакомое ей место. И в подробностях стала описывать пережитые ею тревоги и перипетии поиска. Пожилой дядька-водитель от Иринкиного повествовательного произведения так расчувствовался, что по прибытию наотрез отказался от обещанной ему платы, и даже настоятельно предлагал свою помощь в виду будущих побегов полоумного братца, и совал бумажку с номером телефона.
В доме первым делом Иришка бросилась греть на газовой плите-маломерке воду для омовения одичавшего интуриста. Самого же его с удобствами усадила в большой, проходной комнате, сунув в руки для поднятия настроения глянцевый номер контрабандного "Хастлера". Иностранец журнал взял с детским недоумением, повертел так и этак, открыл, сперва кверху ногами, полистал, подумал, потом все же перевернул как следует, и с поистине первобытным любопытством углубился в изучение заморского непотребства. Иринка решила до купания его не беспокоить.
Потом иностранец-леший с удовольствием и без посторонней помощи вымылся в тазу, ловко манипулируя двумя алюминиевыми ковшами и ведрами холодной и горячей воды, словно никогда в своем заграничье и в глаза не видел разных "джакузи" и душевых кабинок с эротическими и лечебными массажами, а плескаться в оцинкованной лоханке почитал для себя обычным делом. После же бани леший был почти что насильно острижен коротко, но стильно, строгой хозяйкой, которой так и не удалось расчесать безнадежный колтун его волос.
– Ладно, несчастье мое, отдыхай пока, а мне выручку сдать надо, да и разведать, что к чему. Как бы предъяву не кинули и по поводу клиента, и за мордобой. Ты, чурка заморская, небось выкрутишься, а мне ответ держать, – Иришка ворчала без злобы, скорее для порядка. Какое-то шестое, животное чувство подсказывало ей, что чудной иностранец раз вписавшись, не бросит ее на произвол и за здорово живешь, и что вообще-то ее лесное знакомство по неведомой пока причине было большой удачей… Уходя, приложила обе руки к щеке:
– Ложись-ложись, баиньки. Как приду, обедать станем.
Распорядитель Гарик, как обычно, вкушал утренний кефир в "Ленивом варенике", частном, крошечном ресторанчике на шесть столиков, прославившемся в узком кругу своей отменной домашней кухней и необъятногрудой поварихой-хозяйкой Галей, неровно дышавшей к самому распорядителю. Но Гарик в ответ на штормоподобные Галины вздохи, как всегда только равнодушно пил кефир со свежей, сдобной булкой, справедливо разделяя и не смешивая между собой желудочный и любовный интересы.
– Вот, Гарик, две сотни, копеечка в копеечку. Еще был навар, но по уговору, тот уж мой. Ведь верно? Все же по справедливости? – зачастила на едином дыхании Иринка, едва лишь подсела к столу.
Гарик и слова не сказал, даже не кивнул, только сгреб полной ладонью деньги со скатерти. На Иришку не смотрел, пил свой кефир и жевал булку. Иринке пришлось дожидаться в терпеливом молчании хоть какого-нибудь ответа от своего грозного начальника. Наконец, стакан был отставлен, крошки Гарик небрежным движением смахнул на пол.
– Ти из мэня дурака нэ дэлай. Все знаю уже. Но молодэц, однако, в мэнтовку не побэжала, значэт, умная. – Гарик полез в задний карман наглаженных бежевых брюк, достал смятый конверт. – Приходылы от нэго. Здэсь за ум и за язык. Гарик копэйки нэ взял. Что дэньги сдала, мое. Чужого Гарику нэ надо. Вот, бэри. Бэри и молчи. И тому бичо, что Мавра прыложил, тожэ скажи, чтоб молчал. Тогда нэ тронут…
– Он не скажет, Гарик, вот, зуб даю. А за лавэ – спасибо. И тебе, и тем, кто передал… А можно мне на сегодня выходной? – пользуясь удачливым случаем, заискивающе попросила Иринка.
– Можна. Хочэшь напиться? Напэйся. Ты мнэ в порядке нужна. – Гарик задумался на секунду и счел нужным добавить дополнительное поощрение. – Два дня можэшь нэ выходить. Разрэшаю… А Мавру, козлоблуду, давно пора было ногы из жопы повыдергывать. Сколько дэвок пэрэпоганил так… Ты нэ слушай. Иды давай, да. Гуляй, пэй.
Иришка, уже на улице, конверт вскрыла… Пересчитала… Штука… Штука зелеными… Вот и вся ее цена – и за чуть было не погубленную жизнь, и за молчание. Обидно стало так, что на миг и невмоготу. Но зареветь, не заревела. Чего уж слезы лить, коли сама виновата, что задешево разменивалась. Постояла немного, отошла. Конверт закрыла и в сумку на самое дно запихала. Деньги, пусть и обидные, были, однако, для Иринки огромными. А как гонорар – так и вовсе невиданными. Когда же вспомнила об оставленном в хибарке иностранце, то настроение полегоньку-потихоньку стало подниматься к положительным градусам.
Иностранец, после мытья и стрижки оказавшийся более, чем симпатичным мужчиной, встретил Иришку ясной улыбкой и, пока она хлопотала об обеде, ни на шаг от нее не отходил. Правда поведение его, хотя и забавное, Иришка находила довольно странным. Словно бы интурист не то, чтобы заплутал в лесу, а будто бы недавно с неба свалился, с такой поспешностью пытался он тут же, немедленно, научиться у Иришки русскому языку, указывая на разные предметы и движения и требуя от хозяйки называть их словесные обозначения. Мог бы, коли так приспичило, и до визита в южные российские пределы брать уроки, чай и у них, за бугром, есть своя Илона Давыдова. Да и не вчера же он в самом-то деле приехал. Зато узнала Иринка и собственно имя приблудного иностранца. Красивое и какое-то восточно-славянское: Янош. Тут же и сказала ему, отчасти жестами, что для нее, для краткости и для интимности, пусть он будет просто Ян. Интурист понял и вежливо поклонился – сокращение, видимо, одобрил. Иринка назвала ему и себя. Иностранец повторил раз, другой, но вместо Ирины выговаривалось у него по-иному, нездешнему, красиво и претенциозно: Ирена. Иришка поправлять не стала. Новое имя ей решительно понравилось.
Однако, языковые потуги Яна, как теперь она называла прошлого лешего и интуриста, были далеко не единственной его странностью. У Иришки сложилось определенное впечатление, что добрую половину естественных вещей из ее довольно скудного домашнего обихода Ян видит первый раз в своей жизни. Не то, что бы он выказывал детское изумление или задавал жестами и только что разученными словами наивные вопросы, пугался или, наоборот, восхищался сверх меры. Нет, он был спокоен и улыбчив, вот только с диким, жадным любопытством следил за тем, как Иришка одноразовой зажигалкой поджигала плиту, как включала в розетку кофемолку и простенький, еще с советских времен, миксер. Словно исследовал незнакомый ему мир, запоминал и учился.
После обеда интурист Ян снова улегся отдыхать, по своему месту жительства отбыть не спешил. А к ночи исчез. Как – было Иришке неизвестно. Зашла около десяти, оторвавшись от сериала, когда еще телек посмотришь!, проведать спящего, а железная, матери-покойницы, кровать-то и пуста. Собственная одежда интуриста тоже пропала. Сгинул леший, ни ответа, ни тебе привета. "Вот же сволочь заморская, хоть бы номер телефона чиркнул, цифры, чай, на всех языках одинаковые. И смылся-то натихушку, чтоб бедной девушке за приют денег не платить. Морда!" – с досадой и унизительным разочарованием заключила Иришка и мысленно поставила на гадючем интуристе жирный крест. От расстройств и переживаний последнего дня, а вернее, ночи, Иринка, чтобы не напиться и не разрыдаться, отправилась спать непривычно рано – около полуночи. Улеглась на ту же маменькину кровать, на которой до этого почивал предатель-интурист, даже белье не переменила. Было лень, да и ни к чему. Где, в каких только постелях ни доводилось ей спать! Так что привередничать после чисто вымытого и облитого одеколоном лешего выходило и вовсе глупым.
Проснулась Иришка не по обычаю в обед, а прохладным еще, не распаренным солнцем утром, как когда-то вставала на первую свою работу молоденькой девчонкой-ученицей. И вчерашние горести от свежего дыхания новорожденного дня словно сами собой забылись, оставив ощущение свободы и радости грядущего двухдневного отдыха. Иришка, как спала голышом, так и вышла из крохотной задней комнатушке в проходную залу, да и остолбенела. На старом диване, наглухо покрытом отслужившими свой век шторами, призванными скрыть протертости и изрядные прорехи в обивке хрущевского ветерана, сидел, как ни в чем ни бывало давешний иностранец.
Подлый беглец и отступник на Иринку даже не взглянул, целиком отдавшись занятию, поглотившему все его внимание: потрошил кожаный, черный бумажник-книжку, поочередно вытаскивая и разглядывая на свет бумажки, визитные карточки и денежные знаки. При этом деньги, небрежно комкая, он швырял, не глядя, в угол, словно ненужный мусор, оставляя только золоченные визитки и календарики с видами Сочинских красот. Владельцем бумажника лесной интурист явно не был, и не только потому, как успела заметить Иринка, что на визитной карточке читалась чужая, русская фамилия и ниже аршинными буквами "врач-стоматолог", но и оттого, что рядом, на обеденном столе уже валялось по меньшей мере три растрепанных подобным образом кошелька, да еще несколько пар часов и золотых, печатных колец. Иринка поняла и одновременно не поняла происходящее.
– Ты что же это, деньгами раскидываешься! – Иринка, схватив со стула домашний, ситцевый халатик и наскоро прикрыв абсолютную свою наготу, бросилась поднимать смятые купюры с пола. Что ее знакомец-леший – бандит с большой дороги, хоть и иностранный, Иришке было совершенно и безусловно ясно. Но вот почему он выкидывает добытые с риском денежные знаки, а оставляет всякое бумажное барахло, Иринка разумно разъяснить себе не могла. Разве что леший отечественные рубли и в глаза никогда не видывал… Но уж свои или чужие деньги любой папуас, хоть из Занзибара, а уж как-нибудь от визиток и календариков, да отличит. Тем более, что и столбики дат, красных и обычных, как и везде в мире, напечатаны на изнанке пластиковых живописностей. А визитку иностранец ни за что и ни с чем не перепутает, на то он и иностранец. – Это – деньги! Вот это – деньги! Лавэ!.. А это – говно бумажное! Понимаешь, ты, дундук стоеросовый?
Иришка потрясла перед носом лешего охапкой собранных и разглаженных купюр разного достоинства, одновременно, сердитым жестом смахнула на пол календарики и остальные красочные бумажки. Если интурист не совсем навечный клиент дурдома, то, полагала Иринка, она сумеет ему втолковать, что надо оставлять, а что на помойку выбрасывать.
Но втолковывать не пришлось. Иностранец понял с полуслова, нет, даже с полувзгляда, бросился подбирать оставшиеся на полу деньги. Словно только и ждал от Иришки некоего наводящего намека. Оставшиеся у него в руке визитки леший отбросил, подражая хозяйке, веером прочь. Потом взял со стола лежавшие аккуратной кучкой золотые изделия и часы и показал их и деньги Иришке. Леший глядел вопросительно-мудро ей прямо в глаза, будто бы ждал важного ответа.
– Что? Деньги, бабки, да. Колечки, часики, – Иришка машинально перечисляла названия предметов. Потом, однако, сообразила, сильно, утвердительно закивала: – Да, да… Одно и то же. Деньги, золото. Его меняют на деньги. Часы тоже можно продать… Недорого, правда. Они ж паленные… Ну, ты и жук!.. Ты вообще кто?… Ладно, там разберемся… Хочешь, совсем у меня живи… Это ВСЕ мне, ух ты?! Можно взять?.. Вот спасибочки, отблагодарил, так отблагодарил. Сейчас умоюсь скоренько и завтракать будем.
Иришка сгребла в кучу все деньги и золото, которые, ставший неожиданно родным, иностранец щедрыми жестами ей подарил, отнесла в спальню, в комод, припрятала. Не от дарителя, нет, упаси господи, а просто в силу привычки и от некоторой растерянности. Что будет завтра, и не придет ли по ее душу собака с милицией, Иришку в этот момент особо не занимало. Что будет, то будет, а хуже – уж вряд ли. Потому как хуже все равно некуда. А вот лучше – очень даже может быть. Конечно, хорошо бы было понять, кто ее новый залетный знакомец. Но псих он или не от мира сего, а человек далеко не простой. На понт, по всему видать, такого не возьмешь. А если верить некоему предчувствию, то и вовсе туз козырный. А ей, беззащитной и одинокой, как раз туз-покровитель и надобен. Оттого утренним завтраком кормила иностранца Иришка без жлобства. Что было лучшего в холодильнике и про запас, все выгребла. Даже бутылку шампанского итальянского, с Нового Года припрятанную и вынесенную, открыла и содержимое в чешские, стеклянные фужеры налила. Зарубежный гость, глядя на шипящий напиток, улыбнулся. Видать, что такое шампанское знал и без Иришкиной помощи. Уже хорошо. Однако, как попробовал, так и выплюнул. Фонтаном на стол. Закашлялся. На Иришку посмотрел подозрительно и грозно. Но успокоился, увидев, как девушка с блаженным видом удовлетворенного гурмана пьет свою порцию. Сложил руки на груди, поклонился в смысле "извините, пожалуйста", затем перевернул свой бокал донышком вверх. Наверное, давал понять, что итальянского шампанского с него хватит.
"Вот черт избалованный. Шампанское ему плохое. А я, может, в жизни лучшего и не видывала. Ну и ладно, сама выпью – больше достанется", – определила линию Иришка и налила себе второй бокал… Вернее, попыталась налить, но леший ее опередил, галантно обслужил даму сам. Хотя до этого момента не помог и тарелки донести. Коли лихой интурист решил за ней поухаживать, то Иришка ведь не против. Если не принимать во внимание явный беспорядок в его голове, то леший выходил кавалером хоть-куда. Иринка чувствовала, что начинает потихоньку влюбляться в помешанного незнакомца, чего с ней давненько уже не случалось. А по правде и случилось-то один раз в жизни, да и то ненадолго.
К вечеру леший уже многие слова, хоть и неправильно, но мог сказать по-русски, а понимал практически все, что говорили Иринка и голоса из телевизора. Способности к языкам у него оказались фантастические. А в ночь леший Ян исчез опять.
Следующим утром повторилась та же картина, что и накануне, с тем лишь исключением, что на полу теперь валялись визитки и бумажки, а деньги и ценности рядком лежали на скатерти стола. Иришка уже привычно сгребла их в комод. Из милиции визитеров не было, и это, пусть ненадолго, но успокоило тревогу.
Днем Иришка отправилась в город – нового знакомого надо было приодеть. Сам леший с задачей справился бы вряд ли успешно, и порядков местных не знал и цен. Оттого собственноручно купила ему полный комплект обмундирования от приличной обуви и брюк до нижнего белья. Заодно и человеческую бритву приобрела, чтобы иностранец не пугал изрезанным лицом окружающих. Денег, тем более даренных, Иришке жалко не было, а завоевать расположение и сердечную симпатию лешего ей весьма и весьма хотелось. Бандюга-иностранец с каждым часом нравился ей все больше.
Приодетый, леший и вовсе превратился в красавчика, как раз в такого, о каком мечтала в тайной своей безнадежности Иринка. Но насколько бы ни был щедр и хорош леший, а реальность Иришкиной будничной жизни была такова, что нынешним вечером предстояло ей приступить вновь к своим рабочим обязанностям, то есть, попросту говоря, выйти на панель. Рано или поздно, но симпатичный интурист все равно бы узнал о роде Иришкиных занятий, потому решила она с объяснениями не тянуть, выложить лешему всю подноготную, правда, в исключительно жалостливом ключе. Авось проникнется сочувствием и сразу не уйдет. Если, конечно, исходя из сцены в лесу, леший уже давно не догадался о ее второй, малопочетной профессии. Но в этом случае объяснение тем более не могло грозить Иришке неприятными неожиданностями.
Подбирая аккуратно слова из лексикона, уже известного за два прошедших дня симпатяге-иностранцу, а кое-где переходя для убедительности толкования на условно-самопальный язык жестов, Иришка донесла до лешего, отчего сегодня вечером, а может, и завтрашним утром ее не будет дома. Говоря о Гарике, она показывала руками: "большой человек", а повествуя о печальных последствиях своего прогула для наглядности хватала себя обеими ладонями за горло. Ян выслушал спокойно, и судя по выражению его лица, понял Иришку в абсолютной степени правильности. И так же спокойно, хотя смешно и мягко коверкая слова, ответил, что никуда та не пойдет, а останется здесь, с ним. И если у "большого человека" к Ирене есть претензии, то он, Янош, охотно их рассмотрит за нее. И если "ланьок" Ирена согласна с его предложением, то отныне можно считать, что с этого дня она и леший – одно и неделимое целое.
Иринка была еще как согласна. Закивала головой так, что чуть шею не своротила. А из глаз – слезы. Леший ее не утешал, только принес из кухни начатую бутылку "Пшеничной". Чтоб Иришке выпить и успокоиться. И сам выпил с ней заодно, даже и без закуски. Водка, в отличии от заморского шампанского, видимо пришлась интуристу по вкусу. По крайней мере, за время приведения Иришки в равновесие леший уговорил полный ее стакан. Надо ли упоминать о том, что ту ночь Иринка и ее новый защитник по обоюдному согласию провели вместе… После чего Иришка окончательно и безоглядно влюбилась в свою лесную находку.
Наутро, само собой, заявился разгневанный Гарик. Но беседа Яна с распорядителем на веранде дома вышла куда как недолгой. Гарик, собака битая-перебитая и пуганная ворона, по одному только взгляду на своего визави понял, что к чему, и разговор вел, собственно, только из соображений личного достоинства. Ведь не поворачивать же оглобли без единого слова, раз уж приперся в такую даль. Ссориться с вышедшим к нему новым хозяином бывшей его работницы Гарик не стал. Слава богу, жизнь его как следует обучила различать, где шипящий, безобидный уж, а где семиметровый, молнией бьющий аллигатор. Выкуп за Иринку смотритель потребовал символический, больше для порядку и чтобы удалится, сохранив при этом честь и лицо. Деньги Иришка, подслушивавшая у окна, тут же притащила из заветного комода. Пятьсот долларов. Так что и от Мавровых отступных осталась ей добрая половина. Но не в деньгах было сейчас дело. Свобода – вот что главное. Свобода и милый ее сердцу иностранец Ян.
Так они и стали жить вместе. Время наступило тогда смутное, злое, беспредельно вседозволенное. И Иришка с лешим не зевали. Хватали свой кусок. Ян и один стоил целой бригады боевиков, а то и больше. Про ум и хитрую догадливость даже не приходилось говорить, а оставалось только лишь изумляться. А совсем в скором времени и Иришка присоединилась к нему уже не во вспомогательной, а в полной мере.
Кто такой Ян, она узнала довольно скоро. Из собственных его уст. Поверила и не поверила одновременно. Больше от несоразмерности привалившего ей счастья, чем от сомнения в дееспособности человека, произнесшего слова. Правда, вкусив запретный плод, болела Иришка тяжело. Не сообразила тогда про лекарства, даже про примитивные анальгин с аспирином, а Ян, уж само собой, и понятия о них не имел. Зато дело того стоило. Могла хоть тысячу лет подряд наслаждаться жизнью и любовью. Могла отомстить даже и всему миру. Могла утолить свою гордость и обиды. Тогда казалось, что так, да пребудет всегда.
Когда Иришка потеряла часть своих сокровищ, она не могла сказать и сама. Может все началось с того, когда посовещавшись друг с другом, любовники и соратники, Ян и Иринка приняли в свой круг сладкую парочку залетных ялтинских мошенников: начинающего картежного каталу Стаса и его подругу Наталку, крупно погоревших на шулерстве в "Дагомысе". Ребята оказались бесценной находкой для их развивающегося предприятия. Да только вот семейная, хлопотливая Наталка, хоть и аферистка, но за свою девятнадцатилетнюю жизнь так и не узнавшая, что такое панель набережной, стала вызывать у Иришки раздражение. Оттого, назло Наталке и рекордам, и отбила у девчушки ее дорогого каталу Стасика, которого дуреха-Наталка считала своей непреложной собственностью. Тогда от Иришкиных приобретений и отпал первый кусок.
На Иринкин постельный демарш Ян ничего не сказал и, видимо, не сильно-то и удивился. Но что-то из отношений их непоправимо сгинуло, уже навсегда. Хотя Иринка не переставала любить своего милого лешего, и может быть, любила его даже больше, чем до своей глупой и жестокой выходки с Наталкиным сердечным дружком Стасиком. Но первый шаг на пути потерь был уже сделан, и остановить движение Иринка своей волей уже не могла. А смириться так и не захотела.
ГЛАВА 26. "МАКСИМКА"
Алтуфьевское шоссе заносило метелью, ничем не сдерживаемый боковой ветер рвал из рук руль тяжелой и неповоротливой машины. Но сдуть с дороги к обочине гробообразный "Навигатор" кишка была тонка. Да что ветер, плевать было на ветер, если поездка выдалась везучей. Информатор не подкачал, первыми узнали о существовании девчонки в конторе, и Миша тут же выслал заградотряд перебить удачу у ментов.
Пока Макс боролся с дорогой и с летящим в лобовое стекло снегом, Сашок насвистывал в такт "Русскому радио", откинувшись рядом на переднем сидении. Подарочек для хозяина ангельски тихо "отдыхал" сзади, упакованный, в громадном багажнике джипа. Девчонка не шевелилась, видимо, все еще была без сознания. Издай она хоть единственный лишний звук помимо сбивчивого дыхания, чуткие уши обоих тут же засекли бы непорядок.
– Ловко ты ее! "Диночка, помогите, вашей соседке у лифта стало плохо!" Во-о дуреха! Тут все дело в имени, я думаю. Скажи ты просто: "девушка, откройте, помогите!", хрен бы она тебе открыла, – Сашок прикрутил радио, чтоб не мешало его рассуждениям, – а так, раз "Диночка", стало быть, свой, сосед, хоть и в лицо не знакомый. Всех в доме, поди не упомнишь.
– Да уж, сосед! – хохотнул в ответ Макс. – А, впрочем, теперь и сосед. Как думаешь, не замерзнет она у нас, в одной-то маечке?
– С чего бы? Там тепло. Не багажник, а однокомнатная квартира! А полноценное здоровье Диночке все равно более не пригодиться.
– Оно так. Только Миша, наверняка, тут же и захочет провести душевную беседу. Пока оттает, то, да се.
– Да брось! Ты бедняжку так звезданул, что откачивать с полчаса придется.
– Для верности, для верности, – сам себе в оправдание увесисто сказал Макс, на мгновение оглянулся назад: – нам шум ни к чему, а смирный пассажир лучше буйного… Все, кольцевая. Теперь станем в левый ряд и пойдем. Смело можно дать сто-сто двадцать, хоть и пурга.
Девчонку сгрузили у своего особнячка. Тащить тело в Большой дом не стали, от греха подальше. Из-за законной супруги хозяина. Машенька, пусть уже и совсем своя, однако, человечек тонкий и жалостливый, одним словом, не "вамп". Оттого велено беречь и недопущать. Допрос же ночной их ноши – зрелище не для слабонервных. Юная хозяюшка, уж конечно, далеко не дура и о многом догадывается, а кое о чем и знает. Но знать и видеть собственными глазами, согласитесь, совсем, совсем разные вещи.
Милые други усадили в маленькой гостиной домика бесчувственную еще девчонку на стул, примотали руки и ноги широким хозяйственным скотчем. После чего Макс отправился докладывать, оставив Сашка приводить Дину в чувство при помощи банального опрыскивания ледяной водой из стакана.
Допрашивать вместе с Максом явились Миша и хозяин собственной персоной. Что было не вполне неожиданным. Хозяин и вообще-то с самого начала придавал этому хлипкому делу излишнее значение. И не так уж и нужен он был на ночном допросе, не дети ведь, профессионалы. Но, как догадывались его верные соратники, тут была задета рыцарская честь. Дело-то и не в том, что поперли, со стрельбой или без, по миру никто не пошел, с кураторами утрясли ко всеобщему удовлетворению. Вот только рыцарская честь – она сродни бандитской. Один раз спустишь оборзевшему наглецу, глядишь, и нет уж ее, чести-то. А тут еще средь бела дня, на шарапа, без всякого уважения. В своей венгерской, прошлой земле придворный и начальственный рыцарь Янош за куда меньшие проступки, поди, выпускал обидчику кишки наружу.
Девчонка Дина к приходу старших уже очнулась суровыми стараниями Сашка, безумными глазами смотрела по сторонам. Кричать не решалась, хотя рот заклеен не был и, судя по выражению ее лица, кричать хотелось очень.
–… Значит, говоришь, брата не видела уже две недели. Откуда деньги взял – не поинтересовалась? – Миша задавал вопросы так, словно раскладывал свежевыстиранное, крахмальное белье ровными рядами по полочкам. – Не поинтересовалась. Однако, на улицу не выходишь, на курсах не появляешься. Стало быть, боишься. Чего же ты боишься, если ничегошеньки не знаешь?.. Начнешь кривляться или плакать, предупреждаю, будет больно.
– Я не знаю ничего. Правда-правда, дядечка. Мне брат велел сидеть тихо и не высовываться. Он чумной примчался, скалился. Вещи на ходу похватал и бегом вон. Только денег пачку кинул американских. Я сразу поняла – влип во что-то по самые помидоры… Не бейте, дядечка! – девочка Дина взахлеб зарыдала, несмотря на недвусмысленную Мишину угрозу.
Бить девчонку никто и не собирался. Охота была о соплячку руки марать. Хозяин, злой, как черт, только брезгливо процедил сквозь зубы:
– Саша, дай ей воды и побыстрее.
Сашок метнулся в ванную, набрал прямо из-под крана. Без разницы. Дина, всхлипывая, жадно стала глотать сырую воду, омерзительно пахнувшую хлоркой.
– Эх, ты. Маломерка. Босота подворотная. Откуда вы только с братом такие взялись на нашу голову, – Сашок говорил хоть и обидно, но в то же время будто и с сожалением. Напоил девчонку из кружки, ненарочно облив ей спереди майку. Почти ласково провел рукой по ее свалявшимся, соломенным волосам. – Дура ты, дура. Набитая…Все равно ведь расскажешь, куда ж ты денешься. Только намучаешься. Понимаешь, о чем я, дворняжка мокрохвостая?.. Понимаешь… А раз понимаешь, не молчи. Не доводи серьезных людей до греха.
– Я-а, я в ок-кно выглянула т-гда, там Лешкина машина внизу стояла. В нее Витька и се-ел. – Дина уже не плакала, только скулила и заикалась через слово.
– Какой Лешка? Фамилия, адрес, – четко, наотмашь, спрашивал Миша.
– Лешка Гаврилов. Из сто седьмой квартиры-ы. О-он крутой. Сидел за о-ограбление. Вы-вышел недавно.
Хозяин с Мишей переглянулись, отошли в сторону.
– Ну что ж. Все более-менее ясно, – подытожил Миша. – Брата ее взяли как наводчика и для подстраховки. Девчонку его, Аверьянову Екатерину, что поломойничала у покойного племянника, грохнули еще до того, как пошли на дело. Может, тот же Лешка. Потому она и пропала. Что-то услышала случайно, проболталась своему Витьку, тот – дружкам. Выследить племянника по городу – плевое дело. Я думаю, не нас имели в виду. Грабанули первого, кто передал деньги… Отморозки. Витьку, тот еще подонок, на подружку было плевать. Да и на сестру, видимо, тоже. Иначе не кинул бы ее так.
– И оставил ей паленные деньги. Или совсем дурак, или совершенно был уверен в том, что его не найдут, – полувопросительно, но ни к кому не адресуясь, проговорил вполголоса Ян.
– Скорее, и то и другое. Мозгов у ребят маловато, а гонору много. Безбашенные совсем. Лютые и голодные. Таким иногда везет.
– Только не в этот раз, – тихо, но твердо сказал хозяин.
– Не в этот раз, – как эхо отозвался за ним "архангел".
Из совершенно уже серой от страха и готовой на все Дины "архангел", возвратившись, за несколько минут вытряс адреса всех мыслимых родственников и друзей, у которых могли бы найти пристанище удалые гоп-стопники. Потом заставил девчонку поведать в подробностях, скрупулезно-дотошных, биографию ее и брата Витьки, для восстановления полноты картины и поведенческого анализа удирающего, хватившего чужой кусок мяса, волка или, скорее всего, шакала.
– Что будем с ней делать? – Миша и сам знал "что?", обратился скорее для протокола и из соображений субординации. Оттого, что порядок поддерживал и искренне почитал, как и свое место в нем. И скорее отгрыз бы себе руку, чем оскорбил любимого хозяина неуважением.
– В подвал, – коротко было брошено распоряжение, и Миша с ребятами приступили к отработанной до мелочей процедуре упаковки и переноса в трансформаторную их следующего, в настоящий момент орущего от ужаса, "обеда".
Найти и наказать чумных налетчиков теперь было лишь вопросом времени и, отчасти, денег. Силы бросили на это нешуточные. И конторы, и осиротевшего без племянника куратора. Однако глупо и полагать, что остальные, куда как важные дела, хозяином получались вроде бы и отставленными. И помимо осквернителей спокойствия у Яна было забот невпроворот. Совсем не нравились ему до предела натянутые нити отношений семьи и Ирены, от семьи словно отгородившейся и обособившейся. Печалил и "мертвый" Стас, тоскливо зудящий от скуки и доводивший Татку до белого каления детскими капризами и придирками. Что тоже не способствовало улучшению домашней атмосферы. О том, что пора все же решать с Машей и малышом, Яну уж и думать не хотелось. Да и бизнес требовал непрестанного внимания.
Так уж случилось, что в первый раз за долгую, временами страшную, а когда и рассеянную жизнь, только ныне Яношу в полной мере довелось ощутить на своих плечах непомерную, тяжелую ношу, полную тревог, любви и забот, которую добровольно скинуть было уже не в его власти. Никак бы не вышло теперь уйти, отвернуться, или увлечь за собой на погибель доверившуюся ему, ставшую будто второй его кожей семью. И под семьей подразумевал он совсем не только лишь Марию с сыном, но и верного до самозабвения "архангела", и милого, во многом беспомощного Фому, и Тату, с которой по гроб не расплатиться за неустанные хлопоты, хотя строгая домоправительница никогда не требовала никакой платы и, уж, наверное, не приняла бы ее. Он был старшим и мудрым и в ответе за них. Одних своих детей любил он больше, других, по независимым от себя обстоятельствам, меньше. Но дела это никак не меняло. Хотелось Яну того или нет, так уж случилось, что на шее его прочно сидело одиннадцать душ. А головная боль с каждым днем только росла. И глубинные ее причины не мог облегчить даже верный его помощник. Ведь и "архангела" сманил он в горестный для того час, откупил за кровь его душу и, значит, был виноват. Никогда раньше не видел в себе вины, а теперь не мог найти и обозначить ту лазейку, через которую закралось проклятое чувство. Потому восседал монументально величественный и уверенный, как языческий бог, когда бывало зашедший в основательный тупик помощник, совсем не собираясь искать выхода из этого тупика, взирал с благоговением на своего хозяина, достоверно зная, что тот, уж конечно, разрешит любую жуткую страсть ко всеобщему удовольствию. Что же, и разрешал, а самому порой до уверенности и спокойствия было куда как далеко. Но положение обязывало, и, подобно любому правителю, не в шутку возложившему на себя бремя власти, Ян переставал постепенно и неуклонно принадлежать самому себе.
На финансовом фронте дела семьи закрутились, однако, до трепета внушительные. Первопрестольные кураторы, видя в лице конторы партнера надежного и за себя постоять умеющего, предложили, не имея в виду отказа, негоцию баснословно выгодную, и, что немаловажно, легальную. Под эгидой и с долей последующего участия в барышах. Фирме, условно-бумажно значившейся строительной, предстояло и на деле таковою стать. Никто, разумеется, не требовал этого буквально: строить и без них было кому. Но контроль, пусть и буферно-подставной, и финансовое участие предполагались взаправдашние, не говоря уже о прибыльных статьях. Строительство одного развлекательно-водного комплекса и нескольких гостиниц с участием в их же эксплуатации – тьма тьмущая настоящих, серьезных бизнесменов о таком только во сне и могли мечтать. Но и средства требовались соответствующие.
Миша с проектом завертелся всерьез. И без Ирены и Фонда тоже было никак. Разумно рассудив, хозяин и его помощник личные капиталы семьи решили в дело не привлекать. Ни к чему складывать все яйца в одну корзину. Имелся в виду и будущий переезд. Государственная же власть – она, что ветер, не сегодня, так завтра непременно переменится. Потом поди сыщи крайнего. А денежки тютю. Кредиты брать тоже себе дороже. Хозяин с давних времен ростовщикам не доверял. Потому постановили обойтись собственными силами. Но в наличной кассе конторы полной суммы не имелось.
– Надо лететь. И решать на месте. Пару ходок туда-сюда, и на время по деньгам закроемся. Только лучше без курьеров. Дело разовое и лишние люди ни к чему. – Миша добрых десять минут потратил на озвучивание схемы, которую хозяин, председательствовавший в кресле за столом, знал и без него.
Остальные совещатели, числом трое, слушали и вникали. Чинно, строгой парой, сидели Макс с Сашком. Рядом, чуть особняком, – Ирена.
– Кто поедет? – спросил Сашок, как всегда, начавший с несущественного вопроса.
Миша поморщился, но решил не заедаться, и снизошел до ответа.
– Сначала я. Договорюсь и привезу, сколько смогу. Потом поедет кто-то другой. Скорее всего ты или Максим. Нам с Иреной уже придется неотлучно быть здесь. Пойдут деньги и документы.
– Сколько повезем? – это, уж конечно, Ирена.
– Килограммов тридцать, никак не меньше. Денег в кассе и на счетах не хватает, а первый взнос очень срочный. В три партии по десять. Самого чистого. Тогда должно хватить.
– Фью-ить! – Макс присвистнул от изумления. – Ничего себе!
– Да, рискованно. Но не так, чтобы очень. Зато после можно с этим бизнесом окончательно завязать. Свернуть и Сочинский и Трабзонский каналы, а лучше – перепродать. Желающие найдутся.
– Ну, риск, так себе. Подумаешь, героин. Не атомные же боеголовки, – отозвался Сашок, – кто надо, давно подмазан. А кто не надо, так и не узнает, дай бог.
Впрочем, риск операции по оказанию скорой финансовой помощи и в самом деле был невелик. Челночные, дружественно-турецкие каналы исправно функционировали не первый год, бесперебойный поток тек через Адлер на Москву, оттуда уходил к надежным партнерам. Кто надо был в курсе и не обижен, а кто не надо без следа смывался тем же потоком. Риск был лишь в сроках и в количестве. Товару требовалось сразу много, и нужен он был слишком быстро – компаньоны ждали всего каких-то пару месяцев. Дело выходило столь важным, что от обычного способа отправки решили отказаться совсем. Не дай-то боже, позарится на крупный куш вольнонаемный ставленник-управляющий. Хоть и привязан крепкой веревочкой, но и искушение велико. Да и дурак-курьер тоже ведь человек, и кто его знает. А свой глазок, как известно, смотрок. И Миша, с хозяйского благословления, отбыл на юг и далее в басурманские просторы обеспечить и подготовить.
В марте "архангел" счастливо донес из Сочи в столицу первую часть груза и с ним благую весть о прибытии через неделю следующей партии "веселого" товара. И дело завертелось. Ирена оформляла и списывала спонсорскую помощь, обольстительно раздавала борзых щенков, отдавала пас; Миша принимал, играя примерно в те же игрушки, но на ином уже поприще; компаньоны были по обычаю довольны надежным и обязательным как смерть Яном Владиславовичем. А вскоре, ровно через семь дней, Сашок удачно переправил еще десять полиэтиленовых, сыпучих брикетов. Прогулялся к родным, подзабытым берегам, подышал оздоровительным морским воздухом. Последние килограммы ожидались не ранее, чем к концу этого удачного, первого весеннего месяца.
Первого апреля, шутливым и легким солнечным днем, молодой, изящно-кожаный человек, такой же легкий и шутливый, проходил регистрацию в "зале делегаций" Адлерского аэропорта. Пока шла обыденная канцелярская возня с билетами, пассажир этот, пребывавший в превосходнейшем настроении, не скучал. Подурачился с девушками, оформлявшими посадку и талон, посмеялся над их по-детски примитивным: "ох! а у вас рукав весь в краске!". Бежевый, короткий кожаный плащ был чист как стеклышко, но первое апреля есть первое апреля. В ответ стильно одетый молодой господин, сделав страшные глаза, зашептал одной из девочек: "вы ужас как испачкали чернилами носик, на вас оглядываются!" Девушка, пусть и не поверила, но на всякий случай выхватила из кармашка униформы зеркальце. Посмотрела, облегченно заулыбалась – не сердиться же на такого симпатичного и, судя по костюму, состоятельного клиента "Аэрофлота".
Из багажа при бежевом пассажире были лишь перекинутый через плечо новенький портплед, да небольшого формата черный портфельчик, с матовой, стальной застежкой. Выходило – только ручная кладь. Что девушки и зафиксировали в билете. Пассажир проследовал в комнату отдыха, заказав подать себе кофе и, за дополнительную плату, хорошего коньяку.
– Ну почему, как милый парень, так непременно голубой! – вздохнула одна из девушек-регистраторш.
– И с чего ты взяла? По-моему, так обычный натурал и даже бабник. Вон какой накачаный и здоровяк, – ответила ей другая, та, что переживала по поводу испачканного носа.
– Подумаешь! Это ничего не значит. У меня на "них" нюх. Несколько раз уже так обломалась, – вздохнула всезнающая товарка, – что можешь мне поверить. Да ты вспомни, как он разговаривал: душевно, будто мы ему подружки. Не-ет, настоящие мужики, те бы рисоваться стали, пусть и просто так. Жаль, по всему видать, классный парнишка, и невредный.
Невредный пассажир на этот момент сидел уже в отдельной комнате отдыха, в гордом одиночестве пил кофе с армянским, терпимого качества, коньяком и смотрел по старомодному телевизору местный кабельный канал, передававший рекламную чушь о свежеизобретенной супердиете. Другого ничего более из ящика выкрутить не представлялось возможным из-за отсутствия дистанционного пульта управления и неисправности стационарного. Но Макс Бусыгин, опознанный ушлой регистраторшей, имевшей глаз-алмаз, как "голубой" клиент, по этому поводу не переживал. Миссия, с которой два дня назад он отправился к берегам Черного моря, успешно была им завершена, и оставалась только легкая самолетная прогулка обратно в столицу со всеми удобствами, какие только мог предоставить ему первый класс на российских внутренних авиалиниях. Товар, ради которого, собственно, и было предпринято путешествие, уютно лежал, упакованный равномерно внутри портпледа, и о своем присутствии молчал по-партизански, не выдавая его и намеком. Да и кто бы заподозрил в таком неблаговидном и уголовно наказуемом проступке, каким является контрабанда наркотиков в особо крупных размерах, молодого, лощенного денди, со спортивной фигурой и стильной стрижкой, благоухающего изысканными туалетными водами. Зачем симпатичному и успешному на вид бизнесмену, какого старательно изображал Макс, одетому от Бриони и Армани, путешествующему по бумажно-портфельным делам, связанных, наверняка, с высокоумными инвестициями и кредитами, марать руки о грязное правонарушение последнего разбора? Правильно, незачем. И потому такая дикая мысль никому из должностных лиц, обслуживавших адлерский аэропорт, не приблудилась, даже и случайно, в их ответственные головы. Конечно, были в Большом Сочи люди, которые отлично знали, как и с чем летит модный столичный человек, чей тягчайший порок, по мнению наблюдательной регистраторши, состоял всего-навсего в нетрадиционной половой ориентации. Знали, как не знать. И приложили руку к его успешному путешествию. Но скорее откусили бы себе язык, чем выдали стражам порядка заезжего эмиссара. Кто такой Ян Владиславович Балашинский в Сочи помнили крепко, так же как и достаточную длину его безжалостных рук.
Как и положено было расписанием, старенький, видавший виды лайнер ровно через два часа зашел на посадку в аэропорту "Внуково". В Москве сияло солнце ничуть не менее яркое, чем то, что вставало над южными морскими берегами, разве что воздух все же был прохладнее. По возвращению никаких проволочек не ожидалось. Макс прошел бы через обычные ворота прилета в общей массе пассажиров, не привлекая внимания, к стоянке автомобилей, где его в "навигаторе" поджидал бы Сашок. И оба отбыли бы в Большой дом без шума, пыли и ненужной суеты. Охрана Максу, смешно говорить, не требовалась вовсе никакая, а повторение истории с перестрелкой невозможно было бы в людном аэропорту… Если бы да кабы.
Рейс из Махачкалы, задержанный на родине по неизвестным и несущественным причинам на три часа, сел за сорок минут до прибытия Максова самолета. Но этих минут таможенно-милицейскому патрулю, действовавшему по разработанной наводке, вполне хватило, чтобы задержать и арестовать двух весьма агрессивных аварцев с грузом нелегального опия. Акт изъятия составили на месте, патрульных с собаками, натасканными на обнаружение наркотиков отпустили, и те, дожидаясь команды занятого начальства толклись у выхода, курили, травили байки, пугая приезжий люд угрюмо рычащими псами.
Внуковский аэровокзал на беду Максима Бусыгина находился в стадии долгосрочной перестройки, отчего несколько выходов были перекрыты и оставлен лишь один узкий проход, петлявший между временными щитами изоляции малярных работ. У стеклянных дверей, ведших наружу, Макс, конечно, заметил патруль в форме и с собаками, но не придал этому обстоятельству ровно никакого значения. С какой бы целью ни были бы приведены в здание служебные псы, боятся их было бы ребячеством. Макс знал по собственному опыту, что даже самые свирепые ротвейлеры и доберманы вблизи "вампов" в лучшем случае поджимали уши и хвосты, а в худшем забивались в ближайший угол и тихонько подвывали. Здесь же были налицо лишь два сопящих и слюнявых бассет-хаунда.
Но удача, до сих пор сопутствовавшая деловым начинаниям Балашинского и компании, решительно-бесповоротно развернулась в этот день во Внуковском аэропорту на сто восемьдесят градусов. Длинноухие друзья таможенников, мгновенно и, безусловно, как и положено мудрым, безъязыким тварям, разгадали сущность бежевого господина с портфелем и сумкой на плече, и при иных обстоятельствах трусливо-благоразумно остались бы сидеть подле своих хозяев от греха подальше. Однако, содержимое сумки нелюди-пассажира взяло верх над страхами. Бедные бассеты, так и не получившие еще после успешных розысков положенной им порции дури, испытывали жестокие мучения и ломки, и, в порыве отчаяния, желая то ли добыть исцеления самостоятельно, то ли еще раз выслужиться перед проводниками и заставить их выдать немедленно малую толику спасительного наркотика в счет заслуг, рванулись вперед, наплевав на свой страх.
Как бы то ни было, но Бусыгин оказался совершенно не готов к происходящему, хотя неожиданностей в своей жизни повидал немало и с честью выходил из многих неприятных ситуаций. И, как любой шпион или удачливый грабитель, утративший бдительность, попался на пустом месте. Это была та самая глупая и непредсказуемая случайность, которая вторгается в налаженный механизм отработанного порядка, ничем не извещая о себе. Ее появление невозможно предсказать даже по теории вероятности, потому что ни одна точная или не очень точная наука не может предсказывать немыслимую дурость. Как если бы человек, переживший авиакатастрофу и отделавшийся всем на зависть и удивление легкими ушибами и ссадинами, взял бы на земле из рук заботливого врача скорой помощи пластиковый стаканчик с валерьянкой, выпил бы ее, подавился и умер. Невероятно, глупо и смешно. Но очень даже может быть.
Бассеты с лаем и визгом драли на части несчастный портплед, Макс мог сбить их насмерть одним ударом руки, но не предпринимал ничего. Только неловко пытался выдрать сумку из собачьих зубов. Тут же прозвучало и неизбежное "гражданин, пройдемте с нами". Конечно, ничего не стоило сбежать, захватив с собой товар, но тогда Максу наверняка пришлось бы убить как минимум двоих патрульных, уже передернувших перед ним автоматы с обоих боков и, возможно, покалечить еще и проводников собак. Тогда на нем оказалось бы несколько милицейских трупов и куча другого рода дерьма. Вычислить его по описанию не составило бы труда, и к хозяину тотчас бы явились с неприятными вопросами и подозрениями. Чем кончилось бы такое дело трудно и вообразить. Проект скорей всего пришлось бы похоронить – вряд ли кураторы захотели б иметь общий бизнес после такого вопиющего скандала. А самого Макса наверняка бы ждала участь мнимого покойника Стаса, и то, если не пришлось бы попросту удариться в бега. Лучше уж потерять в малом – всего лишь некоторую, восполнимую сумму денег, и пережить временную несвободу. Оттого, после секундного, в бешенном темпе, мыслительного процесса, вихрем отметавшего и выбиравшего варианты, Макс Бусыгин решил сдаться и взять все на себя. Главное – перенести события в спокойное и дальнее место, наделав при этом как можно меньше шума. Что хозяин вытащит его из кутузки и сделает это шито-крыто Макс не усомнился ни на миг. Лишь бы выиграть время. Он растерянно и добродушно улыбнулся подлетевшим патрульным, слабо ойкнул на легкий тычок автоматом в спину и безропотно дал застегнуть на запястьях наручники. Портплед и черный портфельчик у него, разумеется, тут же отобрали.
Когда в каморке линейного отделения открыли портплед и осмотрели содержимое, менты только ахнули. Замешательство было столь велико, что почти минуту в замызганном помещении, полном ответственного народу, царила прямо-таки гробовая тишина. Пока, наконец, старший, нервный, язвенного вида мужчина в майорских погонах, не протянул:
– Та-ак! – и снова замолчал, видимо не решаясь продолжить мысль.
– Николай Ильич, да ведь это же… – начал было паренек в штатском, по виду начинающий опер.
– Молчать! Лишние – во-он! И ты, Зайцев, иди, и людей забери. – Майор сделал резкий жест рукой, и мужичок, тоже в гражданской одежде, но постарше, в летах, кивнул и потащил за собой прочь из комнаты еще несколько человек.
Макс стоял совершенно спокойно, глаз не опускал, смотрел начальнику в лицо, но не вызывающе, а многозначительно и строго. Тут, однако, подал голос капитан в форме, похожей на ОМОНовскую, в деталях Макс не разбирался, и с автоматом через плечо.
– Николай, оформляй изъятие и передавай нам… Не будем ссориться.
– Паша, ты подумай, может лучше через нас… – начал было уже все понявший и взвесивший дальновидный майор.
Но капитан Паша договорить не дал.
– Знаю я эти шутки. Он к вечеру будет на свободе. Так что давай-давай. Если не хочешь служебного расследования… Я молчать не буду, ты меня знаешь.
– И не боишься? Дело-то непростое. Такой груз сам по себе за здорово живешь не ездит. Смотри, кому на хвост соли насыпешь, ась? – нервный майор злобно сощурился.
– А я для того и поставлен, чтоб разным гадам на хвосты наступать! Мои боялки еще знаешь когда отбоялись? – почти выкрикнул капитан с плохо скрываемым бешенством.
– Ну-ну, тебе жить. Я что, мое дело маленькое. Вот акт оформим.., – майор велел привести понятых, началась обычная в таких случаях процедура.
Когда волокита с бумагами была, наконец, завершена, Макс, не без пользы за это время шевеливший мозгами, вдруг сказал, обращаясь непосредственно к понятливому майору:
– Товарищ майор, Николай Ильич, кажется. Я хочу написать чистосердечное признание. Сейчас и немедленно. Желательно, в вашем присутствии. Насколько мне известно, в этой просьбе, сделанной к тому же при свидетелях, вы не можете мне отказать.
Майор, учуяв вновь проклюнувшуюся выгоду, посветлел глазами.
– Конечно, конечно, гражданин Бусыгин. Не только не откажем, но и всячески поприветствуем похвальное намерение. Признание желаете писать публично или, так сказать, в спокойной обстановке?
– В спокойной остановке. Но хотелось бы в вашем непосредственном присутствии.
– Вот козел! – ругнулся капитан Паша и добавил еще ряд трехэтажных непечатных выражений.
– Паша, гражданин имеет право, – укоризненно-насмешливо попрекнул капитана майор Ильич. – Пройдемте, гражданин Бусыгин для чистосердечного признания… Не кипятись, уж потом он твой.
– Это уж точно, – сквозь зубы процедил капитан, делая вид, что плюет себе под ноги. – По дороге еще поговорим, жопа! Я те ребра пересчитаю, умник.
Макс, однако, на последние слова капитана Паши большого внимания не обратил и смысла их вовсе не испугался. Угрожать побоями ему, "вампу", было более чем забавно.
В кабинетике, куда привел его майор, Макс первым делом начертал на листе бумаги несколько цифр и протянул лист Николаю Ильичу.
– Позвоните срочно по этому номеру, только не отсюда. Расскажите все. Считайте, что на шубу жене уже заработали. Это для начала. И не мешкайте. В этом деле замешаны очень, я повторяю, о-ч-е-н-ь важные люди. Вы поняли меня?
– Понял, понял, не такой дурак как некоторые, – Николай Ильич многозначительно посмотрел на дверь, за которой остался воинственный капитан Паша. Листок с цифрами он бережно убрал во внутренний карман форменного кителя.
– Это отлично. Теперь запишем признание, о том, как я, Бусыгин Максим Романович, по просьбе неизвестного мне гражданина, имя и фамилию я не знаю, встреченного мною случайно в аэропорту города Адлера, взялся передать в Москву портплед… Вы записывайте, записывайте…
ГЛАВА 27. КУКУШОНОК
– Это невозможно! Это немыслимо совершенно! Два месяца! Бедный, бедный Максимушка! Разве ж он выдержит? – причитал Фома, колобком катаясь из одного конца обширной гостиной в другой, заламывая руки и нервно теребя очки. – Как вы не понимаете, ведь это же конец!.. Ему надо устроить побег, да-да, побег! Ну что же ты, Миша, молчишь? Черствые, равнодушные эгоисты!
Но собравшиеся в этот скорбный час в гостиной Большого дома не были ни черствыми, ни равнодушными. Молчали не от бесчувствия и личной корысти, а от леденящей мысли растерянности и осознания всего ужаса сложившейся ситуации. Миша, Ирена, Рита и Стас, пришла даже Машенька. Сашок, заботливо опекаемый двумя хозяюшками, тоскливый и пьяненький сидел в дальнем углу. И, конечно, Ян. Он тоже молчал долго, слушал бесполезные и комичные завывания "апостола", был хмур и неподвижен. Он же первым и заговорил:
– Лера, детка, я тебя очень прошу, налей своему мужу выпить, пусть успокоится. И усади его, ради бога; у меня уже голова кружится от его хождений. – Ян, дождавшись, пока Лера, взяв "апостола" под руки, отвела охающего и стенающего супруга к бару, обратился, наконец, к семье с чем-то, похожим на правительственное заявление, переданное Левитаном советскому народу в полдень 22 июня известного года: – Дорогие мои, давайте не будем заранее хоронить ни нашего брата, ни наше нынешнее существование, ни наше будущее. Если в данный момент выход и не найден, то это не означает, что его не существует, согласитесь? Значит, будем думать и думать быстро. И заняться мыслительным процессом я рекомендую решительно всем, без исключения. Это не частное дело, касающееся только лишь Боевой группы, а наша общая беда. Пока же разойдемся, уже довольно поздно и дальше перетирать воду в ступе нет никакой нужды. Ирену я попрошу пока остаться в доме. Завтра с утра группе и всем желающим собраться в моем кабинете. Это все.
Ян вышел в полном молчании, за ним сразу поднялась Машенька. После, так же без лишних слов, стало расходиться на ночлег и остальное семейство. В гостиной задержались только мадам и сумрачный "архангел" со своей Ритой.
– Миша, неужели все настолько серьезно? Я приехала последней и, может, что-то упустила… Я не собираюсь играть в игры, слишком уж ситуация тревожна, поверь мне. Обещаю, что не буду искать с тобой ссоры, по крайней мере, до тех пор, пока все не кончится и Макс не будет сидеть здесь с нами за столом. – Ирена не врала. И ей и семье было нынче не до старых счетов и обид.
– Серьезно! Серьезно, милая моя, не то слово. Я бы выразился определеннее – все катастрофично!
– Но у тебя же связи! Я не говорю уж о самом Яне, но ты же можешь почти невозможное. Почему же ничего нельзя сделать? Если надо, Миша, ты только скажи, я кого-нибудь соблазню или…
– Ирка, да как ты можешь так думать! Мишечка уже третьи сутки бьется как рыба об лед. Чего только не делал, к кому только не обращался! Кучу денег извели, а толку чуть, – возмутилась Рита, вступившись за мужа.
– Рита, погоди. Иринка не то имела в виду, – мягко осадил жену «архангел», а сам невольно отметил про себя: "Вот она уже и Иринка, видно, правду говорят, что общие несчастья сближают, а завтра, глядишь, опять вцепимся друг дружке в глотку. А-а, лишь бы Макса вытащить." Потом уже, когда Рита, надувшись, замолчала, обратился к мадам: – Понимаешь, с самим Максом вопрос принципиально решен. Никто дела до суда доводить не будет. Замотают на следственном этапе бумаги и выпустят чистеньким за недостаточностью улик. Белым и пушистым.
– Так в чем же тогда проблема, я что-то не понимаю?
– Проблема, Ирочка, во времени. Раньше, чем через два месяца дела не закроют. У них своя процедура. И это, заметь, самый короткий срок и то лично для хозяина. А никаких двух месяцев у нас и в помине нет. Самое большее, три недели. Да и то я не уверен, что Максим столько-то продержится. Когда он в последний раз получал "допинг"? Вот-вот, больше десяти дней прошло…
– Так вытащи его под залог, в самом-то деле! Под подписку или еще как-нибудь! Ну, не мне тебя учить, – перебивая "архангела", выкрикнула Ирена, но тут же и замолкла, неожиданно остановленная выражением Мишиного лица, беспомощным и отчаянным.
– Пробовал… Ты даже не предполагаешь, сколько давал и что обещал. А получил кучу недоумений и подозрений, если не сказать хуже. Ян велел прекратить и не светиться больше.
– Как это? Ян приказал бросить..? – у Ирены язык не повернулся продолжить и развить крамольную мысль далее.
– Господи! Что ты мелешь! Не впадай в мои же заблуждения. Ну не могу я объяснить человеку, пусть ответственному, но всего лишь просто человеку, если так понятнее, суть нашей проблемы! А с точки зрения тех, кому мы платим за Максима, они сделали все и даже больше. И никто уже не понимает, чего мы, собственно, хотим. Дело это грязное и мутное, да еще на нем столкнулись лбами два ведомства, и отступить они хотят, непременно сохранив лицо, тут уж не в деньгах дело. Хотя и те, и другие берут много и охотно. Потому спускают на тормозах. Дескать, парень ваш выйдет целый и невредимый, но через некоторое время. Уговорили, что не более, чем через два месяца. О иных сроках и слышать не желают.
– Но ведь Макс ждет в тюрьме, а не на даче у двоюродной бабушки! – возразила мадам.
– А они на это совершенно справедливо замечают, что парнишка наш устроен по высшему разряду. Камера двухместная, могли и одиночку, но Максу так веселей. Там у него и мини-холодильник, и телик с видиком и ни в чем никакого отказа, и сосед – порядочный человек, чиновник из Минатомэнерго, сидит за взятку. Вернее, будет сидеть до тех пор, пока у Макса от жажды кровавые круги в глазах не пойдут. И потом, Макс для них – деловой, матерый порученец, особо ценный, раз такие люди о нем хлопочут, а стало быть, не кисейная барышня и не расклеится от того, что погостит в казенном доме смешно сказать сколько.
– Зато, когда у их постояльца случится кризис, будет не до смеху. Могу себе представить! Интересно, что они будут делать тогда? – у мадам вопрос сам собой исторгся саркастично и зло.
– Что будут делать? Да убьют, со страху или от греха подальше. Остановить его не смогут, да и Макс живым не дастся. Вооруженной охраны там, понятное дело, навалом, и выбраться ему на свободу – без шансов. Прорвется из здания – расстреляют во дворе. Крови море будет, это я могу обещать. А после пойдут всякие ужасы со слов уцелевших очевидцев, вскрытие и другие приятные для нас вещи. Дай бог после ноги унести. И то, думаешь не начнут искать по всему свету обалдуи из служб и управлений? На полвека жизни спокойной не видать. Ну это ладно, пересидим, пока все забудется. У спецагентов станет одной легендой больше. Но Макса мы потеряем. И Ян еще ничего не решил с Машей и с сыном.
– А они с какого боку? – отрывисто спросила Ирена, стараясь, чтобы слова ее имели оттенок равнодушия и проходного интереса. Упоминания о Маше и маленьком Лелике в любом контексте были ей ненавистны до ледяной дрожи в груди.
– Как же? Пускаться в длительные бега с неподготовленными физически людьми опасно. Мало ли что может приключиться? К тому же, одно дело человек, пусть самый лучший, и другое дело свой, "вамп". Тут вопрос доверия, – Миша разоткровенничался против воли, но и глубокими, томящими его тревогами не смог не поделиться хоть бы и с Иреной.
– Вон как дело повернулось! А то – Машенька, да, Машенька. Выходит, хороша Маша, только не на нашу кашу! – Ирена рассмеялась не без удовольствия.
– Послушай, уж я знаю, сколь сильно ты ее не любишь, если только слово "нелюбовь" подходящее в данном случае выражение. Но ты сама пожелала перемирия. Потому, если говорить серьезно, то у меня, в отличии от Яна, большие сомнения на счет его жены. В смысле выбора.
– То есть ты пытаешься мне сказать, что девица выходила замуж за клиента красивого и богатого, уважаемого и с положением, и плевать ей было, кто он там, вампир или черт в ступе. А теперь, если не дай бог, и впрямь жареный петух в заднее место клюнул, то неизвестно какой фортель эта замужняя сучка выкинет? – грубо, но очень точно изложила "архангеловы" мысли мадам.
– И ничего Машка не сука! Она Яна знаешь как любит! – вступилась до той поры стойко и обижено молчавшая Рита, задетая несправедливостью в адрес подруги.
– Любит, любит. Его все любят… Только каждый по-своему… Некоторые замуж выходят… за других.
Намек был страшно несправедлив и болюч до слез. Рита сначала задохнулась в жгучем столбняке, потом, под накатившей волной гнева собралась в напряжении, набрала полные легкие воздуха для достойного отпора богохульнице, да так и выпустила его вхолостую. "Архангел" не дал разгореться ссоре, остановил супругу взглядом и твердым, но и нежным пожатием руки.
– Не будем сейчас считаться друг с дружкой и выяснять отношения. Особенно, когда один из нас в беде, – сказал Миша примирительно и мягко. – Так о чем бишь я? А вот о чем: у Маши есть еще и сын, тоже пока маленький человечек. Какое решение она примет, наилучшее для Лелика, нам не известно. Если они останутся в Москве после нашего бегства, считай, что оба пропали. От них не отстанут, будут шантажировать и Яна и нас. Так что для Маши, в случае нашего провала, реален лишь один выход. Отъезд со всей семьей. Тогда ей и Лелику придется вместе с нами скрываться всю их недолгую жизнь, а это значит, что будущее Маши и ее сына практически получится загубленным. Если только они не перейдут в другое состояние. Но и тогда и Маша и Лелик в некотором роде станут отверженными и прикованными к семье на неопределенный срок. Это не считая издержек нашего существования. И как мать, она не может не задумываться над тем, что выйдет из ее Лелика, когда он станет взрослым. Вряд ли сын такого отца изберет мирную судьбу велеречивого Фомы, чей образ жизни мало отличается от уклада наших домохозяек. Тогда, при некоторой вольности в рассуждениях, может получиться, что Маша сознательно и умышленно сделала из своего сына безжалостного убийцу. Но хуже всего то, что какой бы выбор она ни сделала за себя и своего ребенка, это, возможно, будет мучительное и страшное для нее решение.
– А человек, загнанный в угол судьбой, может наделать отчаянных и плохо прогнозируемых глупостей, – подытожила панегирик Ирена, невольно копируя Мишину адвокатскую манеру выражаться. – Но чего делить шкуру неубитого медведя? И потом, может Машке выбор делать будет легко и приятно. Может, она прямо завтра согласится на "операцию"?
– Опять плохо. Хрен редьки не слаще. Скрываться с двумя тяжело больными на руках – последнее дело. Особенно, если один из них маленький ребенок.
– Ну, тогда только и остается, что шевелить мозгами и любой ценой вытаскивать с кичи нашего неудачливого наркобарона, – пошутила мадам напоследок, и их маленькая компания тоже разошлась почивать.
И кто бы мог тогда подумать, что этой же ночью выход для всех найдет Маша, маленькая Маша, далекая от криминальных семейных драм домашняя любимица, примерная жена и студентка-отличница. Но именно она, как и подобает будущему большому ученому, обладала в должной мере свободой абстрактной мысли и строгой логикой в решении любой частной или общей задачи. Там, где пасовала многолетняя хитрость и звериная мудрость, где бессилен был ставший за долгое время бесценным жизненный опыт, все выиграл холодный, математический, шахматный ум.
Оставшись в собственной спальне наедине с мужем, все еще хмурым и озабоченно молчаливым, Маша задала ему, казалось бы, совсем простой вопрос:
– Янек, а из-за чего именно нашего Максимку держат в тюрьме? – при этом Маша не выглядела наивно-любопытной дурочкой. Напротив, голос ее был серьезен и задумчив.
Ян ответил ей машинально и с грустной усмешкой:
– Из-за десяти килограммов чистого героина, детка. Ты спи, не думай об этом.
– Значит, если бы этого героина не было, то Максимку бы отпустили? – все также серьезно спросила Маша.
– Если бы его не было, он бы и вовсе не сидел сейчас в камере, – ответил Балашинский, но собственной шутке даже не улыбнулся.
– Да нет же! – Машенька досадливо сморщила носик, видя, что муж ее не понимает. – Если бы этого героина сейчас не было бы, Максимку отпустили бы?
– Как это? – переспросил Балашинский, вдруг словно бы очнувшийся ото сна.
– Ну если бы героин вдруг исчез или его кто-нибудь бы… взял, то есть украл? Кто-нибудь совсем посторонний, не наш? Если отсутствует причина, значит и следствие любого процесса должно быть аннулировано. По логике вещей, то есть, эксперимента. И раз Максик сидит из-за этого героина, а самого героина нет, то…
Договорить Маше уже не удалось: Балашинский выкрикнул что-то нечленораздельное, рывком подхватил Машеньку, крепко поцеловал в губы. Потом заговорил сам, быстро-быстро, размахивая при этом руками:
– Выкрасть сложно, но куда проще. Чем добыть из-за решетки самого Макса. Как? Придумаем. Свой человек? Найдем. Тогда можно торговаться. С теми, кто решает. Держать Макса в заключении. Не будет никакого смысла. Только очень быстро… Ты моя золотая умница!
План был обнародован на следующее утро. Бури оваций он не вызвал, но разрядил сгущающие над семьей тучи, ибо это был какой-никакой, но все же реальный выход. Изъять вещественное доказательство при далеко не идеальном порядке в условиях его хранения представлялось возможным, Миша этого не отрицал, но поручить подобную задачу особенно было некому. Людям информированным и взявшимся опекать затворника Макса он довериться не рисковал. Слишком много возникло бы ненужных семье вопросов, а подкупить в лоб ответственного чужака представлялось еще более опасным. Тогда хозяин и обратился к мадам:
– Ирена, нужен твой полковник. Как хочешь, но заставь его поработать на нас. Для каждой козырной карты наступает срок, когда ее не придерживают более, но выкладывают на стол. Твой протеже, он многое может?
– Поля? Поля может! Пистон нам всем вставить! – хмыкнула Ирена, представив себе выражение лица благословенного Курятникова в ответ на ее просьбу поспешествовать в краже десяти килограммов изъятого героина. Но жгучая, страшная и шальная мысль, явившись вдруг незванной, ожгла Ирену изнутри, и, не успев осознать значение ее до конца, мадам перестала хмыкать. Ответила хозяину так: – Поля может, только, бога ради, не лезьте к нему сами. Ни ты, ни Мишка! Тут надо нежно, в виде личного одолжения. И за пять минут мне не управиться.
– Вот и нечего рассиживаться, езжай к своему полковнику немедленно. Кстати, где он сейчас?
– Где ж ему быть с утра? – удивилась Ирена. – На службе, конечно.
– Постарайся вызвать его. Придумай, что хочешь, только времени зря не теряй, – почти взмолился Ян, – ну, поезжай же, каждый час нынче дорог!
– Да, ладно, не нервничай. Уже в пути, – ответствовала ему Ирена, поднимаясь со своего места у стола, – к вечеру, может, уже что и скажу… Ну, покедова.
Но торопиться к Курятникову она отнюдь не собиралась, как не собиралась и звонить Аполлинарию Игнатьевичу на службу. Поговорить с упрямым полковником мадам намеревалась в спокойной обстановке вечернего или ночного ужина, как уж сложится у ее визави, и этого одного разговора будет достаточно. После чего в ее жизнь и жизнь полковника либо войдут совсем иные планы, либо один из них двоих, а именно, Аполлинарий Игнатьевич, со своей жизнью распрощается навсегда. А надо было ей обдумать частности и подводные камни.
Миша же после отъезда был озабочен еще и другим:
– Уговорить этого Курятникова мало. Нужно еще и подставить третье лицо.
– Это просто, – ответил ему Ян. Он уже просчитал за ночь некоторые варианты: – Что там у Саши с нашим деревенским Робином Гудом и его стрелками?
Сашок, еще смурной и не до конца протрезвевший, вскинул на хозяина мутные глаза, не понимая обращенного к нему вопроса. Ответить за него пришлось Рите:
– Ян, их можно брать в любой момент. И взяли бы, да руки пока никак не доходили. Мы все здесь нужны были и в Сочи, ты сам знаешь. А ребята тепленькие, сидят за печкой и ни о чем не подозревают, лопухи. Расслабились совсем, наверное. Все трое так и живут у бабки этого Витька. В Егорьевке. Это деревенька такая замшелая, недалеко от Рязани.
– Надо привезти их немедленно. Но брать тихо. Чтобы, как в воду канули. Были и нет. Сами собой испарились, – задумчиво и вслух стал рассуждать "архангел". На то и был у хозяина правой рукой, чтоб понимать с полуслова.
– Одного пусть застрелит охрана с подложными документами, а второй уйдет с героином. Его надо будет после сдать по легенде, – развил далее свой план хозяин. – Вот и будет нашему Максиму алиби.
– Третьего в запас? – уточнил "архангел"
Но Ян отрицательно помотал головой:
– Нет, не в запас. Третьим у них пусть будет этот Тенгиз. Никогда и никаким горным абрекам доверять нельзя, – Ян поморщился, передернул будто в судороге плечами. Яма, яма давала себя знать! – Его надо казнить. Для устрашения особенно жестоко, чтобы двое других видели. А с краденым героином застрелим сразу двух зайцев. Деньги нам, все же, нужны. Рита и Саша могут выехать сегодня в ночь… И пусть прихватят нашего "покойника". Он уже позеленел от безделья… Это ничего, это не опасно.
Этим же вечером Рита, умученый неволей Стас и скорбящий Сашок отправились в Егорьевку. Худую, бревенчатую избенку взяли молчаливым штурмом, до смерти перепугав полусонную древнюю Витюшкину бабку Аглаю, которая кричать не кричала, а лишь истово крестилась. Полуночные тати лихим ветром вымели из единственной комнатенки бабкиной избы обоих постояльцев и внука так, что и мышь не пискнула. Бабка Аглая осталась в одиночестве, справедливо поминая про себя нечистую силу. Однако, шум благоразумно поднимать не стала. Сволочного жадюгу-внучонка и его обкуренных травкой, нахальных приятелей Аглае было не слишком-то жалко, видать сами того заслужили, раз в роковой ночной час их скопом побрали черти.
Будто дрова покидав туго спеленутых веревками стрелков в нутро грузовой "газели", тройка бойцов птицей понеслась обратно к Москве. К утру были уже и на месте. Пленников, матерящихся пустыми и обидными угрозами, развязав, сунули для остуды в бункер. Пока не получили ответа от мадам, работать с ними выходило рановато.
А мадам с ответом не спешила. Никак не ожидала она, что эффект от ее гениального плана будет так велик. Аполлинария Игнатьевича почти в прямом смысле хватил удар: Ирена и до половины не успела изложить сути своего предложения и выгод, ожидающих любимого ее полковника в случае согласия. Курятников, услышав только лишь первое признание своей обожаемой подруги в том, что, дескать, она бессмертный вампир и "серийный" убийца силы необыкновенной, схватился за телефонную трубку, тыкал пальцем в "03". Пришлось трубку отобрать, явив и силу необыкновенную, которую полковник тут же приписал вслух необычайным физическим возможностям душевнобольных, пребывающих в раздражении и агрессивности. Выхода не было, и Ирена для вящей убедительности продемонстрировала Курятникову, взирающему на нее сочувственно и строго, милый рабочий оскал голодного "вампа". Тут же Аполлинарий Игнатьевич и потерял сознание, упав со стула.
Надо сказать, что мысль, посетившая Ирену давешним совещательным утром, к чести мадам была случайной. Никакого подобного плана она до сей поры не имела и Курятникова ни за какие коврижки, разумеется, в подробности своего существования на свете белом посвящать не собиралась. Напротив, в общем несчастье временно примирившись с Мишей, хотела начать карьеру свою в семье заново. На требование хозяина привлечь любой ценой прегордого полковника к их насущным бедам намеревалась тут же ответить отрицательно и с разъяснением причин, но передумала. И вот почему. Курятников, естественно, на вопиющий служебный проступок ни за какие коврижки не пошел бы, призвание свое уважая, Ирену же послал бы куда подальше и почитай за благо, ежели этим бы и ограничился. Ни за какие денежные коврижки, да. Начхал бы и на любовь, все равно для него недолгую, и на уют, и на бабьи слезы. Тут не помощь дружеская и не консультация с благодарностью – пахло чести офицерской попранием, а Курятников не был грязно-продажен.
Но тогда же Ирене подумалось и другое. Просто ради юбки не отважился бы Аполлинарий Игнатьевич на роковой шаг, поступая против совести. А если не ради сиюминутных утех с обворожительной молодой дамой, а ради любви вечной и нерушимой, жизни одной на двоих, нескончаемой и вне любых мирских законов стоящей? Способ у Ирены к тому был: сделать Аполлинария Игнатьевича равным себе, нестареющим никогда, преданным лишь ей одной любовником, сильным и умудренным непростою жизнью. Но хозяин вряд ли согласится на такой демарш со стороны мадам, вернее же сказать, не согласится ни за что, Ирена о том предчувствовала. И тут же вдруг удивилась сама себе: а так ли нужен будет ей с Курятниковым Ян и вся ее нынешняя семья? Ведь двое – это не один. А потом можно будет и еще кого подходящего привлечь. И станет мадам управлять уже собственным гнездом, никому не подвластная и любимая подданными королева. И отомстит проклятущему карпатскому выродку за обиды и пренебрежение ею как особой женского пола, товарищем и советчиком. К чему тогда примирение и сам "архангел" и карьера у самодержавного хозяина? Да и куда денешь эту дуру московскую Машку с ее отродьем? То место Ирене уже никак не занять. А создать свое собственное снова-заново, ни у кого впредь более не одалживаясь и не унижаясь, поистине неплохая затея.
Понимала Ирена и то, что двум гнездам на одном месте не жить. Узнает Ян – передавит как курят, на нынешний день он сильнее. И то будет верно: сама бы так сделала, окажись на его месте. Закон вампирский, кто ж спорит, мудр и справедлив. Огласка все равно, что конец. А два гнезда на один город, да что там, на одну страну, куда как много. Прямой бой с сильным семейством, пусть и вдвоем, им с Курятниковым ни за что не выдержать. Но вот погубить хозяина и присных его тишком и ядовитой стрелой, пущенной из-за угла, попробовать можно. Тут у Ирены будет преимущество нешуточное – с одной стороны, полная тайна, с другой – полная неожиданность. Об одном лишь только сожалела: что нельзя будет ей рыцаря Яноша оставить в живых, взявши в позорный плен. Уж безопасней булавку темную, серебряную носить у сердца или держать в комнатах при себе помесь льва рыкающего с ядовитейшей гадюкой. А как бы здорово было бы сбить коршуна в полете, перед тем разорив его гнездо, посадить на насест в клетку: пусть видит, каково ошибался, и скорбит о собственной глупости, о том, что проморгал и не оценил. Но Ирена от соблазна в мыслях удержалась. Из них двоих либо она, мадам, либо сволочной красавец хозяин могли одномоментно существовать на свете. Думать прежде надо было о себе и о том, как совратить вампирским житием милицейского российского патриота и офицера в нешуточных полковничьих погонах Курятникова Аполлинария Игнатьевича.
Курятников, хоть по сравнению с Яном Владиславовичем Балашинским, звезд с неба и не хватал, но Ирене был близок и приятен. Называл Ирочкой, душечкой, сладочкой, в глаза ласково заглядывал. А главное, им-то при известной ловкости и лестном антураже куда как несложно было бы управлять. И жили бы они богато, если не вечно, то долго и счастливо, Курятников – упиваясь любовью и благополучием, мадам – самовластием тайным и отомщением. Два сапога пара. Да, именно такой друг и возлюбленный, в меру умный, еще и с бесценными служебными навыками боец, и нужен ей для дальнейшего заветного существования. И ни к чему Курятникову становится убийцей и бандитом, зачем ломать с трудами созданное. Денег и мадам заработает, благо и уже есть достаточно. Пусть ловит себе в удовольствие и далее прохиндеев и преступников, воздух чище будет, а заодно и поддерживает за их счет свое бренное естество, попивая уже в буквальном смысле их кровушки. И что важно, сию полезную миссию никто более не возбранит ему осуществлять столь долго, сколь Аполлинарий Игнатьевич пожелает. Будет Курятников вольным охотником, сам себе исполнителем и судией, санитаром леса. На такого аппетитного червячка, пожалуй, можно и сманить.
Беда только, что несчастный Курятников, судьбы своей не ведая, все еще продолжал лежать без памяти, сверзившись от нежданного ужаса со стула на ковер, и в себя приходить не спешил. Ирене надо было перво-наперво привести полковника в чувство, да так найти слова, чтобы не полез он тут же на рожон с необдуманными действиями. Бить больно и обидно Ирена будущего своего супруга и соратника не хотела. В конечном же успехе своего предприятия мадам была уверена.
Балашинский двое суток ждал смиренно-терпеливо, не торопя и не дергая понапрасну, результатов Ирениных стараний. Пока на третий не услышал заветное: "Курятников согласен. Но просит много." Денег Балашинскому, а сумма обозначилась в переговорах изрядная и для его кошелька, было не жаль. Неподкупная честность товар самый дорогой, и продается лишь единожды, Балашинский это знал. Главное, что необходимый ему человек, хоть и не сразу, но на предложение согласился. Надо было срочно готовить фигурантов. Но тут неожиданно забастовал "архангел".
– Ну не верю я! Ни единому слову не верю! Сам-то ты с ним говорил? – почти кричал Миша на хозяина, чего не позволял себе никогда раньше. В кабинете были лишь они вдвоем, и "архангел" не счел нужным скрывать свои раздражения и тревоги. Шваркнул в сердцах о стол вечным пером старинной работы, выдернутым из массивной, украшавшей интерьер, чернильницы. Перо, бронзово звякая, лягушкой отлетело прочь. Откололась позолота. – Прости. Я не нарочно.
– Уж конечно. А полковника Ирена привезет к нам завтра, не беспокойся. Без личной беседы и гарантий я не то что ему, министру копейки бы не дал. – Балашинский, казалось, забавлялся гневом своего верного помощника: – Перо-то подбери… Я в свое время гусиными писал и горя не знал, вечное мне было в диковинку. А ты швыряешься как ненужным старьем.
– Да перья-то причем? Какие гуси, если чует мое сердце, неладно что-то у Ирены! Да ты сам вспомни, когда такое было, чтоб с ней, да все ладно было?
– С делами она всегда справлялась на совесть и хорошо, – справедливости ради заметил Балашинский, – а на предчувствиях сейчас далеко не уедешь. С предчувствиями после разберемся. Нам первым делом Максимку нашего выручать надо. Любой ценой, заметь. Да и почему ты этого полковника, заурядного служаку, так боишься?
– Господи, опять на карусели! Я не Курятникова, нелепую фигуру, я Ирены опасаюсь! Дела она делает, да! А после непременно поганка какая-нибудь, нет-нет, и завернется, – "архангел" опять затрясся в ажиотации.
– У тебя сдают нервы, так не годится, – Балашинский построжал тоном, желая привести Мишу в нужную для работы кондицию, – я опасаюсь и стерегусь всю жизнь, и, как видишь, не сдаюсь и в истерики не впадаю.
– Вот-вот. Именно, что всю жизнь. Уж прости меня, конечно, но на мой сторонний взгляд, ты так привык к этому ожиданию всякого лиха и напастей, что недооцениваешь своих предчувствий и реальных угроз. Ты устал от этих ожиданий, Ян, и можешь проморгать беду. – Миша сказал и сам испугался собственной смелости. Но и смолчать не мог.
– Зато ты не дремлешь. Тебе еще не надоело ждать. И это, наверное, хорошо. – Балашинский не разобиделся и не осерчал на справедливую тираду помощника, но как-то стих и погрустнел. – Вот и займись. Сделай, что считаешь нужным – даю тебе на то полную свободу.
– Тогда я с Ирены и ее Курятникова глаз не спущу… И еще, по поводу фигурантов. Ты приказал казнить Тенгиза, а я думаю, надо иначе. Пусть его застрелит охрана на месте взлома. А Гаврилов, с нашим эскортом, разумеется, пусть уходит с героином. Витька, он слабак. И помирать будет противно, как червяк, впечатляюще. Тенгиз же – абхаз, к тому же, непростой. Войну прошел еще мальчишкой в Сухуми. Его как ни пытай, боюсь, смерти просить не станет. А тех, других, может навести своим примером на ненужные мысли. К тому же, Витькину сестру мы угробили, и он об этом, похоже, догадывается. Как поведет себя на операции, я на сто процентов ручаться не могу. Может переиграем, пока не поздно? – ненастойчиво, с вкрадчивой надеждой спросил Миша.
– Нет. – Ян ответил ему, как отрезал. И еще раз повторил: – Нет.
– Но почему? Если ты из предубеждения…
– Молчи. Тебе не понять. – оборвал его Балашинский, и добавил примирительно: – Ты там не был тогда, и не переживал никогда и ничего подобного, не дай бог пережить! Потому, позволь мне поступить по-своему. Если абхаза буду мучить я сам, а я буду, то поверь мне, он завоет и запросит и руки целовать станет.
– Как знаешь, – сказал Миша тихо и замолчал. Балашинский молчал тоже. Потом "архангел" осторожно попросил: – Может все же когда-нибудь расскажешь, что с тобой произошло в тот раз в горах? Я тебе вроде не чужой.
– Может и расскажу, – только и ответил Мише хозяин. И снова замолчал.
ГЛАВА 28. АГАСФЕР (ОКОНЧАНИЕ)
Пока трое братьев по пролитой крови гадали, куда направить свои стопы из опостылевшего, глухого, богом забытого османского угла, пока мешкали в нерешительности, то отвергая, то принимая один план за другим, в столице настали совсем новые времена. Великий и мудрый Шехид Али-паша пошел на сговор с гяурами. Многострадальное Венгерское королевство, пожранное ненасытными Габсбургами, отчаявшись найти защиту и справедливость в христианском мире, обратило свои взоры к Порогу Счастья. Князь Ференц Ракоци, возвав о помощи, получил ее из мусульманских рук, да еще целый корпус регулярных войск в придачу. И вскоре самолично прибыл в Стамбул, окруженный немалой свитой. Так началась памятная венгерская эмиграция, во время которой лучшие из лучших гонимого австрийцами народа покинули навсегда несчастную свою родину, многие сменили и веру, найдя приют в империи Османов.
А при дворе аллахоподобного Ахмеда III начиналась новая эпоха – ляле деври – "эпоха тюльпанов". Тысячами везли клубни этих прекрасных цветов из далекой Голландии, а с ними – и новшества передовой Европы. Дворцы новоявленных вельмож стали больше походить на манерные шедевры Марли и Фонтенбло, чем на жилища, подобающие правоверным слугам султана. Случилось и вовсе невиданное: молодых османов, оторвав от интриг и лени, усадили за книги, изучать, страшно и произнести, гяурские премудрости, именуемые светскими науками.
Великий визирь Дамад Ибрагим-паши пошел и далее. С легкой его руки некий Ибрагим Мютеферрик, реформатор, ренегат и дипломат открыл по султанскому фирману в столице первую турецкую типографию. Мютеферрик, политик и ученый, не был, однако, коренным османом, а прибыл в империю беженцем-эмигрантом из той же самой Трансильвании, что рыцарь Янош, и так же добровольно принял ислам. При нем с некоторого времени и состоял то ли писцом, то ли комнатным слугой некий, совсем еще юный парнишка по имени Омар. Покойные родители мальчика, прибывшие в Стамбул на кораблях князя Ракоци, умерли скоротечно и люто от чумы, пошаливавшей в кварталах перенаселенной столицы, и богобоязненный Мютеферрик принял венгерского сироту в свой дом, дал ребенку новое имя и новую веру. Омар рос под покровительством строгого, хотя и доброго в мыслях и поступках дипломата, который взял на себя еще и труд обучить мальчика местному чтению и письму, языкам греческому и французскому и мертвой латинской азбуке, началам математики и государственного управления. Смышленый парнишка хватал науки на лету, не гнушаясь при том и лакейскими обязанностями вынести за опекуном ночную посуду, подать и надеть на ноги домашние туфли, раскурить кальян и исполнить любые другие мелочи, требуемые обычно господином от прислуги-камердинера.
Омару исполнилось уже семнадцать, когда Ибрагим Мютеферрик позволил юноше сопровождать себя в качестве личного секретаря-драгомана и, надо сказать, что Омар превосходно справлялся со своими обязанностями. В сытости и достатке нового своего дома он вырос со временем в стройного и высокого молодца, чуточку даже высоковатого для истинного уроженца венгерской земли, красивого до смазливости и юркого в движениях, но все же несколько хрупкого и тонкого в кости, чтобы рассчитывать на полноценную карьеру военного. Оттого покровитель его полагал за благо для юного Омара умственные занятия. Одно только беспокоило мудрого и вечно занятого дипломата в своем питомце – Мютеферрик находил в Омаре пусть и единственный, но весьма существенный для будущего этого молодого человека недостаток. Делая изрядные успехи в занятиях и слыша хоть и заслуженную, но слишком частую похвалу своим способностям, мальчик, со временем сложил о собственной персоне слишком высокое мнение, зачастую противопоставляя себя в превосходной степени, пусть и неявно, окружающему миру. Видя опасность подобных задатков неоправданной гордыни, мудрый его опекун пытался направить беспокойный ум Омара на возвышенные и благородные мысли, попутно внушая юноше основы смирения и уважения к старшим авторитетам, оттого и находил полезным для Омара продолжать нести обязанности своего личного слуги. Мальчик безропотно и покорно выслушивал наставления Мютеферрика, выполнял с достойной тщательностью возложенные на него работы и никогда не прекословил своему покровителю. Но по пылающему взгляду, всегда отведенному прочь, по внутреннему напряжению тела и души, нет-нет, да прорывавшихся наружу против желания юноши, Ибрагим Мютеферрик, опытный и проницательный царедворец, блистательный дипломат, догадывался, что все его наставления пропадают втуне. И природу юного Омара исправит разве что могила. Оставалось положиться только на судьбу, извечный "кисмет", ведущий по жизни подлинного магометанина.
К началу "эпохи тюльпанов", когда блистательный Мютеферрик уже пожинал первые плоды своих просветительских усилий, в столицу прибыл и Джем Абдаллах со всем своим окружением. Конечно, прибыл не тот самый Джем, и даже не сын его, а как бы внук и может быть правнук, в Стамбуле разбирать не стали. Если должность столь долгие годы переходила за изрядную мзду от отца к сыну, на далеких задворках в смутное время, то кому какое до этого дело. Если нынешний саджак-бей продал свою синекуру и явился ко двору в поисках службы и милостей, кто может осудить его за столь похвальное рвение? К тому же прибыл человек видный и богатый, щедро раздающий золото, и, судя по всему, непростой.
Ища покровительства в обновленной европейскими веяниями османской столице, Янош, или вернее, Джем первым делом отправил в дом Мютеферрика щедрые дары. И вовсе не потому, что последний был такой уж влиятельной особой при дворе султана Ахмеда, хотя и мог рекомендовать великому визирю полезного для государственных дел человека. Хотя Янош и не желал сознаться сам себе, что выбрал Ибрагим-пашу только из-за его происхождения, однако, выбор пал на Мютеферрика именно по этой причине. Дело было не только в некоторой слабой ностальгии по почти что уже позабытой родине, но и в том, что рыцарь Янош не позабыл нрав людей своей страны, среди которых вырос и, главное, все еще превосходно помнил их язык.
Дары отставного и совершенно незнакомого Мютеферрику саджак-бея несколько удивили турецкого первопечатника, но раз уж они были приняты, то ничего не оставалось, как быть последовательным и принять самого дарителя. Каково же было удивление просвещенного ренегата, когда вместо чопорного, носатого и бритоголового провинциального османа, какого и ожидал лицезреть Ибрагим Мютеферрик, пред ним предстал подлинный мадьяр, да еще и обратился к нему с приветствием на милом и родном языке его заморского прошлого. И Мютеферрик мгновенно и безотчетно проникся к странному гостю истинной симпатией, а когда из непродолжительного разговора узнал, что мать Джема была из венгерских пленниц, купленной на невольничьем базаре, тут же разъяснил себе и необычный внешний вид гостя и его чистый выговор, какой услышишь разве что среди аристократов Буды. И тогда посчитал своего нового знакомого подлинной находкой для собственных планов. И не ошибся.
Мютеферрик оттого и полагал себя знатоком людей, что точно и раз и навсегда определял для себя некую, неуловимую внутреннюю сущность каждого человека, с которым ему приходилось вести те или иные дела. Определял же дипломат вовсе не нравственные или физические достоинства, которые, как Мютеферрик справедливо полагал, могут со временем до неузнаваемости измениться. Обжора и пьяница, подорвав природное здоровье своего чрева, мог стать настоящим постником, развратник в силу естественного хода времени – превратиться в монаха, католик – принять ислам из-за вдруг открывшегося высшего знания или жизненной необходимости, и наоборот, правоверный магометанин – предать своего султана, подлый и низкий негодяй – пережить истинный ужас наказания и переродиться в святого, сиятельного своей добротой и кротостью утешителя слабых, прирожденный врач мог сделаться жестоким убийцей, а жестокий убийца – добросовестным целителем недугов. Но, по мнению мудрого Ибрагима, все эти метаморфозы, имевшие место и совершаемые в людских телах и душах, не имели никакого отношения к определению их настоящей сути. Даже трепетная лань может преодолеть собственную трусость и кинуться на голодного волка, но, как бы то ни было, лань ланью и останется, и никогда ей не быть волком. Так и человек, живущий исключительно горячим сердцем будет не то, что человек живущий холодным рассудком. Хотя один легко может сделаться кровожадным разбойником, а другой великим монархом или просветленным духовным пастырем. А глупый мечтатель, даже нажив ума, никогда не станет купцом или толковым ремесленником, как и купец, будь он ворюга-обманщик или честный негоциант, никогда не станет созерцать звезды с познавательным интересом.
Новый знакомый Джем Абдаллах, как быстро определил его подлинное естество проницательный Мютеферрик, был воин и предводитель, но не боящийся подчиняться в силу необходимости, однако, с другой стороны, подчинить его себе означало для покровителя риск не меньший, чем держать ручного барса вместо домашней ангорской кошки. Мютеферрик риска не хотел, оттого решил соблюдать в отношениях с полезным ему Джемом хотя бы видимое равенство. Это было не столь сложным еще и оттого, что Джем для своих не очень великих лет имел сверхъестественный жизненный опыт и нюх на смертельные опасности, и был настоящим гением и провидцем в любой, самой путаной интриге. Мютеферрик только диву давался его проницательности и необыкновенной хитрости, изумляясь, однако, при этом несказанно, что такой необычный по своей силе ум совершенно равнодушен к вечным и нетленным материям, а приходит в движение лишь для решения сиюминутных, насущных проблем. Казалось, Джема абсолютно не беспокоят ни будущее собственных потомков, которых, к слову сказать, у него и не было, ни будущее Блистательной Порты или связанных с ней высокой политикой королевств Европы. Он хотел от своей земной жизни лишь действия и немедленной награды за него, совершенно не интересуясь ни спасением души, ни раем, ни адом, ни конечной целью своего пребывания в этом мире. В ответ на все проповеди, уповая на силу которых, Мютефферик пытался подвинуть к большим свершениям необычного своего протеже, Джем только усмехался, хотя и слушал долгие речи искусного дипломата не без некоторого академического интереса. Но тем дело и ограничивалось.
Дело, которое дальновидный покровитель избрал для правоверного Джема, было для последнего не в диковинку. Армия и военное искусство – что могло быть ближе и естественнее для его сердца, выгоднее и надежнее. Здесь можно было отличиться и получить нешуточную награду за старания ради государственной пользы. Объединенный корпус хоругвей и полумесяца, почитающий равно Христа и Магомета, хоть и подчинялся беглому венгерскому князю, но требовал равного участия и догляда в руководящих заботах и от султанского сераскер-паши. Последнему и был представлен Джем Абдаллах с блистательными рекомендациями и щедрыми подношениями за будущее назначение. Так отставной диярбекирский саджак-бей стал чем-то вроде заместителя пришлого князя, а вернее, зоркого султанского ока за новоиспеченным воинством. И, как и следовало ожидать, тихой сапой и в победно короткий срок забрал полную власть над корпусом в свои руки, оставив князю Ференцу лишь видимый антураж высокого командирского звания. Бедняга князь так и не смог взять в толк некоторых особенностей османской жизни, кои его деятельный заместитель за долгие годы постиг в совершенстве, и оттого реального влияния иметь никак не мог. А ушлый Джем держал командира за горло, мягкой, пушистой перчаткой, надетой, однако, на железную длань. Во всем виноваты были проклятые долги. Бывший саджак-бей, казалось, обладал воистину несметным состоянием, о происхождении которого князю Ракоци не хотелось и думать, но зато князь охотно, по европейской глупой привычке, брал у Джема неправедное золото в долг. Мусульманский помощник с подкупающей щедростью давал мешки с акче, не оговаривая с князем ни процентов, ни сроков возврата, давал легко, лишь по туманному намеку, а порой и без него, не мелочась и с царственной небрежностью. Но князь Ференц скорее перерезал бы себе горло, чем позволил бы умышленно позабыть о долге, который с течением времени неуклонно и стремительно продолжал расти, и предоставил своему помощнику полную свободу в действиях, что Джем и принял, как нечто само собой разумеющееся. И если бы заморского князя, видавшего страшные кровавые битвы и совершившего достойные подвиги ради освобождения своей стоящей на коленях родины, спросили, чего или кого он боится больше всего на свете, то этот сильный и честный человек ответил бы: "Правоверного Джема аль-Абдаллаха, своего доверенного помощника и кредитора" и нисколько бы не покривил душой.
Так, в который раз, вечный скиталец Янош умудрился сосредоточить в своих руках одновременно золото и власть, а какая власть может сравнится с реальной силой живой, ощеренной несущим смерть оружием, человеческой массой? Обеспечив безопасный фасад в лице дальновидного Мютеферрика и надежный тыл, где двое преданных братьев евнухов – дотошный змей Ибрагим и могучий бык Хайдар, несли неусыпную вахту на страже хозяйских интересов. Высокочтимый же реформатор Мютеферрик, однако, со временем уже и сам перестал понимать, кто же он в действительности? Покровитель или покровительствуемый по отношению к бывшему саджак-бею, который, зная все обо всех, не раз выручал Мютеферрика в тревожных придворных ситуациях, иногда для острастки внушительно бряцая издали оружием. И Мютеферрик в очередной раз радовался своей предусмотрительности и дальновидной мудрости, которая не позволила ему унизить снисходительностью оказываемой протекции такого опасного человека.
Часто навещая нового друга в его доме, Джем не раз замечал вблизи Мютеферрика некую любопытную мордочку, лукавую и пронырливую, то являющуюся с отчетом, то за новыми хозяйскими распоряжениями, а иногда просто так ошивающуюся вокруг своего господина. Вскоре ненароком выяснилось, что у мордочки есть благозвучное имя и не менее благозвучная должность, в коей мордочка состояла при особе Мютеферрика, а, если сложить и то и другое вместе, то получалось – Омар, личный секретарь и старший "куда пошлют" на службе у влиятельного, государственного мужа. Чем смог этот непоседливый красавчик привлечь внимание Джема, он точно не знал и сам. Но, однако же, Джем Абдаллах запомнил верткого юношу с вечно улыбчивым лицом и горящими, как раздутые угольки, темными глазами, совершенно чуждыми и лицу, и улыбке.
Время и события, что неудивительно, шли своим чередом, и красивая мордочка выросла, нет, не в морду, а в очаровательного молодого мужчину, то излишне раболепного, то не в меру заносчивого, имевшего уже и небольшой, но со вкусом подобранный гарем из нескольких не слишком дорогих, зато преданно влюбленных в него рабынь. Омар, которому быстро старящийся в усердных трудах господин его все больше и больше доверялся в ведении дел, часто являлся по этим самым делам пред проницательные очи Джема, и из кожи вон лез, чтобы составить о себе благоприятное мнение. Уже и великий султан Ахмед упокоился в могиле, зарезанный в собственных покоях с легкой руки бунтовщика Халила, а влияние Джема аль-Абдаллаха все так же оставалось незыблемым.
Вскоре и сам Ибрагим Мютеферрик, господин и благодетель, предстал пред Господом, попав то ли в правоверный, то ли в христианский рай, неизвестно, и тогда же Омар попросился в услужение к Джему, пав на колени и бия челом о пышные хоросанские ковры, обещая беспримерную по преданности службу.
И Джем Абдаллах принял Омара в свой дом, хотя, господь был тому свидетель, ни в секретаре, ни тем более в переводчике у него не было вовсе никакой нужды. В домашнем бытоустроении от бывшего мальчика на посылках тоже не вышло бы ощутимого проку, бык Хайдар, управитель и мажордом, крепко держал хозяйство в своих мощных ручищах, и каждодневное ярмо обязательных хлопот нисколько не тяготило его. А уж брат Ибрагим, верный казначей, преумножатель и добытчик средств, даже на пушечный выстрел не подпустил бы пришлого чужака, смертного и непосвященного, к финансовой кухне своего господина. Но, однако, несмотря на очевидную ненужность "малыша" Омара в доме, Джем все же не отказал тому в приюте.
Дело было даже и не в покойном Мютеферрике, попросившем со смертного, мучительного в долгой болезни, одра за своего приемыша, хотя Джем уж конечно исполнил бы пустяковую просьбу единственного на нынешнем своем пути человека, которого уважал и с которым изредка делился частичкой собственной души, пусть и презирал слегка за людскую его долю. Он дал бы Омару кусок хлеба от своего стола или попросту довольно золотых на безбедное существование и содержание его скромного гарема и забыл бы о нем, но вышло так, что Джем приблизил Омара к себе. Сначала была пустая болтовня за трапезой и долгими кофейными часами, когда неплохо образованный и быстрый в речах приживал забавлял и развлекал его досужими разговорами. И вскоре уже везде сопровождал нового своего покровителя во время его поездок и к войску, и в загородный кешк, трусил на мирной лошадке по левую сторону от хозяйского буйного жеребца, опалово-белого Рагыба, смешливый и не замолкающий ни на минуту, хотя Джем Абдаллах зачастую не обращал ни на Омара, ни на его болтовню ровным счетом никакого внимания. Хотя однажды и прислушался к его речам.
Правоверный Джем аль-Абдаллах, воинствующий слуга ислама, ехал в тот день из Топ-капы довольный собой и своей победой над новым султанским сераскером, неразумно попытавшимся навязать ему очередной ненужный поход в богом забытые болгарские земли. Что поделать, время от времени Джему приходилось выдерживать настоящие бои, отстаивая нерушимое свое намерение не выводить вверенный ему корпус никуда прочь из столицы. Князь Ференц к тому времени уже давно упокоился в магометанской гостеприимной земле в силу довольно естественных и прозаических причин, а именно амурных недугов, доконавших его к старости, и Джем, забравший корпус под свою руку не без помощи Ибрагима Мютеферрика, тогда еще пребывавшего в полном здравии, маялся, хоть и с явной выгодой для себя, с доставшимся ему наследством. Каждый раз, когда правоверные османы по велению падишаха отправлялись в военные экспедиции, Джем, предварительно наполнив карманы золотом, навещал по очереди нужных государственных людей, с пеной у рта доказывая им невозможность для его разношерстного войска успешно воевать чужие земли. В тоже время он обращал внимание на тот неоспоримый факт, что у христианских изгнанников, составлявших большую часть его корпуса, нет иного господина и повелителя, кроме аллахоподобного в своем сиянии владыки всех правоверных, и оттого не лучше ли несчастным и беззаветно преданным его султанскому величию прахоподоным иноземцам остаться в столице мира и охранять последнюю от возможных беспорядков. Золото, красноречие и знание дипломатических конъюнктур, к тому же то обстоятельство, что войско его, хоть и немногочисленное, составляло некий противовес янычарской вольнице, обычно делали свое дело. Так и на этот раз, запутав султанского сераскера, выбившегося в люди из придворных конюшен, в непроходимых дебрях европейских политик, и заручившись поддержкой французского "сефарет-наме" короля Людовика, персоны промотавшейся и оттого сговорчивой, Джем добился того, чтобы его самого и его солдат и на этот раз оставили в покое. Оттого и настроение у него было в тот день приподнятое. И он благосклонно слушал все, что доносил до его ушей ехавший как всегда у левого его стремени "малыш" Омар.
Приживал, греясь в лучах господского благодушия, разливался соловьем. Довольный тем, что Джем Абдаллах, кажется, с неподдельным интересом в кои-то веки внимает его праздной дорожной болтовне, "малыш" Омар отчасти и из хвастовства, решился приоткрыть пред повелителем некоторые честолюбивые тайнички своей души. В частности поведал заинтересованному господину, что, будь он сам крепче телом и волей, то, несомненно, бросился бы искать земных благ, которых жаждет, но за кои отнюдь не готов платить любой ценой. Ведь на пути к славе отважных смельчаков могут ожидать и кривые сабли, плачущие по их шеям, и острые колья, смазанные бараньим жиром, плачущие по несколько иным местам. А он, Омар, человек слабый и боится смерти и боли. Вот если бы всемогущий аллах даровал ему хотя бы две жизни, то, уж конечно, Омар рискнул бы одной, оставив другую про запас. А как ему хочется хоть малой толики власти, чтоб было право карать и миловать хоть кого-нибудь, и много-много золота, чтобы заставить служить себе иных человеков! И, само собой, покупать изысканные яства и удовольствия. Но, чего нет, того из пустого места не сотворишь. Пусть только господин не думает, что верный его Омар недоволен своим положением! Нет-нет, он премного благодарен Джему, блистательному, разящему клинку султана, светочу мудрости, взявшему ничтожного драгомана в свой благословенный дом и оделившему несчастного сироту щедрыми подачками. Он, Омар и сам знает, как ему повезло и не ищет лучшей доли. А то, что так истово жжет его душу, все равно обречено перегореть и осыпаться остывшей золой. Ибо никогда у него не хватит мужества переступить через собственный страх и воевать самому милое ему место под солнцем. Вот если бы никогда не умереть и ничего не бояться!
Уж неизвестно отчего, но в тот жаркий день горестные сетования бедного Омара были услышаны. Правда, не всемогущим аллахом, но все же лицом, наделенным достаточной властью, дабы даровать ему просимое. Нельзя сказать, чтобы Джема так уж растрогали нелепые признания бывшего секретаря, но известную долю сочувствия к его несбыточным и мучительным мечтам омаров господин и благодетель все же ощутил. Сначала скорее посмеялся про себя, еще и оттого, что распустивший нюни приживал даже не имел понятия перед КЕМ он ведет свои жалостливые речи. Джема это обстоятельство сперва позабавило, но спустя несколько дней навело на любопытную мысль. Рано или поздно, а скорее все же, рано, ему с братьями придется сняться с насиженного места и отправиться на поиски другой судьбы и другого дома. Слишком засиделись они в столице на виду, и это с каждым годом становилось все опасней. А коли и впрямь в скором времени предстоит им с братьями дальняя дорога, то отчего бы не взять с собой и "малыша" Омара. И не просто взять, а хорошо бы посвятить его в вампирское достоинство. Во-первых, трое – это слишком небольшой отряд для дальнего, чреватого опасностями похода в чужие земли. Во-вторых, на новом месте каждая голова и каждая пара рук будет на счету. В-третьих, же, рыцарь Янош не любил пропускать мимо подходящего человека, который к тому же сам просил об иной доле вышние силы. А это была в своем роде редкая удача.
Так "малыш" Омар, нежданно-негаданно для себя получил ответ на свои тайные молитвы и не очень удивился. Искренне считая себя во многом выше всех остальных человеков, он и ожидал в сокровенных глубинах своей гордыни чего-либо подобного от судьбы. И обрел желанный дар, даже толком его не рассмотрев. Как проницательный и видящий до самых подземных глубин людские пороки правоверный Джем и змееподобный в хитрой дальновидности вампир Янош не распознал до конца страшной угрозы, исходящей от безобидного на вид "малыша" Омара, он, хлебнувший впоследствии страшных бед от зарвавшегося, самонадеянного мозгляка, так и не смог объяснить себе этого впоследствии, укоряя себя в своей же собственной глупости. Допущенная им ошибка хоть и была единственной, но, к несчастью, роковой.
Быку Хайдару появление нового брата не доставило лишних забот. И раньше-то мог прихлопнуть тщедушного красавчика одной левой, не считал же, что и ныне обстоятельства изменились. Оттого на первых порах Бык Хайдар относился к "малышу" с вялым равнодушием и малым показным участием. Не то было с мудрейшим в цифирной науке Ибрагимом. К Омару-человеку он тоже никак относится не желал, а если и приходилось, то обращался с ним как с назойливой, некусачей мухой, по глупости нагло рассевшейся на тюрбане господина. Однако, желание Джема принять велеречивого и мало полезного слугу в узкий круг братьев на равных с ними правах Змей Ибрагим одобрить никак не мог и не хотел. Сперва пытался отговорить господина миром и словом, но потерпел неудачу – Джем упрямо стоял на своем, таковы были его прихоть и воля. Тогда Ибрагим объявил, что новоявленного брата, навязанного ему насильно, братом ни за что не признает и не назовет и к казне господина не подпустит даже на сабельный взмах. И сделал, как сказал, замкнувшись по отношению к "малышу" Омару в презрительном и нерушимом молчании.
Вскоре после превращения, когда Омар уже полностью оправился и почти свыкся со своей новой сущностью, Джем с братьями стали готовиться к отбытию. Куда держать путь давно уже было решено, хотя не обошлось без споров и мелких словесных перебранок. Джем решительно хотел попытать счастья на севере, в новой удивительной империи московитов, выросшей на глазах изумленного мира неизвестно из чего. Сколько помнил себя Джем, еще в бытность его рыцарем Яношем в тех местах обитал диковинный народ, по непонятной причине принявший на себя наследие гибнущей Византии и переделавший его, наследие, на свой, варварский лад, имевший правителей, именовавших себя царями, но ничем не походивших ни на римских цезарей, ни на родственных им Палеологов. В этой обширной, но малоосвоенной стране по слухам совсем не жаловали иноземцев и не сильно отличались дружелюбием по отношению к своим западным соседям. Впрочем, и высокомерные королевства Европы отказывались всерьез принимать темное восточное царство, совсем не учитывая его существования на чаше весов политических интересов. Однако, в последние полвека все изменилось. Полудикая страна соболей и раскольничьих костров в грохоте "единорогов" расчищала для себя жизненное пространство на севере, западе и юге. Да и полудикой более не была, явив в полной мере несметные богатства и неистовую жажду новшеств и благ цивилизации. В нынешние же времена круглолицей Елизаветы, задвинувшей в дальние, пыльные сундуки кровавые ужасы царствования тетки своей Анны, бывшее ранее на задворках Европы царство обрело особенную заманчивость для пришлых авантюристов, жаждущих славных дел и золота из русских рентерей без риска уже положить буйные головы на плаху.
Нельзя сказать, что только лишь новорожденная северная империя привлекала взоры вечно голодного трансильванского кочевника. И благодатный, разбойный Иран имелся в свое время в виду, но после внезапной, хотя и закономерной гибели шаха Надира из виду как-то пропал. К великой досаде Змея, который, пусть и не был по сути своей натуры беззаветным магометанином, но, тем не менее, к любому учению христианского толка относился с врожденным высокомерным предубеждением. Однако, решение было принято, и путь братства отныне лежал в новую Великую Россию, через горы в Дербентское ханство, оттуда, минуя Кахети и черкесские аулы, прямиком на Дон. И дальше, дальше на север, к темным водам Балтики, к снежным вьюгам и золотым дождям над особенно удачливыми и предприимчивыми головами.
Неприятности начались еще когда маленький отряд был только на подходе к границе покидаемой османской Порты. Надо ли изумляться тому обстоятельству, что причиной их явился "малыш" Омар. Новая, нежданно полученная им сущность будто бы нажала на некий спусковой крючок внутри его гаденького нутра, и, раскручиваясь со стремительной смертоносностью сорвавшейся с барабана туго натянутой цепи, становилась жуткой, неуправляемой реальностью. Понятия "бессмертный" и "больше, чем просто человек", чьей кровью Омару отныне предстояло поддерживать свои необузданные силы, слились в нем странную комбинацию выводов, легко сводимых в одно лишь выражение: "дозволено все". Те же правила братства, которые почти безуспешно пытался втолковать новичку Янош, Омар принял как-то извращено однобоко. Выходило, что бы он ни сотворил, чтобы ни содеял с выгодой для себя или из злобного куража, старший брат всегда будет за его спиной, защитит, укроет и ни за что не выдаст врагу. Обязательства, ложащиеся на самого Омара, как на полноправного члена общины, последний упускал из виду или не рассматривал вовсе.
Передвигаться по султанским землям богатым, путешествующим по высочайшему, купленному за немалые деньги, разрешению знатным османам следовало чинно и без непотребств, неподобающим их положению. И уж совсем не входило в намерения братьев привлекать излишнее внимание к своему каравану. Нет, вовсе не дорожных искателей приключений, какие уж теперь разбойники, да и постоять за себя могли без труда, а вот ненужное любопытство властей было бы им совсем некстати. "Малыш", однако, такие пустяшные соображения до себя отказывался допускать. Словно сорвавшийся с привязи бешенный пес, он, попирая благоразумие и оправданную, строго ограниченную необходимость, отправлялся на ночные, бессмысленно жестокие вылазки, убивая забавы ради и грабя так, будто питал себя не обычной пищей и водой, а только лишь кровью и золотом. И кровь ему не была нужна, столько крови не выпить и за год, но лил и лил ее, наслаждаясь обретенным могуществом, будто новой, купленной на базаре дорогой игрушкой. Янош, относясь все еще к Омару, как к неразумному ребенку, оставленному на его попечение, пытался обуздать его пыл словесным внушением и легкой трепкой, но все было без толку. Омар виновато кивал, утирал кровавые сопли разбитого носа, затихал на некоторое время, и все далее повторялось сначала. Бык Хайдар, чем дальше, тем больше мрачнел и ворчал недовольно под нос, однако, руки на худого щенка не поднимал, противно было мараться. Змей же чувств своих скрывать и не думал, плевался Омару вслед и ругался неподобающими правоверному словами, проклиная "поганого ублюдка, выкидыша тощей ослицы", пару раз затевал и нешуточные драки, когда Омар наотрез отказывался сдать награбленное золото в общинную казну.
За караваном к границе протянулся нехороший след и еще более нехороший слух, оттого надобно было и поспешать. Разобраться с неуемным зверенышем Янош положил себе по ту сторону гор, чтобы не тратить на выкормыша драгоценного времени. "Малыш" же расценил подобное попустительство как милостивое дозволение предаваться своим кровавым забавам, и ему уже не стало удержу. А когда всадники, наконец, перевалили за Кавказский хребет, Яноша ждал ужасный сюрприз. На привале, отозвав его в сторону, подальше от сладко дрыхнувшего "малыша" Омара, Бык и Змей, суровые и непреклонные, выдвинули Яношу настоящий ультиматум. Или, здесь и сейчас мерзкий выползень расстанется с жизнью, или далее Янош будет следовать с Омаром в гордом одиночестве. Имущество и казну поделят по справедливости, Змей согласен даже выделить ублюдку равную долю. И Змей с Быком Хайдаром отправятся на восток в Шираз, наниматься на службу к мудрому Карим-хану, а их хозяин может продолжать свой путь хоть к руссам, хоть в преисподнюю, куда он рано или поздно непременно попадет с таким верным и преданным спутником.
Напрасно Янош тратил силы и красноречие, напрасно взывал к кодексу братства и вечной круговой поруке. Змей в некоем высшем, совершенном спокойствии ответствовал на его длинную, прочувствованную тираду, что хозяин принял худородного заморского щенка без согласия и совета, не спросив ни его, ни Быка, на свой страх и риск. Так почему же теперь они тоже в ответе за Омаровы безобразия? И по-своему хитрый и мудрый Змей был прав. Впрочем, он и сам не хотел бы расстаться с Яношем, старым своим хозяином Джемом, оттого и предоставил ему выбор. Голову щенка, и тогда Змей и Бык следуют за ним хоть на край света, или, отныне, их братству настал конец.
Приневоленный обстоятельствами, Янош, хочешь не хочешь, а должен был выбирать. И самое разумное решение, конечно же, состояло в том, чтобы пожертвовать головой зарвавшегося поганца и продолжить путь с верными братьями в мире и согласии. Но для Яноша дело обстояло вовсе не так просто. Будь "малыш" Омар обычным человеческим существом, то, какова бы ни оказалась привязанность к нему Яноша, последний без раздумий, пусть и с сожалением, собственноручно лишил бы Омара жизни. Но "малыш" Омар как раз и не был более человеческим существом, а причиной того, что Омар им не был выходил именно он, Янош, в единоличном своем своеволии. Он даровал "малышу" благодать или проклятие по обоюдному согласию их и желанию, но полноту ответственности все же несла дарящая сторона. Насколько низко нынешний Янош ценил короткую человеческую жизнь, настолько же священной и бесценной была для него жизнь собрата по крови. Железный закон, впечатанный в его сердце в далеком детстве, без которого нельзя выжить общине, и без которого существовать подобный ему может лишь в одиночестве, страшном и замкнуто сиротливом. И как дальше следовать ему рука об руку с братьями, Драконом и Минотавром, такими же убийцами, как и он сам, и знать, что закона больше не существует? Он, Янош, позволил его попрать и на пустом месте уже не сложатся новые, правильные слова, а навечно пребудет только размазанная грязь, на которой каждый бездельник выведет любые буквы, а грязь и их засосет в себя с насмешкой неумолимого времени. И как знать не исторгнется из той же грязи рука, которая поднимется и на самого Яноша, и может то будет рука Ибрагима, а может, и верного Быка Хайдара?
Выходило, что убивать Омара ему было никак нельзя. Более того, Янош не мог позволить и братьям казнить "малыша". Бросить же спящего Омара на произвол судьбы и потихоньку сбежать прочь получалось вовсе решением неверным и опасным. Во-первых, им никак не удалось бы удрать далеко, новый Омар, выносливый и зоркий, все равно выследил и нагнал бы братьев в пути. А тогда неизвестно, как бы "малыш" поступил, возможно, что и попытался бы исподтишка отомстить, а это совсем уж было бы ни к чему. Еще хуже, если бы брошенный Омар выслеживать братьев не стал, а вознамерился бы в таком случае жить самостоятельно. Или, что совсем уж плохо, захотел бы завести собственное гнездо. Бешеный и необузданный, не знающий ни закона, ни осторожности, с полностью развязанными руками, такой Омар был на свободе попросту страшен. Он мог набрать первых попавшихся проходимцев в кровавую разбойничью банду, нарушив тем самым священное равновесие, предать тайну и привести здешний мир к хаосу, который все равно бы кончился резней и его собственным уничтожением, ибо никак не может братьев быть слишком много, а людских тварей слишком мало.
Значит, как ни крути, а Яношу предстоял дальний путь вдвоем с "малышом". О чем он и поведал той ночью Змею. Хотя Змей Ибрагим не очень и удивился, видимо, нечто подобное он и ожидал от своего бывшего господина. Как и было условлено, казну и припасы поделили честно пополам, и на рассвете Бык и Змей покинули стоянку, отправились в путь на восток. Больше о них Яношу не приходилось слышать. А "малыш", проснувшийся много позже, не только не расстроился из-за их отъезда, а совсем наоборот. И тут же начал строить планы о том, как здорово они теперь будут вместе с братом проводить время на большой дороге, Петербург еще очень далеко, а на пути есть замечательные поселения и одиноких путников хватает тоже. Тогда Янош окончательно понял, что вразумить "малыша" у него сейчас нет ни малейшей возможности, и что покуда тот не упьется досыта кровью и грабежами, ни о какой карьере в северной столице не может идти и речи. И вообще, лучше им до поры оставаться в этих полудиких горах, до тех времен, когда Омар войдет в разум и он, Янош, сможет надеть на младшего брата надежную узду.
Но будущему счастливому времени не суждено было прийти. Люди этих мест, рожденные с оружием в руках и надеявшиеся только на это оружие и своих коней, ничуть не уступали в своем неистовстве двум одиноким братьям, и их было много. К тому же склонные к мистицизму, вызванному духом их гор, они были готовы увидеть правду и загнать демонов обратно в ад. На их стороне оказались и монахи-грегорианцы, изгнанники, несшие свет христовый в эти глухие, забытые богом медвежьи углы, сами по сути такие же полудикие и суеверные воины. Охота была объявлена, но Омар отказывался слушать и понимать.
Жизнь братьев тем временем превратилась в кошмар. Слух о них уже прошел, и даже на ружейный выстрел они не смели подойти ни к одному поселению, такую выставили против них конную охрану. А по горам рыскали летучие отряды, с единым намерением выследить и убить, к тому же знавшие в родных своих краях каждую тропинку и расщелину. Надо срочно было уходить прочь, в долину Кубани, и далее, на запад. Но ослабевшим братьям требовалась кровь, и Омар отважился на вылазку. В ту ночь он не вернулся назад. Когда Янош, собравшись с силами, выбрался из потайного укрытия на его поиски, то тут же попал в засаду. Его, как дикого зверя, поймали, набросив сверху и затем спеленав в толстую, надежно плетеную сеть, которую он, изголодавшийся, уже не смог разорвать. И когда увидел склоненные над собой, бородатые, злобно-радостные лица, понял, что Омара уже нет в живых. Как он погиб, Янош так и не узнал, но, что его ожидает не лучшая участь, даже не сомневался. Один бог ведает, почему ему не отсекли голову, а только ударили в сердце. Да еще так неловко. А может, наоборот. Тот, кто бил, знал, что делает. И сразу убивать не хотел. А отправил на веки вечные маяться в чистилище. Так Янош и попал в яму, каменную свою могилу, которая, если бы не глупая неосторожность какого-то олуха, стала бы наверняка вечным его приютом. Но, видимо, у Господа имелись на него, Яноша, и какие-то свои, иные планы. И он еще увидел свет.
ГЛАВА 29. АРХОНТЫ
Ирена отерла рукою лоб, выдохнула: "Уф!". Словно камни грузила на баржу, и вот, только что, положила последний на верхушку кучи.
– Ну, хорошо. Только после пеняй на себя. Я тебя предупредила. Это не с гриппом на работу бегать. Это хуже. – сказала, затем выжидательно посмотрела на Аполлинария Игнатьевича.
– Нет, я же сказал. Только так, и никаких иных условий я не приму.
– Хорошо, хорошо, как скажешь. Хотя и жаль, что ты мне не доверяешь.
Ирене и впрямь сделалось обидно. В кои-то веки играла по-честному, и ни в одном ее слове не было двойного дна. И кто не верит? Курятников! Человек, с которым она собирается связать себя в буквальном смысле на веки вечные! Зато сколько людей и сколько раз удавалось тебе заморочить совершеннейшим враньем, разве же это не утешение, мысленно успокоила себя мадам. Так что не беда, если один разок кто-то не принял на веру истиннейшую, чистейшую правду. Может, на то она и правда, чтобы никто в нее, как в господа бога, до конца не верил. Иначе и жить скучно. Но все же от Курятникова она ожидала иного.
Когда Аполлинарий Игнатьевич очнулся давеча от обморочного состояния, что в отношении человека со столь крепкими нервами свидетельствует о нешуточном душевном потрясении, то обнаружил себя сидящим на алюминиевом кухонном стуле и примотанным к оному же стулу толстенными капроновыми веревками. Так что на выбор Курятников имел лишь два образа последующих своих действий: либо громко и, пожалуй, что безнадежно вопить о помощи, либо выслушать Ирену, сидящую перед ним по-турецки на полу и мило улыбающуюся. Он выбрал, конечно, последнее.
Процесс вербовки и обработки продлился не один час, и мадам развязала незадачливого полковника только к утру. Правда, уже совершенно иным человеком. Готовым к труду и обороне. Но готовность означала еще всего лишь полработы, и тщательное обсуждение их дальнейших совместных планов заняло не один день. Роль этакого бессмертного Робина Гуда и в самом деле показалась Курятникову донельзя привлекательной, не говоря уж и о бессрочном обладании собственно Иреной. Необходимость полного и тотального истребления конкурирующего гнезда полковник и вовсе воспринял как должное. Недаром Ирена обрисовала хозяина и всю свою бывшую семейку как банду опаснейших человеконенавистников и злодеев, которая банда и ее самое Ирену удерживала вблизи себя насильно и заставляла творить всяческие пакости противу убеждений и идей гуманизма. Так что Курятников в случае согласия и споспешествования планам мадам выходил не только фигурой карательной, но и несущей освобождение угнетенному и обиженному любимому существу.
Получить согласие на предстоящий рейд по освобождению незадачливого Максимушки тем более не составило труда. И мадам, и новый Аполлинарий Игнатьевич понимали, что лишние следы оставлять чревато и неразумно. К тому же "хороших" людей в этой операции задействовано не было, а "плохие", что ж, сами напросились. Так что совесть полковника Курятникова могла спать спокойно. Недоразумение, однако, случилось меж ними по совсем иному вопросу. Упрямый, словно свежесрубленный пень, полковник наотрез отказывался предпринимать какие бы то ни было шаги, пока Ирена не осуществит его инициацию, то есть, переведет в иное бытийное качество. Боялся подвоха и прямого, наглого обмана, или опасался стать лишним, никому уже не нужным свидетелем, когда у "вампов" отпадет в нем нужда, если, конечно, то, о чем поведала ему Ирена, хоть где-то было правдой? Кто знает? Однако, Курятников выдвинул нерушимое условие: или-или. Или его сначала посвящают и после требуют взрыва хоть Эйфелевой башни, или ищите других дураков, дорогая мадам!
Напрасно Ирена объясняла, сколь мучителен и болезненен переход в вампирское состояние, что потребуется многодневный уход и лекарства, а если не принимать обезболивающее и снотворное, то ломка полковника ожидает такая, что мучения выходящих из штопора наркоманов покажутся ему отдыхом праведников в райских кущах. Принимать же подобные препараты в больших количествах будет Курятникову никак нельзя, ибо голова его должна оставаться ясной, а речь разумной по содержанию и внятной по существу. И все это несмотря еще и на высокую температуру и лихорадку почище малярийной! Конечно, он скажет, что есть анальгин и аспирин, даже и с витамином "С", но сбить ртутный столбик пригоршней жаропонижающих пилюль с сорока до жалких тридцати восьми с половиной утешение малое и работоспособности не прибавляет. Ждать же по меньшей мере неделю, пока полностью осуществится перестройка, они никак не могут. Очень сильно поджимает время. К тому же с хозяином ему предстоит встреча уже в ближайшие дни, а уж кто-кто, но Ян, старый, мудрый лис, мгновенно заподозрит неладное, если встречу вдруг перенести. Показаться же в переходном состоянии Балашинскому на глаза смерти подобно. Он десятки раз наблюдал процесс превращения, и обмануть его будет вряд ли возможно.
В конце концов, после долгих препирательств и взаимных клятв и уверений, достигли, пусть и сомнительного, но все же компромисса. Аполлинарий Игнатьевич пойдет на встречу еще вполне человеком и первые нужные действия тоже произведет в этом качестве. Но далее Ирена осуществит обещанную процедуру, или пусть пеняет на себя. За него может не беспокоиться – он, полковник Курятников, бывал и не в таких переделках. Приходилось и с пулей в боку бегать за вооруженной шпаной, и с пробитым легким, болтаясь тряпичной куклой на полу чахлого "газика", мчатся в погоне за налетчиками. Ирена в ответ промолчала, пребывая в скептических сомнениях. Пуля – это одно, хотя тоже само собой не сахар, но вампирская ломка – это совсем-совсем другое, ей ли не знать. Ну да бог с ним, с дураком, хочется изображать Мальчиша-Кибальчиша – пожалуйста, мадам ему спуску не даст. Понадобится, так Курятников у нее и мертвый встанет.
Встреча с Балашинским в офисе у мадам прошла на высоте. Аполлинарий Игнатьевич не ударил в грязь лицом. Мужественно и чуть высокомерно жал руку, много и вдумчиво молчал, скупо, словно стыдясь себя самого, обсудил с Яном Владиславовичем гонорар. С планом конторы в общем Курятников был согласен, но имея в виду и собственные перспективы все же внес одно существенное дополнение:
– Но непременно одно условие. Тот человек, который впустит ваших петрушек внутрь хранилища ни в коем случае не должен остаться в живых. Подкупать его бессмысленно и рискованно лично для меня, поэтому придется использовать легенду. А легенда эта продержится вплоть до той минуты, когда этому человеку станет известна правда: не было никакой секретной операции, а лишь подстава с моей стороны и…
– Можете не продолжать, – перебил Балашинский полковника, – я все понял. Ваш человек – наша забота. Уж поверьте, он даже не узнает, что был за болвана в нашей игре. Но для этого вам придется назвать мне его имя и координаты.
– Хотелось бы, чтобы эта услуга не была включена в стоимость. Я немного представляю себе расценки вашего учреждения, – сухо, но и застенчиво произнес Курятников. Плевать он хотел на условия, но игра есть игра, как и его роль в ней.
– Разумеется. Считайте это дополнительной премией с нашей стороны. Так сказать, выражением дружеских чувств с надеждой на будущие отношения.
"Еще бы, – подумалось Курятникову, – такой волчина, как ты, и в писсуар задаром сходить не допустит. Будущие отношения. Ага! Потом с меня же три шкуры и сдерешь. Только шишь тебе на этот раз! " Аполлинарий Игнатьевич позлорадствовал про себя, вспомнив их с Иреной освободительный план, но никак своих отношений к хозяину не выдал.
Через три дня переговоры с нужным человеком Курятников успешно завершил, навешав тому на уши развесистой клюквы, и операцию можно было назначать. Нужный человек, зная о безупречной репутации полковника, поверил Курятникову сразу и безоговорочно, и дал склонить себя к сотрудничеству. Он тоже был в душе настоящий мент.
Балашинскому оставалось главное – закончить обработку фигурантов. Крысеныши за последние дни к сидению в бункере потихоньку привыкли и начали даже огрызаться на своих стражников. Малахольного Витька и угрюмого Лешку хозяин трогать не велел, пусть себе тявкают. Но Тенгиза приказал больно и сурово карать за любое нарушение тишины и дисциплины. Что Рите и Сашку приходилось исполнять достаточно часто. Полуабхаз-полумингрел, строптивый уроженец города Сухуми так и лез на рожон. Оскорблял грязно и гнусно Сашка, в котором сразу же распознал лицо нетрадиционной ориентации. Грозил Ритке будущей расправой с уголовно-наказуемыми сексуальными извращениями. Швырял миски с едой о бетонные стены бункера, демонстративно мочился на пол. За что и бывал бит как последняя собака. Но униматься не желал. Само собой как бы выходило, что именно Тенгиз напрашивался на неприятности.
Когда пришла пора играть интермедию устрашения, Тенгиз уже успел достать своих надзирателей до самых печенок, а наглые щенки-напарники достаточно пришли в расслабление от собственной неприкосновенности.
И в один прекрасный вечер хозяин самолично в окружении свиты спустился в бункер. В эскорте следовали трое: Рита, Сашок и, конечно, "архангел". Постояльцев пинками заставили встать с пола и выстроиться вдоль стены. После чего Ян Владиславович принялся было излагать, чего собственно он хочет от своих подневольных гостей. Но долго говорить ему не пришлось. Тенгиз взорвался. С криком: "Сука, порву! Сэрдце тэбэ вырву и съэм!" бросился он к хозяину. Перед Балашинским в мгновение ока возникло его перекошенное злобным торжеством лицо, слюна брызгала из оскаленного в судороге рта, запах потного козла, сжатые волосатые кулаки. Все это тут же напомнило Яну другое лицо, множество других, давних лиц, и первобытное звериное неистовство вырвалось из глубин его памяти на волю. Ничего не пришлось изображать, он даже плохо помнил потом, что именно он творил с жестким и грубым, а потом противно мягким телом своего случайного обидчика.
После расправы, когда схлынула умопомрачительная ярость, Ян успокоился как-то сразу, огляделся по сторонам. В бункере к этому моменту свободно можно было снимать высокобюджетный фильм ужасов. Хоть пятого "чужого", хоть усовершенствованного технологиями, новейшего "Фредди Крюгера". По всему полу, в изящнейшем беспорядке, то тут, то там, в лужицах и озерцах крови были непринужденно разбросаны элементы человеческого тела, как то: вырванные с мозгами глазные яблоки, нижняя челюсть с куском языка, кишки с кашеобразного вида требухой, разломанные части грудной клетки. Оторванная напрочь черепная коробка, которую уже никак невозможно было назвать головой, отдыхала в углу, художественно прикрытая от яркого света оторванной же, в лохмотьях кожи, левой рукой. Натюрморт, без ложной скромности, сделал бы честь лучшему голливудскому постановщику убойных спецэффектов. В самом дальнем от Балашинского углу, скулили лежа, скорчившись и накрыв головы грязными фуфайками, две трясущиеся человекоподобные фигуры, тоже изрядно изгаженные кровью. А эскорт как был позади у двери в бункер, так и остался стоять, с деланным равнодушием занятый насущными проблемами. "Архангел" в брезгливой задумчивости смотрел на заляпанную кровью штанину брюк, то поднимая, то опуская оную над ботинком. Сашок, вляпавшийся нечаянно кроссовком во что-то, бывшее ранее Тенгизом, тер подошву боком о стену бункера и недовольно сопел. Рита помогала ему, поддерживая под локоть для равновесия. Однако, пора было приводить в чувство оставшихся фигурантов, и перво-наперво, перевести их в иное помещение, чтобы, не дай то бог, не спятили от избытка впечатлений.
Уцелевшую парочку к сотрудничеству склонять не потребовалось, напротив, пришлось успокаивать ребят, пребывавших в состоянии полубредового рвения. "Дяденьки, не надо! Все, что хотите, только не надо!" – подвывали бывшие отважные стрелки, для убедительности делая неловкие попытки ползания на коленях. "Архангелу" временно пришлось разместить их в подвальной лаборатории, что отнюдь не вызвало удовольствия у Фомы. Как же! И оборудование дорогостоящее, и реактивы, и клетки с любезными его сердцу мышками! Фома тут же прочел незванным квартирантам небольшую проповедь о непредсказуемых и наказуемых контактах их праздных рук с тонким лабораторным оборудованием. И хотя его очкастый и маловнушительный вид вряд ли мог нагнать хоть на кого-нибудь страх, оба фигуранта, слезливо и покорно, поклялись и близко не подходить к самой маленькой пробирке, черт ее знает, что там в ней налито. А Витек и вовсе добровольно вызвался кормить лабораторных мышей.
Несколько дней ребят еще пришлось натаскивать, вразумлять и заставлять снова и снова повторять порядок требующихся от них действий. Пока, наконец, Ян не решил, что он ими доволен. И назначил дату.
– Этот человек, которого подставил нам полковник, как его там? – наморщив лоб, спросил Балашинский.
– Обухов. Майор Обухов, – быстро выдал справку Миша.
– Да. Так вот. Он позвонит сегодня вечером и отдаст распоряжение срочно пропустить в хранилище двух человек. Боюсь, только, как бы охрана не заподозрила откровенную липу.
– Документики у ребят, что и говорить, не самого высокого качества. Да кто будет на ночь глядя присматриваться. К тому же пришли не с улицы, а по звонку. Мальчишки будут в штатском, обычные порученцы, которые сами ничего не знают, а выполняют, что приказано, – успокоил хозяина Миша, – да и Сашка со Стасом будут дышать им в затылок.
– Не забудь, этот твой Витек непременно должен быть застрелен из пистолета охраны. А это лишний шум.
– Ничего. Когда Сашок уведет второго, Стас придержит Витька и уберет его чуть позже. Так что, все успеют уйти. К тому же охрану можно снять из любого оружия. Есть приличный, незасвеченный "вальтер" с глушителем. Опять же, наши в отличие от ментов могут свободно сделать дело и в полной темноте. Надо будет только отрубить свет.
– Это правильно. Но нужно принять меры, чтобы наши фигуранты не спасовали в последний момент, – напомнил "архангелу" Балашинский.
– Не беспокойся, Фома накачает детишек перед выходом. Кстати, будет лишнее очко в плюс – убитый похититель героина сам действовал под кайфом. Как тебе это? – Миша сухо засмеялся.
– Недурственно, – Балашинский тоже соизволил улыбнуться. И тут же приказал: – А к Обухову отправь Риту.
– Почему Риту? Я думал сам пойти, – возразил Миша.
– Ну, нет. Ты будешь на месте главного действия. И без возражений. Когда столь многое поставлено на карту, я хочу, чтобы ты лично страховал всю операцию. К тому же Рите Обухов без опасений откроет дверь. И можно будет обойтись без дурацких лазаний в окна и по крышам. Майор живет один?
– Один. Недавно развелся и новую женщину завести еще не успел. Так что будет дома. Идти ему пока больше некуда. Но можно послать в адрес и Ирену.
– Нельзя! – безапелляционно отрезал Ян. Потом все же разъяснил: – Не потому, что я ей не верю. Скорее, я до конца не уверен в нашем дорогом полковнике. Не хватало еще, чтобы этот совестливый служака пошел бы вдруг на попятный и провалил все дело. Нет уж, пусть Ирена сидит рядом с ним и ни на минуту не выпускает своего Курятникова из виду. Во избежание появления ненужных и несвоевременных мыслей в его голове… Не беспокойся, Рита справится. Она уже взрослая девочка и давно мечтает об индивидуальном поручении. К тому же для нее убрать Обухова сущие пустяки.
В решающий вечер Ирена и впрямь сидела подле Аполлинария Игнатьевича. И нисколько не чувствовала себя ущемленной в правах. На сей раз ей вовсе не хотелось встревать в развертывающуюся кровавую драму, да еще на первых ролях. Мадам вполне устраивало место в тени. Надзирать за Курятниковым ей и в голову не пришло. И она и полковник в этот раз были подлинными кукловодами в пьесе, ее последними теневыми режиссерами. И чем чище будут их руки, тем светлее станет потом их совместное будущее. Хватит мараться за чужие интересы.
А Курятникову в действительности нужна была преданная и надежная сиделка. Бравый полковник весьма и весьма переоценил свои силы. Третьего дня Ирена исполнила данное Аполлинарию Игнатьевичу обещание, для надежности результата прокусив тому плечевую артерию. Сама же и заштопала рану. А на утро у полковника приключились настоящие горячечные галлюцинации. Пришлось закатить ему лошадиную дозу анальгина с димедролом. Но на этом злоключения не кончились. Курятников переносил перестройку плохо, скорее по причине своего далеко не юношеского возраста. Уже на следующий день стало ясно, что на службу Апполинарий Игнатьевич пока ходить не сможет. Хорошо, что хотя бы с Обуховым все было заранее обговорено. Для верности Ирена заставила дорогого Полю по телефону убедительно здоровым голосом намекнуть Обухову, что его болезнь не более чем тактический конспиративный ход, вызванный необходимостью. Обухов поверил и в это. В сущности, у майора не было оснований не доверять своему давнему товарищу, который слыл общепризнанным эталоном офицерской взаимовыручки и порядочности. И он не в силах был вообразить себе те обстоятельства, при которых полковник Курятников был бы способен предать своего коллегу и друга. Потому что нынешнюю ситуацию, в которой подобное действительно могло произойти, Обухов в реальности представить себе не мог. На это у него никогда не хватило бы воображения.
Дело провернули без сучка, без задоринки. Настолько гладко, что Миша усомнился: не упустили ли ненароком нечто важное? Не упустили. Фигурант Гаврилов невредимый, доставленный за шкирку Сашком, тихо сидел в подвале. Добытый героин лежал в секретном хозяйском сейфе, готовый вскорости пополнить строительный бюджет. Мертвый Витек, как и полагалось, валялся в хранилище в безмолвном обществе двух совсем уж невинно убиенных милиционеров-охранников, застреленный из табельного оружия. А через час, вслед за группой, вернулась с задания и Рита, поведала тем, кому было интересно, о судьбе несчастного майора. Обухов, как впустил ее в квартиру, так и остался лежать в прихожей со свернутой, словно у совы, шеей. Даже пикнуть не успел. Чтобы обычному человеку провернуть такое, ему надо обладать силушкой не меньшей, чем у депутата Карелина. Так что неизвестного терминатора еще долго будут искать коллеги покойного, жаль, что безуспешно.
Теперь оставалось самое главное – Макс. Бедняга тянул из последних сил: жажда уже давала о себе знать. Миша на всякий случай перевел Максимушку в одиночку, как личный адвокат навещал его через день. Максим держался, хоть и ослабел, и глаза его невольно и лихорадочно блуждали по запястьям и шеям конвойных. Счет шел уже не на дни, а даже на часы. На сцену срочно надо было выпускать главного исполнителя – Гаврилова.
После страшной гибели Тенгиза и безжалостного расстрела Витька, Лешка Гаврилов готов был выкупить собственную жизнь за любую плату. Лишь бы только его тюремщики согласились продать бесценный товар. И потому обозначенная в предложении сумма не показалась высокой. В тюрьме, конечно, сидеть совсем не сахарно, да еще и с увесистым сроком. Зато будет жив и, главное, далеко от нынешних своих хозяев, страшнее которых ничего и на свете нет. Так что лучше в зону, там спокойнее, да и не в первой, дело знакомое. Надо только складно пропеть перед ментами то, что разучил. Иначе, не приведи господь. От здешних жутких гоблинов и в Антарктиде не спасешься. Особенно ужасен был Гаврилову тот навороченный мужик, с которым разучивали роль. Всегда в шикарном костюмчике и отглаженной рубашке, базарит тихо, интеллигентно, и руки ухоженные, нежные, будто у дамочки. А серые, светлые глаза – жуткие и смотрят на Лешку так, как никто прежде до этого не смотрел. Хотя Гаврилову было с чем сравнивать. Но даже не то, что менты, повязавшие Лешку в свое время, когда он сдуру и неудачно грабанул валютный обменник, а и сам Лентулов Герадий Карпович, начальник и бог усиленного режима, не глядел так, когда Лешке случалось попасться в его поле зрения. А кто он был для Лентулова? Так, мельче мелкой сошки, шестерка, в порошок стереть и то неохота. Поглядит, будто на клопа вонючего, и, если повезет, то просто обматерит. Унизительно и обидно, но со стороны Герадия Карповича это все же человеческие чувства. Пусть высокое служебное презрение к шпане и сопляку, иногда жестокость и примитивные издевательства для "приведения в ум", но как бы обычное дело. Все на свете так примерно и живут. Кто покруче плюет на голову тому, кто пожиже, и никто не обижается. Потому, как ежели кто из оплеванных сам выбьется в люди, то гадить сверху начнет еще почище. Гаврилов уж точно так бы и поступил, коли б ему в жизни свезло.
Здесь же было иное. Страшный, приглаженный человек не собирался доказывать Лешке свое жизненное превосходство, попусту не обижал. Если Гаврилов не запоминал с первого раза, терпеливо повторял и поправлял. Даже вежливо. Иногда, когда Лешка особенно успешно схватывал мысль, поощрял одобряющей улыбкой. От которой делалось совсем жутко и начинало хотеться в уборную. Гаврилов временами ощущал себя будто киношным гуманоидом, захваченным в плен киборгами-инопланетянами, или сборным трупом на столе у Франкенштейна, или маленькой мышкой в лабораторной клетке, словом, существом, представляющим для высших сил лишь строго утилитарный интерес. Окажись он, Лешка, бесполезен, и человек в костюме попросту уничтожит его без лишних разговоров и угрызений совести. И в этом не будет ничего личного. Даже ничего человеческого. Как если тебе на голову случайно сверзится космический метеорит. Глупо просить, плакать, умолять и обещать. С неживой природой не договариваются. И убивать будут не тихо или с нарочитым шумом, специально мучительно или безболезненно, а как придется. Потому что все равно. И потому Лешка старался изо всех сил.
Миша своим подопечным был пока и относительно доволен. Умственные способности не ахти какие, но память хорошая, а лишний интеллект в его случае даже вреден. Того, что этот жалкий отморозок выдаст лишнее ментам, "архангел" как раз не опасался. Малый до такой степени ими запуган, что никакой верзила с милицейской дубинкой не покажется ему страшнее, чем здешний бункер. Побои, допросы и ужасы уголовных камер для него теперь, что отдых в Крыму на даче. А что особых ужасов в заключении не будет, то тут уж Миша постарается. Ни к чему перегибать палку. Только бы толково и побыстрее сдать клиента!
Нападение на хранилище в соответствующих кругах наделало шуму. Однако, широкой огласке сей факт не придавали, незачем. Но те, кому надо было знать, знали. Больше всего пребывали в недоумении от случившегося высокие люди, которые взялись замять нехорошее Максимушкино дело. И в первую очередь, конечно, сунулись за разъяснениями к Балашинскому. Тот сделал невинный и недоуменный вид и задал высоким людям логичный вопрос: на кой черт ему нужны подобные глупости? Из-за брикета героина? На что высокие люди резонно заметили, что брикету цена не один миллион. На что Ян Владиславович резонно же и ответил: красть-то зачем? Неужто высокие люди намеревались употребить все десять килограмм для собственного удовольствия? Или все же позволили бы выкупить товар по сходной цене? Или он, Балашинский, когда-нибудь с кем-нибудь, да не поделился, или, не дай бог, обидел кого из высоких людей или их присных? Высокие люди уныло согласились с его безусловной правотой. Тогда возникал вопрос: кто? "Как кто?" – изумлялся Ян Владиславович. Да те же, кто вероломно напал на их курьеров в недалеком прошлом. У них под носом действует неизвестная группировка, а никому нет никакого дела. К тому же не надо забывать, что у покойного Шахтера остались вполне живые друзья. Вот он, Балашинский, времени зря не теряет, а как раз наоборот, и скоро представит одного из налетчиков. Высокие люди одобрительно кивали, жаловались на собственные неурядицы. Наверху тоже не все спокойно, конкуренты достают, и нынешнее дело излишне раздувают.
Переговоры на высшем уровне шли несколько дней. Успокоенные кураторы уже сами торопили Балашинского с прояснением ситуации. Официальное же следствие вообще ничего не дало. Больше всего ставил в тупик загадочный труп майора Обухова, который никак не удавалось хоть каким-то боком пристегнуть к делу. Несмотря на то, что между нападением и убийством Обухова должна была существовать определенная связь. Однако майор был умерщвлен столь необычным способом, что следствие не знало, что и думать. О звонке Курятникова и тайном распоряжении майора на охрану никто не знал, Обухов свое слово сдержал честно.
Ян Владиславович, пока суть да дело, смиренно попросил высоких людей отпустить его парня хоть под подписку, хоть под какой угодно залог. Ведь теперь обстоятельства можно представить таким образом, что Максим Бусыгин вроде и ни при чем. Так за что же ему теперь на нарах париться? А на воле от него было бы куда как много пользы. Кураторам было не до Максима, даже слово залог пропустили мимо ушей. "Да забирайте!" – только и прозвучало в ответ. Санкцию об освобождении Миша выправил в считанные часы. И одуревший от жажды до звона в ушах Макс был, наконец, доставлен, в Большой дом.
Там он, как Чацкий, сразу же попал с корабля на бал. Не успел войти, как услышал:
– К нам приехал, к нам приехал! Максим Романыч дорогой!
Пели хором, особенно старались женщины. Сашок, как принял с утра, так с того времени и взирал на мир с абсолютно счастливой улыбкой. Бросился обнимать милого Максимушку прямо на пороге, пустив пьяную слезу.
Макс ему был бы рад необыкновенно, если бы так не мутило от "голода". Ноги, совсем ватные, еле держали ослабевшее тело, а мозг представлял лишь одну замечательную картину: пульсирующая, живительная струйка крови, выплескивающаяся из свежей, только-только вскрытой раны.
Оттого, зная его состояние, Ян Владиславович и попросил Машеньку пока не выходить с приветствием к воротившемуся в родной дом страдальцу. И уж конечно Тата от греха накрепко заперла в детской маленького Лелика.
Тут же Ирена, прибывшая в Большой дом по случаю торжества, повела изголодавшегося Макса в подвал. Где заранее была припасена для героя дня свежепойманная "корова".
Пока Максимушка насыщался в бункере, Ирена, в ожидании завершении трапезы, прогуливалась в узком, подвальном коридоре. Бесцельно и от нечего делать заглянула в лабораторию, после в котельную. Полюбовалась на мерно гудящий агрегат, трубы и манометры. Хотела было уже закрыть дверь в малоинтересный хозяйственный отсек, но остановилась, задумалась.
А надо сказать, что перед тем у мадам с выздоравливающим Курятниковым состоялся содержательный, небезынтересный для обоих разговор. Касался он исключительно будущих перспектив их новорожденной семьи и планов на недалекое будущее. Начал его к удивлению Ирены сам Аполлинарий Игнатьевич:
– Ира, можешь мне ответить, только откровенно, на один вопрос? Что будет, если Балашинский и его банда вдруг узнают о моем нынешнем положении? – Курятников так напрягся в ожидании ответа, что приподнялся на локте с подушек. Самочувствие его было почти что хорошее, но мадам для верности решила продержать его еще денек в постели.
– Что будет? Одно из двух. Либо ты, а скорее мы оба – покойники, либо придется присоединиться к общине на условиях Яна, ты догадываешься на каких. А так как ты вряд ли согласишься, то все равно получается некролог по безвременно усопшим, – подвела итог Ирена. Она сидела в ногах у Курятникова, мешая в шейкере витаминный коктейль, призванный ускорить выздоровление Аполлинария Игнатьевича.
– Значит, выход действительно один. Ударить по ним первыми. Так? – спросил Курятников то ли у Ирены, то ли у самого себя.
– Так. Да мы же это уже обсуждали, – ответила мадам. Она перелила зеленоватую бурду из шейкера в чайную кружку, протянула ее Курятникову: – Пей, и до дна.
– А как ударить? Что-то я не очень представляю, как полагается истреблять вампиров. С крестным ходом и святой водой на них ходят, что ли? – сокрушенно и в сомнении вопросил Аполлинарий Игнатьевич.
– Не на них, а на нас. Ты что, забыл? – поправила Курятникова Ирена.
– Все равно. Что ты мне на днях говорила? Окисленное серебро и экстракт чесночный? Прямо как в фильмах ужасов.
– Да нет. В фильмах и правда есть. Не на пустом месте слухи выросли. Только на счет святой воды – это все ерунда. А чеснок мы чуем за версту. Да и не подберешься ты ни с чесноком, ни с другой отравой. Если очень повезет, то уберешь, может, одного. А остальные, как пить дать, тебя и прикончат, – заключила Ирена.
– Что же делать? Не бомбу же ядерную на них сбрасывать? – спросил озадаченный Курятников.
– Это, конечно, перебор. Но и вампа угробить можно… Подобраться сложно. Да еще ко всем разом… А так, можно сжечь, можно голову отрезать, или разобрать на кусочки. Или расстрелять в сердце в упор, а лучше – тоже вырезать. Мы ведь живучие. Были случаи, что и с такими ранениями выживали. – Иринка невольно припомнила приключение Стаса в мертвецкой. – Были случаи. Да только ни ты, ни я вдвоем такого дела не провернем. Тут рота спецназа нужна, не меньше. И то без гарантий.
– Какая рота, детка? Я, само собой, могу отдать приказ, только потом мне одна дорога – в подполье. А трупы все равно останутся. Следствие, то да се. Экспертизы разные. Этого же нельзя допускать? – на всякий случай уточнил Курятников, хотя и сам знал, что нельзя никак.
– Ты не переживай раньше времени. Что-нибудь, да придумается. Месяц-другой, я думаю, в нашем распоряжении есть, – ответила Ирена. Но уверена в своих словах не была. Пока живы Ян и его стоглазый "архангел" ни о какой уверенности и речи идти не могло.
И вот теперь, в подвале, Ирену посетила одна мысль. Явно своевременная и перспективная. Цепная реакция, породившая эту мысль, была одновременно заковыристой и простой. Котел отопления, на минутку привлекший ее случайное внимание, напомнил о давней истории из жизни их же поселка. Когда незадачливый и скопидомный сосед-молокозаводчик поскупился на качественное отопление, и в его навороченном до шутовства особняке рванул такой же котел, разворотивший кухню и половину наружной стены. Нет, конечно, котел отопления взрывать она не собиралась. Но вот сама идея взрыва, да еще сопровождаемая сильнейшим пожаром показалась Ирене прямо откровением свыше.
На следующий же день мадам посвятила в откровение Курятникова. Тот сначала не принял предложение всерьез. Но, когда спустя пару минут, Аполлинарий Игнатьевич принялся вслух обсуждать трудности и огрехи ее плана, Ирена поняла: да, идея зацепила, и у них, наконец, есть нечто конкретное.
– Тут не простая взрывчатка нужна. А такая, которая даст необходимый термоэффект. А лучше – взрывчатка, и, скажем, снаряды с напалмом в доме. Только где ж их взять?.. Где, где? Мне Трушкин должен. Еще за прошлые свои торговые художества с оружием. Я его тогда не сдал, пожалел. Теперь он, говорят, уже майора получил. Интендант хренов. У него и пластидом разжиться можно. За рупь воробья в поле загоняет! – загоготал собственной шутке Курятников.
– Ну, вот видишь, хоть с чем-то проблемы нет. А после всего твоего Трушкина можно будет искупать в одиноком подмосковном пруду. А главное – все будет выглядеть как очень несчастный случай. В доме подпольного воротилы рванул нелегальный склад взрывчатых веществ. И мстить за Яна и ребят в случае чего будет некому. Балашинский ведь на стороне дружбы ни с кем не водил. Зачем ему? Так что вопросов лишних задавать не будут. Поставят на его место другого и ладно. Ну, мою контору прикроют, а может, и нет. Я ведь дама покладистая, задираться зазря не буду. Да и ты не дашь в обиду. Не пропадем! – торжественно завершила Ирена и игриво подмигнула полковнику.
– Погоди, не дели ты шкуру неубитого медведя. Допустим, Трушкин мне поможет. А как подарочек доставить на дом ты подумала? Или вот так просто возьмешь и привезешь несколько кило взрывчатки: "дорогие родственнички, пусть пока у вас полежит, в моей гардеробной места нет?" А спусковой механизм, а напалмовые заряды по дому? Да, чуть не забыл, надо же, чтобы вся семейка в сборе была!
– Будут. Непременно будут. У его Машки через три недели день рожденья. Вся община соберется, а вот мне, в силу некоторых причин, совсем необязательно осчастливливать сей праздник своим присутствием, – с нехорошим смешком сказала Ирена. – За три недели управимся, как думаешь?
– Не знаю, но надо постараться. Да! Скоро же лето! А если они на воздухе праздновать соберутся? Тогда как? Ждать, пока все отправятся на боковую? Так ведь они же в разных домах квартируют? И что? Три дома рвать? – Курятников разволновался, аж пот прошиб.
– Не соберутся. Ян на территории здоровущий бассейн затеял. Весь двор перекопан так, что живого места нет, и Татка мальчишку в Фили гулять вывозит. Там не то что за три недели, за лето не управиться. Будут в доме, как миленькие… А ты прямо завтра свяжись со своим Трушкиным.
Спустя несколько дней, когда улеглась суматоха с Максовым возвращением, и напряжение как-то, само собой спало, Миша засел за неотложные бумаги, связанные с новыми, большими делами. Для этого вдумчивого занятия он выбрал не только что отделанный начальственный кабинет в новорожденном офисе новоиспеченной строительной фирмы, которая для правдоподобия существовала не на одной лишь бумаге, а занял отдаленную комнату в Иренином фонде. Комната и раньше считалась его, теперь же это было, по сути, единственное место, где Миша мог поразмыслить на покое.
Когда стопка прозрачных папок и файлов перед ним сократилась наполовину, Михаил Валерианович с достоинством перевел дух и попросил себе по селектору кофейку. Устроил получасовой перерыв. Заодно вспомнил, что из-за нервотрепки последних недель ему все недосуг было проверить переговоры с прослушки рабочего телефона мадам. Открыв только ему известный тайник, он вытащил чип с последними записями, вставил в свой ноутбук, после запер дверь и надел наушники. Откинувшись в кресле стал слушать, многое, ему неинтересное опуская. Пока в ушах не зазвучал знакомый интонациями голос, на сей раз не бравый милицейско-полковничий, а жалобный и больной. Миша тут же переключил все внимание и стал слушать, а дослушав до конца, похолодел.
ГЛАВА 30. ИОВ
– Предположения у меня одно хуже другого. А самое плохое просто и произносить не хочется, – тихо и зловеще подвел резюме "архангел", когда голоса полковника и мадам отзвучали в гробовой тишине кабинета. – Что делать будем, Ян?
Балашинский ответил не сразу. Молча крутился в массивном кожаном кресле на колесиках то влево, то вправо, будто играл сам с собой в игру. Миша терпеливо ждал, стараясь не обращать внимания на мерзкий звук скользящего по паркету пластика. Пока верчение и скольжение по воле хозяина не прекратилось.
– Я, знаешь ли, тоже склонен всегда предполагать самое худшее. Без этого нельзя. – Хозяин, выдержав изрядную паузу, наконец, соизволил заговорить с Мишей. – Однако, не кажется ли тебе, что непосредственных доказательств вины Ирены у нас нет? Что мы только что услышали? По сути, ничего особенного: Курятников плакался на дурное самочувствие, просил Ирену срочно приехать. Но на то она и его любовница, чтобы выслушивать жалобы своего дружка.
– Ян, послушай, этот Курятников матерый волк, мент до мозга костей. Не станет он ныть по пустякам. И на службу из-за обыкновенной болячки не забьет. К тому же симптомы, которые он описывает в разговоре с Иреной… Не мне тебе объяснять. Ты сам прекрасно знаешь, что…
– Что?! – перебил Балашинский своего визави, – Что я знаю? Что ты знаешь? На свете есть куча вполне человеческих недугов, которые дают похожую картину. Может полковник схватил банальное воспаление легких, находясь в засаде на особо важном задании?
– В мае-то месяце? И я что-то не слыхал, чтобы такой ответственный чин самолично сторожил кого-то по кустам? – возразил Яну "архангел". И тут же упрекнул хозяина: – Не понимаю твоего легкомыслия. Если есть вероятность самовольного превращения постороннего лица, даже и небольшая, то нам следует принять меры.
– Миша, милый мой, какие меры? – чуть ли не возопил в ответ Балашинский. – Что ты от меня хочешь? Чтобы я немедленно пошел и свернул шею полковнику? А потом прибил бы нашу директоршу прямо на ее рабочем месте? Нет? Тогда что? Мы ничего толком пока не знаем, а эта более чем сомнительная запись не повод для расправы.
– Но нельзя же просто сидеть сложа руки! Упаси бог, если то, что я думаю, окажется правдой?
– Я и не предлагаю делать вид, будто ничего не произошло. Но надо сперва разобраться. Понаблюдать, выяснить. Вот ты и займись, – постановил Балашинский. – Хотя вряд ли Ирена решилась бы на такое самоуправство. Не сошла же она, в самом деле, с ума?
– Как говориться, твоими устами, да мед бы пить. Ну, ничего. Если за мадам водятся грешки, то я уж выведу ее на чистую воду… Пойду я, что ли? – "архангел" поднялся с места. Вид у него был обиженный.
– Иди, иди. И не дуйся. Будет что конкретное – поговорим, – сказал на прощанье Балашинский и опять завертелся в кресле: влево-вправо.
Миша, пользуясь хозяйским дозволением, времени терять не стал. Лезть напрямую в квартиру Ирены он посчитал напрасной тратой усилий, однако, принял решение самолично и негласно последить за поведением полковника. Прослушку с телефонов мадам Миша перевел в круглосуточный режим, благо техника, находившаяся в его распоряжении, делала это возможным. Никого из боевой группы Миша в суть происходящего посвящать не пожелал. Не счел нужным. Хозяин все же был прав: допреж установления виновности мадам ни к чему разносить нехорошие слухи.
В постоянной слежке за Курятниковым Миша тоже не видел нужды. Достаточно было проверить лишь некоторые нюансы его поведения. Для чего "архангелу" требовалось установить и опробовать несколько "ловушек". Дело, хоть и не хитрое, однако, не терпело необдуманной поспешности. Если Курятников нормальный человек, то Мишиных "ловушек" он попросту не заметит. Но ежели нет, то оплошности в исполнении могут навести полковника на опасные мысли, чего никак нельзя было допустить. А тревожное чувство, неуклонно зреющее в глубинах его интуитивного, почти животного подсознания, подсказывало "архангелу", что в их окружении появился новый, нелегальный и, возможно, злонамеренный "вамп". Оттого действовать предстояло с особой осторожностью.
Об особой осторожности в то же самое время помышляла и Ирена. Должник Трушкин, хоть и поломался изрядно и стеснительно, словно барышня перед гинекологом, однако, напалмовые заряды и пластид продать Аполлинарию Игнатьевичу все-таки согласился. Правда, за сумму, уместную более в контрактах космической промышленности, но именно это, в сущности, и решило все дело. Таким образом полковник приобрел необходимое для их плана снаряжение, а Трушкин – невиданно дорогостоящую экскурсию к некоему пруду.
Оставалось решить самую важную задачу: как доставить приобретение к сроку в Большой Дом? О том, чтобы протащить смертоносные устройства на территорию целиком не было и речи. Ирена, появлявшаяся во время своих краткосрочных визитов в лоно семьи лишь с дамской сумкой или, в крайнем случае, с деловым портфелем в руках, тут же вызвала бы ненужный интерес, принеси она с собой объемистый баул неизвестного назначения. А что Макс или Миша непременно проверили бы его содержимое, наври она им хоть с три короба правдоподобнейших басен, тут и к гадалке не ходи. Даже если запереть кофр в комнате, все еще числящейся в Большом доме как ее собственная. Будто нехитрый замок или неприкосновенность частных владений кого-нибудь в этой сверхмеры любопытной семейке остановят. А не "архангел", так Татка непременно сунет свой любопытный нос, да и от ее товарки, тихушницы Лерки всего можно ожидать.
Незаметно переправить взрывчатку ночью, пусть для Ирены, а теперь и для полковника, высоченный забор не преграда, тоже весьма и весьма рискованно. По ограде одних только камер куча понатыкана, а что кроме них еще имеется в охранном арсенале "архангела" мадам и понятия не имела. В свое время, когда Миша монтировал все эти хитрые и непонятные штуки, Ирене и в голову не приходило поинтересоваться их назначением и устройством. И, как оказалось, зря. Но не могла же она тогда и подумать, что в один прекрасный день ей придется приступом брать свой же собственный дом, чтобы безжалостно уничтожить всех его обитателей. Одно она знала наверняка: охранные системы нацелены лишь на врагов извне, в самом же Большом доме и двух меньших особнячках для внутреннего наблюдения за их обитателями камер нет ни одной. Хвала небу, морально устойчивый Мишаня считал подобную слежку неэтичной, да и хозяин ему ни вжисть бы не дозволил такое наблюдение установить. Это подрывало б самые важные устои семьи и взаимное доверие и уважение "братьев" друг к другу.
Выход был один: переправлять заряды понемногу в сумке и портфеле. Слава богу, что деловым женщинам теперь положены не крохотные тыковки для пудреницы и водительских прав, а громоздкие прочные мастодонты, вмещающие не меньше полведра картошки! А уж потихоньку сунуть заряд в укромное место кухни, гостиной и холлов первого и второго этажа в таком-то огромном домище пара пустяков. На подробном плане дома, собственноручно нарисованном Иреной, Курятников обстоятельно и со знанием дела разметил наиболее походящие для вящего эффекта места. Саму же бомбу в котельную предстояло поместить в последнюю очередь, непосредственно в день "Х", чтобы по возможности исключить роковые стечения обстоятельств. В котельную почти что и не заглядывали, но чем черт не шутит, когда господь почивает. В день же рождения хозяйской Машки в Большом доме наверняка будет твориться настоящее светопреставление, и никому не станет дела ни до мадам, с утра, как обычно, явящуюся с поздравлением к имениннице во избежание вечерних торжественных посиделок, ни тем более до котельной.
Первый капкан Мише удалось насторожить достаточно быстро, хотя и было это не так, чтоб очень уж просто. Действовать пришлось в одиночку, и потому в помощниках у него оказались совсем случайные люди. Во все времена и во всех частях обширной столицы в достатке хватало самой разнообразной дворовой шушеры и шпаны, а Мише для исполнения его хитроумного плана никого другого на сей раз и не требовалось. Искал он недолго и нашел четверку безбашенных приятелей-бездельников, никак не связанных с криминалом и к тому же несовершеннолетних, имевших пару-тройку безобидных приводов в отделение за мелкое хулиганство, и которым в недалеком будущем предстояло побегать от розыскных повесток райвоенкомата. Ребята эти, хоть и не тянули "дурь", однако, уважали пивко и водочку, базой же своей дислокации по теплому времени имели укромные скамейки Лефортовского парка, а когда и просто поваленные деревья вблизи затянутых вонючей тиной прудов напротив Бауманского училища. Парк этот, в дневное время дававший пристанище веселой студенческой братии и малоимущим мамашам с крикливой ребятней, старикам-пенсионерам с кошелками, не брезгующими пустой ничейной бутылкой, в темную часть суток превращался в место совсем неспокойное, хотя и на первый взгляд тихое. Шуметь в парке и вправду не полагалось – сразу же за чугунной решеткой, соседствуя с отреставрированным бывшим особнячком Анны Монс, располагался районный РУБОП, организация серьезная и достойная всяческого уважения. Поэтому ночные лесные дела обделывались без лишнего шума. Шпана помельче делилась, когда насильственно, когда и добровольно, со шпаной покруче денежными и горячительными заначками, мирно и без особого членовредительства обирались забредшие в парк пьяненькие люмпены или неосмотрительные любвеобильные парочки. Доход невеликий, оттого приятели-гопники и позволили приманить себя на хорошее вознаграждение, обещанное им крутым и навороченным дядькой.
Задача, определенная парковым пацанам, на первый взгляд казалась нетрудной, хотя и сопряженной с риском. Попугать одного напряжного мента. Сперва пацаны, услышав о профессиональной принадлежности клиента, струхнули было и пошли в отказ, но Миша быстро их успокоил. Объяснил, что делать особенно ничего и не надо и упаси боже трогать того мента хоть пальцем. Только попугать, вроде больше для смеху. Никаких цепей, кастетов или ножичков. Один лишь игрушечный пистолет-зажигалка. Испугается – хорошо, тогда мента не трогать, а быстро брать руки в ноги и линять. А не испугается – тоже не страшно. Скажут, что ждали приятеля, хотели пошутить, да обознались. И что мент им сделает? Пистолет-то игрушечный. Ну, навесит пару фонарей, да и отпустит. А деньги немалые. За такие и потерпеть маленько можно. Лефортовские и согласились. Миша дал им адрес на Бережковской и трубу. Сказал, чтоб завтра же были на месте. Как мент подъедет к дому он, Миша, отзвонит. Тогда ребята быстро прошмыгнут в парадное, сделают дело и получат тут же на выходе из дома по две сотни баксов каждому.
Подвох сего маневра заключался же в том, что в парадном вовсе не будет света, Миша уж позаботится. Консьержа в доме никакого не имелось, только кодовый замок, а подъезд и лестничная площадка первого этажа напоминали глухой колодец и могли похвалиться полным отсутствием окон. Потому ребятам, как инструктировал их Миша, пугать мента придется у шахты при свете открывающегося лифта.
Лефортовским затея со светом понравилась, в темноте линять не в пример легче. К тому же серьезный дядька в доказательство благонадежности своих намерений выдал авансом новенькую стодолларовую купюру. Неприятность же, о которой ребята не имели ни малейшего понятия, заключалась в том, что если Мишины подозрения имеют под собой пусть хотя бы самую зыбкую почву, то в кромешной темноте парадного налетчики полковника Курятникова, конечно, не увидят, а вот он-то и их и пистолет в шальной руке наверняка должен будет узреть. И без всякого лифта. А вот распознать настоящее ли оружие или бутафорский пугач Курятникову все же будет слабо. Зрение "вампа", конечно, не сравнить с человеческим, но не до такой степени, да и времени вдаваться в детали у полковника не будет. Вот тогда Миша, а он будет в парадном задолго до появления там действующих лиц, и посмотрит, насколько необычно поведет себя полковник милиции, Аполлинарий Игнатьевич Курятников.
Полковник Курятников же повел себя таким образом, что на выходе из подъезда Мише никаких денег никому платить не пришлось. Напротив, сам "архангел" вынужден был бесшумно и незаметно утекать через окно площадки третьего этажа от греха подалее. Потому как на площадке первого, аккурат у так и не вызванного лифта отдыхали четыре несовершеннолетних трупа, а над ними стоял полковник и без всякого света уверенно набирал номер, вызывая милицейский наряд.
Ловушка сработала на все сто, но Миша все же решил перестраховаться. С одной стороны, интуиция в очередной раз его не подвела, с другой – очень не хотелось глядеть правде в глаза. От этого делалось муторно и страшно, а о будущих последствиях думать не было ни желания, ни сил. К тому же у Миши имелись пусть слабые, но все же контраргументы. Во-первых, Аполлинарий Игнатьевич, как Миша сам не раз говорил о нем, был старый матерый волк, а, значит, имелась отличная от нуля вероятность, что полковник на слух и чутье засек опасность и принялся разить направо и налево. Хотя Миша мог не сходя с места поклясться в том, что Курятников не просто бил по чему попало в темноту, а прекраснейшим образом видел, куда наносить удар. Очень уж точно взмахом ноги выбил он пистолет из рук совершенно слепого в такой темнотище пацана. Но черт их профессионалов знает. А что номер набирал на телефоне – так телефоны сейчас идут с подсветкой, это как раз неудивительно. Вот четыре трупа – это самая главная улика. Уделать насмерть за какие-то секунды слепых дворовых котят, конечно, можно, но вот вопрос, нужно ли? Даже если допустить, что Курятников не видел пацанов и бил наугад, тем более имело смысл взять хоть одного, а лучше всех живьем, просто оглушив. Ведь он же полковник милиции, а не арабский террорист. Его дело задержать и обезвредить, а не уничтожить и убечь. А он не захотел. Но и это еще полбеды. Другое дело, если захотеть-то Аполлинарий Игнатьевич захотел, а вот смочь не смог. Не рассчитал сил. И какие же это надо иметь силы, чтобы насмерть уходить в мгновение ока четырех молодых бычков? Спрашивается, а?
Поймать с поличным Ирену и полковника, и поймать уж наверняка, имелась еще одна очевидная возможность. Коли Курятников и в самом деле преобразился и лишился человечьей сути, то, следуя простейшей логической цепочке, он всенепременно нуждался отныне и в соответствующем подкреплении своих сил, а, стало быть, рано или поздно вышел бы на охоту за "коровой". Миша и подсчет произвел в уме, считая звонок болящего Курятникова в офис мадам за отправную точку превращения. Выходило, что дополнительное питание понадобится "новорожденному" ой, как скоро! И вряд ли мадам отпустит своего неоперившегося питомца на первую охоту в одиночестве. Хорошо зная Ирену, Миша был куда как уверен, что от обычного сценария охоты за добычей мадам не отступит, а, наоборот, будет следовать ему досконально. А, значит, на дело Ирена и полковник пойдут непременно в ночное время, и посему дневное наблюдение с парочки можно запросто снять. Впрочем, за сами Курятниковым слежка теперь особенно и не требовалась. Полковник и так большую часть дня проводил в квартире на Бережковской, временно отстраненный от дел в виду служебного расследования за подъездные четыре трупа.
На третью ночь Мишина засада у набережной себя оправдала. Курятников и мадам почти сразу после полуночи вышли из дому, оба в темных, спортивных нейлоновых костюмах и мягких, черных же кроссовках. Аполлинарий Игнатьевич расстроенным вовсе не выглядел, наоборот, был бодр и оживлен, видать расследование оказалось не более, чем нужной для отвода глаз формальностью. И то сказать: где полковник РУБОПА, а где дворовые шпанята, за которых, кроме рыдающих маманек и вступиться толком некому. Да и Мише ли не знать, как первая охота горячит и кружит голову.
Пошли, естественно, в сторону Киевского вокзала. Разумно, ничего не скажешь. Зачем без нужды отправляться в дальние края, когда на Киевском всякого сброда навалом. Миша бесшумной, стремительной тенью крался следом за ними. На вокзале мадам с полковником разделились, но далеко друг от друга не ушли, и Миша вполне мог держать обоих в поле зрения. У него пробудился и чисто спортивный интерес: кого его ведомые голубки изберут нынче ночью на роль жертвы? План охоты наверняка не раз до тонкостей оговорен ими заранее, и Ирена, несомненно, отгрузила своему напарнику не одну тонну ценных указаний. Выбор полковника тоже оказался более, чем логичен и разумен. Что же: и пропитанием разживемся и город от отбросов почистим. Мент все же, не стоит забывать. Миша бы побрезговал. А Курятников ничего: тащил под ручку пьяненькую, жутко потасканную вокзальную шлюшку, наверняка имевшую в ассортименте услуг весь джентльменский набор, необходимый постояльцам кожвендиспансера. Но это как раз не беда, к нынешнему Курятникову никакая холера не пристанет. Мадам на расстоянии следовала за ними. А уж Миша – за мадам.
Курятников держаться старался подальше от людных мест, уходил в сторону полосы отчуждения. Шлюшка не протестовала, ей было все равно. Остановились у пустого, старого товарного вагона, давно снятого с колес и бесхозного. Курятников грубовато запихнул пьянчужку внутрь, вскоре следом в вагончик шмыгнула и мадам. Миша выждал немного, потом подкрался к щелястой двери товарняка и осторожно заглянул внутрь. Увидел он достаточно, чтобы не искать уже никаких иных доказательств и оправданий, и не дожидаясь окончания процесса, тихо-тихо убрался прочь.
Домой этой ночью "архангел" ехал не спеша. Голова гудела от разнообразных мыслей, словно по ней ударили чугунной бабой, перетряхнув и ввергнув в хаос все, в ней содержимое. Гадкие предчувствия радостно и злобно торжествовали, а ощущение страшной опасности било в пожарный набат. Однако, Миша поднимать хозяина средь ночи не стал. Плохая весть и до утра обождет. Рите тоже не сказал ничего, хоть та и не спала, дожидалась его возвращения, но вопросов не задала: надо, муж все расскажет и сам, а попусту любопытствовать нечего. Что же, тайны в их семье обычное дело.
Уж как не хотелось Мише огорчать хозяина, о том ведал лишь господь бог. Словами не выскажешь. Мелькнула даже шальная мысль разобраться с бесчинством и беззаконием мадам в одиночку. Но тут Миша себя осадил. Принять и осуществить такое решение без одобрения хозяина разве в его праве? Не он пришел к Ире Синициной с даром и откровением, не ему и лишать ее блага или карать за отступничество. Вот только когда рассказать? Послезавтра у Машеньки день рождения, так стоит ли омрачать такой светлый праздник дурной вестью? Хозяин, само собой, вида не подаст и изобразит нужное веселье, но хорош ли будет для него пир во время чумы?
С утра Миша, так ничего и не решив, подался в город, ни с кем из домашних не повидавшись. Думал, тянул время, но ничего толком так и не надумал. К обеду его замучила совесть: никогда не таился от своего благодетеля, а вот же испугался и, можно даже сказать, сбежал. Бросил строительные дела, кинулся назад, в Большой дом. Да только Яна дома не оказалось. Надо же такому случиться! И он, и Маша, и Тата с маленьким Леликом отправились в "Царскую охоту" на встречу с бабушкой Надей и ее Ди Каприо. Верно, за поздравлениями по случаю дня рождения. Известно ведь, что ни любимый зять, ни горячо любимая теща в гости друг к дружке и под страхом конца света не пойдут, вот и встречаются на нейтральной территории. Пришлось ждать их возвращения. А пока Миша находился в ожидании, весь запал из него уж вышел. И вновь возник прежний соблазн отложить, отодвинуть неприятную миссию до конца торжеств. Однако, разум, который в отличие от чувств все же восторжествовал, настоял на ином. Что бы там ни было, но хозяин должен и вправе знать, и знать немедленно все, каковы бы ни были Мишины мнения и желания по этому поводу.
Дождавшись возвращения всей честной компании, посмеявшись с Машей и подержав на руках Лелика, всегда охотно шедшему к нему, Миша сделал хозяину незаметный для остальных знак, указав одними глазами в сторону кабинета: мол, есть срочный разговор.
Оставшись с Балашинским наедине и плотно прикрыв двери, Миша выложил все начистоту в холодной неприукрашенности событий, намеренно лишенных им эмоциональных, личностных выражений.
– Вот так. Все и было. Комментарии, как говориться излишни.
– Как думаешь, что все это может значить? – Балашинский безусловно имел в виду глобальный смысл происшедшего, а вовсе не демонстрацию собственной тупости и непонятливости, нуждавшуюся в дополнительных объяснениях.
– Это заговор, Ян, – коротко ответил Миша, считая, что этим сказано все.
– И я так думаю. Жаль, Ирена была нам всем неплохим товарищем.
– Это приговор? – спросил Миша, делая единственно возможный вывод из слов хозяина.
– Можно и так сказать. Я бы назвал это скорее вынужденной необходимостью.
– А как же кодекс?.. Хотя, какой там к черту кодекс! Теперь многое понятно. Вот же гадина! Что ж, если мадам хочет войны, то мадам войну получит!
– Вряд ли Ирена собирается с нами воевать. Скорее она постарается уничтожить нас внезапно и нанеся удар в спину. Зачем ей делиться, раз уж она пошла на такой-то риск?
– Но это же невозможно, Ян! Это никак невозможно! – Миша закричал, негодующий и уверенный в своей правоте.
– Возможно-невозможно… Не знаю. Все возможно, – угрюмо и спокойно ответил Балашинский. На Мишу он не глядел.
– Но как? Ты знаешь, как? Не представляю себе! – Миша все еще кричал, пытаясь при этом поймать взгляд хозяина, устремленный в пространство мимо него.
– Как? – переспросил Ян и тут уж поглядел на Мишу: – Ты знаешь, Михаил, я лично вовсе не собираюсь выяснять, как? И тем более не собираюсь этого "как" дожидаться. Да и плевать мне. Завтра же уберу обоих и дело с концом. У меня жена, сын, вы все. Я не могу рисковать… А кодексом можете подтереться и ты, и те некоторые, кому сие не по нраву.
– Да нет, я не против. Даже наоборот. Но почему ты? То есть, понятно почему, ты. Но почему один? И как же завтра? Ведь праздник же! – быстро-быстро заговорил Миша, пребывая одновременно и в восторге, и в недоумении от категорической отповеди хозяина.
– Именно, потому что праздник. И в ином месте меня в гости ждать не будут. А это хорошо… Да, кстати, потихоньку раздобудь у Фомы два шприца с "концом света", полную дозу, но так, чтоб тот ничего не знал. А со мной идти не надо, тихо уйду, тихо вернусь. Или ты что же думаешь, я один не справлюсь? – от такого забавного предположения Балашинский даже рассмеялся.
– Справишься, конечно. Одна дамочка, один новичок. Но я думал…
– Нет, Миша. Ты останешься в доме. Это дело на одного, и этим одним уж буду я.
– С утра Ирена может заявиться в гости. Наглости у нее хватит, – напомнил Миша хозяину.
– Не может, а придет непременно. Оттого и желательно дело полностью держать в секрете. Мало ли кто из наших не удержится и ляпнет лишнее, или посмотрит не так. Ирена – она чуткая. А так: ты, да я, да мы с тобой. Уж как-нибудь переживем.
– Ну, что касается меня, – с усмешкой ответствовал "архангел", – то здесь и притворяться не стоит. И без того вечно будто кошка с собакой грыземся. Вот если я с поцелуями полезу, тут мадам не на шутку удивится.
Но Миша, уж конечно, с поцелуями назавтра не полез. А мадам, уж конечно, с утра пораньше заявилась в гости. Вся сахарно-ягодная. Машу облобызала и одарила, Лелика, невежливо упиравшегося и недовольного, на коленках покачала, с Татой на кухне чаю выпила. Не поленилась спуститься и к Фоме в подвальную лабораторию. Правда, Фомы там не оказалось – по случаю праздника он все еще дрых наверху, набирался сил. Но мадам это не слишком расстроило. Она и наверх поднялась, помогая Лере донести "апостолу" поднос с чаем и плюшками.
Миша глядел на такое нахальство и тихо бесился про себя. Ирене вместо приветствия лишь криво улыбнулся, и в душе посулил черта. Впрочем, тут же взял себя в руки, успокоился. Ведь, если сегодня все пойдет, как нужно и хорошо, то мадам встреча с чертом непременным образом гарантирована уже вечером. Мысль, что нынче он видит Ирену в последний раз, и вовсе устыдила Мишу. Он даже было хотел подойти и сказать ей что-либо нравоучительное и напутственное, но сдержался и не подошел. Мадам предстояло отбыть в мир иной без "архангельского" благословения.
А в Большом доме все шло своим чередом. Что значит, в доме с утра стояла шумная и бестолковая суета, напоминавшая экстренную эвакуацию бедлама, как впрочем, и полагалось по случаю праздника. Ян в суматохе участия не принимал, а чинно восседал в главной гостиной, как и положено хозяину, и самим своим присутствием словно бы и участвовал в хлопотах. Иногда Рита или увешанный ракетами-фейерверками Сашок, кои он намеревался расставить собственноручно снаружи по периметру дома, на ходу обращались к Яну с пустым хозяйственным вопросом. Балашинский на все отвечал утвердительно, не вникая в суть. Вопросы все равно были неважные, важные решали хозяюшки Тата и Лерочка. А им бы и в голову не пришло спрашивать у хозяина то, в чем он, как и положено мужчине, ни бельмеса не смыслил. Да и не до того ему было. Главным сейчас являлось захватывающее ожидание, а в холодильном мини-баре его кабинета уже лежали готовые и заряженные шприцы, начиненные смертоносным раствором окиси серебра, в обиходном просторечии именуемом "концом света".
За праздничный, богатый стол сели около пяти вечера. Только свои, пришлых гостей в доме не было. Солнце еще светило вовсю, окна и в холлах и в парадно украшенной гостиной были распахнуты, открывая вид на живописно перекопанный двор. В комнатах стояла умопомрачительная гамма запахов сладких французских духов, свежих сосновый иголок, цементного раствора и скипидара, что отчего-то создавало непередаваемо оживленную атмосферу вокзального терминала.
В шесть Балашинский встал из-за стола. Игриво и загадочно подмигнул присутствующим, намекнул, что должен срочно отбыть за неким сюрпризом для именинницы и трогательно поцеловал Машеньку. После чего вышел из гостиной прочь. Маша удерживать его и задавать лишние вопросы не стала, сюрприз заинтриговал ее и поверг в счастливое нетерпение. Сюрприз и в самом деле был, запасенный заранее. Ян думал вручить дорогую побрякушку – колье с Машенькиными инициалами, все в разноцветных бриллиантах, сделанное по сему случаю на заказ, – еще утром. Но раздумал. Как раз получался удобный случай оправдать свое отсутствие. Ведь заказ мог и задержаться, едва поспев к сроку.
Выбравшись за ворота усадьбы, Ян, однако, не пошел через сторожевую будку охраны поселка, избегая лишних глаз и будущих возможных подозрений. Просто стремительно перемахнул ограду, точно минуя углы камер внешнего наблюдения. Потом проселком выбрался к дороге, остановил попутку. Вышел возле "Славянской", обошел гостиницу сзади, со стороны вокзала. Ключ от квартиры Ирены у него был при себе, как и заряженное в шприцы оружие возмездия. По его расчетам и наблюдениям Миши, Ирена и полковник должны были быть еще дома. Вечернее клубное время пока не наступило, а в выходные посещать офис у мадам не входило в привычку. Стало быть, коли голубки и отлучились куда по домашним нуждам, то вскоре объявятся, опять же Ирене непременно надо парадно переодеться. А он, Балашинский, ради удовольствия от встречи с ними, ничего, подождет. Хотя ждать и не пришлось. Ирена и Курятников, наплевав на все хозяйственные дела, были дома. И даже более того – в постели, голенькие и тепленькие.
Когда Балашинский, кошмарным и тихим привидением возник на пороге их опочивальни, Ирена все враз поняла. Аполлинарий Игнатьевич тоже сообразил, что влип во что-то зловещее и нехорошее, но во что именно, вот так сразу сказать бы не смог. Да и хваленная реакция бывалого опера его подвела, куда там угнаться за мадам.
Балашинский его в расчет и вовсе не взял. Знал, что схватка с Иреной будет молниеносной, полковник не только не успеет прийти на помощь подруге, но даже не поймет за это время, что к чему. А бой, снимай его кто со стороны и прокрути после в замедленном режиме, впечатлял. Два разъяренных "вампа" в полном молчании яростно и насмерть сцепились, пытаясь уничтожить друг друга. В пылу схватки и выпущенные острые клыки пошли в ход, отчего по комнате полетели веером кровавые брызги. На стороне Яна был вековой опыт и превосходящая физическая сила, плюс умение старого воина сохранять спокойствие и рассудок в самые роковые мгновения. За Ирену стояли первобытная ярость самки, сражающейся за право жить, ненависть и жестокое отчаяние рухнувших планов, дикий, смертоносный ужас преступника, схваченного за руку и не имеющего более что терять.
Все длилось не долее каких-то пяти секунд. Пока Ян, поймав Ирену на первой же ошибке, не переломил ей позвоночник. Ирена мешком рухнула на пол. Травма для "вампа", конечно, не смертельная, но на время мадам будет обезврежена и неподвижна.
Ян повернулся к полковнику. Тот уже вскочил с постели и, как был нагишом, летел на Балашинского с могучей, бронзовой статуэткой-канделябром наперевес. Выглядел он комично и нелепо, и Яна позабавил его наивный оптимизм. Пошлость бронзового снаряда и вовсе заставила поморщиться. Балашинский не стал останавливать безумного полковника или уклоняться от встречи. Выждав, когда Курятников, несомненно воображавший себя в ту минуту восставшим гладиатором, подбежит и замахнется, он одним жестом руки перехватил взметнувшуюся над ним бронзовую Диану и, продолжая естественное падающее движение тяжеленного канделябра вниз, перебил Аполлинарию Игнатьевичу обе ноги. Курятников с воем осел на пушистый, в острых хрустальных осколках, коврик у расколоченного в драке трюмо. Балашинский на всякий случай еще наподдал Аполлинарию Игнатьевичу по беззащитным в данный момент, обнаженным гениталиям, чем и ввел Курятникова в необходимую дополнительную задумчивость.
Пока Курятников набирался впечатлений, зажав свое оскорбленное мужское достоинство обеими руками, что, впрочем, мало ему помогало, Ян тем временем проворно вынул из внутреннего кармана летней куртки плоский футляр из твердой стали. Извлечь шприц и снять защитный колпачок было пустяковым делом. Еще через секунду раствор с оксидом серебра без приключений перекочевал в вену на локтевом сгибе руки полковника, который от боли в напрочь отбитых яйцах даже не почувствовал комариного укуса укола.
После Балашинский подошел к беспомощно распростертой Ирене. Сломанный в поясничном отделе позвоночник не позволял ей встать, но нисколько не мешал браниться и сыпать проклятиями. Ян не спеша сел с ней рядом, прижав одну ее руку коленом к полу, другую словно веточку переломил в плече. Достал из стальной коробки второй шприц.
– Можешь, если хочешь, сказать последнее слово, – позволил он Ирене, и тут же предупредил, – это не в том смысле, что я готов слушать твою вульгарную, безобразную ругань.
Ирена браниться перестала, глядела на своего судью и палача снизу вверх. Изломанное тело невыносимо болело, мешая сосредоточиться на главном. Возможно, она еще купит себе жизнь, если сможет правильно сторговать ему страшную правду. Бомба в доме уже заложена, и таймер сработает семь часов. Когда пир будет в разгаре и подвыпившие гости еще не встанут из-за праздничного стола. Это значит – через пятнадцать минут. Достаточно времени, чтобы отзвонить поганцу "архангелу" и отправить его в котельную отключить заряд. Потом уже можно будет в виде добровольного покаяния указать и где схоронены заряды с напалмом. Но Ирена тут же подумала и о другом: зачем все это? План ее не удался и в лучшем случае ее ждет опала и заключение в бункере или все та же, только отсроченная на неопределенное время казнь. Но может еще удастся месть. Она умрет сейчас, но точно зная, что и те, другие, в далеком, прошлом ее доме тоже мертвы. И Ян ничего не сможет с этим поделать. Только созерцать руины, под которыми погребены его жена и сын. "И дурак "архангел" тоже", – услужливо подсказало прояснившееся сознание. Эта последняя счастливая мысль и утвердила Ирену в ее решимости промолчать и принять смерть, как она есть.
– Чтоб ты сдох! – только и выдохнула она на прощание. Потом равнодушно смотрела, как смерть перетекает из иглы в ее тело, наполняя его вязкой, ватной беспомощностью. Потом и ей и телу стало все равно.
Балашинский неспешно упаковал оба шприца в футляр. После вытащил из бара литровую бутыль "Смирновской". Облил кровать и пол спальни. Крепко запер стальную входную дверь.
Длинная каминная спичка, зажженная, упала на постель, еще одна – рядом с телом Ирены на ковер. После, дождавшись, пока пламя разгорится, как следует, Ян незаметно выскользнул через балкон.
Обратная попутка подъезжала к поселку, когда Яну бросилось в глаза необычное количество милицейских машин у проходной, и густой, страшный дым, валивший из глубины со стороны Большого дома. Выли сирены. Балашинский тут же отпустил частника, решив далее идти пешком. В поселке творилось что-то неладное.
Входить на территорию через шлагбаум охраны при таком скоплении возле нее людей в погонах было бы верхом глупости, потому Ян повторил свой давешний маневр – через забор, мимо камер слежения. Однако, камеры вряд ли могли схватить изображение из-за черных, непроницаемых клубов дыма, окутавших все вокруг.
Пробираясь сквозь удушливую завесу, которая становилась все гуще по мере продвижения к дому, Ян то и дело натыкался на снующих в защитных костюмах пожарных. Пришлось быть настороже, уклоняясь от нежелательной встречи.
Когда же, невидимый в дыму, он выбрался наконец к Большому дому, то с мертвящим ужасом обнаружил, что дома никакого нет. Есть только клубящаяся зловонным дымом и жаром воронка, в которой если и было что живое, то никак не смогло уцелеть. В первом порыве Ян бросился к страшной яме, но задохнулся от жара. Повернул назад. Если и мог он найти хоть одну живую, спасшуюся душу, то явно не здесь. Балашинский пробрался назад к сторожке. Остановился позади среди деревьев, придумывая, как лучше обставить свое появление и выяснить главное – остался ли хоть кто-нибудь в живых. Но спрашивать не пришлось. Какой-то неведомый, чужой голос, оторвавшись от переговоров по радиотелефону крикнул в пустоту тот же вопрос. В ответ прозвучало уверенное, не допускающее и тени сомнения: "Никто не уцелел!"
Уже час, как Балашинский шел пешком вдоль обочины дороги, ведущей в город. Иногда рядом тормозили участливые автомобилисты, предлагали подвезти. Ян только отмахивался от них. Ехать ему не хотелось. Однако, он знал, куда идти. В офисе, в сейфе покойного "архангела" лежали одиннадцать паспортов с открытой шенгенской визой, десять из которых уже не понадобятся никогда. И деньги на непредвиденные расходы. Номер счета во франкфуртском банке и код Ян помнил наизусть. Завтра же он сядет в поезд, никаких самолетов! И долой, прочь отсюда.
Он поедет один. Как и всегда, один. Что ж, ему не привыкать… Куда потом? Можно податься в родные края, если нынешние останки народной Венгрии можно назвать своей родиной. Но будет хоть какая-то цель. А пока он просто шел, и придорожная пыль скрипела под его тяжелыми, размеренными шагами. Ему же казалось, что это шуршит опавший пепел.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




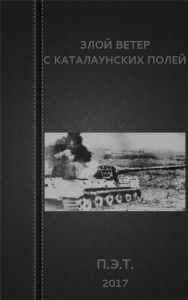




Комментарии к книге «Квантор существования», Алла Дымовская
Всего 0 комментариев