Тулянская Юлия Двери весны
Рябина
Кот был болен: простужен. Плохо дело, поняла я с первого взгляда. Неплохой ведь кот, такой гладкий маленький тигр, — но в местном прайде не прижился: не поделили чего-то с главным котом подвала. И вот пожалуйста — шерсть повылезла, глаза слезятся… В подвале у них колония: и селятся, и котятся. А этот потерялся еще подростком, прибился — но своим так и не стал.
Я сидела на дворовой лавочке и грелась на солнце. На детской площадке в разноцветной песочнице пищало несколько малышей, рядом со мной сидели с сигаретами две мамаши, в мою сторону не смотрели. Кот же медленно подбрел ко мне, посмотрел желтыми слезящимися глазами, понятное дело — увидел. Я хлопнула ладонью по коленке: залезай. Кот приглашение принял, вспрыгнул мне на колени… Устроился, замурчал, прищурил глаза. Одна из женщин покосилась в его сторону и подвинулась подальше от меня и, соответственно, от кота.
Заметил кота и один из малышей. Растопырив руки (не выпуская, правда, лопатку из правой ручонки), он понесся к нам с криком 'Кыса!' и явным желанием стиснуть кота в объятиях.
— Денис, Денис, нельзя! — закричала мамаша. — Он лишайный! Он грязный!
Я вздохнула и встала со скамейки. Кот тоже спрыгнул. 'Кот, пошли-ка отсюда, поищем других солнечных мест. Или знаешь, отведу я тебя к Августе Михайловне. Только сначала вылечу'.
Августа Михайловна — это такая бабушка, интеллигентная, маленькая и седая. У нее есть собачка Милка — белая, с острыми ушками, ростом с полторы кошки. Она кормит кошек. Живет она в бывшем Динкином дворе.
То есть двор уже сейчас опять стал Динкин, но какое-то время был 'бывший Динкин', вот я и говорю по привычке. Про Динку расскажу после, я все про нее знаю, она у меня жила довольно долго, а потом снова вернулась на историческую свою родину: в этот самый двор. Так вот, в этом дворе стоит хрущевка красная — опять же Динкин дом. Августа живет на первом этаже этого дома. Каждый день утром и вечером она спускается в подвал с миской еды. В подвале живет кошка Леська с кучей котят от разных пометов, еще туда сбегаются три кота — дымчатый, черный и черно-белый. Черно-белый — он чей-то, а у Августы Михайловны принцип: кормить только бездомных кошек. Но не гнать же, поэтому черно-белый тоже ест. Вот, пожалуй, Тигрика я туда и отведу. Динка присмотрит, чтобы его там не обижали коты, а Августа — накормит. Ну а я вылечу.
Кот бежал за мной. Я ведь иду короткой дорогой, между двором Репья, в котором я грелась на лавке, и Динкиным — всего-то сквер (красивый, потрясающий, весь обсаженный по краям яблонями, которые скоро зацветут) и два двора, в одном из которых, между прочим, цветут в палисаднике пролески. Ничейные. Присмотреть, что ли? (Кот трусит за мной). Я улыбаюсь скверу, потом, протиснувшись между гаражами, попадаю во двор к пролескам — они еще не цветут, но вот-вот зацветут. А вот, кстати, и палисадник с сиренью. Очень неприятно пустой. И сирень чахлая. А вот и Динкин двор — с одной стороны весь засажен американскими кленами, летом зрелище вообще невероятное: пятиэтажка утопает в зелени по самый свой пятый этаж. А с другой — вот палисадники перед подъездами. Перед одним подъездом сидели три тетушки, перед другим не было никого, перед третьим я нашла Динку. Она, как всегда, сидела грустная, а рядом с ней грелись на солнце трое последних Леськиных котят, уже месяца по три.
— Дин, — я села на лавку рядом с ней, вспрыгнул и кот, обнюхался с рыже-белым котенком. — Возьми кота, а? У Репья во дворе он пропадет, не жилец. Там у него вообще что-то бардак творится… Не двор, а проходной… двор. И коты недружественные. И люди.
Дина подняла глаза на меня, улыбнулась, только невесело.
— Возьму, — и тихо добавила, — только он больной.
— Ну, это не вопрос, — я положила руку на загривок кота, кот зашелся в мурчании. Динка молчала, не мешала мне, шевелила пальцами — с ними играли котята, набрасываясь и снова отскакивая. Наконец я пощупала нос кота, хотя знала уже и так: холодный-мокрый, как полагается.
— Принимай, — сказала я Динке. — Следи, чтобы крыс этих отравленных не жрал у тебя.
— Угу, — кивнула она.
— Чего грустишь, Дин? — я тронула ее за плечо.
— Как всегда уж… — она опустила голову, волосы свесились на лицо. — Вспоминаю. Сережу сегодня не видела?
— Видела, шел к машине сегодня, ключами звеня, нажал на какую-то штуку — дверцы сами открылись.
Дело в том, что Динкин брат живет как раз в моем дворе. Когда умерла их мама, он поменял квартиру, и вот переехал ко мне во двор, а Динка осталась. С тоски она тогда тоже переселилась ко мне, чтобы брата иногда видеть. Так прокантовались сколько-то лет, а потом Динке захотелось вернуться. Ведь еще задолго до Августы ее мама, когда была жива, тоже кормила этих кошек, да и вообще — весь двор полон памятью о маме. И лучше мама, которой хотя нигде тут самой и нет, но все напоминает о ней, чем брат, который тебя в упор не видит. Я считаю, это правильно.
— Рябина, — говорит Дина. — Ты не сходишь со мной на кладбище? А? К маме и бабушке?
Я вздыхаю.
Плохо мне там будет, по прошлому разу помню: ужасно плохо, потом буду болеть три дня, а то и больше. Но у Динки постоянная тоска, и я не могу бросить ее одну. Она все понимает, и я все понимаю.
— Ты не вздумай туда переселяться, — мрачно говорю я. — Ты нам нужна. Не пустим,
ясно? Сдохнешь там от тоски.
— Я все равно чужая и вам тоже, — упавшим голосом говорит Динка.
— Не чужая, — ровно и зло говорю я. — Это ты так говоришь, а не мы. м- Я не умею жить так, как вы. Иногда забываюсь — и живу. Но потом накатывает, и хоть вой. И ты это знаешь.
— Дин, ну никто же не виноват. Вот правда — никто. Мы все хотели как лучше, мы думали, так будет лучше, правда. И ведь было лучше?
— Было. Извини, Рябина. Ты хорошая. Вы все — очень хорошие. Ведь и правда: никто не виноват… И без вас бы я пропала. А с вами…
— А с нами — не пропадешь! — я смеюсь. — Ты у нас дочь полка. Ты скажи, что тебя колбасит? Ты хотела бы, как твой брат? Ты видела его сама-то последний раз? Он пьет, руки у него дрожат, волосы вылезли… он скоро будет старый. А ты смотри какая!
Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Весна.
— Скоро у тебя расцветет за домом сирень, — говорю я.
— А черемуху спилили, — отвечает Динка. — У нашего подъезда, где я жила, когда была живая, — она кивает в сторону первого подъезда.
— А… да. Ну да, — машинально говорю я. — Так ведь давно уже. Лет десять?
— Да. Но я же ее помню…
— Ты еще вспомни, как бутылки из-под кефира сдавала в пункт приема стеклотары.
— Я не сдавала, я была еще маленькая. Это Сережа сдавал, когда ему уже было лет восемь. Я с ним бегала. А потом заманивала его на дерево — ну то, знаешь, в палисаднике у соседнего дома. Его тоже спилили.
— Вот-вот, — вставила я.
— Теперь там пивнушка. Они все ходят пить сюда, покупают там, а распивают здесь. У vтебя пьют?
— У меня строят. Пригнали какую-то штуку, разобрали угол двора, штуку эту поставили. Так на ней написал кто-то: 'Стройте скорее и валите на…'.
— Кто-то? Не ты?
— Ну… я, — призналась я.
Писать я умею. Нас всех — ну, не всех совсем, а меня, Динку и еще одного, кто хотел, — научил писать дядя Коля. Он — как Динка, умер во дворе, замерз ночью. И, как Динка же, не ушел, а остался с нами. Мы — Хозяева дворов, скверов, садиков, парков и всего, что есть в Городе. Среди нас есть такие, как я — которые и всегда были Хозяевами. И есть бывшие люди — те, которые умерли и остались во дворах. Они должны были уйти куда-то еще, куда обычно уходят люди — и где, видно, им хорошо. По крайней мере, им правильно быть там. И большинство, конечно, уходят. А те, кто остаются — потом начинают тосковать. Ведь чаще всего они остаются ради того, чтобы не расставаться со своими — родителями, братьями, друзьями. А те или забывают о них, или помнят и грустят — но не видят, или видят, но думают, что сошли с ума. Но это еще не самое печальное: ведь можно смотреть на них издали, помогать хоть как-то и даже радоваться, если у них все хорошо. Но, во-первых, чаще всего у них не бывает хорошо. Во-вторых — в их жизни появляются новые люди, которых эти, ушедшие к нам, уже не знают, и просто остается только смотреть и ничего не понимать. Близкие становятся все дальше от них. Но и это не самое плохое. Хуже всего то, что они стареют и умирают. И тогда уже расставание будет навсегда: ведь они уходят в какое-то То Место, а наши — которые 'бывшие люди' — так и остаются здесь.
Меня зовут Рябиной. Я родилась в рябиновой роще, когда еще она стояла на месте двора, и было это очень давно… Но об этом я расскажу как-нибудь потом, когда будет время и настроение. Сейчас у меня ни того, ни другого нет. Мне жалко Динку, и я пойду в сквер, может быть, вместе со Сквером мы еще раз подумаем, что можно сделать.
Сквер
Сегодня впервые в этом году зацвели мои яблони. На клумбе пробиваются и скоро зацветут тюльпаны, два мирных алкоголика с утра уже устроились на лавочке под елью, а под другой елкой девушка читает книгу в яркой обложке. Я сижу на траве, прислонившись спиной к огромному клену. Мимо пробежала Рябина — в джинсах и пятнистой куртке, за ней трусит полосатый кот. Мы весело улыбаемся друг другу. То есть весело ей — и мне, из-за весны. Но если бы пришла она — та женщина из двора Репья — было бы еще веселее. Только она приходит редко. И каждый раз извиняется: 'Прости, я давно не приходила!' За зиму зашла всего раза три. Постояла под елкой, посмотрела из-под ветвей, как из-под шатра, сняла шапку — светлые волосы по плечам. Мне вспомнился давний, старый заснеженный лес и охотница в нем, под елкой. Пушистый снег лежал на еловых лапах и сыпался на длинные светлые волосы. Так было сотни лет назад. И вот снова — словно та же женщина, тот же лес. Она, видно, тоже почувствовала это, и все смотрела на падающий с дерева снег. И улыбалась. Один раз она, видно, решила приходить ко мне каждый день. Это было прошлым летом. Она приходила рано утром и ходила по моему скверу. У нее было заведено — она входила с той стороны, где цветет вишня. Здоровалась с вишней и шла по аллее, по солнцу. Она всегда обходит мой сквер посолонь, и никогда не меняет направления. Она чувствует все, как будто и правда — та охотница из старого моего леса. И разговаривает с вишней, касается рукой моего клена, стоит у ели, когда ей — я вижу — плохо. Да, ель сама по себе забирает у людей плохое, но тут уж я помогаю как могу, и лучше ей становится очень быстро. И вот так, каждый день, она ходила всю весну и начало лета. Потом перестала. Иногда, как я уже говорил, пробегает через сквер с той улицы, где шумят троллейбусы и много машин. А один раз я видел, что она плакала. Я через Рябину попросил Репья посмотреть, где и как она живет — ведь его двор. Однокомнатная квартира где-то на седьмом этаже, Репей проследил ее до лифта. Что в квартире — он не знает. Обычно она уходила рано утром и приходила к вечеру, и Репей снизу видел, что в окошке зажигался свет. А, еще на окне растение из домашних, здоровенное, которое у нас не растет. Во дворе она никогда не сидит, как многие люди, на лавочке. Зато летом, когда у Репья цветут вишни, часто выходит ночью постоять у двери подъезда, посмотреть на звезды. Видел Репей, что иногда выходит покурить на крыльцо и осенью, и зимой. Больше никого в ее квартире, вроде бы, нет. И в гости к ней никто не ходит. А в квартиру к ней он не может попасть, если она его не позовет.
Почему я о ней опять думаю? Я всегда чувствую, как она радуется цветущим яблоням. А сегодня они как раз зацвели. И одуванчики, ярко-желтые, под ними. Ей будет хорошо.
Динка
Мне было пять лет, и мы собирались на дачу. Бабушка надела на меня вишневое платье в белый горошек и сказала, что в час придет машина, чтобы везти на дачу папу, маму, бабушку, кота Барсика и телевизор. Я предвкушала поездку на машине через лес и встречу с дачными подружками, которых не видела год. Но пока, сказала бабушка, мне можно поиграть во дворе. Только — с той стороны дома, чтобы бабушка могла меня всегда позвать. Я так радовалась, когда на деревьях появились листья, когда расцвела черемуха перед домом и одуванчики: ведь это значило, что наступило лето. Вприпрыжку я побежала за дом, в песочницу. Там было скучно — никого.
В самом конце двора, в торце дома, стоял шум: на высокой перекладине раскачивались огромные качели — бетонная плита, привинченная на четырех железных длинных арматурах. Я вылезла из песочницы и побежала туда. Качаться на качелях я любила больше всего на свете. Мальчишки из 'белого дома' — лет по десяти, по двенадцати (для меня — здоровенные дяденьки) стоя раскачивали плиту, на которой с визгом и уханием, тоже стоя, теснились дети самых разных возрастов, и плита взмывала 'до перекладины', почти делая 'солнышко'. Я стояла, запрокинув голову:
— А можно мне?
— Маленьким нельзя! — крикнул мальчик из 'белого дома'. Я жила в 'красном доме' — хрущевке из красного кирпича, а белый дом стоял напротив, такая же хрущевка, но кирпич белый.
— Я не маленькая! — это был больной вопрос, и мне хотелось настоять на своем: я не слабенькая, не девчонка (в смысле девчонка, конечно, но не такая, которые пищат и боятся, я лазию по заборам и по деревьям!) и не маленькая.
Плита медленно остановилась, и большие парни втащили меня на край.
— Ну держись крепче. Смотри не слети только!
— Я? Я сильная!
Плита взмыла вверх.
Следующее, что я помню — я лежу в пыли носом, и удар по голове. И чей-то крик.
Я выбралась из-под остановившихся качелей, отряхнулась: и вовсе не больно! Делов-то! Летала я и с дерева, и со скамейки один раз, и даже на даче в погреб упала. Больнее было!
Дети толпились вокруг качелей, ничего нельзя было понять. Почему-то сквозь их толпу протискивалась моя бабушка.
— Бабуль! Бабуля! Бабуля-а! — я подбежала к ней, но она, кажется, не заметила. И почему-то закричала и заплакала. — Бабуль, ты чего плачешь?
Бабушка не слышала. Она кричала на больших пацанов, но я не могла разобрать, что. Прибежали еще какие-то взрослые, кажется, наш сосед дядя Илья, большие пацаны расступились, а девчонки ринулись врассыпную с испуганными лицами. Среди них была Лариса — наша соседка, старше меня на три года.
— Лариса, Ларис! — окликнула я ее. Она быстро прошла мимо меня и припустила бегом в наш двор — скрылась за торцом дома. Дядя Илья что-то достал из-под качелей и быстро пошел со своей ношей туда же, за ним бабуля и соседка тетя Лена.
— Бабуля, бабуль! — я побежала за взрослыми. Бабуля не обращала на меня внимания, другие тоже, и они быстро скрылись в подъезде, а я осталась перед дверью. И вдруг почему-то остановилась, понимая, что мне туда нельзя. Я не заметила, когда рядом со мной появилась Та Тетя. То есть сейчас я назвала бы ее Та Женщина (а сейчас бы и так не назвала, я примерно знаю, как звучит ее имя), но тогда все женщины для меня были 'тети'. Тетя была в красивом синем платье.
— Пойдем со мной, Дина, — она протянула мне руку.
— Куда-а?
— В хорошее место. Ты будешь там жить.
— Я с мамой же живу, с папой и бабулей. Зачем в место?
— Надо, Дина. Ты больше не можешь жить с мамой и папой.
Тетя протянула мне руку. Меня охватил ужас. С какой стати я не буду жить с мамой? Я завизжала, закричала и не помню, что еще сделала, ноги сами понесли меня за угол дома. Я бежала так, будто за мной неслась стая собак, или мальчишек, или — что-то ужасное из моих снов, когда мне снилось, что в наш дом приходят злые дядьки (я, насмотревшись фильмов про войну, считала их фашистами). За белым домом росла сирень и кусты с мелкими белыми розами, я, обдираясь о колючки (но, кажется, опять было не больно, даже кровь не пошла!) ворвалась в заросли и села, тяжело дыша, на врытую в землю камеру от машины. Я боялась той тетеньки, как ночного кошмара. Она хочет отнять меня у мамы, и маму у меня.
Потом я ревела. Долго, всхлипывая, вытираясь грязным листом лопуха, подолом красивого сарафана и просто пятерней. От страха и от тоски по маме, которая уже должна была ведь прийти — мы же хотели ехать на дачу. Но к подъезду идти боялась. Вдруг там Та Тетка. С виду добрая, да может и правда добрая, но ведь как же мама? Неужели мама меня отдаст ей? Так хотелось домой — к коту Барсику, к черному пианино, в котором я отражалась ('черная Дина', называла я это отражение), в комнату, которую мы делили с бабулей, к маме… Но я сидела до темноты, не зная, что меня ждет у подъезда. Потом я выбралась, и, пробираясь кустами, заглянула за угол дома. Наш подъезд крайний — может быть, я смогу увидеть, есть там Тетка или нет. Тетки не было, у подъезда сидели соседки под черемухой, которая только что отцвела. Ура! Я подбежала к двери, поздоровавшись с тетеньками, но они мне не ответили. Но снова не могла переступить порог подъезда. Я как-то чувствовала, что в подъезд смогу войти только с мамой, если она проведет меня или выйдет и позовет. Где же мама? Неужели не будет меня искать? Я так и стояла на крыльце, рискуя попасться Тетке, если та снова появится. Но она не появилась, а соседки все говорили и говорили.
— Вот у Людмилы Михайловны три года назад внук-то утонул, тоже какое горе было…
— И не говорите, хуже нет, бедная Ирина Сергеевна… Скорую вызывали — с сердцем плохо… Господи, Господи…
— А Наташа-то, Наташа постарела лет на десять сразу… Ох, Господи…
Ирина Сергеевна была моя бабуля. Наташа могла быть кем угодно, но вообще-то так звали мою маму, может, это о ней? Что случилось, почему Скорую? Ищут меня? Я тоненько завыла. Тетушки меня словно и не слышали.
— Игорь-то что? Теще претензии не высказал? — скривилась Клавдия Васильевна, тетенька, которая жила этажом выше.
— Какие претензии, о чем вы, Клавдьвасильна, — передернула плечами тетя Роза, Ларисина мама. — Сам пьет валерьянку, сердце прихватило… Господи…
Игорь был мой папа.
— Такая семья, такая семья… — качала головой моложавая Августа Михайловна. На руках у нее сидела маленькая собачка с кошачьим именем Муська.
Я завыла и захныкала еще сильнее.
— Что-то не по себе… — вздрогнула Августа.
— Будет тут по себе… — подала голос Клавдия Васильевна. — Жутко делается…
Тетушки медленно вставали с лавочки, отряхивали платья, вздыхали. Потом мимо меня прошли в подъезд одна за другой. Я едва успела отскочить. Сгущались сумерки, а мама все не выходила.
Так началась моя жизнь во Дворе. Ночь я проводила в зарослях, то в одних, то в других. К подъезду пробиралась тайком, чтобы не напороться на Ту Тетку. Меня не замечал никто — ни подружки во дворе, ни взрослые. Однажды — это было на следующий день — выбежал погулять наш Барсик. Он деловито трусил на задний двор. Я закричала:
— Барсик, Барсик!
Кот подбежал ко мне и замяукал.
— Барсик, Барсичек, ты меня видишь, это же я, Дина.
Барсик смотрел на меня круглыми желтыми глазами и мяукал. Я поняла, что он говорит мне: 'Вижу! Дома плохо. Все плачут. Я знал, что ты здесь'. Это было сказано не словами, но я поняла. Так я начала понимать язык зверей и птиц, о чем окончательно узнала позже. Барсик с тех пор часто приходил ко мне во двор и рассказывал — передавал образами — что происходит дома, внутри подъезда, внутри квартиры, за Порогом.
(Следующей зимой Барсика чуть не разорвали собаки, я еле отогнала их, они меня послушались. Мы дружили с ним еще пять лет, а потом у Барсика оказался лишай, и его куда-то увезли. А через три дня он снова появился во дворе, но я знала, что он уже побывал в ветеринарке, где ему сделали укол, и он заснул… и вернулся домой ко мне, и с тех пор мы с ним всегда неразлучны, хотя люди его не видят. Уже тридцать лет).
Потом были похороны. У подъезда стоял маленький гроб, я увидела плачущую маму в черном платке, рыдающую бабушку. Я хотела подойти к толпе соседок и окликнуть маму, но вдруг я снова увидела Ту Тетку, и пустилась наутек, за самые дальние гаражи. А потом я вылезла ночью и бродила вокруг дома кругами.
Когда пошел дождь, я забралась в подвал. Туда входить мне было можно. Там ко мне подошел подвальный кот без имени, и я гладила его, а он бодался головой и смотрел на меня. Мы с ним тоже подружились. Есть мне не хотелось, хотя я все время вспоминала бабушкины вкусные супы и пельмени, и торт 'Картошка', и много что еще — но это был не голод, скорее, я скучала по еде. Ночью я выбиралась из подвала и смотрела на звезды, на тени веток на земле. Утром подкарауливала маму или папу. Они шли на свои работы, а я шла рядом — они меня не видели, но мне было хорошо и тепло рядом с ними, я даже улыбалась и бежала вприпрыжку, окликая их. Ни разу они не обернулись, но мне было и то хорошо. А когда на лавочке сидела бабушка (она начала сидеть через неделю после похорон), то я пряталась за ее спиной, иногда прислоняясь к локтю. Но на девятый день после Качелей опять пришла Та Тетка и надолго меня спугнула. Так было еще через полтора месяца, но больше она не появлялась. И вот еще что у меня было — я не могла ходить к Качелям, просто не бывала в той стороне двора, и все. И даже глядеть не хотела в ту сторону.
Зато я подружилась с Девочкой из Сирени и с Мальчиком. Или Дяденькой. Он сам не мог точно сказать, кто он. Девочка из Сирени появилась, когда я, по своему обыкновению, сидела в кустах сирени за белым домом. Она вылезла прямо из сирени, так что ветки почти не шелохнулись. Это была уже большая девочка — почти тетенька! На ней было белое платье, правда — длинное, и волосы были не заплетены в косу, а распущены.
— Привет! — девочка села рядом со мной на траву. — Я тебя давно вижу. Ты что тут?
— Я прячусь от одной Тетки, а домой попасть не могу, — сказала я. — А ты меня правда видишь?
— А что такого? — вытаращила глаза Девочка.
— Меня никто не видит, даже мама.
— Ой… — Девочка нахмурилась. — Та-ак… А где твой дом?
— Красный дом, знаешь? За этим белым красный. Первый подъезд. Не могу туда войти. И никто не видит, я здороваюсь со всеми, а они… Меня только Барсик видит. И в подвале кот еще. Меня заколдовали в невидимку?
— И давно? — спросила девочка, странно на меня глядя.
— Когда сирень еще цвела… Мы на дачу хотели ехать, — начала я. И рассказала ей, как было — как я понимала.
Девочка слушала, обняв колени руками.
— А чего ты с Той Теткой не пошла? Надо было идти, — неожиданно сказала она вместо того, чтобы посочувствовать.
— От мамы? Ты… Ты — дура! — закричала я самое оскорбительное слово, которое знала.
— Не я, а ты, — печально сказала девочка. — Та женщина — она водит через границы. Сейчас бы в хорошем месте была, а потом бы туда и мама, и все такое. А теперь фиг попадешь… Тебе придется остаться во дворе, понимаешь?
— А домой что, меня не пустят, да?
Девочка покрутила пальцем у виска.
— Дура, — снова сказала я и заплакала.
Она обняла меня.
— Ой, прости… ну ладно, прости, а? Тебя как звать?
Я сказала, вытирая слезы.
— Ничего, Динка, ничего. Ну что же теперь. Во Дворах тоже живут! Есть хочешь? А пить? Пойдем накормлю. У Сквера яблоки поспевают и вишня.
Мы с девочкой пошли мимо нашего дома в скверик, где я всегда любила гулять с мамой и папой. Обычно мама и папа медленно шли под ручку по аллее, а я носилась по траве, забиралась на невысокие развилки яблонь, за что мне и попадало от папы — он боялся всяких 'мальчишеских' выходок — за меня боялся. После Качелей я ни разу туда не ходила — почему-то мне казалось, что мне надо быть только во дворе. Мы прошли мимо Августы Михайловны, которая семенила к подъезду с авоськой. Я поздоровалась, и как всегда, меня не заметили.
— Ну вот, и так всегда, — пояснила я моей спутнице. — А тебя она видит?
— Неа, — помотала головой девочка.
— А тебя тоже заколдовали в невидимку.
— Нет, я сама себя такой сделала. Зачем людям меня видеть?
Мы вышли к переходу.
— Надо посмотреть сначала налево, потом направо, не идут ли машины, — сказала я.
Девочка засмеялась.
— Ну ты даешь. Нам никакие машины не страшны!
Правда, дорога и так была пуста, и мы оказались в скверике. Здесь гуляли пары, тетеньки с собаками, играли дети. Девочка повела меня к лужайке, заросшей елками, кленами, сиренью. На развилке клена — я бы сказала, ох как высоко, мне туда и не долезть, — сидел большой мальчик (или дяденька, я так тогда и не поняла). В клетчатой рубашке и зеленых штанах. Увидев нас — а он нас тоже увидел! — мальчик спрыгнул с клена и помахал нам рукой.
— Подожди тут, я у него попрошу еды, это Сквер, он хороший, — выпалила скороговоркой девочка из сирени. Я осталась в стороне, девочка быстро подошла к Скверу, и они о чем-то говорили, только вот слова не произносили — я просто чувствовала, что говорят. Как Барсик со мной примерно. Сквер подошел ко мне и положил руку мне на плечо.
— Дина, ты не бойся, — сказал он. Ой, а рта-то он не открывал, и слов не произносил. Ну точно как Барсик, но слова звучали в голове.
— Я не боюсь, — начала я вслух.
— А, словами хочешь? Ну давай словами, — заговорил и он. — Короче говоря, не бойся. Я угощу тебя яблоками, их ты сможешь есть, они вкусные. Приходи ко мне всегда, когда только захочешь.
— Куда к вам? То есть к тебе? Ты где живешь?
— Тут живу.
— Прямо в скверике?
— Я и есть Сквер.
— А, я думала это кличка. Я в фильме видела, что у плохих ребят бывают клички…
— Нет, я просто Сквер. Ты ради мамы осталась, я знаю. Но нельзя же все время только во дворе быть, ты ко мне тоже приходи.
— А почему мама меня не видит? — спросила я.
Сквер вздохнул.
— Так вот получается, что не видит.
— А почему ты меня видишь тогда, и ее, — я мотнула головой в сторону девочки из сирени.
— Зато меня самого никто не видит, — засмеялся он. — Из людей.
— А мы?
— Ну какие же вы люди!
— Дурак!
Потом, когда мы втроем долго сидели на лавочке под елью и говорили, я взяла 'дурака' обратно. Сквер и девочка из сирени объяснили мне, что да, они не люди. И я теперь тоже как они. Они объяснили мне, что качели меня убили — то есть, конечно, не убили по-настоящему, но мои родные думают, что меня больше нет. Что на самом деле надо было идти с Теткой, но вот теперь я осталась во дворе. Что такое бывает, что остаются.
— А вы тоже так, да? Остались?
— Нет, мы-то нет, — терпеливо объяснил Сквер. — Мы так и были. Но ты не бойся, ты научишься всему, что мы умеем…
— А как ты по деревьям так высоко лазишь? — встрепенулась я.
— Вот, и этому научу!
Я заплакала:
— Я хочу жить с мамой…
У мамы и папы через два года родился Сережа — мой брат. Я все время смотрела за ними. Когда мама ходила с животом, они с папой часто гуляли по скверику Сквера. Я сидела на дереве, а они мирно проходили подо мной, о чем-то тихо разговаривая. Я прыгала с самой высокой развилки (совсем не больно) и шла рядом, слушала, смотрела на их лица. У подъезда я их тоже караулила. И бабушку провожала в магазин. Потом мама и бабушка по очереди стали гулять с коляской. Я подходила к коляске и смотрела на Сережу, даже трогала его. Когда он стал побольше, то я увидела, как он мне улыбается. Он меня видел!
Дворик
Прямо посреди моего двора стоит тополь, а палисадники обсажены сиренью, белыми розами и боярышником. На детской площадке с ржавой горкой — высокая трава. Такой же двор рядом и у Рябины, только горка не такая ржавая и качели еще скрипят. А мой двор огорожен с одной стороны помойкой, где мусор вываливается из ящиков, а с другой выходит на котельную. Рано утром, до дворника, я иду собирать мусор. Не скрываясь. Если кто и бывает на улице в этот ранний час, то не обратит внимания на бомжа, похожего на тень, который, ворча и бормоча что-то себе под нос, наклоняется за очередной бутылкой. Все это я медленно отношу в помойные ящики, и когда люди идут на работу, меня уже не видно.
Качели в моем дворе висят на одном тросе, никто уже давно на них не качается. С горки тоже никто уже давно не катался — детей во дворе и нет. Иногда по ночам сюда приходят пить пиво, и тогда возле горки вся трава усыпана бутылками и окурками, пластиковыми стаканами. Еще к горке иногда приходят курить разные девушки. Одни кладут на траву большие доски в сумках — они называют это 'планшеты', усаживаются на ржавые ступени, а кто-то из них стоит перед подругами, размахивая сигаретой. Другие приходят без 'планшетов' и на ступени не садятся, стоят втроем около горки и разговаривают. Я не всегда слушаю их разговоры — там много имен и других слов, которых я не понимаю. Но один разговор я запомнил.
— …Обязательно лесу надо плеснуть водки, — говорила одна из трех подруг. — Тогда он выведет и даст грибов и ягод…
— Ну, это язычество, — сказала другая. — Еще и ленточки на березку вешать, ага!
— Язычество не язычество, так все делают, и правда — я на себе проверяла.
— Да ну, — вступила третья. — Это жертвоприношение духам.
Потом они что-то долго говорил о духах и о язычестве, в руках у них появилась бутылка пива из сумки.
— А прикольно, если этот дворик тоже живой, как лес у язычников.
— Дворик, да. Дворег, — смеялись они. — Наш курительный дворик.
— Если бы здесь был местный дух двора, — задумчиво сказала первая, осматриваясь вокруг и указывая на мой тополь, — он бы точно жил вот в этом тополе.
Остальные засмеялись.
— И мы будем приносить ему пиво, плескать и говорить: 'Здравствуй, Дворик!'
— Нет, не Дворик — а Дворег!
Так я стал Двориком. Или Дворегом.
Кстати, в тот раз они еще немного поговорили, и собрались уходить. Та, которая говорила про жертвоприношения духам, кинула пластиковый стакан в траву и засмеялась:
— Вот тебе от нас, Дворик.
А первая, которая узнала мой тополь, сказала:
— Не смешно.
— Что он, на меня дерево уронит? Или подножку подставит? — фыркнула та. — Яму мне на пути выроет?
— Или стаю собак нашлет… — третья кивнула на мирно лежащих в тени собаку со щенками.
Я бы мог. И дерево уронить, и железяку под ноги, и яму, и собак. Но не стал. Я пристально смотрел в глаза той, кто узнала мой тополь. Девушка в черном свитере, синих джинсах, с длинными темными волосами. Она не видела меня, конечно. Но стояла и смотрела на тополь, и уходя, сказала:
— До свидания, дворик.
С одной стороны, мне одиноко. Двор очень тихий, не проходной, только курильщики и распиватели пива навещают часто. С другой стороны, здесь спокойно. Стаи собак сменяют друг друга, я выращиваю их и лечу — ведь когда-то давно я знался с волками. Разница есть — как между теми из нас, кто живет в лесу, и нами — городскими. Нет, даже больше. Трусливые, зависимые, несчастные — загубленная человеком ветвь волчьего народа. Я иногда мечтаю, чтобы они вернулись к своему роду. Но все равно глубоко внутри собаки я чувствую прежнюю волчью душу, и показываю им картины и сны о волчьем беге под луной, о тенистых оврагах в лесу, о буреломах и весенних ручьях. Когда болела собака-мать, я лечил ее, а в сильные морозы согревал щенков, и убаюкивал их снами о волчьей стае. Обо всем этом — и о другом — я хотел бы рассказать девушке, которая назвала меня Двориком. И стал рассказывать.
В первый же раз, когда она снова пришла ко мне — вернее, во двор. Она шла с сумкой, в которой лежали пакеты молока. Села на горку и закурила. И тогда я подошел совсем близко и показал ей, как растут лопухи в лесном овраге, как течет по дну ручей. Девушка закрыла глаза и мысленно пошла по руслу ручья — оказалась в моей памяти. Она думала, что просто замечталась о чем-то и видит яркие образы.
Я стал часто видеть ее. Наверно, ей нравились мои образы-рассказы, ну и еще — все-таки мой двор лежал на ее пути откуда-то — куда-то. Она шла мимо палисадника одна, засматриваясь на розы и шиповник, и — думая, что никто не слышит — говорила с ними. 'Какие вы классные… вы уже расцвели…' Она трогала их руками, наклоняла высокие ветки кустов, нюхала и смотрела, и очень редко рвала — один или два цветка, как будто на память. И я стал их растить для нее — особенно.
Еще она часто, проходя мимо, оборачивалась к тополю и кивала ему:
— Привет, Дворик.
Она чувствует все.
Иногда она приходит с теми же двумя подругами. Черноволосая, которая бросила мне стаканчик, громко говорит о непонятных мне вещах и смеется. Еще одна — с короткой рыжей стрижкой, больше молчит и курит сигарету за сигаретой. А та, кого я жду, — она и с ними думает о розах и о моем тополе. А я показываю ей картины весеннего леса, которые сам помню. Она не понимает, откуда они — но я знаю, что она их видит.
Дина
Когда брат Сережа подрос, я стала с ним играть. Он меня видел, и мы часто бродили с ним в кустах, за домом, у гаражей и зимой на маленькой ледяной горке. А еще я помогала ему найти кота — но об этом расскажу в другой раз. И еще мы часами сидели с ним на дереве (о чем я тоже расскажу позже).
Все дети двора — и Таня, и Алиса, и Вера — с которыми я играла до падения с качелей, и мой бывший сосед Олег — лазили на это дерево, обычный американский клен. Пять стволов расходились, как спицы полураскрытого зонтика, из земли, наверху разделяясь на развилки и пуская толстые ветки. Можно было сидеть на развилках, на ветках, на наклонном стволе — и при этом оставаться лицом друг к другу. Дети сидели там часами, рассказывая анекдоты, страшные истории или распевая какие-то песни — про Олю, которую убили ножиком, про тетеньку, которая зачем-то убила своих детей тоже ножиком, и про еще какие-то убийства и несчастную любовь, и про то, как 'в зале горько все рыдали'. Таких песен очень много знали старшие девчонки — они привозили их из летних лагерей. Они росли с каждым годом, и были уже не те, с кем я сидела в песочнице до случая с качелями.
Я тоже росла. Почему — не знаю, но Сирень и Сквер, и Рябина (это подруга Сирени и Сквера, которая со мной сильно подружилась) сказали, что пусть я расту — это хорошо. Я буду как они, но стареть, как люди, не буду.
Они не стареют — вон Рябине уже семьсот лет. Когда мне это сказали, я вытаращила глаза:
— А моей бабушке шестьдесят. Семьсот — это сколько?
— Семь раз по сто.
— Но таких старых не бывает.
Мои друзья засмеялись и сказали, что Скверу намного больше.
Все они раньше жили в лесах, в оврагах, в полях. Почему они пришли в город? Или город пришел к ним? Они отвечали просто:
— Здесь надо быть.
Кому надо, почему, зачем? Кому надо? — спрашивала я.
— Городу надо, — говорили они.
— А кто город?
— Мы — город… Мы — дворы, — отвечали они неясно.
И я тоже стала частью города, частью дворов.
Я слушала разговоры старших. Они говорили о том, кто жил в дубовой роще на окраине города (его называли Дуб). Вернее, не на окраине. Окраина там когда-то была — а теперь роща лежала между старой частью города и новой, которую построили на лугу. Остатки луга еще оставались там, где теперь стояли коробки девятиэтажных домов. Во дворах росла высокая луговая трава и клевер. А вот роща оказалась между, и в нее теперь ходили люди из высоких домов. Они там пили, бросали бутылки и окурки, жгли костры и жарили шашлыки, но это бы еще ничего, — там убили человека. Женщину. Рассказывала об этом Рябина, которая, кажется, знала все и обо всех и дальше всех ходила в городе.
От людей Рябина переняла привычку курить. Чертя в воздухе огоньком от сигареты, она рассказывала про убитую женщину.
— Не нашла троп, испугалась очень. Бросилась бежать, все позабыла — и осталась в роще.
Стояла теплая летняя ночь, и мы сидели на бревнах за домами, неподалеку от кустов, где жила Сирень. В такие ночи на этих бревнах нас можно бывает видеть и людям: к большой компании никто не подойдет, а что сидят какие-то на бревнах и курят, разговаривают — так ничего особенного. Бревна лежали так, что мы сидели кругом. Меня брали с собой всюду, и никто не гонял и не считал маленькой, никто не говорил, что мне что-то не надо слышать или знать (как часто бывало, когда я еще жила с мамой и папой и бабушкой). Поэтому я знала все, что могла услышать и понять.
— В роще очень плохо, дубы умирают, паутина на них — все серо от нее, — говорила Рябина.
— А женщина? — спросил Сквер.
— Не помнит себя, не знает, куда идти, бродит среди дубов, в роще тоска стоит. Дуб не умеет ее пока вылечить, не знает, как… Ни вывести на тропу, ни вылечить…
Сквер ничего не ответил, но по его лицу я поняла, что дело плохо.
— И что будет? — спросила я.
Друзья какое-то время молчали.
— Может быть всяко, — медленно заговорил Сквер. — Сейчас лето, так что надежда есть. Вот зимой или осенью было бы хуже…
— Да, лето, — закивала Сирень. — Солнцеворот.
— Да в этой роще — какой солнцеворот? — возразила Рябина. — В ней всегда — словно осень, и раньше-то так было. Совсем силы нет у рощи, и Дуб едва-едва еще как-то там живет. А теперь будет что?
— Так что будет, если самое худшее? — снова спросила я.
— Она так и будет бродить между деревьями, и плакать, и бояться, вечно — станет серой, и роща станет серой… И Дуб ничего сделать не сможет. Как бы и сам серым не стал.
— А уйти из рощи? — спросила я.
— Когда хозяин из рощи уходит или из двора — это самое плохое. Не серым будет то место — а пустым, а то и черным, — сказал Сквер, и тут я поверила, что ему и правда тысячи лет, как о нем говорили.
— А то, что случилось со мной… я вот не стала серой же, да? И двор наш серым не стал? — забеспокоилась я.
— Нет, ты — нет, — заверили меня.
— А серыми кто становится? Ведь не только бывшие люди, но и хозяева, да?
— Может стать кто угодно серым, а человек еще бывает и пустым.
— А черным?
— И черным человек бывает. А мы — нет. Ни пустыми, ни черными. Только серыми… но это очень грустно и плохо…
Они как-то помогли Дубу, я тогда еще была маленькой, и знала только, что помогли — но меня с собой не брали и ни к каким делам не привлекали.
Я жила, узнавала о черных, серых и пустых Местах, о границах и дверях, о воротах и воротцах. Я умела вырастить лопухи и осоку, подрастить маленькие клены и кусты шиповника, полечить дворового кота и собаку. Я начала следить за своим двором и за играющими в нем детьми, особенно — за братом Сережей.
Когда он шел на угол сдавать бутылки из-под кефира, я бежала рядом с ним, и он видел мою тень. Потом я забиралась на дерево, на этот самый американский клен, и устраивалась на ветке. И Сережа забирался на развилку пониже. И я рассказывала ему об оврагах и лопухах, о тонких деревьях, что растут за гаражами, о стае собак на пустыре, об особом осеннем дне, когда можно видеть то, что за границами, и о летних праздниках в рощах и парке, где наши выбирают самые глухие овраги. Мы спускались, я брала его за руки и показывала, как танцуют — кружилась с ним, а он — со мной.
Однажды его заметила бабушка, которая как раз вышла в магазин. Мы кружились в палисаднике. Пять дворовых котов, затаившись в зарослях лопухов, смотрели на нас круглыми глазами.
— Сережа! — надтреснутым голосом закричала она. — Закружится голова! Что ты скачешь? Иди домой!
— Я танцую с Диной! — крикнул он.
— Что? С какой Диной? — голос бабушки стал совсем неслышным, и она сползла на скамейку у подъезда.
— С сестренкой! — крикнул Сережа. Он радостно подбежал к бабушке. Ему было тогда лет семь. — Которая умерла! Она на самом деле есть…
Бабушка утащила его домой. Я увидела Сережу только осенью. Он заметил меня — я вышла к нему из-за американского клена. Он вздрогнул.
— Мне нельзя тебя видеть. Уходи. А то меня положат в психбольницу. Мне так бабушка сказала. Тебя на самом деле нет.
— Дурак, — сказала я и, оторвав осенний желтый лист с клена, бросила в него. — А сейчас? Вот же лист? Я его в тебя бросила.
— Он сам оторвался, — насупившись, пробурчал брат. — Ты — галлюци… нация. Вот. Это опасно и плохо. Папа ругает бабушку, что она мне рассказала про тебя. Но она не рассказывала. Он же запретил рассказывать — она и не рассказывала. Никогда. Даже имени твоего не называла. Он ругает ее, а она плачет.
Я разозлилась на папу. Как он смеет обижать мою бабулю?! Мало того, что они все меня не видят и не узнают! Они еще и друг другу делают плохо! Кулаки у меня сжались, и мне стало аж черно на душе. Так нельзя — двор может стать темнее, серее, а если долго злиться или обижаться — то может стать и черным… Ух, но я не могу! Зачем он обижает бабушку?
— Дина? Дин? — Сережа перестал видеть меня и завертел головой. — Ты ушла, обиделась? Галлю… эта самая… нация — это не обзывательство. Это болезнь. Я не хочу же быть психом… — заплакал он.
Я снова стала видимой для него.
— Сереж… ты же сам понимаешь, что раз бабушка тебе ничего не говорила, и даже моего имени — то откуда ты про меня знаешь тогда? Это же я тебе сказала, что я твоя сестра и что я, по-вашему, умерла. Ну? Значит, ты меня не придумал. Ведь так?
— То есть я что ли не псих? — вздохнул он. — Пошли за дом. А то вдруг увидят. Они так видят, как будто я сам с собой разговариваю…
Мы сели за домом на покосившуюся низкую лавочку в лопухах, где краснели битые кирпичи. Это было еще одно наше с ним место, а теперь стало единственное, раз на дереве нас могут засечь — то есть его засечь и отправить 'в психбольницу'.
Три кота вышли из зарослей и сели вокруг.
— Ты тогда просто не говори бабушке. И папе не говори. А то он будет ругаться, а бабушка плакать. Мы с тобой просто будем братом и сестрой, когда ты на улице. Ага? — убеждала я. Я все-таки была старшая сестра — старше на семь лет. — И когда ты вырастешь, хочешь, я возьму тебя на летний праздник в овраг? Там весело!
Я вспомнила, как там весело, и мне стало сразу хорошо, хотя и начиналась осень, грустное время для дворов, хотя и важное. На летнем празднике — бешено, дико весело, все скачут, танцуют, кружатся, сами и в хороводах, и город наполняется новой жизнью…
Сережа хмурился, вздыхал, но постепенно успокоился, вытер слезы рукавом куртки.
— Дин… Ага, ладно, Дин, — пробормотал он. — Ты значит вот правда есть? Честное слово?
Я знаю, как говорят пацаны и девчонки во дворе: 'Зуб даю' или 'Честное пионерское'. Но для нас это вроде неправильные клятвы. И зуб мы дать не можем, и не пионеры нисколько. Поэтому я просто кивнула.
— Есть, конечно. Ну вот правда — есть.
Мы полазили еще по гаражам, по заборам, я показала ему тайник в ближайшем овражке. Через три дня он вынес мне пирожки — бабушкины. Мы снова сели на нашей лавочке за домом.
— А ты мне расскажи еще про это кино? Ну, про разведчика? — сказала я, вытирая лицо лопухом. Признаться, я вцепилась в бабулин пирожок с яблоками, чуть ли не урча, как кот в куриную ножку (видела я такое дело на помойке), и физиономия у меня оказалась перемазанной яблочным повидлом.
— Ага! — с готовностью начал брат, доедая свой пирожок, с капустой. — Значит, короче, немцы…
Так мы и жили. Зимой мы с братом катались на горке, весной шлепали по лужам, летом собирали тополиный пух за гаражами.
В овраг на летний праздник я его так ни разу и не взяла — наши сказали мне, что это скажется на нем плохо, и что людям (живым, то есть, людям, а не как я) видеть это не надо, разве что немногим, которые все равно будут потом как мы и уже решили. А то Сережа не сможет стать как все, а если не как все — ему плохо будет жить среди людей.
Брат рассказывал мне фильмах, о книгах, о молекулах и всяком другом, чему учат в школе, он даже учил меня писать и читать, еще он говорил мне о своих друзьях, а потом — о спортивной фехтовальной школе, куда стал ходить, но самое главное — о родителях и о квартире. О том, что переставили пианино, купили новый телевизор, где теперь висит бабушкина вышивка с сиренью. Сережа рассказывал, что бабушка обижается на папу и часто уезжает к младшей сестре — на месяц, на два… А мама плачет и пытается их помирить. Я злилась на папу и часто летом сидела в зарослях у подъезда, смотрела, как выходят то мама с отцом, то одна бабушка, и жалела бабушку, пыталась прикоснуться к ней, посылала ей навстречу котов, чтобы ей было приятно посмотреть на них, или собачек, чтобы ее порадовать, а зимой, в гололед, кружила вокруг нее, когда она шла по двору, и охраняла, чтобы она не упала. А отцу один раз подставила подножку. Он упал, шапка слетела с головы, но не ушибся — я поддержала.
Я рассказала Рябине (Сирень зимой обычно дремала в подвале), и та сказала:
— Зря ты его. Он все же отец. С этого серость порой и начинается. Не надо, Динка… что поделаешь.
Мы с братом виделись не часто — раз в месяц, а когда и реже. У меня тоже были свои дела, и у Сережи оказывалось все больше уроков, фильмов, книг, друзей, о которых он уже не успевал мне рассказывать.
Когда Сереже было лет двенадцать, он сказал, что бабушка заболела и лежит. Мама ухаживает за ней, папа вроде стал смирным и старается не мешать. Я плакала и бродила всю ночь среди репьев и лопуха.
— Она умрет? — спросила я Сквера. Мы с Рябиной сидели у него — в сквере — на лавочке у Ворот. Ворота — из двух елок, в самом центре самого большого газона сквера. Там — одно из его Мест. Сквер угощал нас сохранившимися на зиму яблоками. — Почему я могу вылечить кошек, а ее не могу?
Мои друзья молчали.
— Ну что вы? Я хочу ее вылечить. Я вылечу! — я переводила взгляд с Рябины, с ее пестрыми волосами, серыми, как кора дерева, и светлыми, как блики солнца на ней, — на темноволосого лохматого Сквера. Оба они в свитерах и джинсах — так ходят зимой все наши. А сейчас апрель, и часто еще бывает холодно. — Как попасть в дом? Рябина! Сквер! Как попасть? Не верю, что нет пути.
Они переглянулись.
Рябина нахмурилась.
— Дина, мы тебе этого не говорили раньше… просто чтобы… ты не осталась жить в квартире. Во дворе лучше. Ты потом поймешь. А может, понимаешь уже и сейчас. В квартире жить — плохо и для твоих, и для тебя. Вы извели бы друг друга, все нервы бы друг другу вымотали… Как человек, ты жить там не сможешь, а как домовой… оно тебе нужно? Это больно тебе будет. Но, в общем, обещай — что вылечишь и уйдешь обратно в дворы. Хорошо?
Я уже привыкла в Дворах, а как живут домовые — слышала, поэтому уговаривать меня не пришлось: я знала, что мне самой в доме родителей никто будет не рад, а скользить по ночам тенью и прятаться в углах — тоже еще та радость. И я не хочу мотать нервы моим родным — я хочу помочь. Поэтому я только хмуро кивнула.
— Все очень просто. Пусть твой брат тебя позовет через порог — сначала подъезда, потом квартиры. Тогда ты сможешь войти. И пусть потом позовет обратно.
Мне некогда было тогда думать, почему люди имеют такую власть над нами. Почему мы не можем сами войти и выйти, когда хотим. Впрочем, ответ напрашивался сам собой: их дом — это как наше Место. Мы же тоже не всех подряд пускаем в наши Места, и бережем их, как можем. Наши места — это мы, а дом, значит — это все равно что сами люди, все правильно и справедливо. Но это я все думала потом, а тогда просто не до того было. Я засела у подъезда и дождалась, пока Сережа спустится с мусорным ведром. Я пошла рядом к мусорке — она далеко от дома, и путь до нее лежит мимо сирени, нашего круга из бревен и палисадника с пролесками (они уже там, в земле, почувствовали весну).
Сережа сразу понял, что надо позвать. Когда мы вернулись с помойки, он открыл дверь подъезда и сказал тихо, оглянувшись по сторонам:
— Дина, входи. Я тебя приглашаю… зову… в наш дом.
И я почувствовала, что Порог могу перешагнуть легко. Подъезд был знакомым и родным. Вот на этом коврике перед соседской дверью на первом этаже в то время, когда я здесь еще жила, сидела красивая пушистая кошка. Когда мне было четыре года, я боялась проходить по лестнице мимо нее ('Там киса!') Вот почтовые ящики. А вот и наша дверь с цифрой шесть! Сережа открыл дверь своим ключом (он у него был на шее) и пробормотал:
— Дина, входи. Я зову тебя и приглашаю…
Вот и коридор — полки с книгами до потолка… Папа читает за столом в зале газету. Мама на кухне, судя по запаху — суп с фрикадельками… На окне зеленеет сочный алоэ… Но по всей квартире разлита печаль и серость… Такая — что уже скоро будет и пустота. И болезнь. И бабушка — я почувствовала — лежит в дальней комнате, ей одиноко и печально. В коридоре меня встретила новая кошка — Барсик уже был со мной, а эта черная пушистая из дому не выходила. Сережа про нее рассказывал иногда. Кошка уставилась на меня, выгнула спину, коротко зашипела.
'Тихо! Я своя. Я не задержусь здесь. У вас в Месте плохо — а я постараюсь сделать лучше'.
Кошка села, обернув хвост вокруг лап, замурлыкала, круглые желтые глаза стали щелочками. Сережа кивнул мне — дернул головой в сторону комнаты, где лежала бабушка — в самом конце комнаты, у самой стены. Здесь на окнах были цветы — я помнила названия с детства, с тех пор, как мне было пять лет. Фуксия… и… Нет, забыла. Дальше — не помню. Вышивка с сиренью висела прямо над ней. Бабушка смотрела перед собой прозрачными голубыми глазами. На столике перед ней стоял нарезанный лимон с сахаром, творог, — мама ничего не жалела. Но я видела, что у бабушки плохая кровь. Совсем плохая.
— Сереженька… сыночек, кто с тобой?
Я помнила, что она и меня называла 'Диночка, доченька'. Я знала, что ее собственный старший сын, брат мамы, умер во время войны от воспаления легких — ему было шесть лет. Мама родилась уже позже.
— Диночка, доченька… — бабушка поднялась и потянулась ко мне.
'Бабуля! Я пришла, но меня никто не должен видеть'.
Бабуля заплакала.
— Диночка, доченька, я знала, что ты есть где-то… Где-то живешь…
В соседней комнате зазвучали голоса.
— Заговаривается опять… Видит Дину, — говорил папа.
— Она вчера говорила, что и Валеру видела… — подала голос мама. Валера — это и был ее умерший сын, мой дядя, которого я никогда не видела. Я услышала, что мама за стеной плачет.
— Заговаривается, — повторил папа. — Мозг перестает правильно функционировать.
Ему важно было все объяснить с научной точки зрения. Тогда становилось ясно и не страшно.
Я села рядом с бабулей.
'Я хочу полечить тебя. Я знаю, у тебя плохая кровь. Я сделаю хорошую'.
— Голова болит и сердце… и в глазах темно.
Сережа сел за свой стол (он спал в одной комнате с бабушкой, и тут же стоял его стол, где он делал уроки) и стал заполнять дневник — вернее, делать вид, что заполняет. Сам он, не отрываясь, смотрел на нас. Кошка прыгнула на кровать и села в бабулиных ногах, таращась на меня, как сова.
Я села на край бабушкиной кровати и взяла ее за руки. Бабушка была мыслями не здесь. Я видела сад — красивый, тенистый сад, где растут гладилоусы, лилии, аквилегии, где маленькие пруды с осокой, и по земле скользят тени от веток яблонь, а под черемухой висят качели на веревках. Бабушка в платье, которые носили давно, до войны, качает на этих качелях мальчика в белой панаме. Потом я видела, что это уже не мальчик, а девочка — и сад другой… Такой же ухоженный, тенистый, яркий — но другой. А девочка — моя мама. И она уже не на качелях, а копается совком во влажном песке у пруда. Большой полосатый кот притаился в траве — охотится на лягушек. Заливаются птицы… Воспоминания бабушки путались, но одно оставалось неизменным — сад. На какой-то миг мне показалось, что бабушка похожа на нас, хозяев. Ей, может быть, хорошо бы было среди сада, рощи, парка или двора. Может быть, предложить ей сейчас уйти со мной. Но потом я представила, как Рябина или Сквер, зимой, в джинсах и свитере, согревают замерзших птиц, собак, кошек, бродят по своему Месту — и у них нет ни дома, ни кружевных салфеток, ни плиты, где можно готовить пироги или суп… а главное, во дворе она никогда не увидит Валеру и своего мужа, моего дедушку, Василия. Да и с Сережей придется видеться тайно, как мне. А дочь — мама моя — вообще будет думать, что ее нет…
'Бабуля?' — сказала я. — 'Тебе уже лучше. Ты скоро снова станешь ходить…'
Бабушка посмотрела на меня:
— Доченька. Не надо. Не хочу здесь. Все чужое. Ты ушла. Сереженька большой вырос, смотри. Я уже ему не нужна. Наташа с Игорем… не хочу, чтобы они ссорились. Пусть хорошо живут.
'Чужое, бабуля? А где не чужое? Твое где?'
— Там, доченька. В саду моем. Где Валера, Васенька. Там хорошо… Там я осталась, вся память там, все хорошее только там было. В прошлом.
'Бабуль, это не прошлое…'
Я была уверена, что сад этот есть сейчас. Я его чувствовала. Казалось, руку протяни — и вот он. Шаг шагни… Но здесь его нет, хоть проживи бабуля еще десять лет, двадцать. Сад так и будет все эти годы по ту сторону. Не здесь. За границей. И она будет только тосковать и вспоминать его…
— Бабуль, но тебе больно, голова болит, сердце. Страшно… Если бы можно было в сад — но чтобы не больно?
— Не знаю, Диночка.
— Я сделаю…
Я все-таки сидела рядом, смотрела сад, который был в ее памяти, бродила по его тропинкам и снимала боль. Я рассмотрела лицо Валеры, дедушки Василия, кота Буськи, лица бабушкиных сестер, веселые праздники в саду, песни под гитару и мандолину (до войны почему-то на ней любили играть). Шло время, наступал вечер. Я все сидела рядом, снимая боль, поддерживая бабушкины силы. Рядом со мной иногда садилась мама, поправляла бабушке подушку, поила ее кислой водой. Бабушка закрыла глаза и бродила по своему саду уже в дреме. Поздно вечером мама отошла, она сидела в соседней комнате, думая, что бабушка спит; папа пил валерьянку. Сережа читал на кухне. Он иногда приходил в комнату проведать, как мы.
А когда уже наступила ночь, кошка зашипела, подскочила, будто ее кипятком ошпарили — и уставилась круглыми глазами на женщину в синем платье, которая как-то вошла в комнату. Мы с ней сразу узнали друг друга — нам было не надо слов. Это была Та Женщина, которой я боялась панически еще с детства. Я вцепилась в руку бабули.
— Вы не заберете меня? — я не хотела идти, у меня были мои коты и кошки, Рябина, Сирень, Сквер, лопухи, сирень, летние праздники, а главное — Сережа и мама. Я знала, что бабуля уйдет — но она уйдет в сад, и там найдет своих, и ей будет хорошо. Она прожила последние годы, как лишняя в этом мире, думая только о прошлом и о тех, кто остался там.
— Тебя уже трудно забрать, ты стала частью Места, оно тебя не отпустит. Разве что ты сама когда-нибудь очень захочешь уйти. Но меня может не оказаться рядом. Мне будет очень жаль… Я тогда искала тебя — и на девятый день, и на двадцатый, и на сороковой. А потом уже не нашла…
— Разве вы не всех водите через границы? Разве мне нельзя просто быть рядом, когда кто-то… кому-то надо уйти? Ведь люди во дворе будут умирать. И тогда я вас снова встречу. Если мне будет нужно.
Женщина покачала головой.
— Не всех. И места там — тоже разные. Как ваши Дворы. Они связаны между собой — но различны. А есть такие, которые отделены… И я вожу не во все места. Тебя бы я отвела в твое…
— А как вас позвать? Вдруг нужно будет позвать?
Она назвала какое-то имя. Ниренн? Нивенн? Я не то чтобы не расслышала, просто имя звучало настолько не по-нашему, даже не язык другой (язык-то бы ладно), а словно значило не только звук. Я знала, что у всех наших, кроме таких имен, как Сквер, Рябина, Дуб, Репей есть еще имена — тайные, только для своих. У меня тоже такое есть. Мы этими именами старались друг друга попусту не называть. Значение этих имен было сильнее, чем 'Дуб' и 'Рябина'. Эти имена были все равно, что они сами. А у Ниренн или Нивенн оно было еще сильнее, чем у тайных имен хозяев. Это имя — не просто она сама, оно больше, чем она… Может быть, ее Место. Может быть, дороги и двери, которые туда ведут.
Бабуля спала, а Ниренн еще говорила что-то: надо встать на границе… пограничное время, пограничное место… Но эти слова, точно так же, как ее имя, значили настолько больше, чем звук, что часть смысла сразу же терялась. И вместе с тем, мне казалось, что я запомнила и поняла все.
— Когда у тебя здесь не останется ничего, позови… А сейчас мне нужно вывести Ирину через двери лета.
— Лета?
— Разве ты не видишь? Это летний сад. Это летнее место. До встречи, Дина…
Ниренн (или Нивенн) протянула руку, бабушка легко встала, и я видела, что это снова молодая женщина маленького роста с круглым детским лицом, в пестром и светлом летнем платье. Старая бабушка осталась спать — нет, уже не спать — на своей кровати. Молодая женщина Ирина протянула мне руку.
— Спасибо… было совсем не больно. Я увижу всех, Васю, Валеру… спасибо!
Я сжала бабушкину руку — молодой бабушки. Ниренн снова сказала 'до встречи', и я не заметила, как их не стало. Я не видела, были ли двери лета, куда они открылись и где. Видимо, пути туда все же тайна, и даже нам, живущим в дворах, нельзя их видеть.
Я бесшумно встала за спиной у брата на нашей кухне. Он сидел, втиснутый между колонкой, кактусом алоэ на подоконнике и столом, покрытым клеенкой.
— Сережа, выпусти меня из квартиры. Бабушка ушла в сады через дверь лета. Ей теперь хорошо. Она не хотела оставаться. Скажи маме, папе… Как-то сделай, чтобы они заметили, ну… что она уже не просто спит. Не плачь. Ей там хорошо, правда! Приходи завтра во двор, на нашу лавочку, ладно?
Бабушку хоронили через три дня. Пришла машина, и я не могла быть рядом с братом, я сидела в кустах в палисаднике, смотрела на плачущую маму. А потом, когда уже наступило лето, попросила брата отвести меня на кладбище. Мы пробрались туда в летний день. Там не живут Хозяева, но что-то там есть — что, я не знаю. Там тоска и ощущение пустоты. Рябина сказала, что там серое место, и лучше туда не ходить. Я попробовала поговорить с маленьким кленом, который рос в бабушкиной ограде. Он грустил. (Сейчас это огромный, раскидистый клен, его крона покрывает не только бабушкину могилу, но и еще несколько, я просто часто к нему ходила). Я часто думала о садах и о дверях лета… Спрашивала Сквера: он живет сотни лет, и я была уверена, что он знает. Он сказал, что таких дверей много, но открывать их могут только те, кто приходит оттуда сюда — к нам, такие, как Ниренн. Что раньше бывали и с нашей стороны умеющие видеть и открывать их, но все больше бывали не в наших краях, а в городе их сейчас нет. Что — как мы все знаем — между дворами есть двери и переходы, и есть от них ключи, и вот эти переходы в чем-то подобны тем дверям, но в чем-то и отличны. А ключи от тех дверей, значит, у нас отняты.
Я не грустила, что отняты ключи. Летняя пора принесла наши праздники, и в оврагах старого парка мы собрались со всего района, и даже пришли хозяева из дальних мест города, где строят дома-коробки, и больше ничего нет. Это называется 'спальные районы'. Между ними и нами, Центром, стоят еще рощи, а коробки строят там, где раньше были луга и текла небольшая речка. Те, кто жил в лугах и у речки, ушли дальше, но некоторые остались, чтобы место не было пустым. Они видели, как там плохо, пусто, безрадостно. Люди там пьют или дерутся, даже убивают. Тамошние хозяева, жители окраин, отличаются от нас, Центра: настороженные, взъерошенные какие-то, как вспугнутые вороны или помоечные коты, движения резкие и порывистые, и одеты они в темное, — таких было десять или двенадцать. Я подошла к одному, потащила за руки танцевать, и он долго не улыбался, просто молча кружился со мной, как будто думал о чем-то мрачном и тревожном. 'Ты кто?' 'Ворон', - ответил он. Потом его утащила танцевать наша Рябина. А рядом, также без улыбок, кружились двое. Он — высокий, худой, с серыми волосами, заплетенными в хвост. В хвост вплетена дубовая ветка, листья у самого пояса, у ремня. А с ним — девушка с длинными черными волосами, тоже настороженная и печальная, с венком дубовых листьев на голове. Рябина сказала потом, когда мы сидели на наклоненном стволе березы в овраге.
— Она — как ты. Это та, которую убили в роще у Дуба. Они с Дубом теперь вместе.
— Она не ищет дверей? — тихо спросила я.
— Она, наверно, уже совсем не смогла бы уйти, даже если бы были двери, — так же тихо ответила Рябина. — Она не помнит, куда идти, ее Местом стала роща.
А моим Местом окончательно стал двор. Сначала тот, где я родилась. Потом — несколько лет — я жила во дворе Рябины, где получил квартиру мой брат. Но собственный двор тянул к себе, стал печальным и бесхозным, а брату давно уже и так было не до меня, и я вернулась.
Но я забегаю вперед. До этого ведь я видела, как хоронили и маму, и отца, но приходила ли за ними Ниренн, или кто-то еще, и через какие двери они ушли — я не знаю. Вообще со дня смерти бабушки до смерти мамы прошло лет двадцать. Последние десять лет перед своим уходом мама кормила всех кошек двора — а я стояла рядом с ней, чуть касаясь плеча, и чувствовала, что на душе у нее делается от этого тепло и спокойно. Мы вместе смотрели на кошек, она знала их по именам, они стали ее семьей, прыгали к ней на колени, терлись об ноги. Когда она не вышла на улицу первый день, я еще не тревожилась. На второй день забеспокоилась, а потом увидела Сережу — он пил теперь много пива и облысел, проходил через двор быстро и уже много лет не разговаривал со мной, словно не хотел знать меня и обо мне. В тот вечер я подстерегла его: он шел мрачный под дождем. Я скользнула под его зонт, он отпрянул.
— Что с мамой?
Он отшатнулся и схлопнул зонт, задел меня спицей по лицу.
— Что с мамой? Позови меня в дом, я буду ее лечить…
Брат развернулся ко мне спиной и быстро исчез в подъезде. Потом начались 'Скорые', я уже знала, что это именно с мамой плохо. А потом у подъезда стоял гроб. Мне стало очень плохо, я спряталась в подвале и не выходила два дня. Когда стоял гроб, Ниренн (и никого подобного) не было рядом. Может быть, она увела маму прямо из дома, из ее комнаты, а может быть, за ней приходила вовсе и не Ниренн — но я об этом уже говорила. Через год умер и отец, и брат переехал, продал квартиру. У него появилась жена — уже вторая, первая его бросила еще при жизни родителей. Я перебралась в тот двор, поближе к брату. В новом дворе он пугался меня и ускорял шаг, когда я выходила из кустов боярышника. Как он живет, я узнать не могла, по лицу видела, что плохо. И вот я вернулась в свой самый первый двор, а Рябина рассказывает мне о брате, когда ей случается его увидеть.
Все шло, как шло, коты множились в подвалах и кустах, репейник буйно цвел у газовой будки и гаражей, Сирень за домом развела такие заросли, что даже мне там было ее трудно найти.
Я спрашивала Рябину, не стал ли Сергей пустым. Она говорила, что не чувствует пустоты, а чувствует только серую печаль. Я сама прокрадывалась к ним во двор и снова и снова подстерегала за машинами, видела его — и ощущала, что действительно, печаль есть, а пустоты пока еще нет. Но она уже была рядом.
Рябина
Летней ночью мы со Сквером, Двориком-соседом и Репьем сидели на скрипучей вертушке во дворе у Репья. Сквер поглядывал на угол дома. С вертушки был виден второй подъезд и свет по всему стояку квартир. Я курила. Ворону не нравится, когда я курю, а еще больше не нравится, как я добываю деньги на курево. Когда мне хочется подымить, я выхожу через арку дома Репья к магазину и встаю около урны. Люди видят скромную, бедно одетую старушку с протянутой рукой. Мне дают денежку, уже давно я узнала, какие сейчас деньги и что сколько стоит. Пятнадцать или двадцать рублей набираю быстро. Один раз молодой человек в цветной футболке стал расспрашивать, почему я попрошайничаю, есть ли у меня внуки. У него при этом болел зуб. Я сказала, что у меня никого нет, он пожалел меня и дал десять рублей, и зуб у него прошел. Иногда я также набираю денежки на корм моим кошкам. Ларек с кошачьим кормом находится в той же арке, и я покупаю 'Рояль Канин'. Это дорого, но хозяйка ларька думает: 'Вот сумасшедшая бедная старушка, наверно, очень любит своих кошек, заядлая кошатница'.
Но я не об этом. Сейчас-то я не старушка, а сама я. Болтаю ногами в камуфляжных штанах, затягиваюсь сигаретой.
— Прилетит Ворон, будет ругаться, — замечает Репей. — И звать тебя с собой.
Я вздыхаю. У Ворона во дворе плохо, может и правда, вдвоем нам было бы легче его держать, а мой двор бы хранил Дворик, который совсем рядом, развел бы тут свою стаю, рассадил бы белые розы… Но тогда в Центре нас будет еще меньше, чем сейчас. Сможет ли он удержать два двора, особенно когда там Строят (и вовсе не спешат 'валить на…', как я им написала, а пилят и сверлят и долбят и кладут асфальт, похоже, им это просто нравится), и когда Динкин брат Сергей ходит в облаке серой печали? И я ничего не могу сделать ни с тем, ни с другим. Если в Центре нас станет меньше, то это значит одно: серых мест и пустоты будет больше. Это закон. Центр — сердце города, здесь еще пока есть сила и помощь для всех, и пока центр живой, даже людям с окраин легче дышать и жить. И не людям, конечно, тоже. Это понимают все, поэтому мы молчим — и каждый знает, о чем молчат другие.
— Двор Дины… — сказала я. Двор Дины в этом году становится все серее и серее, зарастает лебедой и полынью, унылой, хилой. Он становится замкнутым, как коробка, в которую не хочется входить. Посреди двора ржавеет горка и рассыхается деревянный стол, на котором раньше играли в домино. Дети не играют (там и есть несколько детей, но играть они бегают в соседний двор — а это плохой признак), старики не сидят на лавочках (если им надо погулять, то идут в Сквер и кормят там голубей). Все чаще во двор заходят чужие подростки и алкоголики распивать пиво и водку, двор становится ничьим, — те, кто живут там, бегут из него, а чужие приходят на раз, на два (но им тут тоже не нравится, и они больше не возвращаются). Дина сидит в подвале с кошками, иногда ее не дозовешься, если и придешь. В палисадниках ничего не растет, этой весной поцвела немного чахлая вишня, остаток роскоши былых времен.
— И Дина, — сказал Сквер. Но думал он не только о Дине. — Знаешь, может случиться так, что все-таки ей надо будет уйти… Все же она решит. Я знаю, кто мог бы ей помочь.
Сквер
Она пришла во время слабого моросящего дождя. Села на скамейку под елью, достала пачку сигарет и стала курить. Ее не радовали цветы, которые распускались прямо перед ее глазами, не радовала моя зеленая трава и пение птиц в кроне моего клена. Ей всегда становилось радостнее, когда я встречал ее, а сейчас — нет. Ее окутывало облако серой печали. Я вышел из дождя и сел рядом с ней.
Нина
Эти ели всегда казались мне воротами — такими маленькими воротцами, которые ведут… я правда не знала, куда они могут вести. Но мне всегда казалось, что если я пройду через них, все изменится к лучшему. И еще мне казалось, что сквер надо всегда обходить по часовой стрелке — идти и идти вдоль по аллее и теряться в ней, растворяться среди шелестящих кленов, глядя вдаль. А потом я сворачивала и шла по тропинке между елями, проходила между ними, а порой и стояла под еловым шатром, прислонясь к стволу, и смотрела на небо сквозь завесу хвои. Я входила в воротца, и мир, конечно, не менялся, но что-то менялось во мне: я как будто знала, что поступала правильно. По каким правилам, кто их устанавливал? Неизвестно. Старые девы бывают суеверны и зациклены на мелочах. Наверно, мои обходы сквера по часовой и прохождения между елками — сродни многократному возвращению в квартиру на предмет проверить утюг, или другим ритуалам, описанным в специальной литературе. По психиатрии, или психологии, кто знает.
Здесь мне всегда было хорошо. Моя любовь, такая как она есть, никому не нужна, — только маме, но у людей бывают еще мужья, любимые, дети, а у меня этого не было, нет, и, видимо, не будет. И я привыкла говорить о любви с деревьями, птицами, собаками и кошками, и мне становилось легко, как будто я попала в семью. Даже не так — в Семью. Вот так и становятся старухами-кошатницами, или пациентами дурки. В дурку сдаваться я не собиралась, а до того, чтобы стать старухой, мне нужно еще лет пятнадцать… ну, или двадцать. И я говорила со сквером, придумывая себе, что он живой и слышит меня, что он мой друг. Я хвалила его аллеи, деревья, цветы, птиц, махала рукой кленам и касалась березки (нет, не как Есенин, не обнимала). Весной и летом уносила оттуда ветки сирени, рябин, дубков, зимой — сухую траву.
Но сейчас меня не радовало ничего. Я вырвалась на полчаса, попросив соседку посидеть с мамой. Мама умирает, может быть, ей осталась жить неделя, две, и я поняла, что мне просто хочется сейчас проплакаться. Мне никто не может помочь, и у меня нет друга, чтобы хотя бы помолчать об этом вместе, покурить вот так на лавочке, рядом… А мои деревья, кусты, птицы — они не могут мне помочь. Да я и не за это и не для этого их люблю. Но кроме них у меня никого нет… А сейчас нужен кто-то рядом, с кем можно было бы поговорить, хотя бы поговорить.
И словно отвечая на мои мысли, рядом бесшумно появился откуда-то дяденька бомжеватого, но не совсем опустившегося вида в штормовке, с лохматой седой головой, совсем не пьяный. Но, кажется, немного чокнутый, странный — впрочем, а кто сейчас нормальный. Как он подошел, я не заметила: наверно, совсем уже задумалась и зациклилась на своем.
— Простите, у вас не будет сигареты? — совершенно молодым голосом, очень вежливо сказал мужичок. Бывает: сам стареешь, а голос сохраняется. У меня вот тоже так. Голос семнадцатилетней девочки.
— Пожалуйста, — сказала я.
И так мы сидели и говорили юными голосами. Пока курили. И между фразами делали долгие паузы — затяжки.
— У вас какое-то горе?
— Да. Но… оно такое… ничего.
— Я хочу помочь…
— Вы не можете. Не надо. Давайте просто посидим. Не парьтесь. Это такой вопрос… В котором помочь нельзя. Простите, мне надо идти.
Рядом с бомжом было как-то спокойно, словно даже надежно, но я боялась, что разревусь, что уткнусь в его не первой новизны штормовку, нелепость всего этого пугала меня, и мне казалось, я схожу с ума. На какую-то минуту мне даже пришла мысль… Но мало ли какие мысли приходят в голову после бессонной ночи.
Сквер
Она отказалась от моей помощи. Репей наблюдал за ее подъездом, несколько раз он подходил к ней, когда она выходила по ночам на крыльцо курить. Он появлялся из темноты, из-за березы или куста сирени, и они всматривались друг в друга. Один раз он спросил, нужна ли ей помощь. Она сказала, что нет. Репей часто помогает дворнику, он ходит в вытянутом свитере, и жильцы дома думают, что он бомж и живет в подвале.
Репей видел, как к ее подъезду подъезжают машины скорой помощи — сначала раз в два дня, потом каждый день и по ночам. Потом были похороны, от них Репей (как и все наши) старается держаться подальше — зацепишь серость, и все, потом очень долго придется восстанавливаться и тебе, и месту. Оказывается, она жила не одна, у нее была мама, которой никогда не видели во дворе… Репей потом нарезал круги вокруг подъезда, ночью и днем. Она почти не выходила, только ночью, и уходила подальше от подъезда, на лавочку в кустах. Рябина подошла к ней там положила рядом цветок рябины (как раз было время цветения), прикоснулась к ней и постаралась коснуться ее души теплом и покоем. На какой-то миг это удалось… Дней через девять она пришла ко мне.
Нина
Мама умерла в начале лета. Это был последний близкий человек у меня на свете. На лекарства, памперсы, питание уходило две трети моей зарплаты в редакционном отделе. Я шуршу на службе неприметной мышкой среди двух таких же сравнительно немолодых дам. В прочем, степень немолодости разная: скажем, мне сорок (ужас-ужас-ужас), а Лидии Васильевне пятьдесят пять, а Риточке — сорок семь, но она молодится и 'отжигает' назло врагам так, что тинейджеры нервно курят свою травку за старым сараем. Мы работаем в издательстве при — страшно сказать — консерватории. Для меня всегда актуальна и свежа распространенная шутка про 'в консерватории что-то не так'. В нашей консерватории точно что-то не так. Мы с Риточкой — одинокие дамы, вечные девицы на выданье, которых, впрочем, давно уже никто не пытается никуда выдать, а гипотетическая принимающая сторона — соответственно, получить, Лидия Васильевна живет с сыном-студентом и ворчливым мужем-инженером. Но мы все бодримся, стучим клавишами компьютеров, ходим по врачам, сидим с больными родителями (то есть обо мне уже тут — в прошедшем времени, я отсидела свое с мамой), занимаем свое время по вечерам чем только возможно: телевизором, Интернетом, придумываем себе другую жизнь, которая могла бы быть, и живем, словно в коробке. Или так чувствую только я?
Входя под своды нашего здания, я ощущаю, что отсюда нет выхода. Наверное, у меня навязчивое состояние, но для меня везде, куда я попадаю волею случая, будь то скверик, садик, улица, двор, лес, пусть даже дом, берег, заросший бурьяном, вокзал, — везде я вижу словно бы какие-то еще дополнительные пути. То есть мне кажется, что, допустим, улица Энгельса ведет не только к оперному театру, как ей и от века положено. У меня есть ощущение, что многие улицы, аллеи, овраги, лестницы, переулки и арки, щели между гаражами и дырки в заборах ведут куда-то еще, кроме того места, куда мы все привыкли ими ходить. И это 'куда-то еще' я очень сильно чувствую. Кажется, сделай шаг, и ты выйдешь в другое место. Что-то ведет на берег реки, что-то — на цветущий луг, что-то в сад или к заросшим ряской прудам, из арки дома на улице Пушкина летом можно выйти к уютным коттеджам в лесу, где всегда июньский светлый вечер, а зимой — попасть в снежный лес вроде того, в Нарнии. Улица Гоголя — маленькая улица со старыми домами — словно лежит не здесь, а в тихом английском городке, и ведет к англиканской церкви со шпилям (в натуре нет никакой церкви, там теперь какой-то бар в конце этой улицы). На улице Королева — на самом деле русская проселочная дорога с огромным, в мой рост, бурьяном и репьем, и там всегда осень, и вдали видится покосившийся староверский крест. На самом деле на этой улице действительно есть староверская часовня, очень аккуратно теперь отремонтированная, а вдоль тротуара — дома, магазины, офисные здания. Но мне упорно видится русская дорога с русской же тоской, и век самое позднее — девятнадцатый. Таких ощущений я могу рассказать еще очень много, на самом деле число вариантов бесконечно. Так я и живу. Может быть, это просто моя фантазия. Но вот там, где я работаю, нет никакого 'другого пространства', там квадратная коробка, которая кажется мне серой и непроницаемой. В ней мы и работаем, и она словно ест наши силы, высасывает радость, как дементоры.
Пока мама болела и совсем уже лежала, я брала работу на дом, Лидия Васильевна разрешала. Подработок не было, а зарплата, как я уже сказала, вся уходила на маму. Потом пришлось занимать на похороны. За квартиру я жестоко задолжала, приходили ругательные письма от коллекторов, я ходила и утрясала вопрос. Без мамы мне одной оказалось надо не много, что там — пакет макарон на три дня, пачку кофе — на неделю; но теперь стоял вопрос о том, чтобы выплачивать долги. Это все было на фоне того, что мамы, если подумать логически, — нет, нет нигде, и никогда не будет. И при этом было неотвязное ощущение, что она есть, что она никуда не делась, и я говорила с ней целыми днями. На работе мне дали отпуск, и я начинала каждый свой отпускной день со слез до истерики, до икоты, до головной боли — и крепкого кофе, а заканчивала тем, что засыпала перед телевизором часа в три или четыре ночи. Со смерти мамы прошло девять дней. Мне сказали, что в этот день нужно сделать очередные поминки, и я, замазав следы слез тональным кремом, дошла до кулинарии и купила пирог с капустой. Мне хотелось делать, делать и делать что-то для мамы, как я привыкла последние три года, когда она лежала, и особенно последние два месяца, когда было совсем плохо. Мне было ужасно, что я уже больше ничего не смогу для нее сделать, и что уже не доделаю того, чего не успела сделать тогда… Меня кидало и крутило в водовороте вины и безнадеги. Мне говорили, что надо ставить свечки и подавать за упокой. В младенчестве тогда еще живая бабушка меня крестила, но этим моя связь с православной церковью на долгие годы и ограничилась. Сейчас я готова была не вылезать оттуда, ставить свечки, подавать записки, и если бы можно было сделать что-то еще — я бы делала с утра до вечера, с ночи до утра, лишь бы мне кто-то сказал, что еще бывает, чем еще можно проявить любовь к маме.
Из кулинарии я зашла в церковь, поставила свечку, подала записку. С пирогом в пакете вернулась домой и зажгла другую свечку — обычную, декоративную, из ИКЕА, нарезала пирог и села за стол. Как всегда, ощущалось, что мама — со мной, рядом, за столом, и не уходит. Ей грустно и плохо, как и мне. Казалось, мы навсегда связаны с ней и моей виной, и последними годами ее жизни, и памятью.
Я снова заплакала, опустив голову на руки, а руки — на стол. Потом, наверное, я задремала — но мне казалось, что я подняла голову и сквозь слезы посмотрела на свечку — пламя размывалось, словно плавилось. Вдруг мне стало легче дышать, и я ощутила ясность, и увидела (конечно, во сне — как иначе?) — увидела тропу. Маму можно вывести к реке. Где эта река, куда она течет, я не знала, но ощутила ее так, как будто не раз бывала на ее берегах. По этой реке, темной и широкой, по ночам, под низко склоняющимися ветвями и под звездами плывут лодки… В них, как в колыбелях, спят или дремлют те, кто вышел к реке — или кого вывели. Бывает же, что кто-то не может найти дорогу сам. Да и кажутся они детьми, и река укачивает их, как в люльках. Иногда лодка пристает к берегу — место, чтобы пристать, есть на обоих берегах по всей длине русла реки. А куда она впадает, я не знаю, и чувствую, что и знать мне не надо. Но на берегах лодки встречают. Если лодка пристанет к берегу, то маму бережно примут и отведут в дом — а что будет в доме, я не видела. Наверное, там мама-ребенок будет спать, отдыхать, набираться сил и расти. 'Мама, хочешь в лодку?' — я мысленно протянула маме руку, и мысленно же ощутила, что рука ребенка легла в мою ладонь. Нам обеим стало легче, сразу. И пока горела свеча, я вела ее к реке тропинкой, которую откуда-то хорошо знала и видела на ней каждый камень, каждый поворот. Я оставила ребенка-маму у реки. Лодка уже ждала — на носу мерцал фонарик, какой можно видеть в старых фильмах — со стеклами и свечой внутри. В ИКЕЕ такие тоже продают. Мама вошла в лодку и легла, как в колыбель, и я почувствовала, что она улыбнулась. Лодка качнулась и поплыла. Я смотрела вслед, и над рекой светили звезды, и фонарик отражался в воде… Лодка скрылась за поворотам под темными, низко склонившимися аркой ветвями береговых ив… Но фонарик словно был еще виден… Я встряхнула головой и очнулась, а свет все еще мерцал перед глазами. Это была моя свечка, почти догоревшая. Кажется, я проснулась.
Я погасила свечку и закрыла глаза. И снова увидела неяркий свет фонарика на реке. Дышать было легко, впервые за несколько лет захотелось двигаться, танцевать, петь, улыбаться. Забегая вперед, скажу, что я видела этот фонарик потом и с открытыми глазами, каким-то глубоким внутренним зрением. И во сне, конечно. Он мерцал еще дней тридцать. Потом спокойно погас, словно выполнил свою задачу. Это лодка пристала к берегу. Маму встретили — я не знаю, кто, но чувствую какое-то родство с теми, кто ждал ее на берегу.
Но это я забегаю вперед, а в тот день — еще даже не начало темнеть — я впервые с легким сердцем пошла погулять. Зашла в кофейню на углу и выпила красного вина за мамин добрый путь по реке. Наверно, я сошла с ума, снова подумала я. Придумала сказку с хорошим концом, и сама верю ей. Но, решила я, пусть я буду лучше радоваться выдуманному хорошему концу и надеяться на него, чем не надеяться ни на что и смиряться с тем, что я живу в коробке без дверей и окон, а мамы просто нигде нет, и что она — просто умерла. Без всякого будущего. Я решила так, и решение далось мне легко, как будто иначе и быть не могло.
Потом ноги сами вынесли в скверик, и я, улыбаясь, села на лавку под елью. Кажется, дней десять назад я горько плакала на этой лавочке, и меня пытался утешить странный бомж. Бомж ли? Или та мысль, которая пришла мне в голову, такая же дикая, как глюк с лодками, — тоже правда? Правда, как и лодки на реке?
Сквер
Я увидел ее снова, и не поверил глазам — и ничему другому не поверил, чем я чувствую других, будь то люди или не люди. И проводника, хотя их нет среди нас уже не первую сотню лет, а среди людей — может и бывают, но я сам не слыхал… Проводника я отличу от всякого другого. Что она — видящая тропы, я и раньше знал. Воротца мои она сразу почувствовала, и ходила посолонь. Но что она — открывающая двери? Проводник? Я вышел из-за ели и поклонился ей.
Нина
Мальчик, подросток, или юноша — словом, тинейджер в буквальном смысле слова, некто от тринадцати до девятнадцати — с копной темных волос, в камуфляжных штанах и штормовке, надетой поверх зеленой футболки, вышел из-за елки и поклонился мне. Я вздрогнула от неожиданности и вопросительно подняла брови.
— Здравствуйте, — сказал он голосом моего старого знакомого-бомжа. Да это и был тот самый бомж, почему он мне показался подростком, непонятно. Да, тот самый бомж. И волосы не темные, а седые. Только в прошлый раз мне казалось, что у него глаза какие-то водянистые, серо-голубые, а сейчас были зеленые, как листья клена. Сбои в матрице? Он распрямился и улыбнулся мне.
— Теперь вам лучше, — сказал он.
— Лучше, — кивнула я.
Он внимательно посмотрел на меня и полез в карман штормовки.
— Хотите яблок? С прошлой зимы остались.
Бомж достал зеленый кулек и развернул его — это оказался кленовый лист, а в нем хранилась горсть сушеных темно-красных ранеток. Зимой они осыпают черные ветки яблонь, краснеют под снегом. Он разложил угощение на лавке, но сам рядом не сел.
— Вот с той яблони, — показал он. — Она отцвела, уже есть завязи. Осенью снова будут. Вы ешьте, они сладкие.
Чтобы не обидеть, я взяла одну ранетку — она действительно оказалась сладкой и даже будто бы сочной.
— А где вы их сушите? Или вы не сами? Они на дереве зимой, я видела, — сказала я, чтобы заполнить возникшую неловкую паузу. — И птицы их не все склевывают.
— Да-да. Я их там и сушу. И храню там же — на холоде.
— А почему вы не садитесь? — спросила я.
Он осторожно сел на лавку по ту сторону кленового листа с яблочками.
— Вы в большом сером доме живете, — начал он. — Я знаю. У вас в доме в подвале живет такой… — бомж замолчал, подыскивая определение. — Я знаю, он дворнику помогает. Это мой друг. Поэтому я о вас знаю, что вы в том доме живете. Вы, если что, если помощь нужна — мало ли… досюда не сможете дойти. То вы к нему обращайтесь. Его зовут Репей.
Я знала этого человека — во дворе говорили, что у него незаконно, обманом купили квартиру, кинули его, и он остался без жилья, и теперь живет в подвале, начал пить. Один раз в мороз он спросил меня, когда я открывала дверь, можно ли погреться в подъезде. Я удивилась: что тут спрашивать? Конечно, можно. И еще недавно подходил ко мне, предлагал чем-то помочь. Наверно, ему нужна мелкая подработка, там, забить гвоздя или полку прибить, починить кран.
— Помощь? — медленно спросила я. — Он предлагал. Я обязательно… если что.
— Вы же отказались. А теперь, вижу, все равно все хорошо стало… — задумчиво сказал бомж.
— Не стало, — ответила я. — Просто у меня… отходняк, наверно. Я просто долго нервничала, была в напряжении, и, наверно, мозг включил защитную реакцию. Эйфорию. Завтра снова все вернется… — и поскольку мой собеседник молчал, видимо, не понимая, что вернется завтра, я объяснила. — Осознание, что все плохо.
— Эйфорию? Включил? — бомж покачал головой. — Это что?
— Ну, просто я расслабилась… как бы на время забыла… отвлеклась.
Он медленно повел головой слева направо: нет. Мне снова показалось, что это не средних лет седой дяденька, а подросток с темными волосами.
— Нет, вы не отвлеклись, а на самом деле стало хорошо. Я чувствую. Вы сделали такую вещь… которую надо было сделать.
— Откуда вы-то знаете?
Он нахмурился и вздохнул.
— Не могу сказать. Знаю, и все.
— Но я ничего не делала.
— Не может быть. Вы сделали. Я в таких вещах не ошибаюсь.
— Бред какой-то… и мы с вами, как два придурка, — вспылила я, и сразу же мне стало стыдно. — Извините. Простите, пожалуйста. Я просто… Маму похоронила. Ну вы же сами понимаете. Что можно сделать, когда близкий человек умер? Да ничего!
Он смотрел на меня — снова его глаза казались ярко-зелеными, и было ощущение, что он видит меня насквозь. Видит, что я сама не верю тому, что говорю.
— Ну, если умер, то да. И правда, что тут можно сделать… Разве что вот — тропу ему открыть, видно, так… — еле слышно пробормотал мой новый знакомый. Хотя какой знакомый, если даже имен друг друга мы не знаем. И, похоже, он не торопится называть свое или узнавать мое.
— Вы про реку? — спросила я. Если он говорит про тропы, то почему бы мне не сказать про реку. Если мы оба несем чепуху, то он начал первый. Но мой вопрос удивил его.
— Реку? — бомж мотнул лохматой головой. — Не знаю. Там есть река?
— Река… Там есть, — вдруг прорвало меня. — А еще над ней горят звезды… ночью. А днем, я знаю, над ней летят птицы. Я не видела реку днем. Но знаю, над ней пролегают воздушные пути птиц… Я несу чушь? Эти пути, пути воды, воздушные пути, они… пронизывают весь мир, — меня несло. — Это мне все снилось. Я уснула и видела сон.
Мой собеседник предостерегающе протянул руку.
— Не надо дальше. Это ваши тайны, — поспешно сказал мой собеседник. Мне показалось, он испугался или растерялся. — Это тайны проводников. Как тайные имена. Не знаю, можно ли… И хочу ли я их знать.
— Мы похожи на двух придурков, — снова резко сказала я, чувствуя, что бредовый разговор уносит нас обоих в неведомые дали. — Каких проводников еще? Давайте четко и ясно, без тайн мадридского двора.
Я посмотрела на него в упор. Мне надоело кружить в этом разговоре, как в старинном менуэте. Или мужик экстрасенс и что-то чувствует, или блефует, или я теряюсь в догадках, о чем вообще речь.
— Когда вы сказали, что я что-то 'сделала', вы имели в виду мой сон? Или то, что я поставила свечку? Или вы вообще говорили не об этом?
— Я про свечку ничего не знаю. И про сон, — бомж был тверд, как партизан на допросе. — Я не знаю, как вы это сделали. То есть не знаю, как именно. Знаю, что вы открыли тропу вашей матери в хорошее место. Вы проводник. Все, больше я ничего не знаю и знать не могу и не должен. И про эти пути знать мне не надо. Даже дорожники не до конца знают такие вещи.
— О Господи… — только и могла выдохнуть я. — И вы, конечно, мне ничего о себе не расскажете, — добавила я, помолчав.
'Не расскажу. Нельзя' — мне показалось, я прочитала его мысли. Но вслух он сказал совсем невпопад.
— Я ваш друг. Я вам не смог помочь тогда. Но если что, я помогу, чем могу… Если вдруг что — другу моему, Репью, только скажите. Ладно?
Я кивнула. Мне почему-то вспомнился Льюис, которого я много читала: 'Причин было много, одну я знаю, но не могу тебе сказать, а другую знаешь ты, и не можешь сказать мне'. Он не хочет знать про мою реку, вернее — про мой сон, и считает, что ему это знать нельзя. А мне точно также нельзя (считает он) знать про то, откуда все это знает он.
— А кто такие проводники, дорожники и все вот эти слова? Это тоже не обсуждается, или мне предлагается самой погуглить? — я все-таки, кажется, не смогла скрыть легкое огорчение в голосе. Не обиду, а какой-то облом, разочарование — мол, что за разговор, когда не говорят прямо и честно основного и важного?
— Я не знаю этого слова — погуглить, — мужичок, иногда кажущийся подростком, повторил слово, похоже, как попугай, запомнив на звук, — Дорожники — вы не знаете их. А проводники — те, кто умеют так делать, как вы. Открывать тропы. Вы проводник.
— Могильщик пролетариата, — усмехнулась я, но он, кажется, совсем не понял.
— Вы много говорите… Я не умею так много, — вздохнул он. — У меня путаются в разуме ваши слова, и они все не о том. Мне только надо было это вам сказать. Две вещи. Что вы проводник и что я ваш друг. И еще одну. Вы хорошая… — взгляд его ярко-зеленых глаз стал совсем теплым, как и голос. — Я всегда хотел вам помочь.
Как его зовут, он тоже не сказал. У меня осталось впечатление, что то ли он Женя, то ли Валентин — странно, оба имени одновременно и женские, и мужские. Вернее, что зовут его вообще не так, но каким-то из этих двух имен он вроде бы назвался. Это я вспоминала уже потом, и решила остановиться на Жене — ему все равно, имя-то не настоящее, типа 'Юстас-Алексу', а мне надо его как-то мысленно называть. Мы сидели еще долго, я уела все ранетки, а сама сходила в ближайший магазин и купила вина, два пластиковых стаканчика, плитку шоколада — и мы снова уже вдвоем выпили за хороший, добрый путь моей мамы по реке. Что-то мне подсказывало, что у Жени-Валентина денег нет, а угощение со стороны дамы могло выглядеть не очень приличным, но поминки были в любом случае правильным поводом: я их устраиваю. Поэтому мой вклад в пир на лавочке был естественным. Мы на брудершафт не пили, но после второго пластикового стакана перешли на ты.
Я все-таки пыталась допытаться.
— А почему я — проводник? — спрашивала я. — Как становятся проводниками? Почему я не знала этого раньше?
— Я мало знаю об этом. Я-то не проводник, — объяснял Женя. Я бы сказала, терпеливо объяснял. — Я знаю тропы только в одной части мира. Вот в этой, где мы, ты и я.
— В нашем городе? Ты это имеешь в виду?
— Да, и в нашем городе, и просто — в нашей части мира, — повторил он. — Когда люди уходят, как твоя мама, они уходят в другие части мира. Мы не знаем, что там.
— В другие миры? — уточнила я.
— Нет, нет, мир один. Части разные. Ну, вот как ветки на дереве. Дерево одно, а веток много… Или видела когда-нибудь, деревья из одного корня растут, стволы?
— А река, что же она? Течет в другом мире, да? То есть в другой части, на другой ветке?
— Река — она, наверно, через все части мира течет. А вот выход на нее знают проводники. И пути птиц, и пути воды — через все части, или 'все миры', как говоришь ты. И еще другие места есть. Одна знакомая… рассказывала. Для кого из уходящих — река, для кого — еще другие двери. Ты проводник, ты все это будешь знать.
— А как я это узнаю?
— Так же, как про реку…
— Но почему я стала такой?
— Не знаю. Может быть, у вас это в роду? Я мало знаю. Или, может, ты была проводником до того, как пришла.
— Пришла — к тебе, сюда? — спросила я, но уже чувствовала, что его слова имеют другой смысл, от которого мне стало не по себе, словно я была в комнате, а тут распахнулось окно, и ворвался пронзительный ветер.
— Пришла — ну, как люди приходят. Они же живут здесь, а потом уходят в другие части мира — по реке, или дверями… Но прежде они приходят откуда-то, ведь так?
— Прежде рождения? — я поежилась. — Лучше не знать, наверно… Даже думать как-то страшно.
— Но почему? — мой собутыльник и новый друг совсем не понял всей жути, которая охватывала меня при этой мысли. — Если ты откуда-то пришла, значит, ты туда вернешься и снова будешь там. Это же — вернуться домой, в свое место. Это же хорошо! Ты же — это и есть ты. Какая там была, какая будешь. Такая хорошая, и можешь такие вещи делать… Что тут страшного?
— Ну… — я судорожно сглотнула и потрясла головой. — Что ты так легко говоришь про другой мир, про то, кем я была до рождения… Я не привыкла.
— Тот же мир, — повторил Сквер. — Просто место другое. И хорошее место, раз ты из него пришла. Раз твое место, значит, хорошее. Ты проводник, ты сама все узнаешь лучше меня.
— Так тогда, получается, и ты узнаешь, когда… в общем, все мы не вечны же.
Он промолчал.
Потом мне казалось, что этот пьяный разговор, бредовый по самой сути, мне приснился или примерещился.
Мне показалось, что — да, он промолчал, это совершенно точно, но словно бы из молчания было ясно, что он здесь навсегда.
— Это плохо? Тебе грустно от этого? — как мне потом казалось, быстро спросила я.
А он весело ответил:
— Нет, что ты! Как может быть грустно от того, что я — это я?
— Людям — бывает… — сказала я.
Потом как-то так случилось, что он сказал, что ему пора. И это не было вежливым поводом уйти, я чувствовала, что и в самом деле — пора. Поблагодарил за угощение, за вино, и сказал, что всегда рад будет видеть меня здесь. Именно здесь.
— Ты в сквер гулять приходи. Даже если рукой помашешь или мимо пройдешь, я всегда рад. А если захочешь поговорить, позови или вот просто сядь на эту лавку. Я выйду и сяду рядом. И ты не думай, я совсем не обижусь, если ты не сядешь… или если ты долго не придешь. Просто я буду волноваться, вдруг с тобой что-то случилось. Ты про Репья только не забудь, — повторил Женя. — Если тебе будет нужна помощь, а ты сюда не сможешь прийти, ты ему скажи. Выйди на крыльцо, позови: Репей.
Он прошел в воротца елей и растаял в сгущающемся уже сумраке. А я еще долго сидела в сиреневых сумерках, глядя, как над пятиэтажками всходят первые звезды.
Дома я все-таки погуглила дорожников. Конечно, это были, во-первых, работники дорожной службы, во-вторых, древнеримские описания знаменитых римских же дорог, в-третьих — какое-то ВИА времен, когда еще были ВИА.
Я уснула, улыбнувшись маминой фотографии, и видела во сне фонарик на маминой лодке.
Сергей. 'Уйди, назойливый мираж'
Лето не обещало ничего. Просто удивительно, как много раньше обещало лето: тут тебе и дача, и качели, и речка, и поездки на птичий рынок (уж не помню, что мы там покупали с друзьями — то ли кроликов, то ли дафний для рыб, то ли самих рыб, важен был сам процесс), и лазание по гаражам. А позже — турбазы, дискотеки, красивые и загадочные девушки, брожение по лесам. А еще позже — другие страны. А сейчас — ничего. Нет, конечно, можно взять путевку в Турцию или Египет, зарплата позволяет. Или даже нет, можно взять и уехать на машине в тот самый лес, который был раньше рядом с нашей дачей. Позапрошлым летом я так один раз сделал. Дачный поселок зарос травой, как-то самозагадился, как бывает с местами, где никто не живет — на всем печать бедности, разрушения, угасания. У богатых людей дачи далеко не там, а у небогатых нет денег и времени ухаживать за своими участками.
Так что отпуск я летом не брал. Приходил с работы, принимал душ, варил пельмени или разогревал в микроволновке пиццу. Общения с друзьями хватало и в выходные — друг, собственно, остался всего один, Олег. Он приходил с водкой и изливал душу. Свою. Моя почему-то его не интересовала уже лет десять как. Остальные друзья были в интернете — кто переехал в Москву, кто в Америку, и со всеми ними мы общались по принципу 'Как дела? Нормально!'
В принципе, это и хорошо, что времени было после работы достаточно. Сейчас скачаю какой-нибудь фильм, посмотрю. Еще скачаю — еще посмотрю. Книжка вот недоперечитанная лежит, каждый год перечитываю 'Властелина колец'.
Нет, я — я нормально. Помню, как в юности с университетскими друзьями натолкнулись мы на кодлу гопников. И один из наших, звали его Денс (так тогда, кажется, звали всех Денисов) попытался обратиться к одному из гопников:
— Слышь, браток?
Тот посмотрел с нескрываемым презрением и процедил:
— Твои братки по канавам резаные валяются.
Вот и мои ровесники, мои тогдашние братки, в основном, валяются. Не то чтобы по канавам, но… Кого постиг передоз, кого — цирроз, одного — даже инсульт; а кто — даже и ничего, дождался даже уже ранних внуков и видит перед собой ровную финишную прямую. Нет, кто внуков — тем хорошо. А по сравнению с теми, кто на игле, например, — хорошо мне. Только вот засада в том, что никак я не хочу видеть финишную прямую, не хочу вписываться в цикл 'весна-лето-осень-неизбежная зима' человеческой жизни. Когда я дома, я выпадаю из течения времени, я забываю, сколько мне лет.
Наверно, что-то странное во мне все же осталось. В детстве я придумывал себе невидимых собеседников. Да, конечно, все придумывали, но у меня они были более чем реалистичные. То есть невидимый друг у меня был всего один. Но мне хватило. И родным моим хватило, когда все это узналось.
Собственно, это была моя погибшая в раннем детстве сестра — еще до того, как я родился. Удивительно то, что о ней в нашем доме не говорили. Бабушка, как потом я узнал, хранила у себя ее фотографии. Когда бабушка умерла, мама достала все ее письма, открытки из коробки, которую она хранила на полке гардероба. Мне было уже пятнадцать лет, и мама показала мне фотографию маленькой Дины — в коротком платьице, с совочком, на дорожке в дачном саду. А до этого я таких фотографий в доме не видел. Это было странно, как я потом понял, но дело в том, что мой папа был ярый материалист, преподаватель истории в школе, и он был резко против всякого напоминания о смерти в доме, чтобы это 'не повлияло на детскую неокрепшую психику'. Он всегда говорил именно такими фразами. Но, несмотря на отсутствие фотографий и упоминаний погибшей Дины, что-то на мою неокрепшую психику все же повлияло. Как потом сказал маме врач, может быть, при мне об этом случае говорили соседки, я их слышал, но по малолетству не понял, а в памяти отложилось. Сейчас сказали бы, что отложилось 'в подсознании', но у советского человека, особенно ребенка, кажется, подсознания не предполагалось. Так или иначе, из подсознания ли то, или из других каких недр 'неокрепшей психики' мне стала являться во дворе сестра — лохматая девчонка в джинсах и футболке, старше меня на шесть лет, которая рассказывала, что живет она с какими-то 'хозяевами дворов'. Это что-то вроде домовых или леших, только они — дворовые. Наверно, это я сочинил сам (про леших-то я читал, папина цензура до моего круга чтения настолько не дотянулась), просто мое 'подсознание' вложило эту сказку в уста выдуманной сестренки. Мои выдумки дошли до такой степени, что в день, когда умерла бабушка, я позвал якобы-сестренку в дом и будто бы оставил ее с бабушкой, надеясь, что 'призрак Дины' вылечит больную. Конечно, этого не произошло, и мое подсознание лишь просигналило, что бабуля умерла — я сидел на кухне, и мне примерещилось, что 'сестра' коснулась моего плеча и сообщила, что все кончено. Она сказала, до сих пор помню эту фразу: 'Бабушка ушла через двери лета'. (Надо сказать, 'Дверь в лето' я прочитал значительно позже, так что откуда это выражение появилось в моей неокрепшей психике в те годы, я не знаю).
А еще было такое, будто бы Дина обещала повести меня на какой-то праздник, шабаш этих самых дворовых существ в парке в самую короткую ночь. Но так и не повела, то есть я не пошел. Хорош бы я был в темном пустом парке, спотыкаясь о сучки и разговаривая с собственным глюком. Гость у Воланда на балу…
С годами я научился отмахиваться от этого видения. Например, я помню, что когда тяжело заболела уже мама, 'Дина' снова появилась на моем пути, она оказалась под моим зонтом (шел дождь) и стала тревожно спрашивать: 'Что с мамой?' Я захлопнул зонт и просто отвернулся.
Я теперь понимаю, что это моя собственная тревожность, особенно в предчувствии беды, потери близких людей облекается в такие формы. У большинства людей это происходит во сне, а вот у меня — в таких визуальных образах. Но с тех пор на появление 'глюка' у меня однозначно якорь: 'Дина' — вестник смерти или по крайней мере неприятностей. Неприятно то, что якорь этот не привязан к конкретному месту: я ведь переехал из родительского двора в другой, так и в этом дворе глюк появлялся. Оно и понятно: это моя материализованная тревожность, а она никуда, собственно, не девается. Праздник, который всегда со мной.
А еще у меня ушли две жены. Первая прожила со мной всего два года и ушла со словами 'Это была ошибка'. Просто разлюбила. А вторая — мы прожили девять лет. Она полюбила другого и уехала с ним в Германию, туда же увезла и нашего сына. Да, у меня есть сын, и мы иногда общаемся по скайпу.
Я вышел на балкон с куском пиццы и бутылкой 'Хольстейна' в руках и посмотрел во двор. Двор был пуст. На ржавой горке, на самой ее верхотуре, сидела девчонка в камуфляжных штанах и зеленой футболке с пестрыми, словно мелированными волосами. Мне показалось, что на плече у нее сидит здоровенная ворона (или ворон, или грач, в общем птица такого типа). Девчонка подняла голову и помахала мне рукой. Птица взмыла с ее плеча и сделала круг над двором.
Дина. 'Где Ваши друзья? — Позабыты. — Где Ваши родные? — В земле'
Из подвала выходить не хотелось. Сумрачно, темно… В темноте я вижу, но тут и видеть, к счастью, нечего. Трубы да кладка стены. Можно не думать ни о чем. Простудиться я все равно не простужусь, хоть просижу здесь сотни лет. Как привидение старого замка. Рядом сидел взъерошенный, похожий на шар Барсик и мерцал глазами. Мы с ним два призрака этого дома. Двор зарастает полынью и бурьяном. Сирень за домом ушла в сирень (то есть хозяйка сирени — ушла в кусты сирени) и не показывается никому. Сквер… что же, Скверу хорошо. У него цветут цветы, поют птицы… Я думала о своих друзьях, как о чужих. Да и правда — кто они мне? Чужие существа, нелюди, которые всегда были здесь и всегда будут только здесь. Им и отсюда не выбраться, и ничего здесь не изменить.
Да, я знаю все их тайны. Когда-то это были 'наши тайны'. Когда-то это имело смысл. Теперь — нет. Для кого держать город? Я помню, еще в моем детстве (то есть во времена, когда должно было бы быть мое детство) на соседних улицах стояли деревянные дома, с наличниками, с палисадниками. Теперь там магазины, офисы, а на месте одного снесенного дома так ничего и нет — полынь и бурьян, вроде как у меня во дворе. Это место черное. Хозяин его нехорошо как-то ушел. Я его сама не знала близко, но говорила Рябина. Город уже не наш. Не их. Им, по-хорошему, надо уходить в оставшиеся еще вокруг города леса и рощи, перелески и что там еще есть… Пусть в городе останутся только люди и пустые дворы. Какая разница? Все равно все люди умрут…
Все мои родные ушли. Сергей не ушел, но это уже не он. В этом полнеющем лысом мужике ничего не осталось от моего братишки. И мне уйти некуда. Позвать Ту Тетку — Ниренн? Я уже давно понимаю, что в упор не помню, что она мне говорила, — поняла, что забыла и перепутала все ее слова. Перекрестки какие-то, пограничное время, место… Да, и к тому же — очень я ей нужна. Призрак из сырого подвала — прямо вот в двери лета, в цветущий сад! Непосредственно! Я усмехнулась… Сама не видела своей усмешки, но Барсик вскочил и зашипел. На меня. Я провела ладонями по своему лицу, ощупывая мышцы — и поняла, что это была не усмешка, а оскал, вроде звериного. Я уткнулась лицом в колени, кусая губы, надеясь расплакаться, но слез не было совсем. Барсик ткнулся головой в мой локоть…
Сергей. Явь и Навь
Завтра выходной… Значит, вечером можно тупо потыкать в клавиши. Все превосходно. Осталась еще целая одна банка пива. Фильмы надоели, просмотрел уже три серии сериала… Порыться на ю-тубе что ли? Или почитать френд-ленту на ночь глядя? Да, и на ю-туб ходить не надо. Вот как в ленте ролики понавешаны. Вот эта приятная, судя по юзерпику, девчонка — зафрендил ее через городское сообщество. Нет, ничего такого, девчонка годится в дочери, а я не Гумберт. Просто приятное лицо, немного индейского типа. Длинные черные волосы… Зовут Ритой. Интересуется волками. Она сама поет и играет на гитаре, вот, опять вывесила свой ролик. Она обычно поет какой-то фолк глючный. Дай-ка послушаю… В пестрой блузке этнического стиля, с кучей деревянных фенечек, все совершенно в образе, ага. И поет неплохо… Правда, кажется, про зиму, а сейчас лето.
Долгие ночи пахнут сухой полынью,
Если шагнешь за двери — душа остынет.
Старые люди скажут не для забав:
Если и зимний ветер к теплу взывает,
Значит, идет-кружится пора лихая,
Время, где перемешаны Явь и Навь.
Так затворите окна, закройте двери:
Людям в домах их тесных дано по вере,
По очагу и горсти живых углей,
Хватит тепла — до сумрачного рассвета,
Верьте, на ваш очаг не накличут беды
Те, кто в ночи скитаются по земле.
Пусть ваши ставни будут закрыты плотно:
Вот у плетня маячит огонь болотный —
Только помедлишь — сразу приворожит,
В свете зеленом — девичий облик нежный:
Только промедлишь, душу похитит нежить,
Выйдешь за ней в тумане — ни мертв, ни жив.
Дальше я слов не разобрал… просто потому, что пиво дало о себе знать, и глаза у меня слиплись. Так и уснул за компом… Ну и ладно, Явь с ней, с Навью…
Рябина
Они бежали рядом — как часть прайда. Динкин Барсик и мой спасенный Тигрик. Барсик, как предводитель, чуть впереди. Люди-то видели бы одного Тигрика, деловито бегущего по двору, но он-то как раз бежал за старшим.
Я сидела на горке и грелась на солнце, опираясь спиной на одни перила и задрав ноги на другие. Ворон был высоко в ветвях тополя, но это не мешало нам быть вместе. При виде котов Ворон спланировал к нам и сел на перила горки рядом с моим плечом. В мыслях Барсика мы сразу увидели Дину. Вот она рычит, скалит зубы, лохматая, бледная, как будто не хозяйка двора, а жительница подвала… А вот уткнулась себе в колени и сидит неподвижно… Тигрик вторил собрату, тревожно мяукая, тараща круглые желтые глаза.
— Так. Короче, — я вскочила с места. — Ворон, ты лети к ней, вместе с котами, то есть они бегут, а ты лети… — быстро говорила я. — И постарайтесь все втроем уговорить ее хотя бы выглянуть из подвала и поговорить с этим… последний раз. Дать ему последний шанс. Или ей. А его я беру на себя. У людей сегодня вроде как выходной. Он сейчас в магазин пойдет, за пивом… Обычно ходит.
Сергей. 'Есть повод прийти сюда еще один раз'
Магазин совсем рядом, да и пройтись по солнечному летнему двору, пока еще не началась жара, — приятно. Я решил купить две бутылки пива и начать свой законный выходной с просмотра фильма. Я вышел на крыльцо, и тут услышал:
— Молодой человек… а…
Обернувшись, я увидел бедно одетую старушку. Так бедно, видно, с чужого плеча. Под длинной выцветшей зеленой футболкой с эмблемой 'Гринписа' были камуфляжные штаны. Она сидела на лавочке перед подъездом, держа руку в области сердца.
— Милок… Мне с сердцем плохо. А…
— Вам валидол? Черт, у меня же нет ничего такого… В аптеку сбегать? — я подсел к бабушке и всмотрелся в ее лицо. Она тяжело дышала, полуприкрыв глаза. — Скорую?
— Нет… мне бы к подруге… я у нее живу. Милок… отведи домой. Рядом тут. А? Там вызовут…
— Да вы дойдете? Насколько — рядом? Здесь, в этом дворе?
— Там, — старушка слабо махнула рукой на выход из двора. — Через сквер… Туда. Где магазин 'Продукты дешево'.
Я постарался как мог поднять бабулю и поддержать ее обеими руками. Она почти повисла на мне и, семеня, пошла. Магазин 'Продукты дешево' — это же мой бывший двор. Я через него не хожу давно — и повода нет, да и желания особого нет. Он как-то измельчал. Раньше казался огромным, как целый мир. Сейчас там нет даже покосившейся ржавой горки, даже песочницы — просто заросший травой участок с двумя чахлыми деревцами, с подъездами, закрытыми наглухо железными дверьми, перед которыми и сидеть-то не хочется. Унылое зрелище.
— А вам в какой подъезд? — спрашивал я ее на ходу. — Это мой двор бывший, я там жил. Многих знаю.
— Августу Михалну знаете? — дребезжащим голосом спросила старушка.
— Конечно, знал… а она еще… в общем, она здорова?
— Ну как уж здорова. Годы, годы, — заныла старушка. — Но ходит еще, ходит, да. Кошечек кормит… Собачку выгуливает.
Мне показалось странным, что у такой интеллигентной пожилой женщины — нищая знакомая или родственница. То есть, как я себе представлял Августу — подругу моей мамы, между прочим, — она, как и моя мама, первым делом одела бы свою гостью и следила бы за ней, если она больна, так уложила бы и не пустила одну… Но, собственно, может быть, и сама Августа Михайловна уже состарилась до такой степени, что не может за собой-то уследить… Мне стало не по себе. У нее ведь никого нет, а она моя соседка, мамина подруга. Хоть бы раз навестил. Лось здоровый… Я встряхнул головой. Откуда такие мысли? И почему я не думал об этом раньше, убивая свободное время перед компом?
Мой старый двор встретил меня унынием и бурьяном. Здесь даже птицы не пели. Зато асфальт и трава в палисадниках были усыпаны окурками, пластиковыми стаканами, чуть ли не шприцами… Да, блин… Та еще помойка. Впрочем, здоровый лось с кучей свободного времени мог бы и во дворе сделать что-нибудь приличное, подумал я вдруг. Конечно, за уборку платят дворникам, но… можно посадить что-нибудь. Скосить к хренам бурьян. У приятеля есть косилка…
Старушка сказала:
— Вот тут оставь, милок, на лавочке…
Лавочка стояла под чахлой вишней, которая почти не давала тени. В ее ветвях захлопала крыльями большая птица. Ворона, ворон, грач? На лавку рядом со старушкой вскочил лоснящийся тигровой масти кот… Я осматривался. В принципе, мне можно уже было идти, вот только заскочить в подъезд и сказать Августе, что ее приятельница доставлена на лавочку. И вдруг через покосившийся штакетник ко мне шагнула невесть откуда взявшаяся бледная девушка в джинсах и белой футболке с угрюмым и сосредоточенным лицом. Я отпрянул просто от неожиданности. И тут я узнал ее. Она протянула руку, но я заслонил лицо, сделав шаг назад, и ее рука прошла сквозь мой локоть.
Старушка гладила кота, словно не видела — впрочем, да, конечно, она и не могла видеть! А вот мое подсознание настигло меня в старом дворе.
— Сережа, — еле слышно говорила якобы-Дина, и брови ее жалобно поднялись. — Пожалуйста… послушай меня. Мы же в детстве… Мы же родные с тобой…
'Навь', вспомнил я всплывшее откуда-то слово. Откуда? Да из песни же девчонкиной, которую слушал сегодня ночью.
— Тебя нет, поняла? — как можно тверже и спокойнее сказал я, чувствуя, как звенит металлом голос. — Ты навь. Глюк.
— Сергей…
Я сжал кулаки.
— Тебя нет. Навь! — я развернулся и пошел из двора так быстро, как мог, чтобы это не выглядело как бег. Здоровый лось убегает от призрачной девчонки… Картина маслом.
Рябина
— Картина маслом! Здоровый лось убегает от девчонки! — фыркнула я. — Дин, не фиг ли с ним? Ну что он тебе? Ди-на-а!
Динка сидела на лавке, опустив голову, волосы упали на лицо.
— Дина, сестренка, ну что ты? Скоро летний праздник… Ну? — я чуть не плакала, обнимая ее и пытаясь заглянуть в лицо. На чахлой вишне тревожно бил крыльями Ворон. Оба кота, Барсик и Тигрик, таращили глаза с двух разных сторон.
— Дина, ты посмотри, во что двор превратился… — бормотала я, пытаясь воззвать хотя бы к ее ответственности. — Он скоро станет пустым…
Дина долго молчала, но я чувствовала — слышит. Наконец ответила, все так же отворачивая лицо.
— Мне бы уйти. Но не знаю как… Ниренн, ее слова — не помню. Какие-то границы… И потом, куда я такая уйду? Навь…
Нина. Проводник на аутсорсинге
Утро радовало, свежий ветер врывался в открытое окно, в квартире стоял запах кофе. Мне хотелось петь. Я видела перед глазами фонарик мамы, и радовалась, что у нее все хорошо. А если кто придет и скажет, что я сейчас должна быть в трауре и рыдать, я просто… нет, нет, я не спущу его с лестницы и даже не закрою перед его носом дверь… Нет, это я погорячилась. Я же все понимаю. Но почему-то я не могу грустить. Может быть, просто устала плакать, устала отчаиваться, устала быть загнанной в угол жертвой жизни, устала жить в коробке и работать в коробке. Все улицы, дворы, арки, лазы в заборе и ворота ведут не только туда, куда мы видим глазами, но и куда-то еще. Я старая? По возрасту мне положено сейчас ловить последний шанс, потом, испытав одно-два-пять разочарований, дожить до пятидесяти, шестидесяти и ждать унылого конца в пустой квартире? По возрасту мне положено… Я подошла к зеркалу и тряхнула головой. На меня смотрела вполне себе молодая женщина с блестящими серыми глазами. Я подмигнула зеркалу, показала ей язык, как подружке в детстве, отвернулась и показала фак невидимому оппоненту, который как бы говорил, что мне положено стареть. 'Не дождетесь!'
Отпуска оставалось еще две недели, и я решила пойти погулять. Вчера я пекла шарлотку… Да, я живу одна, угощать мне некого, но это не повод ничего не печь вкусного, ведь так? — снова обратилась я к невидимому оппоненту, который на хрестоматийном примере 'нашей мымры' из 'Служебного романа' пытался мне объяснить, как плохо и бессмысленно жить одной старой деве. Я съела кусок шарлотки с кофе и полила цветок на окне, который за последние дни стал словно бы расти быстрее. Отрезав три больших куска от шарлотки, я уложила его в пластиковый контейнер, в котором обычно ношу обед на работу. Я решила угостить Женю-Валентина, если он вдруг окажется в сквере. Напевая, я подвела глаза и наложила тени, и, наконец, вышла за порог квартиры, довольная собой и миром. Двор был пуст, в арке мне улыбнулась и кивнула старушка-нищенка в шляпе и камуфляжных штанах. Я достала контейнер и протянула ей кусок шарлотки, нашарила в кармане купюру.
— Вот спасибо вам, кошечкам моим на еду, — сказала старушка неожиданно молодым голосом. — И за пирог спасибо!
Жени на лавке не было. Я села и открыла книжку, по страницам, лавке и траве скользили тени от листьев клена, в ветвях заливались птицы. Он подошел вскоре, улыбаясь.
— Скоро праздник, а! — сказал он мне вместо приветствия.
— Какой? День защиты детей? — засмеялась я.
— Нет, летний праздник. Самый что ни на есть, — он уселся рядом со мной.
— Я тут пирог испекла… — сказала я, раскрывая контейнер. — Угощайся.
— А если я тебе своих яблок дам, ты их можешь вот так же? — он показал на кусок пирога.
— Запечь в пирог? Да легко. И тебя приглашу в гости. На летний праздник?
— В гости… Нет. Ты сама ко мне в гости с ним приходи. На летний праздник, — ответил Женя, с удовольствием поедая пирог. Впрочем, он кусок съел не весь, а разломил на две части. — Можно я вот это девчонке одной отдам? — кивнул он на нетронутую часть.
— Да конечно! Да возьми все и отдай девчонке и сам съешь, — я подвинула к нему весь контейнер.
— А такое дело… Нин, — сказал он задумчиво. — Ты можешь мне помочь? То есть…
— Ага?
— Вот девчонка, которой я хочу пирог-то… В общем, ей помочь надо. Не сейчас, не прямо сейчас. Но хотя бы посмотреть, можно ли?
— Да я конечно, но только в чем помощь-то будет выражаться? Ты скажи… я же не знаю, что ей нужно.
— Пока просто посмотреть на нее. Ну вот посмотреть просто. Я пойду ей пирог снесу, а ты просто рядом побудь. А потом скажешь, какие это, впечатления.
Я пожала плечами.
— А далеко?
— Вон в том дворе.
Контейнер снова оказался в моем пакете с ручками, и мы с Женей перешли дорогу. Двор, запущенный и убийственно унылый, сразу встретил какой-то пустотой.
— Ой, как здесь… неуютно, — пробормотала я.
— Да вот увы, — кивнул он.
Мы остановились у крайнего из подъездов, с лавочками. Ветер гнал по асфальту обертку от мороженого.
— Ты подожди, я сейчас, — сказал мой спутник и ушел к соседнему подъезду.
Я села на одну из лавочек. Рядом со мной плюхнулся и начал бодаться башкой полосатый кот. Гладя кота, я не заметила, как Женя вернулся. С ним была девушка в джинсах и белой футболке. Я кивнула и улыбнулась им обоим. Глаза девушки расширились, мне показалось, что в них — одновременно надежда и страх:
— Вы? Это вы?
Я потрясла головой.
— Я Нина, мы с вами не виделись… кажется…
Она смотрела недоверчиво и напряженно, но потом расслабилась:
— А… типа, обозналась. Похожи.
— Бывает, — улыбнулась я.
— Он сказал, что вы пирог принесли, — глядя на меня исподлобья, сказала девушка. — Спасибо.
— Да не за что… я всегда рада… — начала бормотать я, прислушиваясь к неясному ощущению. Что-то было не так… Перед глазами вдруг встали картины весеннего леса — такого, когда почки еще только набухли, еще даже не появилась зеленая дымка. Единственная зелень — изумрудный, малахитовый мох на поваленных стволах, и начинающая пробиваться трава. И цветы, которые ошибочно называют подснежниками — на самом деле это сон-трава. И еще — крокусы. Это не нашей полосы лес… Это какой-то условный европейский лес, и вот-вот из-за стволов появятся олени. Я потрясла головой. Грязный асфальт, худая кошка обнюхивает обертку из-под мороженого. Девушки рядом нет — странная какая-то девушка. Из бомжей, что ли, из Жениных друзей? Женя, впрочем, сидел напротив меня на лавке.
— Пирог ей понравился, — сказал он.
— Ну и супер, — я передернула плечами. — Женя, не темни, а? Скажи, что я должна была увидеть?
— А что ты увидела?
— А ви таки с Одессы? — проворчала я.
— Я не понимаю, — улыбнулся он.
— Что, ты не знаешь одесских анекдотов?
Он совершенно искренне покачал головой.
— Нет.
— Ясно. Тебе очень важно, что я увидела? Любую глупость можно рассказывать? Ну, в смысле… Любые ассоциации?
— Это очень важно, — Женя встал, подал мне руку. — Пойдем в сквер? Ты можешь не рассказывать мне… Подробно не надо. Но только скажи: ты видела что? Реку? Тропу? Место?
— Место, — быстро сказала я. — Лес такой весенний. А что?
— Я тебя очень прошу, пожалуйста… Туда найти выход. Для этой девчонки… Ты же все пути, все тропы знаешь. Нина… ты не подумай, что я ради этого с тобой дружу, — быстро заговорил он, потому что, боюсь, на моем лице отразилось именно это: разочарование, обида, я, кажется, даже отступила назад, готовая развернуться и уйти.
Ненавижу, ненавижу быть фактором, материалом, с которым 'работают', ненавижу, когда меня юзают для неведомой мне цели, да еще и мягко, как бы исподволь (а на самом деле с бегемотьей грацией) подводят к этому.
— Нет, я не для этого, не поэтому… — поспешно говорил Женя. — Я с тобой хотел дружить и думал о тебе, еще когда не знал, что ты это умеешь. Много лет. Нина, правда. Просто я очень прошу помочь. Этого никто не умеет, только ты. Вообще никто.
— Но… — я выдохнула, помолчала. — Чего именно не умеет? Это вот ты все — о реке?
Мы вошли в сквер. Женя вел меня за руку. Мы сели под раскидистым кленом на лавке.
— Да, о реке, о тропах. Ты проводник. Ей нужно уйти отсюда. Она тут осталась — зря. А мы… ее друзья, мы не видим места, которое ей нужно, которое ее ждет. И выхода туда тоже не видим. Ничего вообще…
— Женя. Мы с тобой дружить, наверно, не сможем, — мне перехватило горло, меня начало трясти, и в голосе послышался металл. — Ты мне не говоришь всего. Ну ладно, Бог с ним со всем, меня не волнует твой год рождения и судимость, если она была, а также, не знаю, перенесенная тобой в детстве корь. Но ты не говоришь даже того, что меня непосредственно касается. Ты меня мягко и ненавязчиво подвел к девушке, которая меня непонятно за кого приняла, и поставил типа — эксперимент. Я что тебе, детектор? Нет, я понимаю, что это нужно, важно для тебя и твоих друзей и все такое, что у меня что-то такое есть… ладно, пусть. Но я не такая… как… Со мной так нельзя! Ни с кем так нельзя. Просто другие не чувствуют, когда ими дела делают. А я чувствую. Мне очень жаль, — я встала с лавки. — Для девушки я сделаю вот это… Найду. Не знаю, как это делается… Но найду, раз ты говоришь, что я умею. Раз так надо тебе и твоим друзьям. Но я в их число не вхожу… Я — типа, сторонний эксперт. Проводник на аутсорсинге.
Он сказал:
— Нина. Мне нужно подумать. Не уходи…
— Долго? Ну ладно, покурю пока, — я усмехнулась и вытащила сигарету. Меня несло. Зачем мне бомж Женя и его такие же, видимо, маргинальные друзья? Зачем мне их доверие? Зачем мне знать, почему девчонке из запущенного двора нужно попасть в весенний лес, который находится непонятно где? И все же я не уходила, потому что надеялась, что вот сейчас все как-то разъяснится, встанет на свои места, потому что и Женя, и его друзья мне нужны, и знать про весенний лес мне нужно на самом деле. Я курила, не отрывая глаз от травы под ногами.
— Нина, — послышался голос Жени. — У вашего дома есть вертушка детская, знаешь? Такая детская площадка в торце, вокруг боярышник растет?
Я подняла глаза.
— Знаю, за помойкой.
— Ага. Вот туда сможешь выйти сегодня вечером? Когда луна взойдет?
— Во сколько?
— Не знаю, как это будет, во сколько. Когда луна. Мы все там будем… Ну, нас пятеро. Ты только не бойся, Нина, ладно?
— Вы что, секта? Эзотерики какие-нибудь? — мне стало не по себе. Не то чтобы я боюсь сектантов, оккультистов и прочего. Просто было грустно, что явление, которое не хотелось никак называть, оказывается называется и объясняется вот так, банально.
— Не знаю, что эти слова значат, — сказал он, глядя на меня ярко-зелеными глазами в упор.
Я сидела и молчала. Получалась лажа так или иначе. Им надо от меня что-то. Для этого он готов прийти и друзей привести, удовлетворить мое любопытство. Но я не хотела, чтобы с одной стороны было 'надо', а с другой 'любопытство'. Все вообще шло не так.
— Нет, — сказала я. — Давай так. Я сделаю все. Что же я, зверь что ли? Если я сумею, я сделаю. Не за это. Не за откровенность, не за секреты какие-то. А потом, когда-нибудь, ты мне расскажешь. Не за это.
— А ты ведь… придешь еще? — спросил он растерянно. — Ты сказала, что мы не будем дружить…
— Я просто… сама не знаю, зачем сказала, — поморщилась я. — Мне было обидно…
— Я верю тому, что люди говорят. Нина, ты все-таки приди сегодня, пожалуйста. Чтобы ты сама решила, надо или не надо это делать. Чтобы не было так, что ты не знаешь — для чего… Нина?
Он коснулся моих волос (я сидела с опущенной головой).
— Я просто не умею дружить с людьми. Я не знал, как надо… чтобы ты не испугалась. Я боялся, что испугаешься — и все.
Я медленно подняла голову.
— Я буду искать. И приду. На вертушку и сюда… Но она же живая? Зачем ей тропа? Она хочет уйти в тот лес, потому что там ее дом, в смысле — она оттуда? Я сама не знаю, что спрашивать… И еще — дай мне тех твоих яблок, я твоих друзей вечером тоже пирогом угощу.
(Продолжение следует)
Двери весны
Рябина
Кот был болен: простужен. Плохо дело, поняла я с первого взгляда. Неплохой ведь кот, такой гладкий маленький тигр, — но в местном прайде не прижился: не поделили чего-то с главным котом подвала. И вот пожалуйста — шерсть повылезла, глаза слезятся… В подвале у них колония: и селятся, и котятся. А этот потерялся еще подростком, прибился — но своим так и не стал.
Я сидела на дворовой лавочке и грелась на солнце. На детской площадке в разноцветной песочнице пищало несколько малышей, рядом со мной сидели с сигаретами две мамаши, в мою сторону не смотрели. Кот же медленно подбрел ко мне, посмотрел желтыми слезящимися глазами, понятное дело — увидел. Я хлопнула ладонью по коленке: залезай. Кот приглашение принял, вспрыгнул мне на колени… Устроился, замурчал, прищурил глаза. Одна из женщин покосилась в его сторону и подвинулась подальше от меня и, соответственно, от кота.
Заметил кота и один из малышей. Растопырив руки (не выпуская, правда, лопатку из правой ручонки), он понесся к нам с криком 'Кыса!' и явным желанием стиснуть кота в объятиях.
— Денис, Денис, нельзя! — закричала мамаша. — Он лишайный! Он грязный!
Я вздохнула и встала со скамейки. Кот тоже спрыгнул. 'Кот, пошли-ка отсюда, поищем других солнечных мест. Или знаешь, отведу я тебя к Августе Михайловне. Только сначала вылечу'.
Августа Михайловна — это такая бабушка, интеллигентная, маленькая и седая. У нее есть собачка Милка — белая, с острыми ушками, ростом с полторы кошки. Она кормит кошек. Живет она в бывшем Динкином дворе.
То есть двор уже сейчас опять стал Динкин, но какое-то время был 'бывший Динкин', вот я и говорю по привычке. Про Динку расскажу после, я все про нее знаю, она у меня жила довольно долго, а потом снова вернулась на историческую свою родину: в этот самый двор. Так вот, в этом дворе стоит хрущевка красная — опять же Динкин дом. Августа живет на первом этаже этого дома. Каждый день утром и вечером она спускается в подвал с миской еды. В подвале живет кошка Леська с кучей котят от разных пометов, еще туда сбегаются три кота — дымчатый, черный и черно-белый. Черно-белый — он чей-то, а у Августы Михайловны принцип: кормить только бездомных кошек. Но не гнать же, поэтому черно-белый тоже ест. Вот, пожалуй, Тигрика я туда и отведу. Динка присмотрит, чтобы его там не обижали коты, а Августа — накормит. Ну а я вылечу.
Кот бежал за мной. Я ведь иду короткой дорогой, между двором Репья, в котором я грелась на лавке, и Динкиным — всего-то сквер (красивый, потрясающий, весь обсаженный по краям яблонями, которые скоро зацветут) и два двора, в одном из которых, между прочим, цветут в палисаднике пролески. Ничейные. Присмотреть, что ли? (Кот трусит за мной). Я улыбаюсь скверу, потом, протиснувшись между гаражами, попадаю во двор к пролескам — они еще не цветут, но вот-вот зацветут. А вот, кстати, и палисадник с сиренью. Очень неприятно пустой. И сирень чахлая. А вот и Динкин двор — с одной стороны весь засажен американскими кленами, летом зрелище вообще невероятное: пятиэтажка утопает в зелени по самый свой пятый этаж. А с другой — вот палисадники перед подъездами. Перед одним подъездом сидели три тетушки, перед другим не было никого, перед третьим я нашла Динку. Она, как всегда, сидела грустная, а рядом с ней грелись на солнце трое последних Леськиных котят, уже месяца по три.
— Дин, — я села на лавку рядом с ней, вспрыгнул и кот, обнюхался с рыже-белым котенком. — Возьми кота, а? У Репья во дворе он пропадет, не жилец. Там у него вообще что-то бардак творится… Не двор, а проходной… двор. И коты недружественные. И люди.
Дина подняла глаза на меня, улыбнулась, только невесело.
— Возьму, — и тихо добавила, — только он больной.
— Ну, это не вопрос, — я положила руку на загривок кота, кот зашелся в мурчании. Динка молчала, не мешала мне, шевелила пальцами — с ними играли котята, набрасываясь и снова отскакивая. Наконец я пощупала нос кота, хотя знала уже и так: холодный-мокрый, как полагается.
— Принимай, — сказала я Динке. — Следи, чтобы крыс этих отравленных не жрал у тебя.
— Угу, — кивнула она.
— Чего грустишь, Дин? — я тронула ее за плечо.
— Как всегда уж… — она опустила голову, волосы свесились на лицо. — Вспоминаю. Сережу сегодня не видела?
— Видела, шел к машине сегодня, ключами звеня, нажал на какую-то штуку — дверцы сами открылись.
Дело в том, что Динкин брат живет как раз в моем дворе. Когда умерла их мама, он поменял квартиру, и вот переехал ко мне во двор, а Динка осталась. С тоски она тогда тоже переселилась ко мне, чтобы брата иногда видеть. Так прокантовались сколько-то лет, а потом Динке захотелось вернуться. Ведь еще задолго до Августы ее мама, когда была жива, тоже кормила этих кошек, да и вообще — весь двор полон памятью о маме. И лучше мама, которой хотя нигде тут самой и нет, но все напоминает о ней, чем брат, который тебя в упор не видит. Я считаю, это правильно.
— Рябина, — говорит Дина. — Ты не сходишь со мной на кладбище? А? К маме и бабушке?
Я вздыхаю.
Плохо мне там будет, по прошлому разу помню: ужасно плохо, потом буду болеть три дня, а то и больше. Но у Динки постоянная тоска, и я не могу бросить ее одну. Она все понимает, и я все понимаю.
— Ты не вздумай туда переселяться, — мрачно говорю я. — Ты нам нужна. Не пустим,
ясно? Сдохнешь там от тоски.
— Я все равно чужая и вам тоже, — упавшим голосом говорит Динка.
— Не чужая, — ровно и зло говорю я. — Это ты так говоришь, а не мы. м- Я не умею жить так, как вы. Иногда забываюсь — и живу. Но потом накатывает, и хоть вой. И ты это знаешь.
— Дин, ну никто же не виноват. Вот правда — никто. Мы все хотели как лучше, мы думали, так будет лучше, правда. И ведь было лучше?
— Было. Извини, Рябина. Ты хорошая. Вы все — очень хорошие. Ведь и правда: никто не виноват… И без вас бы я пропала. А с вами…
— А с нами — не пропадешь! — я смеюсь. — Ты у нас дочь полка. Ты скажи, что тебя колбасит? Ты хотела бы, как твой брат? Ты видела его сама-то последний раз? Он пьет, руки у него дрожат, волосы вылезли… он скоро будет старый. А ты смотри какая!
Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Весна.
— Скоро у тебя расцветет за домом сирень, — говорю я.
— А черемуху спилили, — отвечает Динка. — У нашего подъезда, где я жила, когда была живая, — она кивает в сторону первого подъезда.
— А… да. Ну да, — машинально говорю я. — Так ведь давно уже. Лет десять?
— Да. Но я же ее помню…
— Ты еще вспомни, как бутылки из-под кефира сдавала в пункт приема стеклотары.
— Я не сдавала, я была еще маленькая. Это Сережа сдавал, когда ему уже было лет восемь. Я с ним бегала. А потом заманивала его на дерево — ну то, знаешь, в палисаднике у соседнего дома. Его тоже спилили.
— Вот-вот, — вставила я.
— Теперь там пивнушка. Они все ходят пить сюда, покупают там, а распивают здесь. У vтебя пьют?
— У меня строят. Пригнали какую-то штуку, разобрали угол двора, штуку эту поставили. Так на ней написал кто-то: 'Стройте скорее и валите на…'.
— Кто-то? Не ты?
— Ну… я, — призналась я.
Писать я умею. Нас всех — ну, не всех совсем, а меня, Динку и еще одного, кто хотел, — научил писать дядя Коля. Он — как Динка, умер во дворе, замерз ночью. И, как Динка же, не ушел, а остался с нами. Мы — Хозяева дворов, скверов, садиков, парков и всего, что есть в Городе. Среди нас есть такие, как я — которые и всегда были Хозяевами. И есть бывшие люди — те, которые умерли и остались во дворах. Они должны были уйти куда-то еще, куда обычно уходят люди — и где, видно, им хорошо. По крайней мере, им правильно быть там. И большинство, конечно, уходят. А те, кто остаются — потом начинают тосковать. Ведь чаще всего они остаются ради того, чтобы не расставаться со своими — родителями, братьями, друзьями. А те или забывают о них, или помнят и грустят — но не видят, или видят, но думают, что сошли с ума. Но это еще не самое печальное: ведь можно смотреть на них издали, помогать хоть как-то и даже радоваться, если у них все хорошо. Но, во-первых, чаще всего у них не бывает хорошо. Во-вторых — в их жизни появляются новые люди, которых эти, ушедшие к нам, уже не знают, и просто остается только смотреть и ничего не понимать. Близкие становятся все дальше от них. Но и это не самое плохое. Хуже всего то, что они стареют и умирают. И тогда уже расставание будет навсегда: ведь они уходят в какое-то То Место, а наши — которые 'бывшие люди' — так и остаются здесь.
Меня зовут Рябиной. Я родилась в рябиновой роще, когда еще она стояла на месте двора, и было это очень давно… Но об этом я расскажу как-нибудь потом, когда будет время и настроение. Сейчас у меня ни того, ни другого нет. Мне жалко Динку, и я пойду в сквер, может быть, вместе со Сквером мы еще раз подумаем, что можно сделать.
Сквер
Сегодня впервые в этом году зацвели мои яблони. На клумбе пробиваются и скоро зацветут тюльпаны, два мирных алкоголика с утра уже устроились на лавочке под елью, а под другой елкой девушка читает книгу в яркой обложке. Я сижу на траве, прислонившись спиной к огромному клену. Мимо пробежала Рябина — в джинсах и пятнистой куртке, за ней трусит полосатый кот. Мы весело улыбаемся друг другу. То есть весело ей — и мне, из-за весны. Но если бы пришла она — та женщина из двора Репья — было бы еще веселее. Только она приходит редко. И каждый раз извиняется: 'Прости, я давно не приходила!' За зиму зашла всего раза три. Постояла под елкой, посмотрела из-под ветвей, как из-под шатра, сняла шапку — светлые волосы по плечам. Мне вспомнился давний, старый заснеженный лес и охотница в нем, под елкой. Пушистый снег лежал на еловых лапах и сыпался на длинные светлые волосы. Так было сотни лет назад. И вот снова — словно та же женщина, тот же лес. Она, видно, тоже почувствовала это, и все смотрела на падающий с дерева снег. И улыбалась. Один раз она, видно, решила приходить ко мне каждый день. Это было прошлым летом. Она приходила рано утром и ходила по моему скверу. У нее было заведено — она входила с той стороны, где цветет вишня. Здоровалась с вишней и шла по аллее, по солнцу. Она всегда обходит мой сквер посолонь, и никогда не меняет направления. Она чувствует все, как будто и правда — та охотница из старого моего леса. И разговаривает с вишней, касается рукой моего клена, стоит у ели, когда ей — я вижу — плохо. Да, ель сама по себе забирает у людей плохое, но тут уж я помогаю как могу, и лучше ей становится очень быстро. И вот так, каждый день, она ходила всю весну и начало лета. Потом перестала. Иногда, как я уже говорил, пробегает через сквер с той улицы, где шумят троллейбусы и много машин. А один раз я видел, что она плакала. Я через Рябину попросил Репья посмотреть, где и как она живет — ведь его двор. Однокомнатная квартира где-то на седьмом этаже, Репей проследил ее до лифта. Что в квартире — он не знает. Обычно она уходила рано утром и приходила к вечеру, и Репей снизу видел, что в окошке зажигался свет. А, еще на окне растение из домашних, здоровенное, которое у нас не растет. Во дворе она никогда не сидит, как многие люди, на лавочке. Зато летом, когда у Репья цветут вишни, часто выходит ночью постоять у двери подъезда, посмотреть на звезды. Видел Репей, что иногда выходит покурить на крыльцо и осенью, и зимой. Больше никого в ее квартире, вроде бы, нет. И в гости к ней никто не ходит. А в квартиру к ней он не может попасть, если она его не позовет.
Почему я о ней опять думаю? Я всегда чувствую, как она радуется цветущим яблоням. А сегодня они как раз зацвели. И одуванчики, ярко-желтые, под ними. Ей будет хорошо.
Динка
Мне было пять лет, и мы собирались на дачу. Бабушка надела на меня вишневое платье в белый горошек и сказала, что в час придет машина, чтобы везти на дачу папу, маму, бабушку, кота Барсика и телевизор. Я предвкушала поездку на машине через лес и встречу с дачными подружками, которых не видела год. Но пока, сказала бабушка, мне можно поиграть во дворе. Только — с той стороны дома, чтобы бабушка могла меня всегда позвать. Я так радовалась, когда на деревьях появились листья, когда расцвела черемуха перед домом и одуванчики: ведь это значило, что наступило лето. Вприпрыжку я побежала за дом, в песочницу. Там было скучно — никого.
В самом конце двора, в торце дома, стоял шум: на высокой перекладине раскачивались огромные качели — бетонная плита, привинченная на четырех железных длинных арматурах. Я вылезла из песочницы и побежала туда. Качаться на качелях я любила больше всего на свете. Мальчишки из 'белого дома' — лет по десяти, по двенадцати (для меня — здоровенные дяденьки) стоя раскачивали плиту, на которой с визгом и уханием, тоже стоя, теснились дети самых разных возрастов, и плита взмывала 'до перекладины', почти делая 'солнышко'. Я стояла, запрокинув голову:
— А можно мне?
— Маленьким нельзя! — крикнул мальчик из 'белого дома'. Я жила в 'красном доме' — хрущевке из красного кирпича, а белый дом стоял напротив, такая же хрущевка, но кирпич белый.
— Я не маленькая! — это был больной вопрос, и мне хотелось настоять на своем: я не слабенькая, не девчонка (в смысле девчонка, конечно, но не такая, которые пищат и боятся, я лазию по заборам и по деревьям!) и не маленькая.
Плита медленно остановилась, и большие парни втащили меня на край.
— Ну держись крепче. Смотри не слети только!
— Я? Я сильная!
Плита взмыла вверх.
Следующее, что я помню — я лежу в пыли носом, и удар по голове. И чей-то крик.
Я выбралась из-под остановившихся качелей, отряхнулась: и вовсе не больно! Делов-то! Летала я и с дерева, и со скамейки один раз, и даже на даче в погреб упала. Больнее было!
Дети толпились вокруг качелей, ничего нельзя было понять. Почему-то сквозь их толпу протискивалась моя бабушка.
— Бабуль! Бабуля! Бабуля-а! — я подбежала к ней, но она, кажется, не заметила. И почему-то закричала и заплакала. — Бабуль, ты чего плачешь?
Бабушка не слышала. Она кричала на больших пацанов, но я не могла разобрать, что. Прибежали еще какие-то взрослые, кажется, наш сосед дядя Илья, большие пацаны расступились, а девчонки ринулись врассыпную с испуганными лицами. Среди них была Лариса — наша соседка, старше меня на три года.
— Лариса, Ларис! — окликнула я ее. Она быстро прошла мимо меня и припустила бегом в наш двор — скрылась за торцом дома. Дядя Илья что-то достал из-под качелей и быстро пошел со своей ношей туда же, за ним бабуля и соседка тетя Лена.
— Бабуля, бабуль! — я побежала за взрослыми. Бабуля не обращала на меня внимания, другие тоже, и они быстро скрылись в подъезде, а я осталась перед дверью. И вдруг почему-то остановилась, понимая, что мне туда нельзя. Я не заметила, когда рядом со мной появилась Та Тетя. То есть сейчас я назвала бы ее Та Женщина (а сейчас бы и так не назвала, я примерно знаю, как звучит ее имя), но тогда все женщины для меня были 'тети'. Тетя была в красивом синем платье.
— Пойдем со мной, Дина, — она протянула мне руку.
— Куда-а?
— В хорошее место. Ты будешь там жить.
— Я с мамой же живу, с папой и бабулей. Зачем в место?
— Надо, Дина. Ты больше не можешь жить с мамой и папой.
Тетя протянула мне руку. Меня охватил ужас. С какой стати я не буду жить с мамой? Я завизжала, закричала и не помню, что еще сделала, ноги сами понесли меня за угол дома. Я бежала так, будто за мной неслась стая собак, или мальчишек, или — что-то ужасное из моих снов, когда мне снилось, что в наш дом приходят злые дядьки (я, насмотревшись фильмов про войну, считала их фашистами). За белым домом росла сирень и кусты с мелкими белыми розами, я, обдираясь о колючки (но, кажется, опять было не больно, даже кровь не пошла!) ворвалась в заросли и села, тяжело дыша, на врытую в землю камеру от машины. Я боялась той тетеньки, как ночного кошмара. Она хочет отнять меня у мамы, и маму у меня.
Потом я ревела. Долго, всхлипывая, вытираясь грязным листом лопуха, подолом красивого сарафана и просто пятерней. От страха и от тоски по маме, которая уже должна была ведь прийти — мы же хотели ехать на дачу. Но к подъезду идти боялась. Вдруг там Та Тетка. С виду добрая, да может и правда добрая, но ведь как же мама? Неужели мама меня отдаст ей? Так хотелось домой — к коту Барсику, к черному пианино, в котором я отражалась ('черная Дина', называла я это отражение), в комнату, которую мы делили с бабулей, к маме… Но я сидела до темноты, не зная, что меня ждет у подъезда. Потом я выбралась, и, пробираясь кустами, заглянула за угол дома. Наш подъезд крайний — может быть, я смогу увидеть, есть там Тетка или нет. Тетки не было, у подъезда сидели соседки под черемухой, которая только что отцвела. Ура! Я подбежала к двери, поздоровавшись с тетеньками, но они мне не ответили. Но снова не могла переступить порог подъезда. Я как-то чувствовала, что в подъезд смогу войти только с мамой, если она проведет меня или выйдет и позовет. Где же мама? Неужели не будет меня искать? Я так и стояла на крыльце, рискуя попасться Тетке, если та снова появится. Но она не появилась, а соседки все говорили и говорили.
— Вот у Людмилы Михайловны три года назад внук-то утонул, тоже какое горе было…
— И не говорите, хуже нет, бедная Ирина Сергеевна… Скорую вызывали — с сердцем плохо… Господи, Господи…
— А Наташа-то, Наташа постарела лет на десять сразу… Ох, Господи…
Ирина Сергеевна была моя бабуля. Наташа могла быть кем угодно, но вообще-то так звали мою маму, может, это о ней? Что случилось, почему Скорую? Ищут меня? Я тоненько завыла. Тетушки меня словно и не слышали.
— Игорь-то что? Теще претензии не высказал? — скривилась Клавдия Васильевна, тетенька, которая жила этажом выше.
— Какие претензии, о чем вы, Клавдьвасильна, — передернула плечами тетя Роза, Ларисина мама. — Сам пьет валерьянку, сердце прихватило… Господи…
Игорь был мой папа.
— Такая семья, такая семья… — качала головой моложавая Августа Михайловна. На руках у нее сидела маленькая собачка с кошачьим именем Муська.
Я завыла и захныкала еще сильнее.
— Что-то не по себе… — вздрогнула Августа.
— Будет тут по себе… — подала голос Клавдия Васильевна. — Жутко делается…
Тетушки медленно вставали с лавочки, отряхивали платья, вздыхали. Потом мимо меня прошли в подъезд одна за другой. Я едва успела отскочить. Сгущались сумерки, а мама все не выходила.
Так началась моя жизнь во Дворе. Ночь я проводила в зарослях, то в одних, то в других. К подъезду пробиралась тайком, чтобы не напороться на Ту Тетку. Меня не замечал никто — ни подружки во дворе, ни взрослые. Однажды — это было на следующий день — выбежал погулять наш Барсик. Он деловито трусил на задний двор. Я закричала:
— Барсик, Барсик!
Кот подбежал ко мне и замяукал.
— Барсик, Барсичек, ты меня видишь, это же я, Дина.
Барсик смотрел на меня круглыми желтыми глазами и мяукал. Я поняла, что он говорит мне: 'Вижу! Дома плохо. Все плачут. Я знал, что ты здесь'. Это было сказано не словами, но я поняла. Так я начала понимать язык зверей и птиц, о чем окончательно узнала позже. Барсик с тех пор часто приходил ко мне во двор и рассказывал — передавал образами — что происходит дома, внутри подъезда, внутри квартиры, за Порогом.
(Следующей зимой Барсика чуть не разорвали собаки, я еле отогнала их, они меня послушались. Мы дружили с ним еще пять лет, а потом у Барсика оказался лишай, и его куда-то увезли. А через три дня он снова появился во дворе, но я знала, что он уже побывал в ветеринарке, где ему сделали укол, и он заснул… и вернулся домой ко мне, и с тех пор мы с ним всегда неразлучны, хотя люди его не видят. Уже тридцать лет).
Потом были похороны. У подъезда стоял маленький гроб, я увидела плачущую маму в черном платке, рыдающую бабушку. Я хотела подойти к толпе соседок и окликнуть маму, но вдруг я снова увидела Ту Тетку, и пустилась наутек, за самые дальние гаражи. А потом я вылезла ночью и бродила вокруг дома кругами.
Когда пошел дождь, я забралась в подвал. Туда входить мне было можно. Там ко мне подошел подвальный кот без имени, и я гладила его, а он бодался головой и смотрел на меня. Мы с ним тоже подружились. Есть мне не хотелось, хотя я все время вспоминала бабушкины вкусные супы и пельмени, и торт 'Картошка', и много что еще — но это был не голод, скорее, я скучала по еде. Ночью я выбиралась из подвала и смотрела на звезды, на тени веток на земле. Утром подкарауливала маму или папу. Они шли на свои работы, а я шла рядом — они меня не видели, но мне было хорошо и тепло рядом с ними, я даже улыбалась и бежала вприпрыжку, окликая их. Ни разу они не обернулись, но мне было и то хорошо. А когда на лавочке сидела бабушка (она начала сидеть через неделю после похорон), то я пряталась за ее спиной, иногда прислоняясь к локтю. Но на девятый день после Качелей опять пришла Та Тетка и надолго меня спугнула. Так было еще через полтора месяца, но больше она не появлялась. И вот еще что у меня было — я не могла ходить к Качелям, просто не бывала в той стороне двора, и все. И даже глядеть не хотела в ту сторону.
Зато я подружилась с Девочкой из Сирени и с Мальчиком. Или Дяденькой. Он сам не мог точно сказать, кто он. Девочка из Сирени появилась, когда я, по своему обыкновению, сидела в кустах сирени за белым домом. Она вылезла прямо из сирени, так что ветки почти не шелохнулись. Это была уже большая девочка — почти тетенька! На ней было белое платье, правда — длинное, и волосы были не заплетены в косу, а распущены.
— Привет! — девочка села рядом со мной на траву. — Я тебя давно вижу. Ты что тут?
— Я прячусь от одной Тетки, а домой попасть не могу, — сказала я. — А ты меня правда видишь?
— А что такого? — вытаращила глаза Девочка.
— Меня никто не видит, даже мама.
— Ой… — Девочка нахмурилась. — Та-ак… А где твой дом?
— Красный дом, знаешь? За этим белым красный. Первый подъезд. Не могу туда войти. И никто не видит, я здороваюсь со всеми, а они… Меня только Барсик видит. И в подвале кот еще. Меня заколдовали в невидимку?
— И давно? — спросила девочка, странно на меня глядя.
— Когда сирень еще цвела… Мы на дачу хотели ехать, — начала я. И рассказала ей, как было — как я понимала.
Девочка слушала, обняв колени руками.
— А чего ты с Той Теткой не пошла? Надо было идти, — неожиданно сказала она вместо того, чтобы посочувствовать.
— От мамы? Ты… Ты — дура! — закричала я самое оскорбительное слово, которое знала.
— Не я, а ты, — печально сказала девочка. — Та женщина — она водит через границы. Сейчас бы в хорошем месте была, а потом бы туда и мама, и все такое. А теперь фиг попадешь… Тебе придется остаться во дворе, понимаешь?
— А домой что, меня не пустят, да?
Девочка покрутила пальцем у виска.
— Дура, — снова сказала я и заплакала.
Она обняла меня.
— Ой, прости… ну ладно, прости, а? Тебя как звать?
Я сказала, вытирая слезы.
— Ничего, Динка, ничего. Ну что же теперь. Во Дворах тоже живут! Есть хочешь? А пить? Пойдем накормлю. У Сквера яблоки поспевают и вишня.
Мы с девочкой пошли мимо нашего дома в скверик, где я всегда любила гулять с мамой и папой. Обычно мама и папа медленно шли под ручку по аллее, а я носилась по траве, забиралась на невысокие развилки яблонь, за что мне и попадало от папы — он боялся всяких 'мальчишеских' выходок — за меня боялся. После Качелей я ни разу туда не ходила — почему-то мне казалось, что мне надо быть только во дворе. Мы прошли мимо Августы Михайловны, которая семенила к подъезду с авоськой. Я поздоровалась, и как всегда, меня не заметили.
— Ну вот, и так всегда, — пояснила я моей спутнице. — А тебя она видит?
— Неа, — помотала головой девочка.
— А тебя тоже заколдовали в невидимку.
— Нет, я сама себя такой сделала. Зачем людям меня видеть?
Мы вышли к переходу.
— Надо посмотреть сначала налево, потом направо, не идут ли машины, — сказала я.
Девочка засмеялась.
— Ну ты даешь. Нам никакие машины не страшны!
Правда, дорога и так была пуста, и мы оказались в скверике. Здесь гуляли пары, тетеньки с собаками, играли дети. Девочка повела меня к лужайке, заросшей елками, кленами, сиренью. На развилке клена — я бы сказала, ох как высоко, мне туда и не долезть, — сидел большой мальчик (или дяденька, я так тогда и не поняла). В клетчатой рубашке и зеленых штанах. Увидев нас — а он нас тоже увидел! — мальчик спрыгнул с клена и помахал нам рукой.
— Подожди тут, я у него попрошу еды, это Сквер, он хороший, — выпалила скороговоркой девочка из сирени. Я осталась в стороне, девочка быстро подошла к Скверу, и они о чем-то говорили, только вот слова не произносили — я просто чувствовала, что говорят. Как Барсик со мной примерно. Сквер подошел ко мне и положил руку мне на плечо.
— Дина, ты не бойся, — сказал он. Ой, а рта-то он не открывал, и слов не произносил. Ну точно как Барсик, но слова звучали в голове.
— Я не боюсь, — начала я вслух.
— А, словами хочешь? Ну давай словами, — заговорил и он. — Короче говоря, не бойся. Я угощу тебя яблоками, их ты сможешь есть, они вкусные. Приходи ко мне всегда, когда только захочешь.
— Куда к вам? То есть к тебе? Ты где живешь?
— Тут живу.
— Прямо в скверике?
— Я и есть Сквер.
— А, я думала это кличка. Я в фильме видела, что у плохих ребят бывают клички…
— Нет, я просто Сквер. Ты ради мамы осталась, я знаю. Но нельзя же все время только во дворе быть, ты ко мне тоже приходи.
— А почему мама меня не видит? — спросила я.
Сквер вздохнул.
— Так вот получается, что не видит.
— А почему ты меня видишь тогда, и ее, — я мотнула головой в сторону девочки из сирени.
— Зато меня самого никто не видит, — засмеялся он. — Из людей.
— А мы?
— Ну какие же вы люди!
— Дурак!
Потом, когда мы втроем долго сидели на лавочке под елью и говорили, я взяла 'дурака' обратно. Сквер и девочка из сирени объяснили мне, что да, они не люди. И я теперь тоже как они. Они объяснили мне, что качели меня убили — то есть, конечно, не убили по-настоящему, но мои родные думают, что меня больше нет. Что на самом деле надо было идти с Теткой, но вот теперь я осталась во дворе. Что такое бывает, что остаются.
— А вы тоже так, да? Остались?
— Нет, мы-то нет, — терпеливо объяснил Сквер. — Мы так и были. Но ты не бойся, ты научишься всему, что мы умеем…
— А как ты по деревьям так высоко лазишь? — встрепенулась я.
— Вот, и этому научу!
Я заплакала:
— Я хочу жить с мамой…
У мамы и папы через два года родился Сережа — мой брат. Я все время смотрела за ними. Когда мама ходила с животом, они с папой часто гуляли по скверику Сквера. Я сидела на дереве, а они мирно проходили подо мной, о чем-то тихо разговаривая. Я прыгала с самой высокой развилки (совсем не больно) и шла рядом, слушала, смотрела на их лица. У подъезда я их тоже караулила. И бабушку провожала в магазин. Потом мама и бабушка по очереди стали гулять с коляской. Я подходила к коляске и смотрела на Сережу, даже трогала его. Когда он стал побольше, то я увидела, как он мне улыбается. Он меня видел!
Дворик
Прямо посреди моего двора стоит тополь, а палисадники обсажены сиренью, белыми розами и боярышником. На детской площадке с ржавой горкой — высокая трава. Такой же двор рядом и у Рябины, только горка не такая ржавая и качели еще скрипят. А мой двор огорожен с одной стороны помойкой, где мусор вываливается из ящиков, а с другой выходит на котельную. Рано утром, до дворника, я иду собирать мусор. Не скрываясь. Если кто и бывает на улице в этот ранний час, то не обратит внимания на бомжа, похожего на тень, который, ворча и бормоча что-то себе под нос, наклоняется за очередной бутылкой. Все это я медленно отношу в помойные ящики, и когда люди идут на работу, меня уже не видно.
Качели в моем дворе висят на одном тросе, никто уже давно на них не качается. С горки тоже никто уже давно не катался — детей во дворе и нет. Иногда по ночам сюда приходят пить пиво, и тогда возле горки вся трава усыпана бутылками и окурками, пластиковыми стаканами. Еще к горке иногда приходят курить разные девушки. Одни кладут на траву большие доски в сумках — они называют это 'планшеты', усаживаются на ржавые ступени, а кто-то из них стоит перед подругами, размахивая сигаретой. Другие приходят без 'планшетов' и на ступени не садятся, стоят втроем около горки и разговаривают. Я не всегда слушаю их разговоры — там много имен и других слов, которых я не понимаю. Но один разговор я запомнил.
— …Обязательно лесу надо плеснуть водки, — говорила одна из трех подруг. — Тогда он выведет и даст грибов и ягод…
— Ну, это язычество, — сказала другая. — Еще и ленточки на березку вешать, ага!
— Язычество не язычество, так все делают, и правда — я на себе проверяла.
— Да ну, — вступила третья. — Это жертвоприношение духам.
Потом они что-то долго говорил о духах и о язычестве, в руках у них появилась бутылка пива из сумки.
— А прикольно, если этот дворик тоже живой, как лес у язычников.
— Дворик, да. Дворег, — смеялись они. — Наш курительный дворик.
— Если бы здесь был местный дух двора, — задумчиво сказала первая, осматриваясь вокруг и указывая на мой тополь, — он бы точно жил вот в этом тополе.
Остальные засмеялись.
— И мы будем приносить ему пиво, плескать и говорить: 'Здравствуй, Дворик!'
— Нет, не Дворик — а Дворег!
Так я стал Двориком. Или Дворегом.
Кстати, в тот раз они еще немного поговорили, и собрались уходить. Та, которая говорила про жертвоприношения духам, кинула пластиковый стакан в траву и засмеялась:
— Вот тебе от нас, Дворик.
А первая, которая узнала мой тополь, сказала:
— Не смешно.
— Что он, на меня дерево уронит? Или подножку подставит? — фыркнула та. — Яму мне на пути выроет?
— Или стаю собак нашлет… — третья кивнула на мирно лежащих в тени собаку со щенками.
Я бы мог. И дерево уронить, и железяку под ноги, и яму, и собак. Но не стал. Я пристально смотрел в глаза той, кто узнала мой тополь. Девушка в черном свитере, синих джинсах, с длинными темными волосами. Она не видела меня, конечно. Но стояла и смотрела на тополь, и уходя, сказала:
— До свидания, дворик.
С одной стороны, мне одиноко. Двор очень тихий, не проходной, только курильщики и распиватели пива навещают часто. С другой стороны, здесь спокойно. Стаи собак сменяют друг друга, я выращиваю их и лечу — ведь когда-то давно я знался с волками. Разница есть — как между теми из нас, кто живет в лесу, и нами — городскими. Нет, даже больше. Трусливые, зависимые, несчастные — загубленная человеком ветвь волчьего народа. Я иногда мечтаю, чтобы они вернулись к своему роду. Но все равно глубоко внутри собаки я чувствую прежнюю волчью душу, и показываю им картины и сны о волчьем беге под луной, о тенистых оврагах в лесу, о буреломах и весенних ручьях. Когда болела собака-мать, я лечил ее, а в сильные морозы согревал щенков, и убаюкивал их снами о волчьей стае. Обо всем этом — и о другом — я хотел бы рассказать девушке, которая назвала меня Двориком. И стал рассказывать.
В первый же раз, когда она снова пришла ко мне — вернее, во двор. Она шла с сумкой, в которой лежали пакеты молока. Села на горку и закурила. И тогда я подошел совсем близко и показал ей, как растут лопухи в лесном овраге, как течет по дну ручей. Девушка закрыла глаза и мысленно пошла по руслу ручья — оказалась в моей памяти. Она думала, что просто замечталась о чем-то и видит яркие образы.
Я стал часто видеть ее. Наверно, ей нравились мои образы-рассказы, ну и еще — все-таки мой двор лежал на ее пути откуда-то — куда-то. Она шла мимо палисадника одна, засматриваясь на розы и шиповник, и — думая, что никто не слышит — говорила с ними. 'Какие вы классные… вы уже расцвели…' Она трогала их руками, наклоняла высокие ветки кустов, нюхала и смотрела, и очень редко рвала — один или два цветка, как будто на память. И я стал их растить для нее — особенно.
Еще она часто, проходя мимо, оборачивалась к тополю и кивала ему:
— Привет, Дворик.
Она чувствует все.
Иногда она приходит с теми же двумя подругами. Черноволосая, которая бросила мне стаканчик, громко говорит о непонятных мне вещах и смеется. Еще одна — с короткой рыжей стрижкой, больше молчит и курит сигарету за сигаретой. А та, кого я жду, — она и с ними думает о розах и о моем тополе. А я показываю ей картины весеннего леса, которые сам помню. Она не понимает, откуда они — но я знаю, что она их видит.
Дина
Когда брат Сережа подрос, я стала с ним играть. Он меня видел, и мы часто бродили с ним в кустах, за домом, у гаражей и зимой на маленькой ледяной горке. А еще я помогала ему найти кота — но об этом расскажу в другой раз. И еще мы часами сидели с ним на дереве (о чем я тоже расскажу позже).
Все дети двора — и Таня, и Алиса, и Вера — с которыми я играла до падения с качелей, и мой бывший сосед Олег — лазили на это дерево, обычный американский клен. Пять стволов расходились, как спицы полураскрытого зонтика, из земли, наверху разделяясь на развилки и пуская толстые ветки. Можно было сидеть на развилках, на ветках, на наклонном стволе — и при этом оставаться лицом друг к другу. Дети сидели там часами, рассказывая анекдоты, страшные истории или распевая какие-то песни — про Олю, которую убили ножиком, про тетеньку, которая зачем-то убила своих детей тоже ножиком, и про еще какие-то убийства и несчастную любовь, и про то, как 'в зале горько все рыдали'. Таких песен очень много знали старшие девчонки — они привозили их из летних лагерей. Они росли с каждым годом, и были уже не те, с кем я сидела в песочнице до случая с качелями.
Я тоже росла. Почему — не знаю, но Сирень и Сквер, и Рябина (это подруга Сирени и Сквера, которая со мной сильно подружилась) сказали, что пусть я расту — это хорошо. Я буду как они, но стареть, как люди, не буду.
Они не стареют — вон Рябине уже семьсот лет. Когда мне это сказали, я вытаращила глаза:
— А моей бабушке шестьдесят. Семьсот — это сколько?
— Семь раз по сто.
— Но таких старых не бывает.
Мои друзья засмеялись и сказали, что Скверу намного больше.
Все они раньше жили в лесах, в оврагах, в полях. Почему они пришли в город? Или город пришел к ним? Они отвечали просто:
— Здесь надо быть.
Кому надо, почему, зачем? Кому надо? — спрашивала я.
— Городу надо, — говорили они.
— А кто город?
— Мы — город… Мы — дворы, — отвечали они неясно.
И я тоже стала частью города, частью дворов.
Я слушала разговоры старших. Они говорили о том, кто жил в дубовой роще на окраине города (его называли Дуб). Вернее, не на окраине. Окраина там когда-то была — а теперь роща лежала между старой частью города и новой, которую построили на лугу. Остатки луга еще оставались там, где теперь стояли коробки девятиэтажных домов. Во дворах росла высокая луговая трава и клевер. А вот роща оказалась между, и в нее теперь ходили люди из высоких домов. Они там пили, бросали бутылки и окурки, жгли костры и жарили шашлыки, но это бы еще ничего, — там убили человека. Женщину. Рассказывала об этом Рябина, которая, кажется, знала все и обо всех и дальше всех ходила в городе.
От людей Рябина переняла привычку курить. Чертя в воздухе огоньком от сигареты, она рассказывала про убитую женщину.
— Не нашла троп, испугалась очень. Бросилась бежать, все позабыла — и осталась в роще.
Стояла теплая летняя ночь, и мы сидели на бревнах за домами, неподалеку от кустов, где жила Сирень. В такие ночи на этих бревнах нас можно бывает видеть и людям: к большой компании никто не подойдет, а что сидят какие-то на бревнах и курят, разговаривают — так ничего особенного. Бревна лежали так, что мы сидели кругом. Меня брали с собой всюду, и никто не гонял и не считал маленькой, никто не говорил, что мне что-то не надо слышать или знать (как часто бывало, когда я еще жила с мамой и папой и бабушкой). Поэтому я знала все, что могла услышать и понять.
— В роще очень плохо, дубы умирают, паутина на них — все серо от нее, — говорила Рябина.
— А женщина? — спросил Сквер.
— Не помнит себя, не знает, куда идти, бродит среди дубов, в роще тоска стоит. Дуб не умеет ее пока вылечить, не знает, как… Ни вывести на тропу, ни вылечить…
Сквер ничего не ответил, но по его лицу я поняла, что дело плохо.
— И что будет? — спросила я.
Друзья какое-то время молчали.
— Может быть всяко, — медленно заговорил Сквер. — Сейчас лето, так что надежда есть. Вот зимой или осенью было бы хуже…
— Да, лето, — закивала Сирень. — Солнцеворот.
— Да в этой роще — какой солнцеворот? — возразила Рябина. — В ней всегда — словно осень, и раньше-то так было. Совсем силы нет у рощи, и Дуб едва-едва еще как-то там живет. А теперь будет что?
— Так что будет, если самое худшее? — снова спросила я.
— Она так и будет бродить между деревьями, и плакать, и бояться, вечно — станет серой, и роща станет серой… И Дуб ничего сделать не сможет. Как бы и сам серым не стал.
— А уйти из рощи? — спросила я.
— Когда хозяин из рощи уходит или из двора — это самое плохое. Не серым будет то место — а пустым, а то и черным, — сказал Сквер, и тут я поверила, что ему и правда тысячи лет, как о нем говорили.
— А то, что случилось со мной… я вот не стала серой же, да? И двор наш серым не стал? — забеспокоилась я.
— Нет, ты — нет, — заверили меня.
— А серыми кто становится? Ведь не только бывшие люди, но и хозяева, да?
— Может стать кто угодно серым, а человек еще бывает и пустым.
— А черным?
— И черным человек бывает. А мы — нет. Ни пустыми, ни черными. Только серыми… но это очень грустно и плохо…
Они как-то помогли Дубу, я тогда еще была маленькой, и знала только, что помогли — но меня с собой не брали и ни к каким делам не привлекали.
Я жила, узнавала о черных, серых и пустых Местах, о границах и дверях, о воротах и воротцах. Я умела вырастить лопухи и осоку, подрастить маленькие клены и кусты шиповника, полечить дворового кота и собаку. Я начала следить за своим двором и за играющими в нем детьми, особенно — за братом Сережей.
Когда он шел на угол сдавать бутылки из-под кефира, я бежала рядом с ним, и он видел мою тень. Потом я забиралась на дерево, на этот самый американский клен, и устраивалась на ветке. И Сережа забирался на развилку пониже. И я рассказывала ему об оврагах и лопухах, о тонких деревьях, что растут за гаражами, о стае собак на пустыре, об особом осеннем дне, когда можно видеть то, что за границами, и о летних праздниках в рощах и парке, где наши выбирают самые глухие овраги. Мы спускались, я брала его за руки и показывала, как танцуют — кружилась с ним, а он — со мной.
Однажды его заметила бабушка, которая как раз вышла в магазин. Мы кружились в палисаднике. Пять дворовых котов, затаившись в зарослях лопухов, смотрели на нас круглыми глазами.
— Сережа! — надтреснутым голосом закричала она. — Закружится голова! Что ты скачешь? Иди домой!
— Я танцую с Диной! — крикнул он.
— Что? С какой Диной? — голос бабушки стал совсем неслышным, и она сползла на скамейку у подъезда.
— С сестренкой! — крикнул Сережа. Он радостно подбежал к бабушке. Ему было тогда лет семь. — Которая умерла! Она на самом деле есть…
Бабушка утащила его домой. Я увидела Сережу только осенью. Он заметил меня — я вышла к нему из-за американского клена. Он вздрогнул.
— Мне нельзя тебя видеть. Уходи. А то меня положат в психбольницу. Мне так бабушка сказала. Тебя на самом деле нет.
— Дурак, — сказала я и, оторвав осенний желтый лист с клена, бросила в него. — А сейчас? Вот же лист? Я его в тебя бросила.
— Он сам оторвался, — насупившись, пробурчал брат. — Ты — галлюци… нация. Вот. Это опасно и плохо. Папа ругает бабушку, что она мне рассказала про тебя. Но она не рассказывала. Он же запретил рассказывать — она и не рассказывала. Никогда. Даже имени твоего не называла. Он ругает ее, а она плачет.
Я разозлилась на папу. Как он смеет обижать мою бабулю?! Мало того, что они все меня не видят и не узнают! Они еще и друг другу делают плохо! Кулаки у меня сжались, и мне стало аж черно на душе. Так нельзя — двор может стать темнее, серее, а если долго злиться или обижаться — то может стать и черным… Ух, но я не могу! Зачем он обижает бабушку?
— Дина? Дин? — Сережа перестал видеть меня и завертел головой. — Ты ушла, обиделась? Галлю… эта самая… нация — это не обзывательство. Это болезнь. Я не хочу же быть психом… — заплакал он.
Я снова стала видимой для него.
— Сереж… ты же сам понимаешь, что раз бабушка тебе ничего не говорила, и даже моего имени — то откуда ты про меня знаешь тогда? Это же я тебе сказала, что я твоя сестра и что я, по-вашему, умерла. Ну? Значит, ты меня не придумал. Ведь так?
— То есть я что ли не псих? — вздохнул он. — Пошли за дом. А то вдруг увидят. Они так видят, как будто я сам с собой разговариваю…
Мы сели за домом на покосившуюся низкую лавочку в лопухах, где краснели битые кирпичи. Это было еще одно наше с ним место, а теперь стало единственное, раз на дереве нас могут засечь — то есть его засечь и отправить 'в психбольницу'.
Три кота вышли из зарослей и сели вокруг.
— Ты тогда просто не говори бабушке. И папе не говори. А то он будет ругаться, а бабушка плакать. Мы с тобой просто будем братом и сестрой, когда ты на улице. Ага? — убеждала я. Я все-таки была старшая сестра — старше на семь лет. — И когда ты вырастешь, хочешь, я возьму тебя на летний праздник в овраг? Там весело!
Я вспомнила, как там весело, и мне стало сразу хорошо, хотя и начиналась осень, грустное время для дворов, хотя и важное. На летнем празднике — бешено, дико весело, все скачут, танцуют, кружатся, сами и в хороводах, и город наполняется новой жизнью…
Сережа хмурился, вздыхал, но постепенно успокоился, вытер слезы рукавом куртки.
— Дин… Ага, ладно, Дин, — пробормотал он. — Ты значит вот правда есть? Честное слово?
Я знаю, как говорят пацаны и девчонки во дворе: 'Зуб даю' или 'Честное пионерское'. Но для нас это вроде неправильные клятвы. И зуб мы дать не можем, и не пионеры нисколько. Поэтому я просто кивнула.
— Есть, конечно. Ну вот правда — есть.
Мы полазили еще по гаражам, по заборам, я показала ему тайник в ближайшем овражке. Через три дня он вынес мне пирожки — бабушкины. Мы снова сели на нашей лавочке за домом.
— А ты мне расскажи еще про это кино? Ну, про разведчика? — сказала я, вытирая лицо лопухом. Признаться, я вцепилась в бабулин пирожок с яблоками, чуть ли не урча, как кот в куриную ножку (видела я такое дело на помойке), и физиономия у меня оказалась перемазанной яблочным повидлом.
— Ага! — с готовностью начал брат, доедая свой пирожок, с капустой. — Значит, короче, немцы…
Так мы и жили. Зимой мы с братом катались на горке, весной шлепали по лужам, летом собирали тополиный пух за гаражами.
В овраг на летний праздник я его так ни разу и не взяла — наши сказали мне, что это скажется на нем плохо, и что людям (живым, то есть, людям, а не как я) видеть это не надо, разве что немногим, которые все равно будут потом как мы и уже решили. А то Сережа не сможет стать как все, а если не как все — ему плохо будет жить среди людей.
Брат рассказывал мне фильмах, о книгах, о молекулах и всяком другом, чему учат в школе, он даже учил меня писать и читать, еще он говорил мне о своих друзьях, а потом — о спортивной фехтовальной школе, куда стал ходить, но самое главное — о родителях и о квартире. О том, что переставили пианино, купили новый телевизор, где теперь висит бабушкина вышивка с сиренью. Сережа рассказывал, что бабушка обижается на папу и часто уезжает к младшей сестре — на месяц, на два… А мама плачет и пытается их помирить. Я злилась на папу и часто летом сидела в зарослях у подъезда, смотрела, как выходят то мама с отцом, то одна бабушка, и жалела бабушку, пыталась прикоснуться к ней, посылала ей навстречу котов, чтобы ей было приятно посмотреть на них, или собачек, чтобы ее порадовать, а зимой, в гололед, кружила вокруг нее, когда она шла по двору, и охраняла, чтобы она не упала. А отцу один раз подставила подножку. Он упал, шапка слетела с головы, но не ушибся — я поддержала.
Я рассказала Рябине (Сирень зимой обычно дремала в подвале), и та сказала:
— Зря ты его. Он все же отец. С этого серость порой и начинается. Не надо, Динка… что поделаешь.
Мы с братом виделись не часто — раз в месяц, а когда и реже. У меня тоже были свои дела, и у Сережи оказывалось все больше уроков, фильмов, книг, друзей, о которых он уже не успевал мне рассказывать.
Когда Сереже было лет двенадцать, он сказал, что бабушка заболела и лежит. Мама ухаживает за ней, папа вроде стал смирным и старается не мешать. Я плакала и бродила всю ночь среди репьев и лопуха.
— Она умрет? — спросила я Сквера. Мы с Рябиной сидели у него — в сквере — на лавочке у Ворот. Ворота — из двух елок, в самом центре самого большого газона сквера. Там — одно из его Мест. Сквер угощал нас сохранившимися на зиму яблоками. — Почему я могу вылечить кошек, а ее не могу?
Мои друзья молчали.
— Ну что вы? Я хочу ее вылечить. Я вылечу! — я переводила взгляд с Рябины, с ее пестрыми волосами, серыми, как кора дерева, и светлыми, как блики солнца на ней, — на темноволосого лохматого Сквера. Оба они в свитерах и джинсах — так ходят зимой все наши. А сейчас апрель, и часто еще бывает холодно. — Как попасть в дом? Рябина! Сквер! Как попасть? Не верю, что нет пути.
Они переглянулись.
Рябина нахмурилась.
— Дина, мы тебе этого не говорили раньше… просто чтобы… ты не осталась жить в квартире. Во дворе лучше. Ты потом поймешь. А может, понимаешь уже и сейчас. В квартире жить — плохо и для твоих, и для тебя. Вы извели бы друг друга, все нервы бы друг другу вымотали… Как человек, ты жить там не сможешь, а как домовой… оно тебе нужно? Это больно тебе будет. Но, в общем, обещай — что вылечишь и уйдешь обратно в дворы. Хорошо?
Я уже привыкла в Дворах, а как живут домовые — слышала, поэтому уговаривать меня не пришлось: я знала, что мне самой в доме родителей никто будет не рад, а скользить по ночам тенью и прятаться в углах — тоже еще та радость. И я не хочу мотать нервы моим родным — я хочу помочь. Поэтому я только хмуро кивнула.
— Все очень просто. Пусть твой брат тебя позовет через порог — сначала подъезда, потом квартиры. Тогда ты сможешь войти. И пусть потом позовет обратно.
Мне некогда было тогда думать, почему люди имеют такую власть над нами. Почему мы не можем сами войти и выйти, когда хотим. Впрочем, ответ напрашивался сам собой: их дом — это как наше Место. Мы же тоже не всех подряд пускаем в наши Места, и бережем их, как можем. Наши места — это мы, а дом, значит — это все равно что сами люди, все правильно и справедливо. Но это я все думала потом, а тогда просто не до того было. Я засела у подъезда и дождалась, пока Сережа спустится с мусорным ведром. Я пошла рядом к мусорке — она далеко от дома, и путь до нее лежит мимо сирени, нашего круга из бревен и палисадника с пролесками (они уже там, в земле, почувствовали весну).
Сережа сразу понял, что надо позвать. Когда мы вернулись с помойки, он открыл дверь подъезда и сказал тихо, оглянувшись по сторонам:
— Дина, входи. Я тебя приглашаю… зову… в наш дом.
И я почувствовала, что Порог могу перешагнуть легко. Подъезд был знакомым и родным. Вот на этом коврике перед соседской дверью на первом этаже в то время, когда я здесь еще жила, сидела красивая пушистая кошка. Когда мне было четыре года, я боялась проходить по лестнице мимо нее ('Там киса!') Вот почтовые ящики. А вот и наша дверь с цифрой шесть! Сережа открыл дверь своим ключом (он у него был на шее) и пробормотал:
— Дина, входи. Я зову тебя и приглашаю…
Вот и коридор — полки с книгами до потолка… Папа читает за столом в зале газету. Мама на кухне, судя по запаху — суп с фрикадельками… На окне зеленеет сочный алоэ… Но по всей квартире разлита печаль и серость… Такая — что уже скоро будет и пустота. И болезнь. И бабушка — я почувствовала — лежит в дальней комнате, ей одиноко и печально. В коридоре меня встретила новая кошка — Барсик уже был со мной, а эта черная пушистая из дому не выходила. Сережа про нее рассказывал иногда. Кошка уставилась на меня, выгнула спину, коротко зашипела.
'Тихо! Я своя. Я не задержусь здесь. У вас в Месте плохо — а я постараюсь сделать лучше'.
Кошка села, обернув хвост вокруг лап, замурлыкала, круглые желтые глаза стали щелочками. Сережа кивнул мне — дернул головой в сторону комнаты, где лежала бабушка — в самом конце комнаты, у самой стены. Здесь на окнах были цветы — я помнила названия с детства, с тех пор, как мне было пять лет. Фуксия… и… Нет, забыла. Дальше — не помню. Вышивка с сиренью висела прямо над ней. Бабушка смотрела перед собой прозрачными голубыми глазами. На столике перед ней стоял нарезанный лимон с сахаром, творог, — мама ничего не жалела. Но я видела, что у бабушки плохая кровь. Совсем плохая.
— Сереженька… сыночек, кто с тобой?
Я помнила, что она и меня называла 'Диночка, доченька'. Я знала, что ее собственный старший сын, брат мамы, умер во время войны от воспаления легких — ему было шесть лет. Мама родилась уже позже.
— Диночка, доченька… — бабушка поднялась и потянулась ко мне.
'Бабуля! Я пришла, но меня никто не должен видеть'.
Бабуля заплакала.
— Диночка, доченька, я знала, что ты есть где-то… Где-то живешь…
В соседней комнате зазвучали голоса.
— Заговаривается опять… Видит Дину, — говорил папа.
— Она вчера говорила, что и Валеру видела… — подала голос мама. Валера — это и был ее умерший сын, мой дядя, которого я никогда не видела. Я услышала, что мама за стеной плачет.
— Заговаривается, — повторил папа. — Мозг перестает правильно функционировать.
Ему важно было все объяснить с научной точки зрения. Тогда становилось ясно и не страшно.
Я села рядом с бабулей.
'Я хочу полечить тебя. Я знаю, у тебя плохая кровь. Я сделаю хорошую'.
— Голова болит и сердце… и в глазах темно.
Сережа сел за свой стол (он спал в одной комнате с бабушкой, и тут же стоял его стол, где он делал уроки) и стал заполнять дневник — вернее, делать вид, что заполняет. Сам он, не отрываясь, смотрел на нас. Кошка прыгнула на кровать и села в бабулиных ногах, таращась на меня, как сова.
Я села на край бабушкиной кровати и взяла ее за руки. Бабушка была мыслями не здесь. Я видела сад — красивый, тенистый сад, где растут гладилоусы, лилии, аквилегии, где маленькие пруды с осокой, и по земле скользят тени от веток яблонь, а под черемухой висят качели на веревках. Бабушка в платье, которые носили давно, до войны, качает на этих качелях мальчика в белой панаме. Потом я видела, что это уже не мальчик, а девочка — и сад другой… Такой же ухоженный, тенистый, яркий — но другой. А девочка — моя мама. И она уже не на качелях, а копается совком во влажном песке у пруда. Большой полосатый кот притаился в траве — охотится на лягушек. Заливаются птицы… Воспоминания бабушки путались, но одно оставалось неизменным — сад. На какой-то миг мне показалось, что бабушка похожа на нас, хозяев. Ей, может быть, хорошо бы было среди сада, рощи, парка или двора. Может быть, предложить ей сейчас уйти со мной. Но потом я представила, как Рябина или Сквер, зимой, в джинсах и свитере, согревают замерзших птиц, собак, кошек, бродят по своему Месту — и у них нет ни дома, ни кружевных салфеток, ни плиты, где можно готовить пироги или суп… а главное, во дворе она никогда не увидит Валеру и своего мужа, моего дедушку, Василия. Да и с Сережей придется видеться тайно, как мне. А дочь — мама моя — вообще будет думать, что ее нет…
'Бабуля?' — сказала я. — 'Тебе уже лучше. Ты скоро снова станешь ходить…'
Бабушка посмотрела на меня:
— Доченька. Не надо. Не хочу здесь. Все чужое. Ты ушла. Сереженька большой вырос, смотри. Я уже ему не нужна. Наташа с Игорем… не хочу, чтобы они ссорились. Пусть хорошо живут.
'Чужое, бабуля? А где не чужое? Твое где?'
— Там, доченька. В саду моем. Где Валера, Васенька. Там хорошо… Там я осталась, вся память там, все хорошее только там было. В прошлом.
'Бабуль, это не прошлое…'
Я была уверена, что сад этот есть сейчас. Я его чувствовала. Казалось, руку протяни — и вот он. Шаг шагни… Но здесь его нет, хоть проживи бабуля еще десять лет, двадцать. Сад так и будет все эти годы по ту сторону. Не здесь. За границей. И она будет только тосковать и вспоминать его…
— Бабуль, но тебе больно, голова болит, сердце. Страшно… Если бы можно было в сад — но чтобы не больно?
— Не знаю, Диночка.
— Я сделаю…
Я все-таки сидела рядом, смотрела сад, который был в ее памяти, бродила по его тропинкам и снимала боль. Я рассмотрела лицо Валеры, дедушки Василия, кота Буськи, лица бабушкиных сестер, веселые праздники в саду, песни под гитару и мандолину (до войны почему-то на ней любили играть). Шло время, наступал вечер. Я все сидела рядом, снимая боль, поддерживая бабушкины силы. Рядом со мной иногда садилась мама, поправляла бабушке подушку, поила ее кислой водой. Бабушка закрыла глаза и бродила по своему саду уже в дреме. Поздно вечером мама отошла, она сидела в соседней комнате, думая, что бабушка спит; папа пил валерьянку. Сережа читал на кухне. Он иногда приходил в комнату проведать, как мы.
А когда уже наступила ночь, кошка зашипела, подскочила, будто ее кипятком ошпарили — и уставилась круглыми глазами на женщину в синем платье, которая как-то вошла в комнату. Мы с ней сразу узнали друг друга — нам было не надо слов. Это была Та Женщина, которой я боялась панически еще с детства. Я вцепилась в руку бабули.
— Вы не заберете меня? — я не хотела идти, у меня были мои коты и кошки, Рябина, Сирень, Сквер, лопухи, сирень, летние праздники, а главное — Сережа и мама. Я знала, что бабуля уйдет — но она уйдет в сад, и там найдет своих, и ей будет хорошо. Она прожила последние годы, как лишняя в этом мире, думая только о прошлом и о тех, кто остался там.
— Тебя уже трудно забрать, ты стала частью Места, оно тебя не отпустит. Разве что ты сама когда-нибудь очень захочешь уйти. Но меня может не оказаться рядом. Мне будет очень жаль… Я тогда искала тебя — и на девятый день, и на двадцатый, и на сороковой. А потом уже не нашла…
— Разве вы не всех водите через границы? Разве мне нельзя просто быть рядом, когда кто-то… кому-то надо уйти? Ведь люди во дворе будут умирать. И тогда я вас снова встречу. Если мне будет нужно.
Женщина покачала головой.
— Не всех. И места там — тоже разные. Как ваши Дворы. Они связаны между собой — но различны. А есть такие, которые отделены… И я вожу не во все места. Тебя бы я отвела в твое…
— А как вас позвать? Вдруг нужно будет позвать?
Она назвала какое-то имя. Ниренн? Нивенн? Я не то чтобы не расслышала, просто имя звучало настолько не по-нашему, даже не язык другой (язык-то бы ладно), а словно значило не только звук. Я знала, что у всех наших, кроме таких имен, как Сквер, Рябина, Дуб, Репей есть еще имена — тайные, только для своих. У меня тоже такое есть. Мы этими именами старались друг друга попусту не называть. Значение этих имен было сильнее, чем 'Дуб' и 'Рябина'. Эти имена были все равно, что они сами. А у Ниренн или Нивенн оно было еще сильнее, чем у тайных имен хозяев. Это имя — не просто она сама, оно больше, чем она… Может быть, ее Место. Может быть, дороги и двери, которые туда ведут.
Бабуля спала, а Ниренн еще говорила что-то: надо встать на границе… пограничное время, пограничное место… Но эти слова, точно так же, как ее имя, значили настолько больше, чем звук, что часть смысла сразу же терялась. И вместе с тем, мне казалось, что я запомнила и поняла все.
— Когда у тебя здесь не останется ничего, позови… А сейчас мне нужно вывести Ирину через двери лета.
— Лета?
— Разве ты не видишь? Это летний сад. Это летнее место. До встречи, Дина…
Ниренн (или Нивенн) протянула руку, бабушка легко встала, и я видела, что это снова молодая женщина маленького роста с круглым детским лицом, в пестром и светлом летнем платье. Старая бабушка осталась спать — нет, уже не спать — на своей кровати. Молодая женщина Ирина протянула мне руку.
— Спасибо… было совсем не больно. Я увижу всех, Васю, Валеру… спасибо!
Я сжала бабушкину руку — молодой бабушки. Ниренн снова сказала 'до встречи', и я не заметила, как их не стало. Я не видела, были ли двери лета, куда они открылись и где. Видимо, пути туда все же тайна, и даже нам, живущим в дворах, нельзя их видеть.
Я бесшумно встала за спиной у брата на нашей кухне. Он сидел, втиснутый между колонкой, кактусом алоэ на подоконнике и столом, покрытым клеенкой.
— Сережа, выпусти меня из квартиры. Бабушка ушла в сады через дверь лета. Ей теперь хорошо. Она не хотела оставаться. Скажи маме, папе… Как-то сделай, чтобы они заметили, ну… что она уже не просто спит. Не плачь. Ей там хорошо, правда! Приходи завтра во двор, на нашу лавочку, ладно?
Бабушку хоронили через три дня. Пришла машина, и я не могла быть рядом с братом, я сидела в кустах в палисаднике, смотрела на плачущую маму. А потом, когда уже наступило лето, попросила брата отвести меня на кладбище. Мы пробрались туда в летний день. Там не живут Хозяева, но что-то там есть — что, я не знаю. Там тоска и ощущение пустоты. Рябина сказала, что там серое место, и лучше туда не ходить. Я попробовала поговорить с маленьким кленом, который рос в бабушкиной ограде. Он грустил. (Сейчас это огромный, раскидистый клен, его крона покрывает не только бабушкину могилу, но и еще несколько, я просто часто к нему ходила). Я часто думала о садах и о дверях лета… Спрашивала Сквера: он живет сотни лет, и я была уверена, что он знает. Он сказал, что таких дверей много, но открывать их могут только те, кто приходит оттуда сюда — к нам, такие, как Ниренн. Что раньше бывали и с нашей стороны умеющие видеть и открывать их, но все больше бывали не в наших краях, а в городе их сейчас нет. Что — как мы все знаем — между дворами есть двери и переходы, и есть от них ключи, и вот эти переходы в чем-то подобны тем дверям, но в чем-то и отличны. А ключи от тех дверей, значит, у нас отняты.
Я не грустила, что отняты ключи. Летняя пора принесла наши праздники, и в оврагах старого парка мы собрались со всего района, и даже пришли хозяева из дальних мест города, где строят дома-коробки, и больше ничего нет. Это называется 'спальные районы'. Между ними и нами, Центром, стоят еще рощи, а коробки строят там, где раньше были луга и текла небольшая речка. Те, кто жил в лугах и у речки, ушли дальше, но некоторые остались, чтобы место не было пустым. Они видели, как там плохо, пусто, безрадостно. Люди там пьют или дерутся, даже убивают. Тамошние хозяева, жители окраин, отличаются от нас, Центра: настороженные, взъерошенные какие-то, как вспугнутые вороны или помоечные коты, движения резкие и порывистые, и одеты они в темное, — таких было десять или двенадцать. Я подошла к одному, потащила за руки танцевать, и он долго не улыбался, просто молча кружился со мной, как будто думал о чем-то мрачном и тревожном. 'Ты кто?' 'Ворон', - ответил он. Потом его утащила танцевать наша Рябина. А рядом, также без улыбок, кружились двое. Он — высокий, худой, с серыми волосами, заплетенными в хвост. В хвост вплетена дубовая ветка, листья у самого пояса, у ремня. А с ним — девушка с длинными черными волосами, тоже настороженная и печальная, с венком дубовых листьев на голове. Рябина сказала потом, когда мы сидели на наклоненном стволе березы в овраге.
— Она — как ты. Это та, которую убили в роще у Дуба. Они с Дубом теперь вместе.
— Она не ищет дверей? — тихо спросила я.
— Она, наверно, уже совсем не смогла бы уйти, даже если бы были двери, — так же тихо ответила Рябина. — Она не помнит, куда идти, ее Местом стала роща.
А моим Местом окончательно стал двор. Сначала тот, где я родилась. Потом — несколько лет — я жила во дворе Рябины, где получил квартиру мой брат. Но собственный двор тянул к себе, стал печальным и бесхозным, а брату давно уже и так было не до меня, и я вернулась.
Но я забегаю вперед. До этого ведь я видела, как хоронили и маму, и отца, но приходила ли за ними Ниренн, или кто-то еще, и через какие двери они ушли — я не знаю. Вообще со дня смерти бабушки до смерти мамы прошло лет двадцать. Последние десять лет перед своим уходом мама кормила всех кошек двора — а я стояла рядом с ней, чуть касаясь плеча, и чувствовала, что на душе у нее делается от этого тепло и спокойно. Мы вместе смотрели на кошек, она знала их по именам, они стали ее семьей, прыгали к ней на колени, терлись об ноги. Когда она не вышла на улицу первый день, я еще не тревожилась. На второй день забеспокоилась, а потом увидела Сережу — он пил теперь много пива и облысел, проходил через двор быстро и уже много лет не разговаривал со мной, словно не хотел знать меня и обо мне. В тот вечер я подстерегла его: он шел мрачный под дождем. Я скользнула под его зонт, он отпрянул.
— Что с мамой?
Он отшатнулся и схлопнул зонт, задел меня спицей по лицу.
— Что с мамой? Позови меня в дом, я буду ее лечить…
Брат развернулся ко мне спиной и быстро исчез в подъезде. Потом начались 'Скорые', я уже знала, что это именно с мамой плохо. А потом у подъезда стоял гроб. Мне стало очень плохо, я спряталась в подвале и не выходила два дня. Когда стоял гроб, Ниренн (и никого подобного) не было рядом. Может быть, она увела маму прямо из дома, из ее комнаты, а может быть, за ней приходила вовсе и не Ниренн — но я об этом уже говорила. Через год умер и отец, и брат переехал, продал квартиру. У него появилась жена — уже вторая, первая его бросила еще при жизни родителей. Я перебралась в тот двор, поближе к брату. В новом дворе он пугался меня и ускорял шаг, когда я выходила из кустов боярышника. Как он живет, я узнать не могла, по лицу видела, что плохо. И вот я вернулась в свой самый первый двор, а Рябина рассказывает мне о брате, когда ей случается его увидеть.
Все шло, как шло, коты множились в подвалах и кустах, репейник буйно цвел у газовой будки и гаражей, Сирень за домом развела такие заросли, что даже мне там было ее трудно найти.
Я спрашивала Рябину, не стал ли Сергей пустым. Она говорила, что не чувствует пустоты, а чувствует только серую печаль. Я сама прокрадывалась к ним во двор и снова и снова подстерегала за машинами, видела его — и ощущала, что действительно, печаль есть, а пустоты пока еще нет. Но она уже была рядом.
Рябина
Летней ночью мы со Сквером, Двориком-соседом и Репьем сидели на скрипучей вертушке во дворе у Репья. Сквер поглядывал на угол дома. С вертушки был виден второй подъезд и свет по всему стояку квартир. Я курила. Ворону не нравится, когда я курю, а еще больше не нравится, как я добываю деньги на курево. Когда мне хочется подымить, я выхожу через арку дома Репья к магазину и встаю около урны. Люди видят скромную, бедно одетую старушку с протянутой рукой. Мне дают денежку, уже давно я узнала, какие сейчас деньги и что сколько стоит. Пятнадцать или двадцать рублей набираю быстро. Один раз молодой человек в цветной футболке стал расспрашивать, почему я попрошайничаю, есть ли у меня внуки. У него при этом болел зуб. Я сказала, что у меня никого нет, он пожалел меня и дал десять рублей, и зуб у него прошел. Иногда я также набираю денежки на корм моим кошкам. Ларек с кошачьим кормом находится в той же арке, и я покупаю 'Рояль Канин'. Это дорого, но хозяйка ларька думает: 'Вот сумасшедшая бедная старушка, наверно, очень любит своих кошек, заядлая кошатница'.
Но я не об этом. Сейчас-то я не старушка, а сама я. Болтаю ногами в камуфляжных штанах, затягиваюсь сигаретой.
— Прилетит Ворон, будет ругаться, — замечает Репей. — И звать тебя с собой.
Я вздыхаю. У Ворона во дворе плохо, может и правда, вдвоем нам было бы легче его держать, а мой двор бы хранил Дворик, который совсем рядом, развел бы тут свою стаю, рассадил бы белые розы… Но тогда в Центре нас будет еще меньше, чем сейчас. Сможет ли он удержать два двора, особенно когда там Строят (и вовсе не спешат 'валить на…', как я им написала, а пилят и сверлят и долбят и кладут асфальт, похоже, им это просто нравится), и когда Динкин брат Сергей ходит в облаке серой печали? И я ничего не могу сделать ни с тем, ни с другим. Если в Центре нас станет меньше, то это значит одно: серых мест и пустоты будет больше. Это закон. Центр — сердце города, здесь еще пока есть сила и помощь для всех, и пока центр живой, даже людям с окраин легче дышать и жить. И не людям, конечно, тоже. Это понимают все, поэтому мы молчим — и каждый знает, о чем молчат другие.
— Двор Дины… — сказала я. Двор Дины в этом году становится все серее и серее, зарастает лебедой и полынью, унылой, хилой. Он становится замкнутым, как коробка, в которую не хочется входить. Посреди двора ржавеет горка и рассыхается деревянный стол, на котором раньше играли в домино. Дети не играют (там и есть несколько детей, но играть они бегают в соседний двор — а это плохой признак), старики не сидят на лавочках (если им надо погулять, то идут в Сквер и кормят там голубей). Все чаще во двор заходят чужие подростки и алкоголики распивать пиво и водку, двор становится ничьим, — те, кто живут там, бегут из него, а чужие приходят на раз, на два (но им тут тоже не нравится, и они больше не возвращаются). Дина сидит в подвале с кошками, иногда ее не дозовешься, если и придешь. В палисадниках ничего не растет, этой весной поцвела немного чахлая вишня, остаток роскоши былых времен.
— И Дина, — сказал Сквер. Но думал он не только о Дине. — Знаешь, может случиться так, что все-таки ей надо будет уйти… Все же она решит. Я знаю, кто мог бы ей помочь.
Сквер
Она пришла во время слабого моросящего дождя. Села на скамейку под елью, достала пачку сигарет и стала курить. Ее не радовали цветы, которые распускались прямо перед ее глазами, не радовала моя зеленая трава и пение птиц в кроне моего клена. Ей всегда становилось радостнее, когда я встречал ее, а сейчас — нет. Ее окутывало облако серой печали. Я вышел из дождя и сел рядом с ней.
Нина
Эти ели всегда казались мне воротами — такими маленькими воротцами, которые ведут… я правда не знала, куда они могут вести. Но мне всегда казалось, что если я пройду через них, все изменится к лучшему. И еще мне казалось, что сквер надо всегда обходить по часовой стрелке — идти и идти вдоль по аллее и теряться в ней, растворяться среди шелестящих кленов, глядя вдаль. А потом я сворачивала и шла по тропинке между елями, проходила между ними, а порой и стояла под еловым шатром, прислонясь к стволу, и смотрела на небо сквозь завесу хвои. Я входила в воротца, и мир, конечно, не менялся, но что-то менялось во мне: я как будто знала, что поступала правильно. По каким правилам, кто их устанавливал? Неизвестно. Старые девы бывают суеверны и зациклены на мелочах. Наверно, мои обходы сквера по часовой и прохождения между елками — сродни многократному возвращению в квартиру на предмет проверить утюг, или другим ритуалам, описанным в специальной литературе. По психиатрии, или психологии, кто знает.
Здесь мне всегда было хорошо. Моя любовь, такая как она есть, никому не нужна, — только маме, но у людей бывают еще мужья, любимые, дети, а у меня этого не было, нет, и, видимо, не будет. И я привыкла говорить о любви с деревьями, птицами, собаками и кошками, и мне становилось легко, как будто я попала в семью. Даже не так — в Семью. Вот так и становятся старухами-кошатницами, или пациентами дурки. В дурку сдаваться я не собиралась, а до того, чтобы стать старухой, мне нужно еще лет пятнадцать… ну, или двадцать. И я говорила со сквером, придумывая себе, что он живой и слышит меня, что он мой друг. Я хвалила его аллеи, деревья, цветы, птиц, махала рукой кленам и касалась березки (нет, не как Есенин, не обнимала). Весной и летом уносила оттуда ветки сирени, рябин, дубков, зимой — сухую траву.
Но сейчас меня не радовало ничего. Я вырвалась на полчаса, попросив соседку посидеть с мамой. Мама умирает, может быть, ей осталась жить неделя, две, и я поняла, что мне просто хочется сейчас проплакаться. Мне никто не может помочь, и у меня нет друга, чтобы хотя бы помолчать об этом вместе, покурить вот так на лавочке, рядом… А мои деревья, кусты, птицы — они не могут мне помочь. Да я и не за это и не для этого их люблю. Но кроме них у меня никого нет… А сейчас нужен кто-то рядом, с кем можно было бы поговорить, хотя бы поговорить.
И словно отвечая на мои мысли, рядом бесшумно появился откуда-то дяденька бомжеватого, но не совсем опустившегося вида в штормовке, с лохматой седой головой, совсем не пьяный. Но, кажется, немного чокнутый, странный — впрочем, а кто сейчас нормальный. Как он подошел, я не заметила: наверно, совсем уже задумалась и зациклилась на своем.
— Простите, у вас не будет сигареты? — совершенно молодым голосом, очень вежливо сказал мужичок. Бывает: сам стареешь, а голос сохраняется. У меня вот тоже так. Голос семнадцатилетней девочки.
— Пожалуйста, — сказала я.
И так мы сидели и говорили юными голосами. Пока курили. И между фразами делали долгие паузы — затяжки.
— У вас какое-то горе?
— Да. Но… оно такое… ничего.
— Я хочу помочь…
— Вы не можете. Не надо. Давайте просто посидим. Не парьтесь. Это такой вопрос… В котором помочь нельзя. Простите, мне надо идти.
Рядом с бомжом было как-то спокойно, словно даже надежно, но я боялась, что разревусь, что уткнусь в его не первой новизны штормовку, нелепость всего этого пугала меня, и мне казалось, я схожу с ума. На какую-то минуту мне даже пришла мысль… Но мало ли какие мысли приходят в голову после бессонной ночи.
Сквер
Она отказалась от моей помощи. Репей наблюдал за ее подъездом, несколько раз он подходил к ней, когда она выходила по ночам на крыльцо курить. Он появлялся из темноты, из-за березы или куста сирени, и они всматривались друг в друга. Один раз он спросил, нужна ли ей помощь. Она сказала, что нет. Репей часто помогает дворнику, он ходит в вытянутом свитере, и жильцы дома думают, что он бомж и живет в подвале.
Репей видел, как к ее подъезду подъезжают машины скорой помощи — сначала раз в два дня, потом каждый день и по ночам. Потом были похороны, от них Репей (как и все наши) старается держаться подальше — зацепишь серость, и все, потом очень долго придется восстанавливаться и тебе, и месту. Оказывается, она жила не одна, у нее была мама, которой никогда не видели во дворе… Репей потом нарезал круги вокруг подъезда, ночью и днем. Она почти не выходила, только ночью, и уходила подальше от подъезда, на лавочку в кустах. Рябина подошла к ней там положила рядом цветок рябины (как раз было время цветения), прикоснулась к ней и постаралась коснуться ее души теплом и покоем. На какой-то миг это удалось… Дней через девять она пришла ко мне.
Нина
Мама умерла в начале лета. Это был последний близкий человек у меня на свете. На лекарства, памперсы, питание уходило две трети моей зарплаты в редакционном отделе. Я шуршу на службе неприметной мышкой среди двух таких же сравнительно немолодых дам. В прочем, степень немолодости разная: скажем, мне сорок (ужас-ужас-ужас), а Лидии Васильевне пятьдесят пять, а Риточке — сорок семь, но она молодится и 'отжигает' назло врагам так, что тинейджеры нервно курят свою травку за старым сараем. Мы работаем в издательстве при — страшно сказать — консерватории. Для меня всегда актуальна и свежа распространенная шутка про 'в консерватории что-то не так'. В нашей консерватории точно что-то не так. Мы с Риточкой — одинокие дамы, вечные девицы на выданье, которых, впрочем, давно уже никто не пытается никуда выдать, а гипотетическая принимающая сторона — соответственно, получить, Лидия Васильевна живет с сыном-студентом и ворчливым мужем-инженером. Но мы все бодримся, стучим клавишами компьютеров, ходим по врачам, сидим с больными родителями (то есть обо мне уже тут — в прошедшем времени, я отсидела свое с мамой), занимаем свое время по вечерам чем только возможно: телевизором, Интернетом, придумываем себе другую жизнь, которая могла бы быть, и живем, словно в коробке. Или так чувствую только я?
Входя под своды нашего здания, я ощущаю, что отсюда нет выхода. Наверное, у меня навязчивое состояние, но для меня везде, куда я попадаю волею случая, будь то скверик, садик, улица, двор, лес, пусть даже дом, берег, заросший бурьяном, вокзал, — везде я вижу словно бы какие-то еще дополнительные пути. То есть мне кажется, что, допустим, улица Энгельса ведет не только к оперному театру, как ей и от века положено. У меня есть ощущение, что многие улицы, аллеи, овраги, лестницы, переулки и арки, щели между гаражами и дырки в заборах ведут куда-то еще, кроме того места, куда мы все привыкли ими ходить. И это 'куда-то еще' я очень сильно чувствую. Кажется, сделай шаг, и ты выйдешь в другое место. Что-то ведет на берег реки, что-то — на цветущий луг, что-то в сад или к заросшим ряской прудам, из арки дома на улице Пушкина летом можно выйти к уютным коттеджам в лесу, где всегда июньский светлый вечер, а зимой — попасть в снежный лес вроде того, в Нарнии. Улица Гоголя — маленькая улица со старыми домами — словно лежит не здесь, а в тихом английском городке, и ведет к англиканской церкви со шпилям (в натуре нет никакой церкви, там теперь какой-то бар в конце этой улицы). На улице Королева — на самом деле русская проселочная дорога с огромным, в мой рост, бурьяном и репьем, и там всегда осень, и вдали видится покосившийся староверский крест. На самом деле на этой улице действительно есть староверская часовня, очень аккуратно теперь отремонтированная, а вдоль тротуара — дома, магазины, офисные здания. Но мне упорно видится русская дорога с русской же тоской, и век самое позднее — девятнадцатый. Таких ощущений я могу рассказать еще очень много, на самом деле число вариантов бесконечно. Так я и живу. Может быть, это просто моя фантазия. Но вот там, где я работаю, нет никакого 'другого пространства', там квадратная коробка, которая кажется мне серой и непроницаемой. В ней мы и работаем, и она словно ест наши силы, высасывает радость, как дементоры.
Пока мама болела и совсем уже лежала, я брала работу на дом, Лидия Васильевна разрешала. Подработок не было, а зарплата, как я уже сказала, вся уходила на маму. Потом пришлось занимать на похороны. За квартиру я жестоко задолжала, приходили ругательные письма от коллекторов, я ходила и утрясала вопрос. Без мамы мне одной оказалось надо не много, что там — пакет макарон на три дня, пачку кофе — на неделю; но теперь стоял вопрос о том, чтобы выплачивать долги. Это все было на фоне того, что мамы, если подумать логически, — нет, нет нигде, и никогда не будет. И при этом было неотвязное ощущение, что она есть, что она никуда не делась, и я говорила с ней целыми днями. На работе мне дали отпуск, и я начинала каждый свой отпускной день со слез до истерики, до икоты, до головной боли — и крепкого кофе, а заканчивала тем, что засыпала перед телевизором часа в три или четыре ночи. Со смерти мамы прошло девять дней. Мне сказали, что в этот день нужно сделать очередные поминки, и я, замазав следы слез тональным кремом, дошла до кулинарии и купила пирог с капустой. Мне хотелось делать, делать и делать что-то для мамы, как я привыкла последние три года, когда она лежала, и особенно последние два месяца, когда было совсем плохо. Мне было ужасно, что я уже больше ничего не смогу для нее сделать, и что уже не доделаю того, чего не успела сделать тогда… Меня кидало и крутило в водовороте вины и безнадеги. Мне говорили, что надо ставить свечки и подавать за упокой. В младенчестве тогда еще живая бабушка меня крестила, но этим моя связь с православной церковью на долгие годы и ограничилась. Сейчас я готова была не вылезать оттуда, ставить свечки, подавать записки, и если бы можно было сделать что-то еще — я бы делала с утра до вечера, с ночи до утра, лишь бы мне кто-то сказал, что еще бывает, чем еще можно проявить любовь к маме.
Из кулинарии я зашла в церковь, поставила свечку, подала записку. С пирогом в пакете вернулась домой и зажгла другую свечку — обычную, декоративную, из ИКЕА, нарезала пирог и села за стол. Как всегда, ощущалось, что мама — со мной, рядом, за столом, и не уходит. Ей грустно и плохо, как и мне. Казалось, мы навсегда связаны с ней и моей виной, и последними годами ее жизни, и памятью.
Я снова заплакала, опустив голову на руки, а руки — на стол. Потом, наверное, я задремала — но мне казалось, что я подняла голову и сквозь слезы посмотрела на свечку — пламя размывалось, словно плавилось. Вдруг мне стало легче дышать, и я ощутила ясность, и увидела (конечно, во сне — как иначе?) — увидела тропу. Маму можно вывести к реке. Где эта река, куда она течет, я не знала, но ощутила ее так, как будто не раз бывала на ее берегах. По этой реке, темной и широкой, по ночам, под низко склоняющимися ветвями и под звездами плывут лодки… В них, как в колыбелях, спят или дремлют те, кто вышел к реке — или кого вывели. Бывает же, что кто-то не может найти дорогу сам. Да и кажутся они детьми, и река укачивает их, как в люльках. Иногда лодка пристает к берегу — место, чтобы пристать, есть на обоих берегах по всей длине русла реки. А куда она впадает, я не знаю, и чувствую, что и знать мне не надо. Но на берегах лодки встречают. Если лодка пристанет к берегу, то маму бережно примут и отведут в дом — а что будет в доме, я не видела. Наверное, там мама-ребенок будет спать, отдыхать, набираться сил и расти. 'Мама, хочешь в лодку?' — я мысленно протянула маме руку, и мысленно же ощутила, что рука ребенка легла в мою ладонь. Нам обеим стало легче, сразу. И пока горела свеча, я вела ее к реке тропинкой, которую откуда-то хорошо знала и видела на ней каждый камень, каждый поворот. Я оставила ребенка-маму у реки. Лодка уже ждала — на носу мерцал фонарик, какой можно видеть в старых фильмах — со стеклами и свечой внутри. В ИКЕЕ такие тоже продают. Мама вошла в лодку и легла, как в колыбель, и я почувствовала, что она улыбнулась. Лодка качнулась и поплыла. Я смотрела вслед, и над рекой светили звезды, и фонарик отражался в воде… Лодка скрылась за поворотам под темными, низко склонившимися аркой ветвями береговых ив… Но фонарик словно был еще виден… Я встряхнула головой и очнулась, а свет все еще мерцал перед глазами. Это была моя свечка, почти догоревшая. Кажется, я проснулась.
Я погасила свечку и закрыла глаза. И снова увидела неяркий свет фонарика на реке. Дышать было легко, впервые за несколько лет захотелось двигаться, танцевать, петь, улыбаться. Забегая вперед, скажу, что я видела этот фонарик потом и с открытыми глазами, каким-то глубоким внутренним зрением. И во сне, конечно. Он мерцал еще дней тридцать. Потом спокойно погас, словно выполнил свою задачу. Это лодка пристала к берегу. Маму встретили — я не знаю, кто, но чувствую какое-то родство с теми, кто ждал ее на берегу.
Но это я забегаю вперед, а в тот день — еще даже не начало темнеть — я впервые с легким сердцем пошла погулять. Зашла в кофейню на углу и выпила красного вина за мамин добрый путь по реке. Наверно, я сошла с ума, снова подумала я. Придумала сказку с хорошим концом, и сама верю ей. Но, решила я, пусть я буду лучше радоваться выдуманному хорошему концу и надеяться на него, чем не надеяться ни на что и смиряться с тем, что я живу в коробке без дверей и окон, а мамы просто нигде нет, и что она — просто умерла. Без всякого будущего. Я решила так, и решение далось мне легко, как будто иначе и быть не могло.
Потом ноги сами вынесли в скверик, и я, улыбаясь, села на лавку под елью. Кажется, дней десять назад я горько плакала на этой лавочке, и меня пытался утешить странный бомж. Бомж ли? Или та мысль, которая пришла мне в голову, такая же дикая, как глюк с лодками, — тоже правда? Правда, как и лодки на реке?
Сквер
Я увидел ее снова, и не поверил глазам — и ничему другому не поверил, чем я чувствую других, будь то люди или не люди. И проводника, хотя их нет среди нас уже не первую сотню лет, а среди людей — может и бывают, но я сам не слыхал… Проводника я отличу от всякого другого. Что она — видящая тропы, я и раньше знал. Воротца мои она сразу почувствовала, и ходила посолонь. Но что она — открывающая двери? Проводник? Я вышел из-за ели и поклонился ей.
Нина
Мальчик, подросток, или юноша — словом, тинейджер в буквальном смысле слова, некто от тринадцати до девятнадцати — с копной темных волос, в камуфляжных штанах и штормовке, надетой поверх зеленой футболки, вышел из-за елки и поклонился мне. Я вздрогнула от неожиданности и вопросительно подняла брови.
— Здравствуйте, — сказал он голосом моего старого знакомого-бомжа. Да это и был тот самый бомж, почему он мне показался подростком, непонятно. Да, тот самый бомж. И волосы не темные, а седые. Только в прошлый раз мне казалось, что у него глаза какие-то водянистые, серо-голубые, а сейчас были зеленые, как листья клена. Сбои в матрице? Он распрямился и улыбнулся мне.
— Теперь вам лучше, — сказал он.
— Лучше, — кивнула я.
Он внимательно посмотрел на меня и полез в карман штормовки.
— Хотите яблок? С прошлой зимы остались.
Бомж достал зеленый кулек и развернул его — это оказался кленовый лист, а в нем хранилась горсть сушеных темно-красных ранеток. Зимой они осыпают черные ветки яблонь, краснеют под снегом. Он разложил угощение на лавке, но сам рядом не сел.
— Вот с той яблони, — показал он. — Она отцвела, уже есть завязи. Осенью снова будут. Вы ешьте, они сладкие.
Чтобы не обидеть, я взяла одну ранетку — она действительно оказалась сладкой и даже будто бы сочной.
— А где вы их сушите? Или вы не сами? Они на дереве зимой, я видела, — сказала я, чтобы заполнить возникшую неловкую паузу. — И птицы их не все склевывают.
— Да-да. Я их там и сушу. И храню там же — на холоде.
— А почему вы не садитесь? — спросила я.
Он осторожно сел на лавку по ту сторону кленового листа с яблочками.
— Вы в большом сером доме живете, — начал он. — Я знаю. У вас в доме в подвале живет такой… — бомж замолчал, подыскивая определение. — Я знаю, он дворнику помогает. Это мой друг. Поэтому я о вас знаю, что вы в том доме живете. Вы, если что, если помощь нужна — мало ли… досюда не сможете дойти. То вы к нему обращайтесь. Его зовут Репей.
Я знала этого человека — во дворе говорили, что у него незаконно, обманом купили квартиру, кинули его, и он остался без жилья, и теперь живет в подвале, начал пить. Один раз в мороз он спросил меня, когда я открывала дверь, можно ли погреться в подъезде. Я удивилась: что тут спрашивать? Конечно, можно. И еще недавно подходил ко мне, предлагал чем-то помочь. Наверно, ему нужна мелкая подработка, там, забить гвоздя или полку прибить, починить кран.
— Помощь? — медленно спросила я. — Он предлагал. Я обязательно… если что.
— Вы же отказались. А теперь, вижу, все равно все хорошо стало… — задумчиво сказал бомж.
— Не стало, — ответила я. — Просто у меня… отходняк, наверно. Я просто долго нервничала, была в напряжении, и, наверно, мозг включил защитную реакцию. Эйфорию. Завтра снова все вернется… — и поскольку мой собеседник молчал, видимо, не понимая, что вернется завтра, я объяснила. — Осознание, что все плохо.
— Эйфорию? Включил? — бомж покачал головой. — Это что?
— Ну, просто я расслабилась… как бы на время забыла… отвлеклась.
Он медленно повел головой слева направо: нет. Мне снова показалось, что это не средних лет седой дяденька, а подросток с темными волосами.
— Нет, вы не отвлеклись, а на самом деле стало хорошо. Я чувствую. Вы сделали такую вещь… которую надо было сделать.
— Откуда вы-то знаете?
Он нахмурился и вздохнул.
— Не могу сказать. Знаю, и все.
— Но я ничего не делала.
— Не может быть. Вы сделали. Я в таких вещах не ошибаюсь.
— Бред какой-то… и мы с вами, как два придурка, — вспылила я, и сразу же мне стало стыдно. — Извините. Простите, пожалуйста. Я просто… Маму похоронила. Ну вы же сами понимаете. Что можно сделать, когда близкий человек умер? Да ничего!
Он смотрел на меня — снова его глаза казались ярко-зелеными, и было ощущение, что он видит меня насквозь. Видит, что я сама не верю тому, что говорю.
— Ну, если умер, то да. И правда, что тут можно сделать… Разве что вот — тропу ему открыть, видно, так… — еле слышно пробормотал мой новый знакомый. Хотя какой знакомый, если даже имен друг друга мы не знаем. И, похоже, он не торопится называть свое или узнавать мое.
— Вы про реку? — спросила я. Если он говорит про тропы, то почему бы мне не сказать про реку. Если мы оба несем чепуху, то он начал первый. Но мой вопрос удивил его.
— Реку? — бомж мотнул лохматой головой. — Не знаю. Там есть река?
— Река… Там есть, — вдруг прорвало меня. — А еще над ней горят звезды… ночью. А днем, я знаю, над ней летят птицы. Я не видела реку днем. Но знаю, над ней пролегают воздушные пути птиц… Я несу чушь? Эти пути, пути воды, воздушные пути, они… пронизывают весь мир, — меня несло. — Это мне все снилось. Я уснула и видела сон.
Мой собеседник предостерегающе протянул руку.
— Не надо дальше. Это ваши тайны, — поспешно сказал мой собеседник. Мне показалось, он испугался или растерялся. — Это тайны проводников. Как тайные имена. Не знаю, можно ли… И хочу ли я их знать.
— Мы похожи на двух придурков, — снова резко сказала я, чувствуя, что бредовый разговор уносит нас обоих в неведомые дали. — Каких проводников еще? Давайте четко и ясно, без тайн мадридского двора.
Я посмотрела на него в упор. Мне надоело кружить в этом разговоре, как в старинном менуэте. Или мужик экстрасенс и что-то чувствует, или блефует, или я теряюсь в догадках, о чем вообще речь.
— Когда вы сказали, что я что-то 'сделала', вы имели в виду мой сон? Или то, что я поставила свечку? Или вы вообще говорили не об этом?
— Я про свечку ничего не знаю. И про сон, — бомж был тверд, как партизан на допросе. — Я не знаю, как вы это сделали. То есть не знаю, как именно. Знаю, что вы открыли тропу вашей матери в хорошее место. Вы проводник. Все, больше я ничего не знаю и знать не могу и не должен. И про эти пути знать мне не надо. Даже дорожники не до конца знают такие вещи.
— О Господи… — только и могла выдохнуть я. — И вы, конечно, мне ничего о себе не расскажете, — добавила я, помолчав.
'Не расскажу. Нельзя' — мне показалось, я прочитала его мысли. Но вслух он сказал совсем невпопад.
— Я ваш друг. Я вам не смог помочь тогда. Но если что, я помогу, чем могу… Если вдруг что — другу моему, Репью, только скажите. Ладно?
Я кивнула. Мне почему-то вспомнился Льюис, которого я много читала: 'Причин было много, одну я знаю, но не могу тебе сказать, а другую знаешь ты, и не можешь сказать мне'. Он не хочет знать про мою реку, вернее — про мой сон, и считает, что ему это знать нельзя. А мне точно также нельзя (считает он) знать про то, откуда все это знает он.
— А кто такие проводники, дорожники и все вот эти слова? Это тоже не обсуждается, или мне предлагается самой погуглить? — я все-таки, кажется, не смогла скрыть легкое огорчение в голосе. Не обиду, а какой-то облом, разочарование — мол, что за разговор, когда не говорят прямо и честно основного и важного?
— Я не знаю этого слова — погуглить, — мужичок, иногда кажущийся подростком, повторил слово, похоже, как попугай, запомнив на звук, — Дорожники — вы не знаете их. А проводники — те, кто умеют так делать, как вы. Открывать тропы. Вы проводник.
— Могильщик пролетариата, — усмехнулась я, но он, кажется, совсем не понял.
— Вы много говорите… Я не умею так много, — вздохнул он. — У меня путаются в разуме ваши слова, и они все не о том. Мне только надо было это вам сказать. Две вещи. Что вы проводник и что я ваш друг. И еще одну. Вы хорошая… — взгляд его ярко-зеленых глаз стал совсем теплым, как и голос. — Я всегда хотел вам помочь.
Как его зовут, он тоже не сказал. У меня осталось впечатление, что то ли он Женя, то ли Валентин — странно, оба имени одновременно и женские, и мужские. Вернее, что зовут его вообще не так, но каким-то из этих двух имен он вроде бы назвался. Это я вспоминала уже потом, и решила остановиться на Жене — ему все равно, имя-то не настоящее, типа 'Юстас-Алексу', а мне надо его как-то мысленно называть. Мы сидели еще долго, я уела все ранетки, а сама сходила в ближайший магазин и купила вина, два пластиковых стаканчика, плитку шоколада — и мы снова уже вдвоем выпили за хороший, добрый путь моей мамы по реке. Что-то мне подсказывало, что у Жени-Валентина денег нет, а угощение со стороны дамы могло выглядеть не очень приличным, но поминки были в любом случае правильным поводом: я их устраиваю. Поэтому мой вклад в пир на лавочке был естественным. Мы на брудершафт не пили, но после второго пластикового стакана перешли на ты.
Я все-таки пыталась допытаться.
— А почему я — проводник? — спрашивала я. — Как становятся проводниками? Почему я не знала этого раньше?
— Я мало знаю об этом. Я-то не проводник, — объяснял Женя. Я бы сказала, терпеливо объяснял. — Я знаю тропы только в одной части мира. Вот в этой, где мы, ты и я.
— В нашем городе? Ты это имеешь в виду?
— Да, и в нашем городе, и просто — в нашей части мира, — повторил он. — Когда люди уходят, как твоя мама, они уходят в другие части мира. Мы не знаем, что там.
— В другие миры? — уточнила я.
— Нет, нет, мир один. Части разные. Ну, вот как ветки на дереве. Дерево одно, а веток много… Или видела когда-нибудь, деревья из одного корня растут, стволы?
— А река, что же она? Течет в другом мире, да? То есть в другой части, на другой ветке?
— Река — она, наверно, через все части мира течет. А вот выход на нее знают проводники. И пути птиц, и пути воды — через все части, или 'все миры', как говоришь ты. И еще другие места есть. Одна знакомая… рассказывала. Для кого из уходящих — река, для кого — еще другие двери. Ты проводник, ты все это будешь знать.
— А как я это узнаю?
— Так же, как про реку…
— Но почему я стала такой?
— Не знаю. Может быть, у вас это в роду? Я мало знаю. Или, может, ты была проводником до того, как пришла.
— Пришла — к тебе, сюда? — спросила я, но уже чувствовала, что его слова имеют другой смысл, от которого мне стало не по себе, словно я была в комнате, а тут распахнулось окно, и ворвался пронзительный ветер.
— Пришла — ну, как люди приходят. Они же живут здесь, а потом уходят в другие части мира — по реке, или дверями… Но прежде они приходят откуда-то, ведь так?
— Прежде рождения? — я поежилась. — Лучше не знать, наверно… Даже думать как-то страшно.
— Но почему? — мой собутыльник и новый друг совсем не понял всей жути, которая охватывала меня при этой мысли. — Если ты откуда-то пришла, значит, ты туда вернешься и снова будешь там. Это же — вернуться домой, в свое место. Это же хорошо! Ты же — это и есть ты. Какая там была, какая будешь. Такая хорошая, и можешь такие вещи делать… Что тут страшного?
— Ну… — я судорожно сглотнула и потрясла головой. — Что ты так легко говоришь про другой мир, про то, кем я была до рождения… Я не привыкла.
— Тот же мир, — повторил Сквер. — Просто место другое. И хорошее место, раз ты из него пришла. Раз твое место, значит, хорошее. Ты проводник, ты сама все узнаешь лучше меня.
— Так тогда, получается, и ты узнаешь, когда… в общем, все мы не вечны же.
Он промолчал.
Потом мне казалось, что этот пьяный разговор, бредовый по самой сути, мне приснился или примерещился.
Мне показалось, что — да, он промолчал, это совершенно точно, но словно бы из молчания было ясно, что он здесь навсегда.
— Это плохо? Тебе грустно от этого? — как мне потом казалось, быстро спросила я.
А он весело ответил:
— Нет, что ты! Как может быть грустно от того, что я — это я?
— Людям — бывает… — сказала я.
Потом как-то так случилось, что он сказал, что ему пора. И это не было вежливым поводом уйти, я чувствовала, что и в самом деле — пора. Поблагодарил за угощение, за вино, и сказал, что всегда рад будет видеть меня здесь. Именно здесь.
— Ты в сквер гулять приходи. Даже если рукой помашешь или мимо пройдешь, я всегда рад. А если захочешь поговорить, позови или вот просто сядь на эту лавку. Я выйду и сяду рядом. И ты не думай, я совсем не обижусь, если ты не сядешь… или если ты долго не придешь. Просто я буду волноваться, вдруг с тобой что-то случилось. Ты про Репья только не забудь, — повторил Женя. — Если тебе будет нужна помощь, а ты сюда не сможешь прийти, ты ему скажи. Выйди на крыльцо, позови: Репей.
Он прошел в воротца елей и растаял в сгущающемся уже сумраке. А я еще долго сидела в сиреневых сумерках, глядя, как над пятиэтажками всходят первые звезды.
Дома я все-таки погуглила дорожников. Конечно, это были, во-первых, работники дорожной службы, во-вторых, древнеримские описания знаменитых римских же дорог, в-третьих — какое-то ВИА времен, когда еще были ВИА.
Я уснула, улыбнувшись маминой фотографии, и видела во сне фонарик на маминой лодке.
Сергей. 'Уйди, назойливый мираж'
Лето не обещало ничего. Просто удивительно, как много раньше обещало лето: тут тебе и дача, и качели, и речка, и поездки на птичий рынок (уж не помню, что мы там покупали с друзьями — то ли кроликов, то ли дафний для рыб, то ли самих рыб, важен был сам процесс), и лазание по гаражам. А позже — турбазы, дискотеки, красивые и загадочные девушки, брожение по лесам. А еще позже — другие страны. А сейчас — ничего. Нет, конечно, можно взять путевку в Турцию или Египет, зарплата позволяет. Или даже нет, можно взять и уехать на машине в тот самый лес, который был раньше рядом с нашей дачей. Позапрошлым летом я так один раз сделал. Дачный поселок зарос травой, как-то самозагадился, как бывает с местами, где никто не живет — на всем печать бедности, разрушения, угасания. У богатых людей дачи далеко не там, а у небогатых нет денег и времени ухаживать за своими участками.
Так что отпуск я летом не брал. Приходил с работы, принимал душ, варил пельмени или разогревал в микроволновке пиццу. Общения с друзьями хватало и в выходные — друг, собственно, остался всего один, Олег. Он приходил с водкой и изливал душу. Свою. Моя почему-то его не интересовала уже лет десять как. Остальные друзья были в интернете — кто переехал в Москву, кто в Америку, и со всеми ними мы общались по принципу 'Как дела? Нормально!'
В принципе, это и хорошо, что времени было после работы достаточно. Сейчас скачаю какой-нибудь фильм, посмотрю. Еще скачаю — еще посмотрю. Книжка вот недоперечитанная лежит, каждый год перечитываю 'Властелина колец'.
Нет, я — я нормально. Помню, как в юности с университетскими друзьями натолкнулись мы на кодлу гопников. И один из наших, звали его Денс (так тогда, кажется, звали всех Денисов) попытался обратиться к одному из гопников:
— Слышь, браток?
Тот посмотрел с нескрываемым презрением и процедил:
— Твои братки по канавам резаные валяются.
Вот и мои ровесники, мои тогдашние братки, в основном, валяются. Не то чтобы по канавам, но… Кого постиг передоз, кого — цирроз, одного — даже инсульт; а кто — даже и ничего, дождался даже уже ранних внуков и видит перед собой ровную финишную прямую. Нет, кто внуков — тем хорошо. А по сравнению с теми, кто на игле, например, — хорошо мне. Только вот засада в том, что никак я не хочу видеть финишную прямую, не хочу вписываться в цикл 'весна-лето-осень-неизбежная зима' человеческой жизни. Когда я дома, я выпадаю из течения времени, я забываю, сколько мне лет.
Наверно, что-то странное во мне все же осталось. В детстве я придумывал себе невидимых собеседников. Да, конечно, все придумывали, но у меня они были более чем реалистичные. То есть невидимый друг у меня был всего один. Но мне хватило. И родным моим хватило, когда все это узналось.
Собственно, это была моя погибшая в раннем детстве сестра — еще до того, как я родился. Удивительно то, что о ней в нашем доме не говорили. Бабушка, как потом я узнал, хранила у себя ее фотографии. Когда бабушка умерла, мама достала все ее письма, открытки из коробки, которую она хранила на полке гардероба. Мне было уже пятнадцать лет, и мама показала мне фотографию маленькой Дины — в коротком платьице, с совочком, на дорожке в дачном саду. А до этого я таких фотографий в доме не видел. Это было странно, как я потом понял, но дело в том, что мой папа был ярый материалист, преподаватель истории в школе, и он был резко против всякого напоминания о смерти в доме, чтобы это 'не повлияло на детскую неокрепшую психику'. Он всегда говорил именно такими фразами. Но, несмотря на отсутствие фотографий и упоминаний погибшей Дины, что-то на мою неокрепшую психику все же повлияло. Как потом сказал маме врач, может быть, при мне об этом случае говорили соседки, я их слышал, но по малолетству не понял, а в памяти отложилось. Сейчас сказали бы, что отложилось 'в подсознании', но у советского человека, особенно ребенка, кажется, подсознания не предполагалось. Так или иначе, из подсознания ли то, или из других каких недр 'неокрепшей психики' мне стала являться во дворе сестра — лохматая девчонка в джинсах и футболке, старше меня на шесть лет, которая рассказывала, что живет она с какими-то 'хозяевами дворов'. Это что-то вроде домовых или леших, только они — дворовые. Наверно, это я сочинил сам (про леших-то я читал, папина цензура до моего круга чтения настолько не дотянулась), просто мое 'подсознание' вложило эту сказку в уста выдуманной сестренки. Мои выдумки дошли до такой степени, что в день, когда умерла бабушка, я позвал якобы-сестренку в дом и будто бы оставил ее с бабушкой, надеясь, что 'призрак Дины' вылечит больную. Конечно, этого не произошло, и мое подсознание лишь просигналило, что бабуля умерла — я сидел на кухне, и мне примерещилось, что 'сестра' коснулась моего плеча и сообщила, что все кончено. Она сказала, до сих пор помню эту фразу: 'Бабушка ушла через двери лета'. (Надо сказать, 'Дверь в лето' я прочитал значительно позже, так что откуда это выражение появилось в моей неокрепшей психике в те годы, я не знаю).
А еще было такое, будто бы Дина обещала повести меня на какой-то праздник, шабаш этих самых дворовых существ в парке в самую короткую ночь. Но так и не повела, то есть я не пошел. Хорош бы я был в темном пустом парке, спотыкаясь о сучки и разговаривая с собственным глюком. Гость у Воланда на балу…
С годами я научился отмахиваться от этого видения. Например, я помню, что когда тяжело заболела уже мама, 'Дина' снова появилась на моем пути, она оказалась под моим зонтом (шел дождь) и стала тревожно спрашивать: 'Что с мамой?' Я захлопнул зонт и просто отвернулся.
Я теперь понимаю, что это моя собственная тревожность, особенно в предчувствии беды, потери близких людей облекается в такие формы. У большинства людей это происходит во сне, а вот у меня — в таких визуальных образах. Но с тех пор на появление 'глюка' у меня однозначно якорь: 'Дина' — вестник смерти или по крайней мере неприятностей. Неприятно то, что якорь этот не привязан к конкретному месту: я ведь переехал из родительского двора в другой, так и в этом дворе глюк появлялся. Оно и понятно: это моя материализованная тревожность, а она никуда, собственно, не девается. Праздник, который всегда со мной.
А еще у меня ушли две жены. Первая прожила со мной всего два года и ушла со словами 'Это была ошибка'. Просто разлюбила. А вторая — мы прожили девять лет. Она полюбила другого и уехала с ним в Германию, туда же увезла и нашего сына. Да, у меня есть сын, и мы иногда общаемся по скайпу.
Я вышел на балкон с куском пиццы и бутылкой 'Хольстейна' в руках и посмотрел во двор. Двор был пуст. На ржавой горке, на самой ее верхотуре, сидела девчонка в камуфляжных штанах и зеленой футболке с пестрыми, словно мелированными волосами. Мне показалось, что на плече у нее сидит здоровенная ворона (или ворон, или грач, в общем птица такого типа). Девчонка подняла голову и помахала мне рукой. Птица взмыла с ее плеча и сделала круг над двором.
Дина. 'Где Ваши друзья? — Позабыты. — Где Ваши родные? — В земле'
Из подвала выходить не хотелось. Сумрачно, темно… В темноте я вижу, но тут и видеть, к счастью, нечего. Трубы да кладка стены. Можно не думать ни о чем. Простудиться я все равно не простужусь, хоть просижу здесь сотни лет. Как привидение старого замка. Рядом сидел взъерошенный, похожий на шар Барсик и мерцал глазами. Мы с ним два призрака этого дома. Двор зарастает полынью и бурьяном. Сирень за домом ушла в сирень (то есть хозяйка сирени — ушла в кусты сирени) и не показывается никому. Сквер… что же, Скверу хорошо. У него цветут цветы, поют птицы… Я думала о своих друзьях, как о чужих. Да и правда — кто они мне? Чужие существа, нелюди, которые всегда были здесь и всегда будут только здесь. Им и отсюда не выбраться, и ничего здесь не изменить.
Да, я знаю все их тайны. Когда-то это были 'наши тайны'. Когда-то это имело смысл. Теперь — нет. Для кого держать город? Я помню, еще в моем детстве (то есть во времена, когда должно было бы быть мое детство) на соседних улицах стояли деревянные дома, с наличниками, с палисадниками. Теперь там магазины, офисы, а на месте одного снесенного дома так ничего и нет — полынь и бурьян, вроде как у меня во дворе. Это место черное. Хозяин его нехорошо как-то ушел. Я его сама не знала близко, но говорила Рябина. Город уже не наш. Не их. Им, по-хорошему, надо уходить в оставшиеся еще вокруг города леса и рощи, перелески и что там еще есть… Пусть в городе останутся только люди и пустые дворы. Какая разница? Все равно все люди умрут…
Все мои родные ушли. Сергей не ушел, но это уже не он. В этом полнеющем лысом мужике ничего не осталось от моего братишки. И мне уйти некуда. Позвать Ту Тетку — Ниренн? Я уже давно понимаю, что в упор не помню, что она мне говорила, — поняла, что забыла и перепутала все ее слова. Перекрестки какие-то, пограничное время, место… Да, и к тому же — очень я ей нужна. Призрак из сырого подвала — прямо вот в двери лета, в цветущий сад! Непосредственно! Я усмехнулась… Сама не видела своей усмешки, но Барсик вскочил и зашипел. На меня. Я провела ладонями по своему лицу, ощупывая мышцы — и поняла, что это была не усмешка, а оскал, вроде звериного. Я уткнулась лицом в колени, кусая губы, надеясь расплакаться, но слез не было совсем. Барсик ткнулся головой в мой локоть…
Сергей. Явь и Навь
Завтра выходной… Значит, вечером можно тупо потыкать в клавиши. Все превосходно. Осталась еще целая одна банка пива. Фильмы надоели, просмотрел уже три серии сериала… Порыться на ю-тубе что ли? Или почитать френд-ленту на ночь глядя? Да, и на ю-туб ходить не надо. Вот как в ленте ролики понавешаны. Вот эта приятная, судя по юзерпику, девчонка — зафрендил ее через городское сообщество. Нет, ничего такого, девчонка годится в дочери, а я не Гумберт. Просто приятное лицо, немного индейского типа. Длинные черные волосы… Зовут Ритой. Интересуется волками. Она сама поет и играет на гитаре, вот, опять вывесила свой ролик. Она обычно поет какой-то фолк глючный. Дай-ка послушаю… В пестрой блузке этнического стиля, с кучей деревянных фенечек, все совершенно в образе, ага. И поет неплохо… Правда, кажется, про зиму, а сейчас лето.
Долгие ночи пахнут сухой полынью,
Если шагнешь за двери — душа остынет.
Старые люди скажут не для забав:
Если и зимний ветер к теплу взывает,
Значит, идет-кружится пора лихая,
Время, где перемешаны Явь и Навь.
Так затворите окна, закройте двери:
Людям в домах их тесных дано по вере,
По очагу и горсти живых углей,
Хватит тепла — до сумрачного рассвета,
Верьте, на ваш очаг не накличут беды
Те, кто в ночи скитаются по земле.
Пусть ваши ставни будут закрыты плотно:
Вот у плетня маячит огонь болотный —
Только помедлишь — сразу приворожит,
В свете зеленом — девичий облик нежный:
Только промедлишь, душу похитит нежить,
Выйдешь за ней в тумане — ни мертв, ни жив.
Дальше я слов не разобрал… просто потому, что пиво дало о себе знать, и глаза у меня слиплись. Так и уснул за компом… Ну и ладно, Явь с ней, с Навью…
Рябина
Они бежали рядом — как часть прайда. Динкин Барсик и мой спасенный Тигрик. Барсик, как предводитель, чуть впереди. Люди-то видели бы одного Тигрика, деловито бегущего по двору, но он-то как раз бежал за старшим.
Я сидела на горке и грелась на солнце, опираясь спиной на одни перила и задрав ноги на другие. Ворон был высоко в ветвях тополя, но это не мешало нам быть вместе. При виде котов Ворон спланировал к нам и сел на перила горки рядом с моим плечом. В мыслях Барсика мы сразу увидели Дину. Вот она рычит, скалит зубы, лохматая, бледная, как будто не хозяйка двора, а жительница подвала… А вот уткнулась себе в колени и сидит неподвижно… Тигрик вторил собрату, тревожно мяукая, тараща круглые желтые глаза.
— Так. Короче, — я вскочила с места. — Ворон, ты лети к ней, вместе с котами, то есть они бегут, а ты лети… — быстро говорила я. — И постарайтесь все втроем уговорить ее хотя бы выглянуть из подвала и поговорить с этим… последний раз. Дать ему последний шанс. Или ей. А его я беру на себя. У людей сегодня вроде как выходной. Он сейчас в магазин пойдет, за пивом… Обычно ходит.
Сергей. 'Есть повод прийти сюда еще один раз'
Магазин совсем рядом, да и пройтись по солнечному летнему двору, пока еще не началась жара, — приятно. Я решил купить две бутылки пива и начать свой законный выходной с просмотра фильма. Я вышел на крыльцо, и тут услышал:
— Молодой человек… а…
Обернувшись, я увидел бедно одетую старушку. Так бедно, видно, с чужого плеча. Под длинной выцветшей зеленой футболкой с эмблемой 'Гринписа' были камуфляжные штаны. Она сидела на лавочке перед подъездом, держа руку в области сердца.
— Милок… Мне с сердцем плохо. А…
— Вам валидол? Черт, у меня же нет ничего такого… В аптеку сбегать? — я подсел к бабушке и всмотрелся в ее лицо. Она тяжело дышала, полуприкрыв глаза. — Скорую?
— Нет… мне бы к подруге… я у нее живу. Милок… отведи домой. Рядом тут. А? Там вызовут…
— Да вы дойдете? Насколько — рядом? Здесь, в этом дворе?
— Там, — старушка слабо махнула рукой на выход из двора. — Через сквер… Туда. Где магазин 'Продукты дешево'.
Я постарался как мог поднять бабулю и поддержать ее обеими руками. Она почти повисла на мне и, семеня, пошла. Магазин 'Продукты дешево' — это же мой бывший двор. Я через него не хожу давно — и повода нет, да и желания особого нет. Он как-то измельчал. Раньше казался огромным, как целый мир. Сейчас там нет даже покосившейся ржавой горки, даже песочницы — просто заросший травой участок с двумя чахлыми деревцами, с подъездами, закрытыми наглухо железными дверьми, перед которыми и сидеть-то не хочется. Унылое зрелище.
— А вам в какой подъезд? — спрашивал я ее на ходу. — Это мой двор бывший, я там жил. Многих знаю.
— Августу Михалну знаете? — дребезжащим голосом спросила старушка.
— Конечно, знал… а она еще… в общем, она здорова?
— Ну как уж здорова. Годы, годы, — заныла старушка. — Но ходит еще, ходит, да. Кошечек кормит… Собачку выгуливает.
Мне показалось странным, что у такой интеллигентной пожилой женщины — нищая знакомая или родственница. То есть, как я себе представлял Августу — подругу моей мамы, между прочим, — она, как и моя мама, первым делом одела бы свою гостью и следила бы за ней, если она больна, так уложила бы и не пустила одну… Но, собственно, может быть, и сама Августа Михайловна уже состарилась до такой степени, что не может за собой-то уследить… Мне стало не по себе. У нее ведь никого нет, а она моя соседка, мамина подруга. Хоть бы раз навестил. Лось здоровый… Я встряхнул головой. Откуда такие мысли? И почему я не думал об этом раньше, убивая свободное время перед компом?
Мой старый двор встретил меня унынием и бурьяном. Здесь даже птицы не пели. Зато асфальт и трава в палисадниках были усыпаны окурками, пластиковыми стаканами, чуть ли не шприцами… Да, блин… Та еще помойка. Впрочем, здоровый лось с кучей свободного времени мог бы и во дворе сделать что-нибудь приличное, подумал я вдруг. Конечно, за уборку платят дворникам, но… можно посадить что-нибудь. Скосить к хренам бурьян. У приятеля есть косилка…
Старушка сказала:
— Вот тут оставь, милок, на лавочке…
Лавочка стояла под чахлой вишней, которая почти не давала тени. В ее ветвях захлопала крыльями большая птица. Ворона, ворон, грач? На лавку рядом со старушкой вскочил лоснящийся тигровой масти кот… Я осматривался. В принципе, мне можно уже было идти, вот только заскочить в подъезд и сказать Августе, что ее приятельница доставлена на лавочку. И вдруг через покосившийся штакетник ко мне шагнула невесть откуда взявшаяся бледная девушка в джинсах и белой футболке с угрюмым и сосредоточенным лицом. Я отпрянул просто от неожиданности. И тут я узнал ее. Она протянула руку, но я заслонил лицо, сделав шаг назад, и ее рука прошла сквозь мой локоть.
Старушка гладила кота, словно не видела — впрочем, да, конечно, она и не могла видеть! А вот мое подсознание настигло меня в старом дворе.
— Сережа, — еле слышно говорила якобы-Дина, и брови ее жалобно поднялись. — Пожалуйста… послушай меня. Мы же в детстве… Мы же родные с тобой…
'Навь', вспомнил я всплывшее откуда-то слово. Откуда? Да из песни же девчонкиной, которую слушал сегодня ночью.
— Тебя нет, поняла? — как можно тверже и спокойнее сказал я, чувствуя, как звенит металлом голос. — Ты навь. Глюк.
— Сергей…
Я сжал кулаки.
— Тебя нет. Навь! — я развернулся и пошел из двора так быстро, как мог, чтобы это не выглядело как бег. Здоровый лось убегает от призрачной девчонки… Картина маслом.
Рябина
— Картина маслом! Здоровый лось убегает от девчонки! — фыркнула я. — Дин, не фиг ли с ним? Ну что он тебе? Ди-на-а!
Динка сидела на лавке, опустив голову, волосы упали на лицо.
— Дина, сестренка, ну что ты? Скоро летний праздник… Ну? — я чуть не плакала, обнимая ее и пытаясь заглянуть в лицо. На чахлой вишне тревожно бил крыльями Ворон. Оба кота, Барсик и Тигрик, таращили глаза с двух разных сторон.
— Дина, ты посмотри, во что двор превратился… — бормотала я, пытаясь воззвать хотя бы к ее ответственности. — Он скоро станет пустым…
Дина долго молчала, но я чувствовала — слышит. Наконец ответила, все так же отворачивая лицо.
— Мне бы уйти. Но не знаю как… Ниренн, ее слова — не помню. Какие-то границы… И потом, куда я такая уйду? Навь…
Нина. Проводник на аутсорсинге
Утро радовало, свежий ветер врывался в открытое окно, в квартире стоял запах кофе. Мне хотелось петь. Я видела перед глазами фонарик мамы, и радовалась, что у нее все хорошо. А если кто придет и скажет, что я сейчас должна быть в трауре и рыдать, я просто… нет, нет, я не спущу его с лестницы и даже не закрою перед его носом дверь… Нет, это я погорячилась. Я же все понимаю. Но почему-то я не могу грустить. Может быть, просто устала плакать, устала отчаиваться, устала быть загнанной в угол жертвой жизни, устала жить в коробке и работать в коробке. Все улицы, дворы, арки, лазы в заборе и ворота ведут не только туда, куда мы видим глазами, но и куда-то еще. Я старая? По возрасту мне положено сейчас ловить последний шанс, потом, испытав одно-два-пять разочарований, дожить до пятидесяти, шестидесяти и ждать унылого конца в пустой квартире? По возрасту мне положено… Я подошла к зеркалу и тряхнула головой. На меня смотрела вполне себе молодая женщина с блестящими серыми глазами. Я подмигнула зеркалу, показала ей язык, как подружке в детстве, отвернулась и показала фак невидимому оппоненту, который как бы говорил, что мне положено стареть. 'Не дождетесь!'
Отпуска оставалось еще две недели, и я решила пойти погулять. Вчера я пекла шарлотку… Да, я живу одна, угощать мне некого, но это не повод ничего не печь вкусного, ведь так? — снова обратилась я к невидимому оппоненту, который на хрестоматийном примере 'нашей мымры' из 'Служебного романа' пытался мне объяснить, как плохо и бессмысленно жить одной старой деве. Я съела кусок шарлотки с кофе и полила цветок на окне, который за последние дни стал словно бы расти быстрее. Отрезав три больших куска от шарлотки, я уложила его в пластиковый контейнер, в котором обычно ношу обед на работу. Я решила угостить Женю-Валентина, если он вдруг окажется в сквере. Напевая, я подвела глаза и наложила тени, и, наконец, вышла за порог квартиры, довольная собой и миром. Двор был пуст, в арке мне улыбнулась и кивнула старушка-нищенка в шляпе и камуфляжных штанах. Я достала контейнер и протянула ей кусок шарлотки, нашарила в кармане купюру.
— Вот спасибо вам, кошечкам моим на еду, — сказала старушка неожиданно молодым голосом. — И за пирог спасибо!
Жени на лавке не было. Я села и открыла книжку, по страницам, лавке и траве скользили тени от листьев клена, в ветвях заливались птицы. Он подошел вскоре, улыбаясь.
— Скоро праздник, а! — сказал он мне вместо приветствия.
— Какой? День защиты детей? — засмеялась я.
— Нет, летний праздник. Самый что ни на есть, — он уселся рядом со мной.
— Я тут пирог испекла… — сказала я, раскрывая контейнер. — Угощайся.
— А если я тебе своих яблок дам, ты их можешь вот так же? — он показал на кусок пирога.
— Запечь в пирог? Да легко. И тебя приглашу в гости. На летний праздник?
— В гости… Нет. Ты сама ко мне в гости с ним приходи. На летний праздник, — ответил Женя, с удовольствием поедая пирог. Впрочем, он кусок съел не весь, а разломил на две части. — Можно я вот это девчонке одной отдам? — кивнул он на нетронутую часть.
— Да конечно! Да возьми все и отдай девчонке и сам съешь, — я подвинула к нему весь контейнер.
— А такое дело… Нин, — сказал он задумчиво. — Ты можешь мне помочь? То есть…
— Ага?
— Вот девчонка, которой я хочу пирог-то… В общем, ей помочь надо. Не сейчас, не прямо сейчас. Но хотя бы посмотреть, можно ли?
— Да я конечно, но только в чем помощь-то будет выражаться? Ты скажи… я же не знаю, что ей нужно.
— Пока просто посмотреть на нее. Ну вот посмотреть просто. Я пойду ей пирог снесу, а ты просто рядом побудь. А потом скажешь, какие это, впечатления.
Я пожала плечами.
— А далеко?
— Вон в том дворе.
Контейнер снова оказался в моем пакете с ручками, и мы с Женей перешли дорогу. Двор, запущенный и убийственно унылый, сразу встретил какой-то пустотой.
— Ой, как здесь… неуютно, — пробормотала я.
— Да вот увы, — кивнул он.
Мы остановились у крайнего из подъездов, с лавочками. Ветер гнал по асфальту обертку от мороженого.
— Ты подожди, я сейчас, — сказал мой спутник и ушел к соседнему подъезду.
Я села на одну из лавочек. Рядом со мной плюхнулся и начал бодаться башкой полосатый кот. Гладя кота, я не заметила, как Женя вернулся. С ним была девушка в джинсах и белой футболке. Я кивнула и улыбнулась им обоим. Глаза девушки расширились, мне показалось, что в них — одновременно надежда и страх:
— Вы? Это вы?
Я потрясла головой.
— Я Нина, мы с вами не виделись… кажется…
Она смотрела недоверчиво и напряженно, но потом расслабилась:
— А… типа, обозналась. Похожи.
— Бывает, — улыбнулась я.
— Он сказал, что вы пирог принесли, — глядя на меня исподлобья, сказала девушка. — Спасибо.
— Да не за что… я всегда рада… — начала бормотать я, прислушиваясь к неясному ощущению. Что-то было не так… Перед глазами вдруг встали картины весеннего леса — такого, когда почки еще только набухли, еще даже не появилась зеленая дымка. Единственная зелень — изумрудный, малахитовый мох на поваленных стволах, и начинающая пробиваться трава. И цветы, которые ошибочно называют подснежниками — на самом деле это сон-трава. И еще — крокусы. Это не нашей полосы лес… Это какой-то условный европейский лес, и вот-вот из-за стволов появятся олени. Я потрясла головой. Грязный асфальт, худая кошка обнюхивает обертку из-под мороженого. Девушки рядом нет — странная какая-то девушка. Из бомжей, что ли, из Жениных друзей? Женя, впрочем, сидел напротив меня на лавке.
— Пирог ей понравился, — сказал он.
— Ну и супер, — я передернула плечами. — Женя, не темни, а? Скажи, что я должна была увидеть?
— А что ты увидела?
— А ви таки с Одессы? — проворчала я.
— Я не понимаю, — улыбнулся он.
— Что, ты не знаешь одесских анекдотов?
Он совершенно искренне покачал головой.
— Нет.
— Ясно. Тебе очень важно, что я увидела? Любую глупость можно рассказывать? Ну, в смысле… Любые ассоциации?
— Это очень важно, — Женя встал, подал мне руку. — Пойдем в сквер? Ты можешь не рассказывать мне… Подробно не надо. Но только скажи: ты видела что? Реку? Тропу? Место?
— Место, — быстро сказала я. — Лес такой весенний. А что?
— Я тебя очень прошу, пожалуйста… Туда найти выход. Для этой девчонки… Ты же все пути, все тропы знаешь. Нина… ты не подумай, что я ради этого с тобой дружу, — быстро заговорил он, потому что, боюсь, на моем лице отразилось именно это: разочарование, обида, я, кажется, даже отступила назад, готовая развернуться и уйти.
Ненавижу, ненавижу быть фактором, материалом, с которым 'работают', ненавижу, когда меня юзают для неведомой мне цели, да еще и мягко, как бы исподволь (а на самом деле с бегемотьей грацией) подводят к этому.
— Нет, я не для этого, не поэтому… — поспешно говорил Женя. — Я с тобой хотел дружить и думал о тебе, еще когда не знал, что ты это умеешь. Много лет. Нина, правда. Просто я очень прошу помочь. Этого никто не умеет, только ты. Вообще никто.
— Но… — я выдохнула, помолчала. — Чего именно не умеет? Это вот ты все — о реке?
Мы вошли в сквер. Женя вел меня за руку. Мы сели под раскидистым кленом на лавке.
— Да, о реке, о тропах. Ты проводник. Ей нужно уйти отсюда. Она тут осталась — зря. А мы… ее друзья, мы не видим места, которое ей нужно, которое ее ждет. И выхода туда тоже не видим. Ничего вообще…
— Женя. Мы с тобой дружить, наверно, не сможем, — мне перехватило горло, меня начало трясти, и в голосе послышался металл. — Ты мне не говоришь всего. Ну ладно, Бог с ним со всем, меня не волнует твой год рождения и судимость, если она была, а также, не знаю, перенесенная тобой в детстве корь. Но ты не говоришь даже того, что меня непосредственно касается. Ты меня мягко и ненавязчиво подвел к девушке, которая меня непонятно за кого приняла, и поставил типа — эксперимент. Я что тебе, детектор? Нет, я понимаю, что это нужно, важно для тебя и твоих друзей и все такое, что у меня что-то такое есть… ладно, пусть. Но я не такая… как… Со мной так нельзя! Ни с кем так нельзя. Просто другие не чувствуют, когда ими дела делают. А я чувствую. Мне очень жаль, — я встала с лавки. — Для девушки я сделаю вот это… Найду. Не знаю, как это делается… Но найду, раз ты говоришь, что я умею. Раз так надо тебе и твоим друзьям. Но я в их число не вхожу… Я — типа, сторонний эксперт. Проводник на аутсорсинге.
Он сказал:
— Нина. Мне нужно подумать. Не уходи…
— Долго? Ну ладно, покурю пока, — я усмехнулась и вытащила сигарету. Меня несло. Зачем мне бомж Женя и его такие же, видимо, маргинальные друзья? Зачем мне их доверие? Зачем мне знать, почему девчонке из запущенного двора нужно попасть в весенний лес, который находится непонятно где? И все же я не уходила, потому что надеялась, что вот сейчас все как-то разъяснится, встанет на свои места, потому что и Женя, и его друзья мне нужны, и знать про весенний лес мне нужно на самом деле. Я курила, не отрывая глаз от травы под ногами.
— Нина, — послышался голос Жени. — У вашего дома есть вертушка детская, знаешь? Такая детская площадка в торце, вокруг боярышник растет?
Я подняла глаза.
— Знаю, за помойкой.
— Ага. Вот туда сможешь выйти сегодня вечером? Когда луна взойдет?
— Во сколько?
— Не знаю, как это будет, во сколько. Когда луна. Мы все там будем… Ну, нас пятеро. Ты только не бойся, Нина, ладно?
— Вы что, секта? Эзотерики какие-нибудь? — мне стало не по себе. Не то чтобы я боюсь сектантов, оккультистов и прочего. Просто было грустно, что явление, которое не хотелось никак называть, оказывается называется и объясняется вот так, банально.
— Не знаю, что эти слова значат, — сказал он, глядя на меня ярко-зелеными глазами в упор.
Я сидела и молчала. Получалась лажа так или иначе. Им надо от меня что-то. Для этого он готов прийти и друзей привести, удовлетворить мое любопытство. Но я не хотела, чтобы с одной стороны было 'надо', а с другой 'любопытство'. Все вообще шло не так.
— Нет, — сказала я. — Давай так. Я сделаю все. Что же я, зверь что ли? Если я сумею, я сделаю. Не за это. Не за откровенность, не за секреты какие-то. А потом, когда-нибудь, ты мне расскажешь. Не за это.
— А ты ведь… придешь еще? — спросил он растерянно. — Ты сказала, что мы не будем дружить…
— Я просто… сама не знаю, зачем сказала, — поморщилась я. — Мне было обидно…
— Я верю тому, что люди говорят. Нина, ты все-таки приди сегодня, пожалуйста. Чтобы ты сама решила, надо или не надо это делать. Чтобы не было так, что ты не знаешь — для чего… Нина?
Он коснулся моих волос (я сидела с опущенной головой).
— Я просто не умею дружить с людьми. Я не знал, как надо… чтобы ты не испугалась. Я боялся, что испугаешься — и все.
Я медленно подняла голову.
— Я буду искать. И приду. На вертушку и сюда… Но она же живая? Зачем ей тропа? Она хочет уйти в тот лес, потому что там ее дом, в смысле — она оттуда? Я сама не знаю, что спрашивать… И еще — дай мне тех твоих яблок, я твоих друзей вечером тоже пирогом угощу.
(Продолжение следует)



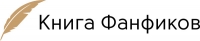






Комментарии к книге «Двери весны», Юлия Тулянская
Всего 0 комментариев