Игорь Поляков ПАРАШИСТАЙ. КНИГА ВТОРАЯ ДОКТОР АХТИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ
…Я каждый день восторгаюсь твоей красотой.
Мое желание — слышать твой прекрасный голос,
Звучащий, словно шелест северного ветра.
Молодость возвращается ко мне от любви к тебе.
Дай мне твои руки, что держат твой дух,
Чтобы я смог принять его и жить им.
Называй меня моим именем вечно — а мне
Без тебя всегда чего-то будет недоставать.
Тексты ПирамидЧасть первая Киноцефал
1
В полуоткрытую дверь постучали. Затем женский голос негромко спросил:
— Можно войти?
Врач подняла голову от амбулаторной карты. Увидев заглядывающее в дверь лицо, приветливо улыбнулась и ответила:
— Здравствуйте, Мария Давидовна, конечно, можно.
Стройная женщина в белой блузке и юбке до колен села на стул. Суетливо перебирая пальцами паспорт со страховым полисом, она посмотрела на врача, положила документы на стол и сказала:
— Светлана Геннадьевна, я снова к вам со своими проблемами.
— Боль в молочных железах? — понимающе кивнула доктор.
— Нет.
— Выделения из сосков?
— Нет.
— Нащупали какое-то образование в молочной железе?
— Нет, но…
— Мария Давидовна, милая моя, — вздохнула врач, — вы были у меня всего лишь месяц назад, и, как мне показалось, мы с вами всё обсудили. Если у вас нет болезненных ощущений в молочных железах перед месячными, если нет выделений из сосков и вы сами руками при самообследовании ничего не находите, то что это значит?
— Это значит, что у меня всё хорошо, что у меня нет никаких проблем с грудью, — потупившись, ответила Мария Давидовна.
— Именно так. Не надо придумывать себе болезни. Не надо ставить себе диагноз. Вы ведь знаете, что в большинстве случаев человек создает себе проблемы сам. Да, у вас есть диффузные изменения в молочных железах, но — у какой женщины в вашем возрасте их нет. И, кроме того, ваши молочные железы до сих пор не выполнили возложенные на них природой функции — не кормили ребенка.
— Светлана Геннадьевна, я всё понимаю, я знаю, что такое канцерофобия, но ничего не могу поделать, — Мария Давидовна сжала переплетенные пальцы, глядя прямо в глаза доктора, — я каждое утро начинаю с того, что минут десять щупаю грудь, затем еще минут десять разглядываю себя в зеркало. Днем на работе я временно об этом забываю, а вечером, придя домой, снова всё по кругу — под душем пальпирую, в зеркало смотрю, на соски давлю. Понимаю, что глупо и может даже смешно, но ничего поделать не могу. Ночью сплю плохо, сны всякие дурацкие снятся — то будто я смотрю в зеркало, а там страшная лысая тетка после химиотерапии, то будто снимаю рубашку, чтобы на грудь посмотреть, а там вместо правой молочной железы рубец на всю правую сторону. Просыпаюсь вся поту и потом долго не могу уснуть, или уже не сплю до самого утра.
Мария Давидовна вздохнула, и по-прежнему просительно глядя в глаза женщине в белом халате, сказала:
— А, давайте, Светлана Геннадьевна, сделаем ультразвуковое исследование?
— Нет, мы это делали два месяца назад.
— Ну, тогда маммографию?
— Нет, это исследование было четыре месяца назад, — снова покачала головой врач, затем, помолчав, она добавила, — раздевайтесь до пояса, Мария Давидовна, я руками посмотрю. И этого вполне достаточно.
Конец фразы она произнесла, четко выговаривая каждое слово.
Когда пациентка ушла за ширму, Светлана Геннадьевна посмотрела на сидящую напротив медсестру и обреченно помотала головой — что же сделаешь, когда с головой не всё в порядке.
После стандартного и внимательного осмотра с пальпацией молочных желез по квадрантам и в подмышечной области, врач жестом разрешила одеваться и вернулась к столу.
— Ну, как? — нетерпеливо спросила пациентка.
— Замечательно.
Мария Давидовна, суетливо поправляя одежду, вышла из-за ширмы и села на стул.
— Прямо всё-всё замечательно?
— Да. Кстати, вы принимаете мастодинон?
— Да, уже третий месяц.
Светлана Геннадьевна пристально посмотрела в глаза пациентке и медленно произнесла:
— Принимайте этот препарат еще три месяца и только потом приходите ко мне. Это понятно, — еще три месяца, — врач пристально посмотрела на пациентку и, заметив согласный кивок головой, продолжила, — и вот тогда мы сделаем контрольную маммографию. Не раньше. И ходить ко мне каждый месяц не надо. Кроме того, что теряете своё время, вы еще поступаете просто глупо.
— Только через три месяца? А если я найду что-то лишнее в груди или в подмышечной области, какую-нибудь опухоль? — глаза пациентки расширились.
— Ничего вы у себя не найдете, — сказала уже равнодушно доктор, — потому что у вас всё очень, очень хо-ро-шо. Всё, Мария Давидовна, идите и лечитесь.
— А, может, сдать кровь на онкомаркеры?
— Так ведь три месяца назад сдавали.
— Целых три месяца, — уточнила Мария Давидовна.
Врач обреченно кивнула и развела руки — Господи, да делайте, что хотите.
— Спасибо, Светлана Геннадьевна.
Мария Давидовна взяла бланк направления в лабораторию и вышла из кабинета.
Светлана Геннадьевна с легкой грустью и небольшим раздражением посмотрела на закрывшуюся дверь и сказала, обращаясь к медсестре:
— Вот, что бывает, когда много знаешь, и симптомы заболеваний начинаешь примерять к себе. Самовнушение — страшная сила, особенно у людей, получивших медицинское образование.
Мария Давидовна вышла из поликлиники и остановилась на крыльце. Уже вечерело, но солнце еще достаточно высоко, дневная духота навалилась на неё, заставив инстинктивно отойти в тень. Задумчиво глядя на покрытые городской пылью серые листья тополя, на исторгающие бензиновые выхлопы однотипные автомобили, въезжающие на парковку, она скинула сумку с плеча и механически стала искать что-то внутри. Затем опомнилась — курить она бросила. Уже полгода, как ни одной сигареты. Но — порой так хотелось снова поднести огонек от зажигалки к кончику сигареты и вдохнуть в себя горьковатый дым.
Доктор Гринберг сделала глубокий вдох. Задержав дыхание, представила круг прямо перед собой, и медленно выдохнула в него. Затем снова глубокий вдох, и выдох в треугольник. И снова — вдох и выдох в квадрат. Проделав это простое упражнение для освобождения от беспокойства трижды, она сразу почувствовала себя значительно лучше, забыв на время о сигарете.
Она извлекла из сумки зеркальце и, глядя в него, провела правой рукой по волосам так, словно именно это она и хотела сделать, а вовсе и не собиралась закурить. Из зеркала на неё посмотрели карие глаза — улыбнувшись им, она очень тихо сказала:
— У тебя всё хорошо. Ты полна сил и энергии. Улыбайся прошлому, настоящему и будущему. Стань самой собой.
Глаза, в которых давно поселилась грусть, чуть прищурились в мимолетной улыбке.
В сумке завибрировал телефон, и затем заиграла мелодия — «Наша служба и опасна и трудна…». Мария Давидовна вздрогнула и, чуть не выронив зеркальце, достала телефон. Увидев на экране имя, она на мгновение замерла. И затем, нажав на кнопку, поднесла трубку к уху.
— Мария Давидовна, здравствуйте, это Вилентьев.
— Здравствуйте, Иван Викторович.
— Парашистай вернулся.
Мария Давидовна, навалившись на перила поликлинического крыльца, закрыла глаза.
— Мария Давидовна, что вы молчите. Вы слышите меня. Я сказал, что Парашистай вернулся.
— Ну, в этом нет ничего удивительного, — тихо сказала Мария Давидовна, — учитывая, какое сегодня число. Двадцать шестое июля.
— Вы подъедете ко мне в управление?
— Да, конечно.
Прохладный ветер взъерошил волосы, прогнав духоту. Листья на тополе внезапно показались не настолько серыми — сквозь пыль явственно проступала сочная зелень. На парковку въехал джип с аэрографией — на красном фоне белый летящий в пространстве единорог.
Мария Давидовна неожиданно для себя улыбнулась. И, сложив телефон в сумку, быстрым шагом пошла от поликлиники.
2
Я смотрю на языки пламени. Хаотично и безумно они расцветают над чернеющим хворостом. Правильно и красиво создают мечущуюся форму, — образ оранжевого танцующего цветка над ярко-красными углями.
Маленький костер на берегу журчащего ручья в сотнях километров от человеческой цивилизации, словно в другом измерении и времени. Медленно темнеет. В лесу хорошо. Тихо и спокойно. Здесь мне так же хорошо, как и в квартире на первом этаже в пятиэтажке.
Я знаю, что одиночество — это участь того, кто идет своей дорогой. Того, кто отбился от человеческого стада и выбрал свой путь.
Я смотрю на огонь. И улыбаюсь. Это Богиня танцует для меня самый прекрасный из танцев — танец любви. Между нами около трехсот километров, но это расстояние — ничто, потому что её образ повсюду.
В шелесте осиновых листьев.
В прохладном ветерке.
В далеком стуке дятла.
В лежащей рядом со мной еловой шишке.
В языках пламени, что есть танец.
Я протягиваю руку, чтобы прикоснуться к ней. И отдергиваю руку, почувствовав боль, — страстный трепет огня не позволяет мне нарушить ритм танцующей Богини. Я это знал, но — так порой сильно желание вернуться в прошлое.
Нырнуть с головой в реку по имени Время и поплыть, преодолевая сильное течение. Выбиться из сил в этой бессмысленной борьбе, но попытаться вернуться к началу. Вопреки всему до последнего бороться с этой реальностью, чтобы снова стать самим собой.
И услышать имя, которое она еле слышно произносит.
Языки пламени слабеют. И я подбрасываю хворост. Любой любви нужна пища, так же, как для танца важны сокращения мышц.
Образ любимой слабеет в сознании, если не вспоминать её ежедневно. Картины в сознании блекнут и выцветают.
Память — эта непостоянная и коварная функция человеческого организма — может подвести именно тогда, когда считаешь, что всё прекрасно и замечательно. Это, как внезапно забытое слово, что мучительно пытаешься вспомнить и которое, кажется, вертится на языке, а сказать не можешь. Это, как нарисованная картина, которая уже давно висит на стене, и ты перестаешь замечать запечатленный красками образ. Это, как выцветшая фотография в запылившемся забытом альбоме, — осколок утраченного времени.
Теперь я редко рисую. Только один раз за ночь, да и то далеко не каждую ночь. Я не знаю, плохо это, или хорошо. Я просто нахожу её вокруг себя — и образ слегка прищуренных глаз в ореоле развевающихся волос заставляет меня замереть. Порой мне кажется, что я закричу здесь и сейчас, прямо в эту секунду, но — она исчезает, и я могу вздохнуть.
Еще я вспоминаю другую женщину, с простым именем Мария, но — я просто создаю в сознании образ, никак не реагируя на него. Мне просто приятно вспоминать. Мне просто легко и радостно смотреть на лицо, которое всплывает в памяти. Знать, что есть человек, который просто любит тебя, — возможно, это и есть первый шаг на пути домой.
Так оживают в сознании события, которые вопреки всему живут во мне.
Так возвращается умершее время.
Где-то треснула ветка. Я отвожу глаза от огня и поворачиваю голову на звук. Тишина и вечерний полумрак.
Снова пришел июль. Двадцать шестое число. Две тысячи восьмой год.
Теперь я знаю, что мне еще долго жить среди теней. Тростниковые Поля для Богини, а этот мир — для меня.
Пока я не знаю, что мне надо делать. Я снова потерялся в зимнем лесу, и бреду наобум. Вроде Богиня рядом, но я не чувствую теплую руку в своей ладони.
Я смотрю на языки пламени, и — это уже не танцующий цветок. Всего лишь маленький костер, освещающий вечерний лес.
Я медленно достаю из рюкзака кусок хлеба и начинаю жевать его. Забросив в рот последний кусок, я стряхиваю крошки с бороды и протягиваю правую руку за флягой, чтобы запить пищу.
Я знаю, что любому человеку нужно уединение. Хотя бы иногда. Даже ненадолго. Привести в порядок мысли, которые порой скачут, как сайгаки в степи, обгоняя ветер. Разложить по полочкам прошлое, чтобы понять сделанное. Вычленить пустое и ненужное, отбросив его в сторону. Обозначить в своем сознании значимые и важные события, чтобы понять самого себя. Чтобы осознать, куда идти дальше.
Это, как путь из темного леса к далеким фонарям — ты знаешь куда идти, но утоптанная тропинка уходит в сторону, и чтобы выбрать правильную дорогу, приходится идти напролом, через чащу по сугробам. И не всегда рядом с тобой тот, кто возьмет тебя за руку и укажет путь. Порой надо самому принимать решение.
3
Старший следователь Областного Следственного Управления Иван Викторович Вилентьев смотрел на фотографию доктора Ахтина. Короткая стрижка, открытый взгляд, худощавое лицо, легкая полуулыбка. На фотографии доктор в белом халате с небрежно наброшенным на шею фонендоскопом.
— Какой ты сейчас, — пробормотал он задумчиво, — и в какой норе прятался всё это время? Каким стал и что собираешься сделать?
В дверь постучали.
— Да, войдите.
Увидев входящую женщину, он встал и с широкой улыбкой пошел к ней.
— Мария Давидовна, как я рад вас видеть!
Иван Викторович нагнулся и попытался галантно поцеловать руку даме, но Мария Давидовна успела выдернуть свою ладонь из руки кавалера.
— Поздравляю, Иван Викторович, вы уже майор, — сказала она, глядя на большие звездочки на погонах.
— Да, — как бы непринужденно кивнул Вилентьев, — уже достаточно давно, почти восемь месяцев. Кстати, вы прекрасно выглядите, Мария Давидовна! Как давно я не говорил вам эти слова!
— Спасибо, — кивнула она, — но давайте перейдем к делу.
— Да, конечно. Садитесь.
Иван Викторович вернулся на свое место и, открыв сейф, достал фотографии.
— Вот, Мария Давидовна, снимки с места преступления.
Он поднял глаза на женщину и увидел, что она отсутствующим взглядом смотрит на фотографию доктора Ахтина, лежащую на столе. Накрыв её ладонью, он повторил, привлекая внимание женщины:
— Это фотографии с места преступления.
Мария Давидовна, стряхнув оцепенение, вздохнула и стала смотреть фотоснимки.
Молодая девушка. Лет двадцать, если не меньше. Мраморно-белая кожа. Пустые глазницы. Разорванное платье скомкано в области шеи. Разрезанный от лобка до грудины живот. Внутренние органы бесформенной кучей лежат рядом.
— Её нашли недалеко от ипподрома.
— В Черновском лесопарке?
— Да. Не знаю, зачем её туда занесло, особенно на ночь глядя. Эксперт сказал, что смерть наступила примерно в четыре часа ночи. Мы уже установили личность убитой. Анна Коломийцева, восемнадцать лет, приехала поступать в медицинский институт, экзамены сдала и ожидала результатов зачисления, жила на съемной квартире с подругой, прописана в одном из городов области. Подруга сказала, что вчера она познакомилась с каким-то парнем и собиралась сходить с ним на дискотеку. Но она этого парня не видела и, соответственно, не может описать. Теперь вот ищем этого парня. Возможно, он последний, кто видел жертву. С него и надо начинать.
Вилентьев замолчал. Он задумчиво смотрел на женщину, сидящую напротив, и ждал. Прежнее чувство легкости от присутствия рядом приятной женщины не появлялось. Он видел перед собой уставшую женщину в возрасте далеко за тридцать пять, с легкими морщинками вокруг глаз и бледными губами. Прошлогоднее обаяние испарилось. Странно, хотя он прекрасно знал, как быстро меняются люди. Еще вчера человек казался молодым и энергичным, а уже сегодня он выглядит, как старая развалина. И еще — он знал, сколько лет женщине.
Мария Давидовна, закончив смотреть на снимки, сложила их кучкой и положила на стол. Посмотрев на следователя, она спросила:
— Мне кажется, что вы что-то еще хотите сказать?
— Да, Мария Давидовна, — Вилентьев, пристально глядя в глаза собеседнице, продолжил, — а еще Парашистай изнасиловал её. Уже мертвую.
На лице Марии Давидовны ничего не изменилось — она даже не мигнула, спокойно глядя в глаза майору. Не дрогнул ни один мускул на лице. А, через мгновение, улыбнувшись, она сказала:
— Это не он. Это не Парашистай.
— Я предполагал, что вы так скажете. Вы и в прошлом году защищали этого сумасшедшего потрошителя. Я так и не понял, зачем вы это делали, но, впрочем, сейчас это не важно. Давайте вспомним ваши слова. Как вы говорили, самое главное — это выдавленные у жертвы глаза, а все остальное не более чем антураж, спектакль для нас. Отвлекающие действия. Так и сейчас.
Иван Викторович ткнул пальцем в лицо жертве на фотографии.
— Вот. Выдавленные глаза. Фирменный почерк Парашистая. Да, в прошлые годы он никогда не насиловал свои жертвы, но — время идет, в его больном мозгу — помните, вы говорили, что он шизофреник — рождаются новые идеи и ритуалы. Каждый год он что-то меняет в своих убийствах, так почему бы ему сейчас еще и не развлечься с трупом?! А, Мария Давидовна?! Скажите мне, как врач-психиатр, что такое невозможно, и я очень сильно удивлюсь.
Мария Давидовна повернулась к окну и, глядя на освещенные фонарем листья тополя, колышущиеся под ветром, тихо сказала:
— Да, конечно, вы правы, это вполне возможно. В голове у больного человека могут происходить изменения. Ритуалы могут меняться. Но — я не могу поверить, что Парашистай на такое способен. В прошлом году мы встречались, он мне нравился — спокойный интеллигентный мужчина, уверенный в себе, за таким можно всю жизнь прожить, как за каменной стеной. Он добрый и великодушный. Он очень умный и его сердце открыто для людей. И он прекрасный доктор. Про таких говорят, что он — врач от Бога. Тогда в прошлом году для меня каждая встреча с ним была неким откровением. Я даже иногда представляла нашу будущую совместную жизнь. Конечно, это глупо и бессмысленно, но — я всего лишь женщина. И, кстати говоря, я на сто процентов поверила в то, что Михаил Ахтин и Парашистай — одно лицо только, когда говорила с ним в тюремной больнице. А до этого я никак не могла примириться с этой мыслью.
Она снова повернулась к Вилентьеву и, твердо глядя в глаза собеседника, сказала:
— Парашистай не насильник. Да, он убийца. Да, он маньяк-потрошитель. Да, возможно, он психически болен. Но он не будет таким образом издеваться над мертвым телом. Это нонсенс. Это абсолютно невозможно, потому что этого не может быть. И еще, — Мария Давидовна вытащила из пачки фотографию и показала пальцем, — это все некрасиво выглядит, особенно разрез. Если вы помните, Парашистай хорошо рисует, у него есть художественный вкус, и он бы не стал так неэстетично разрезать тело и вываливать наружу внутренние органы. Поэтому я уверена, что это подражатель. На сто процентов.
Иван Викторович, глядя на прищуренный взгляд и упрямо сжатые губы собеседницы, кивнул. И снисходительно улыбнулся. Ему надо было уже давным давно догадаться, что эта женщина неравнодушна к доктору Ахтину. И, следовательно, она теперь ему не помощница, потому что всеми силами будет его защищать, даже вопреки здравому смыслу.
Хотя — майор задумчиво потер пальцы рук — если правильно использовать это знание, то есть возможность быстро найти Парашистая. Если допустить мысль, что Парашистай тоже питает к этой женщине какие-либо теплые чувства, то, пожалуй, это надо использовать во благо следствия и для скорейшей поимки маньяка.
А именно это ему сейчас и надо.
4
Я ставлю на чурбан березовую чурку. Беру колун обеими руками и поднимаю вверх. Резко опускаю на выдохе. Удар — и сухая чурка разлетается на две части. Поднимаю ту, что отлетела ближе ко мне и снова ставлю на чурбан. Поднимаю колун. Опускаю.
Простые движения — это мои будни. Простые и прозаичные события жизни.
Я раз за разом совершаю однотипные движения и размышляю. О том, что было и что будет. О событиях последних лет и о том, что мне надо сделать здесь и сейчас. Однажды я сказал, что я — Бог. Сказал уверенно и твердо, глядя в глаза собеседнице. И она поверила. Но — уже тогда я сомневался в этом, а теперь знаю, что это не так.
Простые движения — это жизнь человека. Одного из миллиардов. Он может верить, что Бог есть, может не верить — все это неважно, потому что Спаситель все равно живет рядом, совершая те же рутинные движения. Сегодня вы вместе раскалываете березовые чурки, завтра вскапывайте землю перед посадкой картофеля, а послезавтра — лечите людей.
Простая ежедневная работа. Одна для всех, от Бога до одинокого человека.
Дух вечен, плоть суетна и тленна. Тень покинет человека, имя сотрется из памяти, птица взлетит к горизонту, тело сгниет в земле.
«Ах» для неба, труп для земли.
Ничего не изменилось за тысячелетия. Ни в ежедневной людской суете, ни в рутинных буднях Бога, ни в неторопливой жизни природы.
Простые движения — суть Времени и Пространства. Не надо искать смысл существования человека на Земле, какую-то космическую истину или роль жизни во Вселенной. Эти поиски никуда не приведут.
Глобальная цель недостижима.
Жертвенный подвиг бессмысленен.
Смерть во имя чего-то и для чего-то совсем не нужна Творцу.
Березовое полено после очередного простого движения отлетает в сторону, и я вижу соседа. Он тяжело дышит, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. На его руках и на светло-зеленой майке, обтягивающей большой живот, большие красные пятна. Руки дрожат, ноги подгибаются. В глазах — страх, который плавает в мутном сознании алкогольного опьянения.
— Привет, Семен. Как я понимаю, ты только что зверски убил человека, разделал труп кухонным ножом и бежишь рассказать мне об этом?
Я жду, пока мужик пытается что-то сказать в ответ, по-прежнему держа колун в руках.
— Да. То есть, нет. Не я, — мужик наконец-то может более-менее связно говорить, — это Лидка Ивана сковородкой так приложила, что он сейчас лежит в луже крови и, похоже, уже не живой. Насмерть убила сковородкой. Кровищи вокруг море. Иван бездыханный на полу. Ну, я за тобой и побежал.
— Опять пили самогон? — уточняю я, привалив колун к чурбану.
— Ну, дак мы пробовали, как получилась живая вода. Как же без этого. Первачок требует пробы. Это ж святое!
— Ага. Каждый день. Ладно. Пошли, посмотрим на труп Ивана.
В деревне семнадцать дворов, из которых только в четырех есть жизнь. Остальные давно брошены своими хозяевами. Покосившиеся бревенчатые срубы, провалившиеся крыши, заросшая бурьяном земля. Агонирующее поселение — когда я пришел сюда в начале года, жизнь теплилась только в двух домах. В одном живет Иван, который в свои пятьдесят лет выглядел на восемьдесят. С ним проживает гражданская жена Лида. В другом доме — старуха Прасковья, возраст которой понять невозможно. Потом, ближе к лету появился мужик лет сорока по имени Семен, родители которого когда-то жили в этой деревне. «Жена выгнала, — объяснил он своё возвращение на родину, — сказала, что не хочет жить с алкоголиком, а я ведь совсем по чуть-чуть, ну, и еще перед этим с работы уволили. Идти мне было некуда, вот я и вспомнил, что у меня есть домик в деревне».
Иван с Лидой живут через два дома от меня. Я вхожу через покосившуюся калитку, которую Иван за все лето так и не удосужился починить. Скрипящее просевшее крыльцо и потрескавшаяся дверь. Бубнящий голос диктора из постоянно включенного радиоприемника, стоящего у окна. Слева — русская печь. Терпкий, так хорошо знакомый запах крови. В горнице на лавке у стола сидит Лида. Она качается взад вперед и молчит. По лицу текут крупные слезы крепостью градусов в пятьдесят. В правой руке чугунная сковорода с остатками жареной картошки. Пальцы, сжимающие рукоять сковороды, побелели от напряжения. На деревянном полу на старом рваном половике ничком лежит Иван. Вокруг головы лужа темной крови.
Ну, что-то подобное я и ожидал увидеть. Присев рядом с Иваном беру его запястье, затем проверяю пульс на сонных артериях. И спокойно говорю:
— Нормально, живой он.
— Точно? — сомневаясь, дышит перегаром мне в затылок Семен.
— Точно, точно, — и осмотрев окровавленную голову, я добавляю, — мне надо воду, несколько чистых тряпок, ножницы, иголку и нитки.
Лида выходит из прострации, с грохотом роняет сковороду на пол, вытирает рукавом слезы и убегает в соседнюю комнату.
— Ага, — бормочет за спиной Семен, — а я сейчас ведро воды принесу.
Пока их нет, я сжимаю голову лежащего человека и закрываю глаза. На мгновение. Даже не с целью что-то узнать о здоровье и будущем этого человека, а чтобы просто проверить — могу ли я еще, со мной ли мой дар. Затем, встав на ноги, иду к столу. То, что мне надо — почти пустая бутыль самогона — в центре стола. Отставив её в сторону, я сгребаю грязную посуду и остатки пищи на край, освобождая место.
— Вода.
Семен ставит ведро на лавку.
— Давай его поднимем на стол, — говорю я ему.
— Зачем?
— Ну, не на полу же мне его зашивать. Неудобно.
— А, ну да, конечно. Давай.
Вдвоем мы с трудом взгромождаем тело на стол. Я пытаюсь придерживать голову Ивана, но она, тем не менее, с глухим стуком ударяется о столешницу. Иван никак не реагирует, и я думаю, что именно в таких случаях говорят — мертвецки пьян.
— Вот, принесла, — Лида протягивает мне скомканную светло-коричневую тряпку. В другой руке ножницы, черные нитки и игольница в виде ежика.
— Что это? — я, расправив тряпку, смотрю на неё. Выцветшие застиранные женские панталоны.
— Они чистые, — хлопает глазами Лида, — просто порвались и я их уже не ношу. Вот здесь они порваны, — зачем-то уточняет она, показывая на прохудившееся место в задней части панталон.
Я улыбаюсь.
И начинаю делать свое дело.
Простые движения — это и есть смысл бытия.
Бросить иголку с ниткой в самогон. Выстричь волосы вокруг раны на голове. Водой из колодца и тряпкой убрать кровь, грязь и остатки волос. Обработать края раны самогоном. Вымыть руки. Немного выгнуть иглу, чтобы удобно было протыкать края раны. Сначала с одной стороны, затем с другой. Протащить нитку. Завязать узел, сопоставляя края. Снова вдеть нитку в иголку. И следующий шов. Всего восемь раз. В конце холодная вода и самогон на шов. Ну, вот и всё.
Делай то, что умеешь, и Бог будет рядом, даже если он тебе и не нужен.
Даже если предполагаешь, что сейчас это место пустует.
Даже если ты уверен, что птица, взлетевшая к горизонту, еще не вернулась к людям.
5
Автобус резко остановился, и Вика, вздрогнув, проснулась.
— Конечная остановка, Липовая Гора, — услышала она голос кондуктора. Потрясла головой, прогоняя остатки сна, и встала со своего места. Салон автобуса пуст, несколько человек, которые ехали также как и она до конечной остановки, уже вышли. Вика вздохнула, поправила свое единственное приличное платье, сшитое специально для сегодняшнего дня — легкий ситцевый сарафан, красиво облегающий стройную фигуру — и тоже пошла к выходу.
Такой классный день, и закончился. Она была у подруги на дне рождения. Когда-то, наверное, в другой жизни, а, может, в другом времени и пространстве, они вместе учились в школе. Потом их пути разошлись — родители Ани переехали в центр города, подруга поступила в университет, а она так и осталась жить в деревянном доме на дальней окраине города. Можно сказать, на самой далекой окраине — в двадцати метрах от дома железнодорожные пути, которые разделяют центр области и ближайший сельский район. Грохот тяжелогруженых составов и пассажирских поездов, как привычный круглосуточный шум, без которого уже невозможно уснуть. Пахнущие табаком и дымом рабочие-железнодорожники, которые заходили к ним за водой. И постоянно мусор вдоль железнодорожных путей, который пассажиры поездов выкидывали в окна и который они с мамой каждое лето раз в неделю собирали.
Она поступила учиться в медицинский колледж на медсестру, хотя вовсе не хотела этого. Ночь через три работала санитаркой в операционном блоке областной больницы. Надо было ухаживать за больной мамой, денег хронически не хватало, да и сама она понимала, что не потянет высшее образование. Медсестра — это же хорошо, буду приносить пользу людям, да и маме смогу помочь, — говорила она себе, соглашалась с собой, кивала своему отражению в зеркале.
А ночью видела совсем другие сны.
Вика медленно шла по тротуару, смотрела на звездное небо и улыбалась. Звездами она могла любоваться бесконечно. Завораживающе далекие мерцающие точки — эти маленькие огоньки, рассыпанные по черному небосводу, они жили своей жизнью, в которой для неё нет места. Мечты, как дымка Млечного пути, далеки и призрачны. Растущий месяц, как лодочка, плывущая в зыбкую вечность. Но — ничто и никто не мешает по-прежнему мечтать. И, может, когда-нибудь — почему бы именно не сегодня, или уже завтра, ну, или на худой конец, послезавтра — мечта может приблизить звезды на расстояние вытянутой руки, и она сможет прикоснуться к одной из них.
Сегодня она познакомилась с парнем. Там, на дне рождения подруги, — песочного цвета волосы, озорные глаза, умные и добрые слова, заботливые руки и робкие прикосновения в танце. Впервые за последние пять лет — с тех пор, как мама слегла — она чувствовала необычную легкость в теле, некое ощущение полета, словно она сейчас не шла по асфальту, а плыла по волнам счастья.
Она улыбалась звездам, прощая их холодный равнодушный блеск.
Она махала рукой уплывающему вдаль месяцу.
Она примеряла Млечный Путь, как шифоновый шарфик, небрежно повязывая его на шею.
Тротуар закончился. Вика сняла туфли на высоком каблуке и пошла по тропе босиком. Небольшой липовый лесок между её домом и конечной автобусной остановкой — она выросла в нем, знала каждое деревце и каждый куст. И тропа, по которой она шла, натоптана в том числе и её ногами.
Душа пела. Тихую и ненавязчивую мелодию юности. Вику за правую руку вела ожившая Мечта, в левой руке у неё Цветок счастья, под ногами Тропа Детства, и вместе они пели Песню Любви.
Может быть, поэтому Вика не услышала шаги сзади. И даже не успела испугаться, когда все-таки поняла, что сзади кто-то есть и обернулась. С наивной надеждой, что это он, тот парень с песочными волосами, догнал её. С робкой радостью в глазах. И даже когда удар по голове свалил её с ног, она, лежа в траве родного леса, продолжала улыбаться звездам, в последние мгновения жизни чувствую спиной теплоту нагретой за день земли и удивляясь тому, что близко посаженные глаза на вытянутом лице, заглядывающие в её сознание, бездонно пусты.
Человек в черной одежде, тенью нависший над ней, огляделся, вслушиваясь в тишину. Убедившись, что вокруг никого, он достал нож и одним движением разрезал сарафан жертвы. Замер, словно любуясь белым обнаженным телом. Затем, снова суетливо осмотревшись по сторонам и послушав темноту, положил нож на землю.
Равнодушные звезды по-прежнему загадочно мерцали.
Месяц скрылся за облаком.
Млечный Путь растворился в черноте.
Листва на липах равнодушно шелестела под теплым ветерком.
6
В секционной комнате царила стерильная чистота. Белоснежная кафельная плитка на стенах. Неровный коричневый пол со сливными отверстиями. Два стальных стола, один из которых занят обнаженным женским телом. Майор Вилентьев в когда-то белом халате, накинутом на плечи, подошел к столу и задумчиво посмотрел на труп молодой женщины. Всё, как обычно — разрезанный живот, выдавленные глаза. И почему она считает, что это не Парашистай? Впрочем, сейчас не важно, что думает доктор Гринберг. Заметив санитара, — черт возьми, как его там зовут — в дальнем углу у стеклянного шкафа с инструментами стоящего на цыпочках и пытающегося достать что-то с верхней полки, Вилентьев спросил:
— Где Марина Владиславовна? Может, уже пора начинать?
— Она курит, — равнодушно ответил санитар, даже не повернувшись к собеседнику.
Поморщившись, Иван Викторович отвернулся. Второе убийство в этом году, а он ничего не может сделать. Да, конечно, фотографии и ориентировки разосланы, все службы в боевой готовности, с сегодняшнего дня введены дополнительные милицейские патрули в отдаленных районах города, проводится профилактическая работа среди молодежи, в том числе и через средства массовой информации. Оперативники на местах через информаторов и бомжей отслеживают любые нестандартные ситуации и появление незнакомых людей. На всякий случай, в квартире доктора Ахтина, кроме датчиков движения, установлены камеры видеонаблюдения. Наверняка, он туда не придет, но — чем черт не шутит. И скорее всего, Парашистай изменил внешность — Вилентьев ни на секунду не сомневался, что доктор Ахтин на это способен. И даже наверняка он изменил своё имя и фамилию, достав новые документы. Что же, опытный следователь с большим стажем работы должен это предусмотреть и строить следствие с этих позиций.
— Ну, что, начнем, — услышал он низкий женский голос.
Узкое лицо, выдающийся вперед нос, на котором висят очки с толстыми стеклами, волосы скрыты под колпаком, белый накрахмаленный халат на худом длинном теле. Марина Владиславовна Семенова, доцент, заведующая кафедрой патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы, стремительно вошла в секционный зал. Скинув халат, она быстро надела клеенчатый фартук.
Вилентьев, давно давший ей кличку «Шапокляк», неторопливо отошел от стола. Но недалеко.
— Так, что тут у нас?
— Труп, — спокойно сказал Иван Викторович.
— Очень смешно, — хмыкнула она, надевая кольчужные перчатки.
Вилентьев отвернулся к окну. Несмотря на то, что он бывал на вскрытии уже неоднократно, ему по-прежнему не нравилось смотреть на то, как врач обращается с мертвым телом. И одной из причин было то, что он всегда примерял к себе все эти действия. К своему телу. Как бы глупо это не было, но Вилентьев смертельно боялся очутиться однажды на секционном столе.
Иван Викторович смотрел на раскидистые липы за окном. Думал о Парашистае. И слушал, как Марина Владиславовна монотонно наговаривает в диктофон внешний осмотр тела, автоматически вычленяя только то, что его интересовало.
— В теменной области справа след от удара тупым предметом.
— Глазницы жертвы пусты. Глазные яблоки извлечены из глазниц с повреждением век, которые справа вывернуты наружу, а слева порваны.
— В области шеи кровоподтеки от сдавления, скорее всего руками.
— Разрез от лобка до грудины неровный. Внутренние органы извлечены из брюшной полости единым конгломератом.
— В области промежности засохшая кровь. Разрывы задней спайки влагалища и остатки девственной плевы.
Иван Викторович повернулся и уточнил:
— Марина Владиславовна, она что, была девственница?
— Судя по всему, да, — кивнула доктор, выглянув из промежности трупа, — достаточно крупные свежие обрывки девственной плевы с засохшей кровью. Возможно, следы спермы, но уверенно смогу сказать только после анализа.
Майор отвернулся. Сжал кулаки. И дал себе слово, что когда он доберется до Парашистая, то лучшим выходом будет убить его при задержании. Учитывая события прошлого года, этот мерзавец, этот гребаный маньяк, если его оставить в живых, может снова вывернуться. А этого он, майор Вилентьев допустить не может.
И ни в коем случае он не должен даже дать ему шанс.
— Давай, Максим, вскрывать черепную коробку, — услышал он голос «Шапокляк» и на ходу сказав, что он пару минут покурит, вышел из секционной комнаты. Звук разрезаемых костей черепа он совершенно не мог выносить, — зудящий звук снизу из живота проникал прямо к горлу, норовя прорваться наружу рвотными массами, разрывая сознание надвое.
Выкурив первую сигарету в четыре затяжки, он слегка расслабился и, прикурив вторую от первой, стал спокойно курить. Мысли в голове размякли и потекли вялой рекой. Иван Викторович почему-то вспомнил доктора Мехрякова, — со Степаном Афанасьевичем ему как-то удобнее было работать. Может потому, что они вдвоем после вскрытия садились в кабинете Мехрякова и выпивали по сто грамм. И доктор раскладывал по полочкам результаты вскрытия простым и доступным языком, исключая из своей речи малопонятные медицинские слова.
От «Шапокляк» такого не дождешься. Впрочем, майор, предложи она ему выпить по сто грамм, сам бы отказался, — даже представить себе такую ситуацию ему противно. Затушив окурок, он вздохнул и пошел обратно в секционный зал.
— Иван Викторович, могу однозначно сказать, что жертва умерла не от удара в голову, — сказала Марина Владиславовна, увидев майора Вилентьева, — есть трещина в теменной кости, незначительные субарахноидальные кровоизлияния, как следствие тупой травмы, но всё это не причина для смерти.
— Тогда от чего она умерла? Удушение?
— Скорее всего, да.
— Выходит, убийца просто её просто задушил? — задумчиво сказал Вилентьев.
— Ну, насколько я могу предполагать, убийца ударил жертву каким-то тупым предметом по голове. Она потеряла сознание. Он стал её насиловать. Она очнулась, и чтобы она не мешала довести начатое до конца, он стал её душить. Ну, и задушил. А потом уже разрезал живот у мертвого тела.
— Спасибо, Марина Владиславовна, — кивнул Иван Викторович, — вы мне пришлете результаты вскрытия?
— Конечно.
Майор Вилентьев попрощался и вышел. С задумчивым лицом.
Как-то всё это не складывалось в стройную систему логических умозаключений, особенно учитывая убийства прошлых лет. Может, все-таки шизофрения у Парашистая обострилась, и он пошел в разнос.
Думать, что убийства совершает не доктор Ахтин, Иван Викторович по-прежнему не хотел.
7
Мария Давидовна шла домой. По центральной улице достаточно большого мегаполиса. Подсвеченные фонарями дома. Автомобили шумным потоком едут мимо — люди после работы возвращаются домой. Ярко освещенные окна больших магазинов с манекенами. Хаотично бродящие в них покупатели. Медленно идущие навстречу молодые парочки — не смотря ни на что, люди находят друг друга. На остановочном комплексе разномастная группа людей ждет автобус. На другой стороне улицы около десятка футбольных фанатов громко и шумно празднует победу местной команды. Все, как обычно — жизнь вечернего города только начинается.
Она очень устала. Не физически, а морально. Сегодня она проводила судебно-медицинское освидетельствование убийцы. Мужчина пятидесяти лет, Виктор Макаров, токарь с одного из предприятий города с прекрасной характеристикой с места работы, с одобрительными отзывами соседей и родственников, убил жену. Прожив с ней двадцать четыре года, он в один прекрасный день, — а точнее поздним вечером, — после выпитой бутылки водки забил женщину насмерть сечкой для рубки капусты. Два часа общения с этим человеком, как двадцать четыре года, просочившиеся сквозь пальцы мелким песком и унесенные ветром прочь. Два часа в комнате с человеком, который двадцать четыре года ненавидел жену, разделяя с ней хлеб и постель.
Мария Давидовна медленно брела по оживленной улице. Снова вечер, но уже совсем другой. После первого убийства и встречи с Вилентьевым, она жила с ощущением, что он где-то рядом. Волнующим ощущением, что человек, изменивший её жизнь, очень близко. Странным и пугающим чувством, что Михаил Борисович Ахтин — она сама с собой не любила и не хотела называть его Парашистаем — в любой момент может подойти к ней. Может, даже именно сейчас он идет за ней. Собственно, почему бы и нет?!
Она остановилась. И неожиданно повернулась. Метрах в десяти на переходе перед «зеброй» стоят три женщины и сгорбленный мужчина в возрасте. У киоска «Овощи-фрукты» парень в серой футболке заинтересованно смотрит на ценники и что-то спрашивает у продавца. Полная женщина с набитой полиэтиленовой «майкой» вперевалку приближается к ней.
Мария Давидовна вздохнула. И пошла дальше.
Так вот она и жила. Уже дней пять. Вроде он рядом, но никак себя не выдает. Возможно, его нет ни здесь, ни в городе, ни даже в этой стране. А, может, это уже паранойя, и кому как не ей знать об этом.
И еще один пустячок, о котором она внезапно подумала — после первого убийства она ни разу не вспомнила о своей канцерофобии. Она перестала каждое утро и каждый вечер щупать свои молочные железы, словно эта ужасная проблема испарилась вместе с возвращением доктора Ахтина. Она ночью крепко спала и не видела кошмарные сновидения. Утром она с удовольствием шла на работу, словно каждый прожитый день приближал её к нему, а впереди была долгая беззаботная и счастливая жизнь.
— Сегодня же посмотрю на грудь, — сказала она себе решительно, — а завтра пойду и сдам кровь на онкомаркеры.
В супермаркете она взяла батон с кунжутом, помидоры, оливковое масло и красное вино. То, которое она любила — испанское полусладкое. На кассе задумчиво посмотрела на стойку с сигаретами, взглядом вычленив из цветных коробочек свою марку, но пересилила себя.
Дома нарезала салат, налила вино в бокал и в тишине своей кухни стала кушать, вспоминая прошлый год.
Другой будет сорок четвертым, Вскоре — континент станет мертвым.По новостям центральных телеканалов она следила за предвыборной гонкой в США. Она хотела, чтобы Демократическая Партия выдвинула кандидатом женщину, и тогда предсказание Парашистая точно не сбудется, потому что президентом станет или женщина, или, как обычно, белый мужчина, но — в прошлом месяце Хиллари Клинтон отошла в сторону, уступив место негру. Нет, правильно говорить — афроамериканцу. Хотя, нет, и так неправильно.
Выборы сорок четвертого президента будут в ноябре этого года, и это будет выбор между белым и другим. И если победит последний, то сбудется первое предсказание Парашистая.
Мария Давидовна ни на секунду не сомневалась в реальности странных рукописных строчек на листе бумаги, который она получила в письме. И всеми силами души желала, чтобы эти предсказания не сбылись.
Доев салат, она вместе с бутылкой и снова наполненным бокалом переместилась в комнату и включила телевизор. Восемь часов вечера — время вечерних новостей. Она сидела на диване, смотрела на экран, не замечая смену кадров, и маленькими глотками пила терпкий напиток. На столике лежал карандашный рисунок. В тот день после встречи с майором она достала его и сейчас почти постоянно возвращалась к нему взглядом. Задавая себе все те же вопросы.
Он видит то, что другим неведомо?
Для чего ему эти знания и как он их использует?
Почему он изобразил себя именно таким?
Ни тогда, ни сейчас у неё нет ответов.
Мария Давидовна часто вспоминала их встречи в тюремной больнице. Вспоминала рассказ про маленького мальчика, пьяный отец которого уснул в сугробе, а он с новогодней елочкой шел по темному лесу. Что-то в этом было. Или она не поняла, что Михаил Борисович хотел сказать ей этим рассказом, или он что-то не сказал. Нет, он не соврал, он просто умолчал, не договорив до конца. Она часто сталкивалась в своей практике со случаями, когда больной человек приукрашивает действительность, изменяя реальность так, как нужно больному сознанию. Или, рассказывая свою историю, опускает очень важные моменты, словно их и не было. Она, как врач-психиатр, должна и могла это заметить. И сразу в том разговоре или в следующий раз уточнить это, заострив внимание пациента, но сразу не удалось, а потом не сложилось. И только некоторое время спустя она вернулась в мыслях к этой истории и поняла, что пропустила что-то важное.
Что-то, что уже нельзя вернуть.
Открытые ладони рук, поднятые вверх.
Слегка прищуренный взгляд.
Тонко сжатые губы.
— Я люблю тебя, Михаил Борисович Ахтин, — тихо пробормотала она рисунку.
И отвела набухшие слезами глаза от изображения. Налила в бокал третий раз. Поднесла его к губам. Сделала глоток. И услышала голос диктора. Это были уже местные новости, которые шли сразу за программой «Вести».
«… изнасилованная и убитая с особой жестокостью девушка вчера была найдена на окраине города. Как стало известно нашему корреспонденты из неофициальных источников, это уже второй случай за последние дни. Официальные источники никак не комментируют происходящее, но учитывая серийные убийства прошлых лет, можно предположить, что это только начало. Наша редакция будет следить за происходящим в городе. Теперь к другим новостям».
Мария Давидовна закашлялась, поперхнувшись вином. Поставила бокал на стол. Стерла слезы с глаз. И, протянув руку к сумочке, достала телефон.
— Иван Викторович, добрый вечер.
— Да, я согласна с вами, что вечер совсем не добрый.
— Было второе убийство, а вы мне об этом не сообщили.
— То есть как, не имею никакого отношения?
— Иван Викторович, вы ошибаетесь, это не Парашистай!
Нажав на красную кнопку телефона, Мария Давидовна отложила его и стала смотреть на бутылку вина, не видя её. Майор сказал ей, что она не имеет никакого отношения к следствию, что он совершенно не обязан что-либо сообщать постороннему человеку, и, самое главное, он так и не услышал её крик о том, что эти убийства совершает не Парашистай.
Мария Давидовна закрыла глаза и мысленно представила горящую свечу. Она держит её в руках, и горячий воск, капля за каплей, медленно стекает на кожу. Тепло воска согревает тело, отпуская застывшее напряжение. Расслабляя замершее в напряжении тело.
Она открыла глаза и грустно посмотрела на экран телевизора, где начиналась очередная серия бесконечной мыльной оперы.
Время застыло аморфной массой бессмысленного существования.
8
Я сижу за столом. Смотрю, как Семен дрожащей рукой разливает самогон по стаканам. Лида достает из банки соленые огурцы. На столе в тарелках нарезанный кусками черный хлеб, помидоры и сало. Соль в солонке.
Тело пьяного Ивана лежит на старой скрипящей тахте, придвинутой к печи. Он сипло храпит. Пропитанный кровью половик вынесен на улицу, волосы и сгустки крови со стола убраны, словно ничего и не было.
— Ну, давай, Василий, за выздоровление нашего многострадального пациента, — Семен кивает на спящее тело и поднимает свой стакан. Недавно он помогал мне, и сейчас чувствует свою причастность к таинству врачевания, чем очень гордится.
Я так и не привык к своему новому имени. Точнее, к имени одной из моих ранних жертв. Тогда, на всякий случай, я с места жертвоприношения прихватил паспорт наркомана, заметив, что молодой мужчина отдаленно похож на меня. Сейчас, когда я отрастил усы и бороду, я сам себя не узнаю в зеркале. А по паспорту я — Василий Алексеевич Кузнецов, тысяча девятьсот семьдесят девятого года рождения, русский, родился в городе Соликамске Пермской области.
— Ну, чтобы всё, как на собаке, зажило, — киваю я Семену. Звон стаканов. Булькающие звуки, которые издают мои собутыльники. Я же только слегка пригубливаю, вдыхая запах сивушных масел. Самогон, который варят Иван с Лидкой, пить нельзя, потому что каждый глоток укорачивает жизнь на год. Однако мои соседи пьют его практически все время, что я живу рядом с ними. И, как ни странно, пока они живы.
Лида, сморщившись, хватает огурец с тарелки и с хрустом откусывает от него. Семен, вместо закуски, утер рукавом рубашки рот. Он снова быстро опьянел.
— А вот скажи мне, Василий, как доктор, — пробормотал он заплетающимся языком, — а какого хрена вы, медики долбанные, всегда говорите на непонятном языке, ну или непонятными словами? Неужели нельзя просто и доступно сказать человеку о его болячке, а не заморочить его словами так, что он, этот человек, почувствует себя круглым дураком или непроходимым тупицей?
— Нельзя, — говорю я, с улыбкой глядя на собеседника, — уж лучше сказать так, что ты почувствуешь себя тупицей, чем ты сдохнешь от ужасной правды, которую узнаешь о своем здоровье.
Я знаю, что у Семена цирроз печени с портальной гипертензией. Пить самогон или другие спиртные напитки ему категорически нельзя. Он знает это, — доктор в городе сказал ему об этом и озвучил диагноз. Но Семен не захотел его услышать, — пить и жить для него понятия неразлучные. Он и у меня спросил совет, показав свою амбулаторную карту, и, услышав от меня те же слова, неделю со мной не разговаривал.
— Но ведь можно просто сказать, что, например, у меня больная печень. И всё. Зачем произносить эти непонятные слова, — Семен, мутно глядя в пространство, открыл рот в попытке произнести слово «цирроз», но никаких звуков из его горла не вырвалось.
— У Лиды тоже больная печень, — вздохнув, говорю я, — но ей пока еще можно пить самогон.
Семен замер, широко открытыми глазами глядя на женщину, и совместив в голове сказанное мною, икнул. И сказал:
— Если Лидке с больной печень можно, значит, и мне с моей больной печенью можно. И пошел бы ты, эскулап гребаный, со своими словами-непонятками, нахрен.
Я улыбаюсь. Ничего не меняется. Человек хочет слышать только то, что ему хочется слышать. Он уверен почти на сто процентов, что бессмертен, что завтра он обязательно проснется, что доктор, скорее всего, ошибается, потому как «ну что этот лекарь может знать о моем здоровье, они только могут запугивать, чтобы мы безропотно отдавали им деньги. Они говорят непонятными словами, чтобы мы ощущали страх перед неизвестностью и безропотно выполняли их гребаные рекомендации».
— Какой больной печенью? — говорит Лида, недоуменно глядя на Семена. Пережитый стресс и доза самогона снова ввергли её сознание в тупое опьянение. — У кого больная печень?
— У тебя, дура, больная печень.
— Кто дура? Я — дура?
Лида протягивает руку к двухлитровой банке с огурцами и неловко встает.
— Я тебе, козел, щас дуру покажу.
Я успеваю отобрать стеклянную банку у женщины, которой она хотел ударить Семена. Который так ничего и не понял, сумрачно созерцая кончик своего носа. Зашивать порезы стеклом на голове Семена я не хочу.
— Сядь, Лида! — приказываю я, и она неожиданно подчиняется. С глупым выражением лица она смотрит на свои руки, и — неожиданно начинает плакать, перемежая слезы пьяным бормотанием.
— И так всю эту гребаную жизнь… никто меня не любил, чтобы так, как в книжках, чтобы цветы и красивые слова, чтобы конфеты и шампанское… чтобы сидеть под звездами и разговаривать всю ночь… это урод затащил меня на сеновал, говорил, что все будет хорошо, а потом когда обрюхатил, пришлось ему жениться… ни разу за все годы слова доброго не сказал… я думала, что со временем станет лучше…ребенок родился, Колька, я думала, станем жить, как люди… и почему я его не убила… все ждала, что придет однажды с поля, обнимет меня за плечи и скажет какой-нить доброе слово… скотина, какая скотина…
Прожитая жизнь.
Нереализованные мечты.
Размазанные по щекам слезы.
Ничего не меняется в этом мире — как всегда, одни мечтают и ждут, наивно вглядываясь в горизонт, а другие тупо живут, созерцая свой пуп. Кому-то надо совсем немного — чуточку внимания и пару добрых слов, а кто-то равнодушно погружается в пучину наркотического безумия, забыв о тех, кто рядом.
Так и идет человек по жизни, — с умершей мечтой и безумием во взоре.
От рождения — смышленые глазки новорожденного, стремящегося познать этот мир.
К смерти — пустые заплывшие глазницы, страшно и безумно созерцающие пространство.
Семен уронил голову на стол и уснул.
Всхлипывающая Лида постепенно перестала бормотать и тоже, положив голову на скрещенные руки, заснула.
Тело на тахте захрипело. Иван, поперхнувшись мокротой в легких, закашлялся. И очнулся. Повернувшись на бок, он опускает голову и исторгает из себя рвотные массы, окрашенные кровью. Затем снова хрипло кашляет, и отхаркивает красную мокроту.
Я спокойно смотрю на это. Я знаю, что у Ивана запущенная форма рака легких. Он сейчас выблевывает и отхаркивает свою пораженную опухолью легочную ткань. И ничего тут уже не сделать. Впрочем, даже если бы и можно, я бы не стал. Здесь и сейчас я просто Василий Кузнецов, бывший врач, которого выгнали с работы за пьянство, который пропил свою квартиру и бомжевал несколько лет, пока не добрался до этой забытой Богом брошенной людьми деревни.
Я смотрю на пьяных людей.
И вспоминаю Богиню, которая, держа меня за руку, ведет по зимнему лесу.
Говорит со мной тихим голосом.
И всегда называет меня моим именем.
9
Раннее утро. Еще темно, хотя предрассветные сумерки делают окружающий мир серым. Марина быстрым шагом идет на работу. Она любит это время — хорошо, прохладно, тихо и безлюдно. Кратчайший путь на работу — через заросший кустарником лог, по которому протекает загаженная отходами речушка. Перейдя деревянный мост длиной не больше пяти метров, она выдохнула. Запах канализационных стоков, всегда висящий туманным маревом над речкой, остался позади.
Марина Бержевская, бухгалтер одной из крупных больниц города, полная девушка двадцати пяти лет, не любила людей. Точнее, недолюбливала их. А если быть уж совсем точным — ненавидела мужскую половину человечества. Эта ненависть появилась не сразу. Сначала школа, где она услышала голос симпатичного ей мальчика за спиной, который впервые назвал её коровой. Единственная подруга на протяжении всей учебы в школе, и только потому, что она тоже выглядела полненькой. Тихое игнорирование всего класса сблизило их, но это не было той дружбой, которая проносится через всю жизнь. Они просто инстинктивно тянулись друг к другу, боясь остаться в одиночестве.
Нет, конечно же, она пыталась что-то изменить в своей жизни. Визит к эндокринологу в восемнадцать лет — врач, милая женщина средних лет, после стандартного обследования терпеливо объяснила значимость регулярного низкокалорийного питания и разумных дозированных физических нагрузок. Её хватило на четыре месяца диеты и утренней зарядки. Встав на весы в кабинете эндокринолога, она увидела, что ничего не изменилось. И прекратила эти надругательства над организмом и над собой.
Затем финансовый колледж, где она постигала азы бухгалтерского искусства, и где в один прекрасный весенний вечер в первый раз влюбилась. Крупный, широкоплечий, под стать ей, парень с открытой улыбкой, этакий добродушный увалень с умными глазами. Она познакомилась с ним в кинотеатре, когда не смогла купить билет на фильм, потому что их уже не было в кассе. Разочарованная, она стояла в фойе и смотрела на людей, идущих в зал. Он сам подошел к ней и предложил лишний билет, сказав с улыбкой, что друг, которого он ждал, не пришел. Она смотрела на экран, и фильм, который она так стремилась увидеть, просто никак не задержался в её сознании, потому что она думала о сидящем рядом парне, о его руке на подлокотнике, которая прикасалась к предплечью. После она даже не сразу смогла вспомнить название фильма.
Потом были романтические встречи, прогулки по городу, когда они говорили о всяких пустяках, о прочитанных книгах, виденных кинофильмах, и учебе — Костя учился на первом курсе медицинского института и так увлекательно рассказывал о человеческой анатомии и физиологии, что она слушала, открыв рот. Красивый парень, доверительное общение, приятные мгновения в её жизни. К сожалению, совсем недолго. Через три недели после знакомства, Костя пригласил её в диско-клуб «Милан», где они отмечали день рождения одного из друзей Кости по институту. Она очень сильно не любила такие мероприятия, но пересилила себя — она будет не одна, а Костя пока не давал ей повода сомневаться в нем. Она согласилась, надела единственный брючный костюм, в котором выглядела очень даже ничего, и пришла в клуб. Костя встретил её у входа, и сначала всё было замечательно — она, наверное, впервые совершенно не задумывалась о том, как выглядит в глазах окружающих её молодых людей.
Всё было отлично до определенного момента.
Она отошла в туалет — вход в заведение с большой буквой Ж находился за углом от двери с буквой М — и, выйдя из него, услышала голоса Кости и его друга-именинника. Разговор, который раскаленным железом выжег всё доброе и живое, что расцвело в сознании за эти три недели.
— Костян, ты чё привел с собой эту толстуху? На неё же смотреть страшно, когда она танцует, вот-вот костюм по швам расползется.
— Да она вроде ничего…
— Ты, чё, уже трахнул эту корову?
— Ну,…
— Костя, хватит уже. Ты, что, не видишь, что ты и меня позоришь, пришел с какой-то жирной свиньей ко мне на день рожденья. Проводи её на выход и возвращайся. Тут тёлок немеряно, а ты, как идиот, с воздушным шариком расстаться не можешь.
Она слушала, застыв, как изваяние.
С красным лицом.
С бездной в сознании.
Она сейчас по дороге на работу, вспомнив эту сцену двухгодичной давности, покраснела до кончиков волос.
Членистоногие ублюдки — именно так она теперь называла всех мужчин — с того дня умерли для неё. Больше она ни разу не встретилась с Костей, и стороной обходила любого мужчину, даже если тот пытался проявить хоть какое-то внимание. В колледже она старалась находиться как можно меньше — прослушала лекцию, сходила не семинар, и всё, никаких прогулок после занятий, никаких посиделок. Реальный мир сжался до размеров комнаты в квартире и вечернего общения с мамой за чашкой чая с печеньем. Нереальный — разросся до огромных размеров. Прочитав для начала «Кэрри», она открыла для себя такие безумные и такие реальные образы Стивена Кинга, что, погружаясь в эти миры, забывала о том, что она «толстая корова» и «жирная свинья». Да, конечно, очередная история заканчивалась, и она, с грустью отложив в сторону книгу в твердом переплете, смотрела на стену в комнате — в узоре на обоях при желании и некоторой фантазии можно легко найти черты безумных образов Кинга.
И в очередной раз она думала о том, как несправедлив этот мир.
Марина, погрузившись в прошлое, споткнулась об торчащий из земли металлический штырь, и чуть не упала. Удержав равновесие, она повернулась и увидела прямо перед собой страшное создание.
В сером сумраке раннего утра перед ней возникла большая морда, как у собаки, словно огромный черный пес стоял на задних лапах. Она успела испугаться, и даже попыталась поднять руки, чтобы защититься, но это были последнее движение и последняя эмоция в жизни.
Черная тень, склонившаяся над упавшим в кусты большим телом.
Приземистая фигура, вслушивающаяся в тишину.
Серая сталь ножа.
Метрах в десяти из дальних кустов округлившиеся глаза застыли, боясь даже мигнуть. Ни одна травинка, ни одна ветка не шелохнулись за те минуты, которые показались вечностью. Пальцы, вонзившиеся в мягкую землю. Капли пота, стекающие со лба.
И только когда первые робкие лучи солнца добрались до этой части оврага, человек смог пошевелиться. Закрыть широко открытые глаза. И расслабить пальцы.
10
Я сижу на завалинке у дома. Утренние солнечные лучи согревают тело. Запахами полевых трав и утренней росой напоен воздух. Жужжание шмеля, ищущего нектар. Ночью был дождь. Короткий сильный ливень. Я слышал, как капли бьют по окну. И, как обычно, не спал.
Закрыв глаза, я просто наслаждаюсь этим покоем. Позади обычная бессонная ночь, в которой живет образ той, кого я боготворю. Прошло столько лет после её смерти — или точнее, после ухода в Тростниковые Поля — но я не могу расстаться с ней.
Создать Бога легко — отречься от него невозможно.
Я знаю это. Вся история человечества говорит об этом из тьмы веков.
Да и не хочу я отрекаться.
Сейчас она единственная называет меня моим именем, а это многого стоит. Благодаря Богине, я по-прежнему чувствую себя самим собой.
Ночью мы говорим с ней об этом. Я размышляю вслух о том, что человеческое тело всего лишь водно-белковая масса, сгусток аминокислот, легко распадающийся без питания, связанный нервными окончаниями химический субстрат, а она спокойно объясняет мне роль духа, который связывает эту массу в единое целое.
Эфемерная субстанция, которую нельзя увидеть и пощупать, — сомневаюсь я, и она смеётся. Заливисто и жизнерадостно.
Я помню этот смех. Он всегда со мной — через годы я несу его в своем сознании, как бережно сохраняемый цветок.
Дай мне твой дух, чтобы я мог поверить.
Протяни мне его в руках через пространство и время.
Позволь мне всегда иметь часть тебя.
Она молчит, словно я кричу под черным куполом пустыни — одинокий в этом мире, гулкий крик в ограниченном пространстве своего сознания.
Верить в Бога из года в год без каких-либо сомнений очень трудно.
Особенно, когда жизнь вокруг беспросветно убога. Особенно когда тени, населяющие пространство вокруг тебя, настолько глупы, что даже не замечают простую истину. Бога, в которого они верят, нет. И никогда не было.
Этой ночью я снова рисовал её. И себя. Мне показалось, что изобразив нас рядом, я изменю пространство, приблизив Богиню ко мне. Я думал, что это будет легко.
Но — я смотрел на рисунок. И ничего не происходило.
Она молчала.
Она не хотела называть моё имя.
Очень жаль. Но ничего. Придет следующая ночь, и я снова попытаюсь говорить с ней. Я уверен, что она однажды откроет для меня своё сердце, что она в одну прекрасную ночь протянет мне руки с открытыми ладонями.
И подарит мне свой дух, который свяжет нас навсегда.
Я знаю, что это лишь вопрос времени. И терпения.
Я слышу посторонний звук. Он нарушает идиллию деревенской тишины. Мотор автомобиля.
Открыв глаза, я смотрю на дорогу. Со стороны федеральной трассы едет УАЗик. Участковый милиционер из районного центра. Мы познакомились весной, когда он приехал в деревню и, найдя здесь новых жителей, проверил документы у меня и Семена. Я помню его внимательные глаза, пронизывающие насквозь, — мне не составило труда обмануть милиционера. Ему ли со мной тягаться в умении заглядывать в глаза. В мастерстве прощупывать сознание. В желании узнать суть.
УАЗик, переваливаясь на колдобинах глинистой дороги, остановился у калитки. Хлопнула дверь и человек в милицейской форме, войдя ко мне во двор, сказал:
— Привет, Василий.
— Привет, старлей.
Я крепко пожимаю протянутую руку и показываю на завалинку — садись.
— Как служба? — говорю я, чтобы начать разговор. Я уже знаю, что старлей совершает плановый объезд территории и, конкретно от меня, ему ничего не надо.
— Да, как обычно, всё через жопу, — отвечает старший лейтенант, достает пачку сигарет из нагрудного кармана и, выщелкнув одну сигарету, протягивает мне пачку, — на, закуривай.
— Я не курю.
— Ах, да, точно, — поморщившись, говорит он и прикуривает от спички.
Пару минут мы молчим. Мне нравится старлей. Типичный деревенский «Аниськин» — спокойный, рассудительный мужик, который делает своё дело обстоятельно и неторопливо. Его зовут Афанасий, но он почему-то предпочитает, чтобы к нему обращались по званию, словно бережет имя для другого человека. И это я тоже могу понять. И принять.
— Как тут у вас, ничего не случилось, новых людей не появилось?
— Нет, никого не было, — мотаю я головой, — а из происшествий только Лидка чуть Ивана сковородой не убила.
Я рассказываю вчерашнюю историю, потому что старлей все равно узнает, когда после меня заедет к моим соседям.
Он улыбается, слушая меня — это не в первый раз случается у Ивана с Лидой и воспринимается, как деревенское развлечение — и под конец спрашивает:
— Всё так самогон и варят?
Я хмыкаю в ответ, не сказав ни да, ни нет. Но ответ старлею не нужен. Он прекрасно знает, кто на его территории варит самогон. И он знает, что отобрав аппарат проблему не решить.
Выдохнув в последний раз сигаретный дым, он встает и напоследок говорит:
— Пока, Василий.
Старший лейтенант садится в машину и едет к соседям. Я встаю с завалинки и, прихватив тяпку, прислоненную к бревенчатой стене, иду за дом в огород. Встав в гряду, начинаю неторопливо окучивать картофельные ряды, подгребая землю к зеленым кустикам. Второй раз за лето, никто так не делает, но…
Обычная работа — это как раз то, что мне сейчас нужно.
Простые движения дают возможность спокойно думать. Ближе к полудню, я заканчиваю окучивать картофель. Иду в сарай. Здесь у меня живут кролики. Большие деревянные клетки с пушистыми ушастыми зверьками. Двигая носом, они нюхают воздух, думая, что я пришел их кормить. Да, и это тоже. Кормить буду. Но сначала я открываю дверцу ближайшей клетки и вытаскиваю большого черного кролика. Он доверчиво дрожит у меня в руках. В круглых глазах страх, смешанный с робким желанием жить.
С улыбкой на лице я резким движением выворачиваю голову кролику, ломая шейные позвонки.
11
Днем, когда с рюкзаком за спиной и корзиной в руках, я иду в лес, меня останавливает Семен. У него болит живот, но он пока терпит. От мужика пахнет говном, потому что он всё утро просидел в туалете. Желтые склеры глаз говорят мне многое, но — я молчу, потому что бессмысленно объяснять прописные истины. Семен не услышал меня тогда, не услышит и сейчас.
— Василий, ты что, в лес собрался?
— Ночью дождь был, грибы сейчас полезли, самое время собрать их.
Семен что-то еще говорит вслед, но я уже не слушаю. Глядя вперед и под ноги, я делаю широкие шаги, направляясь в лес.
Шаг за шагом — путь в вечность.
Когда-то на заре времен Бог тоже сделал первый шаг. Проделав огромный путь, Творец, я думаю, всё еще только вначале пути, но — это Его дорога. Он сам выбрал этот путь.
Хотя, порой я думаю, что у Него нет выбора. Нет пути назад, потому что с каждым шагом сзади бездна захватывает оставленное пространство. Остановиться нельзя, потому что время живет по законам бездны. Только вперед, шаг за шагом.
Знать, что дорога никогда не закончится, и идти вперед — безумие Бога. И человека, живущего на этой планете.
Я иду по заросшему мелким сосняком полю. Когда-то здесь выращивали рожь, но заброшенное поле быстро захватили сосновые подростки. И еще через несколько десятков лет здесь будет бор. И я рад этому, потому что это мой любимый вид леса.
Перейдя проселочную дорогу, я захожу в смешанный лес — ель, осина и береза. Сразу же нахожу первые грибы. Молодой подосиновик с красной шляпкой. И рядом его брат. Дальше метрах в десяти светло-коричневый подберезовик.
Я нагибаюсь к каждому грибу, аккуратно срезая их под корень. Оставляя нетронутой грибницу, я сохраняю жизнь. Так меня научил отец. И это единственное, что намертво осталось в памяти о том человеке, который должен был стать образцом для подражания навсегда.
Сейчас, через столько лет, я хотел бы вернуться в детство. Не думаю, что у меня бы что-то получилось, но ведь я даже не попытался. Я помню добрые глаза, когда он был трезвый. Совместные походы в лес, когда за один день я узнавал так много о природе, о людях и о жизни. Там, среди мощных сосен, стремящихся вверх, к небу и солнцу, он был самим собой, и я должен был это понять тогда.
А не сейчас. Когда невозможно всё вернуть.
Я помню вкус оладушек утром, когда, проснувшись, приходил на кухню. Слова любви, выраженные во вкусной стряпне, которые я не понимал. Он жил ради меня, но я видел только пропасть, на краю которой он стоял. Мне надо было просто подойти к нему и протянуть руку, но — каждый сам выбирает свой путь. Так мне сказала мама, и я, маленький мальчик с большими глазами поверил ей. А кому же мне еще верить. Да и как не поверить, если я прекрасно помню дни, когда в глазах отца не было ничего, кроме мутного омута опьянения. Я боялся, что в этой трясине живет безумие. Мой папа — сумасшедший дебил, пропивший мозги — так говорила мама. Она еще много что говорила, и я, как губка, впитывал эти слова.
А там, в глубоких глазах отца навсегда поселилась боль и разочарование. Грусть и меланхолия бытия. Он слишком слаб духом, чтобы выжить в этом мире. Чтобы стать чем-то большим для меня. Чтобы я мог гордиться им.
Я срезаю подосиновик на толстой ножке и вспоминаю теплую крепкую руку отца, который потерялся среди людей, выйдя из леса.
Я складываю гриб в корзину и грустно улыбаюсь — смотри, сынок, среди белого ягеля в сухом сосновом лесу растут белые грибы. Просто нагнись, и ты увидишь коричневые шляпки.
Я выпрямляюсь, вдыхаю лесной воздух полной грудью и говорю — прости меня, папа, ты знаешь, что я тебя люблю, и мне надо было говорить тебе об этом. Я должен был сказать тебе эти простые слова — папа, я тебя люблю.
Не уверен, что он услышит меня, но, главное, чтобы я сам услышал себя. Пусть через время, я прошу прощения. Наверняка его дух живет где-то здесь, может быть вот в этой сосне, и он сейчас слышит меня.
Я прижимаюсь руками и лбом к коричневой коре.
Я повторяю то, что в детстве не сказал ни разу.
Папа, я люблю тебя, прости, что говорю тебе это только сейчас.
Я верю, что Бог тоже просит прощение у каждого человека, который приходит к нему.
Набрав полную корзину грибов, я иду к ближайшему пригорку. Сбросив рюкзак с плеч, я неторопливо собираю хворост. Солнце подбирается к вершинам дальних елей, и это значит, что у меня еще есть время. Я подношу спичку к бересте. Огонь с треском пожирает предложенную пищу.
И я снова смотрю на танец огня. Этим цветком можно любоваться вечно.
Костер разгорается. Подкинув крупный хворост, я спокойно любуюсь танцующей Богиней. Я знаю, она сейчас со мной. Через полчаса яркий танец затухает, превращаясь в медленный танец любви. Нахожу две крепкие рогатки и втыкаю по бокам от огня. Прямая березовая ветка, которую я заостряю ножом. Нанизываю тушку кролика. И водружаю над яркими горячими углями.
Я медленно вращаю вертел, глядя, как редкие капли жира падают в огонь, вспыхивая на углях. Я вдыхаю запах кролика.
Я слышу голос Богини:
«Люди, как тени, идут своим путем, кто в правильном направлении, а кто-то идет совсем не туда. Бредут, как стадо. Но у любого стада всегда есть те особи, которые идут впереди. И те, которые идут сзади. Те, что спереди, умрут первыми. У тех, что сзади, будет шанс, но они тоже умрут.
И всегда есть те люди, которые отбиваются от стада. Они идут своим путем. Эти выживут.
Будь другим.
Иди своей дорогой».
Шаг за шагом — путь в вечность из темного зимнего леса. Бесконечная тропа среди сугробов и мрака зимнего леса. Мне кажется, что я уже так давно иду по этой дороге, что должен бы выйти к свету. Но каждый раз, когда я поднимаю голову, свет далеких фонарей всего лишь манит мнимой близостью.
12
Мария Давидовна задумчиво смотрела на экран монитора. На чистом листе текстового редактора черные буквы заголовка и несколько десятков строк вымученного текста. И всё. Она должна написать заключение по Макарову, из прокуратуры уже звонили и спрашивали, когда ждать результат. Но она сейчас думала о Михаиле Борисовиче Ахтине. Впрочем, Мария Давидовна думала о нем в последние дни почти всегда. Даже ночью, когда он приходил в её сны. И эти сновидения ей нравились.
Услышав какой-то посторонний звук, она не сразу поняла, что кто-то стучит в дверь.
— Да, войдите, — громко сказала она. И повернулась к двери.
— Здравствуйте, Мария Давидовна, — майор Вилентьев, как ни в чем не бывало, улыбался, стоя на пороге, — я могу войти?
— Да, конечно, вы уже это сделали, — кивнула она, и показала на стул, на котором обычно сидели пациенты, — садитесь здесь, Иван Викторович. Я сейчас.
Майор сел, положив черную папку на колени, и молчал, пока она сохранила текстовый файл, и, нажав на кнопку, превратила голубой экран в черный прямоугольник. Затем, сняв очки для компьютера, она повернулась к посетителю.
— Если вы здесь, то, значит, вы поняли, что это не Парашистай, — сказала Мария Давидовна спокойным голосом, пристально глядя в глаза Вилентьеву. Майор поморщился и повернул голову в сторону, словно хотел осмотреться в кабинете. Книжный шкаф, забитый специальной литературой, спокойный натюрморт на стене, светло-коричневый стол со стопками бумаг на краю, ваза с розой на подоконнике. Хаотично перемещающийся по предметам обстановки взгляд. Она знала, что признать себя неправым может далеко не каждый мужчина.
— Ладно. Давайте, Иван Викторович, говорите, с чем пришли.
— Сегодня рано утром было третье убийство. Снова молодая девушка. И снова типичный набор — удар по голове, выдавленные глаза, вскрытый живот и изнасилование. Отличие от предыдущих двух случаев только лишь одно. Теперь у нас есть свидетель, — Вилентьев говорил сухими отрывистыми фразами, словно говоря, что как бы там ни было, он не собирается извиняться и ни в коем случае не перестанет подозревать в происходящих сейчас убийствах Парашистая.
— Свидетель? Кто-то видел, как убивали девушку?
— Да. Пьяный мужик вечером не дошел до дома, проспав всю ночь в кустах, утром замерз и проснулся. Вот на его глазах всё и произошло.
— Он видел убийцу?
— Видел, — майор снова поморщился, — как бы видел, бред какой-то несет. Не очень-то я ему верю. В овраге еще темно было, да и он еще наверняка не протрезвел к этому времени. А может вообще это приступ белой горячки. И я даже не удивлюсь, что это он и убил, а потом придумал эту сказку.
— Так что он видел? Рассказывайте уже, Иван Викторович, вы ведь хотите, чтобы я вам помогла?!
— Жертва, Марина Бержевская, двадцать пять лет, шла через лог по тропе, как мы выяснили, это был её обычный путь на работу, споткнулась и чуть не упала. Неожиданно сзади появилась приземистая черная тень, которая двигалась странными скачками. Мужик сравнил это движение с прыжками обезьяны, которую он однажды видел в зоопарке. Затем эта тень выпрямилась и стала собакой, стоящей на задних лапах. Потом удар лапой по голове, и женщина упала в кусты. Собака набросилась сверху и стала её терзать. Достаточно долго — мужик сказал, что этот ужас продолжался целую вечность. Затем всё стихло. А мужик смог встать и выйти из кустов, где он прятался, только, когда взошло солнце. Ну, вы видите, что это горячечный бред. Собака убила женщину весом около ста килограмм и затем растерзала труп, а мы на месте преступления имеем разрезанный ножом живот, извлеченные внутренности, выдавленные глаза, и сперму во влагалище жертвы, которая один в один сходится с семенной жидкостью, найденной во влагалище предыдущих жертв.
Вилентьев наконец-то посмотрел на Марию Давидовну, словно ждал, что она подтвердит его предположение про белую горячку. И увидел, что женщина улыбается.
— И что смешного я рассказал?
— Ничего, — по-прежнему улыбаясь, помотала головой доктор Гринберг, — скажите мне, Иван Викторович, этот ваш свидетель смог сказать какого роста была эта собака, стоящая на задних лапах, по отношению к убитой женщине?
Майор хмыкнул. Она задала именно тот вопрос, который возник у него при разговоре со свидетелем. Но это вопрос возник у него далеко не сразу.
— Они были примерно одинакового роста. И предвосхищая ваш следующий вопрос — рост у жертвы сто пятьдесят пять сантиметров.
— Ну, теперь-то вы согласны, что это не может быть Парашистай. Если вы помните, его рост составляет сто восемьдесят пять сантиметров.
— Мария Давидовна, — майор снова повернул голову в сторону, упрямо поджав губы, — возможно, Парашистай именно в этом случае и не причем, но кем убиты две первые жертвы, я пока не знаю, и не собираюсь отказываться от его поисков.
Женщина пожала плечами, как бы говоря, — вы следователь, вам и решать, что делать. И сказала:
— Фотографии принесли?
— Да.
— Оставьте мне их. Я следила за новостями и знаю, что происходит в городе. Я посмотрю ваши фотографии, подумаю, и завтра буду готова обсудить с вами возможный психологический портрет убийцы.
Майор Вилентьев достал из папки конверт и положил на стол. Подойдя к двери, он повернулся и сказал:
— Надеюсь, вы помните о тайне следствия? Эти фотографии никто не должен увидеть. Мне бы не хотелось, чтобы эти снимки оказались в средствах массовой информации.
— Я всё знаю и помню. До свидания, Иван Викторович, — сказала Мария Давидовна, надев очки и глядя поверх них.
— До завтра.
Когда дверь закрылась, Мария Давидовна протянула руку к белому конверту, но пересилила себя. Сначала она должна закончить заключение по Макарову, а потом уже эти фотографии.
Доктор Гринберг перевела взгляд на картину, висящую на стене. Букет темно-желтых подсолнухов. Глубоко вдохнув, она неторопливо пересчитала лепестки всех соцветий, и медленно выдохнула. Простое упражнение на концентрацию, которое всегда помогает ей.
Время сейчас на её стороне. Теперь, когда она уверена, что молодых девушек убивает и насилует не доктор Ахтин, можно не спешить. Она спокойно напишет заключение по Макарову, и только потом будет смотреть фотографии, которые принес Вилентьев.
Она повернулась к монитору, нажала на кнопку и, дождавшись возвращения окна приветствия, вернулась к прерванной работе.
13
В полночь я возвращаюсь домой. Мертвая луна дает мало света, но мне хватит — тропа сама приведет назад. В правой руке полная корзина грибов, в голове поселилась вязкая и неприятная боль. Чтобы отвлечься от неё, я монотонно говорю слова, ставшие молитвой для меня:
Сегодня Смерть стоит передо мною, Как исцеление после болезни, Как освобождение после заключения. Сегодня Смерть стоит передо мною, Как запах ладана, Словно как когда сидишь под парусами В свежий ветреный день. Сегодня Смерть стоит передо мною, Как запах цветка лотоса, Словно как когда находишься на грани опьянения. Сегодня Смерть стоит передо мною, Как молния на небе после дождя, Как возвращение домой после военного похода. Сегодня Смерть стоит передо мною Подобно сильному желанию увидеть свой дом, После долгих лет, которые ты провел в заключении.Почти все жители деревни встречают меня, когда я подхожу к дому. Нет только старухи Прасковьи. Впрочем, она очень редко выходит из своего дома, особенно ночью. Когда она умрет, мы, вряд ли заметим это сразу.
Соседи втроем сидят на лавке у дома Ивана. И, как обычно, пьют самогон.
— Ну, вот, слава Богу, и он, — заметив меня, выкрикивает Лида. Она даже не понимает, что почти кричит.
— А мы думали, что ты заблудился в лесу, уже ночь, а тебя всё нет и нет, — говорит Иван, закашлявшись в конце фразы.
— Какой повод сегодня?
Поставив корзину на землю, я смотрю на пьяные лица соседей. В свете луны их лица кажутся мертвенно серыми. Движения рук заторможены. Слова громки и бессмысленны.
— Никакого повода, — качает головой Семен, — мы просто общаемся. Так сказать, интеллектуально проводим время.
— Ну, раз так, то давай, Семен, налей и мне. Интеллектуальное общение — это как раз то, что мне надо.
— Вот это дело.
Булькающий звук льющейся жидкости. И протянутый стакан.
— Ну, выпьем? — они смотрят на меня, в нетерпении сжимая свои стаканы. Им не важно, за что пить, но — они ведь не алкаши какие-то, чтобы пить ради пития. Тот, кто пришел последним, должен что-то сказать.
— За наших родителей, — говорю я, — за папу и маму. Пусть им будет хорошо на том свете.
Выдохнув, я выливаю в горло полный стакан самогона, который горячей струей обжигает пищевод и взрывается в желудке. Пары сивушных масел забивают дыхательные пути. Я не могу вдохнуть, и, закрыв глаза, зажимаю рукой рот.
— На, закуси, — Лида протягивает мне вареную картофелину. И забирает у меня стакан.
Я делаю вдох. И сразу чувствую, что взрывная волна сносит крышу. Торнадо, поднимающий вверх сознание, закручивающий в водоворот стихии, разбивающий на атомы каждую клетку мозга. Набиваю рот вареной картошкой, перебивая мерзкий вкус самогона. Появляется головокружение в голове и слабость в ногах. Расставив ноги для устойчивости, я говорю:
— Это пить нельзя. Смертельный яд, убивающий каждую клетку организма. Если я сегодня ночью умру, то виноваты будете вы.
Дружный и довольный смех моих соседей. Они думают, что я пошутил. Они уверены, что это забавно. И Семен уже снова разливает самогон по стаканам.
Нагнувшись за корзиной, я чуть не падаю. С трудом удержавшись на ногах, выпрямляюсь и иду к своему дому.
Может быть, этой ночью я смогу уснуть. Хотя бы ненадолго. Мне нужен отдых. Так я думаю, когда вхожу в дверь, за которой мыслительный процесс прекращается.
Ночью я просыпаюсь на полу в горнице. Не помню, как здесь оказался. Через порог перешагнул, и — ничего не помню. Левая рука, которая лежала под головой, затекла, и я её не чувствую. Колющая боль возвращающегося тока крови по сосудам мне даже приятна. Медленно перемещаю тело в сидячее положение, придерживая левую руку. От ощущения, что умершая рука оживает, улыбаюсь — возвращение к жизни из полета в вихре торнадо дает мне чувство радости.
Я дома.
И я проспал целых три часа. Раздевшись до пояса, выхожу в ночь. Мне надо смыть боль в голове и пустоту в сознании. Вдохнув прохладу звездного неба и задержав дыхание, я погружаю голову и плечи в бочку с водой. На долгие минуты. Так, чтобы на краю умирания от удушья, почувствовать жажду жизни, которую невозможно утолить.
Отсутствие кислорода здорово прочищает мозги. Дурные и пустые мысли всасываются в венозную кровь и утекают к почкам, чтобы отфильтроваться в мочу и вылиться наружу желтой струей.
Больной мозг в желании получить такую желанную дозу кислорода готов на всё. И даже на то, чтобы принять простую истину.
Жить — это так замечательно.
Вынырнув, я с негромким выкриком вдыхаю воздух. Вода стекает по лицу слезами облегчения. Мне хорошо. Мы с Богиней всё так же идем по зимнему лесу, её теплая рука сжимает мою, и я слышу тихий голос, который звучит у меня в ушах.
Я поднимаю голову, чтобы увидеть её.
Черное бездонное небо с яркими искорками звезд.
Да, конечно, я помню, что она ушла. Надеюсь, что недалеко.
Вернувшись в дом, смотрю на своё отражение в зеркале.
Подмигнув ему, я задаю вопросы:
— Готов ли ты идти дальше? Или хочешь вернуться в зимний лес и сказать Богине, что готов сдаться? Отказаться от служения и предать путь, на который ты однажды встал? Обреченно склонить голову перед обстоятельствами? Сойти с пути и стать тенью?
Мокрое бородатое отражение снисходительно улыбается — уж мы-то с тобой знаем, что эти вопросы бессмысленны. С этого пути уже нельзя уйти, потому что позади бездна, а впереди — прелесть мечты, тишина Тростниковых Полей, и теплая рука Богини, которая идет рядом и говорит с тобой.
И, как обычно, называет тебя твоим именем.
14
Приятный запах кофе. Стук ложечки о край чашки. Майор Вилентьев, как радушный хозяин, открыл коробку конфет.
— Пожалуйста, Мария Давидовна, теперь моя очередь поить вас кофе. Угощайтесь.
— Спасибо.
Женщина пригубила напиток и отставила в сторону.
— Давайте, Иван Викторович, поговорим о деле.
Майор улыбнулся. С последней встречи женщина, сидящая за столом в его кабинете, неуловимо изменилась. Неделю назад она выглядела, как потасканная жизнью, задерганная на работе, потерявшая себя представительница слабого пола, смотреть на которую было, как минимум, скучно. Еще вчера уставшая доктор-психиатр за рутинной работой, строго смотрящая поверх очков. И сегодня — обаяние вернулось. Совсем как прошлом году, когда Вилентьев какой-то отдаленной частью сознания забывал о том, что он женат.
— Мария Давидовна, я готов. Вы пейте кофе, пока горячий. А я попытаюсь кратко систематизировать, что знаю.
Он помолчал, задумчиво посмотрев на лежащую перед ним папку.
— Итак, начиная с двадцать шестого июля, у нас в городе произошло три убийства. Второе и третье, соответственно, двадцать девятого июля и третьего августа. Все в ночное время или рано утром, как в последнем случае. Никаких следов убийцы, кроме наличия спермы во влагалище. Стандартный набор — удар тупым предметом по голове, изнасилование жертвы, живой или мертвой, как это было у первой девушки, которая умерла от удара по голове, затем умерщвление, как это случилось с двумя последними, затем разрезание живота и вытаскивание внутренних органов. Ну, и обязательно — выдавливание обоих глаз. Никто ничего не видел и не слышал, до последнего случая. Я не уверен, что наш свидетель всё правильно увидел, учитывая предрассветные сумерки и похмелье, но ничего другого мы пока не имеем. Еще — две первые жертвы имели какое-то отношение к медицине: первая девушка поступила в медицинский институт, а вторая училась в колледже на медсестру. Но третья жертва была бухгалтером. Таким образом, мы сейчас практически ничего не имеем, кроме сомнительного описания свидетеля: то ли обезьяна, то ли собака напала на жертву и растерзала её.
Иван Викторович вздохнул, закончив говорить.
Мария Давидовна кивнула. Отставила пустую чашку.
— Я внимательно посмотрела фотографии и подумала над этими убийствами. И вот к чему пришла.
Она расправила бумажку, которую извлекла из сумочки и, заглядывая в неё, стала перечислять:
— Первый пункт. С самого начала мы должны полностью исключить возможность того, что эти убийства совершает Парашистай. И дальше будет понятно, почему это надо принять, как аксиому.
Майор пожал плечами, как бы заранее соглашаясь.
— Второй пункт. Показания свидетеля. Я согласна, что протрезвевший утром человек, проснувшийся в незнакомом месте, увидев сцену убийства в полумраке, может, что угодно рассказать, додумав и нафантазировав то, что не разглядел. Но, так как мы больше ничего не имеем, будем исходить из того, что он рассказал. Итак, убийца к жертве подкрался сзади, передвигаясь, пригнувшись, и, резко выпрямившись, нанес удар. Затем, когда жертва упала, сорвал одежду и изнасиловал. Это то, что происходило. А свидетель легко мог от себя добавить про обезьяну и удар лапой. И про то, как собака терзала тело. Сознание человека, замершего от ужаса, способно нарисовать еще более страшные картины. Из всего этого, мне кажется, правдивы только сведения о росте убийцы и о том, что его голова выглядела, как у собаки.
Заметив недоумение в глазах Вилентьева, Мария Давидовна уточнила:
— Убийца мог надеть маску волка или собаки, ну, знаете, которые можно купить в любом детском магазине. С точки зрения убийцы, это разумно — мало ли, что может случиться, а в маске его лица никто не увидит. Вот я и думаю, что свидетель не ошибается в описании убийцы — человек невысокого роста в маске собаки. Этакий, знаете, киноцефал.
— Как, как вы сказали? — заинтересованно привстал со стула Вилентьев.
— Киноцефал. Человек с мордой собаки вместо головы. Или собачья морда с туловищем человека. Тут уж как посмотреть.
Мария Давидовна увидела, как майор старательно записал слово на листе бумаги и, улыбнувшись, продолжила:
— Третий пункт. Я думаю, что Киноцефал не готовится к каждому убийству, не выбирает жертвы. Он просто выходит на охоту, убивая и насилуя тех, кто попадется. Он выбирает отдаленный район, где мало людей и ждет. Когда появляется жертва — молодая женщина, тогда и происходит убийство. Может быть, он каждую ночь выходит на промысел, может, через день. Сейчас, когда народ напуган, я думаю, частота убийств резко снизится — одинокие девушки не будут выходить из дома, на ночь глядя.
— Четвертый пункт. Киноцефал достаточно много знает о Парашистае, что не так уж и сложно, учитывая, как наши средства массовой информации подробно описывали прошлогодние убийства. Он копирует его, пусть не во всем, но в основном. Выдавливание глаз и разрезание живота. Может, он хочет, что бы вы, Иван Викторович, пошли по ложному следу, разыскивая конкретного человека. Может, он, таким образом, чувствует свою причастность к тому, чье имя люди произносят с ужасом в голосе. В любом случае, убийца, выдавливая глаза и распарывая живот жертвы, пытается или спрятаться за этими ритуалами или напоминает нам о том, что его герой, Парашистай, жив и находится на свободе.
Мария Давидовна пристально посмотрела в глаза майора и, заметив его согласный кивок, продолжила:
— Пятый пункт. Мужчина невысокого роста. Очень часто у них, то есть у низкорослых мужчин, есть комплекс неполноценности. Они всю жизнь пытаются доказать всему миру в целом и себе в частности, что они чего-то могут достичь в жизни. Они изо всех сил пытаются доказать свою полноценность, — и умственную (маленький рост — маленький мозг) и физическую (маленький рост — маленький член). И у многих это получается, нормальными с точки зрения человеческой морали методами. А у некоторых не получается, и они в конце концов используют аморальные методы. Лучше убить и самоутвердиться, чем жить с чувством своей убогости.
— Шестой пункт. Он вытекает из предыдущего — Киноцефал насилует беззащитные жертвы. После удара по голове жертва не способна сопротивляться и он может совершить половой акт.
— Одна из жертв очнулась после удара, он задушил её и потом изнасиловал, — уточнил майор.
— О чем я и говорю, — кивнула Мария Давидовна, — я думаю, что у нашего Киноцефала в жизни ничего не получается в постели с обычными женщинами. Или у него какие-то проблемы в нормальном общении с девушками, и, соответственно, до постели просто не доходит, или — у него проблемы с эрекцией. Последняя возникает только в определенных условиях. Например, покорное неподвижное тело.
— И, наконец, седьмой пункт. Сомневаюсь, что Киноцефал имеет какое-то отношение к медицине. То, что две первые жертвы каким-то образом связаны с медицинскими учреждениями, не более, чем случайность. И совсем не надо иметь медицинское образование, чтобы разрезать живот у трупа и вытащить внутренние органы. Это и мясник сможет.
— Да, мы уже это проверяем, — кивнул Вилентьев. Он очень внимательно слушал Марию Давидовну, старательно записывая интересующие его моменты. — У вас всё?
— В общем, да. Ну, еще может, как лирическое отступление на древнеегипетскую тему, которое, скорее всего, не имеет никакого отношения к делу, — нерешительно сказала Мария Давидовна.
— Ну-ка, ну-ка, давайте, — подбодрил её майор.
— У египтян было слово «кехкех», которым обозначалось инфернальное безумие. Если переводить буквально, то — обезьяна с мордой шакала, киноцефал. Обезьяна — передразнивает, подражает, а шакал символизирует сумерки. Сумеречное состояние сознания, которое толкает человека к безумным повторяющимся поступкам, копирующие какие-либо другие подобные действия.
— Вы хотите сказать, что Киноцефал, — майор с удовольствием назвал убийцу понравившимся ему словом, — сумасшедший?
— В некотором роде, да. У него есть какое-то психическое расстройство, которое я смогу диагностировать при личном общении.
Они замолчали. Вилентьев раскладывал по полочкам полученную информацию. Доктор Гринберг подумала о Парашистае, душевное состояние которого тоже требовало помощи специалиста. И, как продолжение своих мыслей, она сказала:
— Теперь вы видите, что убийца никак не может быть доктором Ахтиным. Это подражатель, который прячется за маской шакала и ритуалами Парашистая, пытаясь самоутвердиться.
— Мария Давидовна, — вздохнул Иван Викторович, — я же не дурак, и уже после второго убийства тоже стал сомневаться в том, что эти убийства совершает доктор Ахтин, но, как вы понимаете, это совсем не повод не искать Парашистая. Следствие по его делу не имеет срока давности, поэтому рано или поздно мы его найдем и закроем.
Мария Давидовна кивнула, грустно улыбнувшись.
15
— Алина, ты серьезно? Тебе не нравится одна из лучших картин Винсента Ван Гога? «Подсолнухи» — это же классика! Это же гениальное творение Мастера! Это одна из лучших картин, какие я знаю! — Виктор изумленно похлопал длинными ресницами. Далеко не у каждой девушки бывают такие ресницы. Алина в очередной раз позавидовала этой природной особенности сокурсника по институту культуры. И громко сказала:
— Виктор, эти твои «Подсолнухи» всего лишь букет желтых цветов в вазе. В этой картине ничего нет. Обычный натюрморт и всё. Если бы её нарисовал не этот больной на голову членовредитель, то картина в лучшем случае украшала стену какого-нибудь ботаника, а в худшем, её давно бы уже не существовало.
Они сидели в кафе-мороженое. Как обычно вечером, многолюдно и шумно, и чтобы услышать собеседника, надо говорить громко. Алина, словно не заметив протестующе поднятую руку, продолжила громко говорить:
— Да, я согласна, что Винсент Ван Гог — отличный художник, но сейчас люди его знают, в основном, по автопортрету с отрезанным ухом. То есть, им не интересно, что он там рисовал, им безразличны его картины, — Алина подняла палец, акцентируя внимание на последнем слове, — им интересно, зачем он отрезал себе ухо. Что же могло такого случилось в жизни, чтобы человек сам себе отрезал часть своего тела? Какая такая причина заставила его взять нож и отсечь свое ухо?!
— Да какая разница, зачем он это сделал?! — эмоционально всплеснул руками Виктор. — Просто посмотри на картину гения. Полюбуйся сочностью оттенков желтого цвета. Необычностью сочетания — светлое на светлом. Переплетением цветков в вазе. Умиротворением природной гармонии. Умиранием желтого огня. В этой картине так много скрытого символизма и гениальной простоты. Не надо рассматривать жизнь и личность гения, надо просто смотреть и восхищаться его произведением. Твоя беда в том, что ты никогда не пыталась увидеть это.
— Увидеть что? Витя, очнись. Какой нахрен, символизм! Ваза с желтыми цветами и всё! Это ты не знаешь, где настоящий символизм. Ладно, пошли отсюда, — сказала Алина, отодвинула пустую креманку и встала.
Она познакомилась с Виктором Дачевским весной. Хорошо одетый стройный юноша с красивыми глазами. Следит за собой. Симпатичный. Внимателен к девушкам. Его просто невозможно не заметить. Кроме того, его имя имело некоторую известность в институте. Он написал фантастический рассказ про хомяка, который погиб во имя человечества, и победил с этим опусом на сетевом литературном конкурсе. После этого он стал считать себя Писателем. Да, именно так — с большой буквы. И как любой значительный Художник, он на всё имел мнение. Кстати, рассказ про хомяка действительно неплохой, многим в институте понравился. Некоторые сокурсники, так же, как и он сам, считали его талантливым писателем. Но Алина уже давно поняла, что в творческом плане Виктор Дачевский — порожняк. Он ничего больше не напишет, почивая на лаврах одного единственного рассказа. Он ничего значительного не создаст, потому что не способен на это. Они учились на втором курсе, хотя по возрасту он старше её на два года. Разница не большая, но, как оказалось, существенная. Виктор считал себя многоопытным знатоком, прожившим долгую жизнь, которая потрепала его, и с умным видом рассуждал о произведениях литературы и искусства, даже не замечая, что говорит чужими словами. Алина это видела и снисходительно к этому относилась. Встречались они редко, и если Витя еще питал какие-то иллюзии о плавном переходе их редких встреч в тесные дружеские отношения, то Алина уже всё для себя решила. Вот и сегодня — она слишком поздно заметила Виктора Дачевского, сворачивать было поздно, и пришлось улыбаться, подставлять щеку для поцелуя, и тратить время на пустые разговоры.
Виктор, уже на выходе из кафе догнав её, спросил:
— Ну, и где, в каком произведении, по-твоему, настоящий символизм?
— «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха.
— Да, конечно, и как я сразу не догадался, — иронично улыбнулся Дачевский. И стал высказывать якобы своё мнение об этой картине. Алина, не слушая его, задумчиво смотрела на огни города. Желтые расплывающиеся шары фонарей, уходящие вдаль по улице, расцвеченной летящими фарами автомобилей. Раскидистые липы центральной аллеи, под которыми на лавочках сидят люди. Прямоугольники освещенных окон. Бесконечный шум и суета большого города. Она обещала маме, что не будет задерживаться и рано вернется домой. Собственно, она уже была дома — кафе, в котором они ели мороженное, находилось в том же здании, где она жила.
— Алина, ты слышишь меня?
— А, да, конечно.
— Так вот, я говорю, что «Сад наслаждений» — это бредовые галлюцинации. Здоровый человек такое нарисовать не мог. Этот Босх, наверняка, грибочки любил кушать, — хохотнул Виктор, — пожарит их себе, отведает на ужин, и к мольберту. Творить этот твой настоящий символизм. Выплескивать свои галлюцинации на холст. Да он даже рядом не стоит с Великими Мастерами, например, такими, как Винсент Ван Гог!
— Ладно, Витя, пока, мне домой пора, я обещала маме, что вернусь рано. Она беспокоится из-за этого долбаного маньяка. Вот, даже уже эсэмэску отправила, что ждет меня дома, — сказала она, подняв правую руку с зажатым в ладони смартфоном. Мама не умеет отправлять SMS, но собеседник этого не знает.
Девушка решительно повернулась и пошла в темную арку, мысленно перекрестившись, что наконец-то избавилась от этого кретина с завышенным самомнением. Спасибо, Господи, она сдержалась и не сказала Дачевскому все, что думает про него. И уже в темноте арки, когда, услышав далекий голос Виктора — Алина, подожди, я хотел тебе кое-что сказать — она повернулась, мысленно крикнув — шел бы ты нахрен, дебил.
И увидела перед собой неясные очертания чудовища. В дальней части темной арки очень мало света, но даже того, что было, ей хватило.
Двуногое существо с крысиной мордой.
Мерцающие глаза.
Приземистое тело.
Монстр, шагнувший из безумного мира Босха, в этот спокойный размеренный мир.
Застывшим сознанием Алина, как в замедленной съемке, смотрела — «крыса» поворачивается к бегущему человеку, крик неожиданности и ужаса, падающая фигура. Чудовище склоняется над телом и взмахивает рукой, в которой блеснуло лезвие. Затем монстр снова приближается к ней. И Алина, в сознании которой безостановочно вертятся глупые фразы, — поел грибочков и к мольберту, покушал грибов и творить, заглючило и отхватил себе ножом ухо, — неожиданно для себя совершает невозможное. Закричав изо всех сил, она нападает первой, со всего маху нанося удары по крысиной морде зажатым в правой руке телефоном. И даже резкая боль в животе не сразу останавливает её. Она продолжает хаотично махать рукой даже тогда, когда неловко сползает по стене, слабеющим сознанием отметив крики людей с улицы и топот убегающих ног.
16
Я сижу на лавке во дворе и оселком натачиваю острие штыковой лопаты. Уже совсем скоро осень, приближается время копать картофель. Размеренные и неторопливые движения. Спокойные мысли. Сегодня солнце спряталось за темные тучи, вот-вот пойдет дождь. А, может, будет гроза. И это замечательно. Я люблю смотреть на черное грозовое небо, неожиданно разрезанное ветвистой молнией. Я жду приход грома. Мощь природы, выраженная звуком. Такого в городе не увидишь. Только здесь — под куполом неба, которое ничем не закрыто. Мрак затянутого тучами неба и яркая вспышка, изменяющая реальность.
Скрипнула калитка. Кто бы это мог быть? Продолжая водить оселком по лезвию, я поворачиваю голову. Неловко переминаясь с ноги на ногу, недалеко от меня стоит мужик с рюкзаком за плечами.
— Здравствуйте, — говорит он.
Ответив на приветствие, я спрашиваю, что надо. И перестаю точить. Мужик мне незнаком, а, значит, он пришел из другой деревни. И явно не для того, чтобы поздороваться.
— Я это, хотел узнать, — мнется он, — вы вроде как доктор?
— Был когда-то, — киваю я и, встав с лавки, подхожу ближе, — и что?
Мужику, примерно, лет пятьдесят. Маленький ростом, коренастый, с оттопыренными ушами и приплюснутым носом, он выглядит и смешно, и грустно. Судя по лицу, если и был у него интеллект, то он его давно пропил. Впрочем, иногда это совсем не главное в человеке.
— Я в соседней деревне живу, вон там, за тем пригорком. Меня Федором зовут, можно, просто Федя, — говорит он, протянув руку. Крепкое пожатие человека, который всю жизнь работал. Мозолистая рука крестьянина.
Не смотря ни на что, он мне понравился. Я уже вижу его проблему. И знаю, что помогу этому мужику.
— А я Василий. Так что у тебя, Федя?
Он улыбается. Ловким движением сбрасывает рюкзак с плеч. И быстро говорит, откидывая клапан и развязывая стягивающую горловину веревку:
— Я вот тут принес курочку, яйца, сметану, творог. Всё своё, всё свежее, жена сегодня собирала.
— Это потом, Федя, — останавливаю я его, — сначала скажи, что за дело у тебя.
— Ну, да, конечно, — он суетливо кивает головой, поворачивается спиной и торопливо спускает штаны, просительно продолжая бормотать, — у меня вот, чирей сзади. Сидеть не могу. Работать не могу. Спать не могу. Болит, зараза. А мы с Семеном как-то в прошлом месяце пили, так он говорил, что вы доктор, и если что, можете помочь. А то я даже с женой ничего не могу. Вот здесь сильно болит, сволочь.
Справа на внешней половине ягодицы ярко-красная опухоль. Созревший гнойник, который надо вскрывать.
— А в районную больницу почему не идешь?
— Дак я это, — боюсь. Очень боюсь. — Федя, застегнув штаны, повернулся ко мне. — Хирург там всегда пьяный, в прошлом году «на живую» вскрывал мне гнойник. Я вот и решил, что лучше умру, но в больницу не пойду. Да, и далеко больница, двадцать пять верст.
— А ты думаешь, я тебе не «на живую» буду вскрывать? — со зловещей улыбкой на лице, говорю я.
Мужик резко бледнеет. Судорожно сглатывает слюну. И делает шаг назад.
Я усмехаюсь:
— Ладно. Не бойся. Иди к Ивану за самогоном. Будем тебя обезболивать. И только потом лечить.
Нагнувшись, я поднимаю его рюкзак и иду в дом.
Первые крупные капли дождя падают на траву. Очищающий ливень, смывающий грязь с лика природы. Барабанная дробь капель, бьющих по листовому железу крыши. Свежесть наэлектризованного воздуха.
Ливень после дневной жары — это одна из песен Бога.
Я мысленно подхватываю этот ритм, готовя все для предстоящей операции. Острый нож в банку с самогоном. Крепкий раствор соли — одна столовая ложка на стакан воды. Чистые тряпки и вода. Жаль, что нет перекиси водорода, ну да ладно, промою просто водой. И что-то нужно для дренирования раны. Задумчиво посмотрев вокруг, я не нахожу ничего лучшего, чем целлофановый кулек. Отрезав от него длинный кусок, я бросаю его в банку с ножом.
Затем я расставляю стаканы на столе. Пять стеклянных сосудов. Вряд ли мои соседи пропустят такой повод выпить, тем более, за счет мужика. И не ошибаюсь. Они вваливаются шумной толпой, промокшие под дождем, довольные предстоящим событием.
— Ну, что, Василий, будем с тобой делать операцию!? — то ли утверждает, то ли спрашивает Семен. Он уже пьян. И в этом нет ничего удивительного, — так он убивает боль, грызущую его изнутри.
Я улыбаюсь. И показываю на скамью — дескать, садитесь, гости дорогие, за стол. Они чинно рассаживаются. Иван с Лидой вместе. Напротив, Семен. Рядом, неловко примостившись на левой ягодице, Фёдор.
— Давай, Семен, разливай. Всем по полстакана, а нам с Федей по полному, — говорю я. Заметив недоуменный протест в глазах Семена и Ивана, твердо повторяю:
— Всем половину, а мне и Феде — полные.
Семен, пожав плечами, разливает, не пролив ни капли. Поставив бутыль на стол, он поднимает свой стакан и говорит:
— Ну, как говорится, за хирургов, которые не дрогнувшей рукой рассекают человеческую плоть, избавляя нас от страшных болезней, ибо доктор, которому мы доверяем свою жизнь, и есть Спаситель, — Семен поднимает голову, смотрит на потолок и чуть не падает, потеряв равновесие.
— Вот это правильно, — поддерживает его Иван, опрокидывая свой стакан.
Федя, глядя в свой стакан, медленно пьет. Как только он ставит стакан на стол, я говорю Семену:
— Еще ему полный стакан налей.
Вчетвером мы смотрим, как Федя с каменным лицом вливает в себя самогон, как воду из колодца. Я достаю нож из банки и опускаю лезвие ножа в свой наполненный стакан, и когда Федя, уткнувшись носом в рукав, видит это сочетание — острый нож в стакане самогона — его глаза округляются. Он хочет что-то сказать, но слова застревают в горле. Он хрипит. Глаза закатываются. И мужик теряет сознание, повалившись всем телом на стол.
— Ну, вот, наркоз начал действовать, — говорю я, — давайте работать. Лида с Иваном держите крепко его руки и голову. Семен садись снизу на ноги. И чтобы даже не дергался.
Я, перевалив тело на живот, стаскиваю штаны. Ассистенты занимают свои места, причем Семен это делает с энергией и энтузиазмом начинающего доктора-интерна.
— Коллега, какой будем делать разрез? — говорит он с довольной улыбкой на лице. — Предлагаю крестообразный.
— Почему крестообразный? — спрашиваю я с улыбкой, выливая половину самогона из своего стакана на операционное поле и затем остатки на свои руки.
— Чтобы полностью опорожнить полость гнойника от гноя. Мне лет пять назад хирург так говорил, когда вскрывал чирей на шее.
— Молодец твой хирург, — киваю я, и коротким резким движением вскрываю гнойник. Тело вздрагивает, слышен хрипящий звук из-под Лиды. Гной, смешанный с кровью, густым потоком льется из раны. Я ввожу два указательных пальца в рану и тупо развожу края разреза, давая возможность гною свободно вытекать.
В этот момент Семен неожиданно теряет сознание, ничком повалившись вперед и ударившись головой об пол.
— Эх, коллега, коллега, — покачав головой, говорю я. И продолжаю делать дело.
Промыть рану водой. Стереть с кожи кровь и гной. Ввести кусок целлофана для дренирования. Хорошо намочить чистую тряпку солевым раствором и наложить на рану. Сверху другая тряпка, смоченная самогоном.
— Ну, вот и все.
Оттолкнув тело Семена в сторону, я освобождаю ноги Феди.
— Давайте, Иван, Лида, помогайте. Иван, приподними его за таз, чтобы я смог намотать простынь.
И только когда мы втроем зафиксировали повязку, Семен приходит в себя. Открыв глаза, мутным взглядом он смотрит по сторонам. Заметив замотанного в простыню Федю, он неуклюже вскакивает на ноги, зажимая рвущиеся наружу рвотные массы рукой, и выскакивает из дома.
— Слабак, — презрительно говорит Иван, который чувствует себя героем. Лида молчит. Она смотрит трезвыми глазами в правый угол и шевелит губами.
— Давай, Иван, поднимем больного с пола.
Мы поднимаем бесчувственное тело на тахту и переваливаем на бок.
— Пусть спит. Сейчас это для него лучшее лекарство, — говорю я и, помолчав, добавляю, — ему, конечно, еще бы антибиотики надо. Но где их взять?
— У нас есть.
Я смотрю на Лиду, которая кивает и повторяет:
— У нас есть. Ивану года два назад назначил доктор в районной больнице. Я, как дура, выкупила их, а он отказался их принимать.
— Почему как? — ухмыляется Иван. — Ты и есть дура. Истратила деньги на какие-то гребаные таблетки.
— Да я же о тебе заботилась, козел драный!
— А я что, просил тебя об этом? Заботилась она. Убить меня хотела! Отравить хотела, жаба пупырчатая!
— Да еще не хватало, руки об тебя марать. Сам сдохнешь, урод!
— Молчать!
Иван, уже приготовивший следующую фразу, от неожиданности замирает на высоте вдоха. И затем начинает кашлять. Надрывно и хрипло. Лицо наливается кровью. Руки хаотично хватают горло. Лида испуганно смотрит на меня.
— Иди, Лида, неси все таблетки, которые у тебя есть. Я сам выберу, что надо. А с ним я сейчас справлюсь. Иди, Лида, иди, — говорю я, настойчиво подталкивая женщину к выходу.
Она кивает и, не оглядываясь, выбегает из дома.
Я подхожу к Ивану. Наклонив туловище вперед, стукаю его по спине. Иван исторгает из себя мокроту, смешанную с кровью. И успокаивается. Тяжело дыша, он смотрит на меня и тихо говорит:
— Хреново, док. Устал я. Жить так надоело. Пока пьяный, думаю, что всё наладится. Здоровье вернется. Как протрезвею, понимаю, что ничего уже не будет. Однажды захлебнусь кашлем, и — всё. И думаю, уже быстрей бы. Ложусь спать, и думаю, вот бы просто не проснуться. Уснуть и не проснуться.
Он качает головой и продолжает:
— Лидка достала — столько лет вместе живем, а как будто чужие люди. Пилит и пилит. Я вот-вот сдохну, а она, похоже, только рада будет. И как я раньше не замечал, какая она сволочь!
— Дурак ты, Иван. Любит она тебя. Не смотря ни на что.
— Не парь мне мозги, доктор, — хмыкает он, — любит она. Так я тебе и поверил.
Я, пожав плечами, ничего не говорю.
Беда всех людей в том, что они не способны чувствовать друг друга. Возьми ближнего своего за руку, посмотри в глаза, открой своё сердце, скажи слова любви и — почувствуешь ответную любовь. Это ведь так просто. Но, думаю, в мире теней уже давно эта способность — чувствовать ближнего и говорить слова любви — безвозвратно утрачена, и встречается сейчас редко, как атавизм.
17
Она снова и снова прокручивала в голове собственные умозаключения. И приходила к тем же выводам. Сомнения оставались. Мария Давидовна пока не могла поставить четкий диагноз, но никто от неё этого и не требовал. Рано или поздно преступника поймают, и вот тогда она сможет поговорить с ним. То, что убийце нужна помощь психиатра, она ни на секунду не сомневалась.
Может, она в чем-то ошиблась, когда рисовала психологический портрет Киноцефала майору Вилентьеву, но опыт и знания подсказывали, что в общих чертах всё правильно. Ну, а нюансы, — она имеет право на ошибку. Она обычный человек. Так она себя успокаивала.
Утром она сидела за своим столом на работе, в очередной раз рассматривая фотографии. Сейчас, в августе, у неё официальный отпуск, но она не могла не работать. Дома никто не ждет, а ехать ей некуда. Она и так уже половину июля тупо просидела в четырех стенах. В прокуратуре только рады тому, что она вышла на работу, — сегодня из СИЗО обещали доставить преступника на судебно-психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости.
Всего три трупа, а у неё уже рябит в глазах от одинаковых картинок. Ей казалось, что она что-то пропустила, какую-то мелочь, на которую должна была обратить внимание. И все равно снова вглядывалась в цветные изображения.
Услышав мелодию «Наша служба и опасна и трудна…», она взяла телефон и сказала:
— Я слушаю, Иван Викторович.
— Здравствуйте, Мария Давидовна. Как дела?
— Нормально. Но вы позвонили не просто так, не так ли?
— Да, — майор посопел в трубку и продолжил, — вчера поздно вечером Киноцефал снова напал. Теперь он это сделал в центре, в арке одного из домов на проспекте. И ему помешали. У нас мертвый парень и раненая девушка.
— Она видела его? — спросила Мария Давидовна, чувствуя, как вспотела рука, держащая мобильный телефон.
— Не знаю. Ночью ей сделали операцию, и теперь она в реанимационном отделении областной больницы. Я что звоню, Мария Давидовна!? Мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали при разговоре с девушкой, когда она очнется.
— Конечно. Я тоже этого хочу.
— Вот и ладненько. Мне обещали, что если всё будет хорошо, то днем часов в двенадцать мы сможем пообщаться с ней.
Мария Давидовна нажала на красную кнопку и отложила мобильный телефон. Мозг, получив новую порцию информации, потребовал кофе. И сигарету. Включив чайник, Мария Давидовна насыпала в чашку молотый кофе. Когда вода закипела, она до краев налила кипяток в чашку и поставила её в микроволновую печь. Нажав на старт, дождалась, когда кофейная пена приподнимется, и выключила микроволновку.
— Кофе готов, а вот сигарету не дам.
Доктор Гринберг вдруг поняла, что только что вслух сказала последнюю мысль, словно разговаривала со своим мозгом. Улыбнувшись, она сделала глоток. И снова вернулась к фотографиям.
И сразу же поняла, что она пропустила.
Выпрямив спину, Мария Давидовна сделала медленный вдох, считая до семи, а затем медленный выдох, считая до десяти. И так пять раз. После этого она снова посмотрела на фотографию и улыбнулась. Всё правильно. Как же она сразу об этом не подумала.
Забыв про кофе, она встала. Скинула белый халат. И, схватив телефон со стола, стремительно вышла из кабинета. Увидев в коридоре лаборантку Зою, она сказала:
— Ко мне должны привезти пациента на освидетельствование. Пусть подождут. Я скоро вернусь.
Она шла по территории областной больницы в сторону морга, механически отвечая на приветствия сотрудников. Как же она сразу не обратила внимание? Вот же оно, прямо перед глазами, не заметить невозможно.
— Марина Владиславовна, можно?
Постучав в дверь, она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Услышав разрешение, вошла.
Доцент Семенова, задумчиво выдохнув сигаретный дым, спросила низким голосом:
— И что привело мозгоправа в обитель смерти?
— Здравствуйте, Марина Владиславовна, я хотела посмотреть протоколы вскрытия девушек, которые были убиты маньяком.
— Зачем?
— Я помогаю майору Вилентьеву, ну, следователю по этому делу, и мне надо посмотреть, — Мария Давидовна неожиданно для себя стала говорить как-то неуверенно, словно она совершала что-то противозаконное. Строгий взгляд прищуренных глаз сквозь белый дым заставил её на мгновение почувствовать робость.
— Вот вы к этому майору и идите. У него есть эти протоколы. Если он посчитает нужным, то даст вам их.
Марина Владиславовна выдохнула дым так, словно хотела сдуть её прочь. Мария Давидовна вдохнула белый дым — ну, вот тебе и сигарета — и кивнула. Да, действительно, зачем она сюда пришла. Широко улыбнувшись, она сказала:
— Спасибо, Марина Владиславовна, рада была вас увидеть.
— А я-то как рада, Мария Давидовна.
— До свидания.
Она вышла во двор и засмеялась. Ведь уже не раз говорила себе — сначала подумай, а потом делай. Вот и получила. Доктор Семенова недолюбливала женщин, и все в больнице это знали. Впрочем, и мужчин она не привечала. Можно было сразу догадаться, что от этой стервы она ничего не получит.
Сев на скамейку, стоящую под липой, она посмотрела на часы. Одиннадцать часов. Она, конечно, может пойти обратно на кафедру психиатрии, но если уже привезли из СИЗО убийцу, то она не сможет пойти вместе с Вилентьевым в реанимацию. А это сейчас важнее. И, к тому же, при встрече с майором она попросит его почитать протоколы вскрытий.
Она подставила лицо солнцу и зажмурилась. Мысленно представила себе липовую ветку, свисающую над ней. И стала медленно считать каждый лист. Вдох — раз листок, выдох — два листок. Досчитав до двадцати двух, она открыла глаза и, уже не мысленно и быстро, пересчитала листья на ветке. Количество сошлось, и Мария Давидовна засмеялась.
Ничего. Другие дела подождут.
Сначала надо подтвердить или опровергнуть свои мысли, а уж потом выполнять свою работу. Да и, в конце концов, она в отпуске. Прокуратура может подождать, у неё сейчас есть более важные дела.
Успокоив свою совесть, Мария Давидовна стала ждать звонка.
18
Снова хмурое утро. Лето на исходе, и всё чаще идут дожди. Время летит настолько быстро, что не успеваешь уследить за сменой солнца и луны на небесном циферблате. Два дня прошло, как я отпустил Федю домой. В первую ночь после вскрытия абсцесса у него была высокая температура, он что-то бормотал и скидывал с себя одеяло. Утром следующего дня ему стало лучше, а после перевязки он даже запросился домой — дескать, жена потеряет, ушел и пропал. Но я выждал еще один день и только на следующее утро, убедившись, что температура нормализовалась, рана стала значительно чище, а гноя осталось совсем мало, разрешил ему уйти. Сказал, как пить таблетки и подробно рассказал, что делать с раной на ягодице. И попрощался.
Хороший мужик. Обычный пахарь, который весь день работает, а вечером напивается. Таких мужиков в окрестных деревнях много. Они первыми и умирают, не дожив до пенсионного возраста. Я знаю, что его ждет впереди. И мне немного грустно. Так бывает, когда понимаешь, что ничего изменить нельзя.
Я подставляю лицо мелким каплям дождя. И улыбаюсь. Именно сегодня у меня появилось ощущение, что грядут перемены. Спокойная жизнь заканчивается, и почему-то я даже рад этому. Что-то во мне всегда противилось размеренному существованию. И если время пришло, то — я готов.
К тому же, мне так надоело моё теперешнее имя.
Дождь усиливается. Скинув рубашку, я подставляю все тело обжигающе холодным каплям. Так хорошо чувствовать себя живым! Ощущать напряжение мышц, готовых к движению. Слышать стук собственного сердца. Вдыхать полной грудью свежий ветер, несущий влагу лесных просторов. Видеть серую хмарь затянутого тучами неба, нависающего над тобой.
Тростниковые Поля подождут. У меня есть предчувствие, что моё место все еще здесь, среди теней, бредущих стадом в одном направлении.
Я иду в дом. Насухо обтираюсь полотенцем. Смотрю на себя в зеркало. Легкая седина на висках. Усы и борода скрывают черты лица. Мелкие морщинки под глазами. Я спрятался, но не так хорошо, как хотелось бы. Рано или поздно меня кто-нибудь узнает. Может это будет местный участковый, старлей Афанасий. Может, кто-нибудь другой. По большому счету, это неважно.
Время приближается. И я это знаю.
Скрип калитки. В окно я вижу, как ко мне бежит Лида. В домашнем халате с непричесанной головой, что случалось нечасто.
Накинув рубашку, я встречаю женщину в дверях вопросом:
— С Иваном что-то?
Она, тяжело дыша, кивает и жестом показывает на своё горло:
— Кровь горлом пошла. Такая яркая кровь и так сразу много. Я испугалась и сразу к тебе.
Да, и это тоже должно было произойти. Рано или поздно.
Лида идет рядом и говорит:
— Я с утра, как обычно, кашу варила, а он в последнее время стал долго спать. Я ему вставай, уже десять часов, а он молчит. Я снова — вставай, лежебока. А он молчит. Я уже кричу, хватит спать, свинья. А он даже на это никак не среагировал. Я заглянула к нему, а там кровь на подушке.
— Посмотрела, живой или нет?
Лида ошарашено посмотрела на меня. И отмахнулась:
— Да ты что. Я, как кровь увидела, так сразу к тебе побежала, — и неожиданно вспомнив что-то, хлопнула руками по бедрам, — тьфу-ты, ну-ты, гребануты, про кашу-то забыла. Сгорела, наверное. Вот, проклятый мужик, из-за него еще и кашу сожгла.
Она ускорилась, почти побежав.
В доме пахнет горелой перловкой. Лида, причитая, схватила кастрюлю, стоящую на электрической плитке и понесла её из дома.
На диване за занавеской на правом боку лежит Иван. На подушке большое красное пятно. Я сажусь рядом на край дивана и беру его руку за запястье.
Заострившиеся черты лица. Закрытые глаза. Холодная конечность. Отсутствие пульса. Скорее всего, он умер еще ночью. И умер спокойно — на лице умиротворение, словно он ушел с радостью в сердце. Тихо жил, и тихо ушел.
Я иду к столу и сажусь на лавку. Задумчиво смотрю на фотографию на стене — молодые Иван с Лидой стоят, обнявшись, на фоне соснового бора. На лицах улыбки, глаза, смотрящие в объектив, светятся счастьем молодости и любви. Куда всё это ушло из их жизни? Почему люди не могут пронести через всю жизнь простые человеческие чувства?
Вздохнув, я отвлекаюсь, краем уха услышав тихий голос диктора из радиоприемника:
«…на пресс-конференции начальник областного следственного управления сообщил, что преступник, нападающий на девушек в областном центре, вчера совершил четвертое нападение. Был убит молодой человек, который, услышав крики, бросился на помощь, а девушка, получив ножевое ранение, осталась жива. Сейчас она находится в областной больнице, где врачи делают все возможное для спасения её жизни. Напомню, что уж больше двух недель город живет в страхе. Ужас двух прошлых лет вернулся и этим летом. Маньяк снова убивает, издеваясь над жертвами и насилуя их. Все преступления совершаются в темное время суток в уединенных местах. И только последнее убийство произошло в центре города в вечернее время в одной из неосвещенных арок дома. Люди снова стали бояться отпускать своих детей вечером из дома…»
— Вот ведь напасть, каша напрочь сгорела, — говорит Лида, заходя в дом, — еще и кастрюлю теперь долго отмывать придется. Чем я теперь Ивана кормить буду? У меня такой кастрюли нет, а в большой варить несподручно. Сегодня-то ладно, а завтра что мне делать?
Она садится за стол и вопросительно смотрит на меня.
— Он умер, — отвечаю я на немой вопрос.
Она кивает. Потом, когда до неё доходит, пока еще спокойно она переспрашивает:
— Как умер?
— Вот так. Взял и умер. Этой ночью.
Она хлопает глазами, которые внезапно наливаются слезами. Открывает рот, словно хочет что-то сказать. Или выкрикнуть проклятье в адрес мужа. Или просто закричать от боли. Закрывает рот. И начинает тихо плакать.
Так мы и сидим за столом. Она оплакивает свою любовь, от которой ожидала счастье и красивую жизнь. Она вспоминает наивные мечты своей юности. И радостные моменты совместной жизни с Иваном. Те мелочи, из которых складывалась обычная деревенская жизнь двух людей. Она думает о том, что не сказала ему в последние дни. И что вообще не успела сказать в этой жизни. Она вспоминает те добрые слова, что Иван говорил ей, пусть это было достаточно редко. И тихо повторяет их, словно хочет их снова услышать.
А я думаю о том, что сказал диктор по радио.
Кто-то использует меня. Нагло и бесцеремонно. Какой-то психопат, прикрываясь мною, делает свои ублюдочные дела. Да, предчувствие меня не обмануло. Теперь надо ждать, что вся милиция будет искать в первую очередь меня. И не только в городе. Если моя фотография, даже и без бороды, попадет на глаза участковому Афанасию, то он меня узнает. Может быть, именно сейчас он смотрит на снимок и думает, где он видел это лицо. Или он именно сейчас звонит в город, чтобы сообщить о том, что он знает преступника. Всё может быть, и я не хочу думать, что мне надо бежать. Я этого не хочу.
Вздохнув, я говорю:
— Держись, Лида. Я сейчас к тебе Семена отправлю.
И ухожу. У меня есть более важные дела.
Хотя, я точно знаю, что иногда в этом мире нет ничего важнее смерти.
19
Она идет по незнакомому городу. Ночь, озаренная заревом горящих вдалеке домов. Мерцающие блики отраженного огня в темных окнах, пристально вглядывающиеся зеркальными поверхностями. Каждый шаг по булыжной мостовой дается с большим трудом. Она с опаской смотрит под ноги, и в то же время она знает — опасность придет не снизу. Но страшно смотреть вперед.
Возможно, где-то там ждет монстр.
И, может, не один.
Она точно знает, что никто не придет на помощь. В этом месте нет никого. Город мертв. Люди покинули его, потому что совсем недавно здесь поселилась смерть. Никто не поможет. Только она сама может дать отпор. Или — покорно сдаться, склонив голову. Это все равно что спрятаться с головой под одеяло и ждать неизбежного конца, наивно надеясь, что пронесет.
Стиснув зубы, она шепчет — нет, никогда, я смогу, я выйду к свету. Всё, что я вижу, — безумный сон. И когда проснусь, я увижу маму.
Под ногами вздрогнула земля. Вывернулась булыжная мостовая в метре от неё. Полетели в стороны камни. Она испуганно отпрыгивает. И чувствует спиной, что прижалась к чему-то. Резко повернувшись, она видит красную кирпичную стену, которой тут не должно быть. Она стоит в центре улицы, прямо на проезжей части, но — как давно здесь проезжали автомобили или проходили люди? И почему здесь стена?
Она снова поворачивается. И — нет, только не это.
Темная фигура, слегка освещенная далеким заревом. Нечеткие контуры. Невысокий рост. На верхнюю часть тела наброшен капюшон, скрывающий голову. Только горящие глаза из-под капюшона. Безумным огнем. Из мрака бездны. Она, замерев сознанием, ничего не слышит и не видит. Только взгляд круглых глаз, высасывающий из неё желание бороться. Ноги становятся ватными. Руки дрожат. Хочется закричать, но пересохшее горло не в состоянии произнести ни звука.
Фигура приближается, и когда она видит, что скрывается под капюшоном, раздается крик. Пронзительный визг умершего сознания. Звук, разрывающий реальность пополам. На две части, и каждая кричит по-своему.
Она закрывает глаза.
И умирает.
— Девушка, глаза откроем! Слышите меня! Глаза откроем!
Она слышит нормальный человеческий голос и боится выполнить команду. Кто знает, может, это монстр хочет, чтобы она видела, как он будет её убивать.
— Девушка, я знаю, что вы меня слышите. Откроем глаза. Давайте уже, открывайте. Хватит притворяться.
В голосе слышна усталость. Обычная человеческая усталость. И только лишь это дает надежду, что всё привиделось. Кошмарный сон, из которого хочется вырваться.
Она приоткрывает глаза. Совсем чуть-чуть.
— Вот, молодец! Дай мне знать, если видишь меня.
Она видит улыбку на лице. Добрые внимательные глаза. Синюю шапочку на голове.
— Где я? — шепчет она.
— В больнице. А теперь скажи, как тебя зовут?
— Алина.
— Замечательно. А сколько тебе лет?
Алина пытается найти в памяти цифру, и, не сразу, но получается.
— Девятнадцать.
— Отлично.
Лицо исчезает из поля зрения. И Алина пугается — сейчас вернется монстр. Она закрывает глаза.
— Алина, не спи! — слышит она сразу же знакомый голос. И снова открывает глаза. Теперь уже с желанием понять, что с ней произошло. Она хочет спросить, но не знает кого. Белый потолок. Белые квадраты плиток на стене справа. Почти над ней висит темно-красный пакет, из которого вниз свисает изогнутая красная трубка.
— Что со мной случилось? — говорит она. В надежде, что кто-нибудь услышит. Но в ответ тишина.
Алина хочет пошевелить рукой. И это получается. Или ей кажется, что получилось. Она тянет правую руку к лицу, и понимает, что что-то её держит. Она тянет сильнее, но безрезультатно.
— Мама, — зовет она.
Непроизвольно текут слезы из глаз.
— Мама, — уже громче говорит она.
— Будет тебе мама, совсем скоро. Потерпи, — раздается голос издалека. Или совсем рядом.
Алина, устав бороться, обреченно закрывает глаза и проваливается в темноту.
И сразу же, словно никуда не уходила, видит протянутую руку. На ладони большая ягода. Неестественно большая ярко-красная сочная клубника. Размером с яблоко. Выглядит так аппетитно, что непроизвольно текут слюни. Забыв на мгновение о том, где она и что с ней, Алина протягивает руку и хочет взять ягоду.
Рука тут же исчезает. Она поднимает глаза и видит, как красный сок стекает по крысиной морде. Звук чавкающей пасти и довольные круглые глаза.
Она не кричит. Точно зная, что это кошмарный сон — как я там оказалась, не знаю, но я сейчас в больнице, и бояться мне нечего — Алина спокойно смотрит на морду монстра. Оскал-улыбка. Красно-белые острые зубы. Черный быстро двигающийся нос. Короткая шерсть. Круглые глаза, манящие своей бездной.
Загляни в мои глаза, и узнаешь другие миры.
Забудь, что это сон, и раздели со мной трапезу.
Протяни руку и съешь ягоду.
Она снова видит ладонь, на которой лежит ягода. Слюна тонкой струйкой стекает из угла её рта. В сознании нарастает нестерпимое желание ощутить прелестный и незабываемый вкус клубники. Совсем, как летом в детстве, когда бабушка на завтрак ставила перед ней большую тарелку ягод, посыпала сахаром и заливала молоком.
Пальцы дрожат в нетерпеливом стремлении схватить ягоду.
Она ест ягоды ложкой, жмурясь от удовольствия. Бабушка сидит рядом и улыбается. В добрых глазах радость. И — незабываемый вкус клубники с молоком. Замечательный вкус детства.
Рука поднимается, чтобы взять.
Пальцы прикасаются к зеленой плодоножке.
В сознании поросячья радость обладания и предвкушение счастья.
Алина, забыв себя, берет ягоду и несет её ко рту.
Она видит, что крысиный оскал расширяется до невозможных размеров, разрывая морду по рубцу на две части.
Если это радость, то пусть тебя порвет на куски.
Если это счастье, то твой мозг сейчас разлетается в разные стороны белыми ошметками.
Если это вход в одну из множества других реальностей, то — добро пожаловать, милая моя, и не говори потом, что ты не хотела этого.
Она вонзает зубы в сочную мякоть.
И когда вкусовые рецепторы, получив информацию, отправляют её в мозг, крысиная морда выворачивается изнутри. Превращаясь в красную сочную ягоду.
И она вдруг понимает, что кусает морду монстра. С треском на зубах лопается выпученный глаз, стекая в рот мерзкой жижей. Вкус гниющего мяса и вонючей шерсти. Костная твердость черепа в области глазниц.
Алина в ужасе хочет разжать зубы. Но не может.
Неожиданно для себя она вдруг понимает, что этот вкус ей до безумия нравится. Это даже лучше, чем завтрак с бабушкой в детстве. Ничего подобного у неё никогда не было в жизни. Это так замечательно, что не выразить словами, только крик способен донести до всего мира неописуемое счастье.
И она кричит, сжав зубы до боли в мышцах.
Она кричит своим сознанием.
Она так счастлива, что кажется совершенно бессмысленным дальнейшее существование в том мире, где её ждет мама.
Сознание уплывает, оставляя радостное лицо бабушки и солнечный летний день. Тепло маминых рук и уют комнаты, где она жила девятнадцать лет.
Кошмарный сон становится призрачной реальностью. И в этой действительности Алина с удовольствием отрывает куски мяса от крысиной морды, чувствуя наслаждение и осознание своего всемогущества.
20
— Алина, открой глаза. Хватит спать.
Доктор потрепала лежащую девушку по щеке и повернулась к посетителям.
— Минут пять назад она проснулась и отвечала на мои вопросы. Сейчас снова проснется. После наркоза такое бывает.
— Мы точно можем с ней говорить? Не рано ли? — спрашивает Мария Давидовна, глядя на бледное лицо и тонкие руки, лежащие поверх белой простыни.
— Да, можно, только не долго. Впрочем, она долго и не сможет. Нож попал в печень. Большая кровопотеря. Она очень слаба.
Доктор снова повернулась к девушке и увидела открытые глаза.
— Ну, вот мы и проснулись. Алина, к тебе гости. Давай я немного приподниму тебя.
Доктор, взяв пульт управления функциональной кроватью, чуть-чуть приподняла верхнюю половину тела пациентки. Затем, посмотрев на цифры и бегущую кривую на прикроватном мониторе, отошла в сторону.
Зрачки девушки медленно переместились, зафиксировавшись на людях.
— Здравствуй, Алина. Меня зовут Мария Давидовна. А это Иван Викторович. Мы хотим задать вопрос. Если не сможешь ответить, просто закрой глаза, если ответ положительный.
На лице пациентки ничего не изменилось.
— Ты видела того, кто на тебя напал? Ты видела преступника?
Глаза неподвижно взирают в пространство.
— Может она не слышит? — шепчет сзади майор Вилентьев.
— Нет. Она все слышит, — говорит доктор, — посмотрите на монитор, частота пульса изменилась. И вообще-то перед вами я говорила с ней, и она правильно отвечала на мои вопросы.
— Алина, ты меня слышишь? Мигни, если видела его.
Глаза медленно закрылись. И снова открылись.
Еле слышный голос:
— Я Алина. Мне девятнадцать. Я хочу увидеть маму. Алина. Девятнадцать. Мама.
Цифры на мониторе стали быстро увеличиваться. Раздался тревожный сигнал.
— Всё, идите отсюда. Лена, выведи их отсюда.
Доктор вытолкнула посетителей из палаты. Медсестра показала им выход. И когда за ними захлопнулась дверь реанимационного отделения Мария Давидовна смогла нормально вдохнуть — ком в горле мешал сделать это.
— Ну, как вы считаете, Мария Давидовна, она действительно видела нашего Киноцефала?
— Да. Думаю, видела. Поэтому она так среагировала на мои слова.
Они шли по коридору к выходу из больницы. Майор с легким любопытством смотрел на обычную больничную жизнь, — медленно бредущие фигуры больных по коридору, смех медсестер за стойкой сестринского поста, стойкий запах антисептиков. Мария Давидовна думала о девушке, которая получила физическую и психическую травму. И еще неизвестно, какая из них сильнее скажется на её здоровье.
Во дворе больницы они сели на лавку, и Мария Давидовна сказала:
— У меня появилась одна интересная мысль, поэтому я хотела бы почитать протоколы вскрытий.
— Какая мысль? — заинтересованно спросил Вилентьев.
— Сначала мне надо посмотреть протоколы, — помотала она головой, — а потом уже я смогу более четко высказать её.
— Ладно, — пожал плечами майор, — а почему вы к «Ша…», извините, к Марине Владиславовне не зайдете, у неё есть все протоколы? Так сказать, по-соседски, как коллега к коллеге?
Мария Давидовна еле заметно улыбнулась, и ответила:
— Я пробовала, но ничего не вышло. Она нас не любит и коллегами, и тем более, соседями, не считает.
Иван Викторович понимающе кивнул.
— Да, есть такие люди. Мне тоже с ней как-то неловко работать. Хорошо. Сейчас ко мне или позже подъедете?
Мария Давидовна подумала о том, что все-таки сначала надо вернуться на работу, — уже прошел час, как ей позвонила лаборантка и сказала, что её ждут.
— У меня есть незаконченное дело, а вечером к вам бы заехала часов в шесть. Вы не против?
— Прекрасно. Буду ждать. И, кстати, может быть вы перед тем, как ехать ко мне, зайдете к Алине. Может, она вечером сможет говорить.
— Да, конечно. Зайду.
Иван Викторович задумчиво смотрел на уходящую стройную фигуру. И подумал о том, что сегодня он снова увидел уставшую, потрепанную жизнью женщину без обаяния. Словно она меняет маски — в их последнюю встречу, она хотела быть привлекательной, а сегодня ненавидит весь мир и эту жизнь.
Или жизнь ненавидит её.
И еще он с надеждой подумал о том, что узнала или поняла Мария Давидовна. Сейчас ему так не хватало каких-либо положительных сдвигов в следствии.
21
Мария Давидовна приехала в Следственное управление около семи часов. Она поднималась по лестнице на второй этаж, с трудом переставляя ноги. Болела голова. Тупая токающая боль в области висков. За два часа общения с женщиной (преступник, присланный на освидетельствование, оказалась женщиной тридцати пяти лет, которая в состоянии алкогольного опьянения выкинула своего годовалого ребенка с балкона седьмого этажа) она ощутила себя необратимо душевнобольной. Она разговаривала с подсудимой и понимала, что та полностью осознавала все свои действия. Просто ребенок кричал и мешал им с сожителем пить водку. Мария Давидовна никак не могла понять, как это возможно — в полном сознании и сравнительно в не сильном опьянении взять маленького человека, отнести на балкон и бросить вниз, а потом вернуться к столу и продолжать пить.
— А, вот и вы, — обрадовано сказал майор Вилентьев, увидев её, — ну, как, девушка что-то сказала?
Мария Давидовна поморщилась. Громкая речь заставила боль в голове отскочить от висков вглубь черепной коробки. Она непроизвольно прижала пальцы к вискам.
— Что, голова болит? — участливо спросил Иван Викторович.
— Да.
— Что вам дать? У меня есть но-шпа и анальгин.
— Сделайте мне кофе, пожалуйста. И говорите тише.
Сев на стул, она терпеливо дождалась, пока майор вскипятит чайник и нальет в кружку с кофе кипяток. Вдохнув запах и сделав глоток, Мария Давидовна почувствовала себя чуть лучше.
— Нет. Девушка до сих пор не способна отвечать на вопросы. Доктор сказала, что в лучшем случае, завтра к вечеру, ну, а в худшем, — дня через три. Она много крови потеряла, и пока не восстановят нормальное кровообращение, вряд ли она сможет адекватно мыслить.
Мария Давидовна говорила и прихлебывала кофе, с каждым глотком чувствуя себя все лучше и лучше.
— Жаль, — кивнул Вилентьев, — а я надеялся, что она скажет нам, кто убийца.
— Вы приготовили протоколы вскрытий?
— Да, конечно, — майор взял со стола папку и положил перед женщиной.
Отставив кружку в сторону, она открыла папку и стала читать, пробормотав:
— Дайте мне минут пятнадцать.
— Хорошо, — сказал майор и, повернувшись к сейфу, открыл его. Он стал брать папки со стола и складывать их внутрь. Иногда он открывал папку и просматривал бумаги, но делал это без особого интереса, словно выполнял рутинную работу. Значительно чаще и заинтересованее он поглядывал на сидящую за его столом женщину, ожидая, когда та закончит читать и скажет что-то важное. И, когда он понял, что Мария Давидовна готова говорить, быстро покидал оставшиеся папки в сейф, не глядя на них, и сел напротив женщины, сложив руки перед собой.
— Кажется, я ошибалась, когда говорила, что Киноцефал не имеет отношения к медицине, — задумчиво сказала Мария Давидовна.
— Почему вы так решили?
— Представьте, Иван Викторович, убийца в темноте разрезает живот и извлекает внутренние органы единым конгломератом. И делает он это достаточно аккуратно, — совсем не много лишних разрезов, ни один из внутренних органов не поврежден. Он работает ножом, а не выдергивает. Постепенно извлекает из брюшной полости, а не хаотично выгребает. Как он это делает? На самом деле, это и при свете не так-то просто сделать. Я еще могу сомневаться в третьем случае, потому что там уже был рассвет, но первые два были глубокой ночью. Во всех трех случаях Марина Владиславовна описывает извлечение внутренних органов так, словно сделана эвисцерация по Шору, но без удаления органов грудной клетки. То есть частичная эвисцерация.
— Эви… что?
— Эвисцерация, — терпеливо повторила Мария Давидовна, — это патологоанатомический термин. Извлечение внутренних органов из грудной и брюшной полости.
— Я что-то не понял, — нахмурившись, спросил майор, — наш Киноцефал — врач-патологоанатом?
— Нет, совсем не обязательно. Любой врач во время обучения проходит цикл патологической анатомии, где нас обучают азам вскрытия трупа. При желании любой доктор, который умеет держать скальпель в руках, сможет вспомнить эти знания и использовать их.
— Тогда, Мария Давидовна, — майор привстал со стула, — все-таки может это Парашистай?
— Иван Викторович, — протяжно сказала доктор Гринберг, — давайте не будем снова ходить по кругу, мы с вами однозначно решили, что это не он.
— Но вы мне говорили…
— Я могла ошибиться в мелочах, но не во всем психологическом портрете Киноцефала. Сейчас я думаю, что он имеет какое-то медицинское образование и определенные знания анатомии внутренних органов человека. При этом все остальные мои умозаключения я никоим образом не отрицаю.
— Ладно, — кивнул майор, — и что нам это дает? Если это не Парашистай, то кого мне искать?
Мария Давидовна пожала плечами и сказала:
— Кого-то, кто хорошо знал, какие ритуалы выполнял Парашистай, убивая людей, и кто имеет, или имел отношение к медицине. Мужчина невысокого роста. Попробуйте снова поговорить с сотрудниками больницы, особенно с теми, кто хорошо знал доктора Ахтина. Посмотрите картотеку на психически больных преступников, которые имеют медицинское образование. Ну, и надеюсь, Алина завтра или послезавтра сможет говорить и что-то добавит к этому портрету какой-нибудь штрих, с помощью которого мы сможем найти преступника.
Они посмотрели друг на друга — майор с красными глазами и женщина с уставшим лицом.
Не смотря ни на что, портрет Киноцефала пока не имел четких контуров. Расплывчатый психологический портрет, минимум улик и практически полное отсутствие свидетелей.
И они ничего поделать не могли.
Мария Давидовна вдохнула глубоко носом и так же выдохнула. Сначала в круг, потом в квадрат, и под конец в треугольник. Головная боль ушла, а, значит, можно жить дальше. Жить и ждать.
Ждать — вот всё, что они могли сделать. Ждать следующей жертвы, когда, возможно, Киноцефал ошибется. Или завтрашнего дня, когда Алина, может быть, скажет им что-то полезное и важное. А, может, и не скажет, и тогда всё вернется на круги своя.
22
Мы — Семен, Лида и я — сидим за столом. Ближе к выходу из дома у окна на табуретках стоит грубо сколоченный гроб, в котором, сложив руки на животе, лежит Иван. Между пальцев рук зажата короткая горящая свеча. На столе четыре стакана, наполовину наполненных самогоном, на одном из которых лежит кусок черного хлеба.
— Ну, Иван, чтобы земля была тебе пухом, — говорит Семен и выливает в себя жидкость. Он говорит эту фразу в третий раз. Лида механически поднимает свой стакан, подносит ко рту и ставит на место, не сделав ни глотка. Она тупо смотрит прямо перед собой, ничего не видя. Скорее всего, она не слышит и слов Семена.
Я просто сижу, даже не поднимая свой стакан. Вчера мы с Семеном вынесли из сарая сухие доски, которые Иван заранее приготовил, и сколотили гроб. Он получился неказистый, но, ни Семен, ни я, никогда не плотничали, поэтому даже на такой гроб мы посмотрели с гордостью. Можем-таки.
Лида этим утром пришла и позвала меня помянуть Ивана.
— Помянем, потом отвезем на кладбище и похороним.
Я хотел предложить сделать наоборот, — сначала похоронить, а затем помянуть, — но она даже не стала слушать меня. С непроницаемым лицом Лида тупо повторила приглашение на поминки и ушла.
— Я предлагаю выпить за любовь, — говорю я, и, заметив, что Лида чуть повернула голову ко мне, продолжаю, — порой кажется, что уже нет её, этой самой обычной любви. И люди живут рядом больше по привычке, боясь что-то менять в устоявшейся жизни. Словно они не хотят сделать шаг в сторону, свернуть с привычной дороги. Но если присмотреться, то можно увидеть наличие любви в тех мелочах, которые совершенно незаметны. Пустяшные мгновения, типа вроде как бы случайного слова, или протянутой руки в нужный момент. Или одинаковые мысли в какой-то момент. Да и просто забота не напоказ. И вот тогда понимаешь, что здесь она. Любовь рядом. Обычная любовь между двумя взрослыми людьми, прожившими бок о бок десятки лет. И хоть она словами не подтверждена, хотя она внешне никак не проявляется, знаешь, что именно этот человек любит тебя. И так становится хорошо на душе. Светло и радостно. И сразу прощаешь ему всё, забывая всё плохое и глупое, что произошло между вами. И вот за это, за простую человеческую любовь, я и хочу сейчас выпить.
Лида безмолвно плачет. Слезы текут по щекам, а глаза все также смотрят прямо и безжизненно. И в это раз она ставит на стол пустой стакан.
— Хорошо сказал, — говорит Семен, вытирая рот.
Я, сделав глоток, ставлю на стол по-прежнему наполовину полный стакан. Мне кажется, что я сейчас говорил не для Лиды, а для себя.
Мне так не хватает той, о которой я бы мог заботиться и любовь которой чувствовал душой. Несколько месяцев жизни, которые перевернули моё сознание. Я вспоминаю образ, ради которого живу все последние годы. И именно её я пришел помянуть.
— Кстати, а как мы гроб повезем на кладбище? — спрашивает Семен. — Машины у нас нет. Телеги тоже нет. Лошади нет. А до кладбища достаточно далеко.
Лида молчит, словно не слышит.
Посмотрев на пьяное лицо Семена, я говорю:
— В сарае я видел тачку. Поставим на неё гроб и отвезем. И лучше это сделать сейчас, а не когда ты не сможешь встать из-за стола.
Лида кивает. Она тоже прекрасно понимает, что кроме нас с Семеном никто ей не поможет. И она знает, как быстро пьянеет и перестает понимать окружающую действительность сосед Семен. Встав, Лида уносит бутыль с самогоном.
— Эй, Лидка, стой, давай по последней, — вслед ей кричит Семен.
Я тоже встаю и иду за средством передвижения. Тачка большая и крепкая, — два больших колеса, широко расставленные рукояти. Должна выдержать. Иван на ней возил мешки с картошкой.
Вернувшись в горницу, я, потушив свечу, закрываю гроб крышкой и зову Семена:
— Давай выносить гроб с телом. Вставай со стороны ног. И иди осторожно.
— Да знаю я, не в первый раз уж, бывало мы…, — говорит Семен, и прежде чем он начнет бахвалиться, я прерываю его:
— Хватит балаболить. Подняли и пошли.
Гроб с Иваном тяжелый. Очень тяжелый. Я вижу, как натужно покраснело лицо моего помощника, да и сам я с трудом переставляю ноги. Да, надо было настоять на том, что сначала похоронить, а потом поминать. Запнувшись, Семен чуть не падает, выкрикнув нецензурное словосочетание, и ставит свою часть гроба на пол. Я тоже медленно опускаю изголовье. Мы уже на крыльце.
— Худой вроде, а тяжелый, сволочь, — говорит Семен, вытирая пот со лба.
— Думай, что говоришь. Сам ты сволочь.
Лида, выйдя из дома, хмуро посмотрела на Семена, который, словно оправдываясь, говорит:
— Да это я так, просто к слову пришлось. Я же не его имел в виду. Просто тяжело нести.
Мы поднимаем гроб и водружаем его на тачку, которая, скрипнув и просев, выдерживает вес. Я привязываю длинной веревкой гроб к тачке, чтобы он не упал во время движения.
— Ну, с Богом, — говорит Лида, и первая с двумя лопатами на плече выходит на деревенскую дорогу. Похоронная процессия — Лида идет впереди с лопатами, Семен слева и я справа толкаем тачку. До деревенского кладбища метров пятьсот и половина пути в горку, что плохо, пусть даже наклон дороги совсем небольшой.
Старуха в черном платье, сгорбленная и неподвижно взирающая на нас, стоит на дороге, опираясь на суковатую палку. Она так похожа на Смерть, что мы с Семеном непроизвольно на мгновение останавливаемся. Это Прасковья. Я вижу её в третий раз за последние полгода. Она стоит неподвижно и что-то тихо бормочет. И когда мы проходим мимо, осеняет нас крестом.
— Я, когда увидел её, чуть не обосрался, прости Господи, — говорит Семен, когда мы отошли на достаточное расстояние, — натурально, Смерть. Еще косу в руки, и всё. Хоть сам ложись в гроб рядом с Иваном.
— Ляжешь, куда ты денешься, — говорю я.
Отдыхая через каждые сто метров, мы добрались до кладбища. Деревенский погост давно заброшен, — заросшие кустарником и невысокими березами могилы, просевшие холмики, покосившиеся кресты, сорная трава до пояса. Некому следить за забытым кладбищем.
Могилу Семен выкопал вчера на свободном месте недалеко от входа на погост. Выгрузив гроб на холм выкопанной земли, мы открыли крышку.
— Прощаемся, — говорю я.
Лида, бросив лопаты на землю и подойдя к изголовью гроба, впервые за три дня неожиданно для нас начинает громко и навзрыд плакать. Она невнятно причитает, упав на колени и прижавшись лбом к лицу Ивана.
Семен сидит на траве, тупо глядя на эту картину.
Я знаю, что жизнь — эта непредсказуемая, странная и прекрасная женщина — всегда дает шанс на сближение, на более тесные отношения. Она ведет во дворец, открывая одну дверь за другой, в свой будуар. В её глазах ледяной холод и жаркая страсть. В движениях — покорное желание и яростный отказ. И оказавшись один на один, ты можешь и должен сделать первый шаг, зная, что не всегда встретишь ответное движение.
Будь собой, и всё получится.
Вопрос, как всегда, лишь в том, кто окажется сверху, — я или она.
23
— Алина, если ты не против, я буду записывать наш разговор, — сказала Мария Давидовна, положив на прикроватный столик небольшой диктофон.
— Пожалуйста, — кивнула девушка. Она выглядела значительно лучше, чем три дня назад. Щеки порозовели, в глазах появилась жизнь, хотя все еще сильная бледность кожи и вялые движения. Она полулежит на функциональной кровати. Отключенный монитор с темно-серым экраном и отсутствующая капельница говорят о том, что очень скоро, может даже сегодня, её переведут из реанимационного отделения в обычную палату. Хорошее питание и присутствие рядом мамы быстро вернут её к жизни.
— Как ты себя чувствуешь?
— Не знаю. Наверное, хорошо. После того, что случилось, я даже не знаю, как это — хорошо?
И, помолчав, она задала тот вопрос, на который никто ей не отвечает:
— Со мной парень был, Виктор Дачевский, что с ним? Он жив?
— Нет, он мертв.
Алина задумчиво и как-то отстраненно кивнула. Не заметив ни одной слезинки в глазах девушки, Мария Давидовна спросила:
— Это твой друг?
— Не совсем, просто знакомый, с которым не хочется встречаться, но — все равно, жаль. Он просто оказался не в том месте и не в то время.
— Благодаря ему, ты осталась жива.
— Не знаю, — неуверенно говорит Алина, — может быть и так. А, может, и нет. Если бы не Виктор, который задержал меня, я бы на час раньше домой пришла и вообще ничего бы не было.
— Алина, расскажи мне, что произошло, — сказала Мария Давидовна. Собственно за этим она и пришла. Девушка это понимает. И тихо неторопливыми короткими фразами начинает рассказывать.
— Виктор мне не нравился. Зануда. После кафе я попрощалась с ним и через темную арку пошла домой. Я обещала маме, что вернусь не поздно. Витя что-то крикнул вслед и побежал за мной. Он что-то хотел мне сказать, а я разозлилась — он меня уже достал. Я повернулась, чтобы сказать ему об этом, а там стояло это чудовище. Двуногая крыса.
— Крыса? — уточнила Мария Давидовна.
— Ну, да. Черный капюшон на голове. А под ним вытянутая крысиная морда. Когда Виктор подбежал, эта «Крыса» повернулась к нему и ударила ножом. Витя упал. Чудовище снова повернулось ко мне, и я вдруг подумала, что так просто не дам себя убить. И стала бить по этой крысиной морде.
Девушка подняла правую руку, словно хотела показать, как она это делала.
— В руке у меня был зажат телефон. Вот им я и наносила удары по морде крысы.
— Молодец, — улыбнулась Мария Давидовна.
— А потом резкая боль в животе. Такая сильная и неожиданная. Последнее, что я помню, это крики людей. А этот монстр убежал.
Заметив, что Алина начала волноваться, Мария Давидовна взяла её за левую руку и сжала. Девушка замолчала. Когда она перестала часто дышать, доктор Гринберг разжала руку и спросила:
— Может, помнишь какие-нибудь детали? Может, ты смогла разглядеть лицо преступника? Вообще-то, мы думаем, что на нем была маска, поэтому у него была «крысиная» морда. Может, ты ударами сбила маску и увидела лицо.
— Нет. Я видела только «крысиную» морду. Да, скорее всего, это действительно была маска. Уж очень легко я своими ударами сминала её.
Увидев вопрос на лице доктора, девушка уточнила:
— Я чувствовала, как легко рука проваливается во что-то мягкое, а потом наталкивается на что-то твердое. Я это сейчас понимаю, а тогда я всё делала автоматически, не замечая ничего вокруг.
Она снова замолчала, и Мария Давидовна через минуту спросила:
— Может, ты заметила что-то еще? Что-то необычное, или совершенно незначительное, как тебе кажется, какой-нибудь пустяк?
Алина задумчиво смотрела на неё и молчала.
— Что ж, ладно. Извини, что я заставила тебя вспомнить этот ужас.
Протянув руку, она хотела выключить диктофон, когда девушка снова заговорила:
— Этот монстр пришел ко мне во сне, ну, уже здесь в больнице. Кошмарное сновидение, в которое я сама не верю. Поэтому я и сказала, что это может показаться вам глупостью. Или вы скажете, что я сошла с ума.
— Я так не скажу. Ну, и что там было, в твоем сне?
Алина вздохнула и, опустив глаза, сказала:
— Если я вам расскажу, то вы отправите меня в психушку.
— Не отправлю. Я и есть та самая психбольница, которую ты боишься, — мягко улыбнулась Мария Давидовна, — я знаю, как темны и бездонны глубины человеческого сознания. То, что ты не увидела глазами, ты могла заметить своим сознанием. Поэтому, говори, я внимательно тебя слушаю. Мне очень интересно всё, что с тобой произошло, не важно — спала ты или бодрствовала.
24
Я думаю о том, что мне пора возвращаться в город. Прошло достаточно много времени. Конечно, кому следует, меня не забыли, и если я вдруг окажусь в поле зрения, то на меня снова устроят охоту. Но это не главное, — кто-то пользуется моим именем и моими ритуалами. И мне это не нравится.
Мы с Лидой закапываем могилу. Семен, почти сразу после того, как мы опустили гроб в могилу, почувствовал сильные боли в животе и убежал в лес, бросив лопату. Лида, пробормотав вслед что-то про его мать, подняла инструмент и стала мне помогать.
Простые движения. Поднимаешь лопату с землей и бросаешь вниз. Глухой звук от удара земли по гробу. И новая порция песка и очередное мышечное усилие. В этом есть что-то успокаивающее. Процесс закапывания мертвого человека становится ритуальным действием и утрачивает ту эмоциональную окраску, когда ощущение непоправимой потери уходит на второй план. Вот и Лида уже не плачет. Она просто работает, закапывая яму.
Простой крестьянский труд — перелопачивание земли.
Мне надо вернуться и понять, что происходит. Вряд ли я что-то смогу изменить, но хотя бы попытаться очистить своё имя.
Потому что я не насильник и не бессмысленный маньяк-убийца.
Так я думаю.
И продолжаю работать.
Мы практически заканчиваем, когда Семен возвращается из леса.
— Живот так сильно прихватило, что я не смог терпеть, — оправдывается он.
Лида молчит, словно не замечая его. Я прихлопываю землю лопатой, чтобы холмик выглядел красиво, и только потом говорю, обращаясь к Семену:
— Поправь крест, а то он стоит неровно.
Семен выполняет мою просьбу, и я утрамбовываю лопатой землю вокруг временного креста. Лида говорила, что в следующем году обязательно поставит на могилку памятник, но я понимаю, что этого не будет. Лет через пять сгнивший крест упадет, могила Ивана зарастет травой и останется без каких-либо обозначений, став еще одним осколком человеческой памяти.
Разбитое зеркало чаще всего не склеивают, а просто выкидывают осколки, стараясь не замечать своё отражение в рваном зеркальном стекле.
Я смотрю на фигуру Лиды, которая сидит на краю могилы и тоскливо смотрит на землю. Потом я смотрю на Семена. Почему-то на мгновение мне показалось, что я вижу их в последний раз. Интуиция редко меня подводит, поэтому я смотрю на тех людей, с которыми провел полгода жизни, с легкой грустью. Какими бы они не были, какой бы образ жизни не вели, мне они нравились своей простотой и наивностью взрослых людей, которые с детской непосредственностью не замечают, что жизнь проходит мимо.
Люди входят в нашу жизнь и выходят из неё с таким постоянством, что порой кажется, что жизнь — это постоялый двор, где нет места долгосрочным эмоциям. А только бесконечная суета и хаос бессмысленного движения. Промежуточная станция, на которой задерживаются, чтобы перекусить, или остаются на ночь, или просто меняют коней, чтобы ехать дальше. Приехал, отдохнул и — дальше в путь. Никто никогда надолго не задерживается на этом постоялом дворе, имя которому жизнь.
Семен хочет вернуться к Лиде, чтобы снова пить самогон, но она говорит, что теперь только на девятый день она сделает стол. Лида уходит одна, и, глядя ей вслед, Семен недовольно бормочет о том, что из-за этой бабы он не может нормально помянуть друга.
Я никак не реагирую на его слова. Я просто ухожу. Мне надо собраться и сегодня же уйти из деревни. Не знаю, что меня ждет впереди, но здесь мне больше делать нечего. Этот год, который я провел в относительно спокойствии, позволил мне выиграть время. Возможно, мне нельзя возвращаться, потому что меня ждут. Возможно, я быстро попаду в руки правосудия, и мне не удастся легко убежать.
Возможно всё.
Но я почему-то уверен, что у меня получится.
Это не для меня — прятаться и бояться. Сколько не зарывайся в нору, рано или поздно меня найдут. Лучше я выйду из тени на свет.
Я иду в деревню.
Монотонным речитативом я шепчу своё имя.
Пусть на короткое мгновение, но я становлюсь самим собой.
Каждый из нас однажды должен вернуться на тот путь, который выведет его к свету.
И даже если нет рядом той, что возьмет тебя за руку, это вовсе не повод бояться и неподвижно созерцать мрак.
Я понимаю, что спокойная неторопливая жизнь в деревне закончилась.
Я возвращаюсь домой.
25
Женщина с округлыми формами, обтянутыми джинами и футболкой, закрыла остановочный ларек и сложила ключ в сумочку. По трассе на большой скорости проносились редкие автомобили. Сплюнув, она достала сигарету и закурила. Огонек зажигалки осветил одутловатое лицо с короткими волосами, пористой кожей и вечно недовольным выражением глаз. Еще один гребаный день позади. Завтра выходной день, и только это еще оставляет какое-то приятное чувство в сознании. Плюнув еще раз в сторону ненавистного ларька, где работала, она пошла домой.
Полночь. Хаотично расставленные пятиэтажные хрущевки с редкими прямоугольниками горящих светом окон, небольшие темные дворы между ними, заставленные впритык автомобилями, заваленные мусором контейнеры, заросшие акацией и диким шиповником — это путь домой. Такая привычная дорога и такая же ненавистная, как и работа.
Елена Северницкая шагала домой, не глядя по сторонам — на что смотреть-то, вокруг одно и то же, гребаная родина — и не замечая большой круглой луны над головой. Она прокручивала в голове события сегодняшнего дня, бормоча под нос «хреновая дорога — хреновая работа».
Началось всё с раннего утра. Какой-то пьяница забрел в ларек и потребовал пиво. «Хайнекен, две бутылки давай, мать-перемать». Здесь на краю города этой марки хмельного напитка отродясь не было — нахрена местным алкоголикам такое дорогой сорт пива. Она предложила пьянчуге другое пиво. «Рифей или Охота устоит?» Тот вдруг страшно разозлился и со всей дури ударил лбом по оргстеклу, закрывающему её от покупателей. Оргстекло, конечно, не пострадало, а вот пьяница разбил лоб, оставив красные пятна на стекле. Через две минуты после вызова подъехала патрульная машина и увезла алкоголика, а ей пришлось оттирать кровь со стекла.
Затем через час парень купил батончик Сникерс и, при попытке откусить тут же у кассы, сломал зуб. Она же не виновата, что эта партия шоколадных батончиков лежит в ларке три месяца — зачем привозить свежий товар, если этот еще не продан. Парень долго и нудно возмущался, требовал деньги обратно, но она ему сначала сказала всё, что думает про него и про его маму, а потом послала далеко, показав птичку из среднего пальца. Не сразу, но парень понял. Правда, настроение после этого события испортилось совсем. Поэтому когда через два часа в ларек зашла какая-то хорошо одетая лахудра и захотела купить дорогие сигареты — «Муратти, пожалуйста» — Лена, с удовольствием глядя в красивые глаза, сказала — «Щас, только пониже нагнусь и ноги раздвину». Затем, заметив недоумение в её глазах, добавила с ухмылкой — «Может, Беломора пачку». Это событие ненадолго подняло настроение. Она со смехом смотрела, как лахудра с возмущенным лицом садится в дорогую иномарку, и подумала, как было бы классно, если бы эта тачка сейчас со всего маху врезалась бы в столб. Чтобы много шума и окровавленные трупы в разбитой машине. Вот бы она посмеялась.
Весь оставшийся рабочий день прошел тупо и бессмысленно. Редкие покупатели, стоящая на месте минутная стрелка на часах. Она смотрела в сканворд и никак не могла придумать слова. Ни по горизонтали, ни по вертикали.
Уже когда стемнело, зашел молодой невысокий мужчина, и задумчиво посмотрев на неё, попросил шоколадку. Она заметила в его глазах что-то странное и необычное, и это что-то неожиданно взволновало её. Суетливо вытащив шоколад из коробки, она протянула товар покупателю, взяла сторублевку и сдала сдачу. Мужчина посмотрел на шоколадку, и, протянув её обратно в окошечко, сказал — «Это мой подарок вам, возьмите, пожалуйста». Оторопев от неожиданности, она механически взяла плитку шоколада. Мужчина с тем же задумчивым лицом повернулся и вышел из ларька. Когда она пришла в себя и выскочила из ларька, никого уже не было. Странный и необычный мужчина исчез. Топнув со злости ногой — в первую очередь на себя, как она могла так бездарно и глупо повести себя с таким необычным и интересным покупателем — она вернулась в ларек, открыла шоколадку, шурша фольгой, и впилась зубами в плитку. Передний зуб — второй слева — раскололся пополам. Она взвыла, сначала от боли, а потом от обиды. Она ведь знала, что этот шоколад старше Сникерса. Дура, набитая опилками дура!
Она бросила окурок, проследив глазами, как тот, прочертив огонек в темноте, падает в траву. А когда снова вернулась взглядом вперед, увидела прямо перед собой темную фигуру, слегка освещенную далеким светом одинокого фонаря.
«Что ж, дерьмовый день и заканчивается дерьмово», — подумала она, остановившись. Затем сделала шаг назад. Она прекрасно знала про маньяка — средства массовой информации говорили и писали о нем постоянно.
Фигура тоже сделала шаг.
Елена Северницкая, двадцать семь лет от роду, восемьдесят девять килограмм при росте метр шестьдесят два, сплюнув сквозь новую расщелину в передних зубах, подумала, что если она побежит, то у неё не будет ни одного шанса. Если будет стоять, то это тоже ничем хорошим не закончиться. Поэтому она решительно шагнула вперед, и, замахнувшись сумкой, крикнула что есть сил:
— Ну, давай, ублюдок, попробуй-ка напасть на меня. Я тебя размажу прямо здесь по асфальту. Я порву тебя, скотина, на куски.
Её крик в тишине двора разнесся скачущим эхо. Она хотела крикнуть снова, надеясь напугать противника тем, что шум привлечет людей, но фигура метнулась вперед. Она махнула рукой с сумкой, но промахнулась — сумка отлетела в сторону. И за секунду до страшной и резкой боли в груди Елена увидела страшный волчий оскал. Прямо перед своим лицом.
Умирая, она наконец-то увидела круглый диск луны на небе, и в сознании скользнула мысль, что в полнолуние оборотни выходят на охоту. И об этом она тоже слышала, но никогда не верила.
В тишине забытого Богом и людьми двора — ни одно окно в окружающих пятиэтажках не открылось, ни в одном не зажегся свет, ни малейшего движения в этом подлунном мире — приземистая фигура склонилась над телом и медленно оттащила в сторону ближе к кустам акации.
В самой дальней пятиэтажке открылась дверь и из подъезда выскочила черная тень. Беззвучно и быстро она помчалась прямо к кустам акации, промелькнув под фонарем большой черной овчаркой.
26
Майор Вилентьев приехал на место преступления через пятнадцать минут после звонка. Он стоял и смотрел на работу эксперта. С трех сторон фары милицейских машин освещали кусок заросшей травой земли. Поникшие кусты акации грустно нависали над обнаженным женским телом. Рядом и немного в стороне лежала черная овчарка с распоротым брюхом.
Киноцефал снова прокололся. Да, он убил жертву. И даже все приготовил для насилия. Но затем появилась овчарка по имени Аманда.
Грустный хозяин собаки только что в десятый раз рассказал ему, что Аманда вдруг заметалась по квартире, требуя выпустить её. Он оделся, взял фонарик, открыл дверь и, выпустив собаку, вышел из квартиры.
— Она у меня послушная. И умная. Просто так не гавкает. На людей никогда не нападает. А тут я вышел во двор следом за ней и слышу крик и глухое рычание. Бросился на звук, а уже поздно. Аманда мертвая лежит, и никого нет. Труп женщины я не сразу заметил. А как увидел, сразу позвонил в милицию.
— Совсем ничего не заметили? — на всякий случай, уточнил майор.
— Нет. Темно ведь у нас во дворе. Всего один фонарь горит, да и тот достаточно далеко отсюда. А мой фонарик маломощный, только под ноги светить, чтобы не споткнуться, и всё.
Оставив хозяина собаки, Иван Викторович пошел к эксперту, который осматривал труп собаки. Умный молодой парень, который работал у них четыре года, и мнение которого Вилентьев уважал.
— Ну, Артем, как тут? Есть что-то интересное?
— Да. У пса в пасти что-то есть, но сейчас пока не скажу, что конкретно. Думаю, что собака успела укусить его.
— А с женщиной что?
— Полагаю, что убийца встретил её на тротуаре. Она попыталась обороняться — метрах в трех валяется женская сумка. Убийца увернулся и ударил ножом слева сбоку, а потом еще в грудь. В область сердца. Женщина умерла почти сразу. Убийца срезал на ней одежду. И, скорее всего, именно в этот момент на него напала собака. Нет следов изнасилования, глазные яблоки на месте. Кстати, на теле жертвы есть капли крови, может быть, не её. Или собаки, или убийцы. В лаборатории посмотрим.
— Хорошо. Артем, сделай сегодня.
— Так ведь ночь уже, Иван Викторович! Два часа. Когда я успею?!
— Артем, — повысил голос майор, — пожалуйста. Очень тебя прошу.
— Ладно, ладно, — вздохнул парень обреченно, — сделаю.
Иван Викторович отошел в сторону и задумался. Если сегодня ничего не решится в плане поимки преступника, то завтра сюда приедут следователи из центра. Его отодвинут в сторону, и — не видать ему следующего звания и новой должности еще лет пять.
— Иван Викторович, — услышал он голос и повернулся. Коля, один из оперативников, подошел и сказал:
— Свидетелей нашли.
— Что, даже не одного? — удивился майор.
— Да, мужик на балконе второго этажа вон в том доме курил и видел, как убегал человек в черном облегающем костюме. Говорит, сильно прихрамывал. И там уже на дороге парень въехал боком в остановочный комплекс, хорошо хоть, там никого не было. Говорит, что прямо перед ним на проезжую часть выскочил человек в черной одежде, и чтобы не сбить его, ему пришлось резко тормозить, вот его и занесло. И тоже говорит, что бегущий человек сильно хромал. На правую ногу.
— Очень хорошо. Ну, теперь, думаю, найдем этого урода. Надо оповестить все больницы. Пусть сообщают обо всех укушенных и травмированных. Я в управление, и займусь этим. А ты запиши данные свидетелей и завтра же с утра их ко мне.
И уже в машине он взял телефон и набрал номер.
Мария Давидовна не спала. Разговор с Алиной выбил её из привычной колеи. Она сидела за столом и снова и снова проговаривала свои аргументы в пользу того, что у девушки сработала интуиция и подсознание, и сама же начинала сомневаться в том, что она права. А вдруг у девушки и в самом деле постнаркозные галлюцинации. Это вполне реально. Почему же она так уверена, что у преступника рубец на щеке?
Услышав мелодию «Наша служба и опасна и трудна…», она вздрогнула и торопливо взяла телефон.
— Извините, что разбудил.
— Я не спала.
— Киноцефал снова убил.
— Когда?
— Пару часов назад. И в этот раз он сильно прокололся. Какой-то собачник выпустил овчарку погулять, и та напала на убийцу. Собака погибла, но успела покусать нашего Киноцефала. Двое свидетелей видели, как он убегал, прихрамывая на правую ногу.
Мария Давидовна молчала, обдумывая новую информацию.
— Я что звоню, Мария Давидовна, как вы думайте, будет ли Киноцефал обращаться за медицинской помощью? Если он и правда имеет медицинское образование, то может он сам сможет справиться с ранениями?
— Может, и сам справится, но это довольно сложно. Собачьи укусы — это не просто травмы, порезы или даже рваные раны. Там нужна профилактика от бешенства и столбняка, а эти вакцины есть только у скорой помощи, в травмпунктах и приемных отделениях стационаров. Далее, во рту у собаки полно инфекции, и такие раны, если их неправильно лечить, быстро нагнаиваются. Вплоть до флегмоны.
— Чего, чего? Флегмо — что?
— Неважно, Иван Викторович, поймите главное. В любом случае, если не сразу, то через какое-то время ему нужна будет помощь. Если у него есть связи в медицинских кругах, то он может обратиться за помощью не больницу, а к своим знакомым врачам, или в частные медицинские структуры.
— Спасибо, Мария Давидовна, я понял. Сейчас подниму на уши всю нашу городскую и областную медицину.
Услышав гудки, она положила трубку на стол и задумчиво посмотрела в темное окно. Похоже, что скоро Киноцефал будет пойман. Самое смешное в том, что собака стала причиной поимки Киноцефала. Всё идет к тому, что преступника скоро поймают. И Мария Давидовна внезапно подумала, что боится того, что узнает от убийцы.
Она глубоко вздохнула, и медленно выдохнула, зафиксировав своё сознание на паузе между вдохом и выдохом. Повторив это упражнение десять раз, она решила, что бесполезно думать о том, что будет.
Надо жить настоящим.
И принимать правду такой, какая она есть.
27
В городе за время моего отсутствия ничего не изменилось. Я еду в троллейбусе и смотрю по сторонам, словно на экскурсии. Я, как турист, созерцаю город, в котором родился и вырос. Город, в котором я стал Парашистаем. Где нашел себя, выйдя к свету далеких фонарей, ведомый за руку Богиней.
На проспекте строят новый дом, который будет очередным помпезным торговым центром. Треснувший бугристый асфальт рабочие со среднеазиатскими лицами меняют на тротуарную плитку. По липовой аллее гуляет молодежь, на лавках сидят парни и пьют пиво, глядя на группы девушек, которые курят сигареты.
Да, практически никаких серьезных изменений, но я чувствую себя здесь чужим. Что-то ушло, и, наверное, навсегда. Мне кажется, что это место никогда не станет родным, словно родина прокляла меня.
Город отказался от своего сына.
Ко мне подошла кондуктор. Взяв деньги и оторвав билетик, она отдала его мне. Я смотрю на цифры — три первых в сумме равны трем другим. И сумма эта — тринадцать. Счастливый билетик. Почему-то я рад, словно этот пустяк, действительно, принесет мне счастье. И пусть будет всего лишь удача, — я и этому буду рад.
В троллейбусе, кроме кондуктора и меня, еще десять человек. Я снова складываю цифры в уме — получилось двенадцать. Сидящий за рулем водитель — тринадцатый человек в салоне автобуса. Замечательно. Еще одно совпадение. Я улыбаюсь окружающему миру, словно у меня в кармане лотерейный билет с большим выигрышем.
Я рад тому, что вернулся домой.
На очередной остановке в троллейбус вошел молодой парень, нарушив цифровую гармонию. Он сел напротив меня и расплатился с кондуктором. На голове у него наушники, а в глазах — ритмичная пустота. Я смотрю на других людей. Три женщины оживленно о чем-то говорили, перебивая друг друга. Подросток справа от меня спал, смешно опустив голову. Казалось, что тонкая шея сейчас сломается и голова отпадет. Мужчина средних лет равнодушно смотрел в окно. Две девушки сзади обсуждали недавно прошедший в кинотеатрах фильм. И если одна восторгалась, то другая всего лишь вежливо поддакивала подруге. Еще один пассажир автобуса — молодой мужчина в серой водолазке сосредоточенно читал толстую книгу.
Это хорошо, что ничего не меняется. И пусть я чувствую себя здесь чужим. Я уверен, что это временно. Мне надо стать своим, и для этого необходимо влиться в этот ритм жизни. Еще один маленькой винтик в хорошо смазанном и слаженно работающем механизме города. Еще одна тень, незримо присутствующая в этом месте и в это время. Еще один представитель человеческого стада, бегущего в пропасть. Сделать это достаточно просто. Надо найти работу и стать полноценным членом общества. В центре города это невозможно, и опасно, особенно для меня. А вот на окраине города, в рабочих районах, вполне возможно.
Именно туда я сейчас еду.
Небольшая муниципальная поликлиника рядом с крупным промышленным предприятием города. Раньше она была медико-санитарной частью при этом заводе, а потом, когда советская страна развалилась, завод отдал лечебное учреждение городу. И теперь это обычная маленькая поликлиника, где я смогу стать самим собой.
Я знаю, что год назад у поликлиники не хватало терапевтов, и главный врач приглашал молодых специалистов. Если ничего не изменилось, то, значит, я смогу влиться в общество и стать его активным членом.
Кроме того, недалеко от этой поликлиники находится общежитие, в котором я купил комнату. Купил давно, в другой жизни. Тогда я думал, что это будет мой запасной аэродром. И не ошибся. Интуиция меня не подвела. А точнее, мой дар предвиденья сделал то, что тогда нужно было сделать. Там в прошлой жизни я рисовал для себя совсем другое будущее, а интуиция и предчувствие делали своё дело, обеспечивая моё теперешнее настоящее.
Мне хочется смеяться, но я смотрю в окно и вижу в стекле своё отражение. Аккуратно подстриженные волосы средней длины, ровная бородка, очки на глазах. Снаружи я изменился, но внутри я все тот же Парашистай. Тот, кто хорошо меня знает, сможет меня узнать. Но таких людей мало — у меня нет близких родственников, хороших друзей и просто приятелей. Теоретически я могу столкнуться с бывшими сотрудниками областной больницы, но вероятность этого настолько мала, что даже не стоит беспокоиться по этому поводу.
Я возвращаюсь к врачеванию. Странное ощущение — я думаю о том, что снова буду помогать людям. Помогать жить и умирать. Приятное чувство в пальцах. У меня есть дар, который я уже давно не использую по назначению.
Мои руки умеют лечить.
И они могут убивать.
Что первично, а что вторично, я и сам не до конца понимаю. Но это не важно. Главное то, что я снова стану тем, кем всё это время был.
Доктор Михаил Борисович Ахтин.
Я еду в троллейбусе мимо промышленных корпусов одного из огромных заводов, находящихся на окраине города.
Я возвращаюсь домой.
И это меня радует.
Так же, как меня радует маленький бумажный клочок с цифрами в руке. Мне нравится цифра тринадцать.
Наверное, это и есть счастье — снова стать самим собой.
28
Иван Викторович в сотый раз потер глаза. Остаток этой ночи он совсем не спал, и, хотя он чувствовал, что Киноцефал где-то рядом, что вот-вот он ухватит ту ниточку, которая приведет его к нему, майор усердно боролся со сном. Именно сейчас он должен быть везде и сам должен увидеть след, оставленный Киноцефалом.
— Ну, что интересного, Марина Владиславовна? — спросил он, глядя на закрытое простыней тело на секционном столе.
— Ничего, — пожала плечами патологоанатом, равнодушно продолжив говорить, — два ножевых ранения, от которых она умерла. Первое — слева с ранением селезенки и массивным кровотечением в брюшную полость. Второе — в область сердца с повреждением перикарда и левого желудочка. Изнасилования не было, глаза на месте, удара тяжелым предметом по голове нет.
— Ну, это я и на месте преступления знал, — недовольно сказал майор, — мне бы какие-нибудь нюансы.
— Нюансы поют романсы, — хмыкнула Марина Владиславовна.
Иван Викторович отвернулся, мысленно послав «Шапокляк» так далеко, как у него хватило фантазии. И увидел, что инструменты после вскрытия моет какая-то девушка. Неожиданно для себя он спросил:
— А где у вас санитар, как его там, всё время забываю его имя?
— Максим. Заболел. Позвонил утром и пробубнил в трубку, что у него температура, кашель и насморк.
— Сейчас? Летом?
— Ну, а почему нет. В самую жару так хорошо отхлебнуть ледяного пивка из холодильника! — сказала Марина Владиславовна, с удовольствием поцокав языком. — А потом и горло заболит.
Она продолжала говорить что-то еще, но майор её не слушал. В голове щелкнуло, и он, боясь спугнуть удачу, замер, мысленно проговаривая по пунктам психологический портрет Киноцефала, нарисованный доктором-психиатром, и примеряя его к санитару Максиму.
«Первое — все жертвы Парашистая прошли через этот секционный зал, и он прекрасно знает, что он делал с убитыми.
Второе — этот Максим невысокого роста, я сам видел, что он с трудом дотягивался до банки с раствором в том шкафу.
Третье — нелюдимый, малоразговорчивый парень. Слова лишнего из него не вытянешь. Вряд ли у него много друзей.
Четвертое, и, наверное, главное — он знает, как удалить внутренние органы из брюшной полости одним конгломератом, сейчас не вспомню слово, которое говорила Мария, описывая эту манипуляцию. И думаю, он сможет сделать это и в темноте. Точно, вспомнил — эвисцерация».
— Иван Викторович, вы меня слышите!?
Майор посмотрел на патологоанатома так, словно видит её в первый раз, а потом спросил:
— Где этот ваш Максим живет?
— Не знаю.
— Как не знаете?
— Иван Викторович, вы что, думаете, что я сплю с ним?! — возмущенно сказала Марина Владиславовна. — Я совсем не обязана знать, где и с кем мой санитар живет. Это его личное дело.
— Где можно узнать его местожительство? — твердым голосом спросил майор, сжав кулаки.
— Зайдите в лаборантскую, у Ниночки в компьютере есть все данные на наших сотрудников.
Майор Вилентьев вышел из здания морга, словно вынырнул из холодных речных вод в жаркий туман хорошо протопленной бани. Всего лишь полдень, а уже жарко. Он вытащил телефон, набрал номер и, услышав ответ, сказал:
— Мария Давидовна, здравствуйте, я могу прямо сейчас встретиться с вами. Да, срочно. Я здесь, на территории больницы. Да, вижу желтое здание. Хорошо, я подойду к центральному входу и подожду вас. Спасибо.
Мнение профессионала ему сейчас очень нужно.
Он сидел на скамейке перед входом в желтое здание и, глядя прямо перед собой, прокручивал в голове все те моменты, когда он встречался с Максимом в секционном зале, и когда говорил с ним. Редкие встречи и очень мало сказанных слов. Зацепиться не за что, но и версия очень уж хороша.
— Я слушаю вас, Иван Викторович.
Майор, поняв, что рядом сидит доктор Гринберг, снова поздоровался и сказал:
— Я, кажется, знаю, кто прячется под маской собаки. Даже не так, — я практически уверен, кто такой Киноцефал. Ваш психологический портрет идеально укладывается в этого человека.
— Вы его уже поймали? — спросила Мария Давидовна.
— Нет. Я вам сейчас выскажу свои подозрения, а вы скажете, прав я или нет. И вот тогда я поеду на задержание.
— Хорошо.
Иван Викторович стал быстро говорить, загибая пальцы на каждый пункт его умозаключений, а женщина в белом халате внимательно его слушала. И когда он закончил, она задумчиво сказала:
— Максим? Никогда бы не подумала, но — я согласна с вами, что очень уж подозрительно, что он вдруг внезапно заболел. Особенно учитывая все ваши доводы и умозаключения.
— То есть, вы согласны, что это он?
— Может быть. Исключить то, что Максим убийца я не могу.
— Ладно. Тогда надо его брать. До свидания, Мария Давидовна.
Майор Вилентьев вскочил и быстро пошел на автостоянку.
— Иван Викторович, — крикнула доктор ему вслед, и когда увидела, что он повернулся к ней, добавила, — а вы молодец, отлично сработали!
Майор довольно улыбнулся, ударил себя кулаком в грудь и поднял два пальца вверх, изобразив букву «V».
Он уже ушел, а Мария Давидовна продолжала улыбаться. Ничего не меняется в этом мире. Мужчина — это большой ребенок, похвали его, и он будет счастлив. Дай ему знать, что ты считаешь его лучшим из лучших, и он горы свернет. Наверное, это хорошо. Потому что если ребенка не хвалить и не поощрять, то ему не зачем становиться лучшим. Если это делать не для кого, то он и не станет сворачивать горы.
Мария Давидовна вспомнила санитара Максима, которого видела всего два раза. Она не любила секционный зал, и без особой надобности близко к нему не подходила. За всю лечебную деятельность только два раза умирали её пациенты. Лет шесть назад мужчина тридцати восьми лет с шизофренией от инфаркта миокарда, и два года назад женщина с маниакально-депрессивным психозом от разрыва аневризмы аорты. Оба раза ей пришлось присутствовать на вскрытии, и именно тогда она видела санитара Максима, который помогал патологоанатому. Обе эти встречи никак не отразились в её памяти. Собственно, она с трудом могла вспомнить лицо Максима. Обычно санитаров в морге никто не замечает, словно эти люди не существуют. Или существуют, как придаток к потусторонней жизни.
И, может быть, то, что она его не помнит, — это к лучшему.
29
Жизнь — это бессмысленный бег по кругу. Зачем она обманывает себя, пытаясь найти смысл в окружающей действительности? Для чего она ежедневно приходит на работу и ведет бессмысленные разговоры с больными людьми, пытаясь что-то найти в мозгах? Что её держит здесь? Никакой аутотренинг не поможет, когда ты знаешь, что жизнь прошла, и отражение в зеркале не хочется видеть.
Мария Давидовна, держа в руках розу, подаренную сотрудником кафедры, медленно шла по улице и думала. О своей жизни и работе. О прошлом и настоящем. О будущем, которое может и не прийти, как не приходит единственный человек, который ей нужен. Она не замечала на березах и липах темную зелень листвы, на кустах шиповника незрелые ягоды, не слышала веселое чириканье воробьев. Она любила это время, но сейчас словно забыла об этом. Она выглядела, как заезженная и усталая женщина, на лице которой разочарование застыло легкими морщинками под глазами. Бледные губы с опущенными уголками, словно грустная маска, скрывающая обреченность. Темно-красные лепестки розы сильно контрастировали с её внешним видом, придавая её облику странную и притягательную загадочность. Но Мария Давидовна не замечала взгляды проходящих мимо мужчин.
Погруженная в свои мысли женщина шла по центральной улице города.
Сколько можно жить мечтой, которая недостижима?
Как долго можно хотеть летать, когда наверняка знаешь, что твои крылья подрезаны?
Стоит ли рисовать прекрасные картины на рваном холсте?
Мария Давидовна устала думать о Михаиле Борисовиче Ахтине. Ей так хотелось забыть про него. Стереть из памяти образ, который она сама слепила. И который теперь уже практически ненавидела.
Или ей так казалось.
Или так хотелось думать.
— Сколько можно жить прошлым? — сказала она, и по тому, как на неё посмотрела встречная женщина, поняла, что высказала свою мысль достаточно громко.
Она улыбнулась. Наверное, именно так люди и сходят с ума. Ей ли не знать об этом. Она посмотрела вокруг — кто еще заметил, что она ведет себя не совсем адекватно?
В этот теплый августовский вечер на проспекте было много людей. Обнявшиеся парочки неспешно гуляли. Кто-то шел из магазина, неся кульки с продуктами. Группа молодых людей у киоска общались под пиво и громко смеялись.
В арку ближайшего дома заходил высокий мужчина, и Мария Давидовна вдруг поняла, что знает эту походку. Внутри внезапно всё оборвалось. Эту фигуру она узнает в любое время дня, даже вечером, в сумерках. Она резко ускорилась, почти побежала, по-прежнему пристально глядя на то, как человек входит в арку. И когда он там исчез, она всё-таки побежала, расталкивая встречных людей и автоматически извиняясь.
Заскочив в арку, она никого не увидела и быстро пробежала через темное пространство. Во дворе дома тоже никого не было. Пара припаркованных автомобилей, женщина, выгуливающая собаку, и — всё. Мария Давидовна глубоко вдохнула и медленно выдохнула. И снова прокрутила в памяти то, что видела.
Да, она нисколько не сомневалась, что видела, как доктор Ахтин входил в арку. Она снова огляделась, и подумала о том, что возможны два варианта.
Или она действительно видела его и просто не успела догнать. Он мог войти в ближайший подъезд.
Или ей показалось. Она увидела то, что хотела увидеть. Попросту — сознание сыграло с ней злую шутку, показав мираж. И это еще один кирпичик в здание диагноза, который уже можно четко сформулировать.
Мария Давидовна задумчиво посмотрела на цветок и, решительно воткнув его в крепление, держащее водосток с крыши, пошла домой быстрым шагом.
30
Я смотрю на цветок. Толстый шипастый ствол. Темно-красные лепестки. Протянув руку, я беру его. Подношу к носу и вдыхаю аромат. Я только что чуть не попался. Хорошо, что я заметил женщину раньше, чем она меня. Проскочив арку, я успел спрятаться, и из своего укрытия смотрел на Марию Давидовну.
Про неё я не подумал. Наивно полагал, что меня никто не узнает. Шел по центральной улице, наслаждаясь своим возвращением. Что же, впредь мне наука. Надо быть осторожнее.
Но только не сейчас.
Я держу в руке цветок. И понимаю, что я нужен доктору Гринберг.
И это понимание приходит само. Я просто вижу, что случится дальше. Знание, в которое трудно поверить, даже мне. Обычно мне нужно прикосновение к человеку, чтобы знать, что будет. Такое со мной впервые — я сжимаю пальцами цветок, который держала в руке Мария Давидовна, и вижу близкое будущее.
Лай собаки выводит меня из задумчивости. Я смотрю на молодого ротвейлера, который гоняется за голубем. Посмотрев на темнеющее небо, я быстрым шагом иду в ту же сторону, куда ушла женщина, оставившая цветок, и который сейчас со мной.
Человек очень часто делает что-то непроизвольно. Действие кажется бессмысленным и ненужным, что за ним последует, неизвестно, да и просто, человек даже не замечает того, что он сделал. В такие моменты работает интуиция. Мария Давидовна оставила цветок в эмоциональном порыве, бессознательно, но интуитивно она хотела дать мне знак. Она хотела сказать мне, что я ей нужен. Рациональной частью сознания она решила, что ошиблась, когда побежала за мной в арку. Но каким-то внутренним чутьем она оставила для меня знак.
И я нужен ей даже больше, чем кажется.
Я смотрю на свет в окне. Она дома, и, устроившись на дальней лавочке, я готовлюсь ждать. Теплая августовская ночь, тишина и бессонница — практически идеальные условия для меня.
И моих мыслей.
Слова нужны людям и теням. Общение, как образ жизни, когда произнесенные вслух слова принимаются на веру. Когда, глядя глаза в глаза, учишься понимать и принимать. Врешь сам и не веришь лжи собеседника. Фальшиво улыбаешься и угодливо смеёшься над шуткой. Серьезно слушаешь бред. Соглашаешься с явной глупостью. И киваешь тупому ублюдку.
Это называется жизнь в обществе себе подобных.
И в этом странном и безумном движении нет никакой логики — зачем человеку это общение, если знаешь, что высокопоставленное лицо на экране телевизора говорит одно, а думает другое. Если предполагаешь, что даже брат предаст в тот момент, когда ты этого не ждешь. Если думаешь, что твою искреннюю молитву Бог услышит только тогда, когда ты принесешь деньги в церковь.
Я смотрю на окна многоквартирного дома. Люди сейчас сидят у телевизоров и мониторов, пережевывая однотипную и безвкусную визуальную жвачку. Смеются над однообразными шутками. Со страхом слушают новости из горячих точек. Человеку нужны зрелища. Сытый, в тепле и за железной дверью своей крепости, он со странным удовольствием смотрит на то, как люди убивают друг друга в голливудском боевике. Человек говорит о том, как это ужасно, как мерзко и богопротивно, но смотрит, не отрываясь, на кровавое месиво тел. И обычная человеческая мысль — хорошо, что это не я — объединяет стадо в едином порыве.
По-прежнему тупо и безумно ползти вперед, оставляя за собой кровавые жертвы. И не осознавая, что плечо идущего рядом, не поддержит тебя, когда ты будешь истекать кровью.
31
— Итак, Максим Лобанов, тридцать один год, не женат, в армии служил, никогда не привлекался, сейчас живет один, родители умерли, с двадцати одного года работает санитаром в морге, поступал в медицинский институт, но бросил учебу на втором курсе, — майор Вилентьев сидел в микроавтобусе и короткими фразами знакомил бойцов спецназа с подозреваемым. Командир и трое бойцов невозмутимо сидели, словно майор говорил не для них, но Вилентьев прекрасно знал, что каждое его слово находит слушателей. Эксперт деловито копошился в своем чемоданчике, и тоже внимательно слушал.
— Предположительно, он и есть убийца. Умеет обращаться с ножом. На жертв нападал ночью, значит, хорошо ориентируется в темноте. Ранен, — укус овчарки за бедро, за помощью не обращался. Живет на последнем этаже в пятиэтажке. Квартира однокомнатная, номер восемнадцать. Желательно взять живым.
Командир кивнул, и майор махнул рукой водителю — поехали.
Иван Викторович чувствовал приятное возбуждение и изредка по спине пробегал легкий холодок. Если всё сложится хорошо, и его версия подтвердится, то это будет очень хорошо, и в первую очередь, для карьерного роста. И чувство опасности, от которого немного сводит живот — совсем недавно всего лишь год назад он так же поехал на задержание, и трое бойцов были ранены, причем, один из них так тяжело, что еле выкарабкался.
Обычная пятиэтажка. Три пожилые женщины у подъезда замерли в ужасе, когда мимо них пробежали бойцы в касках и с оружием. Взлетев на пятый этаж, командир знаками показал бойцам их места и, посмотрев на деревянную дверь с нужным номером, приложил ухо к ней, и замер.
Тихо.
Кивнув широкоплечему бойцу, командир показал на дверь — ломай. Тот, коротко разбежавшись, телом выбил преграду. За ним сразу же забежали бойцы, быстро рассредоточившись по комнатам.
Когда до пятого этажа добрался майор Вилентьев, пыль уже осела. Всего на площадке было три квартиры, но на шум, ни одна дверь не открылась, хотя наверняка дверные глазки не пустовали. Командир спецназовцев встретил его в дверном проеме и помотал головой — пусто. Иван Викторович выдохнул, словно только что затащил большой груз на пятый этаж, и вошел в квартиру.
В прихожей полка для обуви с парой кроссовок и тумбочка с телефоном. На стене вешалка с пустыми крючками. Тут же совмещенный санузел, из которого вышел боец и показал жестом, что всё чисто. Направо кухня, налево комната. Дверь на балкон закрыта на защелку. Все окна и форточки тоже наглухо закрыты. В квартире душно. Понюхав воздух, майор ничего не почувствовал — странно, но запахов здесь не было. В жилой квартире всегда есть запахи.
— Спасибо, капитан, — сказал Вилентьев командиру, — пусть твои парни скажут эксперту, чтобы шел сюда.
Он прошел в комнату. Слева продавленный диван у стены, напротив телевизор. Справа у окна пустой стол. Майор равнодушно скользнул взглядом по предметам обстановки, и посмотрел на подоконник. Одинокий кактус.
Почти пустая комната. Ничего интересного.
— Майор, — услышал он голос капитана, — иди сюда.
Вилентьев быстрым шагом пошел на кухню.
— Посмотри сюда, — сказал капитан, стоя у открытого холодильника.
Иван Викторович заглянул внутрь. И внезапно ему стало холодно.
В почти пустом холодильнике на средней полке стояла трехлитровая банка с прозрачной жидкостью. На дне лежали белые шарики небольшой величины, часть из которых смотрели на них темными зрачками. Майор автоматически пересчитал белые шары — шесть. И с трудом проглотил комок в горле.
— Это то, что я думаю? — спросил он капитана внезапно охрипшим голосом.
— Да. Это, действительно, наш парень.
Капитан отошел от холодильника и, приподняв рацию, висящую на груди, сказал:
— Второй, третий, четвертый. Доложить.
— Второй — у машины.
— Третий — на лестничной клетке. Чисто.
— Четвертый — на чердаке. Пока всё чисто.
— Будьте внимательны. Парень может быть где-то рядом.
Иван Викторович заворожено смотрел на банку в холодильнике и впервые подумал о том, насколько близко он подобрался к Киноцефалу.
Настолько близко, что внезапно снова появилась тянущая боль внизу живота. И слабость в коленях. Он вспомнил тот вечер, когда он стоял перед открытой дверью и боялся войти. Непроизвольно смахнув рукой капли пота со лба, майор Вилентьев подумал о том, что он так хочет сделать следующий карьерный шаг и больше никогда не выезжать на место преступления или в квартиру предполагаемого преступника.
Уже вечером Иван Викторович добрался до дома Марии Давидовны. Услышав звонок, она подошла к двери и посмотрела в глазок. Затем открыла замок и махнула рукой — проходите.
— Со щитом или на щите? — спросила она Вилентьева.
Когда полчаса назад майор позвонил и попросил разрешения приехать к ней домой, она уже по тону поняла, что ничего не вышло. Но прямо майор ничего не сказал, поэтому она и задала вопрос.
— Его не было дома, но мы нашли доказательства того, что это он убивал. Максим Лобанов и есть Киноцефал.
— Маску нашли?
— Нет. У него в холодильнике стояла трехлитровая банка с глазными яблоками жертв. Шесть штук, по две от трех жертв, — зачем-то уточнил Вилентьев.
— Трехлитровая? — удивилась Мария Давидовна. — Зачем так много?
— Наверное, он думал, что набьет её глазами доверху, — ухмыльнулся майор, — решил, что он неуловим. Но, теперь, когда мы знаем, кто убийца, его поимка всего лишь вопрос времени.
В его голосе появились нотки самодовольства и уверенности в себе. Это он просчитал преступника. Да, он не отрицает, что с помощью психологического портрета, нарисованного доктором Гринберг, но главные умозаключения сделаны им. И он не собирается преуменьшать свои заслуги.
— Ну, и что вы думаете, Мария Давидовна? — спросил майор.
Женщина подняла глаза на собеседника и ответила просьбой:
— Иван Викторович, пожалуйста, когда найдете Максима, не убивайте его при задержании.
Майор вздохнул и сжал губы:
— Не всё от меня зависит. Я, конечно, скажу ребятам, что его надо брать живым, но как сложится ситуация, я не знаю. Всё-таки он опасный убийца и неизвестно, как он поведет себя при задержании.
Он развел руки. И она кивнула.
— Да, конечно, я понимаю. Но вы постарайтесь.
Когда Вилентьев ушел, Мария Давидовна устало и как-то обреченно села на диван. Протянув руку, она вытащила из-под скатерти на столике карточку. Тоскливо посмотрев на фотографию доктора Ахтина, она сказала-спросила:
— Надеюсь, это не ты.
Не получив ответ, она вернула фото на место, откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Сделав глубокий вдох, она представила себе большой воздушный шар на пустом зеленом поле. Она складывает в корзину шара все свои предположения, тревоги, страхи и ужасы. Не задумываясь об их значимости или необходимости. Просто и быстро, пока не захотелось вернуть их себе обратно. Затем, когда корзина заполнена доверху, она отвязывает веревку и воздушный шар, медленно набирая высоту, исчезает в голубой бездне неба.
На этом воздушном шаре улетают всё её проблемы.
32
Она видит его. Пока со спины, но она наверняка уверена в том, что это он. Человек сидит на скамейке в парке. Поникшие плечи, ссутулившаяся спина. Наверняка, он так сидит давно, ожидая её. А она только сейчас поняла, как долго её ждут.
Она бежит. Что есть сил.
Она выкрикивает имя.
Но — спина неподвижна, словно человек не слышит крик. Словно он вообще ничего не слышит.
Когда устаешь ждать, перестаешь воспринимать окружающие шумы. Окружающая действительность замирает. Она знает это.
Расстояние до скамьи сокращается. Она уже видит седые пряди в коротких волосах. Пестрая рубашка с короткими рукавами.
Неожиданно силы оставляют её. Появляется слабость в ногах. Она уже не бежит, а медленно идет. Она заставляет себя переставлять ноги, словно к ним привязаны тяжелые гири. Протянув руку, как бы пытаясь дотянуться до него, и снова выкрикивая имя, будто звук может что-то изменить.
Безуспешно.
Время — натянутая и готовая порваться струна. Пространство — мягкая вата. Она барахтается в нем, глядя на звенящую от напряжения струну времени.
Она стремится успеть.
Она зовет, шепотом произнося имя.
И — неожиданно он поворачивается.
Словно слышит её тихий голос. Будто знает, что она рядом.
Встретив его взгляд, она забывает. Себя. Свое имя и кто она.
Она забывает, зачем бежала и что хотела.
Она просто видит его глаза, в которых находит ответ. И, тем не менее, все равно спрашивает:
— Почему я боюсь тебя? Люблю и боюсь? Так ведь нельзя — любить человека и бояться Бога, зная, что это одно и то же?! Я не могу спокойно жить. Я каждый день думаю о тебе. Я не хочу верить в то, что ты Бог, потому что тогда в моей жизни умирает любовь. Я не могу любить человека, в божественной сути которого почти уверена. Что мне делать? Скажи, как мне жить?
Мудрые глаза.
Худощавое лицо.
Края рта растягиваются в хищной улыбке.
На грани безумия она вопит раскалывающимся надвое сознанием, глядя в глаза, где зрачки меняют свой цвет и размер.
И — внезапно она ускользает из этой реальности.
Из безумия этого сна.
Тяжело дыша, Мария Давидовна сидела на диване и смотрела на свет торшера. Когда сознание немного прояснилось, она перевела взгляд на часы — полшестого утра. Она почувствовала, как к липкому от пота телу прилип халат. Скинув его, она пошла в ванную, и там, под прохладными струями воды, вдруг поняла, что именно сейчас надо идти в больницу. Она должна именно сейчас пойти на работу.
Да, именно сейчас. Пришло время, когда надо что-то делать. Нельзя просто сидеть и ждать. Надо разорвать вязкую вату будней. Надо идти, потому что он ждет её. Этот сон, как откровение, как призыв о помощи, как протянутая рука падающему в бездну.
Понимая иррациональность своих мыслей, Мария Давидовна, тем не менее, быстро вытерлась полотенцем и, выйдя из ванной, стала одеваться.
— Он ждет меня, а я здесь сижу, как дура, — говорит она, словно убеждая незримого собеседника.
Пусть она пока не знает, зачем это делает, но странное чувство — смесь страха, надвигающейся опасности, ошеломляющего счастья и желания жить — захлестнуло её, заставляя игнорировать голос рассудка, который как-то неуверенно говорил ей, что она поступает глупо. И очень рискованно.
Голос рассудка сказал:
— Куда ты? Сейчас еще ночь. Киноцефал все еще на свободе.
— Ерунда. Он ждет меня, а я здесь сижу, — отмахнулась Мария Давидовна.
Она, подхватив свою сумку, вышла из квартиры.
И быстро пошла на работу по дороге, которая стала уже настолько привычной, что она даже не смотрела под ноги в темноте.
Майор Вилентьев проснулся, услышав телефонный звонок, тихо пробормотал ругательство, посмотрел на часы и протянул руку к аппарату.
— Да.
— Говори уже.
— В такую рань? Куда?
— Иди за ней. Смотри в оба. И помни, что я говорил.
Иван Викторович нажал на кнопку и снова посмотрел на часы — без десяти минут шесть.
— Куда ты пошла? — спросил он тишину спальни.
Жена, которая даже не услышала звук телефонного звонка, неожиданно всхрапнула. Перевернувшись на бок, снова затихла.
Вилентьев тихо вылез из постели и вышел из комнаты, прихватив с собой телефон.
Что-то происходило, но что он пока понять не мог. И это заставило его забыть про сон. Одеваясь, он постоянно смотрел на телефонную трубку, но так ничего не дождавшись, майор Вилентьев тоже вышел в ночь.
33
Мария Давидовна, ощущая странное и приятное чувство эмоционального подъема, — я знаю, что скоро произойдет что-то очень важное, что-то прекрасное и необычное — шла по тротуару, ничего не замечая вокруг. До больницы она дошла быстро. Центральный въезд, куда обычно подъезжает скорая помощь. Пройдя мимо охранника у закрытого шлагбаума, она улыбнулась, не заметив удивления на его лице.
Она шла и улыбалась. Замечательное настроение и чувство любви — да, именно, любви — к каждому человеку в отдельности и ко всем людям в целом, — несло её вперед. Мария Давидовна именно сейчас поняла, что она не ошиблась. Вчера вечером она видела Михаила Борисовича. Или она просто не успела догнать его, или он не захотел встречаться с ней. Хотелось верить в первое. И она отметала доводы разума, воздвигая в сознании стену из логических размышлений и радостного предвкушения.
Доктор Ахтин в городе, и скоро она встретится с ним.
Когда она услышала сзади шум, то не сразу поняла, что ей грозит опасность. Доктор Гринберг все с той же улыбкой повернулась. И увидела, как увернувшись от удара и выбив пистолет из руки парня в футболке, черный человек в маске собаки — где-то на краю сознания возникла мысль, что прав был первый свидетель — снизу наносит удар ножом. Коротко охнув, парень прижимает руки к животу и валится на бок. Киноцефал прыгает сверху и бьет еще раз. Затем он встает, поворачивается и, чуть прихрамывая, бежит к ней.
Мария Давидовна, сразу же забыв о прожитых годах и давнем остеохондрозе, о своем настроении и чувстве вселенского счастья, поворачивается и со всех ног бежит, проклиная любимые туфли на каблуке и длинную юбку. Она понимает, что далеко ей не убежать, и, прогоняя от себя это знание, мчится, не разбирая дороги. С нереальным желанием взлететь — ну почему же люди не летают?
И при следующем шаге у неё внезапно получается — мысли материализуются, она ведь знала это всегда. Взлетев, она раскидывает руки в стороны, чтобы поймать ветер, который вынесет её вверх. Подальше от этого страшного места. Как можно дальше от людей, которые убивают друг друга. Пусть даже к солнцу, — лучше сгореть в адском пламени, чем быть изнасилованной и разрезанной на части. Лучше раствориться в безвоздушном пространстве, чем принять такую ужасную смерть.
И, взлетев, на одно чудное мгновение испытав счастье полета, Мария Давидовна неожиданно падает на асфальт.
И боль от удара приводит её в чувство.
Она не взлетела, она просто споткнулась о бордюр.
Через боль в руках — кожа содрана на локтях и ладонях — она поворачивается. Боль заставляет её мыслить разумно. У неё нет ни одного шанса. Как врач, работающий с психически больными людьми, она прекрасно понимает, что ни просьбы, ни слезы сейчас не помогут. Она хочет встретить смерть лицом к лицу. Она не хочет, чтобы убийца подумал, что она испугалась.
Киноцефал уже не бежит. В тишине — странно, почему так тихо, ведь здесь и сейчас умирают люди — он приближается. В правой руке нож.
Мария Давидовна неожиданно для себя улыбается. Беспричинный смех разрывает её сознание. Она смотрит на маску убийцы, который стоит над ней и заносит нож для удара, и видит перед собой персонажа из детской сказки.
— Ну, волк, погоди! — хрипит она сдавленным смехом, и, когда нож останавливается в верхней точке замаха, — убийца от неожиданности на секунду замирает — справа прилетает что-то огромное, сбивая Киноцефала с ног.
Мария Давидовна не может подавить смех. Она беззвучно смеется, глядя, как высокий бородатый человек наносит удары кулаком. Затем, подобрав выпавший нож, спаситель подтаскивает тело к одинокой липе, стоящей во дворе больницы. Приподняв ладонь убийцы, он вонзает нож в неё, пригвоздив Киноцефала к дереву.
Она смеется и плачет одновременно.
Слезы текут по лицу. На лице застыла улыбка.
Она смотрит, как бородатый человек уходит.
Она узнала его практически сразу. Фигура, походка, движения. Она не могла его не узнать. Даже в полной темноте. Только по ощущениям и звукам.
Она плачет.
И смеется.
В этом замкнутом корпусами больничном дворе она мысленно кричит ему вслед единственное слово — люблю — заранее зная, что ответа не будет.
Но это не важно. Может быть, он услышит, и этого вполне хватит.
Мария Давидовна Гринберг лежит на асфальте, прижав к себе дрожащие окровавленные руки, и смотрит на светлеющий край неба. Она не слышит топот бегущих ног и крики людей. Она не видит лицо охранника, губы которого шевелятся. Она не знает, что только что тихий безжизненный больничный двор превратился в гудящий улей.
Этот безумный мир снова выкинул забавную шутку, над которой она смеялась так, что чуть-чуть не потеряла разум.
34
Затаившись, я стою за контейнерами с мусором, которые стоят в центре больничного двора.
Я видел, как Мария Давидовна рано утром вышла из подъезда. Через минуту из припаркованного автомобиля вылез парень и последовал за ней. Я шел за ними и думал. Мне не нравилось то, что происходило. Я не знал, что за парень идет за женщиной. Какую роль он играет в том представлении, которое должно было скоро разыграться?
Женщина идет, не оборачиваясь.
Парень, почти не скрываясь, шагает следом.
И всё это настораживает.
Вязкое время медленно течет, обтекая здания на пустынных улицах города. Я срезаю путь, перескочив через больничный забор. И занимаю удобное место за контейнерами, практически в партере — третий звонок, представление вот-вот начнется.
Я вижу Марию Давидовну, которая, широко шагая, пересекает больничный двор. Парень, идущий за ней, чуть отстает перед тем, как выйти на пустое пространство. Появляется еще одно действующее лицо — человек в маске собаки. Невысокий ростом, в черном костюме, он двигается быстро, не смотря на то, что немного прихрамывает. Когда перед парнем, преследующим женщину, возникает человек в маске собаки, он от неожиданности замирает. И теряет те секунды, которые могли бы спасти его жизнь. Заметив отлетевший в сторону пистолет, я понимаю, что это милиционер.
Я улыбаюсь, — если это человек Вилентьева, то капитан думает, что эта женщина что-то значит для меня. Что рано или поздно я приду к ней. В какой-то степени он оказался прав.
Я, действительно, пришел.
Время помчалось вперед семимильными шагами. Я смотрю, как от удара ножом в живот, медленно умирает оперативник. И жду еще чуть-чуть, глядя, как человек в маске бежит за женщиной, которая, споткнувшись, падает на асфальт. И только потом выскакиваю из-за контейнеров. Я вижу занесенный для удара нож в руке убийцы. Он сейчас опустит его. И будет поздно. В прыжке я пролетаю последние метры и, сбив с ног убийцу, падаю сверху на него.
И вижу веселый волчий оскал. Круглые глаза сквозь отверстия маски, которые смотрят прямо на меня. Левой рукой прижав руку противника, в которой зажат нож, я правой бью по морде волка. Кулак сминает картон, и где-то внутри я смеюсь. Так смеется хищник, когда понимает, что в битве с другим хищником он победил, и поверженный боец не так страшен, как кажется. Это всего лишь маска, под которой прячется обычный человек. И это человек уже повержен.
Я совершаю простые движения. Поднимаю кулак и опускаю. Раз за разом. И когда нож вываливается из руки убийцы, я останавливаюсь.
Это не моя жертва.
Я не хочу, и не буду совершать ритуал.
Вполне достаточно того, что я сделал. Остановил преступника, который пользовался моим именем.
Подтащив безжизненное тело к дереву, я с силой загоняю нож в ладонь и дерево — это, по моему мнению, сейчас лучший способ оставить преступника на месте. Мне бы не хотелось, чтобы он смог убежать.
Когда ухожу, я чувствую, что Мария Давидовна зовет меня. И даже не поворачиваюсь. Мне нечего ответить на зов любви. В моем сердце нет места для этой женщины. Во всяком случае, пока. Если я повернусь и дам ей надежду, то это все равно ни к чему не приведет, — кроме пустого страдания. Она будет ждать, и надеяться, а я не приду.
Я мысленно говорю — прости.
И быстро ухожу.
Я знаю, что любовь — это песок, который струится между пальцев. Ты сгребаешь его и посыпаешь на руку. Ветер подхватывает песок и несет прочь. Ты хочешь сосчитать песчинки, но не успеваешь даже понять, в какую сторону дует ветер. И ты снова сгребаешь новую порцию песка, и он вновь струится между пальцев. И так по кругу, пока вокруг тебя не останется ни одной песчинки. И сидя на камне, ты будешь вспоминать, как любовь просачивалась сквозь пальцы, и, подхваченная ветром, улетала вдаль.
Часть вторая Называй меня моим именем
1
Открыв глаза, она спокойно посмотрела на белую стену и удивилась. Почему она не дома? И практически сразу память услужливо вывалила из своих запасников ночные события, заставив вздрогнуть.
Мария Давидовна приподняла руки и увидела бинты на них.
Значит, все было.
И она сейчас в больничной палате.
Расслабленно закрыв глаза, она отогнала от себя такие яркие и такие пугающие воспоминания. И неожиданно для себя подумала о смысле своей жизни. О простом женском счастье, которое пролетело мимо.
Любить и быть любимой. Как это просто, и как часто бывает недостижимо.
Идти с любимым человеком рука об руку по жизни, и знать, — наверняка знать, ну, или почти наверняка, — что этот человек любит тебя так же, как ты, а может даже и сильнее, чем ты.
Носить ребенка под сердцем, ежедневно чувствуя его толчки. Родить в муках, и приложив его первый раз к груди, тихо плакать от счастья.
Любить и быть любимой.
Простое женское счастье.
Почему же он поняла это только сейчас, когда уже поздно что-то изменить. Зачем она делала карьеру, зачем хотела перепрыгнуть через себя? Для чего — и самое главное, для кого — она сейчас одна живет в собственной квартире, имеет хорошую зарплату и признание коллег? Зачем эта суета и тщета? Что ждет её впереди, если единственный человек, которого она любит, даже не обернулся, когда она звала его.
Отсутствие смысла в жизни.
Мария Давидовна Гринберг лежала на кровати в одиночной палате отделения травматологии, и слезы медленно стекали из углов закрытых глаз, оставляя извилистые дорожки на щеках. Забыв о тех психологических упражнениях, которые выручали её в последнее время, она просто плакала над своими утраченными мечтами и наивными мыслями.
Услышав какое-то движение у двери и тихие голоса, она вздохнула. И открыла глаза.
Майор Вилентьев с букетом гвоздик стоял у двери и смотрел на неё. Увидев, что она открыла глаза и смотрит на него, он улыбнулся и шагнул вперед.
— Мария Давидовна, как вы меня напугали! — покачав головой, сказал он укоризненным тоном. — Что это вас понесло ночью на работу? Зачем? Вы ведь знали, что Киноцефал еще на свободе.
— Его поймали? — сказала она тихим голосом. И подумала, что ей все равно поймали или нет маньяка по имени Киноцефал. Сейчас для неё гораздо важнее, чтобы не поймали его, того единственного, имя которого она мысленно прошептала, испугавшись в последний момент, что произнесла его вслух.
— Да, — кивнул Иван Викторович и, по-хозяйски придвинув стул, сел рядом с кроватью, и положил красные цветы на прикроватную тумбочку, — я, собственно, и пришел, чтобы поговорить с вами об этом. Доктор сказал, что у вас со здоровьем всё в порядке, ссадины и ушибы, поэтому я бы хотел узнать, что там было. Кроме Киноцефала, вы единственный свидетель.
— Что вы хотите узнать?
— Кто еще, кроме вас, моего оперативника и Киноцефала, там был? — Майор пристально посмотрел на женщину и, увидев, что она не торопится отвечать, продолжил:
— Мария Давидовна, я ни за что не поверю, что это вы обезоружили убийцу, избили его и пригвоздили его ножом к дереву. Там был кто-то еще, и я бы хотел от вас услышать — кто это был?
Она смотрела на следователя и вдруг поняла, что он уже знает. Нет никакого смысла скрывать. Откуда он знает, — сейчас неважно. Главное, что он ждет ответ на тот вопрос, который уже не имеет смысла. Ждет именно от неё.
— Да, там был доктор Ахтин.
Вилентьев удовлетворенно кивнул. И выдохнул, словно он задержал дыхание на вдохе.
— Рассказывайте.
Мария Давидовна короткими фразами описала все события, которые видела, опуская излишние подробности и собственные чувства.
— Куда он пошел после?
— Не знаю, — медленно помотала головой женщина, — мне кажется, тогда я уже потеряла сознание. Мне даже показалось, что он потащил Киноцефала в сторону, чтобы там спокойно убить. Не на моих глазах. Хотя, может мне и это показалось. Мне сейчас всё эти события кажутся кошмарным сном.
— Как он был одет?
— Рубашка с коротким рукавом с непонятным цветом, может быть из-за странного желтого освещения. Джинсы на ногах. Черные стоптанные кроссовки.
— Лицо?
— Борода, усы и достаточно длинные волосы.
— То есть, судя по вашему описанию, он сейчас сильно отличается от фотографии? И нет никаких характерных или необычных примет? Может, он хромает, например?
— Нет, ничего необычного. Я узнала его по движениям, по походке, по контуру головы. И я бы легко узнала его по глазам, но он ни разу не приблизился ко мне, даже на мгновение не глянул на меня. Я не видела его лица, — только борода и волосы, чуть скрывающие уши.
Она вздохнула. И спросила:
— А вы как узнали, что это был он?
— По отпечаткам пальцев на ноже. Извините, Мария Давидовна, я позвоню.
Майор встал и, отойдя к окну, по телефону продиктовал приметы Парашистая, затем вернулся к кровати и сел на стул.
— Мария Давидовна, я не верю, что эта встреча в больничном дворе случайна. В одном месте совершенно неожиданно ранним утром, когда все люди крепко спят, случайно собрались вы, Киноцефал и Парашистай. Ха-ха, скажу я вам, дорогая Мария Давидовна, — ухмыльнулся Вилентьев, глядя на неё прищуренными глазами. — Мы нашли, где все это время скрывался Киноцефал — на чердаке морга. У него в дальнем углу чердачного помещения была лежанка и запас продуктов. Скорее всего, Парашистай для него был учителем и вдохновителем, и я не удивлюсь, если они имели постоянный контакт и поэтому он и оказался именно в том месте и в то время, когда вы появились ночью на территории больницы. С этими двумя маньяками всё понятно. И тут возникает вопрос — а зачем вы-то там оказались? Как вас туда занесло?
— Вы подозреваете меня в том, что я пришла на встречу с Парашистаем?
— Да, дорогая вы моя, замечательная Мария Давидовна, именно так я думаю, и никакой другой причины вашего появления там я не вижу.
Мария Давидовна улыбнулась. Вот она, проза жизни. Убогость бытия. Её подозревают в том, чего она так страстно желала. Встречаться с Михаилом Борисовичем Ахтиным, пусть даже тайно, — не об этом ли она мечтала?! Любить человека, который стал изгоем, — это ли не счастье?! То, чего она хочет, и что абсолютно недостижимо, сейчас озвучил следователь.
— Чему вы улыбаетесь?
Майор с удивлением посмотрел на неё.
Мария Давидовна засмеялась — этот тупой следак всерьез думает, что она весь прошедший год знала, где находится Парашистай, он уверен, что она все это время водила его за нос, тайно встречаясь с убийцей. Он установил за ней слежку, и этот погибший от ножа Киноцефала парень, был его оперативник. Он полагал, что рано или поздно именно она выведет его к Парашистаю.
Мария Давидовна открыто и жизнерадостно смеялась.
Впервые за последние дни она просто и откровенно радовалась.
Она продолжала веселиться даже тогда, когда с грохотом за майором захлопнулась дверь палаты. И только после этого смех перешел в глухие истерические рыдания. Она, прижав израненные руки к лицу, вслух проклинала этот гребаный мир, где для её любви нет места. Где тупые мужики, не способные на высокие чувства и простые эмоции, правят обществом. Где для неё, умной и красивой женщины, есть только одна работа, — носить каштаны из огня этим гребаным мужланам. И где благодарность за эту работу, — спокойно и уверенно сказанные слова о том, о чем она могла только мечтать.
Мария Давидовна посмотрела на красные цветы, которые принес Вилентьев. Они лежали так, словно их бросили на свежевырытую могилу.
2
Утренние лучи заглядывают в окно. Я не люблю солнце, потому что оно мешает видеть простую истину.
На этой круглой планете, медленно и необратимо катящейся в тартарары, новая жизнь всегда произрастает на разлагающейся зловонной гниющей массе старой мертвечины. Смерть всегда основа жизни — так было и так будет. И этот новый свежий росток никогда не будет лучше и крепче старого засохшего ствола, — изменится только внешний вид, но никак не содержание.
Смерть — многогранна, жизнь — однотипна.
Я выдавливаю крем для бритья на помазок и намыливаю подбородок. Станок убирает волосы, оставляя за собой ровные полосы чистой кожи. Я привык к бороде, но после сегодняшней ночи мне приходится её убирать. И я даже немного рад этому. Моё прежнее лицо нравится мне значительно больше. Так даже лучше, — я не только возвращаю имя, но и своё лицо. Я возвращаюсь после долгого отсутствия, и нахожу, что моё лицо практически не изменилось.
Я умываюсь холодной водой, и смотрю в зеркало.
— Привет, доктор Ахтин, образца две тысячи шестого года, — мысленно говорю я себе, и улыбаюсь. Избавившись от бороды и усов, я будто вновь рождаюсь. И это чувство приносит мне ни с чем несравнимое удовольствие. Я возвращаюсь в комнату, неся эту улыбку на лице. С ней же через полчаса я выхожу и иду к своему будущему месту работы. Кроме улыбки, на моём лице очки в толстой оправе, благодаря которым, как мне кажется, меня не так-то просто узнать. Может, я наивен в своих конспиративных попытках скрыть свою личность, но мне так спокойнее.
В холле поликлиники обычная для таких мест суета. Слева у регистратуры небольшая очередь. В центре большой стенд, на котором написаны все кабинеты и врачи. Справа — отделение платных услуг. Я внимательно изучаю стенд, и, найдя нужного мне человека, иду на третий этаж. В кабинете заместителя главного врача по медицинской части я, по-прежнему улыбаясь, говорю, что я врач-терапевт и хотел бы работать по специальности. Я смотрю в глаза женщины с короткой стрижкой и протягиваю документы. Александра Александровна Шлеус, возраст около пятидесяти лет, карие глаза внимательно смотрят на меня. И если имя и фамилию я узнаю из таблички на двери, то возраст и цвет глаз — по лицу.
— Очень хорошо, терапевты нам нужны, — говорит она и, начав смотреть мои документы, добавляет, — садитесь, пожалуйста, Михаил Борисович.
Она открывает диплом и внимательно его изучает. Затем открывает трудовую книжку и, посмотрев последнюю запись, спрашивает:
— Последнее место работы — областная больница. Вы год не работали в медицине?
— Да. Уехал в деревню, выращивал кроликов, — киваю я, — но, как оказалось, это не моё. Я понял, что врачевание — это моё призвание и что без него я не могу. Вот, поэтому вернулся.
— А почему не обратно в областную больницу?
— Моё место давно занято, — отвечаю я, пожимая плечами, — свято место пусто не бывает. Я — обычный терапевт, и после моего ухода сразу нашелся специалист. Вы ведь знаете, что работать в областной больнице престижно.
— Да, конечно, — наконец-то улыбается Александра Александровна.
Она смотрит остальные документы и только потом говорит:
— Хорошо. Вам, конечно, после годичного перерыва нужно будет пройти курс повышения квалификации на факультете усовершенствования врачей, но сразу я вам это предоставить не смогу. Я позвоню на кафедру и думаю, что, в лучшем случае, месяца через два, а в худшем, через четыре, у нас это получится.
— Хорошо.
Она протягивает мне документы.
— Идите в отдел кадров и оформляйтесь. Я им сейчас скажу, что вы от меня. Завтра приходите к восьми часам на оперативку, я вас представлю коллективу.
— Спасибо, Александра Александровна.
Я забираю документы. Мои пальцы всего лишь на мгновение прикасаются к её пальцам.
Я закрываю за собой дверь и иду по коридору поликлиники.
Начмеду пятьдесят три года, она замужем, имеет двух детей. Курит, примерно, по пачке сигарет в день, любит ходить в сауну и русскую баню. У женщины артериальная гипертензия, но она дисциплинированно принимает гипотензивные таблетки. И у неё миома матки средних размеров, но уже год, как нет месячных. Но всё это побочная информация, которая не имеет для меня никакого значения. Главное то, что её старшая дочь, которая вышла замуж за француза и живет во Франции, должна родить в ближайшую неделю. Александра Александровна уже оформила шенгенскую визу, собрала два чемодана, купила наличные евро, и готова хоть завтра вылететь во Францию.
Доктору Шлеус, не смотря на то, что она заместитель главного врача по медицинской части, глубоко наплевать на эту поликлинику, на врачей и пациентов, и на меня в том числе. Она забудет о моем существовании, как только дочь сообщит о том, что пора вылетать.
И это очень хорошо.
Вряд ли кто-то будет интересоваться моим прошлым, как врача.
Сомневаюсь, что у кого-то возникнут ассоциации с моим именем.
3
Иван Викторович Вилентьев сидел и смотрел на Киноцефала. Сейчас, в комнате для допроса, он не выглядел пугающе, и совсем не соответствовал своему имени. Майор любил такие моменты, — еще не сказано ни слова, пока только игра в гляделки, а уже сразу понятно, как себя поведет задержанный преступник. Если он суетится, не может спокойно усидеть на месте, его глаза бегают, то проблем с признанием, скорее всего, не будет. Если тупо смотрит в сторону и не шевелится, то придется повозиться, чтобы выбить из ублюдка показания. Если смотрит исподлобья и щерит зубы, то будет молчать, и ничего из него не вытянешь, как не пытай.
Киноцефал спокойно и неподвижно сидел, смотрел на него грустными глазами и прижимал к груди раненную руку.
— Фамилия, имя, отчество? — спросил майор, нажав на кнопку диктофона и придвинув к себе лист бумаги.
— Лобанов Максим Леонидович.
Вилентьев писал и слушал ответы. Убийца подробно и без уточнения отвечал на вопросы, которые он задавал. Вообще-то, он этого не ожидал, поэтому, подозрительно глядя на собеседника, ждал подвоха.
— Маска твоя? — показал он рукой на помятую маску волка, лежащую на столе.
— Да, — улыбнулся Максим, — когда я был маленький, у нас в детском садике ставили сказку. Мне досталась роль волка, и мама мне купила эту маску. Жаль, что её помяли. Я столько лет её хранил. Она мне дорога, как память о маме. Знаете, мама умерла. Уже давно.
Майор Вилентьев неожиданно для себя закашлялся и, сглотнув слюну, подавил першение в горле.
Что-то было не так. А точнее, всё, абсолютно всё было не так. И он решил зайти с другой стороны.
— Как часто и где вы встречались с Михаилом Борисовичем Ахтиным?
Лицо Максима напряглось. Он задумчиво поморгал глазами и спросил:
— А это кто?
— Доктор из терапевтического отделения.
Максим облегченно улыбнулся.
— Из терапии к нам редко приходят. У них люди очень редко умирают, поэтому в морге им делать нечего. Я не знаю, про кого вы спрашиваете.
— Это тот доктор, который в прошлом году убивал людей и выдавливал у них глаза.
— Да, вы что? Доктор из нашего терапевтического отделения? Убивал и выдавливал глаза? — удивленно переспрашивает он. — А я и не знал.
Майор Вилентьев с размаху ударил кулаком по столу и закричал:
— А кто тогда надоумил тебя выдавливать глаза у жертв?
Максим даже не вздрогнул от звука удара и, недоуменно посмотрев на злое лицо майора, спокойно ответил:
— Как кто, конечно, Бог!
— Тьфу ты! — Вилентьев откинулся на спинку стула и замолчал. Вот он, тот подвох, которого он ожидал. Этот урод сейчас начнет нести чушь, и ему придется отправлять его на психиатрическую экспертизу. А там его признают недееспособным. И на этом всё, это ублюдок избежит наказания. Жизнь в психбольнице, конечно, не сахар, но все-таки значительно лучше, чем в одиночной камере для пожизненно заключенных.
Иван Викторович снова навалился на край стола, приблизившись к Киноцефалу. Нажал на диктофоне кнопку отключения, и тихо сказал:
— Я из тебя, сволочь, сейчас выбью это дерьмо. И ты мне скажешь имя своего гребаного бога. Я буду бить тебя по почкам, и ты будешь ссать кровью. Я раздавлю твои яйца каблуком, и ты будешь визжать, выкрикивая имя этого бога. Ты будешь умолять меня, чтобы я записал имя и продиктуешь его мне по буквам.
Максим слушал, широко открыв глаза, и потом сказал:
— Да, Бог мне так и говорил. Придет время, сказал он мне, и придется страдать. Нестерпимая Боль, — да, он говорил, так выделяя слова, что мне сразу стало понятно, что это будет замечательно. Это будут лучшие дни в моей жизни. Я ждал их с нетерпением. Я говорил Богу — зачем тянуть, давай уже сейчас. Я хочу страдать и умирать для Тебя. А Он говорил мне — терпи, еще не время. И вот я дождался. Пронзительная Нестерпимая Разрывающая Боль, которая станет откровением для меня, и я взойду по Ступеням Страдания в Чертоги, где Он ждет меня.
И тоже немного приблизившись к лицу майора, он с идиотским выражением лица трагическим шепотом закончил:
— Пожалуйста, сделай мне так нестерпимо больно, чтобы я снова увидел Его!
Хуком сбоку Вилентьев свалил эту наглую морду на пол. Неторопливо обошел стол и со всей силы пнул в открытый живот, лежащего на полу человека. Еще несколько ударов ногами, и хныкающее тело забилось в угол.
Вытерев рукавом пот со лба, майор вернулся за стол. И упав на стул, задумчиво уставился на стену.
Хреново. Этот Киноцефал — крепкий орешек. Такого в его практике еще не было. Даже Парашистай был проще, — тот ничего особо и не скрывал. Он жил своей жизнью, в которой ему, Вилентьеву, не было места.
А Киноцефал — ловкий и хитрый ублюдок с богатой фантазией, который легко обведет вокруг пальца всех психиатров. Впрочем, и не надо особо напрягаться, чтобы обмануть мозгоправа, — эти доктора, как дети, радуются каждому новому случаю, который хорошо вписывается в ими придуманные гребаные синдромы и симптомы. Пищат, да лезут, чтобы избавить преступника от наказания.
— Хватит ныть, — сказал он, глядя на Максима, который закрывал лицо руками, — ползи сюда. Будем думать.
Он дождался, пока человек медленно вернется за стол и сядет на свое место. Протянув ему носовой платок, майор сказал:
— Вытри кровь. Справа на губе. И на подбородке.
И спокойно глядя на испачканное лицо убийцы, он предложил:
— Ладно. Мне не надо имя. Просто скажи, как он выглядел. Он высокого роста?
Максим помотал головой:
— Не знаю.
— Худощавый, мускулистый?
Парень пожал плечами и пробормотал:
— Я его не видел. Я его только слышал и чувствовал.
Иван Викторович, с треском сломав карандаш пополам, встал и вышел из допросной комнаты. И только в коридоре, мысленно выругавшись, он сказал себе, что не надо волноваться. Это только начало. Всего лишь первый разговор. Главное, что он поймал Киноцефала. И не таких раскалывали. И это запоет, как птица в клетке.
И майор, пробормотав, — петух долбанный, — пошел в свой кабинет.
4
Мой первый рабочий день в поликлинике. Иду на него, как на праздник. Я улыбаюсь встречным людям и думаю о том, что возвращение имени и работы — это лучшее, что произошло со мной за последнее время. Наверное, я люблю свою работу. Не смотря ни на что, я люблю то, чему учился семь лет и затем работал десять. Я думал об этом ночью. Снова размышлял о людях и тенях, о человеческом невежестве и желании жить, о готовности умирать и тупом нежелании понять суть бытия.
Я думал о своем божественном даре. Возможно, я снова буду пользоваться им. Может быть, не буду.
И, как бы это странно не было даже для меня, я хочу помогать людям.
Ночью я вспоминал, как всё начиналось. Годы студенчества, интернатура, первые годы самостоятельной работы. Когда я перешагнул ту черту, которая отделила меня от мира? Дар у меня был всегда, а вот разделять человеческое стадо на полезные и бесполезные особи я стал значительно позже.
Когда я почувствовал себя Богом?
Наверное, когда стал работать. Будучи студентом медицинского института, я много видел и всё понимал, но больше бравировал перед самим собой. Играл со своим сознанием в те игры молодости, которые позволяют чувствовать свою значимость. А вплотную столкнувшись с физически и духовно больными людьми, полностью осознал, что подавляюще большинство не заслуживают выздоровления. Болезнь пришла к ним не сама. Каждый из них, вольно или не вольно, виноват в возникновении боли, очага инфекции или опухоли. Хронические заболевания — это всегда вина человека. И эту вину никто из них не берет на себя. В болезни обвиняют злой рок и божье наказанье, наговор, сглаз и магические чары, докторов, которые ставят неправильные диагнозы и назначают плохое лечение.
И никто даже не пытается поискать причину в себе.
Загляни в своё сознание.
Подумай о том, что организм реагирует на твои мысли.
Вспомни зависть и злобу, которой пропитан твой мозг.
Я так часто видел человеческое нутро, что достаточно быстро понял, что люди не заслуживают выздоровления. Болезнь — это расплата, и я ни в коем случае не хочу избавлять человека от наказания.
Но среди теней были люди, для которых болезнь оказалась не наказаньем, а наградой. Как бы странно это не звучало, но — именно так. Так было с девочкой, у которой сильные головные боли из-за опухоли в голове заставили её думать о смерти. И пережив виртуальную смерть, она получила в награду способность жить человеком, свободным от общества. Она перешагнула через несколько ступенек, поднялась над этим миром, перестала бояться умереть, и нашла в своем сознании целый мир, где нет преград, где добро и зло прекрасно соседствуют друг с другом.
Боль, которая очищает мозги.
Осознание, как удачный прыжок через бездну.
Так же было и с Богиней. Он получила неизлечимую вирусную инфекцию, приняла её, научилась умирать физически и духовно, и спокойно отправилась в Тростниковые Поля. Как бы ни хотел я сохранить её жизнь, именно я научил Богиню умирать.
Я был тем, кто отправил «Ах» в Тростниковые Поля.
Я поднимаюсь по лестнице и иду в кабинет начмеда. Я точен, в поликлинике в восемь часов утренняя оперативка. Сев на стул в углу, я вижу заинтересованные лица сотрудников. Точнее, сотрудниц. Подавляющее большинство врачей — молодые женщины. Мужчин всего трое. Один — седой мужчина невысокого роста, выглядящий на шестьдесят лет. И двое — сравнительно молодые парни с серьезными выражениями лиц.
— Ну, начнем, — говорит Александра Александровна, — хочу сразу представить вам нашего нового сотрудника. Михаил Борисович Ахтин, прошу любить и жаловать.
Я встаю со стула и улыбаюсь.
Я слушаю своё имя, произнесенное вслух. Я смотрю на лица людей в белых халатах. Надеясь не увидеть в их глазах узнавание.
— Мы дали ему четвертый участок. Как вы знаете, на нем давно нет доктора. Надеюсь, что вы поможете ему освоиться на новом месте.
— Да, я буду рад любой помощи, — кивнув, говорю я.
Женщина, коротко стриженная блондинка, сидящая за столом рядом с начмедом, равнодушно глянув на меня, говорит:
— После оперативки подойдите ко мне в кабинет.
Я сажусь на место и стараюсь стать незаметным. Впрочем, внимание окружающих сразу же переключается на начмеда, которая напоминает врачам о недовыполнении муниципального заказа. Называет фамилии врачей, которые на прошлой неделе сдали значительно меньше статистических талонов, чем остальные. Затем, после доклада эпидемиолога, она рассуждает о невыполнении плана прививок для работоспособного населения. Далее около пяти минут заместитель главного врача по экспертизе рассказывает о проверке больничных листов, проведенной в учреждении, о выявленных недостатках и мерах по их устранению.
И я вдруг понимаю, что моя прошлая работа в стационаре областной больницы покажется мне сказкой по сравнению с этой богадельней. Мне становится тоскливо и муторно на душе, но затем я подумал о том, что это совсем небольшая плата за возможность стать самим собой.
Вернуться к врачеванию.
И слышать своё имя.
5
Мария Давидовна вошла в кабинет Вилентьева и спросила с порога:
— Зачем вы меня позвали, если всё равно не доверяете мне?
Майор поднял голову и посмотрел на неё. Как-то задумчиво и отстраненно. И сказал:
— Да, я вам не верю. Вы что-то скрываете. Однако я знаю, что вы хороший специалист. А мне сейчас нужна ваша профессиональная помощь.
Мария Давидовна села на стул и посмотрела на него вопросительно.
— Киноцефал несет какой-то религиозный бред. Я думаю, что он прикидывается сумасшедшим, чтобы увильнуть от суда. И вы попробуйте выяснить, действительно он болен на голову или просто хочет избежать справедливого возмездия. А я буду рядом и смогу понять, где вы выполняете свою работу, а где решаете свои проблемы.
— Я сразу вам говорила, что очень хочу поговорить с ним. А проблем у меня нет. И не было.
— Вот и хорошо. Пойдемте. Вы будете говорить с ним в отдельной комнате, а я буду в соседней и всё увижу и услышу.
Мария Давидовна шла за широко шагающим майором и чувствовала душевный подъем. Сейчас она увидит Киноцефала. Она сможет поговорить с ним и понять, знает он доктора Ахтина или нет. Это для неё имело очень большое значение. В тишине больничной палаты она долго думала и соглашалась с майором, — в чем-то Вилентьев был прав. Почему так вышло, что Парашистай появился именно тогда, когда он был нужен? Что его привело в ту ночь в больницу? Как так сложилось, что все они встретились ночью под желтыми фонарями?
— Вы готовы?
Она увидела лицо майора. И кивнула.
Конечно, она готова. Она всегда готова. Разве он не знает, что она крепкая и мужественная женщина, которая коня на скаку остановит, заглянет в пасть анаконды, войдет в клетку к тигру. Ну, или к бешеной собаке.
— Ну, тогда вперед.
Он слегка подтолкнул её под локоть, и она шагнула в открытую им дверь.
Мария Давидовна уверенно подошла к столу и села на стул. Посмотрела на сидящего мужчину. Лицо в синяках. Левый глаз почти закрыт синюшной опухолью, правый закрыт. Верхняя губа разбита. Плечи опущены. Обе руки прикованы наручниками к ножкам стола.
— Здравствуйте. Меня зовут Мария Давидовна.
Правый глаз открылся.
— Привет. А я Максим.
Хриплый голос, в котором обреченность соседствует со знанием, вера соседствует с готовностью умереть за неё.
— Расскажите мне, Максим, о себе. О маме и папе. О том, как в детстве вы ходили в детский сад, а потом в школу. Вообщем, расскажите мне о себе.
— Вам действительно интересно это? — он удивился. Даже щель левого глаза приоткрылась шире.
— Да, мне очень интересна ваша жизнь, — улыбнулась Мария Давидовна.
Максим кивнул и начинал говорить. Его даже не надо было уговаривать. Он и сам так давно хотел выговориться, просто никто и никогда не хотел его слушать.
Он помнит себя с трехлетнего возраста. Мама, — полная женщина, которая любит покушать сама и с удовольствием кормит сына. Папа, хмурый мужчина, который любит выпить, и даже пьяный всегда равнодушен к сыну. Когда мальчику остается два дня до пятого дня рождения, папа утром уходит и больше не возвращается. Мама плачет, но как-то неубедительно. Он не верит, что папа уехал строить железную дорогу на другой конец страны. Мама водит ребенка в детский сад, где он в шестилетнем возрасте впервые узнает, что его мама — жирная корова, а папа сидит в тюрьме. Он бросается на обидчика с кулаками, но тот оказывается сильнее. Лежа в пыли, маленький мальчик бессильно плачет. С этого момента он понимает, что в этом мире для него нет места. И он создает для себя свой мир. Пусть он ограничен размерами его фантазии, но он именно такой, каким должен быть. И в нем есть место только для него.
В семь лет он заболевает — тяжелая форма инфекционного мононуклеоза. Он помнит, как тяжело было дышать, и из-за высокой температуры он часто терял сознание. До зимы он восстанавливался, поэтому в школу он пошел в восемь лет.
Сначала было не плохо. Он старше одноклассников, учеба казалось игрой, но скоро это закончилось. В третьем классе он вдруг понял, что с трудом понимает, что говорит учительница. Он старательно заучивал материал, но понимания так и возникало. Он стал получать тройки. А совсем скоро и двойки. Маму вызывали в школу, она кричала на него. Но — он ничего не мог сделать. С трудом добравшись до восьмого класс, он закончил восьмилетку с троечным аттестатом, и если быть до конца откровенным, учителя его просто пожалели.
Далее два года он просидел дома, а потом пошел в армию. И это были самые страшные годы в его жизни. Он вычеркнул их из своей памяти, стер те события, которые вырезали в сознании целые куски доброты и разума. И выжил он там только потому, что постоянно прятался в свой выдуманный мир. И только там он был самим собой.
Пока он отдавал долг Родине, умерла мама. Заплывшее жиром сердце не выдержало нагрузки. И он узнал об этом, только когда приехал домой. Сидя на краю могилы, юноша невысокого роста тихо плакал. Он остался совсем один. Насколько он знал, никаких родственников у него не было. Об отце он ничего не знал.
Санитаром в морг его устроил сосед. Патологоанатом Мехряков Степан Афанасьевич жил в соседнем подъезде, и, заметив, что парень ежедневно сидит во дворе на лавке и бездельничает, позвал его работать. Санитаров в морге хронически не хватало, и, чем черт не шутит, вдруг получится.
И у него получилось. И в первую очередь потому, что мертвый человек очень сильно отличается от живого. Труп тих, безмолвен, и, самое главное, спокойно лежит на секционном столе, никак не проявляя агрессивную человеческую суть. Мертвое тело нисколько не мешает жить в своем вымышленном мире, и даже однообразные движения на работе не отвлекают от этого.
И потянулись дни. Ежедневная рутинная работа, не требующая особого ума и сложных навыков. Через год Мехряков доверял ему зашивать кожу на животе, а еще через год он иногда выполнял удаление внутренних органов по Шору, пока доктор Мехряков вскрывал черепную коробку.
Работа ему нравилась. Может быть, впервые он стал чувствовать себя обычным человеком на своем месте. Он стал реже возвращаться в свой мир, и даже иногда забывал о его существовании. Но не больше, чем на пару дней.
Но тут умер Мехряков, и это удар, эта жизненная несправедливость выбила его из колеи. Стоя у его могилы, — опять могила, сколько их еще будет, — он вдруг подумал, что патологоанатом относился к нему, как к сыну. Второй раз потерять отца — это ли не ужасная несправедливость со стороны этой гребаной жизни.
Максим на секунду замолчал и тихо сказал:
— Степан Афанасьевич умер. После похорон я впервые в жизни напился водки, вышел ночью на балкон и шагнул в темноту.
6
После общения с заведующей терапевтическим отделением — блондинка при ближайшем рассмотрении оказалась крашенной — я иду в свой кабинет. Два стола, шкаф для халатов, кушетка. Слева за столом с компьютером сидит девушка с большими глазами. Прямые темно-русые волосы, расчесанные на пробор. Узкие плечи, тонкие руки. Хорошо отутюженный белый халатик. Улыбнувшись, она говорит:
— Здравствуйте, Михаил Борисович. Я — Марина, ваша медсестра.
Я отвечаю на приветствие и сажусь за свой стол.
— Сегодня у нас нет записи, её только сейчас выложат на две недели вперед, — говорит Марина, — поэтому к нам из регистратуры будут отправлять всех, кто придет записаться на прием или кто обратился с болями, то есть экстренных пациентов.
Первый больной не заставил себя ждать. Через пять минут пришла женщина, которая оформляется на санаторно-курортное лечение. Все анализы в норме, узкие специалисты пройдены, диагнозы вписаны в санаторно-курортную карту. Я выполняю рутинный осмотр, — заглядываю в рот, слушаю фонендоскопом легкие и сердце, пальпирую живот. Марина измеряет артериальное давление, пока я пишу в амбулаторной карте.
— Приятного отдыха в санатории, — улыбаюсь я пациентке.
— Спасибо, доктор.
У женщины две дочери и уже двое внуков. Она живет и радуется жизни, и она здорова. Она умеет говорить волшебные слова, и она использует их часто и от души. В местный санаторий она едет вместе с внуком, который проходит реабилитацию после тяжело перенесенной ангины.
После пришели мужчина с болями в спине, которого я отправляю на консультацию к неврологу, и женщина с явлениями острого распираторного заболевания.
Потом наступает тишина, Марина, взяв бикс, уходит, и, оставшись один, я думаю. О том, что здесь в поликлинике я значительно чаще буду общаться со здоровыми людьми, ну, или почти здоровыми. Конечно, я знал, что в стационар поступают только те, кому действительно нужна помощь, те, у кого есть пусть предварительный, но диагноз. В поликлинику люди приходят не только лечиться, но еще и обследоваться, на профилактический прием, для оформления различных документов, и порой просто поговорить. Мне, как врачу поликлинического приема, надо из сотни здоровых или почти здоровых найти пару-тройку больных, и вовремя отправить их на более глубокое обследование и лечение.
Я задумчиво смотрю в окно, где уже начали опадать первые листья с тополя. Начало осени, первые дни сентября, листва пока еще зеленая, но ветер уже может сорвать часть листьев и унести их прочь.
Смена времени года нисколько не волнует меня. Пусть будет осень, а потом — зима. Даже хорошо, что серые тучи затянут небо и закроют солнце. Плохо то, что будет холодно и сыро. Грязь под ногами, дождь сверху.
Стук в дверь отвлекает меня от мыслей.
Я громко говорю:
— Да, войдите.
В дверном проеме появляется мужчина. Спросив разрешения войти, он неторопливо подходит, складывает на стол амбулаторную карту и затем садится на стул. Его отекшее лицо мне знакомо. Он живет в общежитии. Я видел его там, и, надеюсь, он не видел меня.
Виктор Аркадьевич Усиков, тридцать один год, холост, рабочий на заводе. У него рак толстого кишечника. И пока только я знаю об этом. Его единственная жалоба на то, что он стал замечать кровь в каловых массах.
— Знаете, доктор, когда я в первый раз увидел, то подумал, что показалось. Ведь не болит ничего. Не болит, вообще, и не болит, когда я иду по большому. Может, просто съел что-то или трещинка там какая-то?
После осмотра я назначаю дополнительное обследование.
Я знаю, что Бог — отличный парень. Он всегда приходит только, когда человек дойдет до края. Не раньше, чтобы предотвратить, чтобы не допустить, а в тот момент, когда человек уже созерцает бездну. Светлый Лик из тьмы — это ли не лучше всего прочищает мозги, изгоняя из них призыв смерти. Крепкая Рука Бога, когда ты балансируешь над пропастью, — это ли не лучшая помощь в борьбе со своим больным сознанием, когда небытие кажется самым замечательным местом. Последнее Слово, обращенное к тебе, когда ты уже умер в своем сознании, — это ли не истина, которая возвращает к жизни.
До края Усикову еще далеко. Он еще не осознал свою болезнь. У него в мыслях преобладают простые желания — вкусно поесть, выпить пиво с друзьями, посмотреть телевизор, раз в неделю перепихнуться с соседкой по общежитию.
Он еще даже не подошел к пропасти.
Я улыбаюсь мужчине, и говорю:
— Что же, Виктор Аркадьевич, будем искать.
7
Мария Давидовна смотрела на Максима и ждала, когда он продолжит говорить. Она видела, как парень перебирает свои воспоминания, словно книги на полке, разбирая их по порядку. Взяв каждую, он смотрит на обложку, думает несколько секунд и затем ставит в нужное место.
— Я живу на пятом этаже. Помню, что летел вниз и чувствовал какую-то странную радость. Даже, как мне кажется, кричал от счастья. А потом провал в памяти. Мне потом рассказали, что я всю ночь я пролежал на земле, а утром меня нашли соседи и вызвали скорую помощь. Переломы обеих ног, сочетанная травма груди и живота, сотрясение головного мозга. Шесть месяцев по больницам, пять операций, разорванные воспоминания и боль. Врачи поставили меня на ноги, и весной я снова вернулся на работу. Словно ничего и не было. Обычная история — пьяный мужик выпал из окна пятого этажа, но остался жив.
Максим снова замолчал. Мария Давидовна, поняв, что парень что-то не договаривает, спросила:
— Если я правильно понимаю, с тобой что-то случилось, когда ты лежал в больнице.
— Да. Там в больнице Он пришел в первый раз.
— Кто пришел?
— Бог.
Больничная реальность, которая стала сном. Или наркотический сон, ставший реальностью.
Среди рваных воспоминаний в больнице, когда жизнь и смерть идут рука об руку, Максим слышит голос и чувствует тепло руки, которая сжимает его ладонь. Тепло несет облегчение. Боль, которая гложет изнутри и снаружи, медленно уходит.
Максим говорит — спасибо.
И спрашивает — кто ты?
И слышит простой ответ — я Бог. И Максим сразу верит. Всем сердцем и открытым разумом. Не раздумывая, и не сомневаясь.
— Так и сказал. Я — Бог, — зачем-то уточнила Мария Давидовна.
— Да, — кивнул Максим, — я сразу поверил ему. Да и как не верить, когда он помогал мне пережить любую боль. Он держал меня за руку, когда меня оперировали. Он стирал пот с моего лба, когда высокая температура высасывала из меня жизнь. Он говорил со мной, когда я терял сознание. И просто Он был рядом, когда мне было плохо. И самое главное, — никто, кроме него, ко мне не приходил, будто на этой планете есть только я, Бог и медицинские работники, которые лечили меня.
Сделав паузу, Максим сказал:
— Врачи поставили меня на ноги, а Он вылечил меня и объяснил мне, зачем я живу.
— Ну, и зачем ты живешь? — спокойно спросила Мария Давидовна.
— Я живу для Бога.
— Ну, это понятно, — согласно кивнула она, — все мы живем с именем Бога на устах.
— Нет, вы не поняли, — помотал головой парень, — я здесь для того, чтобы сделать для Него кое-какую работу. Он выбрал меня. Он избавил меня от болезни, чтобы я выполнил работу.
— Работу? — вопросительно наклонив голову, переспросила Мария Давидовна.
— Да. Он сказал, что я должен убивать. Он сказал, что я должен взять нож и убивать. Он это сказал не сразу. Я помню эту ночь. Я уже находился в реабилитационном центре и уже мог немного ходить. Я сидел в темноте у окна и смотрел на дорогу, по которой ехали автомобили — сотни движущихся белых и красных огоньков. Он пришел и сел рядом со мной. Я чувствовал, как Он страдает. Я чувствовал Его боль.
— Ты его видел?
— Нет. Я его чувствовал, — помотал головой Максим, и продолжил, — и вот там у окна Он мне сказал, что только кровь может что-то изменить на этой планете. Кровь и страх. Он мне сказал — посмотри в глаза людям, они боятся даже слова Смерть. Страх парализует их волю. Цвет крови заставляет закрыть глаза в ужасе. Предчувствие неминуемой гибели страшнее прихода Смерти. И вот тогда ты придешь и принесешь жертву. Он сказал, что когда придет время, Он даст мне знать.
Лицо с широко открытыми безумными глазами. Мария Давидовна смотрела на Максима, который пристально, не мигая, вглядывался в свои воспоминания, и сжимала свои дрожащие пальцы. Она в этот момент вспомнила слова и глаза человека, который сказал, что он — Бог. Простые слова, сказанные спокойным голосом. Уверенность в глазах, не поверить в которые невозможно.
— И там, в реабилитационном центре я сказал Ему, что рад буду выполнить эту работу для Него.
— Максим? — позвала Мария Давидовна.
— А? Что? — спросил парень, вернувшись из глубин своей памяти.
— Что было дальше?
Максим похлопал глазами и, пожав плечами, сказал:
— В конце мая я вышел на работу. Исправно выполнял свою работу. Вечером ходил в тренажерный зал, потому что мне надо было восстановить свою физическую форму. Я знаю, — Богу нужен крепкий работник. Не убогий инвалид, а крепкий полноценный работник. Хорошо кушал. Отлично и много спал. А потом в конце июля Он пришел и сказал, что надо начинать. Ну, вот я и начал. Двадцать пятого июля я пошел и убил. И мне очень понравилось работать на Бога.
8
После работы я иду на остановку и еду в центр города. Хоть и рискованно то, что я хочу сделать, но желание знать, что всё в порядке, сильнее.
Я еду к Богине.
Нет, я не собираюсь входить в квартиру. Вполне достаточно узнать, что дом стоит на месте. Да и просто я хочу посмотреть на окна моей квартиры.
Во дворе тихо. Время три часа. Когда люди будут возвращаться с работы, меня уже здесь не будет. Я сажусь на лавку у второго подъезда дома, стоящего напротив, и смотрю на окна первого этажа.
На скамейке у третьего подъезда сидят три женщины в пожилом возрасте и оживленно обсуждают жильцов дома. Я непроизвольно прислушиваюсь.
— Не знаю, и что с ней случилось?! Нормальная девка была. Мужик работящий, не пьет, не курит, деньги в дом несет, а она вдруг ни с того, ни с сего пить стала горькую, да так, что еле до квартиры дойти может. Еще осенью всё было хорошо. И когда она за зиму успела так спиться? Ничего не понимаю, — оживленно говорила пожилая женщина в серой кофте.
— Точно, — поддержала разговор собеседница справа, — вчера днем, времени четыре часа, а она с трудом смогла дверь в подъезд открыть. Видно, что в магазин ходила, так нормальная баба несла бы в дом продукты, а она с початой бутылкой водки идет.
— Куда катимся?! — покачала головой третья. — И что бабам не хватает в этой жизни? Всё есть — муж, квартира, работа. Что еще надо?
Я улыбаюсь. Извечный вопрос — что надо женщине? Если сами женщины не могут найти на него ответ, то никто никогда на него не ответит.
Убедившись, что мой дом стоит на месте, а в окнах квартиры по-прежнему я вижу мои шторы, и нет никакого движения за стеклом, я неторопливо встаю с лавки и ухожу.
Мне стало спокойнее. Надеюсь, Богиня в целости и сохранности пребывает в том месте, где я её оставил.
«Ах» в Тростниковых Полях, тело в сохраняющем растворе, стены погребальной камеры неподвижны.
По пути в общежитие я покупаю продукты в магазине. Закрыв дверь комнаты, я отрезаю себя от остального мира. Впервые за долгое время я снова хочу рисовать.
Сложив продукты в холодильник, я достаю бумагу и карандаш. Сев за стол, я смотрю на белый лист и думаю. О том, что возврат в прошлое невозможен. Нельзя вернуться на ту же дорогу и идти тем же путем. Обернувшись назад, можно посмотреть на то, что оставил, но не надо пытаться тащить за собой тяжесть былого.
Я сделал первый шаг. Я социально адаптировался, — у меня есть крыша над головой и любимая работа. Моя поездка к Богине, как прощание с той частью жизнью, что я оставил в той квартире.
И еще — уже почти две недели, как она не приходит ко мне. Вернувшись в город, я словно расстался с Богиней. Там в деревне она была со мной, а здесь я словно забыл о её существовании.
Я рисую. Быстрыми и легкими движениями карандаша. Это моя попытка воскресить образ в памяти. Посмотрев на результат, я недоволен. Она не похожа на ту женщину, что я знал в той жизни. Смяв бумагу, я бросаю скомканное изображение в сторону и беру другой лист.
Вторая попытка так же неудачна.
Слепой осел никогда не найдет дорогу в Тростниковые Поля. И будет вечно брести в никуда, проклиная своё упрямство и свою ослиную долю.
Я слышу стук в дверь. Быстро убрав рисунок, я иду к входной двери и открываю её. Передо мной возникает Усиков. Он пьян, и на лице легко читается неподдельное удивление:
— О, доктор, а вы здесь как?
— Живу я здесь, — отвечаю я.
— Да вы что, — радостно удивляется он, — значит, я ошибся дверью. Извиняйте, доктор, мне надо туда.
Он показывает на соседнюю дверь и перемещает тело туда.
Закрыв дверь, я иду обратно к столу.
Рисовать я уже не хочу. Всё равно ничего не получается. Образ Богини потускнел в моей памяти, если не сказать, что стерся. Мне не хочется в это верить. И я не хочу признавать это. Лучше я отложу это на потом — пройдет время, и Богиня вернется. Так уже бывало.
Нажав на кнопку электрического чайника, я достаю из холодильника масло и колбасу. Сделав себе бутерброд, я наливаю в кружку с растворимым кофе кипяток.
Я жую и слушаю, как за стенкой веселятся тени. Громкие восторженные крики сменяются хоровым пением. Звон разбитой посуды мешается с грохотом падающего тела, за которым следуют взрыв хохота и новые восторженные выкрики. Я знаю, что это веселье надолго. Скорее всего, до глубокой ночи, и им нет дела, что, возможно, кто-то этой ночью не сможет уснуть, и пойдет завтра на работу не выспавшийся. Это не касается меня, но я помню, каким может быть человек.
Может, в моей жизни что-то изменилось. Может, я забыл образ Богини. Я даже могу согласиться с тем, что я за последний год изменился. Но — как оказалось, ничего не изменилось в мире теней.
Человеческое стадо, по-прежнему, бессмысленно двигается вперед, не замечая приближающейся пропасти.
А, значит, я снова могу вернуться на свою дорогу.
И идти по ней своим путем.
9
— Максим, у тебя девушка есть? — спросила Мария Давидовна после того, как парень замолчал.
Он нахмурился. Опустил голову. И отрицательно ею помотал.
— Совсем нет? Или сейчас нет, а раньше была?
— У меня нет, и никогда не было девушки, — ответил Максим, и затем быстрой скороговоркой продолжил, — они меня не любят. Они меня презирают. Они меня ненавидят. Они меня унижают.
— Это и было причиной того, что все твои жертвы — молодые женщины?
— Да. Я спросил у Бога, кого из людей я могу убивать. И Он мне сказал, что — всех. На моё усмотрение. И как я пожелаю. И я Ему сказал — спасибо. Да, я громко сказал ему слова благодарности. Потому что так хотел отомстить этим мерзким созданиям, которые смеют унижать меня.
Максим замолчал. На его лице застыла злая маска. Мария Давидовна тоже ничего не стала спрашивать, чувствуя, что сейчас парень сам расскажет причину своей ненависти.
И он стал говорить:
— В школе в восьмом классе мне понравилась девочка. Это произошло первый раз в жизни. Белые волосы, красивые глаза и милая улыбка. Я хотел дружить с ней. Подошел и сказал ей об этом, а она посмотрела на меня сверху, и засмеялась. Открыто так, жизнерадостно. И её подружка, которая стояла рядом тоже смеялась. И весь класс потом смеялся. Они бросали в меня скомканную бумагу, ручки, карандаши и смеялись. Этот смех звучит у меня в голове и сейчас.
У Максима начала дрожать верхняя губа.
— После армии я познакомился с девушкой. Она жила в соседнем доме и выгуливала во дворе свою собаку. Мы часто сидели на скамейке и разговаривали. Она показалась мне умной и порядочной девушкой. Я даже хотел предложить ей сходить в кино. Или в театр. А потом я увидел, как она целуется с каким-то парнем в подъезде. И этот парень засунул свою руку под её юбку, — Максим поморщился, словно именно сейчас видел эту картину, — я подошел и сказал, что она блядь. И этот парень избил меня. А эта девушка пинала меня ногами. Я видел её злое лицо, и она уже не казалась мне умной и порядочной. И тогда я впервые осознал простую истину — все бабы бляди.
Он сказал нецензурное слово с таким удовольствием, что стало понятно — Максим так часто говорил его про себя, что теперь, когда его можно произнести вслух, он очень рад это сделать.
— Этим же летом я пошел и снял проститутку на проспекте. Я подумал, что если всё женщины одинаковы, то есть ли разница, с кем начинать. Я привел её домой. Разделся и лег на кровать. Я не знал, что надо делать, и она это увидела. Она тоже сняла одежду, легла рядом, — Максим на секунду остановился, его взгляд заледенел, словно зафиксировав в своем сознании событие из прошлого, — и у меня ничего не получилось. Она пыталась. Руками, ртом, но — ничего. Отчаявшись, она оделась, и, уходя, сказала, что я — импотент. Она сказала этот таким презрительным тоном, что я потом всю ночь плакал. Я плакал, потому что понял, что она, скорее всего, права.
У Максима задрожали губы, словно он вот-вот заплачет. Еще больше опустились плечи, будто он хотел спрятаться от всего мира, забравшись под стол. Он замолчал, и это молчание затянулось.
— И что случилось потом? — наконец-то спросила Мария Давидовна.
Максим поднял голову и, глядя прямо перед собой сухими глазами, сказал:
— А потом у меня получилось. Через год. Вечером привезли труп молодой девушки после черепно-мозговой травмы. Наезд на пешехода. Она лежала на секционном столе неподвижно — чистая белая кожа, маленькая грудь с розовыми сосками, лобок с редкими волосками, чуть раздвинутые ноги. Я смотрел на неё. Долго. Забыв обо всем на свете. И неожиданно понял, что у меня всё получится. Да. Это осознание возникло внезапно. Я ощутил в себе такую мощь и силу. И это было так прекрасно. После я снова плакал, но теперь от счастья. Плакал навзрыд. От невыразимого счастья и такого прекрасного чувства, которое невозможно описать.
Мария Давидовна сидела, опустив глаза, чтобы парень не заметил омерзения в её глазах. Этот ублюдок с таким наслаждением рассказывал, как он изнасиловал труп, что у неё вдруг возникло нестерпимое желание выйти из комнаты и помыться. Немедленно.
Она встала. И вышла, хлопнув дверью.
В коридоре она прислонилась спиной к стене и, закрыв глаза, замерла.
— Мария Давидовна, что такое? Что случилось? — услышала она голос Вилентьева. — Почему вы вышли? Этот козёл такую песню поет, только записывай. Он же рассказывает всё, от начала до конца.
— Ничего страшного, когда вернусь, снова запоёт. Таким, как он, обязательно надо выговориться, — сказала доктор Гринберг, подумав, что для майора главное — показания преступника. О том, как она может это выносить, он даже не думает. Как и все мужики. Сволочи. Скоты, для которых самое главное в жизни — их член. Если он стоит, то он чувствует себя мачо, супергероем. Если нет, то виновата эта проклятая женщина. Если он способен трахнуть, значит, все отлично и даже замечательно. Если нет, то — посмотри на себя в зеркало, женщина, ты же страшнее, чем смерть, у меня из-за этого на тебя даже не стоит.
— Мария Давидовна, что с вами?
Внезапно, она поняла, что смотрит на Вилентьева с ненавистью.
И опустила голову. Этот парень в допросной комнате вывел её из обычно спокойного душевного равновесия. И она показала это майору. Впрочем, ничего страшного, бывает и хуже.
— Всё нормально. Просто не могу это слышать. Про эту мерзость. Но, не волнуйтесь, Иван Викторович. Сейчас я соберусь, вернусь к нему и продолжу, — сказала она, — этот урод расскажет все.
— Хорошо. И пусть, Мария Давидовна, он расскажет об убийствах, начиная с первого.
Вилентьев ушел. Мария Давидовна, вспомнив свою квартиру, своё надежное убежище, и стала мысленно говорить — сейчас я почувствую себя лучше, я могу полностью расслабиться, а потом быстро собраться, я могу управлять своими внутренними ощущениями, я справлюсь с напряжением в любой момент, внутренне я ощущаю, что у меня всё будет в порядке.
После того, как она успокоилась, Мария Давидовна, глядя на деревянный пол, подумала о том, что как хорошо, что в её квартире даже не пахнет мужским духом. Как хорошо, что Бог уберег её от замужества, или просто сожительства с представителем мужского племени. Пусть даже она за это отдала самое ценное в жизни — утраченное женское счастье.
10
У медсестры Марины тиреотоксикоз. Она сидит напротив и смотрит на меня коровьими глазами. После консультации эндокринолога она принимает правильные таблетки, но, скорее всего, доза недостаточна. Девушка пытается бороться со своим организмом, но избыток гормонов сильнее её.
— Михаил Борисович, — говорит Марина, — к нам записался Васильев на полчаса третьего.
— И?
— У него ВИЧ-инфекция, — она протягивает мне карту, на которой в правом углу написаны знакомые цифры приказа. Ниже этих цифр указан номер иммуноблота.
— Ну, и что?
Марина, вздохнув, говорит тихим голосом:
— Можно, я уйду, когда он придет?
Я невольно улыбаюсь. Затем, пожав плечами, киваю головой.
В кабинет заходит старая женщина. Она громко говорит, потому что плохо слышит. Кроме этого, у неё еще много различных хронических заболеваний, которые невозможно вылечить и с которыми она проживет еще лет десять. Она — инвалид третьей группы, и ей положены гипотензивные препараты бесплатно. После рутинного осмотра я слушаю её рассказ о внуке, который не забывает бабушку.
— Работает много, жену-то надо кормить, она у него на сносях, вертится, как белка в колесе, но бабку не забывает. Придет, продукты принесет, как-будто я сама не могу их купить, чаю со мной попьет, и дальше бежит. Замечательный парень, не то, что его отец, алкаш проклятый, — старушка хмурится, говоря про родного сына, — зальет зенки, и шарахается по району, меня позорит. Уж я ему говорила, уж и ругала, и даже била, а ему всё ни по чем, нажрется водки и песни поет.
Я пишу рецепты, и старушка уходит, довольно улыбаясь. В очереди долго не стояла, доктор попался внимательный, никуда не торопился, выслушал её рассказ о том, что уже никто не хочет слушать, и дело сделала — лекарства получила.
В дверь заглядывает молодой парень.
— Можно?
— Да.
Парень входит. Марина встает и, сказав, что она пошла к старшей медсестре за бланками рецептов, быстро исчезает из кабинета.
— Я по записи. Васильев Константин.
Парень жует жвачку и смотрит на меня. Он не поздоровался, и я понимаю, что он даже и не подумал об этом. У парня покатый лоб, очень короткая стрижка и слегка оттопыренные уши. Он как-то суетлив и не спокоен. Словно непроизвольно он прикасается к моей руке, и, отдернув пальцы, ждет, как я среагирую. Он даже на мгновение замирает, пристально вглядываясь в моё лицо.
— На что жалуетесь, Васильев Константин, — говорю я спокойно. Открыв карту, я вижу, что в последний раз он приходил весной, когда банальное ОРЗ осложнилось пневмонией.
— Плохо всё, доктор, — говорит парень, — сыпь какая-то на теле появилась. Второй день маюсь, чешется живот и бока. Особенно ночью, уснуть не могу, так зудит.
— А почему сразу к дерматологу не пошли?
Константин хмурит брови. Работа мозга формирует на лбу множественные морщины. Он даже на мгновение перестает жевать.
— Не знаю, — наконец-то говорит он, — я решил, что к вам должен пойти с этим.
Лоб разглаживается. Челюсти снова начинают двигаться.
— Поднимите рубашку, — говорю я, — посмотрим на ваш живот и бока.
Он выполняет мою просьбу, и я вижу типичные проявления опоясывающего лишая. Вирусная инфекция, которая появляется при снижении иммунитета.
— К дерматологу, Васильев Константин, — говорю я, протягивая амбулаторную карту, — а потом обязательно в СПИД-центр, впрочем, это вам еще и дерматолог скажет.
Парень уходит, и я вспоминаю тех ВИЧ-инфицированных наркоманов, которых убил. Ничего не меняется. Тени продолжают использовать наркотики, передавая друг другу вирус. Они продолжают идти по жизни, словно ничего не происходит. А другие тени продолжают их опасаться, даже если знают, что вирус иммунодефицита по воздуху не передается. Или даже бояться, словно они прокаженные.
Словно в подтверждение моих мыслей, возвращается Марина и открывает настежь окно.
— Я немного проветрю, Михаил Борисович, — говорит она, словно ждет моего одобрения.
— Хорошо, — соглашаюсь я.
Мне все равно, что делает медсестра. Я думаю о том, что сейчас у меня сознании нет ничего по отношению к больным СПИДом. Нет ненависти, и нет жалости. Ни злости, ни сострадания. Просто тени, который выбрали свой путь. Не важно, умрут они насильственной или своей смертью. Мне нет дела до их болезни и сопутствующих осложнений.
Может быть, два года назад я ненавидел их, потому что обвинял в том, что они убили женщину, которую я любил.
А, может, я просто придумал свою ненависть.
В любом случае, сейчас меня не интересуют ни молодой парень Константин Васильев, ни его сожительница, которой он отдал вирус половым путем. Ни их общий ребенок, который еще не родился, ни их общая компания, в которой используют один шприц на всех.
— Марина, вы что, не знаете, что вирус СПИДа по воздуху не передается? — неожиданно спрашиваю я.
— Знаю, — отвечает девушка и неудержимо краснеет, — я просто опасаюсь. А вдруг ученые и врачи ошибаются?
С серьезным выражением лица я показываю на дверь и говорю:
— Вы когда возвращались, брали рукой ручку двери, к которой только что прикасался Васильев. Наверное, надо еще руки помыть.
Марина вскакивает со стула и бежит к раковине.
Я задумчиво смотрю на свою левую руку. К ней прикасался парень. Я все еще чувствовал тепло его пальцев, сухую кожу ладоней. Парень живет своей жизнью и не хочет ничего менять. Его интеллект справился и со смертельной болезнью, и с желанием жить долгой счастливой жизнью, легко совместив эти несовместимые понятия.
Когда медсестра заканчивает мыть руки, я иду к раковине и смываю с рук эти ощущения, избавляя своё сознание от жизни Константина Васильева.
11
Мария Давидовна села на стул и, посмотрев на отрешенное лицо с закрытыми глазами, сказала:
— Максим, давайте вернемся к нашему разговору.
— Давайте.
— Вспомним двадцать шестое июля этого года.
Максим открыл глаза. И неожиданно широко улыбнулся. Хищно и безумно.
— Это было так замечательно. Страшно до дрожи в коленях. И в голове восторг. Я сидел на траве в лесопарке, темно и пустынно. Она быстро шла по тропе и еле слышно напевала. Я потом узнал, что она пела песню Светланы Сургановой.
Максим замер, словно услышал эту песню, и стал подпевать:
В небе полном звезд — имя твоё, В мире полном любви — нет твоих глаз, Мы куплены все за сверкающий грош Фальшивых улыбок, бессмысленных фраз.Он замолчал и, странно улыбнувшись, продолжил:
— Она шла и будто светилась. Мне так это понравилось, что я даже замер, и чуть было не пропустил её. Пришлось выскочить на тропу прямо перед ней, и, когда она замолчала, я ударил её по голове. Если бы вы знали, как это было прекрасно. Худенькое белое тело, лежащее покорно передо мной.
— Зачем вы разрезали живот и вытащили внутренние органы? — прервала его вопросом Мария Давидовна.
Максим недовольно посмотрев на неё, ответил:
— Так Он сказал. Выдави глаза. Вскрой живот и извлеки внутренние органы. Это нужно, чтобы люди почувствовали ужас. Чтобы каждый человек, который увидит это или узнает об этом, вздрогнул и не смог уснуть. Чтобы тьма накрыла этот мир, и человек проклял себя. Чтобы жизнь показалась им ужаснее, чем смерть.
— Это тебе сказал Бог?
— Да. Он стоял рядом и подсказывал, что и как делать. Я держал нож, а Он вел мою руку. Я выдавливал глаз, а Он был моим указательным пальцем. Я испытывал наслаждение, а Он говорил, что это моя награда за хорошую работу для Бога. Я плакал от счастья, и по Его щекам тоже текли слезы.
— Вы выдели, как по его лицу текли слезы?
— Нет. Я чувствовал это.
— Дальше. Тридцатого июля. Почему вы выбрали именно эту окраину города?
Максим нахмурился, зависнув на мгновение, и затем сказал:
— Не знаю. Я просто сел на автобус и поехал. Вышел на конечной остановке и пошел к лесу. Потом появилась она. Босиком по тропе, она словно летела, ничего не замечая вокруг. Мне кажется, Он готовил мне жертву. Он привел её туда и создал всё условия для меня. Тишина, темнота и наслаждение. И она тоже не сопротивлялась. Так спокойно приняла смерть, словно ждала её.
— В отличие от других?
— Да. Третья жертва испугалась. От неё неприятно пахло. Толстая и потная. Я даже не сразу захотел её. А потом, когда я стал разрезать живот, то с трудом добрался до брюшной полости. Передняя брюшная стенка — сплошной жир. Когда я закончил, то меня чуть не вывернуло. И тогда Бог мне сказал, что настоящее наслаждение надо заслужить. Я спросил — как?
Максим снова замолчал, и Мария Давидовна подтолкнула его, повторив его вопрос:
— Ну, и как его заслужить?
— Он сказал, что хватит прятаться в безлюдных местах. Пора выходить в центр. Там на центральных улицах я смогу заслужить истинное наслаждение. Он сказал, иди и убей так, чтобы вокруг были люди. И я согласился с ним. Опасность так заводит. Так возбуждает. Мы стояли в темной арке и ждали. Она быстро прошла мимо, чуть не задев меня плечом, и от неё шла волна злости. Я даже немного испугался, но Он подтолкнул меня, и я вышел вперед. Сначала убил парня, который, как мне кажется, умер от страха еще до того, как я ударил его ножом. А потом повернулся к ней. А она ударила меня по лицу. Сильно ударила. Хорошо, что на мне была маска.
В голосе Максима появилась обида, словно неожиданно его любимая игрушка развалилась в руках.
— Я ударил её ножом и убежал. Я пожаловался Богу, я показывал Ему шишку на голове от удара, и Он сказал мне, что настоящее наслаждение может дать только Боль. Настоящая Боль, когда разрывается сознание. Не этот пустяк, а Боль, когда ты уже не можешь кричать. Когда в глазах всё становится красного цвета. Когда невозможно произнести слово, и слово это — Боль.
Максим напряг мышцы рук, пытаясь освободить руки. Наручники впились в кожу. Лицо покраснело.
— Ты не убил её, — спокойно сказала Мария Давидовна.
Максим неожиданно расслабился. И сказал:
— Знаю. Я услышал об этом по радио на следующее утро. Что ж, значит, такая у неё судьба.
12
Усиков пришел с результатами обследования. Как я и предполагал — всё плохо. В общем анализе крови высокое СОЭ, в описании рентгеновских снимков четко обозначено наличие опухоли в нисходящем отделе толстого кишечника.
— Ну, и что там, доктор?
— Опухоль, — лаконично отвечаю я.
Усиков всё еще не понимает. Он хлопает глазами и выжидающе смотрит на меня. Он думает, что я ему сейчас расшифрую это непонятное слово.
— То есть, это как? — уточняет он, видя, что я не собираюсь ничего говорить.
Я беру бланк и пишу направление на госпитализацию в хирургическое отделение. Протянув ему бумагу, я говорю:
— Надо, Виктор Аркадьевич, идти в больницу. Это направление в хирургический стационар, где вас будут обследовать и лечить.
Он берет бланк, задумчиво смотрит на написанные мною слова и снова спрашивает:
— Так я не понял, доктор, что у меня?
Вздохнув, я повторяю:
— У вас, Усиков, опухоль в толстой кишке.
Я вижу, что мужчина по-прежнему не осознает значения написанных в направлении и произнесенных вслух слов. Искреннее непонимание, недоумение и нарастающий страх. Его подсознание приняло информацию, а сознание усиленно отторгает её, воздвигая баррикаду из пустых мыслей и ложных ощущений.
— У вас рак.
Я снова лаконичен. Но последнее слово наконец-то пробивает защиту. Мужчина вдруг начинает часто моргать, глаза наливаются слезами, руки дрожат. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но у него ничего не получается. Только хриплый выдох. Крупные слезы торят дорожки на щеках. Положив направление на стол, Усиков вытирает слезы рукавом рубашки. И затем он говорит трагическим тоном:
— Я умру?
— Конечно, — говорю я честно, — и я тоже умру, и она тоже умрет, — я показываю пальцем на Марину, — однажды всё умрут, вопрос надо ставить не так. Спросите лучше, когда вы умрете?
Он кивает и повторяет за мной:
— Когда я умру?
— Надеюсь, не скоро, если пойдете в больницу и станете строго выполнять рекомендации докторов. Давайте, Усиков, идите домой, собирайтесь и завтра с утра в стационар.
Он кивает, забирает направление и уходит.
После недолгого молчания, Марина, кашлянув, говорит:
— У вас, Михаил Борисович, еще сегодня вызов на дом. Вот фамилия, адрес и телефон, — она протягивает мне бумажку.
Я смотрю на медсестру, — большие глаза пристально смотрят на меня, губы чуть улыбаются, на щеках легкий румянец. Я замечаю, что сегодня Марина накрашена — совсем чуть-чуть, еле заметно, но это сильно меняет её внешний образ в лучшую сторону. Я протягиваю руку и беру бумажку.
И внезапно понимаю, что Марина в своих эротических фантазиях уже спит со мной. Я ошибся, приняв её коровий взгляд, за проявления тиреотоксикоза. Не думаю, что это уже любовь, но то, что медсестра переживает период влечения и влюбленности в меня, я уверен на все сто процентов.
Я опускаю глаза, и, посмотрев на адрес, спрашиваю:
— Где это?
— Тут недалеко, Михаил Борисович, за поликлиникой направо и вдоль по улице до первого перекрестка, а там снова направо и второй дом будет ваш.
Марине двадцать пять лет. Она еще не живет половой жизнью, хотя в своих фантазиях давно лишилась девственности. Чувство влюбленности возникает у неё в третий раз. Первые два раза закончились не очень хорошо, и я опасаюсь, что и третье закончится ни чем. Она надеется, что в этот раз всё получится, она хочет любить и жаждет взаимности. Мама уже второй год говорит ей о замужестве и о будущих внуках.
— Спасибо, Марина, направо, прямо до перекрестка, и снова направо. Я найду.
Под моим взглядом щеки краснеют еще больше, она, потупив глаза, неожиданно бросает в мою сторону робкий взгляд. И улыбается, заметив, что я смотрю на неё.
Девушка по имени Марина играет в древнюю, как мир, игру. Я мог бы ей подыграть, дав призрачный шанс на продолжение. Я даже мог бы воспользоваться её наивностью. Но — мне это не надо.
Впрочем, мне бы не хотелось огорчать медсестру. Нам вместе работать, и я не собираюсь наживать себе врага, во всяком случае, сейчас.
Я улыбаюсь. И говорю:
— Пожалуйста, Марина, отнесите талоны и карты с выписанными рецептами статистам. Мне бы не хотелось после вызова возвращаться в поликлинику.
— Да, конечно, Михаил Борисович. Обязательно сделаю.
— Спасибо.
Я ухожу, чувствуя спиной её взгляд.
Я выхожу из поликлиники и думаю о том, что любовь — это бред сумасшедшего и галлюцинации наркомана. Ты забываешь, что говорил и делал вчера, но так ярко и красочно описываешь то, что будет завтра. Ты воздвигаешь замки из сухого песка, не замечая, что находишься в пустыне и поднимается ветер. Ты лепишь из воздуха фигуру, которую любой другой человек даже не может представить, и, когда ты пытаешься рассказать о своей любви, никто тебя не слышит. Впрочем, как правило, никто и не хочет слушать. Я думаю о том, что любовь — это одиночество в толпе на огромной площади. Тебя разрывает чувство и ты кричишь во все горло, но — ничего, кроме нецензурных слов и толчков не получаешь в ответ. Хотя, иногда можно услышать смех и улюлюканье. Или увидеть неприличные жесты и двусмысленные позы.
13
— Девушка осталась жива и рассказала нам о тебе, — повторила Мария Давидовна.
— Да, — кивнул Максим, и усмехнулся, — это Он захотел. Так и сказал — пусть знают, что я уже здесь. Пусть ужас растекается по улицам города, погружая этот мир в бездну страха. Пусть вздрогнет каждый человек. Пусть молятся, но я не услышу их мольбы, потому что не хочу этого. Пусть несут свои дары, но я не приму их. Только жертвы избавят этот мир от порока и грязи.
Максим засмеялся. Неожиданно и жизнерадостно. Откинувшись назад, запрокинув голову. И затем, резко переместив туловище вперед, с размаху и с глухим звуком ударился лбом о стол. Мария Давидовна от неожиданности вскочила со стула и отпрыгнула от стола.
Максим поднял голову. Струйки крови из рассеченного лба. Серьезный взгляд. Спокойные слова.
— Глядя в зеркало, скажи громко и по буквам слово Смерть, и увидишь, как побелеют волосы на твоей голове. Потому что увидишь вездесущую Смерть в отражении за своей спиной. Закрой глаза от ужаса и ощути ледяное дыхание на своей коже, чтобы сознание мгновенно замерзло и покорно приняло свою участь. Почувствуй на коже ледяные пальцы Смерти, и даже не пытайся сопротивляться, потому что Её приход неизбежен.
Мария Давидовна так и стояла у стены, пока медсестра обрабатывала рану и затем Максима увели в камеру. Иван Викторович подошел к ней и сказал:
— Всё, Мария Давидовна, всё закончилось. Пойдемте, перекусим, попьем кофе, поговорим.
Она позволила взять себя под руку и увести из допросной комнаты. Идя по коридорам, доктор Гринберг сосредоточено смотрела себе под ноги и молчала. Майор что-то говорил, но она только по его интонациям понимала, что следователь очень доволен. Прошло меньше месяца от первого убийства, а они уже имеют практически всё, что нужно, чтобы закрыть преступника.
В кафе они сели за дальний столик, и первый глоток кофе был для Марии Давидовны, как живая вода. Она вздохнула. Выдохнула в круг. Затем в квадрат и треугольник. И пришла в себя.
— Ну, доктор, что скажете?
Майор назвал её доктором, значит, он хочет знать её мнение, как профессионала.
— Ну, что же, Иван Викторович. Сначала я скажу, как доктор, а потом, как обычный человек.
— Хорошо.
— И как доктор, я могу сказать одно — парень давно психически болен. В детстве и юношестве стертые проявления аутизма, совершенно незаметные для окружающих, которые усугубились инфекционным заболеванием и психо-эмоциональной травмой — служба в армии и смерть матери. Затем физическая травма — мне бы хотелось уточнить выраженность черепно-мозговой травмы после падения с пятого этажа, чтобы быть более точной — которая привела к дебюту заболевания. Вербальный галлюциноз в виде слуховых и визуальных галлюцинаций, который радикально изменил поведение Максима, превратив его из тихого санитара морга в убийцу-маньяка. Расстройство самоощущения и окружающего мироощущения, которое привело к первичному бредообразованию — он сам себе объяснил галлюцинации, создал из них свой мир, в котором нашлось место ему и его бреду. И он сделал это логично и последовательно. У Максима даже не возникло сомнения в том, что он может быть в чем-то неправ. В этом созданном мире у него есть Бог, которого он любит и для которого готов страдать. С его именем он приносил жертвы. И, может быть, впервые в жизни был счастлив, потому что Бог был рядом, и Он гордился им. Галлюцинаторные эпизоды толкали его к действию даже тогда, когда разумный убийца не выйдет убивать. Зная, что он обнаружен и что его ищут, здоровый человек затаился бы надолго, а Максим взял нож и вышел из своего убежища.
— Почему же никто раньше не замечал, что он психически больной? — спросил майор, и Мария Давидовна ясно услышала в его голосе раздражение.
— Потому что таких много среди нас, — улыбнулась она, — тихий спокойный молодой человек с некоторыми странностями характера, но ведь он никому не мешает. Да, живет один, у него не ладится с девушками, но ведь это только вызывает улыбку — ну, робкий мальчик, ничего, и для него рано или поздно найдется та, которая разбудит его. В конце концов, так происходит всегда. Молчаливый и неразговорчивый парень, да ведь это даже лучше, не раздражает окружающих своими разговорами и глупыми репликами. Порой сидит и тупо смотрит в одну точку, ну и ничего страшного, главное, он исправно и точно выполняет порученную ему работу. Иногда «крышу срывает» — так ведь все мы живем в большом городе с бешеным ритмом с постоянными стрессами, парню просто надо отдохнуть. Оглянитесь, Иван Викторович, таких людей вокруг нас сотни, если не тысячи. Они живут, отгородившись от всего мира за забором своего сознания, и ходят по тем же улицам, что и мы. Выйдя из подъезда, мы здороваемся с соседом, и идем дальше, даже не задумываясь о том, как и чем живет этот малознакомый нам человек. В гостях мы гладим мальчика по голове, даже не понимая, что этот ребенок нас не замечает. Мир мегаполиса полон людей, балансирующих на краю своего сознания. И очень часто эти люди падают в бездну. И мы этого не замечаем, до определенного момента, но, как правило, тогда уже бывает поздно.
Мария Давидовна замолчала, закончив монолог усталым голосом.
— Ладно. Хорошо. А теперь скажите своё мнение, не как доктор, а как обычный человек, — вздохнул Иван Викторович.
Она кивнула и спокойно сказала:
— А как обычный человек, я считаю, что таких ублюдков, вне зависимости от причины их маниакального поведения, надо навсегда изолировать от человеческого общества. Только одиночная камера или, — Мария Давидовна замерла на мгновение и затем продолжила, — или высшая мера наказания. Пока я знаю, что этот Максим жив, пусть даже его навечно изолируют в тюремной психбольнице или одиночной камере для пожизненно заключенных, я не смогу спокойно продолжать жить. Я имею в виду, что я не смогу жить с такой несправедливостью — невинные жертвы маньяка мертвы, а он дышит одним воздухом со мной. Воздухом этой планеты.
Она замолчала. И сделала второй глоток из чашки с остывшим кофе.
— А вот мнение обычного человека мне нравится больше, — сказал Иван Викторович, — и, может, вы напишите именно это мнение в своем заключении. А, Мария Давидовна? Давайте сделаем это, и Киноцефал закончит свою жизнь в четырех стенах одиночной камеры. Смерть для него не обещаю, потому что у нас в стране мораторий на смертную казнь, а вот пожизненно камеру-одиночку — легко.
Мария Давидовна усмехнулась.
— Если бы всё было так просто. Вы ведь знаете, что суд может не удовлетворить мнение всего одного психиатра. Потребуется коллегиальное решение независимых специалистов, и — вы прекрасно знаете, что это решение будет однозначно в пользу того, что Киноцефал болен.
— Но ведь суд может удовлетвориться мнением одного специалиста, особенно учитывая общественный резонанс, когда люди требуют возмездия?! И судья хорошо знаком с делом и тоже имеет своё мнение обычного человека?! При удачном стечении обстоятельств всё может получиться.
— Иван Викторович, вы хотите, чтобы я поступилась своими профессиональными принципами?
— Да.
— А знаете, майор, вам даже не придется меня уговаривать.
Мария Давидовна залпом выпила холодную жидкость и встала.
— Готовьте дело в суд, Иван Викторович. Завтра у вас на столе будет моё заключение по Киноцефалу, в котором я однозначно напишу, что пациент вполне вменяем и может отвечать за свои поступки.
Майор с довольной улыбкой посмотрел вслед уходящей женщине и потер руки. Всё получилось как нельзя лучше. И, может быть, когда всё закончится, его заметят там, наверху.
И это будет самым удачным завершением этого дела.
14
Выйдя за поликлинику, я оказался на улице. Двухэтажные кирпичные дома, построенные в середине прошлого века. Облупившаяся штукатурка на стенах и местами поломанный шифер на крышах. Широкие балконы на вторых этажах, как правило, заставлены старыми шкафами и завалены барахлом. Я иду прямо до перекрестка и, свернув направо, вижу впереди по обе стороны улицы бараки. Одноэтажные деревянные здания, которые старше меня в два, если не в три раза.
И я вдруг понимаю, почему на четвертом участке, который мне дала начмед, давно нет участкового доктора. Никто не хочет работать на этой территории с нищими и озлобленными пациентами, живущими в этих забытых Богом трущобах.
Я иду к первому бараку и, сверившись со своими данными, подхожу к первому проему. Двери нет, и, похоже, очень давно. Деревянный пол провалился, и, чтобы пройти внутрь, надо встать на кирпич справа, а затем на доску слева.
В бараке, как я и ожидал, коридорная система. Я смотрю на цифры на дверях. Найдя нужные два знака, я останавливаюсь и, вздохнув, стучу в дверь. Я жду, но ничего не происходит. Тишина за дверью. Я хочу постучать снова, но за моей спиной открывается дверь, и я слышу голос:
— Ну, чё ты, как олень, бьешься в дверь?
Обернувшись, я вижу пьяную женщину. Она, чуть покачиваясь, смотрит на меня.
— Чё те надо? — снова бормочет она.
— Я доктор из поликлиники. Пришел на вызов.
— А, доктор, тогда ладно. На ручку нажми, толкни и входи. У Людки всегда открыто.
Дверь закрывается и снова в коридоре наступает тишина.
Я открываю дверь и вхожу. Маленькая комната с высоким серым потолком. Стены, оклеенные газетами. Справа покосившийся шифоньер, слева угол отгорожен выцветшей занавеской. У окна стол и табуретка, и в правом углу диван и телевизор. В комнате стойкий запах мочи и плесени.
— Здравствуйте, я доктор, — говорю я громко.
Из-за занавески я слышу звук, похожий на мычание. Отодвинув край ткани, я заглядываю в угол. На покосившемся диване лежит обнаженное тело. Скомканное одеяло валяется на полу. На лице — вымученная косая улыбка, похожая на гримасу. Изо рта вновь раздается мычание.
Парализованный человек женского пола.
— Дома еще кто-то есть? — спрашиваю я, даже не подумав, что она не сможет ответить. Но она понимает, — скрюченные пальцы руки показывают на тумбочку. Я беру лист бумаги и отхожу к окну, ближе к свету.
«Здравствуйте, доктор. Я работаю на двух работах, поэтому не могу сидеть рядом с мамой. Нам нужно заключение терапевта для оформления инвалидности. Медицинский полис, амбулаторная карта и карта на МСЭК, в которой надо написать заключение, лежат на тумбочке. Спасибо».
Коротко и ясно.
Вежливо и без эмоций.
Я иду к тумбочке и беру документы. Заметив, что женщина смотрит на меня, я улыбаюсь. Она почти не может двигаться и говорить, в глазах — обреченность и равнодушие. Быстро пролистав амбулаторную карту, я несу табуретку от стола и сажусь рядом с больной. Спокойно и неторопливо считаю пульс, слушаю сердце и легкие. Когда пальпирую живот, женщина опорожняет кишечник. К запаху мочи добавляется очень неприятное зловоние. Я смотрю в глаза особи женского пола, и вижу там равнодушное удовлетворение.
Никогда не замечал за собой брезгливости, но сейчас я вдруг понимаю, что больше не хочу прикасаться к телу, которое лежит в собственном дерьме.
Я иду в дальний угол, сажусь на диван и максимально быстро пишу в карте. Поставив точку, я складываю документы на стол и сразу же ухожу, даже не заглянув за занавеску.
На улице я полной грудью вдыхаю воздух и медленно иду домой. Я думаю о том, что увидел.
Когда-то Максимилиана Увелкова была важной женщиной. Руководила сначала комсомольской организацией в институте, затем пришла на завод и очень быстро встала у руля партийной организации. У неё было всё, что возможно в условиях советской страны, — хорошая квартира, импортная мебель, уважение в городе и возможность отдыхать на море в лучших санаториях страны. Властная и решительная женщина, она вышла замуж поздно и родила девочку. Муж очень быстро спился, и она избавилась от него, отправив сначала в наркологический диспансер, а потом и в психиатрическую больницу.
Страна неожиданно развалилась, и Максимилиана вдруг оказалась на обочине жизни. Никому не нужная, — ни заводу, ни бывшим соратникам-коммунистам, ни народу. Друзей у неё не оказалось, родственников тоже. Только дочь, которая к тому времени уже подросла. В конце девяностых дочь вышла замуж и уехала в другой город, и Максимилиана, оставшись в одиночестве, стала пить. Через два года, ничего не сказав дочери, она продала трехкомнатную квартиру, переехав в однокомнатную. Затем еще через год перебралась в барак на окраине города.
У дочери брак не сложился, муж обвинял её в бесплодии. После развода, она вернулась домой и узнала, что у них больше нет ничего, а мать превратилась в алкоголичку. Она кричала на неё, а та пьяно улыбалась и говорила, что ей и так хорошо, а если ей не нравиться жить в этой комнате, то пусть идет в жопу.
А через две недели Максимилиану парализовало. Удар случился вечером, когда дочь в очередной раз пыталась образумить мать. Скорая помощь увезла женщину в больницу, в неврологическое отделение, и через неделю Максимилиану вернули домой в неподвижном состоянии.
Дочь очень скоро стала ненавидеть тело, которое когда-то было её матерью. Она хотела хоть как-то изменить свою жизнь. Она мечтала о смерти матери. Но время шло, а Максимилиана продолжала лежать на диване, ходить под себя, мычать и тупо смотреть на окружающий её мир.
Наверное, дочь смирилась, неся свой крест.
В конце концов, она получала пенсию Максимилианы, и эти деньги совсем были не лишние для неё. И документы на МСЭК она оформляла для того, чтобы количество пенсионных денег увеличилось.
Каждый выживает, как может. Я не вправе кого-либо судить или оправдывать. Я мог бы помочь, но — не в этом случае.
Я иду домой в свою комнату.
Я думаю о быстрой смерти, которая избавляет мир теней от паразитирующих особей.
15
Я учусь жить настоящим. Когда нет какой-либо цели в ближайшей или отдаленной перспективе, то каждое мгновение надо проживать так, словно ты точно знаешь, для чего живешь. Если это не получается, то или сойдешь с ума, или сопьешься, или выберешь своей целью смерть.
Я иду в магазин и неторопливо складываю в корзину продукты. Я думаю над каждой упаковкой — эти макароны я сварю на два раза, пельмени мне хватит на три дня, банка сметаны тоже на три дня. Мармелад «Лимонные дольки». Я смотрю на ярко-желтый товар и понимаю, что это я тоже хочу. Сладкий продукт, который даст мне возможность вспомнить детство.
Я покупаю овощи — картофель, помидоры и огурцы. И фрукты — яблоки и апельсины. В хлебном отделе буханку белого хлеба и батон.
Я живу этими мгновениями, потому что у меня нет цели в жизни. То же самое было в деревне, — за простыми повседневными делами я прятал от себя действительность. Я не знал тогда, и не знаю сейчас, для чего я живу.
К чему мне стремиться?
Для чего я здесь?
Я жил полноценной жизнью, когда собирал жертвы для Богини. Я знал, что мне делать. Я планировал и убивал. Те дни, как откровение, давали мне ощущение нормальной жизни. Я создавал Богине условия для жизни в Тростниковых Полях.
Я шел по темному лесу на свет далеких фонарей, держа её за руку.
Сейчас я снова потерялся во тьме леса. Нет ни света фонарей, ни теплой руки.
Можно бессмысленно брести в неизвестность, или попытаться найти смысл в ежедневных мелочах, которые определяют жизнь человеческого стада.
Или можно, остановившись посреди темного леса, терпеливо и не спеша, поискать свет далекого фонаря. Обрести цель и начать движение к ней.
Я думаю над этим, когда вечером сижу за столом и рисую мгновения сегодняшнего дня. Движения карандаша уверенные и быстрые, — это Марина, большие глаза которой смотрят на меня. Она бросила пробный шар и ждет от меня ответных шагов. Она мечтает о любви и домашнем уюте. Она хочет родить двоих детей — мальчика и девочку. Марина уже нарисовала в своем сознании будущую жизнь со мной. Подробно и в мелочах. Она даже знает, какая у нас будет люстра в гостиной и какой ширины кровать в спальне.
Но на моем рисунке её жизнь складывается далеко не так радужно. Марина выйдет замуж за молодого парня, менеджера крупного автосалона. Она родит мальчика, у которого сразу после рождения найдут врожденный порок сердца, несовместимый с жизнью. Он умрет на операционном столе, и для Марины наступят черные дни. Муж станет прикладываться к бутылке, потом будет бить жену. И в один из дней от удара по голове, Марина получит сотрясение мозга. Она проведет в коме два дня, а когда через месяц вернется домой, найдет его пустым и холодным. Впрочем, она даже будет рада этому. Потом будет операция на щитовидной железе. Долгая реабилитация и заместительная терапия. Одиночество и странные сны, зовущие её сделать шаг в пропасть.
И она однажды сделает этот шаг, бросившись вниз головой с девятого этажа.
Я складываю рисунки в стопку и откладываю в сторону. Мне должно быть жаль девушку, но я, отложив её жизнь в сторону, словно забываю о простых человеческих чувствах. Жалость или сострадание никак не помогут ей. И даже если я сейчас исполню её мечты, ничего не измениться, потому что в её будущем меня нет.
Любовь — это, как сон. Спишь и видишь прекрасные сновидения, яркие и богатые событиями, а когда проснешься, то понимаешь, что реальность совсем не та, что ты мечтал. И снова хочется уснуть и никогда не просыпаться. А когда приходит бессонница, даже мимолетное забытье кажется благом, даже рваный сон — счастьем.
Я достаю чистые бумажные листы и начинаю рисовать. Я рисую жизнь Максимилианы и её дочери. Впереди у них еще целый год совместной жизни. Парализованная женщина, живущая в своем призрачном сознании, в этом мире проявляет себя безусловными рефлексами. Она с удовольствием ест то, что дочь всовывает ей в рот. Она без предупреждения опорожняет мочевой пузырь и кишечник, и, лежа в своих экскрементах, чувствует себя счастливой. Она воспринимает только боль, и, когда терпение дочери кончится, она будет отчаянно мычать в ответ на удары мокрым полотенцем по телу.
Дочь проклянет мать, сначала в своих мыслях, а потом и в делах. Она перестанет её кормить. Сначала на ночь, а потом и днем станет вставлять в рот беспомощной женщины кляп, чтобы не слышать звуки, издаваемые матерью. Она будет бить её, когда поймет, что ничего не получается.
И однажды она нанесёт последний удар. В тот раз в руке будет не мокрое полотенце, а литровая банка с медом. И удар придется по голове. Максимилиана умрет мгновенно, а дочь, жизнь для которой стала казаться мучительной и абсолютно бесцельной, обретет покой. Погрузившись в свое сознание, она перестанет замечать то, что её тело находится в закрытом лечебном заведении.
Я мешаю две стопки рисунков и разбрасываю их по столу. Я словно гадаю на картах. Карандашные рисунки ложатся так, что сразу становится ясно — пока не видны яркие точки далеких фонарей.
Пока только холод и тьма.
И куда идти — не понятно.
Я смотрю на рисунки, разбросанные по столу, и думаю.
Любовь — это жизнь и смерть. И они так тесно связаны, что иногда не совсем понятно, что лучше — жить или умереть. Это состояние, когда часть твоего сознания так хочет умереть, что ты делаешь всё, чтобы смерть нашла тебя, а другая часть — нестерпимо хочет жить, и ты цепляешься изо всех сил за край обрыва. И только найдя себя где-то посередине, на стыке жизни и смерти, ты становишься самим собой и перестаешь любить, ненавидеть и бояться.
Именно тогда и только тогда возможно возвращение.
16
Мария Давидовна сидела и смотрела на монитор. Она только что набрала текст заключения по подследственному Максиму Лобанову. Ей осталось только нажать на кнопку печати, и всё для неё закончится. Дальше останется только ждать и надеяться, что Вилентьев окажется прав. Бесплатный адвокат под давлением общественности не посмеет заострять внимание суда на вменяемости убийцы, а судья, исполненный праведного гнева, удовлетворится психиатрическим заключением всего одного специалиста и вынесет обвинительный вердикт.
Да, она перешагнула через себя, потому что ясно осознавала, что у парня психическое заболевание. Но в данном случае, даже болезнь человека не является оправданием для его поступков. Может, он и не осознавал, скорее всего, так и было, но разве родителям и родственникам жертв есть дело до душевного состояния убийцы. Признавая Максима Лобанова невменяемым в силу заболевания, она тем самым признавала, что любой убийца может уйти от наказания, спрятавшись за забором своего безумия. Мария Давидовна этого не хотела, — не в этом случае, по крайней мере, — и поэтому кликнула мышью по кнопке печати. Раздался шум принтера и листы бумаги полезли через прорезь печатающего устройства.
Мария Давидовна задумчиво смотрела на монитор, по которому плавали разноцветные рыбки, и не видела этого.
Преступник задержан, подробные показания зафиксированы на бумаге, заключение о вменяемости убийцы торчит из принтера. Всё — дело закончено. Осталось передать его в суд, и проследить, чтобы Киноцефал навсегда исчез в каменном мешке одиночной камеры.
Так и случится. Она нисколько в этом не сомневалась. Но всё это уже ушло в прошлое.
Мария Давидовна тоскливо подумала о докторе Ахтине, который всё это время где-то прятался и ни разу не сделал, ни одной попытки найти её. Наверняка, она для него — пустое место, случайный человек, мимо которого можно пройти, не обратив внимания. И тогда Ахтин просто использовал её, пытаясь узнать, как движется следствие. И сейчас — он даже не посмотрел на неё. Она не замечала, как слезы стекают по щекам и падают вниз. Она просто оплакивала свою любовь, для которой в жизни не было места. Так же, как теперь не было никакого смысла в жизни вообще. Он появился и снова исчез, и она боялась, что теперь уже навсегда. Она для него ничего не значит, и с этой мыслью придется смириться.
Впрочем, у неё всегда есть выбор.
Мария Давидовна встала со стула, вставила своё заключение в файл и сложила в сумку. Она обещала майору, что привезет сегодня заключение, а она привыкла выполнять обещанное. Выключив компьютер, она подхватила сумку за ручки, нажала на клавишу выключения света, и вышла из кабинета. Со странным ощущением, что она уходит из этого кабинета навсегда.
Через полчаса Мария Давидовна, постучав, вошла в кабинет Вилентьева. Майор, прижав к уху телефонную трубку, махнул рукой — дескать, проходите и садитесь. Она кивнула и устроилась на стуле. Достав из сумки файл, положила его на стол перед Вилентьевым.
Майор, закончив говорить по телефону, встал со стула и, подойдя к окну, задумчиво произнес:
— Нутром чувствую, что Парашистай где-то здесь, в городе. Затаился там, где его никто не ищет. Я только не пойму, почему он появился именно тогда, когда вы пошли в ночь, а Киноцефал вышел на свой промысел? Какая здесь связь? Неужели он никак не связан и никак не влиял на Киноцефала? Не могу в это поверить.
Он посмотрел на женщину, и Мария Давидовна, разжав сцепленные пальцы рук, сказала, прямо и открыто глядя в глаза Вилентьеву:
— Я не знаю ответы на ваши вопросы.
Майор хмыкнул. И кивнул. Ничего, — придет время, и он найдет ответы на свои вопросы. Вернувшись к столу, он быстро просмотрел принесенный женщиной документ и спрятал его в сейф.
— Спасибо, Мария Давидовна, мне было приятно работать с вами, — сказал со слащавой улыбкой, и она услышала между слов — если я найду между вами связь, я обязательно напомню вам о себе.
Доктор Гринберг попрощалась и вышла. Она шла по коридорам следственного управления и думала о том, что доктор Ахтин пришел именно тогда, когда понадобилась его помощь. Ни кому-нибудь, а именно ей. Он всё это время был где-то рядом и появился в нужный момент. Как же она раньше об этом не подумала. Он появился и спас её. Это ли не лучшее доказательство того, что она что-то значит для него.
Её душа пела песню, в которой снова появились слова любви.
В конце концов, она просто человек, обычная женщина, которая хочет любить и быть любимой. Она может ошибаться. И то, что Михаил Ахтин не обернулся, когда она выкрикнула его имя, совсем ничего не значит. Может, она не крикнула, а просто прошептала, или подумала. Ахтин мог её просто не услышать. Главное, — он пришел именно в ту минуту, когда она нуждалась в нем. Он пришел и спас её.
Иногда поступок лучше любых слов говорит о любви.
Чаще всего, слова без действий не значат абсолютно ничего.
Она любит.
И она любима.
И это то, ради чего стоит жить.
С этой прекрасной мыслью Мария Давидовна пошла домой. В свою квартиру. Мысленно любить и терпеливо ждать.
Любовь — это бездна. Настолько глубокая пропасть, что невозможно услышать упавший на дно брошенный камень. Настолько гипнотически заманчивая и притягательная пропасть, что практически без колебаний делаешь шаг вперед. И падение в неё превращается в вечность, когда каждое мгновение полета проживаешь с неизбывной радостью и восторгом.
17
Блондинка с правильными чертами лица. Длинные волосы, прямой пустой взгляд из-под густых длинных ресниц. Ярко-красные губы. Белая блузка с глубоким декольте. Длинные ногти с рисунком на пальцах рук. Девушка сегодня первая по записи, и, увидев её, я вздыхаю.
День начинается плохо.
— На что жалуетесь?
— Горло болит.
Девушка открывает рот и тычет пальцем в отверстие.
— Как болит? Жжет, свербит, режет или просто глотать больно?
Блондинка задумчиво смотрит на меня и говорит:
— Да. Наверное, жжет. Глотать больно, особенно, горячий чай.
— Температура повышалась?
— Нет.
Откройте рот шире.
Она широко открывает рот. Направив настольную лампу, я шпателем придавливаю язык и смотрю на заднюю стенку глотки.
На фоне слизистой оболочки рта розового цвета хорошо видны красные эрозированные участки. Два маленьких по размеру и один, примерно, с двухрублевую монету.
Я убираю шпатель и, заметив, что девушка не собирается закрывать рот, говорю:
— Закройте рот.
— Ну, и как там у меня? — спрашивает она.
Я не отвечаю и, протянув руки, щупаю её шею и подбородок. Подъязычные и шейные лимфатические узлы увеличены.
— Да, да, и тут тоже какие-то узелки появились, — сразу же добавляет девушка, — повылазили, но вроде не болят.
— Орально-гинетальные контакты практикуете? — спокойно спрашиваю я.
— Чего? — удивленно хлопает ресницами девушка.
Я, вздохнув, расшифровываю свой вопрос:
— В рот берете?
Блондинка на мгновение замирает, в глазах отражается усиленная работа мысли, и затем она отвечает:
— Да, мне это нравится.
В голосе даже слышны оттенки гордости. Она современная женщина, и ей нечего стесняться. Она даже хочет сказать фразу, которую вычитала в журнале для женщин, что нет ничего предосудительного в том, что двое делают в постели, если это доставляет удовольствие обоим. Но я не даю ей эту возможность.
— Сейчас пойдете в лабораторию и сдадите кровь из пальца. Дождётесь результат и вернетесь ко мне. Марина, дайте девушке направление на микрореакцию и напишите сверху, чтобы сделали срочно.
Девушка выходит, а Марина смотрит на меня. В глазах написан вопрос, который она хочет задать, но озвучивает она совсем другое:
— А зачем вы дали ей кровь на сифилис? Вроде, при ангине это не надо делать.
Медсестру сжигает любопытство, — зачем я спрашивал девушку об её половой жизни. Она уже ревнует, полагая, что я заинтересовался пациенткой. Симпатичная блондинка — это серьезный противник для неё, и Марина начинается готовиться к бою.
Улыбнувшись, я уклончиво отвечаю:
— Ангины бывают разные.
Дверь снова открывается и заходит следующий пациент. Мужчина с насморком, кашлем и повышенной температурой. Типичное острое респираторное заболевание. После осмотра я выписываю больничный лист и назначаю лечение.
Затем пришли еще трое больных — обострение цистита у молодой женщины, инвалид по заболеванию сердца за рецептом на бесплатный препарат, мужчина за заключением терапевта перед плановым грыжесечением. Я неторопливо делаю своё дело, даже не задумываясь и не замечая пациентов. Мне не интересны ни они, ни их болезни, ни их будущее.
Я словно не замечаю то, как на меня смотрит Марина. В больших глазах девушки восхищение и обожание, и я уверен, что это абсолютно невозможно. Любовь с первого взгляда — это бредовая выдумка эмоционально неустойчивых людей, пытающихся разнообразить свою пустую жизнь. Марина придумала свою любовь, но я не собираюсь убеждать её в этом. Пустое занятие. Она воздвигла свой воздушный замок и поселила меня туда. Я могу вырваться из плена, только убив своего захватчика. И не обязательно убивать физически, для расправы хватит несколько слов.
Блондинка возвращается, садится на стул и протягивает мне результат анализа.
— Тут написано, что анализ положительный. Что это значит?
Она не прикидывается, она действительно не понимает. Я короткими фразами терпеливо и спокойно объясняю:
— Вы сдавали анализ на сифилис. Результат положительный. Это значит, что у вас сифилис. Вы знаете, что такое сифилис?
Она кивает. И, по-прежнему, смотрит с недоумением в глазах.
— Сифилис — это венерическое заболевание. Вы его получили, когда делали минет. Поэтому первичный шанкр у вас в горле.
— Кому? — прерывает меня девушка.
Я знаю ответ на вопрос. Сейчас у блондинки два постоянных половых партнера, но сифилис она получила от случайного парня на дискотеке, сделав ему минет в туалете. Этакое маленькое приключение, о котором она вспоминала с удовольствием.
Я пожимаю плечами и говорю, что этого я, конечно же, не знаю. Я объясняю блондинке, что надо идти к венерологу и лечиться. Что сифилис в настоящее время легко лечится, если не затягивать с лечением. Я пишу направление к венерологу и смотрю, как девушка уходит.
Она так до конца и не поняла, какое у неё заболевание и откуда оно взялось.
Наверное, за прошедший год я стал добрее. Или человечнее, если можно так выразиться. Нет, большинство теней вокруг меня не заслуживают жизни, но теперь я не так категоричен. Порой я спокойно смотрю на быдло, считающее себя Человеком с большой буквы. Невежество, возведенное в квадрат и воздвигнутое на пьедестал. Глупость без границ и ограничений. Узколобое мышление и вера в свою непогрешимость. Уверенность в том, что этот мир создан для тебя, и каждый может подмять действительность под себя.
Я не хочу видеть этого. Так проще — не возникает желание убивать, очищая планету от грязи. И нет никакого желания использовать свой дар для того, чтобы сохранить жизнь особям из человеческого стада.
Я просто ничего не делаю.
И, может, это к лучшему.
Почему то мне кажется, что моё время еще не пришло.
18
Мария Давидовна сидела на диване и читала книгу при включенном телевизоре. Очередной пустой вечер, когда она не знала, чем себя занять, и когда время тянется так медленно, что ненависть к минутной стрелке становилась нестерпимой. Смотреть сериалы она не могла. Пыталась, но ничего не вышло — она начинала ненавидеть телевизор и главных героев мыльной оперы. То же самое относилось и к художественным фильмам. Оставались новостные программы и документальные фильмы.
Она стала больше читать. Это отвлекало, но ненадолго. Очередной сюжетный поворот в женском романе возвращал её к мыслям о Михаиле Борисовиче Ахтине, и всё начиналось сначала. Она даже стала непроизвольно перескакивать глазами через абзацы, где описывались романтические встречи или любовные переживания главных героев.
На телеэкране начался документальный фильм о крупных землетрясениях последнего времени. И первые кадры под мрачную музыку из Сычуаня, где в мае этого года произошло сильное землетрясение с большим количеством разрушений и жертв. Мария Давидовна отложила книгу и стала смотреть. Специалисты приводили статистику, ученые говорили о смещении тектонических плит, а пророки предрекали очередной конец света.
Всё, как обычно.
Мария Давидовна невольно вспомнила стихотворные строки Парашистая, и, достав из выдвижного ящика стола бумажку, перечитала их.
Другой будет сорок четвертым, Вскоре — континент станет мертвым. Страны Востока, где людей миллиарды, Братской могилою станут однажды. Светило больное сильнее сияет, Черную Землю в пустыню меняет. Здесь — человек без лица закроет спиной, Стремительной власти мнимый покой. Хозяин реальный будет убит, В пламени ярком столица сгорит. Море часть суши собой поглотит. Незримый убийца повсюду сидит. У Бога на поле трава засыхает, Ему все равно, Он давно ничего не желает. Однако, чрез годы и мрак, Вернется на землю божественный знак.Сорок четвертого президента США выберут в ноябре, и если это будет афроамериканец, что вполне реально, то можно поставить плюс напротив этого предсказания.
Слова о братской могиле вполне подходили под прогнозы пророков. Почему бы и нет? Если исходить из того, что Парашистай расположил строки, не соблюдая хронологию событий, то вполне может быть, что землетрясение в Китае — это только начало.
Мария Давидовна снова посмотрела на буквы, из которых складывались строчки, и ей захотелось плакать. Нет, не из-за того, что может произойти. Всего лишь из-за того, что так и не происходит в её жизни.
Наличие любви при отсутствии рядом любимого человека.
Осознание своего счастья без какого-либо намека на ответное чувство.
Приятная и недостижимая мечта, реальность которой сродни густому туману — потрогать можно, а прижать к себе нельзя. Ничего вокруг не видно, но идешь вперед с надеждой на лучшее. Тихим голосом называешь имя, и вслушиваешься в окружающий ватный мир.
Мария Давидовна улыбнулась, вспомнив мультфильм «Ёжик в тумане». Это как будто про неё.
Мысли снова вернулись к строчкам. Она в последнее время обращала внимание на публикации в средствах массовой информации, где что-либо говорилось об апокалипсисе, смотрела новости по центральным телевизионным каналам, пытаясь услышать недосказанные слова и призрачные намеки на близкий конец света. И количество этой информации лавинообразно увеличивалось. Словно коллективное сумасшествие — человек панически боится, что конец света наступит в ближайшее время и испытывает какое-то странное стремление узнать, — по какому сценарию жизнь на Земле исчезнет? Как всё произойдет и есть ли у нас хоть один шанс?
Самый часто используемый вариант — падение астероида. Если были прецеденты в прошлом, то почему бы не предположить, что скоро на планету снова упадет крупный астероид. Астрономы даже обнаружили то небесное тело, которое может упасть на планету в 2036 году.
Изменение климата, таянье ледников на полюсах планеты и затопление большого количества суши. Вполне вероятно, но это случится не быстро и еще не скоро, и в любом случае, не приведет к массовой гибели людей.
Землетрясения и извержение вулканов. Очень реально и может сказаться на человеческой популяции. Землетрясение в Индонезии и Китае показало, что этот вариант очень и очень реален. И не это ли имеет в виду Парашистай, когда говорит о странах Востока?
Пандемия инфекционного заболевания — почему бы и нет? Очень вероятно, но даже при самом неблагоприятном развитии событий, это не приведет к тотальной гибели человечества.
Нарастание солнечной активности, которое может привести к глобальным изменениям в биосфере. Да, астрономы предполагают, что в ближайшие годы активность Солнца вырастет многократно. Об этом же говорит Парашистай. И в это так не хочется верить.
Ну, и не надо забывать о ядерной войне. Арсеналы ядерных держав по-прежнему забиты до отказа атомным оружием, атомные электростанции, как мины замедленного действия, разбросаны по всей планете. И хотя этот вариант грядущего апокалипсиса практически не обсуждается, помнить о нем следует. Пока на планете есть хоть одна атомная бомба, ядерный апокалипсис нельзя исключать.
Мария Давидовна вздохнула и положила бумажку на место. Как бы то ни было, она ничего не может изменить. Можно верить или не верить. Молиться за свою душу и души других людей. Или грешить, пытаясь в отпущенное время взять от жизни всё.
Можно отмахнуться от пророков и предсказателей. Просто жить настоящим, не заглядывая далеко. И будь, что будет.
Однако весь этот безумный поток информации о конце света приводил к изменениям в человеческом сознании, и она, как врач-психиатр, видела это каждый день. Можно сказать, что есть еще один вариант событий — коллективное безумие, когда всё человечество в едином порыве совершит массовое самоубийство. Да, идея совершенно безумная и нереальная, но — что есть реальность в наше время? Мария Давидовна посмотрела на свое лицо в зеркало и, отметив наличие темных кругов под глазами, грустно улыбнулась.
Если человечество, презрев инстинкт самосохранения, сделает первый шаг в бездну, то, наверняка, она будет в первых рядах. Этого не случится только в одном случае. Но шансы на то, что Михаил Борисович Ахтин придет и протянет ей руку помощи, кажутся настолько призрачными и нереальными, что даже не стоит рассчитывать на этот случай.
19
Я начинаю понимать, что изменился. Я уже не тот доктор Ахтин, который легко и непринужденно говорит о своей божественной сути. Сейчас я так не скажу вслух. Я знаю, что дар со мной, но не хочу им пользоваться. Пока не хочу. Я не вижу никого, кому бы был нужен. И кого бы я захотел исцелить. Так же, как я не вижу достойной кандидатуры для избавления от этой жизни.
Наверное, изменился не только я, но и человеческое стадо, бредущее в неизвестность. Люди в подавляющем большинстве медленно и верно превращаются в особи, способные только исходить черной завистью, ненавидеть и жадно подгребать под себя материальные блага, словно они им понадобятся в потустороннем мире.
Мне казалось, что еще совсем недавно, может, лет десять назад, всё было не так. Люди были чуть-чуть отзывчивее и добрее. Они делали скорбные лица и несли цветы к местам массовой гибели людей. Они отдавали свою кровь и зажигали поминальные свечи.
Сейчас каждый сам за себя. И никому, кроме родителей, нет дела до больного ребенка, которого может спасти операция. За любой благотворительностью есть голый расчет, несущий в первую очередь выгоду самому благотворителю. И в огромном миллионном мегаполисе во время какой-либо беды кровь сдают сотни, а не тысячи.
Бесценность жизни человека — понятие декларативное. Жизнь любого члена стада имеет вполне определенную ценность в денежных знаках, и если их нет, то никто и не заметит исчезновение этой неполноценной особи.
Я изменился. И думаю, что это к лучшему.
Возвращение — всего лишь часть моего пути. Я сделал шаг вперед. И вернул себе имя.
Мне надо сделать еще один шаг.
И обрести мир.
Когда я прихожу на работу, то Марина говорит мне, что меня вызывает главный врач. Она говорит это испуганным голосом, словно этот вызов несет какую-то беду, в первую очередь для неё.
Я неторопливо переодеваюсь. Причесавшись у зеркала, я поворачиваюсь к медсестре и, увидев её большие испуганные глаза, говорю:
— Наверное, она хочет познакомиться со мной.
Главный врач поликлиники, Басова Алевтина Александровна, оказывается молодой и привлекательной женщиной. Идеально отутюженный белоснежный халат на стройной фигуре. Легкий макияж, красиво уложенная прическа. Ухоженные руки, два золотых кольца на пальцах. Войдя в её кабинет, я представляюсь и сажусь на предложенный стул. Она деловито перебирает бумаги и не смотрит на меня, словно давая возможность мне рассмотреть её. И после пары минут молчания, она поднимает глаза и спрашивает:
— Михаил Борисович, как вам у нас?
— Отлично, — прямо глядя в её глаза, отвечаю я, — прекрасный коллектив единомышленников и замечательный участок с благодарными пациентами. Мне всё нравится в поликлинике, и я рад, что пришел к вам работать.
Алевтина Александровна заметно удивлена.
— Вы, проработав неделю у нас, пришли к такому выводу? Не быстро ли?
Я пожимаю плечами. И не отвечаю на вопрос.
— Ну, то, что коллектив прекрасный, я, конечно же, согласна с вами. А вот благодарные пациенты — это вряд ли, — главврач поднимает лист бумаги и, помахав им, добавляет, — жалоба на вас, Михаил Борисович. Девушка вот пишет, что вы на приеме расспрашивали об интимных подробностях её сексуальной жизни. Она полагает, что, — Алевтина Александровна опустила глаза к тексту и процитировала, — «доктор проявлял нездоровое внимание к моей интимной жизни и, пользуясь своим положением, сексуально домогался меня».
Я жизнерадостно улыбаюсь. Внутри я смеюсь. И отвечаю на немой вопрос в глазах главного врача:
— Вот я и говорю. Благодарные пациенты. Она увидела во мне Мужчину с большой буквы, настоящего Мачо. Это льстит моему самолюбию.
— Это не смешно, Михаил Борисович, — с серьезным выражением лица говорит Алевтина Александровна, — объясните, что всё это значит.
— У девушки сифилис. Первичный шанкр на задней стенке глотки. Увеличенные регионарные лимфоузлы. Положительная микрореакция. Я предположил, что заражение произошло при орально-гинетальном контакте, и прямо спросил её об этом. Она ответила положительно, то есть, призналась, что активно использует минет в интимной жизни. Я отправил её к венерологу. Вот, собственно, и всё. Медсестра присутствовала и может это подтвердить.
Главный врач пристально смотрит на меня, и я легко выдерживаю её взгляд. Затем она смотрит на лист бумаги, который держит в руке, и брезгливым движением выбрасывает её в мусорную корзину. Встав со стула, она идет к умывальнику и тщательно моет руки. Затем настежь распахнула окно. Вернувшись к столу, она говорит:
— Гадость-то какая! Она стояла тут и выдыхала спирохеты. Я держала в руках бумагу, на которой остались заразные следы. Наверное, надо произвести дезинфекцию кабинета.
— Алевтина Александровна, я могу идти.
— Да, Михаил Борисович. Рада была с вами познакомиться.
— Я тоже очень рад.
Вернувшись в кабинет, на немой вопрос Марины, я отвечаю:
— Блондинка-сифилитичка жалобу написала, что на приеме я её сексуально домогался.
Марина смеется, и я тоже.
Совместный смех сближает. Я это знаю, а она догадывается. Мне это не надо, а она мечтает об этом.
Заходит первый пациент. Мужчина пятидесяти лет с открытым больничным листом. Он лежал в больнице с хронической обструктивной болезнью легких, и с улучшением выписан на амбулаторное лечение. Его зовут Сергей Глущенков, он работает на заводе двадцать лет и он курит с пятнадцатилетнего возраста. Раньше он курил папиросы и сигареты без фильтра, а сейчас обманывается себя, используя фильтр или мундштук.
Я слушаю через фонендоскоп влажные хрипы в легких, отмечаю незначительную одышку и ровный пульс. Да, он еще не совсем работоспособен, но на больничном листе он уже двадцать девять дней, а, значит, я единолично не смогу продлить его еще на некоторое время. А заместитель главного врача по экспертизе сочтет его работоспособным. Расписав ему профилактическое лечение и дав бланки анализов, я закрываю лист нетрудоспособности и говорю, что курить ему категорически нельзя, потому что у него больные легкие и каждая затяжка ухудшает их состояние.
Сергей задумчиво смотрит на меня и спокойно говорит:
— Доктор, если завтра ко мне придет Смерть с косой и спросит, что бы я хотел сделать перед тем, как уйти с ней, то я бы выбрал сигарету.
Он уходит, а я думаю о том, что мужчина умрет не от сигареты.
И для него это будет лучшим лечением неизлечимого хронического заболевания.
20
Суббота. Выходной день. И еще завтра день. Пока я не знаю, чем их занять. Целых два дня, которые становятся для меня черной дырой. И в моем сознании, и в настоящем времени. Невозможно жить текущим мгновением, если оно застыло в состоянии перманентного умирания.
Я бы спал, если бы мог.
Я бы рисовал, если бы знал, кого или что.
Я бы ел, если бы мой желудок смог вместить то количество пищи, которое я уже съел.
За окном пасмурно. Вот-вот пойдет дождь. Я собираюсь и выхожу из комнаты. На мне болоньевая куртка с капюшоном и черная бейсболка на голове. На ногах кроссовки и джинсы. Дождь и ветер — я думаю, что прогулка в таких условиях взбодрит меня. Быстрыми шагами ухожу от общежития, ощущая лицом первые мелкие капли дождя. Встречные люди открывают зонты и прячутся под любой крышей. Я набрасываю капюшон куртки на голову и иду навстречу ветру, несущему обжигающе холодные капли.
Я направляюсь в лес. Он совсем недалеко, — около километра по тротуару вдоль дороги и затем налево через поле мимо студенческих общежитий. Смешанный лес слишком часто посещают люди. Здесь совсем не так, как в лесу рядом с деревней, где я жил полгода. Мусора больше, чем деревьев. Причем, лес загажен так основательно, что, кажется — сначала здесь были разбитые банки и бутылки, целлофановые кульки и использованные презервативы, разломанные останки бытовой техники и ржавые детали непонятного назначения, и только потом на этом месте начали расти деревья и кусты.
Я осторожно обхожу поваленное дерево, за которым лежит ржавый остов велосипеда и автомобильная шина. Местами лесная поросль скрывает нелицеприятные картины в виде человеческих испражнений, но скрыть всё невозможно. Разочарование велико, но я не спешу уходить. Мне надо было выбраться из комнаты общежития и развеяться. Мне надо подумать, и я считаю, что лучшего места не найти. Пусть даже в этом месте невозможно идти, не глядя себе под ноги.
Я слышу шум. Веселые молодые голоса, жизнерадостный мат. Я невольно стараюсь спрятаться. Почему-то мне кажется, что веселящаяся молодежь будет мне не рада.
— Вот так! Молодца! Впендюрь ей по самые помидоры!
Небольшая поляна, на которой, судя по черному пятну от костровища и сваленным в кучу бутылкам, часто собираются компании. На примятой траве лежит женское тело. Юбка задрана до лица, ноги разведены. Первый парень со спущенными штанами, пристроившись между ног, ритмично двигается. Второй подбадривает друга словами и себя правой рукой. На лицах — веселое удовольствие, движения тел и конечностей неловки и хаотичны. Похоже, парни или пьяны, или под кайфом. В любом случае, им очень хорошо. Они довольны и жизнью, и ситуацией.
Я смотрю на девушку. Симпатичное лицо, на котором бледность соседствует с безмятежностью. Глаза закрыты. Русые волосы разметались по траве. Уж она-то точно под кайфом.
Осторожно осмотревшись вокруг, я сажусь на пенек. Кусты закрывают меня от живописной картины совокупления наркоманов, которым нет никакого дела до мелкого дождя и холодного ветра. Я сижу и наблюдаю за процессом. Прекрасное место для раздумий о людях и тенях. Наверное, я знал, что увижу что-то подобное. Интуиция привела меня сюда и всё, что видят мои глаза, мне надо увидеть.
Первый парень протяжно выдыхает воздух. Его хриплый крик отскакивает эхом от окружающих еловых стволов. Его друг тоже кончает, но не так громко. Затем на мгновение в лесу наступает тишина, после которой парни, оживлено переговариваясь, натягивают штаны на чресла и уходят. Они словно не замечают, что оставляют девушку в той же позе — с раздвинутыми ногами и задранной юбкой. И в этой позе есть своеобразная красота, — белая кожа живота контрастирует с зеленью травы. Девственная белизна на фоне успокаивающего цвета примятой жизни.
Через пару минут девушка выпрямляет ноги, поворачивается на бок, и словно поняв, что ей холодно, подтягивает колени к животу. Еще через пару минут она начинает беспокойно двигаться, и, наконец-то, открывает глаза. Осмысленность во взоре появляется далеко не сразу, но когда она понимает, что находится в лесу, что ей холодно и сыро, то девушка начинает медленно вставать. Это ей удается, но с большим трудом. Она стоит, покачиваясь, и, одернув юбку, поправляет складки одежды.
Мне грустно видеть это жалкое подобие человека. Она даже не тень. Взлохмаченные волосы, на бледном лице темные впадины глаз — она похожа на чучело, поставленное для отпугивания чертей.
Правда, черти её ничуть не испугались.
Девушка медленно уходит, ничего не видя вокруг. Она натыкается на деревья, спотыкается о пни. Она даже падает и с трудом встает вновь.
Наверное, я бы мог помочь ей.
Я бы мог избавить её от этой жизни, прямо здесь и сейчас.
Нет никаких свидетелей. Затяжной холодный дождь выгнал всех из леса.
Я бы мог, но не стал ничего делать. Я, по-прежнему, сижу и смотрю, как девушка исчезает между деревьев.
Я думаю о тенях, которые бессмысленно бредут по темному лесу. У каждого он свой, и абсолютное большинство не видят света дальних фонарей. Им никто не протягивает руку, и не называет по имени.
У них нет ни Бога, ни Богини, ни даже обычного поводыря.
Они просто тащат своё тело, передвигаясь наощупь.
И эта хаотично движущаяся биомасса обречена умереть, так и не узнав, что в Тростниковых Полях жизнь продолжается. Смерть можно избежать. Умерев здесь, человек вечно будет пребывать в Тростниковых Полях. Там тихо и хорошо, не надо выживать и пытаться урвать лучший кусок. Нет необходимости совершать однотипные движения и бороться с пустыми желаниями. Там отпадает надобность в физических усилиях и физиологических реакциях.
В Тростниковых Полях Человек становится Личностью.
Тень никогда не попадет туда, потому что невозможно достигнуть места, о котором даже не подозреваешь, и до которого никто не отведет за руку.
Называя тебя по имени.
Я поднимаюсь на ноги, собираясь уходить. И замечаю темное пятно на примятой траве. Я иду к этому месту и смотрю на черную испачканную рваную тряпку.
Девушка оставила своё нижнее белье.
Так и бредут тени по темному лесу, оставляя за собой сначала одежду, затем кожу и части тела, после сознание и разум. И закономерным окончанием их жизнедеятельности является смерть.
Если бы я убил её здесь и сейчас, то я бы ничего не изменил.
Оставив её в живых, я дал ей шанс сделать шаг к Богу.
Я иду домой. Прогулка оказалась очень удачна. В моем сознании взошли первые ростки, еще слабые и робкие, но вполне жизнеспособные.
Я дам им возможность окрепнуть. И только тогда сделаю следующий шаг.
21
В поликлинике произошли изменения. Во-первых, в выходные заместитель главного врача по медицинской части улетела во Францию, написав перед этим в пятницу заявление об увольнении по собственному желанию. Во-вторых, уже с этого понедельника этот пост занял новый начмед.
— Мужчина. Зовут Сергей Максимович. Выглядит, примерно, на пятьдесят лет. Говорят, что он работал хирургом в восьмой медсанчасти. Говорят, классный хирург.
Марина с довольной улыбкой на лице вываливает на меня новую информацию. Вообще-то, на утренней оперативке я видел этого мужчину, но я делаю вид, что её слова интересны мне. Я киваю, улыбаюсь в ответ и спрашиваю:
— Кто говорит?
Марина на мгновение замирает, не сразу поняв вопрос, а потом, пожав плечами, отвечает:
— Как кто? Все.
Утром перед оперативкой новый начмед, здороваясь, демократично пожал всем мужчинам руку, и я много узнал о нем. Сергей Максимович Бусиков. Действительно, работал около десяти лет в хирургическом стационаре восьмой медсанчасти. Врач, имеющий на своем личном кладбище больше могил, чем у всех остальных хирургов вместе взятых. Амбициозный и упрямый доктор, он никогда не отступался от своих слов и действий, даже когда сам понимал, что не прав. Считая себя умным и образованным, часто давал советы и указания, как и что делать, произнося специальные слова с такими ошибками, что сразу становилось заметно его поверхностная образованность. К счастью для него, в Областном Управлении здравоохранения у него работал родственник, благодаря которому он сделал свой первый шаг по административной лестнице. Врачи Восьмерки перекрестились, когда он ушел. А мы еще не осознали, что получили в его лице.
Хороший врач никогда не станет эффективным менеджером в медицине. А у плохого врача такой шанс есть, если он будет заниматься только менеджментом, и не будет встревать в лечебный процесс.
Рабочий день продолжается. Мы с Мариной приняли около десяти пациентов, по большей части здоровых, — профилактические осмотры при поступлении на работу. Женщина пришла оформлять санаторно-курортную карту. Две женщины с маленькими сроками беременности, которым нужен осмотр терапевта до двенадцати недель.
Пришел мужчина, у которого есть проблемы психологического характера. Мы с ним говорили о пользе и вреде гидроколонотерапии. Он использует этот метод очищения организма раз в неделю, и по сути, уже не может без него обходится. Начиналось всё с банального запора, а закончилось дисбактериозом кишечника. Я не пытаюсь переубедить его, потому что мужик с удовольствием ожидает день, когда он ходит на процедуру.
Молодая девушка, студентка одного из институтов города, жалуется на першение в горле, сухой кашель и повышение температуры к вечеру. Она тоже здорова, но ей надо уехать домой в деревню на неделю, и она хочет получить справку, освобождающую её от занятий. Конечно, она мне это не говорит, но я вижу, что в горле у неё чисто, а температура на приеме соответствует норме. Я улыбаюсь, когда говорю, что она здорова.
Я не сразу узнаю в вошедшей пациентке позавчерашнюю девушку в лесу. Сегодня она причесана, накрашена и опрятно одета. Кожа по-прежнему бледная, но в глазах есть жизнь.
— На что жалуетесь? — спрашиваю я.
— Рези, когда хожу по-маленькому.
— То есть боли при мочеиспускании, — уточняю я.
— Да.
— Как давно они у вас появились?
— Со вчерашнего дня.
Я смотрю на лицевую сторону амбулаторной карты — Оксана Мельниченко, двадцать пять лет. Начав писать жалобы, я продолжаю задавать вопросы:
— Раньше что-то подобное было?
— Нет.
Она отвечает односложно и не сразу. Ей надо пять-шесть секунд, чтобы понять мой вопрос и еще несколько секунд, чтобы сформулировать ответ.
— Эти резкие боли возникают в начале мочеиспускания или в конце?
Оксана смотрит на меня и через долгую паузу отвечает:
— Доктор, мне больно ссать. Мне очень больно ссать. Помогите, пожалуйста.
Я слышу волшебное слово. И это хорошо. У девушки есть шанс. Пусть он призрачный и мучительно долгий, пусть ей придется многое пережить и осознать, пусть она через боль и кровь преодолеет себя, но лет через десять, вернувшись к обычной жизни, она станет тем, кто она есть. Любимой женщиной и счастливой матерью.
Расписав лечение и выдав бланки анализов, я смотрю ей вслед.
Я думаю о том шансе, который есть у меня.
Стать самим собой, чтобы вернувшаяся Богиня называла меня моим именем.
22
В кафедральном соборе, среди гулкой тишины высоких сводов, в легком полумраке горящих свечей, было хорошо. Спокойно и благостно. Иконные лики смотрели со стен строго, но справедливо, — за грехи и проступки надо отвечать. Все продумано для того, чтобы человек, пришедший сюда, узрел силу Господа. Понял, принял и понес веру дальше, вербуя новых адептов и оставляя служителям церкви свои дары. Даже говорить здесь можно было только шепотом.
И думать можно только о Боге.
Оксана Мельниченко считала день потерянным, если не приходила сюда. Строгие лики со стен не пугали её, — Бог милостив, не так много она грешила в своей непутевой жизни, чтобы молитвами не заслужить прощения. Он защитит её от искушений мирской жизни, от людской грязи и похоти.
Привычно начав со свечки за упокой, — прости, Господи, рабу свою за грех смертоубийства, за то, что не приняла дар твой, за то, что самонадеянно решила судьбу милости твоей, — она подошла к иконе Николая Чудотворца и, помолившись, приложилась к ней.
Запах ладана и горящих свечей настраивал на размеренное мироощущение. Забывались мирская суета, оставшаяся за стенами храма, проблемы в той жизни, что осталась за воротами. Хотелось служить Господу, не смотря на то, что она знала другой путь в его Храм, который был короче, ярче и прекраснее.
Она ходила по залу и помогала людям в отправлении ритуалов, — куда правильно поставить свечу, у какой иконы помолиться. Она сама когда-то пришла первый раз к Богу, и ей помогли найти правильную дорогу. И ничего, что ей всего двадцать пять, — за последний год она узнала все нюансы богослужения. Она поздно приняла крещение, пройдя все его этапы. Главное, принять истину, остальное приложится.
«Продвинутая», — сказала бы она про себя год назад.
Прошлое иногда вторгалось в её веру, проделывая брешь в возведенной стене, но Оксана терпеливо вновь заделывала её, укрепляясь в силе Господа. Страшнее всего были сны, возвращавшие её в наркотические галлюцинации, такие реальные в своем приближении к Богу, что, проснувшись, она долго молилась, глядя на иконный лик, висящий у изголовья её кровати. И горящий внутри огонь затухал, и забывался сон-галлюцинация, и можно было жить дальше.
Она старалась проводить меньше времени за стенами храма, словно они защищали её от искушений внешнего мира. Здесь она так редко вспоминала о своей непутевой жизни, что казалось, ничего и не было. Здесь — реальность, там — сон. Яркий наркотический сон.
Однако каждый вечер приходилось возвращаться домой. Она закрывалась в своей комнате, стараясь не слышать голоса за стенкой. Она молилась, когда раздавался стук в дверь. Она смотрела на икону, когда сладкий голос за дверью искушал приятными мгновениями. Она облегченно крестилась, когда наступала тишина.
Родной брат посадил её на иглу. Он же давал на очередную дозу, заставляя расплачиваться телом. И даже сейчас, когда она вырвалась из наркотического плена, он продолжал приходить и искушать.
Оксана прокляла его в своем сердце.
И она прокляла свою слабость. Потому что приходилось кусать свои пальцы, чтобы не закричать. Чтобы не броситься к двери, забыв о виртуальном Боге, и принять из рук родного брата реального Бога. Она так часто видела, как рушится возведенная стена. Как падают, скрепленные молитвами, заграждения. Как прорывается сквозь щели сознания муть прошлого.
В своих снах она открывала дверь брату и умоляла дать дозу.
В церкви она спрашивала у батюшки, почему столько соблазнов для человека, почему грех настолько притягателен, что практически никто не в состоянии противится ему, зачем Бог дал людям столько непреодолимых соблазнов, словно Он хочет, чтобы к нему пришел раскаявшийся грешник, а не истовый праведник. Для чего эти испытания, если рай недостижим?
Оксана слушала ответы священнослужителя и верила каждому слову. Верила, когда находилась в церкви, и сомневалась в каждом слове, когда уходила домой. И это было хуже всего. Терзающие душу сомнения. Рвущее сознание нестерпимое желание. И отсутствие Бога рядом, когда его спокойный и кроткий взгляд с иконы не проникает в сознание.
Сон стал явью. Она открыла дверь брату.
Оксана плохо помнила, что было потом, но днем в воскресенье она очнулась дома от боли в животе. Добравшись до туалета, она чуть не закричала, когда обжигающая струя мочи ударила в унитаз. Боль разрывала низ живота, и она так крепко стиснула зубы, что почувствовала соленый вкус крови.
Промучившись весь выходной день, в понедельник она помчалась в поликлинику. А потом туда, где уже давно не была. Купила дозу — родной брат был не единственный, кто давал ей возможность улететь, и дома сделала инъекцию. Приятное чувство возвращения, словно и не было этих месяцев, когда она боролась сама с собой. Счастливая и довольная, Оксана провела ночь, глядя в экран телевизора и не понимая происходящего там. В своем сознании она стояла на руинах храма. Никаких стен вокруг, — бескрайная ширь и простор. Она свободна, и если захочет, то может взлететь. Она всегда это знала, но пыталась заточить свое тело в подвале, а мысли занять молитвами.
И она взлетела. С высоты птичьего полета Оксана созерцала этот странный и пугающий мир, где люди, боясь адова огня, сжигали себя в пламени греховных страстей. Где церковные праведники совершали немыслимые поступки. Где молитвенный хор сотен голосов заглушался ревом тысячеголосой глотки рок-концерта. И где всемирно признанный миротворец начинал очередную кровавую войну.
Рано утром, еще до рассвета, она пришла в церковь. Под пустыми гулкими сводами Оксана вылила остро пахнущую жидкость на алтарь и поднесла спичку. Глядя на жадные языки пламени, облизывающие иконостас, созерцая, как плавятся святые лики, она улыбалась. Счастливой улыбкой человека, нашедшего себя.
Она сделала свой первый реальный шаг к Богу, в которого всегда верила.
23
Лысая голова. Оттопыренные уши. Худое лицо. Нижняя губа еле заметно дрожит. За очками в глазах неуверенность и страх. Над правой бровью наклеена длинная лента лейкопластыря. Мария Давидовна спокойно смотрела на молодого парня и молчала. Надо начинать задавать вопросы, но она ждала. Иногда некоторым пациентам можно дать пару минут, чтобы они созрели и стали говорить. Иногда нужно начинать первой. Каждый раз Мария Давидовна следовала своей интуиции, и редко ошибалась.
Иван Картузов. Восемнадцать лет. Студент политехнического университета. Задержан на месте преступления, когда он, набросив подушку на лицо и навалившись всем телом, душил старуху. Социальный работник, женщина лет сорока, не растерялась и нанесла удар по голове преступника первым попавшимся под руку предметом — кочергой. Мария Давидовна подумала о том, что делала кочерга в однокомнатной квартире с газом и центральным отоплением, и решила, что с этим разберется следствие. Как бы то ни было, этот предмет спас старой женщине жизнь.
— Иван, ты читал Достоевского? — спросила Мария Давидовна.
— Кого?
Парень удивленно замирает. Даже нижняя губа перестает дрожать.
— Писатель был такой. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Читал или нет?
— Нет, — пожимает плечами студент, — я книги не читаю.
— Почему?
— Скучно. Лучше телик посмотреть или популять маппетсов.
— Что сделать?
Теперь удивленно приподняла брови Мария Давидовна. Парень, поняв, что его не поняли, объяснил:
— Ну, это в компьютере поиграть, например, в Каунтер Страйк.
Мария Давидовна, хмыкнув, улыбнулась. Она привыкла использовать компьютер, как рабочий инструмент, и совсем забыла, что для молодого поколения чаще всего это лишь игра.
— Ну, а что интереснее, телевизор или компьютерные игры? — задала она следующий вопрос.
— Конечно, игры! — отвечает парень. Он заметно оживляется. В глазах появляется блеск. На губах — улыбка. И, когда он говорит, то, кажется, что его уши шевелятся, подчиняясь эмоциям лица. Мария Давидовна, слушая монолог об особенностях разных шутеров, короткими фразами подвела парня к рассказу о его жизни.
В детстве у него были мама и папа, которые баловали его. Лучшие игрушки и слепая любовь родителей. С компьютером он подружился раньше, чем с азбукой, поэтому учеба в школе ему давалась с трудом. Особенно, русский язык и литература. Родителей вызывали в школу, папа укоризненно качал головой, а мама с улыбкой говорила о том, что, возможно, их сын будущий Билл Гейтс, и в таком случае, зачем ему знание русской литературы. Волновалась только бабушка, которая пыталась исправить ситуацию, но у неё не было шансов. До того момента, когда в восьмом классе родители уехали в длительную командировку заграницу.
— Когда я спал, она вынесла системный блок, — трагическим тоном сказал Иван, — а так, как она ничего не понимала в компьютерах, то все провода она просто перерезала.
Дальше у парня были три безумных месяца, когда бабушка заставляла его читать книги и затем пересказывать их содержание. Эти черные дни оставили в сознании юноши страшные провалы, когда он ненавидел бабушку, родителей, которые бросили его на эту старуху, эти долбаные книги.
Парень замолчал. Глаза потухли. Уши перестали двигаться.
— Ну, и что потом? Родители вернулись?
— Нет. Бабушка умерла.
— Как умерла? — снова удивилась Мария Давидовна. Судя по рассказу парня, пожилая женщина была полна сил и энергии.
— Уснула и не проснулась, — пожал плечами Иван, не поднимая глаз.
Доктор Гринберг смотрела на юношу и думала о той ужасной мысли, которая только что пришла в голову. Что если та старуха, которую он пытался убить, была далеко не первой жертвой этого парня?
И она озвучила тот вопрос, который давно следовало задать:
— Зачем ты хотел убить старую женщину?
Парень поднимает голову, смотрит на неё и — его нижняя губа снова начинает дрожать. В глаза вновь возвращается страх.
— Зачем ты убивал других старух? — спрашивает Мария Давидовна, и, видя нарастающий ужас в глазах парня, продолжает твердым голосом. — Зачем, если ни одна из них, уже никоим образом не мешала тебе играть в компьютерные игры и не заставляла читать книги? Сколько их было за эти годы, если не считать твою родную бабушку?
Дрожащие губы кривятся, глаза парня наливаются слезами, и к удивлению Марии Давидовны, Иван начинает плакать. Вытирая слезы тыльной стороной рук, он сбивчиво говорит о своей бабушке:
— Я не хотел. Когда я придавил подушкой её лицо, и она стала биться всем телом, мне стало хорошо. Она просто так меня достала. Знаете, такое чувство, что всё наконец-то закончилось. И сегодня мне не надо перелистывать страницы, а вечером рассказывать тупую историю из жизни людей в прошлом или позапрошлом веке. Она лежала такая тихая и спокойная, что я плакал, как и сейчас.
— Сколько их было? — снова спросила Мария Давидовна.
Иван, перестав плакать, и, хлюпнув носом, сказал:
— Еще две. В феврале и марте этого года.
— Зачем?
— Не знаю, — Иван обреченно мотает головой, — вдруг мне так захотелось снова ощутить дрожание живого тела, которое не может вдохнуть воздух. Это желание было такое нестерпимое и всепоглощающее, что я пошел и задушил соседку по подъезду. Внучка у неё днем работала, а старуха меня хорошо знала, поэтому открыла дверь. Сначала она поила меня чаем, а потом я диванной подушкой убил её. Это странное и приятное чувство, что ты повелеваешь чей-то жизнью, и всё это происходит в реальности, а не в игре на экране монитора. Знаете, мне так понравилось, что я снова плакал.
— Кто была следующая жертва?
— В соседнем доме жила одинокая старуха. Она раз в день выходила из квартиры. Я некоторое время следил за ней. А потом, когда она открывала дверь своей квартиры, просто зашел вслед за ней. С этой я уже чай не пил.
Мария Давидовна смотрела на парня. Вполне вменяемый юноша из хорошей семьи. Откуда в сознании человека возникают черные мысли, толкающие их на жуткие и ничем не объяснимые жестокие поступки?
Она уже не в первый раз задавала себе это вопрос и никак не могла найти на него ответ.
24
На утренней оперативке новый начмед — невысокий ростом мужчина — стоя у стола, долго рассуждает о принципе фондодержания и экономии средств поликлиники, о сложной финансовой ситуации и дороговизне расходных материалов. Практически все, кто смотрит на него, ничего не понимают. Но, тем не менее, все слушают с неподдельным интересом. И причина проста — врачи начинают понимать, что их зарплата если и изменится, то, скорее всего, в меньшую сторону. И еще все понимают, что возможности каждого доктора назначать обследование в том объеме, как все привыкли, будут сильно снижены.
Я тоже прилежно слушаю вдохновенную речь начмеда и думаю о том, что в нашей стране здоровье каждого гражданина становится излишней роскошью. Похоже, государство в лице областных и муниципальных чиновников собирается прикрыть финансирование, отправив лечебные учреждения в свободное плаванье по волнам рыночной экономики. Некоторые больницы станут богадельнями для нищих и убогих, медленно погружаясь в пучину и долго агонируя. Некоторые, за счет увеличения доли платных услуг в структуре медицинской помощи, останутся на плаву, и со скоростью черепахи будут двигаться к манящей линии горизонта. Часть больниц, став частными, вырвутся вперед, и полетят в светлую даль сытой и спокойной жизни. В любом случае, в проигрыше останется народ, который заплатит из своего кошелька за возможность общения с доктором, получив взамен то, что заслуживает.
Придя на рабочее место, я первым делом вижу новую прическу у Марины. Перекрасившись в рыжий цвет и уложив волосы, она изменилась.
— Прекрасно выглядите, Марина, — говорю я.
Марина, широко улыбнувшись и потупив глаза, отвечает:
— Спасибо, Михаил Борисович.
Вздохнув, я сажусь за стол и думаю о женском стремлении иметь своего мужчину. Сознательное или бессознательное, — это стремление заставляет их совершать поступки, которые порой излишни. Да, Марина, изменив прическу, изменилась и внутри. Она стала ощущать себя красивой, и это прибавило ей уверенности. Но — этим всё и ограничилось.
Может, конечно, Марине просто не повезло, и она решила очаровать не того мужчину. В любом случае, для меня наличие красоты является последним фактором в выборе полового партнера. Если таковой выбор и стоит на повестке дня.
— Ну, что у нас сегодня? — спрашиваю я.
— Полная запись и вызов на дом, — бодро и жизнерадостно отвечает Марина.
В кабинет входит пожилая женщина, и нормальный рабочий день, наконец-то, начинается. За пять часов я принимаю восемнадцать пациентов, и ни в одном случае у меня даже не возникает мысль использовать свой дар. Я просто выполняю стандарты по обследованию и лечению, порой даже не задумываясь над тем, что видит моё сознание. Тени, как на конвейере, проходят мимо меня, оставляя ощущение тупого равнодушия. Словно я штампую никому не нужные детали.
И мне это очень не нравится.
Нет душевного равновесия и морального удовлетворения.
Я не вижу смысла в своей работе. А это так сильно угнетает, что, глядя на очередного пациента, я не сразу понимаю, что он мне знаком.
— Здравствуйте, доктор. Это я, Усиков, — говорит мужчина.
И я вспоминаю. Рак толстого кишечника.
— Здравствуйте, Виктор Аркадьевич. Ну, и как у вас дела?
Усиков похудел. Точнее, он исхудал. В глазах появилась обреченность. В движениях отсутствует суетливость.
— Плохо. Всё отрезали, и вот, — он приподнимает рубашку, показывая на животе слева закрытую колостому, — кишку вывели. Теперь вот приходится постоянно следить за этим.
— Ну, это не самое страшное, что могло случиться, — говорю я, — бывает хуже.
— Куда уж хуже, — махнув рукой, говорит Усиков, — жизни никакой. Ни выпить, ни поесть вкусно.
Хмыкнув, я молчу. Ничего не меняется — жизнь измеряется количеством выпитого и съеденного. Если нельзя делать то, к чему привык, то, кажется, что жизнь становится ненужной и бессмысленной.
Но Усиков пока еще не научился умирать. Он не знает, как жить, но и совсем не хочет умирать. Он все еще надеется на то, что через некоторое время всё образуется, и он снова вернется к привычному образу жизни.
— Усиков, вы ведь на больничном листе у хирурга?!
— Да.
— Ну, и зачем вы ко мне пришли?
— Ну, — он пожимает плечами, — может, вы что-то доброе мне скажете.
— Нет, Усиков, ничего я вам не скажу. Сейчас вы наблюдаетесь у хирурга и вам надо от него ждать что-то доброе.
Усиков уходит, и мне кажется, что у него ничего не получится. Мужчина не хочет меняться. Он хочет, чтобы за него всё сделали и решили. Он готов немного подождать, но пусть придет кто-то и избавит его от болезни.
И таких много.
Стадо предпочитает верить в Чудо, во Всемогущего Бога, но никак не в собственные силы и в себя.
Тени мечтают о Волшебнике, который с помощью магии или неведомых ритуалов, решит проблемы. Если не все, то большую часть. Если не всего человечества, то тех отдельных представителей стада, которые менее всего этого достойны.
25
Ритмичный звук пробивался сквозь сон, заставляя инстинктивно прикрывать голову руками. Он изо всех сил отгонял от себя то ли музыку, то ли однообразный бой барабанов, но ничего не получалось. И это сильно раздражало — рваный сон не давал нужного спокойствия и ночного умиротворения.
— Сережа, проснись! Я уже больше не могу! Этот урод, и его дебильная музыка убивают меня!
Он услышал голос и открыл глаза.
На будильнике стрелки застыли на трех часах.
— Сережа, сделай что-нибудь! — плачущий голос жены, как отражение своего сознания. — Я больше не выдержу!
Сергей Глущенков сел в кровати и, протянув руку за одеждой, стал одеваться. Неторопливо и размеренно. В этом месяце это уже была третья ночь, когда они не могли спать, и самое неприятное, что завтра — понедельник. Утром жене в школу, преподавать старшеклассникам русский язык и литературу, а ему на завод — создавать детали для мотора истребителя. Собственно, он всё уже решил, поэтому торопливость и суета сейчас только навредят. Светлая голова и спокойствие — вот, что ему необходимо.
Сергей, не говоря ни слова, вышел из спальни, никак не среагировав на слова жены о боли, которая разрывает её голову. У него в этот момент в сознании созрела мысль, которую он прошептал одним емким русским словом. И это слово сразу же завладело его сознанием. Пока эта оформившаяся в образ мысль казалась реальной, он взял сигареты, зажигалку и, прихватив в коридоре топор (он лежал там уже три дня, словно хозяин знал наверняка, что это оружие понадобится в ближайшее время), вышел на лестничную клетку.
Сосед, который, как минимум, раз в неделю включал дома однотипную и однообразную музыку на полную громкость, жил под ним на первом этаже. Стучать в дверь или звонить было бесполезно — он просто не мог услышать эти сигналы. Профилактические беседы днем успехом не увенчались — молодой парень с отмороженными глазами тупо смотрел на него, кивал и нагло улыбался. Надежды на участкового не было — милиционер принимал заявления от жильцов, разговаривал с парнем, но эти беседы ни к чему не приводили. Через неделю тишины ночное безумие возвращалось. Поэтому Сергей решил перейти от слов к делу.
Он неторопливо выкурил сигарету. Затем, подтащив к окну противника чурбан, который использовался во дворе для сидения за столом, — домино, карты и интеллигентные беседы, — он взобрался на него и топором разбил оконное стекло. Звонкий звук посыпавшегося стекла на фоне трансовой музыки даже не был слышен, словно просто где-то упала чашка. Убрав стекло из рамы, чтобы не пораниться, Сергей залез в окно и оказался в кухне. Здесь звук музыки стал настолько громким, что казалось, что кто-то неутомимо вбивает гвозди в мозг, и кровь заливает сознание.
Сергей сжал губы, перехватил рукоять топора, и пошел в комнату. Окровавленные мысли лежали в голове мертвым грузом — он даже не задумывался, что он сейчас делает. Единственное, что его беспокоило — громкая музыка.
Их было трое. Хозяин квартиры, парень по имени Костя, сидел на диване и с закрытыми глазами тупо раскачивался в такт музыке. Второй, длинноволосый и небритый парень, стоя посередине комнаты, топтался на одном месте, изображая танец. Третий, худосочное тело с запрокинутой головой, похоже, находился в бессознательном состоянии. Сергей окинул быстрым взглядом место боя, и больше не раздумывая, с размаху опустил топор на музыкальный центр. Удар был силен и точен — пластик треснул, вскрывая нутро механизма. Звук моментально прекратился, обрушившись на Сергея внезапной оглушающей тишиной. Единственный звук, возникший в этой тишине — храп парня, спящего на диване.
Танцующий парень продолжал пританцовывать, словно ему и не нужны были звуки. Но Костя прекратил дергаться и открыл глаза.
Сергей неторопливо вытащил топор из чрева музыкального центра и нанес новый удар, разделив агрегат на две части.
— Ты что творишь, сволочь?! — глаза Кости округлились от ужаса и осознания своей потери. — Это же мой музыкальный центр! Это же мой любимый музыкальный центр! Дебил, ты сломал его!
Сергей, меланхолично глядя на парня, ждал, когда тот встанет и с угрозой во взгляде приблизится к нему. И только затем коротким боковым ударом обухом топора снес челюсть парню.
Второй парень задумчиво посмотрел, как упал на пол его друг. На кровь, стекающую по разбитому лицу молодого человека. На пустоту открытых глаз. Он улыбался — и Сергей вдруг понял, что его улыбка абсолютно безумна.
И оказался прав.
Сергей совсем немного промахнулся, когда попытался таким же ударом свалить противника — обух топора скользнул по коже подбородка, окрасив красным кожу. И этим сразу воспользовался парень, беззвучно бросившись на него. Они с грохотом повалились на пол и, парень, оказавшись сверху, сдавил руками горло Сергея.
— А-а-а-а! — парень хрипло кричал на одной ноте, навалившись всем телом и сжимая пальцы. В его глазах Сергей не заметил ни грамма разума, поэтому понял, что если он хочет жить, то надо переходить к решительным действиям. Правая рука по-прежнему сжимала рукоять топора, и коротким взмахом он нанес сбоку удар по голове противника. Звук хруста, словно сломалась пластиковая коробка. Безумие в глазах парня сменилось сначала на удивление, а затем погасла и эта эмоция. Хватка рук на шее Сергея ослабла, и, повалившись на бок, противник с окровавленной головой оказался на полу.
Как бы безумно это не звучало, но Сергей с удовольствием снова бы услышал этот хруст ломающихся костей черепа. Почему бы и нет, топор всё еще у него в руке.
Он лежал и улыбался, радуясь тому, что он жив.
В голове по кругу вертелись ритмичные звуки тупого удара и хруста, и эта мелодия была сейчас лучшей песней в его жизни.
Вздохнув полной грудью, Сергей стал медленно вставать. В схватке он забыл о том, что есть еще один человек в этой комнате, и когда его бок обожгла боль, он даже не сразу понял, что случилось. Повернув голову, он увидел торчащую рукоятку ножа в своем левом боку. Странная слабость в теле и мысль, что эта ночь в его жизни если не последняя, то судьбоносная. А потом сразу же возникла злость — кроваво-красная. Не раздумывая, Сергей просто махнул топором, без какой-либо надежды попасть по противнику. И, к своему удивлению и радости, попал. Причиной этому была замедленная реакция молодого человека. Подойдя ближе к лежащему на полу телу, он спокойно и с внешне безучастным лицом нанес еще несколько ударов топором, отделив голову противника от тела.
Задумчиво глядя на окровавленные тела парней, Сергей достал из кармана пачку сигарет и закурил. Вдыхая дым, он даже на мгновение забыл про боль в боку. Он стоял и думал о том, что наступившая тишина так хороша и благостна, что хочется петь от радости. Именно так — выкрикивать слова под звучащую в голове музыку. Он и хотел спеть одну из своих любимых песен, — ту, где есть любовь и миллион алых роз, — но в глазах потемнело, ноги неожиданно ослабли, и он повалился на пол.
26
Майор Вилентьев ехал домой. Еще один рабочий день позади. И снова ни единого следа Парашистая. В последнее время Ивану Викторовичу стало казаться, что дни проходят впустую, даже если он заканчивал очередное громкое дело и передавал его в суд с достаточным количеством убедительных доказательств вины подозреваемого. Сегодня вечером майор сам для себя признал, что ловить преступников стало скучно. Никто из них не пытался обеспечить себя алиби, некоторая часть бандитов даже не скрывались с места преступления, а убийцы оставляли столько улик, что даже становилось неловко за них.
И еще майор признал, что ему не хватает доктора Ахтина.
Когда он шел по следу Парашистая, его жизнь была наполнена смыслом — кровь в сосудах бурлила, адреналин выплескивался через край, мозг работал лучше любого компьютера и тонус мышц был, как в юности.
Сейчас, через полгода отсутствия Парашистая и его неожиданного призрачного явления на больничном дворе, майор ехал домой с потухшим взглядом, грузно развалившись в кресле своего автомобиля, и с вялой мыслительной деятельностью. Свернув в боковую улицу, он въехал во двор и остановился под окнами квартиры на первом этаже. Это стало неким ритуалом — каждый будний день он делал небольшой круг и приезжал к дому, где жил Парашистай. Выходил из машины, прикуривал сигарету, несколько минут стоял и смотрел на темные окна. Просто стоял и смотрел. Наверное, он хотел поверить в то, что его противник вообще существует. Что всё то, что было в прошлые годы, не сон.
Хотя, порой ему казалось, что ничего не было. Обычно это случалось вечером в воскресенье, когда второй день дома в обществе жены приводил его сознание в тихое бешенство.
Иван Викторович стоял, выдыхал сигаретный дым и смотрел на прямоугольники окон. Как обычно, тихо и спокойно. Так и должно быть, потому что если бы кто-то вошел в эту квартиру, то сработали бы датчики и сотрудники милиции уже были здесь.
На скамейке у третьего подъезда сидели три женщины в возрасте и оживленно обсуждали жильцов дома. Вилентьев непроизвольно прислушался.
— Не знаю, что и сказать?! Совсем девчонка спивается. Даже жалко её, — задумчиво говорила женщина в серой кофте.
— Точно, — поддержала разговор собеседница справа, — и мужика еённого жалко. Пытается что-то сделать, а как за ней уследишь.
— Куда катимся?! — покачала головой третья. — И что бабам не хватает в этой жизни? Всё есть — муж, квартира, работа. Что еще надо?
— Я думаю, что это у них из-за того, что ребенка родить не могут, — глубокомысленно заявила серая кофта.
— Точно, и я так думаю.
— Да-да, у меня сноха, когда два года не могла забеременеть, то стала бросаться на сына, будто он в этом виноват.
Майор Вилентьев вздохнул, затушил окурок и вернулся за руль.
Дома, сидя за кухонным столом, он посмотрел на жену. Полная женщина в цветном халатике с простым именем Антонина поставила перед ним тарелку с голубцами и улыбнулась.
«Хотя, нет, какая же она полная, — подумал Иван Викторович, — надо сказать честно. Она просто толстая. Жирная корова».
Вилентьев улыбнулся в ответ и стал кушать. Готовила жена замечательно. Вкусно и сытно. Скорее всего, благодаря этому брюки он сейчас носит на подтяжках. И если надо пробежаться, то уже через пару минут он начинает задыхаться.
«Да, пожалуй, надо начать бегать по утрам», — подумал Вилентьев, отправляя кусок голубца в рот.
— Как прошел день? — спросила Тоня.
— Как обычно.
— Сегодня в новостях по телевизору показывали, как автобус по проспекту ехал. Ужас! — округлила глаза Тоня. — Здоровый такой автобус и через перекресток на красный сигнал светофора. Слава Богу, никто не погиб. Куча разбитых машин и несколько человек с травмами.
— Я тоже видел, — кивнул Вилентьев, — у водителя тормоза отказали.
Жена стала рассказывать что-то о соседке, которая как раз стояла на перекрестке и всё видела своими глазами, но Иван Викторович уже не слушал её. Внезапно он подумал о том, что уже давно им с женой не о чем говорить. Каждый вечер одно и то же — она его вкусно кормит, рассказывает о том, что увидела по телевизору или о чем говорила с соседками, а он как бы слушает и кивает головой. Интересно, когда всё это началось? У Тони высшее гуманитарное образование, она работала преподавателем в университете до тридцати лет, а потом, когда он получил должность в Следственном Управлении с приличной зарплатой, то они решили, что Тоня бросит эту нервную и низкооплачиваемую работу. Собственно говоря, ему нравилось приходить домой и вкусно кушать. И первые годы чаще всего именно он рассказывал Тоне о своей работе.
И когда у них в последний раз был секс?
Иван Викторович с трудом проглотил пережеванную пищу и замер. Вопрос, на который он сам себе так сразу ответить и не может. Он же еще сравнительно молодой, а приходит домой, ест, читает газету, смотрит телевизор и ложиться спать. Мысли о сексе с женой практически не возникают. Особенно, когда он видит, как она переодевается. Крупные жировые складки на животе и большая попа (называй уж так, как есть — огромная жирная жопа).
— Ваня, давай еще положу голубец, — услышав голос жены, он посмотрел на сальное пористое лицо и помотал головой.
— Спасибо, родная, я уже наелся. Как всегда, всё очень вкусно.
Вилентьев встал и вышел из кухни.
Его жизнь уже давно стала другой, а он только сейчас стал понимать, какая бездна разверзлась между его прошлым и настоящим. И, сидя на диване с газетой в руках, он неожиданно для себя вспомнил.
Последний раз секс у них с Тоней был весной две тысячи шестого года. До Парашистая. Тогда он еще рассказывал жене о своей работе и каждый вечер с удовольствием возвращался домой.
Иван Викторович смотрел на газетные строчки и не видел их, он читал и не понимал о чем. Как-то отстраненно он подумал о том, что именно доктор Ахтин разделил его жизнь на до и после. Всего два с половиной года, а он с трудом может вспомнить о своей любви к Тоне. Даже хуже — он не помнил, как его стройная красивая жена превратилась в толстую непривлекательную корову.
Всего два с половиной года, а словно прошла целая жизнь.
27
Сегодня тепло. Начавшееся бабье лето обжигает глаза солнцем и обволакивает сознание разноцветьем природы. Зеленый цвет жизни уступает место ярким краскам медленного умирания. Жухлые листья покрывают асфальт тротуара. Осень прошлого года я пропустил, поэтому с удовольствием смотрю на то, как теплый ветер срывает желтый лист и несет его вдаль.
Я иду на вызов. В правой руке у меня портфель. Наверное, надо торопиться к больному человеку, но я шагаю неспеша. Суета и спешка — это не для меня, быстрый ритм современного города — это выдумка теней, которые плечом к плечу с остальным стадом торопятся к пропасти. Впрочем, идти не далеко, и даже неторопливым шагом, я подхожу к нужному дому через пятнадцать минут.
Обычная хрущевка. Четвертый подъезд, пятый этаж, квартира семьдесят семь. Позвонив в дверь, я слышу голос:
— Кто там?
— Доктор из поликлиники.
Я понимаю, что на меня смотрят в глазок, и улыбаюсь. Затем говорю:
— Доктор Ахтин. Вы вызывали меня.
Дверь открывается. На пороге пожилая женщина смотрит на меня с подозрением и спрашивает:
— А имя, отчество как?
— Михаил Борисович. Пожалуйста, вот мой паспорт.
Заглянув в открытый документ, она наконец-то улыбается и говорит:
— Входите, доктор. Меня зовут Ангелина Федоровна, пожалуйста, проходите сюда.
Женщина показывает, где можно помыть руки, и затем ведет в дальнюю комнату. Я спокойно смотрю по сторонам — жилище одинокой женщины с ребенком, скромный быт двух людей, пытающихся выжить в равнодушном и жестоком мире.
— Риточка, к тебе доктор пришел, — говорит женщина, когда мы входим в комнату.
Я примерно знаю, что должен увидеть. Девочка-инвалид с высокой температурой. Примерно так и оказывается, за исключением того, что девочке семнадцать лет и выглядит она, как взрослая девушка с несколько необычной внешностью. Она лежит в кровати, прикрытая до плеч одеялом. Луноликое лицо, щеки с ярким румянцем и большие очки в толстой оправе, скрывающие незначительное косоглазие, сильно портят её внешность, но если заглянуть в глаза и поймать взгляд, то практически сразу забываешь карикатурность образа.
Сев на стул рядом с кроватью и сжав запястье пальцами, я спокойно смотрю на девушку и считаю пульс. Она так же смотрит на меня. И в какой-то момент я понимаю, что сегодня для меня судьбоносный день.
— Здравствуйте, доктор, — говорит она тихим голосом.
И я только через минуту отвечаю на приветствие. За это время я успеваю сосчитать число ударов сердца, и передо мной проносится короткая и насыщенная яркими эмоциями жизнь Маргариты Сальниковой.
— Что вас беспокоит? — говорю я, продолжая играть свою роль. Я всё еще доктор, хотя уже понимаю, что именно эта девушка вылечит меня.
— У неё температура поднимается до сорока градусов, — отвечает мать девушки, — особенно к вечеру. Я сбиваю её аспирином, и ей становится лучше, но потом температура возвращается. Вот, пожалуйста, градусник, полчаса назад измеряла — было тридцать девять и один.
Я, словно не слышу мать, снова спрашиваю:
— Что вас беспокоит?
— Голова, — говорит Рита, — она меня не слушается. Иногда болит, но чаще всего голова мне не подчиняется.
Я измеряю артериальное давление — сто тридцать на девяносто — и заглядываю в рот, отодвигая язык шпателем. Затем, с помощью матери повернув её на бок, слушаю легкие и сердце. Пальпируя живот, я вижу темно-красные продольные полосы на коже.
Убрав мой рабочий инструмент в портфель, я говорю матери:
— Ангелина Федоровна, принесите, пожалуйста, страховой полис и амбулаторную карту.
Женщина выходит, и я тихо говорю, глядя в глаза девушки:
— Если хочешь умереть, то надо не только очень сильно захотеть этого. Надо сначала нарисовать в своем сознании все то, что связывает тебя с жизнью, и только потом, разорвав эти картины на мелкие кусочки, ты сможешь обрести покой. Начинай это делать, я приду и, если у тебя не будет получаться, помогу тебе.
Мать девушки возвращается, неся документы. Я отвожу глаза, встаю со стула и иду к столу. Быстро просмотрев записи в амбулаторной карте и вписав свой осмотр и заключение, я пишу ниже лечение. Объясняю матери, что надо купить из лекарственных препаратов, и ухожу, даже не посмотрев в сторону девушки.
Я говорю «до свидания» только матери.
Выйдя из подъезда, я прячу глаза — вечернее солнце ярко светит прямо в них. Всего минут тридцать прошло с того момента, как я вошел в это подъезд, а, кажется, прошел целый год. Я медленно иду домой, думая о Маргарите Сальниковой, о молодой девушке, живущей с диагнозом детский церебральный паралич уже семнадцать лет. Она хочет умереть, и не знает, как это сделать. Маргарита уже неоднократно умирала в сознании, но в реальности способна только, склонившись над пропастью, созерцать бездну.
28
Вилентьев смотрел в зеркало. На висках появились седые волоски. Он так гордился тем, что у него нет ни одного седого волоска, и вот на тебе — пусть их мало, но сам факт их наличия заставляет задуматься.
Иван Викторович гордился своим хладнокровием. На месте преступления — даже если там всё было залито кровью и кишки трупов были вывернуты наизнанку — он всегда вел себя, как профессионал. Спокойно, рассудительно и деловито. В то время, как молодые следователи выскакивали наружу, зажав рукой рот, он искал улики, не обращая внимание на мерзость ситуации. Да, ему не нравилось ходить на вскрытие в морг, но и это он мог спокойно вынести. Сегодня ему пришлось выезжать на место преступления, где он чуть не потерял сознание, увидев разбитую ударом кувалды человеческую голову. И это случилось впервые.
Неужели что-то в нем сломалось?
Или он просто стареет?
Он услышал голос жены, которая звала его к столу. Поморщившись, он помыл руки и вышел из ванной комнаты.
В последнее время он заставлял себя возвращаться домой. А утром с радостью ехал на работу. И эта ситуация тоже не нравилась ему. Что-то важное уходило из его жизни, и он ничего не мог сделать. Это было сильнее его — брезгливость в отношении жены, которую он когда-то любил так сильно, что не мог себе представить жизни без неё.
Иван Викторович жевал мясо с жареной картошкой и думал, что даже пища стала другой — вроде вкусно, но как-то не так.
— Картошка какая-то сладковатая, — сказал он недовольно.
— Ваня, что ты такое говоришь, — всполошилась жена, — свежая картошка, я её купила на рынке, продавец сказала, что она только что выкопана.
Вилентьев проглотил пережеванный кусок мяса и внезапно подумал, что в последнее время стал думать о женщине, сидящей напротив, обезличенно. Просто жена, словно у неё нет имени. Её зовут Антонина, Тоня, но эти слова даже не возникают в сознании.
У него вдруг возникло чувство, что его привычный мир катится в тартарары. Быстро и необратимо. И седина на висках появилась неспроста. Это не старость. Это просто стрессовая ситуация, на которую он среагировал, как обычный человек.
Но — он опытный следователь, прошедший огонь, воду и медные трубы. Он, Вилентьев Иван Викторович, не может реагировать, как обычный человек в привычной для него ситуации.
Его размышления прервала трель сотового телефона. Майор протянул руку и, быстро глянув на имя на экране и нажав на кнопку, поднес трубку к уху. Он тут же забыл о своих мыслях, о жене и сладкой картошке.
— Да, Валентин.
Звонил молодой следователь, который сегодня дежурил в Управлении.
— Иван Викторович, убийство на улице Калинина. Молодая девушка. Я подумал, что вам будет интересно.
Майор Вилентьев почувствовал, как где-то в области мочевого пузыря возникло нехорошее ощущение.
— Ну, и? — нетерпеливо поторопил он лейтенанта.
— Там, на месте преступления, следователь из Ленинского ОВД. Он говорит, что преступник изрезал тело ножом и очень похоже, что выдавил глаз.
— Так, похоже или выдавил?
— Не знаю, Иван Викторович. Я его не понял. Я позвонил, потому что подумал — а вдруг это ваш маньяк?
— Правильно подумал, лейтенант. Я сейчас приеду. Диктуй адрес.
Вилентьев записал информацию и отложил телефон.
— Ваня, — плачущим голосом сказала жена, — опять? Тебя же дома практически не бываешь. Я думала, мы посидим вместе, посмотрим телевизор.
— Завтра посидим, — сказал Вилентьев, и через паузу заставил себя добавить, — обязательно посидим, Тоня.
Этот звонок словно вырвал его из полуобморочного состояния. Если это Парашистай, то — жизнь начинается снова. Или точнее — она возвращается к той незаконченной строке, за которой началось многоточие. Он быстро собрался и выскочил из квартиры. И, сидя за рулем, он включил радио и с улыбкой на лице стал подпевать, даже не задумываясь над словами песни:
Холодный ветер с дождем усилился стократно, Все говорит об одном, что нет пути обратно, Что ты не мой Лопушок, а я не твой Андрейка Что у любви у нашей села батарейка…До нужного места он доехал быстро, потому что на улицах, во-первых, было пусто, а, во-вторых, он находился в состоянии эйфории. Он показал удостоверение милиционеру, стоящему у входа в подъезд, и быстро поднялся на четвертый этаж. Санитары выносили на носилках тело, и майор подумал, что опоздал.
— Кого выносите? — спросил он.
— Это родственница жертвы, мать, наверное. Она пока жива, — ответил мужчина, стоящий в дверном проеме, — вы, я так понял, майор Вилентьев?
Заметив согласный кивок, он представился:
— Старший лейтенант Антонов. Следователь из Ленинского ОВД.
Он протянул руку, и Иван Викторович пожал её.
— Пойдемте, жертва там. Мы пока ничего не трогали. Ждем эксперта.
— А что с той женщиной? — Вилентьев махнул рукой в сторону уходящих санитаров.
— Черепно-мозговая травма. Скорее всего, именно она открыла дверь. Похоже, она его знала. Преступник ударил её по голове и оставил лежать в прихожей.
Вилентьев прошел в квартиру и пошел за следователем, глядя по сторонам. Обычная двухкомнатная квартира. Сразу направо маленькая кухня. Дальше небольшая комната, заглянув в которую он увидел шкаф, узкую кровать, книжную полку от пола до потолка и стол с компьютером.
— Тело здесь, — позвал его старший лейтенант.
Иван Викторович вошел в гостиную. И неожиданно для себя замер. Запах крови и вид растерзанного девичьего тела. Голова жертвы повернута в сторону и трудно понять, что с лицом.
На секунду Вилентьев забыл, как надо дышать, а, сделав вдох, сказал:
— Где ваш эксперт-криминалист?
— Сейчас должен быть.
Очень хорошо, что пока ему нельзя подходить близко. Вилентьев повернулся и вышел. Его мутило. В области желудка появилась тяжесть, и он с отвращением вспомнил сладкую жареную картошку и одутловатое лицо жены.
На лестничной площадке стало чуть лучше. Антонов протянул ему открытую пачку сигарет, и Вилентьев, вытащив одну, закурил от протянутой зажигалки.
— Ну, что, товарищ майор, это ваш парень? — спросил следователь с надеждой в голосе.
— Пока не знаю. Соседей опросили? Свидетелей нашли?
— Соседей опросили, но не всех. Никто ничего не слышал. Сосед слева, который теоретически мог что-то слышать, мертвецки пьян, а его жена только недавно пришла с работы, поэтому с ним будем говорить завтра. Остальные соседи на площадке ничего не могут сказать. Свидетелей нет.
Иван Викторович кивнул, и, заметив мужчину с чемоданчиком в руке, затушил сигарету.
Пришел эксперт, а, значит, пора работать.
Пора взять себя в руки, стать самим собой и перестать шарахаться от запаха крови и вида обезображенного тела.
29
Мария Давидовна не могла уснуть. Время уже за полночь, а она лежала на диване и смотрела в темноту. Целый час пыталась уснуть, и, наконец-то сдавшись, включила свет. На журнальном столике лежала книга, которую она читала. «Противостояние» Стивена Кинга. Первая книга. Вторая стоит на полке и ждет своего часа. По отзывам коллег, она знала кое-что об этом американском авторе, и до некоторых пор принципиально не хотела читать «короля ужасов». Этих самых ужасов хватало в повседневной жизни, и она не собиралась еще и читать об этом.
Однако заинтересованность вариантами будущего апокалипсиса привела её к этой книге, и, начав читать, она так увлеклась, что уже третий день торопилась домой после работы. Быстро поужинав, она устраивалась на диване и погружалась в мир людей, переживших пандемию гриппа. И пусть это была заокеанская история, — люди везде одинаковы. Различия могут быть в деталях, события могут развиваться чуть по-другому, мистика может напрочь отсутствовать, но — цивилизация исчезнет бесследно, оставив после себя руины и обломки, а остатки людей, вынужденные выживать, быстро вернутся в первобытное состояние.
Собственно говоря, именно из-за этой книги она сейчас и не могла уснуть. Слишком яркие и реальные картины для её воображения. Она легко смогла всё это представить.
И Мария Давидовна верила в предсказания Парашистая.
Раздавшаяся в ночной тишине мелодия «Наша служба и опасна и трудна…» заставила испуганно вздрогнуть женщину. Подпрыгнув, она бросилась на звук, сбив ногой журнальный столик. Морщась от боли в лодыжке, Мария Давидовна распахнула свою сумку и извлекла телефон.
Нажав на кнопку ответа, она поднесла трубку к уху.
Замерев сознанием.
Уже зная, что услышит.
Мечтая о том, чтобы её предположения сбылись.
— Не разбудил, Мария Давидовна? — довольный голос Вилентьева лучше любых слов сказал ей о том, что она права в своих предположениях.
— Нет, Иван Викторович. Что у вас?
— Ну, пока не на сто процентов, но, похоже, что Парашистай вышел из тени.
— Он кого-то убил?
— Да. И оставил свидетеля, что на него не похоже, поэтому пока я не до конца уверен в том, что это он. Хотя, и на старуху бывает проруха, — хохотнул майор.
Мария Давидовна, попытавшись сглотнуть слюну во внезапно пересохшем горле, спросила:
— Кого он убил?
— Девушка лет двадцати. Жила с матерью. Парашистай, — Вилентьев с удовольствием произнес имя подозреваемого в убийстве, и сразу стало понятно, что он безоговорочно верит в его виновность, — ударил мать по голове чем-то тяжелым, вроде молотка. Затем вошел в квартиру и убил дочь. Она, видимо, сопротивлялась, поэтому он нанес несколько ударов по голове этим же молотком, разбив лицо так, что пока не понятно, выдавил он глаза или нет. Ну, и потом добил ударами ножа в живот и грудь. В общем, как обычно, растерзанное тело и, скорее всего, выдавленные глаза. Кстати, насилия не было, что тоже говорит о том, что это, скорее всего, Парашистай.
Мария Давидовна, поняв, что она не дышала весь монолог Вилентьева, вздохнула и сказала:
— А вам не кажется, Иван Викторович, что вы торопитесь. Судя по вашим словам, это не может быть Парашистай. Совершенно не его почерк.
— Собственно, именно это я и предполагал, — Мария Давидовна даже увидела, как улыбается майор на том конце трубки, — вы сразу бросились защищать этого маньяка и убийцу. Практически на пустом месте, при минимуме улик, вы начинаете выгораживать доктора Ахтина. Почему вы это делаете, Мария Давидовна?
— Потому что я не люблю, когда любые преступления сваливают на одного человека, — спокойно сказала она.
— Ага, я так и понял, — почти рассмеялся Вилентьев, — ладно, когда будет заключение эксперта, я вам позвоню.
Мария Давидовна слушала короткие гудки в трубке и не могла оторвать телефон от уха. Конечно же, это убийство совершил не доктор Ахтин, — слишком много проколов для такого умного человека. Достаточно много противоречий и ненужной жестокости. Орудие для убийства и оставшаяся в живых родственница жертвы.
Но эта уверенность Вилентьева. И, главное, это фанатичное желание поймать, схватить бульдожьей хваткой и не отпускать, беспокоили её больше всего.
Если Ахтин в городе, то рано или поздно Вилентьев найдет его.
Мария Давидовна, наконец-то, отняла трубку от уха и бросила телефон на диван. Подняв журнальный столик, она наклонилась, чтобы поднять книгу Стивена Кинга. Она распахнулась на первых страницах, и глаза остановились на эпиграфе:
Уж ясно было, что не в силах жить она! И дверь открылась, и ветра явились, Свеча погасла, и огонь исчез, Затрепетали шторы, и вот он явился, Сказав: «Не бойся, Мэри, и иди за мной». И страха не было, И шла она за ним, И полетела… Взяв его за руку… «Не бойся, Мэри, я ведь жнец твоих страданий, Пойдем со мной!»Неожиданно для себя, Мария Давидовна, глядя на строчки неизвестного ей автора, разрыдалась. Она опустилась на пол и, сидя рядом с книгой, оплакивала не только свою жизнь, но и свою странную и непонятную любовь к человеку, который, похоже, забыл о её существовании.
И не смотря ни на что, если бы он сейчас вошел в комнату, то она бы пошла, полетела за ним.
Любовь — это цветок. Он может расти в цветнике или на пустыре среди сорняков. Соцветие может быть прекрасным или ужасным. Он может благоухать или его аромат будет мерзким. В любом случае, ты будешь оберегать его, рыхлить вокруг почву и своевременно поливать чистой водой, следя за тем, как этот цветок растет и крепнет.
30
Сложно жить, когда не уверен в том, что тебя кто-то понимает. Невозможно жить, когда уверен в том, что никто никогда тебя не поймет. И главное, — никто никогда не примет тебя. Быть чужим всем и вся, быть изгоем, когда даже родная мать предпочитает жалеть, а не понимать. Так удобнее. Не повезло, что ты такая, но трудно что-то изменить. Такая уж судьба.
Жалость в глазах и движениях.
Жалость в словах и действиях.
Уж прости, что так получилось, что родила тебя такой, но надо жить дальше.
А как?!
И зачем?!
Маргарита Сальникова ненавидела мать.
Нет, сначала она её любила. Лет так до тринадцати. А потом, когда стала понимать, что мать просто жалеет, а для любви в сердце у неё места нет. И причина проста — мать устала. Трудно бесконечно любить. Невозможно любить, зная, что это навсегда и никаких изменений не будет.
Маргарита Сальникова ненавидела своё тело.
Конечно, когда была маленькая, она так не считала. Ну, да, она не такая как все, но ничего страшного, вырастет и станет красивой. Так говорила мама, и она верила ей. То, что мать обманула её, Маргарита поняла только в тринадцать лет. До этого она наивно верила и надеялась на будущее счастье.
Маргарита Сальникова ненавидела людей.
В детский сад она никогда не ходила. Она вообще не могла нормально ходить, только с помощью специальных приспособлений и только по квартире. В детстве она чаще посещала больницы и общалась с людьми в белых халатах, поэтому не знала о человеческой жестокости. Мама научила её писать и читать, и сказала, что этого вполне достаточно. Маргарита далеко не сразу поняла, что мать не только жалела, но и стыдилась дочери, и это еще больше увеличивало ненависть и к матери. И к людям, перед которыми мать испытывала чувство стыда.
Маргарита Сальникова ненавидела своё сознание.
Сначала она создавала в своем внутреннем мире прекрасные картины будущей жизни, и там, в своих мечтах, она была совсем другой. В детстве — здоровый умный ребенок, которым гордится мама. Затем красивая девушка, перед которой открыты все дороги. Со всей пылкостью юности она мечтала, воздвигая в сознании замки и выдумывая миры. И там было всё — и верные друзья, и принц на белом коне, и вечная любовь, и огонек свечи, дающий свет в ночи.
Душа птицы, а тело урода.
И это навсегда.
Когда она осознала до конца это простую истину, то в первый раз умерла.
Это случилось ночью. Вечером мама поцеловала её, пожелав спокойной ночи, и в темноте Маргарита лежала и смотрела во мрак своего сознания. Там ничего не было. Замки рассыпались, миры сгинули, и она стояла в пустоте одна, убогая и неприкаянная. Мысленно закричав, она нестерпимо захотела умереть. Она вонзила указательные пальцы в глаза, пытаясь ногтями выцарапать мозг, пронзить его и убить. И у неё получилось — не было боли, не было страха, просто в пустоте сознания она растворилась и исчезла. И пусть утром она нашла себя в постели, даже эта мысленная смерть стала лучшим событием в её однообразной жизни.
Маргарита Сальникова ненавидела свое желание жить.
Она знала, что это инстинкт самосохранения, но легче от этого не становилось. Как бы она не пыталась, умереть не получалось. Только мысленно, и то далеко не всегда.
Каждое утро она смотрела на мать, ненавидела её, и — продолжала жить. Она смотрела в окно с высоты четвертого этажа, и мысль, что можно перевалиться через подоконник и упасть вниз, холодила сознание, но — дальше этого ничего не происходило. Во-первых, она опасалась, что при падении не разобьется насмерть, во-вторых, она боялась боли.
Маргарита Сальникова ненавидела свой страх перед болевыми ощущениями.
Начиная с осмысленного детства, она панически боялась уколов, взятия анализов, диагностических исследований, лечения зубов. И как будто специально — доктора при каждом посещении больницы назначали дополнительное обследование, и лечение всегда содержало курс инъекций. Сколько себя помнила, она три раза в день чистила зубы, но, тем не менее, приходилось раз в три месяца ходить к стоматологу, и при каждом посещении врач находила больные зубы и лечила их.
Маргарита Сальникова ненавидела свою болезнь.
Вроде доктора говорили, что постепенно на фоне массажа, специальных упражнений и таблеток будет улучшение. И даже, возможно, выздоровление. Но — становилось только хуже. Год назад первый эпилептический припадок поставил жирный крест на её наивной надежде на выздоровление.
Маргарита Сальникова мечтала умереть быстро и безболезненно.
Например, уснуть и не проснуться. Или выпить какую-нибудь таблетку и взлететь птицей к горизонту. Или шагнуть в бездонную пропасть и умереть в полете, зная, что до дна долетит мертвое тело. Примерно так она и умирала в своем сознании, каждый раз надеясь на то, что когда-нибудь её мечта осуществится.
Неделю назад Маргарите Сальниковой исполнилось семнадцать лет. Мама купила торт, и, глядя на горящие свечи, Рита загадала желание и дунула изо всех сил. И у неё получилось с первого раза. Она слушала, как мама хлопает в ладоши и поздравляет её с днем рождения. И улыбалась.
Но смерть не пришла. Ни в эту, ни в следующую ночь. Маргарита ждала еще три дня, и только потом у неё поднялась температура. Головная боль, озноб, жар и временная потеря сознания, которую мать принимала за сон. Странное бредовое состояние, погружение в которое Рита нашла очень приятным и даже замечательным. И ненавистное лицо матери, которое возникало перед ней, когда спадала температура и Рита возвращалась в этот мир.
Маргарита Сальникова просто сильно захотела сжечь свое сознание, и эту высокую температуру тела она создала сама, как бы странно это не звучало.
И я могу её понять. Лучше попытаться достаточно быстро сгореть от болезни, чем постоянно гореть в огне свое ненависти.
У Риты получилось бы. Она смогла бы сделать это. Если бы не мать, которая упорно сбивала температуру. Когда я пришел, Маргарита была на пределе своих сил. Еще бы немного, и она бы сдалась.
И вернулась бы в эту ненавистную жизнь.
Я дал ей шанс, и уверен, что у неё получится.
31
Майор Вилентьев задумчиво смотрел на заключение патологоанатома. Несколько ножевых ранений в область живота. Разбитая молотком голова. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг.
Ни выдавленных глаз, ни удаленных органов.
Ничего, что говорило бы, что это сделал Парашистай.
Иван Викторович разочарованно выдохнул. С утра он примчался на работу, воодушевленный тем, что он снова занимается делом Парашистая. Он хотел поехать в морг, чтобы своими глазами убедится в том, что это убийство совершено Парашистаем. Но — сначала совещание у генерала, где он откровенно высиживал время, затем надо было быстро оформить дело, которое он и так затянул. Прокурор района позвонил, и сказал, что ждет документы к двенадцати часам. Вилентьев вернулся из прокуратуры в час дня, и увидел документ на своем столе. Бросив портфель на стул, и нетерпеливо взял его.
И ничего.
Протянув руку к телефону, он набрал номер, представился и попросил позвать старшего лейтенанта Антонова. Ответив на приветствие, он сразу спросил:
— Что со свидетелем, который был пьян? Он что-то сказал?
— Пока его никто не спрашивал, но сейчас мы к нему поедем, — ответил старлей, — мать жертвы очнулась и сказала, что убийца — именно этот сосед.
Старший лейтенант что-то еще говорил, но Вилентьев его почти не слушал.
Всё развалилось.
А так прекрасно начиналось. И Вилентьев даже не знал, что его больше разочаровало, — то, что это был не Парашистай, или то, что доктор-психиатр снова оказалась права.
Попрощавшись с Антоновым, Иван Викторович отложил заключение патологоанатома в сторону и встал. Вспомнив о Марии Давидовне, он вдруг захотел её увидеть. Поговорить, посмотреть в глаза. Может, он поймет при личной встрече — знает она что-то или нет.
Да и просто, — он вдруг понял, что хочет вернуться в прошлое. В то время, когда они с Марией Давидовной шли по следу Парашистая.
Мария Давидовна задумчиво смотрела в открытое окно. Бабье лето. Листья на липах и тополях начинает опадать, создавая ощущение того, что жизнь преходяща. Солнце еще греет, и днем достаточно ощутимо. Всё меньше хотелось работать, хотя причиной нежелания ходить на работу была не только погода. Доктор Гринберг перестала понимать поступки людей. Это стало происходить ежедневно — почти каждый новый пациент, ну, или через одного, совершают действия, которые не поддаются пониманию, совершенно не логичны, а порой и абсурдны. С точки зрения общечеловеческой морали — безнравственны и ужасны. С точки зрения психиатрии — человеческое общество поразил неведомый недуг, который полностью лишает людей какой-либо морали и совести. Человеческий Разум — этот стремительный локомотив, мчащийся сквозь вечность — сошел с рельс и, свалившись под откос, несется в бездну.
Мария Давидовна вздохнула.
Она тоже пассажир поезда, летящего в пропасть.
Хотя, может она просто устала. И надо отдохнуть. Уехать туда, где тихо и спокойно. В какую-нибудь глушь, где нет людей.
Сняв белый халат, она аккуратно повесила его в шкаф. У неё обеденный перерыв, и совсем не хочется провести его на рабочем месте.
Она вышла из здания и пошла в сторону столовой.
— Мария Давидовна, здравствуйте.
Она повернула голову на звук знакомого голоса и увидела майора Вилентьева.
— Я поговорить хотел. С вами.
Он улыбался, словно они расстались только вчера.
— У меня обед, — сказала Мария Давидовна.
— Очень хорошо. Я тоже не прочь перекусить, если вы не против моего общества.
Вообще-то, она предпочитала кушать в одиночестве, но не после вчерашнего звонка. Она пожала плечами и кивнула.
В больничной столовой они набрали на подносы тарелки с едой и, расплатившись, сели за столик. Мария Давидовна взяла капустный салат, борщ, пюре с котлетой и стакан апельсинового сока. Вилентьев ограничился вторым блюдом — макароны с бифштексом — и стаканом компота. Среди однообразного шума множества говорящих людей они словно остались один на один в замкнутом пространстве. Во всяком случае, именно так видела ситуацию Мария Давидовна.
— Что-то мы с вами, Мария Давидовна, стали очень редко видеться. В прошлые годы это происходило значительно чаще.
— Да, даже очень часто, — согласилась доктор.
— Хорошие были времена. Я частенько с грустью вспоминаю, как мы с вами шли по следу маньяка. Ничего о Парашистае не слышали, с доктором Ахтиным не встречались? — как бы между прочим спросил майор, произнося все слова фразы одним тоном.
— С чего это вдруг, — удивленно подняла брови Мария Давидовна, — обычно это вы мне звоните и что-нибудь говорите о докторе Ахтине. Кроме вашего ночного звонка вчера, в последнее время я ничего о нем не слышала.
Она помедлила секунду и твердым голосом повторила:
— Нет, я ничего не знаю ни о нем, ни о каких-либо событиях, связанных с ним.
Мария Давидовна доела салат, отставила тарелку в сторону, и, придвинув суп, стала неторопливо кушать борщ. В столовой его вкусно готовили, и она с удовольствием брала его. Иван Викторович боролся с мясом — отрезав кусок от бифштекса, он отправил его в рот и стал сосредоточенно жевать.
Мария Давидовна подумала о том, что Вилентьев появился неспроста. Если бы убийство, про которое он вчера ей звонил, совершил Парашистай, то Вилентьева сейчас здесь не было. Он бы занимался делом. Если майор понял, что доктор Ахтин ни при чем, то, значит, ему что-то надо от неё. В любом случае, явление майора ничего хорошего не предвещало. Хотя, Мария Давидовна порой думала, что даже разговоры и любые известия об Ахтине значительно лучше, чем полная неизвестность.
— Иван Викторович, вы ко мне по делу, или просто поговорить?
Майор улыбнулся и сказал:
— Да, мне просто захотелось вас увидеть. А про вчерашнее убийство, — Вилентьев, чуть поморщившись, продолжил, — вы были правы. Там убийцей оказался сосед. Не знаю, да и не хочу знать, зачем он это сделал, но — это так. Это был не Парашистай.
В голосе Вилентьева прозвучало такое неподдельное разочарование, что Мария Давидовна даже удивилась. Она посмотрела на майора и снова стала кушать. Теперь она принялась за второе блюдо.
Иван Викторович снова стал задумчиво резать мясо.
Доев в молчании, Мария Давидовна неторопливо выпила апельсиновый сок и встала.
— Если это всё, то мне работать надо. Спасибо за компанию. Приятно было с вами поговорить.
Майор кивнул. И, улыбнувшись, сказал:
— И вам спасибо. Рад был увидеть вас.
Мария Давидовна, ни на секунду не поверив словам и улыбке Вилентьев, повернулась и пошла, чувствуя спиной пристальный взгляд Ивана Викторовича.
Вот и она стала одной из зомби, ведущих бесконечную и бессмысленную битву. Вежливые слова, за которыми скрыто недоверие и подозрительность. Фальшивые улыбки, за которыми прячется истинное лицо собеседника. Мягкие жесты, в которых невозможно заметить сталь мышц и неумолимость движений.
Мария Давидовна шла по больничному двору и думала о способности человека прятать за словами, мимикой и жестами свою истинную сущность. Каждый человек — монстр, который постоянно мысленно совершает страшные бесчеловечные поступки, прячась за благообразной внешностью и благочестивыми словами. И как только монстр перестает прятаться, как только он претворяет в дело виртуальные замыслы и решения, так сразу же общество отторгает его, ставя диагноз и закрывая в клетку.
Диагноз есть у каждого человека, просто тотальное большинство людей еще не нашли того квалифицированного специалиста, кто озвучит им это заключение, изолирует от общества, и назначит соответствующее лечение.
Мария Давидовна нашла для себя доктора, но, как бы грустно это не звучало, именно этот доктор отказался её лечить.
32
Я вхожу в поликлинику и иду в свой кабинет. Проходя по третьему этажу, я слышу своё имя. Обернувшись, вижу начмеда, и, вспомнив его имя, отвечаю на приветствие:
— Здравствуйте, Сергей Максимович.
— Зайдите ко мне, Михаил Борисович. У меня для вас новости.
Обычно я с опаской отношусь к новостям от начальства, но сейчас спокойно иду за бывшим хирургом. Может, я теряю бдительность, но скорее всего, сейчас я благодушен и уверен в себе. По вполне простой причине.
Я снова стал самим собой.
Доктор Ахтин, идущий своей дорогой.
Неважно, для чего меня приглашает в кабинет начмед. Не имеет значения, что ему надо от меня.
Главное — я знаю, что мне делать и как жить.
— Садитесь, Михаил Борисович. Я, так сказать, стараюсь познакомиться ближе со всеми сотрудниками поликлиники, дабы более ответственно, и открыто подходить к работе с кадрами, которые, как мы с вами знаем, решают всё.
Мне сразу же не нравится витиеватость его речи. Я спокойно смотрю в глаза человеку с фамилией Бусиков, слушаю произносимые им слова, из которых он создает сложные и угловатые конструкции, и пытаюсь не рассмеяться.
— Насколько я знаю, вы ведь тоже новичок в поликлинике?
— Да, — киваю я головой.
— И как вам коллектив?
— Ну, я пока толком ни с кем не познакомился, — медленно говорю я, — но в целом, мне кажется, коллектив хороший, работящий и отзывчивый.
— Вот это вы, Михаил Борисович, отлично сказали, — лицо Бусикова расплывается в улыбке, — коллектив, который может и хочет работать, как хорошо смазанный двигатель, заслуживает внимательного и поощрительного отношения. Как мы к человеку, так и он к нам. Я вот посмотрел ваши документы, и рад, что такой опытный врач пришел к нам. Соответственно, у нас с главным врачом созрело, так сказать, предложение к вам.
Сергей Максимович, замолчав, пристально смотрит на меня. Он ждет, что я проявлю заинтересованность, и я оправдываю его ожидания.
— Какое предложение?
— Нас не устраивает заведующая терапевтическим отделением, — он как бы морщится, и продолжает, — своевольная и не демократичная женщина, не хочет меняться в соответствии со временем, да и просто, нельзя так долго на одном месте в одной должности работать. Так вот, мы с главным врачом решили предложить вам это место.
Начмед поднимает руки в защитном жесте и говорит:
— Конечно, не сразу, вам надо пройти курс повышения квалификации, но, думаю, когда вы вернетесь из Москвы, то это место будет ваше.
— Из Москвы? — переспрашиваю я.
— Да. Мы решили отправить вас в Академию имени Сеченова. Курс повышения квалификации для старших ординаторов, заведующих отделениями и замов по лечебной работе. Два месяца в Москве. Я думаю, вы справитесь, и, вернувшись, внесете свежую струю в работу поликлиники. Согласны?
Я задумчиво смотрю на начмеда, словно думаю над этим предложением. На самом деле, я размышляю над тем, как мне поступить. Я не люблю Москву, если не сказать хуже, но — эти два месяца я могу спокойно прожить достаточно далеко отсюда и спланировать свои дальнейшие действия. Впереди зима, некомфортное для меня время года, часть которого я могу провести в более теплом климате столицы.
— Да, согласен, — говорю я.
— Отлично. Я и не сомневался, — довольно потер руки Бусиков, — значит, учеба начнется в ноябре, а пока вот, прочитайте и подпишите.
Я беру лист бумаги. Стандартный договор. Поликлиника в лице главного врача оплачивает моё обучение, а я в течение трех лет работаю в поликлинике на должности заведующего терапевтическим отделением без права увольнения. При нарушении договора я выплачиваю поликлинике затраченные на меня средства.
Мысленно я улыбаюсь. И подписываю договор.
Я обязательно нарушу этот договор, и к неудовольствию главного врача, ей не удастся вернуть затраченные на меня средства.
— Ну, вот и замечательно, — начмед забирает договор и, пожимая на прощание руку, говорит, — идите, работайте, Михаил Борисович.
Я выхожу из кабинета и иду по коридору. У моего кабинета сидят три пациента. Глянув на часы, я понимаю, что уже на двадцать минут опоздал. Улыбнувшись субстратам, я вхожу в кабинет.
Марина, мило улыбнувшись, говорит:
— Мы уже ждем вас, Михаил Борисович.
Я киваю, ничего не сказав, почему опоздал, и, переодевшись, начинаю прием пациентов.
Мужчина, страдающий ожирением, с высоким артериальным давлением не хочет каждый день пить таблетки. И, главное, он не собирается худеть. Его всё устраивает. И он хочет кушать сало, которое очень любит, пить пиво, которое обожает, и жить долго этой своей поросячьей жизнью.
Молодая женщина с болями в правом подреберье. У неё вирусный гепатит С, который она получилась от полового партнера. Вчера на семейном торжестве под водочку она съела салат с чесноком и кусок жирной свинины. Она знает, что всё это ей нельзя, но в глазах немой вопрос — что, теперь и не жить совсем? Немножко-то можно?
Беременная женщина с врожденным пороком сердца. Ей нельзя вынашивать беременность, но она смотрит мне в глаза и говорит, что она в любом случае не пойдет на аборт. Она не может убить этого еще не рожденного ребенка. До её сознания не доходит простая истина, — она не может убить плод, зато она может убить себя, оставив новорожденного сиротой.
Пожилая женщина, которая игнорирует назначения врача и предпочитает применять мочу, приходит, чтобы сказать, что ей становится хуже. Боли в спине не проходят. Она не говорит, что использует уринотерапию, а я не собираюсь говорить ей то, что она не хочет услышать.
Мужик, перенесший инфаркт миокарда, уже через четыре месяца снова стал курить и пить водку, словно ничего в его жизни не произошло.
Всё, как обычно, — тени с маниакальным упорством рвутся к смерти, а когда она приходит, с не меньшим упорством они хотят жить.
Ничего не меняется.
Человеческое стадо продолжает свой бессмысленный путь.
33
Я снова иду к Маргарите Сальниковой. Рабочий день позади, я мог бы просто пойти домой, но я иду к девушке, которая не хочет жить.
Поднявшись на четвертый этаж, нажимаю на кнопку дверного звонка.
Мать Маргариты удивлена:
— Я вроде не вызывала вас?!
Я ничего не говорю в ответ, словно не замечая завуалированный вопрос — зачем вы пришли, если никто вас не звал?
Помыв руки, я иду в комнату девушки.
— У нас всё хорошо, — говорит мать, идущая за мной, — температура спала, Рите стало лучше.
Маргарита действительно выглядит хорошо. Она почти сидит, навалившись на подушку. Бледное лицо, свалявшиеся волосы. Но в глазах любопытство и спокойное ожидание.
Она знала, что я приду.
Она ждала меня.
— Здравствуйте, доктор.
Я улыбаюсь в ответ на приветствие. И говорю:
— Я вижу, тебе лучше. Сколько температура?
— Тридцать семь и две, — отвечает мать, хотя я спрашиваю девушку.
Я смотрю в глаза на круглом лице. Кое-что у неё получилось, а с чем-то она не смогла справиться. Она по-прежнему мечтает умереть, и готова сделать для этого всё от неё зависящее. Она нарисовала в своем сознании картины, изобразив то немногое, что мешает ей оставить мир теней и то многое, к чему она стремится.
Но она еще не готова порвать эти рисунки.
И, если быть точным, она боится рвать эти мысленные картины.
— Болезнь приходит и уходит, а мы остаемся, — говорю я, пытаясь в присутствии матери сказать девушке то, что нужно донести до её сознания. Это сделать сложно, потому что женщина, стоящая за моей спиной, никогда не поймет прямых и открытых слов. Хорошо, что девушка способна понять невысказанную и завуалированную истину.
— Неизлечимых болезней очень мало. Точнее, их нет. Если медицина не может с чем-то справится, то с этой болезнью может справиться сам больной. Но для этого надо захотеть это сделать. Врачи могут говорить, что это невозможно. Священнослужители отправят молиться и надеяться на божественное чудо. Здравый смысл и житейская логика будут отрицать даже возможность такого исхода. Но — всё в твоей голове.
Я вижу, что Маргарита Сальникова понимает меня.
— Мама, я очень хочу пить, принеси мне, пожалуйста, твой вишневый компот, — просит она, кротко взглянув поверх моего плеча.
Женщина за спиной уходит, и я говорю:
— Жизнь — это и есть болезнь. Коварная, неизлечимая болезнь. Да, и для этой болезни есть доктор, но иногда его так долго приходится ждать. Поэтому довольно часто человек сам может исцелиться.
— Я поняла, — тихо говорит Рита.
— Не надо бояться рвать картины в своем сознании, — улыбнувшись, говорю я, — это не больно. И не страшно. Выздоровление обязательно наступит, главное верить в это.
Мать приносит компот, и Маргарита пьет жидкость.
Встав, я говорю:
— Да, ваша дочь пошла на поправку. Давайте ей больше жидкости, и продолжайте лечение.
Я ухожу из этой квартиры.
И из жизни девушки по имени Маргарита Сальникова.
У неё всё получится. Я ей не нужен, она справится сама.
Я иду по улице в сторону общежития. Темнеет быстро, и это хорошо. Мелкий осенний дождь прогоняет тени по домам, и, подставляя лицо каплям дождя, я начинаю понимать, что только теперь я вернулся.
Я вернулся и стал самим собой.
Я снова вижу свет далеких фонарей.
Я уверен, что совсем скоро Богиня возьмет меня за руку, и мы вместе пойдем по тропе на яркие световые точки.
34
— Ну, все, Риточка, давай будем спать.
Маргарита посмотрела на мать, которая, закончив читать вслух, отложила книгу в сторону и склонилась к ней для обычного поцелуя в лоб.
— Прости меня, мама, — сказала она тихо.
— За что? — удивленно отстранилась Ангелина Федоровна.
— За всё. За то, что я такая, и тебе приходится всё время быть со мной. За то, что болею часто, и за то, что ты не можешь мной гордиться, — сказала Маргарита.
— Доченька, да ты что, — мать всплеснула руками, — это ты меня прости.
Ангелина Федоровна обняла дочь и продолжила:
— Я ведь чуть было веру не потеряла, что всё будет хорошо. Мысли всякие глупые гоняла в голове. Зачем, думала, родила? И другие разные дурацкие мысли! А ты ведь для меня сейчас, как свет в окошке. Что бы я без тебя делала?! Сидела бы сейчас одна и смотрела в окно, одинокая и неприкаянная, никому не нужная старая баба!
Маргарита смотрела, как набухли слезами глаза матери, и неожиданно для себя тоже заплакала. Протянув руки, она прижалась к родной груди и сказала:
— Да, и я без тебя, мамочка, жизни не представляю.
Прижавшись друг к другу, они плакали, пока лампа у изголовья кровати внезапно не погасла.
— Что это? Опять электричество отключили?! Ну, что ты будешь делать! — недовольно сказала Ангелина Федоровна.
— Ладно, я спать буду.
— Да, Рита, спи, а я пойду и выдерну все вилки из розеток.
Мать ушла. Девушка лежала и смотрела в темноту. Она надеялась, что этой ночью у неё всё получится. Глубоко вдохнув, Маргарита Сальникова закрыла глаза и начала мысленно рисовать свою смерть. Она не была уверена, что делает всё правильно, поэтому решила, что нарисует несколько картин. И пусть они будут не по порядку, — главное начать.
Церковь. Она лежит в гробу, закрытая простыней. Руки сложены на груди. На лбу сложенный платок с написанной на нем молитвой. На лице умиротворение и покой. Рядом с гробом стоит мама в черном платье и платке. Она тихо плачет. Священник громко читает молитву. Лики святых строго взирают с икон алтаря.
Маргарита хотела изобразить вокруг людей, который пришли на похороны, но — внезапно поняла, что никого не будет. Родственников у них с мамой нет, друзей и хороших знакомых тоже нет. Чуть подумав, она в дальнем углу церкви нарисовала высокую мужскую фигуру.
Мысленно посмотрев на то, что она изобразила, Маргарита решила, что сделала всё замечательно.
И безжалостно разорвала картину, ни на секунду не усомнившись в том, что делает.
Кладбище. Светло-коричневая земля, лежащая грудой рядом с прямоугольной ямой. Тонкая береза тянет свой ствол к солнцу. Двое мужчин медленно опускают деревянный гроб в могилу, рядом с которой стоят два человека. Женщина закрывает лицо руками, скрывая свои слезы. Мужчина в очках задумчиво смотрит на то, как забрасывают землей яму.
И снова отстраненно оценив сделанное, Маргарита Сальникова рвет мысленный рисунок.
Её комната. Утро. Она лежит в своей кровати. Мама приходит будить на завтрак. Зовет её по имени. Ласково берет за руку. И ощутив смертельный холод, кричит. Лицо матери она вырисовывает тщательно. Открытый в крике рот. Ужас в глазах. И внезапная бледность по всему лицу.
Разрывая мысленный рисунок, Маргарита сделал так, чтобы линия разрыва прошла по лицу мамы.
Оборванный полукрик и один глаз, в котором уже не оказалось эмоций. Никаких.
Маргарита посмотрела на две половинки рисунка и быстро мысленно дорисовала в дверном проеме фигуру доктора. Причем сделала она это на обеих половинах. Снова придирчиво оценила свою работу.
Улыбнулась.
И, сложив вместе половинки, порвала их на мелкие кусочки.
Маргарита Сальникова сгребла в одну кучку обрывки всех своих мысленных рисунков и, взяв их в охапку, легко встала с кровати и подошла к окну. Запрыгнув на подоконник, она села и свесила ноги вниз.
Горящий тысячами огней большой город расстилался перед ней ярким разноцветным ковром так, словно она жила на крыше небоскреба. И она этому ничуть не удивилась. Маргарита всегда знала, что однажды весь мир будет у её ног.
Счастливо засмеявшись, Маргарита Сальникова подбросила вверх охапку рваных кусочков мысленных картин и стала следить за тем, как они медленно разлетаются в стороны. А затем она смотрела, как они стали сближаться и — через мгновение сложились, как паззл, в обычные классики, нарисованные на призрачном асфальте. Она всю свою сознательную жизнь мечтала поиграть в эту игру, поэтому, даже не задумываясь, вскочила на ноги и легко шагнула в первую клетку.
И всё получилось.
Её мечта осуществилась.
Маргарита Сальникова прыгала из одной клетки на две других, расставив ноги, и затем снова на одну ногу.
Она что-то кричала на каждый свой прыжок, выражая своё счастье.
Она просто радовалась тому, что стала такой же, как все люди.
Квадраты классиков закончились, и, посмотрев вперед, Маргарита увидела серебристую дорожку, которая вела прямо к Луне. Большой диск призывно светил серебром, приглашающе расстелив яркую полосу. И она, не оглянувшись назад, быстро пошла вперед.
Счастливая улыбка на лице.
Стройная фигура, переливающаяся серебром.
Твердый уверенный шаг.
Красивая молодая девушка шла к своему прекрасному будущему.
35
Мне нужна Богиня, и Она нуждается во мне. Наверное, я знал это всегда, но по настоящему понял это вчера. Однажды, в далеком прошлом, Богиня взяла меня за руку и вывела из темного леса к свету фонарей, потому что знала, — придет время, и я принесу Ей жертвы, чтобы обеспечить умиротворение в Тростниковых Полях.
Мы навсегда связаны.
Бессмертие — вот наша связующая нить.
Сюда, в мир теней, мы пришли в разное время и разными дорогами, но встретились в зимнем лесу и никогда не разойдемся.
Мы с Богиней идем своим путем.
И пусть Её нет сейчас рядом со мной. Мой путь в Тростниковые Поля затянулся, но он по-прежнему продолжается.
Никто, кроме меня не позаботится о Богине.
Никто, кроме Богини не позаботится обо мне.
Я для Неё — жертвы.
Она для меня — свою защиту и благоволение.
Полночь. Я сижу в своей комнате. На чистом листе бумаги я рисую глаза Маргариты Сальниковой. Пока легкие движения карандаша оставляют линии на бумаге, я чуть слышно и монотонно говорю:
— Я пришел, я принес тебе око Гора. Ты — ба с ним, ты — сехем с ним, ты — уаш с ним! Ба живет на небе у Ра, твое кА божественно пред Богами, твоим телом владеет Великий Сехем.
Сначала я рисую обреченность и смерть в глазах. Затем, на другом листе, я создаю жажду жизни, и стремление изменится. На третьем рисунке — в глазах возникает осознание, что жизнь и смерть идут рука об руку. Маргарита ищет смерть и находит жизнь. Она хочет жить и обретает смерть.
И последний рисунок.
Маргарита Сальникова — соцветие шиповника на краю бесконечного Тростникового Поля. Маленький белый цветок на колючей неровной ветке, на которой однажды созреет ягода. Странное растение среди однообразного тростника.
И это хорошо.
Каждый рисунок я сопровождаю словами:
— Я пришел, я принес тебе око Гора. Ты — ба с ним, ты — сехем с ним, ты — уаш с ним! Ба живет на небе у Ра, твое кА божественно пред Богами, твоим телом владеет Великий Сехем.
Отложив карандаш, я смотрю на свои рисунки.
Вполне достаточно для начала. Я принесу Богине эти рисунки, как знак, что я вернулся и очень скоро начну приносить жертвы.
Настоящие жертвоприношения.
Я слышу крик. Короткий сильный звук на моем этаже.
Я смотрю в глаза девушки и верю, что всё получится. Мне надо будет много сделать и через многое пройти, но главное я уже решил. Я нужен Богине, и Она нужна мне. Вернувшись и совершив жертвоприношения, я продолжу свой путь.
Звук бегущих ног. Хлопнувшая дверь комнаты справа от меня.
Я выхожу из комнаты и иду на голоса. В дальнем конце коридора стоят жильцы — три женщины и мужчина. Практически никого из них я не знаю. Женщина, стоящая лицом, замечает меня и говорит:
— Вот, кстати, доктор. Пусть он посмотрит.
Похоже, меня знают. Люди расступаются. Я вхожу в комнату и вижу Усикова. Лицо застыло в гримасе смертельного страдания, петля стягивает шею, руки безжизненно висят. В комнате вязкий запах смерти и легкий аромат фекалий.
Усиков решил завершить свой путь, даже не попытавшись преодолеть себя. Обычная судьба тени, — родился и умер. Короткий отрезок времени и два шага в бесконечном пространстве.
Развернувшись, я выхожу. Жильцы смотрят на меня. Они хотят, чтобы я решил, что делать дальше.
— Вызывайте милицию, — коротко говорю я, — он уже холодный.
Я не думал, что Усиков сможет. Он выглядел слабым человеком, а для того, чтобы убить себя, нужна сила. Не физическая, а душевная. Тени редко способны самостоятельно распорядится своей жизнью. Как правило, они до последнего цепляются за возможность сохранить жизнедеятельность организма, растягивают агонию, словно это что-то может изменить.
Впрочем, настоящее самоубийство — это когда убивают себя силой духа, а не с помощью внешних приспособлений.
Усиков своим самоубийством ничего не изменил.
Ушел, и всё.
Через неделю его забудут.
Тело сгниет в земле, никогда не достигнув владений Осириса.
кА сгинет, так и не представ перед Богами.
Ба растворится в воздухе, так и не достигнув Ра.
Быстро, прозаично и глупо. Усиков распорядился собой абсолютно бездарно.
Остаток ночи я сижу с закрытыми глазами. В своем сознании я возвращаюсь к Богине, в те далекие дни, когда Она была со мной. Короткий промежуток времени, который намертво отпечатался в памяти. События, ставшие мгновением в моей жизни, и разделившие её на две части. Впереди еще много всего, но я рад своему возвращению. Что бы ни случилось, скоро я снова сделаю первый шаг. И Она вернется ко мне.
И мы снова вдвоем пойдем на свет далеких фонарей.
Когда начинает светать, я открываю глаза и тихо говорю:
— Я каждый день восторгаюсь твоей красотой. Мое желание — слышать твой прекрасный голос, Звучащий, словно шелест северного ветра. Молодость возвращается ко мне от любви к тебе. Дай мне твои руки, что держат твой дух, Чтобы я смог принять его и жить им. Называй меня моим именем вечно — а мне Без тебя всегда чего-то будет недоставать.
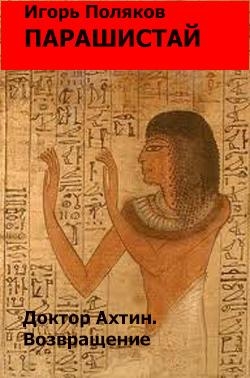


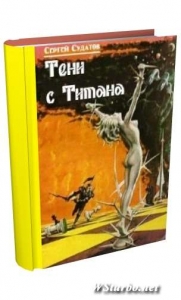


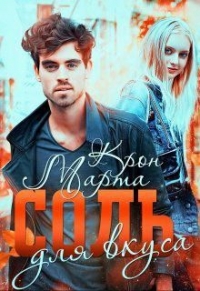

Комментарии к книге «Доктор Ахтин. Возвращение», Игорь Викторович Поляков
Всего 0 комментариев