Владислав Отрошенко
Дело об инженерском городе
Повесть
От автора
Пользуясь этой дополнительной журнальной площадью, которую редакция любезно
предоставляет всем авторам, я хочу поместить здесь хокку, выигранное мной в
кости у моего старого друга этнического китайца Дмитрия Баохуановича Пэна, проживающего в Ростове-на-Дону. По условиям игры, которую предложил мне сам
Пэн, убедив меня, что это утонченная восточная забава, выигрыш состоит в
приобретении авторских прав на произведение, взятое с кона. Речь идет о полном
и безоговорочном праве, которое позволяет выигравшему подписывать хокку своим
именем, как если бы оно вышло из-под его пера. Игра случилась много лет назад
на берегу Дона, близ станицы Багаевской, под жарким августовским солнцем, в
присутствии свидетелей. Ставки определялись по взаимному выбору соперников. Из
многочисленных хокку, сочиненных Пэном, я затребовал на кон то, которое не
просто нравилось мне, а вызывало у меня зависть и затаенную досаду, что его
написал не я. Полистав рукопись с моими трехстишиями, Пэн тоже сделал выбор, руководствуясь своими мотивами и соображениями. Мы бросили кости. Удача
улыбнулась мне. Я не хочу сейчас изображать из себя коварного Сильвио из
пушкинского “Выстрела”, я просто говорю: настало время воспользоваться
выигрышем. Вот бывшее хокку Пэна, принадлежащее мне: Я, бездельник, сплю.
Но еле стоит от усталости
Мой письменный стол.
Я приобрел эти строчки в честной игре, поставив на кон без всяких возражений
именно то хокку, которое нацелился выиграть у меня Пэн: Водопады ей снятся и горы, — Висит под китайской картинкой
Старая шляпа моя.
Теперь это дело окончено. Мне остается только добавить, что за его подлинность
я ручаюсь.
*
Впервые этот блуждающий город был замечен в 1804 году на юге России, в
низовьях Дона, “в обворожительно ясном и глубоком пространстве осенних
степей”, как лирически выразился в послании к атаману Войска Донского
генерал-лейтенанту Матвею Платову инженер русской армии Франсуа де-Воллант.
Писанное наспех в походной карете, увлекаемой свежими рысаками к берегам
Азовского моря по степному раздольному тракту, послание было скорее частным, чем официальным. Во всяком случае, оно не предполагало никаких формальных
резолюций, никакого дальнейшего продвижения по инстанциям, и потому, быть
может, в нем кое-где и находили себе место подобные выражения, невольно
зарождавшиеся под воздействием октябрьских пейзажей в сердце стареющего
дворянина родом из герцогства Брабант. Однако общий тон послания был далеко не
лирическим.
“Мой дорогой генерал! — писал инженер по-французски, не доверяя, как видно, калмыку-курьеру, отправленному с дороги. — Мне хорошо известно, сколь велико
благоволение к вам императора Александра. Лучшим тому свидетельством служит
его приказ, согласно которому я явился месяц назад в Черкасск и поступил
всецело в ваше распоряжение. Ибо что такое этот приказ, как не превращение в
реальность вашей давней мечты — основать в южнорусских степях новый город, поставить его с вдохновенным размахом на диком степном холме, окруженном
величественной равниной, и назвать этот город Новым Черкасском — новой
столицей Земли Войска Донского. Император был настолько небезразличен к этой
вашей мечте, что даже нашел возможным оторвать меня от строительства порта в
Таганроге, потому что вы пожелали, чтобы именно я — с Божьей помощью и под
вашей рукой — низвел в чертежи и схемы, а затем уж в гранит и кирпич вашу
высокую и драгоценную грёзу. Что ж, она будет низведена в мир вещественный! Мы
продолжим наши труды, как только я вернусь из Таганрога, куда я сейчас лечу по
неотложному делу, о котором я не мог известить вас заранее. Депешу из
таганрогского порта мне доставили сегодня утром. Неистовый шторм, бушевавший
на море три дня и три ночи, прорвал там едва возведенную дамбу! Это
злосчастное известие застало меня на вершине холма Бирючий Кут, который мы с
вами избрали для возведения на нем Нового Черкасска. Вы знаете, генерал, что я
уже вторую неделю безвыездно стою на холме инженерским лагерем, производя
измерения и разметку предполагаемых улиц и площадей будущего города. Мне
пришлось двинуться в Таганрог прямо оттуда по кратчайшему тракту через
Ростовскую крепость, оставив шатры и приборы на попечение Войскового
архитектора г-на Бельтрами, под командование которого я временно передал и
всех людей. С собою в конвой я взял лишь шестерых всадников из вашего Войска.
Одного из них — вахмистра Яманова — я возвращаю вам вместе с этим письмом. Я
надеюсь снова быть в Черкасске через неделю. Этого времени, полагаю, будет
достаточно, чтобы вы тщательно обдумали один вопрос. Не исключаю, что он
покажется вам странным и даже дерзким. Однако я обязан поставить его именно
так, как я ставлю его ниже.
Генерал, можете ли вы твердо сказать, что вам известны все города, расположенные в пределах Земли Войска Донского, вверенной вашему управлению?
Предвижу, что вы тотчас же ответите — да. Но меня не удовлетворит такой ответ.
Он перестанет удовлетворять и вас, если я задам вам вопрос иначе. Способны ли
вы объяснить, что за город стоит в самом центре Черкасского округа на
расстоянии около 8 верст к югу от холма Бирючий Кут на открытой равнинной
местности, простирающейся за рекой Аксай и называемой Аксайским займищем?
Не думаю, что теперь ваш ответ будет скорым. Ибо если и я, состоящий волею
императора вот уже третий год в должности управляющего постройкой всех
городов, крепостей и портов на юге империи, затрудняюсь истолковать, откуда
мог взяться здесь город, то и вы, осмелюсь предположить, находитесь в том же
положении. Мы пользуемся с вами одними и теми же картами. В моем распоряжении
есть даже карты более подробные, чем ваши — масштабом по 2 версты в английском
дюйме. Мы одинаково хорошо знаем территорию Земли Войска Донского — вы как ее
исконный житель и вождь, я как должностное лицо, действующее здесь по мере сил
во благо государства. Но оставим в стороне наши знания и наши карты! Ни на
одной карте этого города нет и быть не может. Его не может быть здесь по самой
природе вещей. И если бы ваш архитектор г-н Бельтрами и мой секретарь г-н
Освальди, а также инженер-подполковник Генерального штаба г-н Веселовский не
наблюдали бы то же самое, что и я, то я бы счел увиденное наваждением.
Мне следует, наверное, сообщить вам, что первым город заметил г-н Освальди.
Это случилось сегодня, в ранний утренний час, еще до того, как я получил
депешу из Таганрога. Накануне вечером я приказал Освальди, чтобы он разбудил
меня на рассвете, если только не будет тумана. Вам не хуже моего известно, генерал, как затрудняли нашу работу непроглядные туманы, стоявшие повсеместно
в низовьях Дона с начала октября. Они обволакивали склоны Бирючьего Кута со
всех сторон так плотно, что нам по временам казалось, будто мы парим в воздухе
над густым молочным облаком, ибо мы видели только светлые небеса над головой
да небольшой островок земли, образованный верхушкой холма, освещенной мутными
лучами солнца. В других обстоятельствах я бы нашел это зрелище восхитительным.
Но теперь, при необходимости еще до зимы произвести на холме все
подготовительные работы с тем, чтобы к Рождеству, как предписал император, уже
иметь полный проект Нового Черкасска, согласованный с условиями местности, меня по-настоящему могла восхитить только ясная погода. И потому я тотчас же
поднялся на ноги и с радостью вытряхнул из головы утренний сон, как только
Освальди разбудил меня словами:
— Погода прекрасная, господин генерал! Прикажете кофе?
Мы быстро позавтракали в шатре. Когда же вышли на воздух, я заметил на лице
Освальди выражение хмурой озабоченности, происходившей, как мне подумалось, оттого, что он плохо выспался в эту ночь. Ободряя его, я дружески похлопал его
по плечу и сказал:
— У нас сегодня будет много работы, любезный Гаспаро, не так ли?
— Да, конечно, мой генерал, — ответил он. — Но вы посмотрите вон туда.
Он протянул руку в сторону Аксайского займища.
Поначалу я ничего не увидел там, куда указывал секретарь Освальди. То есть, я
хочу сказать, я не увидел ничего, кроме той идеально плоской равнины, которая
простирается за рекою Аксай, огибающей с юга Бирючий Кут. Вы, наверное, помните, генерал, как в средине прошлого месяца, когда бедственные туманы еще
не опустились на окрестный мир, мы вместе с вами озирали с вершины холма эту
пустынную равнину. На вопрос подполковника Веселовского, нельзя ли на ней
разбить виноградники и разбросать селения, дабы тем самым оживить ландшафт
вблизи будущего города, вы тогда только усмехнулись. Из какой-то упрямой
неприязни к г-ну Веселовскому вы даже не пожелали объяснять ему то, что потом
объяснил ему я при помощи карт и моих скудных знаний здешнего диалекта. А
именно — что займище потому и называется займищем, что его занимают воды
разливающейся реки*. Относительно же Аксайского займища известно, что оно
подвержено самым жестоким наводнениям, так как в его пределах сливаются
воедино полые воды Аксая и Дона, между которыми и расположена эта несчастная
местность. Не только виноградники и селения, вообразившиеся г-ну Веселовскому, но даже стены отменного форта не устояли бы здесь под натиском стихии. Быть
может, оттого, что я хорошо это знал, мой глаз, подчиняясь твердому убеждению
ума, не способен был какое-то время, после того как Освальди указал на
займище, увидеть там то, что я затем увидел.
Реальность неустранима, генерал! И всякий здоровый рассудок всегда
возвращается к ней, одолевая силу нечаянного обмана. В обворожительно ясном и
глубоком пространстве осенних степей я увидел город, который даже при взгляде
невооруженным глазом обнаруживал свое иноземное происхождение. Когда же я
осмотрел его более тщательно, воспользовавшись оптическими приборами, у меня
уже не оставалось на этот счет никаких сомнений. Однако я приказал секретарю
Освальди разбудить г-на Веселовского и г-на Бельтрами. Я считал своим долгом
немедленно приобщить их к этому утреннему зрелищу и выслушать их суждения об
увиденном.
Не стану передавать вам те сумбурные замечания, которыми сопровождал осмотр
г-н Веселовский, чтобы не умножать вашей предубежденности против него. Скажу
вам только, что и он, и я, и г-н Бельтрами — все мы скоро сошлись во мнении, что наблюдаемый нами город по наружным признакам не может принадлежать к
российской короне. И если г-н Веселовский основывал свои заключения на
впечатляющих частностях, к коим следует отнести, во-первых, во множестве
видимые над городом чуждые знамена, украшенные конскими хвостами, во-вторых, неопознанные гербы и знаки на обширных полотнищах, развернутых на стенах
башен, словно бы по случаю праздника, то г-н Бельтрами, так же, как и я, нашел
безусловно чужеродной саму градостроительную мысль, которая выказывает себя в
целостном облике города.
Не убежден, однако, что кто-либо из нас способен вам изъяснить как следует
происхождение этой мысли или указать безошибочно область мира, где было бы
естественно видеть подобный город.
Была минута, когда г-н Бельтрами утверждал, что мы имеем дело с тем особенным
типом укрепленных городов, какой сложился в южной Италии на береговой линии
под воздействием военной необходимости противостоять атакам сарацинских
флотилий. Он даже выразился более определенно, сказав, что по тому, как тесно
примыкают друг к другу начисто выбеленные каменные строения, а также по общему
очертанию город чрезвычайно напоминает ему Сперлонгу, принадлежащую
Королевству Обеих Сицилий.
Не знаю, генерал, приходилось ли вам видеть воочию поименованный город, обретающийся на берегу Тирренского моря, на высоком скалистом мысе, в
шестидесяти верстах к северу от Неаполя. Однако, думаю, вы будете достаточно
осведомлены о нем, если я вам скажу, что этот тип городов отличается
парадоксальной сущностью. Называясь цитаделью, такой город не имеет никаких
наружных фортификаций, в том числе и крепостной стены. Он может показаться на
первый взгляд стихийным скоплением разнообразных зданий, соединившихся в
тесное поселение без всякого оборонительного замысла. Но это обманчивое
впечатление. Город остается непреступным для противника, ибо в нем не только
военные, но и все гражданские постройки подчиняются плану круговой обороны.
Подобие крепостной стены в нем образуют здания внешнего круга. Они сдвинуты
между собою на такое малое расстояние, что просветы радиальных улиц, выходящих
на край города, обретают сходство с расщелинами в скалах и служат своего рода
бойницами для обстрела атакующего неприятеля, который даже в случае
проникновения в город рискует оказаться в смертельной западне. Сами городские
улицы, намеренно искривленные, местами суженные до двух футов и повсюду
перекрытые низкими арками, сомнут и парализуют неприятельское войско, не
позволяя ему свободно действовать никаким удлиненным оружием, не говоря уже о
том, чтобы передвигаться верхом. Такова, генерал, Сперлонга.
Г-н Бельтрами предположил, что город на Аксайском займище должен иметь такое
же внутреннее устройство. Но я сомневаюсь, что мы можем судить об этом. Ибо и
наружно город выглядит слишком странно, чтобы делать дальнейшие заключения о
его потаенном организме, что я и сказал г-ну Бельтрами.
Какое-то время он твердо держался своего первоначального мнения, и я не
пытался разубедить его. Я ждал, когда солнце поднимется выше. Как только света
прибавилось над равниной, мы снова обследовали город, вооружившись подзорными
трубами. На сей раз г-н Бельтрами признал, что размерами он значительно
превосходит Сперлонгу и сходные с ней по замыслу итальянские цитадели. Мы
также установили без разногласий следующее.
Город имеет в плане прямоугольную форму. Он вытянут с запада на восток не
менее чем на две версты. Строения его действительно сдвинуты — однако сдвинуты
таким образом, что между ними нигде невозможно заметить ни малейшего
промежутка. Более того, нельзя различить отдельных строений как таковых.
Исключение составляют разновеликие башни, которые беспорядочно возвышаются над
непрерывной массой сооружений, нисколько не нарушая того общего впечатления, что город являет собою целостное здание, возведенное по единому принципу и
полностью изолированное от окружающей местности. Впечатление это усиливается
тем, что с северной стороны города, обращенной к нам, наблюдается скат
гигантской крыши. На его поверхности видны обширные отверстия, из которых
выступают упомянутые башни, украшенные разноцветными полотнищами и знаменами.
Углы и края ската загнуты вверх, что указывает на китайскую конструкцию крыши.
Я не осмелюсь утверждать за истину, что эта крыша простирается над всем
городом, но ее северный свес нигде не прерывается, хотя и обнаруживает
множество изломов. Таковые же изломы имеют в начертании и наружные стены
окраинных зданий, сомкнувшихся во фронт едва ли не до полного соприкосновения, как если бы оборонительная идея, осуществленная в Сперлонге, была бы доведена
здесь до логической завершенности, а вместе с тем, полагаю, и до границ
разумного.
Это все, что я сейчас могу сообщить вам, генерал, не рискуя высказать
ошибочные суждения.
Я только что достиг Ростовской крепости. Дорога на Черкасск отсюда наилучшая.
Мой курьер, вероятно, будет у вас через два часа. Я порошу вас распорядиться, чтобы он вернулся ко мне в Таганрог не позднее, чем в пять часов пополудни
завтрашнего дня с любым известием от вас. Я должен быть уверен, что вы
благополучно получили мое послание.
Франсуа де-Воллант”
*
В последние дни октября 1804 года, когда асессор Войсковой канцелярии Петр
Иорданов заполнял пятитысячную страницу “Черкасской хроники”, продолжая труды
своих предшественников, плотный туман, скрывавший часть зримого мира между
северо-восточными берегами Азовского моря и цепью Маныческих озер, сменился
неистощимыми ливнями.
Черкасск погружался в бурлящие воды. Обширный речной остров, по которому были
разбросаны его строения, к ноябрю уступил разлившемуся Дону свой высокий южный
берег, где стоял Атаманский дворец, смотревший фасадом на Соборную улицу.
Очень скоро дворец был затоплен по окна нижнего этажа. “Черкасская хроника”
утверждает, что атаман этим не был расстроен. На день св. апостола Матфея (16
ноября) он спокойно плавал в плоскодонной казачьей лодке по дворцовым залам, щедро освещенным в честь его именин — “поправлял на стенах картины”; “бил
острогой рыбу”; “говорил с войсковыми старшинами, бродившими рядом с ним по
воде”.
Необычным черкасскому хронисту показалось лишь то обстоятельство, что атаман
довольно часто заплывал на “ногайскую” (восточную) половину дворца, которую
недолюбливал “за едкий дух, исходивший от ефремовских косуль” — древних чучел
степных косуль, расставленных на деревянных постаментах в Ефремовском зале, куда атаман и направлял свою легкую лодку — “летучий каюк”. Там он
останавливался и подолгу разглядывал большую гравюру в позолоченной раме, висевшую в широком простенке под скрещенными пиками и алебардами. Это была
генеральная карта России, составленная в 1719 году Иоганном Баптистом Хоманном
в Нюрнберге и двадцатью годами позже присланная на Дон императрицей Анной
Иоанновной, о чем в “Черкасской хронике” было записано: “Для уразумения нами громадности государства, а равно и для познания имен и
местоположений всех малых и великих городов, в нем обретающихся, Высочайше
пожалована нам в атаманство Данилы Ефремова новейшая генеральная карта всей
Московской Империи, показывающая земли от арктического полюса вплоть до
Японского моря и северных границ Китая”.
Стоя в лодке и не отрывая взгляда от произведения нюрнбергского географа, атаман не раз просил подать ему лупу. Вооружившись ею, он наводил ее на холмы
и равнины, изображенные в пространстве между Азовским и Каспийским морями, часто останавливал в устье Дона, медленно двигал на юго-восток до персидской
границы, переносил в устье Волги и снова возвращал на запад через калмыцкие
степи на территорию Земли Войска Донского.
В “Хронике” отмечено, что атаман при этом о чем-то “усердно раздумывал”. В
какую-то минуту он даже выронил лупу, которая опустилась на дно, на затянутый
илом паркет. Некоторое время он пристально смотрел на круги, расходившиеся по
водной глади, затем спросил, обратившись к своей пешей свите, стара ли карта.
“Ему ответствовали, — сообщает Иорданов, — что карта, точно, стара, ибо уже и
самой царице Анне Иоанновне она мнилась совершенно негодной, отчего немецкий
географ Маттеус Зойтер сочинил для нее в Аугсбурге новую карту, начертанную в
тот самый год, когда Войску была пожалована старая”.
Ближе к вечеру атаман замышлял поплыть на северную окраину острова, на Ратную
площадь, где в церкви Преображения хранилась, как ему доложили, эта новая
зойтеровская карта, присланная в Черкасск при императоре Павле Петровиче. Но
замысел этот не был осуществлен. Течение реки, разбуженное осенним паводком, было чрезвычайно стремительным. За стенами дворца река ломала деревья и
усадебные ограды, закручивая их в свирепые водовороты. “Войсковые старшины, — пишет асессор, — мольбами отвратили атамана от опасного предприятия”.
*
Из повествования Иорданова явствует, что до 16 ноября никто из черкасских
штаб-офицеров, бродивших в этот день за атаманской лодкой, включая и самого
хрониста, не знал о письме инженера Франсуа де-Волланта — Франца Павловича
Деволана, как его называли в России.
Но уже через неделю в “Черкасской хронике” появилось первое упоминание о
неизвестном городе. Оно было окутано множеством всевозможных сообщений и
замуровано в монотонное предложение, в котором перечислялись события, происходившие 23 ноября 1804 года в пятом часу пополудни: “Прислала игуменья Ефросиния с голубем злую записку, требуя досок для
наведения мостков в монастырском подворье; приказал господин Войсковой
квартирмейстер удалить с Почтовой улицы сети, кои были расставлены там для
ловли белуг; вернулся в Черкасск без лодки, плывя на поваленном тополе, вахмистр Яманов, посланный доплыть до Деволанова города; потянуло дымом с
Васильева ерика, а на исходе сего часа был виден огонь над лесной биржей, отчего разгневался господин Войсковой атаман, ибо не ложилось ему на ум, как
учинили пожар при большой воде”.
Спустя еще неделю, накануне зимы, в Войсковой канцелярии, занимавшей два
светлых зала на “крымской” (западной) половине дворца, возникло дело № 2708, заглавие которого, изобретенное искушенным асессором — “Дело об инженерском
городе”, — предусмотрительно указывало на непричастность Черкасска к открытию
на Аксайском займище.
*
Зима принесла Черкасску новое бедствие. Оно было гораздо менее привычным, чем
наводнение. “Tutta la forza dell’inferno si и levata contro la Steppa Sarmatica”**, как выразился об этом бедствии секретарь де-Волланта Гаспаро
Освальди, впервые зимовавший в России. “Проливные дожди, — записал итальянец в
своем журнале, — шли с конца октября до конца декабря. Дон замерз только в
начале января. Безмерные воды, вылившиеся на равнину из его берегов и с небес, были скованы холодом в одну ночь. Теперь, по прошествии трех недель после
того, как это случилось, уже не осталось надежд на оттепель. Мороз доходит до
26о по Цельсию; большей же частью термометр показывает 23о ниже ноля, но снега
в стране казаков (nel paese dei cosacchi) нет вовсе, тогда как в России — лежит глубокий. За три недели погибло и покалечилось громадное количество
всадников и лошадей, так как гололедом покрыта вся Сарматская степь по обе
стороны Дона и вверх по его течению, вплоть до лесных пространств континента.
Это служит жестоким препятствием для продолжения работ на холме Бирючий Кут и
наблюдения за его окрестностями, где обнаружилось невероятное положение вещей.
Передвигаться по склонам холма и скакать от него на юг по ледяной равнине нет
никакой возможности”.
Не было никакой возможности скакать и на север — к глубоким снегам, в
завьюженный Петербург.
И все же в конце января через сверкающую степь, по которой, как утверждает
Освальди, “во множестве скользили окоченелые тела животных и перевернутые
повозки, уносясь под напором ветра на неизмеримые расстояния”, скакал верховой
курьер, придерживаясь северного направления.
Донесение, которое он вез сквозь “cтрану казаков”, пробираясь к надежным
дорогам по ледяному покрову, отражавшему луну и солнце, должно было очутиться
в руках генерал-квартирмейстера свиты его императорского величества Петра
Сухтелена. Но через несколько дней оно очутилось в Черкасске, во дворце
атамана, доставленное туда сотником Федором Ребровым, который в рапорте о
погоне за курьером немногословно сообщил, что курьер “убился об лед на
просторе” и что погоня была предпринята “около Криничной станицы, заради
уворованной лошади”.
Так ли погиб ефрейтор Рогожин, денщик инженер-подполковника Льва Веселовского, посланный в Петербург своим офицером, или иначе, копия донесения, сделанная
рукой асессора Иорданова, появилась в “Деле об инженерском городе”.
В сущности это был донос на атамана Платова, составленный Веселовским не
вполне вразумительно, хотя и с подобающим воодушевлением.
Выражаясь до крайности сбивчиво, Веселовский определял неизвестный город
(“иноземный город, допущенный к существованию казачьим правительством в
границах державы Российской”) то как “подлинно китайский”, то как “шведский, по всем вероятиям”. Не менее противоречиво он описывал и некий “тайный совет”, на котором помимо черкасских штаб-офицеров присутствовали инженер Франсуа
де-Воллант, его секретарь Гаспаро Освальди и архитектор Луиджи Бельтрами. По
уверению Веселовского, на этом совете, состоявшемся в средине января 1805 года
в Атаманском дворце, в одном из залов канцелярии, Платов и его офицеры
(называлось восемь фамилий) “вступили в сговор с иностранцами, помышляя
сокрыть от Высочайшей власти всякие сведения о противузаконном городе”. В то
же время в доносе говорилось, что все участники совета, не исключая Освальди, плохо изъяснявшегося по-русски, “рассуждали касательно того, каким образом
было бы сподручнее осведомить о случившемся Государя Императора”.
В каких именно словах, хотел знать Платов, следует доложить царю Александру о
том, что в некоторый час октябрьского утра, когда вдруг разрушился стойкий
туман и нечаянно открылись степные горизонты, был обнаружен на территории
империи неведомый город. Веселовский передает фразу, сказанную по этому поводу
Петром Иордановым. Поднявшись со стула и обратившись к атаману, который сидел
в медвежьей шубе в центре зала на борту своей лодки, крепко стиснутой льдом, асессор произнес: “Таковых слов, ваше превосходительство, совершенно не
существует”.
Атаман ничего не ответил на это. Голова его едва выглядывала из-под тяжелой
шубы. Он смотрел на своих офицеров сквозь просвет между краями поднятого
воротника. Брови его непрестанно шевелились и изгибались, словно отображая
беспокойное движение мыслей. Обстановка в зале, как рисует ее доносчик, вполне
соответствовала совершающемуся действу — холод, сумрак, зашторенные окна, дюжина свечей в настольных шандалах. Между тем и платовским старшинам
приходили на ум разнообразные мысли, которые то воодушевляли их, то повергали
в оцепенение — “атаковать город конницей”; “разрушить осадными орудиями”; “сочинить имя и нанести на карту”; “объявить собственностью Войска”.
Наконец поздно вечером было принято решение. Оно, по сообщению Веселовского, состояло в том, чтобы “вторично послать на Аксайское займище крещеного калмыка
Яманова” с предписанием “достоверно разведать, не исчез ли город”.
Город не исчез.
Январским утром 1805 года Церен Яманов, снабженный подзорной трубой и
рукописной ландкартой Аксайского займища, составленной инженером де-Воллантом, выехал верхом за крепостную ограду казачьей столицы. При порывах свирепого
ветра, который, как пишет Иорданов, “кувыркал в небе юрты, летевшие из-за Дона
с калмыцких становищ”, вахмистр пересек по гладкому льду, чудом удержав на
ногах скользившего коня, Черкасскую протку, огибавшую остров с севера, и
очутился на незащищенной равнине. Там сквозь ледяной покров кое-где проступали
спасительные островки гнилого чакана. Из окон верхнего этажа Атаманского
дворца хронист наблюдал, как отчаянный всадник, передвигаясь зигзагами от
островка к островку, удалялся на северо-восток, в сторону реки Аксай, пока не
растворился в серо-голубом сиянии.
Ни асессору Иорданову, ни атаману Платову, любившему Яманова за благородную
преданность и необыкновенную исполнительность, больше не доводилось видеть
этого вахмистра. Спустя неделю закоченевший труп его коня при полном
снаряжении был найден у юго-восточных берегов Черкасского острова. По поводу
этой находки в документах “Дела об инженерском городе” было записано: “Нигде поблизости мертвым, раненным или находящимся в здравии вахмистр Яманов
не отыскался. О коне же его нельзя заключить, пал ли он в ста саженях от
острова или его неживое тело доставил к Черкасску сокрушительный ветер, двигая
его Доном по голому льду от неизвестного места”.
Труп животного и конское снаряжение были тщательно осмотрены. Никаких следов, по которым можно было бы судить об участи всадника, при этом не обнаружили.
Обнаружили нечто другое — то, что превосходило всякие ожидания. В переметной
суме, закрепленной на левом боку коня, находилась короткая записка. В деле она
сгоряча была названа “рапортом”. Но вид она имела, как впоследствии холодно
отметил преемник асессора Иорданова, “для российских служебных документов
никоим образом не возможный”. Она была написана вахмистром Ямановым, владевшим
и устным и письменным русским, на калмыцком языке. Содержание же и стиль
записки были столь странными, что в поисках трезвого слога и будничной ясности
было сделано в разное время одиннадцать вариантов ее перевода. Но общий смысл
от этого не менялся. Яманов писал:
“Да будет свидетелем моих слов Вечное Синее Небо. Я верен приказу и чту
приказавших. Поэтому говорю, что хотели знать. На том месте, где видели, города нет. Но есть он там, где нашел его я. Город сдвинулся и ушел к востоку
на расстояние одной кочевки. Я разведал это, и вы теперь знаете. И нет у вас
для меня других приказаний во время ветра и льда”.
*
Последний документ, который успел произвести на свет восьмидесятилетний
асессор Петр Иорданов, скончавшийся в начале февраля 1805 года, сулил Войску
Донскому счастливое завершение злополучного “Дела об инженерском городе”.
Войсковой старшина Александр Зверев, сменивший Иорданова на служебном посту и
взявшийся за составление “Черкасской хроники”, утверждает в ней, что накануне
своей кончины старый асессор с рассвета сидел за рабочим столом в канцелярии, раздумывая над лаконичной запиской калмыка. Иорданов много раз макал перо в
чернильницу и заносил его над листом бумаги, где давно уже были написаны
вступительные предложения и заголовок документа — “Заключение о рапорте
вахмистра Яманова”. Но перо всякий раз замирало в воздухе, асессор откладывал
его в сторону и снова принимался читать “рапорт”. Он, конечно, читал самый
ранний и самый вольный перевод калмыцкого текста, выполненный без малейших
комментариев, и поэтому нет ничего удивительного, что слова “одна кочевка” он
истолковал ошибочно. Он не предполагал, что они выражают точную меру
расстояния. Или, быть может, ему подумалось в то злое время, “время ветра и
льда”, когда за окнами выстуженного дворца бледно светилось степное
пространство, враждебное всякому движению, что величина этой меры огромна.
Так или иначе, к вечерним сумеркам, прежде чем задремать за письменным столом
под свист и вой штормового ветра (смерть настигла его утром, прервав неведомое
сновидение), Иорданов сотворил документ. Среди прочего он написал в нем, что
“находившийся на Аксайском займище инженерский город передвинулся, со всей
вероятностью, в Калмыцкую степь, в Астраханскую губернию” и что “Войско
Донское к делам и заботам оной губернии никакого касательства не имеет”.
Асессор Зверев в “Черкасской хронике” назвал это заключение предшественника
“совершенно произвольным”. На третий день после вступления в должность, сидя
за тем же столом, на котором остыла, освободившись от снов и мыслей, голова
Иорданова, он составил новое заключение. В нем говорилось: “Из сообщения пропавшего вахмистра следует сделать тот вывод, что неизвестный
город сместился к востоку не далее правого берега Дона и должен находиться
южнее холма Бесергень, вблизи станицы Заплавской, ибо одной кочевкой именуется
у монгольских народов, к коим принадлежат калмыки, особая мера длинны, равная
10-ти верстам”.
Бумага произвела в Атаманском дворце чрезвычайно сильное впечатление.
Отправленный в станицу Заплавскую конный отряд из одиннадцати офицеров под
командованием сотника Федора Реброва был снабжен, помимо трехдневного
провианта и запасных лошадей, полевой мортирой. Отряду было приказано “дать из
орудия пробный выстрел по наружным фортификациям инженерского города”.
Результаты экспедиции стали известны очень скоро. Наиболее внятно о них
сообщает секретарь де-Волланта Гаспаро Освальди, чей журнал спустя несколько
лет очутился среди материалов дела.
“Секретный поход казаков, начавшийся сегодня утром, — записал итальянец 9
февраля 1805 года, — обратился в битву с неистовым ветром, которая
продолжалась четыре часа и завершилась победой стихии. Отряд смог продвинуться
степью на северо-восток лишь до ближайших холмов, различимых на горизонте с
дозорных башен Черкасска. Всадников остановила потеря командира, получившего
смертельное повреждение шеи при падении лошади на льду. Однако во дворце
никого не смущает гибель лейтенанта Реброва. Здесь замышляют новую экспедицию.
Как сказал мне сегодня господин Бельтрами, она состоится через неделю”.
О новой экспедиции, для которой асессор Зверев проложил на карте иной маршрут
в надежде обмануть лед и ветер, через неделю уже не могло быть и речи.
Катастрофа, обрисованная в журнале Гаспаро Освальди, помешала осуществлению
замысла.
“Черкасск, 16 февраля 1805 года. Лед повсюду. Мороз не ослабевает.
Северо-восточный ветер достиг последней степени жестокости. В грубом дворце
верховного правителя страны казаков грохот и скрежет не утихают. Кажется, что
свирепые бесы разрывают дворец на части. Железные листы его кровли отрываются
один за другим. Ветер ломает стропила. Из южных окон дворца видно, как улетают
прочь разнообразные обломки нашего убежища”.
Это была последняя запись, в которой Освальди проставил дату и указал точное
место своего нахождения.
Дальнейшие записи, как сформулировал в 1818 году атаман Адриан Денисов, при
котором журнал итальянца попал в распоряжение Войсковой канцелярии, “производились в неизвестное время в неустановленном месте”.
*
Запись № 1
“Сегодня император принял меня благосклонно. Он не затребовал от меня никакого
подарка. Если бы это случилось, я вынужден был бы ответить ему отказом в
присутствии многочисленных вельмож. Но император словно знал, какая участь
постигла серебряную табакерку с портретом моего прадеда Герардо. Я нес ее с
собой на аудиенцию, мысленно простившись с этой семейной реликвией, как
простился со многими другими предметами, столь же для меня драгоценными. Я
утешал себя лишь той мыслью, что никому, кроме императора, еще не удавалось
добиться от меня подношения. “У меня есть одна вещь, достойная внимания, но
она предназначена в подарок его величеству”, — так отвечаю я всякий раз, когда
кто-либо приступает ко мне с грозным требованием подарка, что происходит здесь
беспрестанно. Я воспользовался спасительным заклинанием и сегодня. Лицо
чиновника, который сопровождал меня из тюрьмы во дворец, показалось мне
знакомым. Однако я предпочел не заводить с ним разговора. Думая о предстоящей
беседе с императором, я решил поберечь свои силы, а также силы моего нового
переводчика, весьма обходительного молодого человека по имени Даир, состоящего
на службе в императорской канцелярии. Мы уже находились во дворце, когда
чиновник вдруг объявил, что я должен что-нибудь подарить ему. Я показал ему на
ладони табакерку и произнес свое заклинание. Но оно не возымело никакого
действия. Чиновник взял табакерку, отдал ее своему слуге и надменно посмотрел
мне в глаза. Затем он выговорил несколько слов. Даир перевел мне их так: “Тебе
следовало бы найти для великого императора Туге что-нибудь получше!”
Запись № 2
“Мы продолжаем двигаться на юго-восток. Ощутить это невозможно. Но так
утверждает император. Он нисколько не смутился, когда я прямо спросил у него, известно ли ему, где находится столица его империи.
— Мы достигли озера, которое гудит (Abbiamo raggiunto il lago che romba)***, — перевел мне Даир его ответ.
— Простите, ваше величество, — возразил я, — но я хотел бы узнать, имеете ли
вы более широкое представление о том, на какой территории находится Новый
Каракорум?
Я подбирал слова весьма осторожно. Вопрос, тем не менее, показался императору
странным. Выслушав перевод, он удивленно взглянул на меня. Затем произнес
довольно длинную речь, которую Даир перевел мне коротко: — Великий император Туге отвечает тебе: Новый Каракорум кочует в настоящее
время по территории улуса Джучи — так называется испокон веков западная часть
империи.
Среди императорских секретарей, записывавших нашу беседу, был тот чиновник, который завладел моей табакеркой. Он ни разу не посмотрел в мою сторону”.
Запись № 3
“Никогда еще не встречал я города, столь похожего на дом. Улицы Нового
Каракорума не что иное, как темные и запутанные коридоры. Что же касается
площадей, то им следовало бы называться комнатами или залами, в зависимости от
размеров. Обширных залов здесь попадается немного. Дневной свет проникает
только в те из них, которые имеют в центральной части потолка круглое
отверстие. Оно служит, как пояснил мне Даир, “для того, чтобы дым уходил от
очага”. Большие очаги, выложенные из камня и постоянно полыхающие, действительно встречаются в таких залах. Однако я полагаю, что у этих
отверстий есть и другое назначение. Сквозь них наружу поднимаются высокие
башни. Последние не имеют ни окон, ни бойниц, но зато в изобилии украшены
знаменами, большею частью белыми, с изображением кречета. В просветах между
краями отверстий и стенами башен иногда появляется полуденное облако, луна или
птица — и это все, что можно увидеть из Нового Каракорума. А между тем
император Туге пребывает в полной уверенности, что он управляет огромной
частью мира. Нет никаких сомнений, что империя существует только в его
воображении. Однако сколько усилий затрачивают его подданные, чтобы
поддерживать эту иллюзию! В императорской канцелярии беспрерывно трудятся над
бумагами сотни писцов и всевозможных чиновников; снаряжаются императорские
курьеры; издаются указы и предписания; рассылаются письма и извещения… Кому?
Куда? В пространство империи! В то фантастическое пространство, о котором
император знает лишь одно — что оно “очень обширно”. Разумеется, никакой карты
империи здесь нет. Да и нужна ли она его величеству?”
Запись № 4
“Напрасно я пытался выяснить сегодня, сколько времени существует Новый
Каракорум. О времени здесь судят произвольно. Для его измерения служат
процессы, длительность которых не может быть постоянной, ибо она зависит от
случая. Вот единицы времени, которыми пользуется император Туге, — записываю
их в том порядке, в каком я их узнал из утренней беседы с ним: “время, в течение которого ящерица остается неподвижной”; “время выкуривания одной трубки”;
“время, нужное для того, чтобы жук взлетел с ладони ребенка”; “время, за которое слуги находят перстень, потерянный господином”.
Название периода или отрезка времени может быть связано с любым явлением, нечаянно попавшимся на глаза. Есть “время, когда сильно трепещут флаги на
башнях”, “время, когда быстро ползет муравей по стене”.
Утренний час, в который я расспрашивал императора о мерах времени в его
империи, он назвал, взглянув на того чиновника, что присвоил мою табакерку, “временем, когда секретарь Церен часто макает перо в чернильницу”.
Что ж, в таком случае мне следовало бы назвать это время временем, когда я
узнал в секретаре Церене того самого унтер-офицера, которого я видел во дворце
правителя страны казаков… Да, это был несомненно он — калмык, исчезнувший
незадолго до страшной бури, разрушившей в Черкасске многие строения. Но узнал
ли он меня?”
Запись № 5
“Я ошибался, карта существует. Сегодня я вновь задал вопрос императору о
размерах империи. Он ответил буквально следующее: — От восточных пределов государства до западных — четыреста уртонов.
— Я полагаю, ваше величество, — сказал я, — что уртон — это мера расстояния, но какое именно расстояние она обозначает, мне неизвестно.
— Расстояние между двумя почтовыми станциями, — ответил император.
— Я благодарен вашему величеству за это разъяснение. Однако мне было бы легче
понять, сколь велико расстояние в четыреста уртонов, если бы вы выразили его в
иных единицах измерения.
Выслушав перевод моей просьбы, император кивнул и погрузился в молчание. Оно
длилось довольно долго, может быть, столько времени, сколько “ящерица остается
неподвижной”. По крайней мере, была такая минута, когда император закрыл глаза
и задремал, что предвещало окончание беседы. О том, что его величество больше
не желает говорить, объявляет обычно начальник императорской канцелярии
господин Илак. Я терпеливо ждал этого объявления. Но заговорил сам император.
— Великий император Туге, — перевел Даир, — согласен сказать тебе иначе: от
восточных пределов государства до западных лежит путь в тысячу двести кочевок.
Мне ничего не оставалось, как снова поблагодарить моего собеседника за ответ, лишенный для меня всякого смысла. Но едва лишь Даир взялся переводить мои
слова, император остановил его жестом и что-то сказал, обратившись к господину
Илаку. Тот удалился из аудиенц-зала и вскоре вернулся, неся на вытянутых руках
кожаный футляр цилиндрической формы. Приблизившись к императору, он опустился
на колени. Туге произнес несколько слов и взмахом руки указал на меня, после
чего господин Илак поднялся на ноги, подошел ко мне и, раскрыв футляр, развернул передо мной карту. “Spatiosissimum Imperium Mongaliae Magnae juxta recentissimas observationes mappa geographica accuratissime delineatum opera et sumtibus Matthaei Seutteri”****, — прочитал я титульную надпись, сделанную
в левом нижнем углу, в картуше… Как сожалею я теперь, что при этом я вынул из
кармана и надел очки! Увидев их, император объявил, что “эту вещь” я должен
ему подарить — сегодня, сейчас, сию минуту, “во время, когда степной сурок
жует сухую траву в позолоченной клетке”… Но даже без очков я рассмотрел карту
империи монголов достаточно хорошо, чтоб убедиться, что на ней изображены те
же пространства, которые занимает империя русская”.
Запись № 6
“Даир не переводит мне слова, с которыми император обращается к вельможам.
Однако сегодня мне было нетрудно догадаться, что Туге потребовал от своего
старшего секретаря господина Булгана некоторых уточнений, касающихся нашей
беседы. Речь шла о способе передвижения города. Было видно, что император
плохо осведомлен в этом вопросе. Ему достаточно знать, что город постоянно и
весь целиком размещается на “большой повозке”. О количестве быков, которые
тянут эту повозку, император выразился неопределенно: “очень большое
количество быков”. Впрочем, спустя минуту, поговорив с господином Илаком, он
высказал другое мнение. Город будто бы состоит из отдельных частей, каждая из
которых имеет свою повозку.
— Повозок существует пять тысяч — объявил император, справившись у господина
Илака.
— Ваше величество желает сказать, — спросил я осторожно, — что китайские
лавки, базар, тюрьма, дворцы секретарей, кумирни, башни, гвардейские казармы и
прочие строения столицы движутся согласованно на разных повозках?
— Император сказал то, что сказал (L’imperatore ha detto ciт che ha detto), — услышал я в ответ.
На этом беседа была окончена. Туге имел недовольное выражение лица. Один из
сановников, стоявший по правую руку от престола, ударил меня палкой. Император
сделал вид, что не заметил этого дурного поступка. В тюрьму, в мое унылое
обиталище, меня сопровождал секретарь Церен. Воспользовавшись этим случаем, я
спросил у него по-русски, помнит ли он меня и может ли содействовать моему
освобождению? Калмык равнодушно посмотрел на меня и ничего не ответил. С
трудом выговаривая русские слова, я попытался объяснить ему, что в город меня
привело любопытство и что я вовсе не имел намерений передавать кому-либо
шпионские сведения о фортификациях Нового Каракорума. Однако результат был тот
же: бывший вахмистр войска казаков невозмутимо молчал. Наша повозка, управляемая ловким кучером, быстро неслась по темным улицам города, кое-где
освещенным факелами. По мере того как мы удалялись от императорского дворца, усиливался отвратительный запах экскрементов, которыми наполнены все закоулки
монгольской столицы, ибо жители ее без стеснения испражняются там, где их
застает нужда. Мы уже достигли тюремных ворот, когда калмык вдруг произнес
по-русски: “Я хорошо тебя помню”. Больше он ничего не сказал”.
Запись № 7
“Говорили о карте Маттеуса Зойтера. Двигая по ней пальцем, император показывал
мне “пути кочевок” монгольской столицы. Я вел беседу крайне осмотрительно. Шаг
за шагом подбираясь к главному вопросу, я дал понять Туге, что прекрасно
знаком с трудами аугсбургского картографа. Я сказал, что мне доводилось видеть
множество карт его работы.
— Это был отличный мастер, ваше величество!
Император молча кивнул. Затем он махнул рукой над картой. Подчиняясь этому
жесту, слуги спешно свернули ее и убрали в футляр. Туге закрыл глаза. Было
заметно, что он погружается в дрему. Медлить было бессмысленно.
— Мне также случалось видеть, — проговорил я быстро, — одну любопытную карту, сработанную Зойтером. Она была чрезвычайно похожа на карту вашего величества.
Она показывала ту же самую область мира, которую занимает ваша империя. Однако
латинская надпись на карте сообщала о другой империи.
Туге внимательно посмотрел на меня. Бодрость вернулась к нему. Круглое лицо
императора выражало недоброе удивление. Собравшись с духом и приготовившись к
худшему, я довершил начатое.
— Простите, ваше величество, — сказал я, — но я должен известить вас, что
карта, о которой я упомянул, изображала империю русскую.
То, что последовало за этим, превзошло мои ожидания.
Император произнес по-монгольски несколько отрывистых фраз, после чего Булган, Илак, два секретаря, записывавших нашу беседу, и все, кто был в аудиенц-зале, за исключением Даира и телохранителей, удалились прочь. Некоторое время Туге
безмолвно восседал на престоле, глядя прямо перед собой неподвижным взглядом.
Потом он негромко заговорил. В голосе его слышалась печаль, облеченная в
грубые звуки языка монголов. Его мирный монолог длился не менее получаса.
Император горестно посетовал, что империя слишком обширна. Чрезвычайно обширны
даже отдельные ее части, называемые “улусами”. Они удалены друг от друга
настолько — “северные от южных, западные от восточных”, — что бедному
императору порою бывает трудно поверить в их реальность, когда он кочует со
своей походной столицей где-нибудь в центре империи. Многие, многие беды таит
в себе обширность государства, сказал император. Да, ему известно, что в
некоторых отдаленных улусах иные правители имеют ложные представления об
империи в целом и о самих себе в частности. Он не исключает, что дело доходит
до того, что кое-где на окраинах страны появляются карты, на которых империя
носит вымышленные названия. Император этого не одобряет, но и гневаться по
этому поводу он не считает нужным. Ибо что такое эти фантастические карты, рисующие иллюзорные страны! Это всего лишь забавы, хотя и предосудительные
забавы. Наверное, ему следовало бы обратить на них более строгое внимание, но
у императора есть много других забот. Он прилагает немало усилий к тому, чтобы
“весь людской род, живущий под вечно синим небом”, знал, что империя не желает
народам ничего дурного, — ничего, кроме безопасности на торговых путях, исправной работы почты и универсального порядка на всем пространстве мира.
Империя, сказал император, должна быть одинокой и безграничной, как одиноко и
безгранично небо. Впрочем, вот его слова в точности: “На этих пространствах, что лежат под вечным небом между восточным и северным океаном и тремя
западными морями, была, есть и будет только одна империя — великая
монгольская”.
Рассуждая в таком духе, Туге был спокоен, хотя и выглядел устало. Я не нарушил
течение его речи ни единым вопросом. И лишь тогда, когда он махнул рукой возле
подбородка, словно отгоняя муху (жест означал, что он не желает более
говорить), я спросил:
— Скажите, ваше величество, в самом ли деле почта на всей территории империи
работает исправно?
Император в ответ благодушно рассмеялся. Мой вопрос, вероятно, показался
монголу слишком простосердечным”.
Запись № 8
“Не знаю, как долго я буду еще служить забавой для его величества, но мое
положение изменилось с тех пор, как начальник императорской канцелярии сообщил
мне, что я принят на государственную службу. Содействовал ли этому калмык, мне
неизвестно. У меня немного обязанностей. Я всего лишь должен, сказал мне
господин Илак, постоянно находиться недалеко от императора и ждать, когда он
пожелает со мной говорить. Моя должность называется нелепо — “уши и язык для
императора”. Однако Даир уверяет меня, что на монгольском это звучит весомо и
благородно. Более того, он выразил предположение, что должность приравнивается
к рангу императорского секретаря. Впрочем, как бы ни называлась моя должность, она принесла мне ту пользу, что избавила меня от заточения, в котором я
находился до сих пор. И хотя я не получил полной свободы (мне запрещено
самостоятельно покидать императорскую резиденцию), многие чиновники, которые
прежде смотрели на меня с презрением, когда меня привозили из тюрьмы во
дворец, кланяются мне теперь и не требуют от меня никаких подарков. Последнее
для меня более важно, чем первое, так как у меня уже ничего не осталось, кроме
этого журнала, который я прячу под одеждой. Сегодня я расстанусь и с ним, поручив его заботам монгольской императорской почты, ибо хранить его при себе
небезопасно. Я не надеюсь, что увижу когда-нибудь дом моего прадеда Герардо на
кампо Санто Стефано в Венеции. Новый Каракорум ушел далеко на восток, в
степные пространства империи — монгольской ли, русской, мне безразлично.
Движение продолжается, как сказал мне сегодня император во время прогулки по
дворцовой площади. При этом он указал на отверстие, называемое по-монгольски
тооно. Там ярко сиял клочок азиатского неба”.
*
По записям в “Черкасской хронике” можно установить, что в марте 1805 года
жаркий ветер, “прилетевший из Африки”, необычайно быстро растопил сплошную
корку льда, покрывавшую Приазовскую степь. Тот же источник сообщает, что 18
мая Платов, поднявшись во главе торжественной процессии на вершину Бирючьего
Кута, где свежими бороздами были размечены площади и улицы Нового Черкасска, заложил первый камень долгожданного города, спроектированного де-Воллантом.
“Иных городов, — повествует “Хроника”, — в окрестном пространстве не было
видно”.
Не вспоминал об “иных городах” и Франсуа де-Воллант, приславший Платову через
десять лет второе — и последнее — письмо из Петербурга. Он сетовал на
простуду, помешавшую ему свидеться с атаманом “прошлой осенью на балу в
Петергофе”, восхищался его громкими подвигами в минувшей войне с Бонапартом, живо расспрашивал о Новом Черкасске и под конец шутливо заметил, что как
отцы-основатели этого города они непременно встретятся в вечности — “если
случай нас не сведет на обеде у императрицы”.
Случай их больше никогда не сводил. 3 января 1818 года Платов умер в своем
имении под Таганрогом. В том же году 30 ноября в Петербурге скончался инженер
де-Воллант. За неделю до своей кончины он успел отправить пакет на имя
преемника Платова генерал-лейтенанта Адриана Денисова, управлявшего Войском
Донским из новой казачьей столицы, утвердившейся на необозримом холме.
Распечатав пакет, Денисов обнаружил в нем журнал Гаспаро Освальди и записку
де-Волланта: “Сие было получено мною по почте тому одиннадцать лет назад”.
Хорошо владевший французским и итальянским, Денисов внимательно прочитал
последние записи Освальди, пронумеровал их карандашом и передал документ в
Войсковую канцелярию.
В декабре 1818 года “Дело об инженерском городе” было закрыто — “за
исчезновением самого предмета”, как гласила резолюция атамана Денисова.
Но не прошло и месяца, как в Войсковой канцелярии, которая разжилась в Новом
Черкасске пышным зданием на углу Атаманской улицы и Платовского проспекта, был
зарегистрирован неприметный с виду документ, явившийся из глубины Задонской
степи. Это был рутинный годовой отчет атамана Бурульской станицы, затерянной в
междуречье Сала и Маныча, на юго-восточной окраине Земли Войска Донского. На
сороковой странице станичный атаман невозмутимо сообщал: “А еще от мирных калмыков, кои малым хотоном прикочевали под зиму с
Ерьгеньских высот к нашим куреням, известились мы о том, что верстах в 50-ти
от Бурульского юрта, восточнее речки Джурюк, воздвигнулся чрезвычайных
размеров город, имеющий над собою гнутую крышу, а также круглые и квадратные
башни, возвышающиеся над оной. А чего ради и какие власти нагромоздили сей
город в непролазных камышах по Джурюкскому займищу, того калмыки не ведают”.
Спустя два дня эта страница отчета уже находилась в “Деле об инженерском
городе”, спешно извлеченном из архива.
С апреля 1819 года в Войсковую канцелярию одно за другим стали поступать
донесения, из которых можно было заключить, что город движется с востока на
запад вдоль цепи Манычских озер.
“Хроника” передает, что 17 мая на экстренном совете в Атаманском дворце
Денисов сказал: “Я унаследовал от покойного графа Платова два города. Один — вот он, вокруг меня — из дерева и камня. Другой — из чернил и бумаги — смотрит
на меня злым призраком из канцелярской папки”.
Через месяц чернильно-бумажный призрак рассеялся, уступив место яви. Утром 20
июня “инженерский город” стоял на Аксайском займище. Его разноцветные
полотнища, свисавшие с крыши, высокие башни и белые знамена, трепетавшие на
ветру, были видны из окон Атаманского дворца невооруженным глазом. Как
отмечено в “Черкасской хронике”, в течение шести часов при ясной погоде город
не двигался с места. Он тронулся в путь лишь после полудня, когда его
очертания уже искажало марево, струившееся над разогретой степью.
*В оригинале фраза, отмеченная курсивом, написана по-русски.
**Вся сила ада ополчилась против Сарматской степи (итал.).
***Возможно, имеется в виду озеро Маныч-Гудило, расположенное в центральной
части Кумо-Манычской впадины (между Азовским и Каспийским морями). По
толкованию словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (СПб, 1890—1907 гг., статья
“Маныч”), название “Гудило” озеро получило “за доносящийся с него особенный
гул, напоминающий крик отдаленной толпы”.
**** “Географическая карата Обширнейшей Великой Монгольской Империи, точнейшим
образом начерченная в соответствии с новейшими наблюдениями, трудами и
попечением Маттеуса Зойтера” (лат.).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
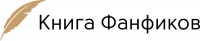





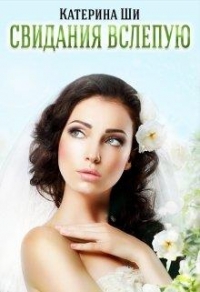


Комментарии к книге «Дело об инженерском городе (СИ)», Владислав Олегович Отрошенко
Всего 0 комментариев