ЦЕЗАРИОНЫ
Отцу моему, Карипу Кинжиновичу, который не был ни на войне, ни в мирное время не стоял в солдатском строю, но после смерти оставил мне в наследство такую коллекцию орденов, медалей и других свидетельств трудовой доблести, что награды не всякого фронтовика сравнимы с ними хоть по количеству, хоть по значимости; сыну моему Мурату, тому, не оперившемуся еще, птенцу желторотому, который, лишь научившись говорить, уже категорически не принял песен о солдатах и слезах солдатских матерей и тогда уже в раннем детстве сказавшему: «Я не буду солдатом», преклоняясь, посвящаю.
Все, что изложено в этой повести, – сюжеты с натуры. Я не стал придумывать фамилий моих героев; надеюсь, не путал их, описывая тот или иной случай. Если же чувствовал, что могу ошибиться, не называл имени. Есть коллизии, которые я использовал, взяв их из воспоминаний друзей, знакомых, но это очень редко, и они могут угадываться по содержанию. Если же допустил где-то домысел, – то в самом несущественном, и по тексту можно заметить и, думаю, согласиться с авторской интерпретацией, не несущей принципиального переосмысления чьих-либо воззрений. И, конечно же, не думаю, что вызовет протест у моих бывших сотоварищей возможное вовсе не умышленное незначительное нарушение пунктуальности в хронологии событий.
АРСЕНТЬИЧ
Это случилось много лет спустя после моей солдатчины.
Мне всегда везло на знакомства: с кем только не сводила меня жизнь, но сколько встречалось людей, о которых я вспоминаю с теплотой, уважением. Один из них – Арсентьич. Тогда он работал физруком в школе, куда привела меня судьба, ненасытного до новых впечатлений, непоседливого – человека перекати-поле, как выразился один из моих приятелей, не доверявший тем, у кого слишком богата трудовая биография разнообразием начинаний. Арсентьич – здоровый мужчина моих лет, на первый взгляд вроде бы пышный, как Тарас Бульба, но, если присмотреться, подтянутый и ловкий, как и подобает физруку. Кроме как в школе, мы с ним частенько встречались в бане, где мне и пришлось любоваться его на редкость пропорциональной фигурой. Округлый, как многоведерный котел, живот его, казалось, должен бы обвисать, как это обычно мы наблюдаем у иных здоровяков, ан нет, живот, можно подумать, действительно металлический и ничуть не нарушает пропорции и статности. Крепкие ноги-колонны, плечи-валуны и вся, эдак пудов на девять, комплекция могли нагнать на иного тихий ужас, если б не его добродушная улыбка, раздвигающая плотные округлые скулы. Мы в тихой беседе сидели в парной, а потом уже, обмываясь, дружненько терли мочалками спины друг другу. При этом непременно случался наш короткий диалог, когда за мочалку брался он, а я старался покрепче вцепиться в скамейку.
– Ты, Арсентьич, три одной рукой, – прошу я.
– А как же, конечно, одной, – успокаивает он, при этом бережно снизу поддерживая меня свободной рукой за грудь.
– Ты какой трешь-то? Правой иль левой? – все контролирую я.
– Левой, левой. А как же, – успокаивает он, перекладывая мочалку из руки в руку.
А не одно ли, левая там или правая ручонка.
В школе он пользовался всеобщим уважением, как средь коллег, так и средь учеников. Авторитет этот средь последних был непререкаемым, и лишь однажды, по рассказам, это отношение к нему как-то случайно трансформировалось в зависть, в соперничество, что ли, что, впрочем, не так уж предосудительно. Ребята одного из старших классов как-то всем своим поведением, намеками стали демонстрировать: ты, мол, не больно-то того; нашелся тут здоровяк. Должно, шибко досадили они такими экивоками. И тогда, не горячась, не угрожая, Арсентьич изъяснился по сути наболевшего вопроса: «Вы, мужики, если уж шибко хочется испытать меня, сделайте так: выстройтесь все вдесятером колонной в затылок друг дружке, а я легонько шлепну последнего под зад; и если при этом самый первый в колонне не откроет лбом дверь спортзала, – будем считать, что ваша взяла». Но это, повторюсь, далеко не характерная ситуация для моего героя, который всем своим существом подтверждал известную истину: в здоровом теле – здоровый дух! Уважение к нему было – редко кому отпускает таковое жизнь.
Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос на детей, равно как не видел, чтобы его требования, указания не исполнялись тотчас. По осени, когда школьников на несколько недель, отлучив от учебы, возили в близлежащие колхозы, на уборку свеклы, с ними, как повелось, ездил Арсентьич. Тут уж можно бы не беспокоить классных руководителей, которым вменялось в обязанность присутствовать при своих питомцах. Порядок мог обеспечить один этот учитель. Но случилось однажды, что Арсентьич, из-за неотложных дел, не едет, остается в школе. Вот тогда кто-то из коллег, предполагаю, литератор, памятуя, видно, гоголевский сюжет с капитаном-исправником, предложил взять в колхоз хотя бы красные шаровары Арсентьича и повесить их на всполье, чего, по идее, было бы достаточно для поддержания порядка средь дорвавшихся до свободы детей.
Со временем Арсентьич, так сказать, по производственной необходимости стал вести уроки начальной военной подготовки. Когда прошел слух, что его должны непременно облачить в офицерскую форму, учителя стали над ним подхихикивать: «Китель-то, чать, найдется, а вот ремень-то придется из двух сшивать». Этo шутка, а за дело он взялся охотно, осмысленно. Надо было только видеть, как рубят строевым шагом по рекреации напротив кабинета НВП старшеклассники. Даже девчонки, для которых так ли уж важна строевая подготовка, забыв о приспевшем возрасте, о должной застенчивости и осторожности, маршировали так добросовестно, что подола их платьев развевались, являя на обозрение обретшие уже стройность бедра. Для парней же эти уроки были долгожданными, потому что здесь действительно шла настоящая подготовка будущих солдат.
Но в тот год как-то случилось, что вступил я в противоречия с искренне уважаемым мной человеком. Ближе к весне, когда старшеклассники уже готовились к выпускным экзаменам и все чаще заводили меж собой разговоры о грядущем завтрашнем дне, вдруг обнаружилось, что поголовное большинство ребят собираются поступать в военные училища. Досадно мне стало, когда средь будущих курсантов оказались и те, кого по их неординарным способностям прочить бы в ученых, педагогов, врачей – людей мирной профессии. Не суть, много ли было потрачено мной краснословия, но уже до экзаменов большинство ребят образумились насчет военных училищ. Об этой контрагитации, конечно же, не мог не узнать Арсентьич. Нет, он не поставил меня перед упреком. Просто мы долго сидели, вспоминая о нашей солдатской юности. К тому же оказалось, что служили в одних и тех же родах войск. И тогда в беседе я ничуть не старался рисовать картины, порочащие армейскую действительность, пробуждающие неприязнь к военщине; к тому же долгие годы после службы, и по сей день, вспоминаю нашу солдатскую дружбу как что-то доброе, неповторимое, равно как и сегодня не уверен в никчемности этой сферы жизни человеческого общества – армии.
«ОХ, КУДА Ж ТЫ, ПАРЕНЕК…»
Для нашего поколения – пацанов послевоенных лет, не было ничего столь уважительного, вожделенного, чем военная форма. Появись на улице возвернувшийся на побывку солдат, неотрывные, с восхищенным блеском, взгляды ребятни преследовали его. Петлички, погоны, пряжка на ремне, значки на гимнастерке – это же какой-то недосягаемый мир, до которого еще расти да расти. Уже много лет спустя, будучи солдатами, забыв о детских страстях, в увольнении мы посмеивались над окружившей нас пацанвой.
– Дядь, дай птичку, – просит кто-нибудь из них эмблему с голубой петлицы.
– Нельзя. Без птички меня старшина будет ругать.
– Ну дай уж, – упрашивает тот.
– А ремень с пряжкой хочешь? – в шутку спрашиваем его.
– Давай, – загораются глаза у попрошайки.
– А сапоги, хочешь, отдам?
– Давай, – выкатив глаза в предчувствии совершающейся фантастики, выдыхает малец, согласный на все что угодно, лишь бы было солдатское.
Было время, любого малыша, который только научился говорить, спросите: «Кем будешь, когда вырастешь?» – он непременно ответит: «Шофером, – и тут же добавит. – И еще солдатом». Первая песенка, которую я пел в раннем детстве, питала будущего защитника Родины:
Брошу я подушку, брошу я кровать,
Сяду на лягушку, поеду воевать.
Синее море, красный пароход,
Сяду, поеду на Дальний Восток.
Мама будет плакать, слезы проливать,
А я уеду на фронт воевать.
Песенка эта от жизни. Разве только лягушка взята для рифмы. Что же касается материнских слез, то моя мама начала плакать, предвосхищая расставание, года за полтора-два до призыва меня в армию; и не были для нее утешением слова о том, что не на войну забирают ее чадо. А когда приспело время, и в руках была уже повестка, случилось точь-в-точь как в той известной песенке: «так и вся моя родня набежала». За день-два-три до сбора у военкомата, к отправке, не было, должно, в округе деревни, где не праздновала бы молодежь проводы: с песнями, гармошками, шумными застольями. А в то раннее утро предзимья, в день нашего отъезда, прилегающее пространство перед крыльцом военкомата заполнилось народом. Сумрак еще не уступил свой час зарождающемуся дню, а здесь – проводы. Кто-то, подышав на озябшие пальцы, словно рот оскалил в улыбке – растянул меха своей хромки; кто-то, расплескивая через край переполненный стаканчик, дает последнее напутствие сыну, брату, другу. «Все служили, и мы послужим», – отвечает призывник.
И вот команда: «Всем в автобус!» Паренек в заношенной фуфайке, в шапке задом наперед хватает свою авоську, шатаясь из стороны в сторону, передвигается к открытой двери стоящего близ автобуса. Возле паренька нет провожающих; быть может, они тоже где-то здесь, но только так же в стельку готовые к отправке. Он вскарабкался по ступенькам в автобус, плюхнулся на сиденье, но тут в него влипли две женщины. Они пытаются вытолкнуть его назад в дверь.
– Не имеете права! Руки прочь от солдата! – упирается, вцепившись в стойку, паренек. – Руки прочь!
– Это колхозный автобус, – объясняют ему. – Он в деревню поедет.
– Колхозный для солдат, – доказывает тот свое.
А в это время поодаль, с готовностью выкрикнув: «Я!» старшему лейтенанту с листочком в руках, парни загружаются в другой автобус.
Кроме всей этой кутерьмы, кроме маминых рук, мне запомнилось лицо моей тети Ханифы. Ее тревожный, не видящий меня через стекло взгляд. Она долго бежала за автобусом и махала рукой. Ее муж двадцать пять лет назад безвозвратно ушел на фронт.
ПЕРЕД СОЛДАТСКИМИ БАРАКАМИ
Позади областной сборный пункт, позади дорога на поезде.
Автобус остановился. Мотор сразу стих. Пассажиры сидят молча. Кто-то спит, положив голову на плечо соседа, кто-то откинулся на сиденьи, кто-то протирает рукавом запотевшее стекло сбоку и всматривается в непроморгавшееся еще утро.
– Отставить сонтренаж! Выходи! – зычно кричит сержант-сопровождающий.
Разом все зашевелились. Молча. Но кто-то уже интересуется:
– Приехали что ли?
– Приехали. Выходи строиться!
Сержант бодрый. Смотрит на прибылых снисходительно, с ехидцей.
– Пош-шевеливайся! Здесь не колхозная бригада. Выходи строиться!
Площадка. Просторная, до самой ограды с колючей проволокой по-над бетонными секциями. Тусклый свет редких фонарей. Поодаль – бараки с лампочками под козырьками невысоких крылечек. Возле ближнего барака – группа солдат. Огоньки сигарет в руках. Синий дым кутает лампочку.
– Зеленка подошла, – кричит кто-то из них.
– Поголовье бритых гусей, – подхватил другой.
Всего поголовья – пятьдесят человек. Все из Башкирии. Выходим из автобуса, молча осматриваемся.
– В две шеренги становись! – кричит сержант, отойдя чуть в сторонку, и откидывает руку, указывая рядом, где строиться. – Пош-шевеливайся! – все торопит он.
Офицер со списком в руке стоит напротив строя. Самый крайний в первой шеренге – коренастый крепыш. На нем телогрейка без одного рукава. Он держит руки по швам. Офицер подошел.
– Где второй рукав?
– Забыл поезде, товарищ командир, – бойко отвечает крепыш.
– Ладно хоть голову не забыл, – строго говорит офицер.
– Нет, – возражает крепыш. – Голову нада, а рукаву не надо.
Офицер идет вдоль строя. Остановился.
– А это еще что за кооперация? – откровенно изумился он. – Вы что, близнецы?
Смотрит под ноги «близнецам». Они молчат. У одного правая нога обута в ботинок, левая – в шерстяном носке твердо стоит на бетонной плите; у другого – наоборот: левая нога обута в ботинок, а правую он согнул в колене, как гусь на снегу.
– И часто у вас в Башкирии носят одну пару обуви на двоих?
«Близнецы» молчат. Минувшей ночью, когда поезд остановился на какой-то станции, тот, у которого теперь на ноге шерстяной носок, предварительно примерив ботинок товарища, отпросился у сопровождающего сержанта и на перроне средь торговок всякой снедью обменял свои сапоги на бутылку самогонки. Те запасы, которые были сделаны в день отправки с призывного пункта (а это, кроме еды, полная сумка водки) иссякли; голова трещит, деньги все потрачены, а находчивости нашему брату, как известно, не занимать.
– А если б еще пешком пришлось идти? – спрашивает уже улыбаясь офицер.
«Близнецы», хоть и видят угасшую строгость, молчат. Строй зашевелился. Это уже позже начнется смех. Пока не до смеха. Веселая была ночь на пути в солдатчину. Вон тот – тоже мне солдат: маленький, как мальчишка; и как его такого взяли в армию? – хоть и непьющий, а на голове шапка без одного клапана; кто-то, потешаясь, оторвал: не нужна, мол, теперь эта шапка. Рядом с ним – кучерявый улыбчивый парень. Телогрейка надета на голое тело. Можно подумать, из родного аула его так отправили.
– Ну, орелики, – качает головой офицер.
КАРАНТИН
– Какой такой карантин? Ящур что ли у меня? – не может понять коротышка Закиров. – Колхозе карантин, когда скотина болеет. Я ящуром не болею. Зачем карантин?
Ему не терпится в солдаты. Скорее подавай ему гимнастерку. Чтобы с погонами, бляха чтоб со звездой, сапоги гармошкой. Чтоб значки на груди.
– Эх ты, – объясняет Гафиатуллин. – Всегда солдаты начале карантине бывают. Один месяс.
Можно подумать, он уже служил однажды.
– Может, ты болеешь. Может, беркулез привез. Тебя надо проверить, чтоб весь армия не заболел.
Кто-то улыбается, кто-то высказывает свое мнение, кто-то молчит. Главное – в армию приехали. Все объяснит наш начальник, который встретил прибывших с поезда и, осмотрев, отправил в баню, где мы после помывки оделись, обулись во все армейское.
– Здесь вы начнёте с азов военную подготовку, – говорит офицер. – Месяц вас будут обучать сержанты. Всем уставам, всему тому, что должен знать и уметь каждый солдат. Через месяц вы примете присягу и будете распределены по эскадрильям.
Мы уже знаем: полк, куда нас привезли, – летный; он приписан к училищу, которое готовит летчиков-истребителей. Это здорово! У нас голубые погоны, петлицы с птичками; днем с возвышенности, что видна за постройками, слышен реактивный гул; над нами то и дело пролетают самолеты со звездами на плоскостях, да-да – на плоскостях, а не на крыльях; крылья это на языке тех, кто не разбирается в летном деле, а тут тебе… Тут авиация. Правда, авиация – это там, в полку, куда нас передадут после карантина. Но пока надо еще обучиться. Мы только надели гимнастерки. Ни повернуться, ни шаг ступить по-солдатски не умеем. Гимнастерки на нас топорщатся. В них мы не узнаем друг друга. Особенно в первый день, после бани, все как один обритые наголо – сплошная серая масса, неуверенно пошевеливающаяся, тихо переговаривающаяся.
После помывки вернулись в казарму, построились. Каждый, еще не понимая, смотрит на бравого сержанта: почему на нем гимнастерка сидит ладно, ни одной морщинки на поясе, а на нас – словно юбка на пышногрудой деревенской молодке? Сержант снисходительно смотрит на строй. Сейчас он покажет, как заправляется гимнастерка под ремень: пара привычных движений ловкими руками, щелкнула пряжка – он вытянул руки по швам. Как на картинке. Показывает еще раз. Весь строй начинает приводить себя в порядок, чтобы все было гладенько, как на сержанте. Нет, все равно складки собрались спереди, все равно как юбка.
– Укоротите ремни, – говорит сержант. – Он не должен висеть на животе.
Подошел к одному из нас, решительно взялся за пряжку, оттянул и стал закручивать ее внутрь.
– Вот. Сколько раз заверну, столько и нарядов положено вне очереди на кухню.
Отошел.
– А теперь всем подшить подворотнички. Даю на первый случай кусок на всех. Но с завтрашнего дня каждому иметь своё. Купить в нашем магазине или взять у старшины списанной простыни.
Эх, и непослушна иголка. Легче с ломом управиться. Ты ее в воротник, а она… Только и видишь: кто-нибудь сосет палец – укололся. Тот, что стоял в строю в телогрейке с одним рукавом, это Шарафутдинов, продел в иголку нитку длиной метра полтора. Можно подумать, на всю роту заготовил. И теперь нитка путается, когда он протягивает ее сквозь ткань воротничка, скручивается в узелки. Незадачливый швей тихо матерится. Сосед, сочувствуя, советует ему укоротить нитку. Все корпят.
– А это еще что за чудо? – слышится голос сержанта. Он хохочет. – Ты что, юный ленинец?
Сержант стоит перед тем недоростком мальчишкой. Мы уже знаем его. Это Гимранов. Он подтянется ростом уже через полгода. А пока – ни дать ни взять – соску бы ему в рот. И голос детский. Но уже подшился. Хоть мал, но проворней нас оказался. Стоит перед сержантом – руки по швам. Только вот белая полоска подворотничка у него – по наружной стороне ворота гимнастерки.
– Я думал, так нада, – растерянно говорит он.
– Ты понимаешь, для чего подшивается воротничок? – улыбается уже сочувственно сержант. – Чтобы шею не терло хэбэ. А ты снаружи присобачил.
Не спеши, сержант. Все образуется. Научимся еще. Полторы-две минуты на это будет уходить скоро. А пока ох, не хватает времени, того, которое называется личным, когда и письмо домой можно написать, и почитать, а пуще – кучкой посидеть, прислушиваясь к рассказам прибывших вместе с тобой, присматриваясь. И не заметил, как день прошел. Вечерняя проверка – и уже отбой.
Перед сном сержант учит, как складывать гимнастерку, брюки на табуретку; как заправлять портянки на голенища сапог, чтобы подсохли до утра; куда вешать пояс, класть шапку. И вот команда:
– Рота, сорок пять секунд – отбой!
Все пришло в движение. Суматоха. Разбежались из строя. Как угорелые. Разоблачаемся. Толкотня. Гимнастерка не складывается ладом, сапоги падают. Сержант смотрит на секундную стрелку своих часов. И вот последний, самый неуклюжий, бросился в кровать. Головы торчат из-под одеял.
– Та-ак, – прикидывает по часам сержант. – Минута, пятнадцать секунд. На первый раз сносно, – говорит и внезапно командует: – Рота, сорок пять секунд – подъем!
Вскочили, начинаем снова облачаться. Снова в строю. Застегиваем пуговицы, поправляем пояса. Сержант идет вдоль строя, делает замечания. Остановился.
– Как фамилия?
– Рыбаков, – отвечает тот, перед кем он остановился.
– Не Рыбаков, а рядовой Рыбаков. А ну-ка сними сапоги.
Тот снял, стоит босиком.
– Где портянки? Доставай.
Портянки оказались под матрацем.
– А если сейчас марш-бросок? Километров на пять, – строго говорит сержант. – Ноги в кровь разобьешь без портянок.
Он отступил от строя, командует:
– Рота, сорок пять секунд – отбой!
В первые дни такие тренировочные подъемы-отбои повторяются по несколько раз. Все образуется. А пока все ново: ряды двухъярусных коек, высокие окна без штор, без занавесок; непривычный запах казармы – букет запахов: извести, сырости от полов, постоянно протираемых шваброй с большущей тряпкой на конце, и еще – примешивающийся к ним запах новых, еще не разношенных сапог.
Первое утро следующего по прибытии дня. Сейчас будет первая побудка. В шесть часов. Большинство новобранцев безмятежно спят и видят еще домашние сны. Но кто-то проснулся загодя. Хоть и «радиатор закипел» – не встает, думает – запрещено. Лежит, высунув голову из-под одеяла, – приготовился. И вот зычный голос пронзает тишину:
– Рота, сорок пять секунд – подъем!
Словно вихрь пронесся по казарме. Одеяла взлетели. Со второго яруса кто-то перемахнул через головку кровати в проход; кто-то повис на руках, как спортсмен на брусьях, между кроватями. Стук, скрип, топот. И ни слова. Сержант молча смотрит на часы. И тут в дальнем углу слышится тихий мат. «Ногу вытащи. Куда засунул?» – зло требует кто-то. Сержант тянет голову.
– Это еще что? Не выражаться, – предупреждает он.
А там, в углу, непонятная свалка. Я сам, слетев с моего верхнего яруса, оказался верхом на шее вставшего с нижней койки Шарафутдинова. Он молча вынес меня в проход между рядами, зло сбросил, и мы мирно торопимся облачиться в гимнастерки. В углу же, привлекшем внимание сержанта, ситуация несколько сложней. Кто-то, так же сиганув сверху, угодил ногой в прореху кальсон оказавшегося под ним соседа. Кальсоны-то новые, еще не севшие от стирок, а потому просторные; ты в них хоть Гимранова сорок четвертого размера затеряй, хоть Галеева пятьдесят второго размера. Так вот, нога-то сиганувшего сверху и вписалась в чужие исподники, владелец которых справедливо разгневался еще и потому, как неподрасчитавший сосед никак не может вытащить ногу назад. Оба суетятся: время-то идет, не уложиться в сорок пять секунд; тянут один другого в разные стороны. Законный владелец исподников вынужден расстегнуть верхнюю пуговицу на прорехе, тянет подол нательной рубашки на обнажившиеся гениталии. И пока соседская нога ушла-таки из чужих владений, первые, самые проворные новобранцы уже выбегают в строй, застегиваясь на ходу. Все это с непривычки. Все образуется. Уже во второй, третий день начнем укладываться в сорок пять секунд, а иному, кто пошустрее, скоро уже и тридцати секунд будет достаточно.
На завтрак в столовую – с песней. Наша первая солдатская:
Полем вдоль берега крутого мимо хат
В серой шинели рядового шел солдат.
Строй – так себе, куча. Хоть и в школе учили когда-то, однако не получается. Чтоб – стук, стук. Как если б один кто-то, здоровяк, твердо ступал по асфальту. Сержант на первый случай помогает: «Л-левой, л-левой, раз-два – л-левой». Сам он рядом – как свечка. Как нарисованный. Бодрая отмашка, твердый шаг. А здесь – куча. В ней вдруг слышится окрик: «Ногу смени! Ногу смени! Сколько тебе повторять?» Это Рыбакова бьет по каблуку идущий вслед за ним.
РЫБАКОВ
Его чудаковатость вначале не бросалась в глаза. По поступкам Рыбакова нельзя было определить: розыгрыш это или всерьез. Он со спокойной миной мог рассказывать какую-нибудь небылицу, и при этом ни один мускул не дрогнул бы на его лице. От него, щуплого с виду, небольшого роста, мы слышали, как доводилось ему вступать в схватку с целой группой хулиганов; о том, как сильна у него правая рука, которую никто не сможет заломить. Любопытней всего то, что, когда его звали помериться силой, он соглашался; и действительно, правую его руку редко кто укладывал на стол. Лишь соперники ставили локти, и по команде начиналось состязание, жилистая кисть неказистого с виду борца, расслабившись, поддавалась напору, но локоть при этом оставался несгибаемым. Средь рассказываемых сюжетов немало слышали мы от него и актуальных, солдатских. Кажется, эта, трудно сказать, то ли байка, то ли взаправдашняя история из армейской яви – одна из поведанных Рыбаковым.
Дело было в какой-то войсковой части, в какой – не суть. Каждую ночь в одно и то же время, когда казарма пребывает в полнейшем покое, один из новобранцев привстает над подушкой и громко кукарекует. Да так, что все просыпаются. Отметив таким образом полночь, он ложится и как ни в чем не бывало продолжает спать. Это повторяется систематически – ни одной ночи сбоя. За нарушителем покоя начинают следить. И хоть бы раз промашка. В одно и то же время – кукареку! В конце концов солдата с петушиным синдромом выбраковывают – комиссуют. И уже гражданского, освобожденного от солдатской службы, его встречают однополчане на улице города и, конечно же, подшучивают на предмет петушиного дара: «Ну как, ты все кукарекуешь?» – «Да нет, я свое откукарекал, – отвечает тот. – А вот вам еще три года кукарекать».
Мы пересказывали друг другу этот чудной случай со своими комментариями. Они были уместными. Не успев еще привыкнуть к армейской жизни, солдат заражается этой, словно навязчивой, дембельской идеей: скорей бы домой. Это притча во языцех. О дембеле все помыслы солдата, множество песен, общеизвестных или самодеятельных. Чуть позже, по прибытии в полк из карантина, еще будучи в низшем звании того неформального табеля о рангах, салагами, мы уже подтягивали дедам:
Напой, гитара, мне аккорд в последний раз,
Я расстаюсь навеки с армией сейчас.
Но пока карантин. Уставы и строевая подготовка.
Солдатский строй – это выправка, это красота. Грудь колесом, плечи расправлены, носок сапога – вытянут, как у балерины. Ходить учатся все, с младенчества. А солдатскому шагу надо учиться особо. Чтобы по команде «С места с песней строевым…» рота рубила шаг так, что поперву дух захватывает. Для этого преподаются азы. Как раз сержант нам объясняет: левая нога, вытянутый носок идет вперед, а вместе идет вперед на взмах правая рука; правая нога – вперед, левая рука вместе с ней.
Перед строем Рыбаков. Сержант просит показать, как он усвоил урок. Рыбаков по команде начинает. Левая нога, а вместе с ней и левая рука приходят в движение, вперед. Стукнул об пол подошвой. Правая нога и правая рука пошли вперед. Строй взрывается хохотом. Спектакль да и только.
– Ты что, не понял? – возмущается сержант и показывает еще раз.
Рыбаков снова шагает. Попробуй так специально – не получится. Хохот.
– Да ты что? – вскипает сержант. – Ты как ходишь по улице-то? Люди ведь засмеют. Ну-ка давай просто, нестроевым.
Рыбаков идет. Старается, вроде бы, на всякий случай вообще не размахивать руками, но они непроизвольно следуют обычной привычке.
– Ну вот видишь? Так и здесь, – сдерживает горячность наставник. – А ну-ка давай: шаго-ом марш!
Снова хохот. Виновник непредвиденного веселья и сам едва улыбается. Вроде бы виновато, но в уголках глаз затаилась хитринка. «Прикидывается, думает косануть от армии,» – тихо комментирует кто-то. Так это или нет – нельзя утверждать уверенно. Одно точно: Рыбаков еще не раз озадачит своих наставников. В тот же день после отбоя, когда уже и тихое шушуканье угасло, бледная тень пробиралась к двери сержантской комнаты. Послышался нерешительный стук. «Входите!» – отозвалось изнутри. Дверь приоткрылась – в проходе остановился Рыбаков. В исподниках, в сапогах, руки – по швам.
– Товарищ сержант, разрешите обратиться.
Один из сидящих в комнате отвернулся, чтобы скрыть улыбку; другой не выдержал – фыркнул. Рыбаков стоит навытяжку.
– Обращайтесь, – отвечает сержант.
– Я не успел до отбоя… Можно сейчас подшить подворотничок? – просит подчиненный, все еще вытянувшийся в струнку.
– Да ты встань вольно, – рассмеялся-таки сержант. – Нигде в уставе не прописано, чтобы в кальсонах исполнять стойку смирно.
Рыбаков вроде бы смяк, едва ослабил ногу в колене, но руки все еще по швам.
– Ладно, подшивайся, – машет рукой сержант.
– Я тогда в умувальнике буду, – чуть осмелел подчиненный. – Разрешите идти?
Он круто развернулся кругом, стукнул каблуком об пол, но, видно, вспомнил, что сделал разворот не через то плечо, возвернулся в исходное положение, вновь крутнулся на каблуке, шагнул строевым через порог.
– Да ты не топай, как лошадь. Люди спят, – бросают ему вдогонку.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Не прошло и недели; курс молодого бойца был в разгаре, когда капитан провел средь нас «профилактику».
– Вот что, бойцы, – начал он. – Вам ведь уже растолковывалось, что вы находитесь не в пионерском лагере, а в войсковой части. Растолковывалось, что вы многое здесь узнаете, того, чего не положено знать оставшимся вне части. Это военная тайна, и за ее разглашение можно угодить…
Он в самом начале действительно предупреждал: не всякое лыко в строку; домой письма пишет каждый, это не запрещено, но сообщать родственникам не все подряд. Он предупреждал, что солдатские письма выборочно или как-то перед отправкой из части прочитываются. И вот тут-то оказалось, о чем только не писал наш брат на родину. На предмет секретности полученная нами в первые дни информация была, можно не сомневаться, пустяковой, однако иной новобранец выворачивал ее так, что неспроста взроптал капитан.
– Я не буду сейчас называть фамилии, – продолжает он. – Кое-кто узнает себя. И тот, кто уже успел вкусить тяготы службы, о которых он пишет, но которых еще и не нюхал ведь; и тот, кто, оказывается, уже летает на истребителях. Вы свистите, но не перебарщивайте. Неделя прошла, как привезли вас сюда, а двое, оказывается, уже летают на самолетах. Так и пишут. Ишь, летчики!
В ответ – дружный смех.
– Вы не будете летать. Будете обслуживать самолеты, – продолжает капитан.
– Устранять зазор между тряпкой и плоскостью, – добавляет, улыбаясь, стоящий рядом сержант, один из наших наставников.
– А теперь другое.
Капитан помолчал, обвел взглядом строй.
– Я сегодня посмотрел, когда вы шли на завтрак. Речь не про строй. Шагать еще научитесь. А вот ваша форма, я имею в виду шинели. Кое-кто, видно, решил, что мы тут забыли открыть для вас ателье мод, и сам взялся их перекраивать. Вы, товарищ сержант, – обратился он уже к нашему наставнику, – сегодня осмотрите всех. Кто укоротил полы – а я видел, у кого-то чуть ли не задница едва прикрыта, – вместо отрезанного куска подшить полоску одеяла. На первый случай. А потом пусть или за свой счет приобретает нормальную шинель, или из БУ – оставшихся после уволенных в запас, если найдется, выдать ему.
Но все это слова. Никто еще ни разу не видел шинели с подшитым куском одеяла. А такие, которые заметил капитан в нашем строю, – пожалуйста. Этакое мини. Подгоняют, переделывают не только шинели. И гимнастерки, и брюки; хоть повседневную, хоть парадно-выходную форму. Как бы ни было однообразно одеяние солдата, но тот, кому не безразлична его внешность, обязательно изыщет способ привнести в нее шик, изюминку. Посмотрите, вон идут по улице. У одного каблуки сапог шоркают по асфальту; сам подался корпусом вперед, словно рюкзак в полную выкладку у него за спиной; шинель – как надел, так и подпоясал ее, того и гляди запутается в ее полах, рукава – чучело огородное; шапка натянута до бровей. У другого шинель – ни одной лишней складки, сапоги блестят на солнце; шапка на макушке, слегка набок; он чуть согнул руки в локтях, спина прямая, идет – вся его внешность говорит: посмотрите, какой я красавец. А подшить кусок одеяла – пустые слова человека, решившего, что перед ним швейки, готовые сломя голову подчиниться любому приказу.
Сержант вознамерился устроить проверку по поручению начальника. Но лишь он объявил, что надо приготовиться к построению в верхней одежде, как засуетились те, кому предстояло ответить за самовольное обрезание шинели. Быстрее всех решил проблему тот, кто обратился за помощью к Гимранову – самому низкорослому из прибылых. Гимранов оказался понятливым и сговорчивым, так что хоть и стоял он в строю во время проверки в шинели, которой хватило бы дважды обернуть его, но по длине она была в самый раз, подрубленные полы – ниже колен. А тот, кого он уберег от напасти, хоть и чувствовал тесноту в плечах, но в лице – уверенность: вот он я, весь перед вами. Так же вывернулись и другие незадачливые портные. Это был первый случай нашей солдатской взаимовыручки.
МАТЕМАТИКА В ТУМБОЧКЕ
Чем пахнет казарма? В день прибытия новобранцев, как уже описывалось, – это знакомый, но непривычный запах известки, отдающий строгостью, неизвестностью грядущего дня. Скоро к нему примешивается неповторимый аромат сырых портянок, гуталина и непросыхающих полов, которые не дают покоя старшине, кажется, только и думающему, кому бы вручить лентяйку. Но в тот день к этой уже устоявшейся микроатмосфере армейского общежития как-то незаметно вкрался душок, знакомый, но совершенно неуместного свойства. Войдя после занятий на плацу в казарму, мы начали подозрительно озираться, шушукаться, а иной – пошевеливать ноздрями, как, вроде бы, охотничья собака, верхним чутьем взявшая добычу и готовая принять стойку. Это длилось с полчаса. Наш сержант, чувствовалось, был в растерянности. А после того, как капитан взбучил его, указав на противоречащий уставу и солдатскому обонянию в условиях жилища компонент, он стал суетливо ходить между рядами, заглядывая под койки, под тумбочки; скоро, как тот гончак, взял след, и вот уже его поиски увенчались успехом – стоит перед открытой дверцей тумбочки между койками в середине ряда.
– Чья тумбочка? – зычно кричит сержант на всю казарму.
Все тянут шеи, глядя в его сторону.
– Я спрашиваю, чья тумбочка? – грозно повторяет сержант.
– Рыбакова, – подсказывают ему.
Рыбаков, мирно сидевший в задумчивости на табуретке у окна, встал.
– Моя.
– А ну-ка бегом сюда!
За хозяином тумбочки потянулись все, кто в казарме.
– Это что? – зло спрашивает сержант, тыча пальцем в бумажный сверточек на полке тумбочки.
Рыбаков молчит.
– Я спрашиваю, что это?
– Кало, – тихо признается оробевший паренек.
– Какое кало? Ты что, сдурел, говно в тумбочке держать?
Накануне нам объявили: завтра медосмотр; с утра сдаем анализы, а потом проверка на педикулез, кожные заболевания, взвешивание. Не прошло еще и недели после нашего прибытия, к солдатскому рациону мы только еще привыкаем, неспроста многие, если остались деньги после дороги, из-за обеденного стола тут же, пока не дана команда: «Выходи строиться!», торопятся в буфет при столовой, добрать недостаток пряниками, сластями. У кого-то напрочь сбились физиологические ритмы, у кого-то расстройство желудка, а у другого, наоборот, – запор. Видно, Рыбаков не был исключением. С утра пораньше в день обещанного медосмотра он вернулся из туалета, пряча в рукаве завернутый в бумагу спичечный коробок, заготовку к тем анализам. Но случилась какая-то заминка с медосмотром, так что сверточек, то ли забытый, то ли с умыслом – впрок, лежал в уголке тумбочки, испуская естественный дух свой.
– Быстро забирай и в сортир, – командует сержант. – Василий Иванович, поступая в академию, сдал кровь, мочу, да математику не смог сдать. А ты что, побоялся, что кало свое не сдашь?
Под дружный хохот собравшихся Рыбаков торопится выполнить указание: двумя пальцами держит сверточек, отвел руку в сторону, словно это чье-то чужое, и он боится выпачкаться; все расступаются перед ним, пропуская, когда он направляется к двери.
– Стой! – кричит вдруг сержант.
Тот остановился, все с отведенной рукой, не оборачиваясь, словно боясь расплескать, лишь голову слегка повернул через плечо.
– Может, у тебя и пузырек здесь остался еще?
– Нет, – бормочет Рыбаков.
Дневальный заключил нос в кулак, толкая дверь ногой, отступил в сторону. Рыбаков вышел, хлопнув за собой дверью.
– Открой, открой, – кричит сержант дневальному. – Пусть проветрит, а то сейчас товарищ капитан придет, вздрючит меня.
Он доложит позже:
– Товарищ капитан, причина запаха выявлена и искоренена.
А запасливому собрату нашему после этого казуса мы частенько задавали вопрос: «Ну что, математику сдал?»
ПРИСЯГА
Месяц пролетел незаметно. Позади ежедневные занятия на плацу строевой подготовкой, изучение уставов, стрелкового оружия, ставшие привычными быстрые подъемы и отбои, при которых сержант давно уже не смотрит на секундную стрелку своих часов. Сегодня день принятия присяги. Утром, говорят, привезли знамя полка, приехали штабные офицеры. И вот мы уже выстроились в казарме. Начищенные, выбритые. Сержант оценивает каждого. Чтоб сапоги сверкали, как лакированные, бляха на поясе – хоть как в зеркало глядись; чтоб птички на погонах все на месте были, подворотничок – свежий.
Текст присяги каждый знает наизусть. Сержант напоминает: присяга принимается с карабином в правой руке, а значит… Да чего ты, старина, знаем, знаем: если при карабине – руку к виску не приставлять; да и как ее приставишь, если в ней оружие, не левой же рукой отдавать честь. Это ж козе понятно. Не первый день замужем.
Строй в красном уголке. Вызывают по списку к знамени. «Я, гражданин Союза Советских социалистических республик, принимаю присягу и торжественно клянусь…» Большинство уже обрекли себя на верность Родине; стоим, волнующие чувства полнят грудь. Вызывают очередного.
– Рядовой Рыбаков!
– Я!
– Для принятия присяги выйти из строя!
– Есть!
Он, согнув локоть, держит карабин, размеренно бьет подошвами сапог по полу. Идет, будто марионетка, подергиваемая за нитки. А наш сержант затаил дыхание, смотрит. Все, кажется, более-менее, хотя свободная кисть руки того и гляди отмахнет не в том направлении. Подошел к майору, стукнул прикладом об пол. И тут левая рука взметнулась к виску. Строй зашевелился. Сержант было присел от досады. «Опусти руку, – зло шепчет он. – Руку опусти». Но присягающий в волнении ничего не слышит. Офицеры молча смотрят.
– Товарищ майор, рядовой Рыбаков пришел для принятия присяги.
«Не пришел, а прибыл», – ворчит себе под нос кто-то в строю. А тот стоит, так и забыв про руку у виска. Майор протягивает ему текст присяги в красном коленкоровом переплете, спокойно подсказывает: «Опустите руку».
Один за другим поклялись в верности Отчизне. Теперь, как толковали нам на занятиях, мы уже сущие солдаты; любой отвечает за свой поступок, должен следовать пунктам Устава, беспрекословно выполнять приказания командиров. Их устами Родина скажет: «Надо!» – ты, не философствуя, ответишь: «Есть!» Тут тебе не у тещи на блинах. Вон стоит в строю Мустафин. Он, кажется, уфимец. Ладный, уверенность во всей осанке. Открытый взгляд красивых глаз. Когда улыбается, в уголке рта в верхнем ряду зубов сверкает золотая фикса. Он боксер. Охотно рассказывает о своих приключениях, многозначительно не договаривая о каких-то подробностях биографии, возможно связанных с криминалом. Так вот он, почитай, угодил в переплет, преступив армейский закон.
В первые же дни в карантине, раздобыв боксерские перчатки, они как-то сошлись в кулачном бою с Батей. Батя – мой земляк, односельчанин. Маштаковатый, крепко сбитый сын лесника. По святцам он Петр, но как-то с детства повелось, обрел это прозвище, заводила, авторитет средь подлетков. Никто его Петром и не звал. А здесь, далеко от дома, в обиход запустил привычное для самого обладателя, словно бы основное, имя его приятель, тоже односельчанин Вовка Куянов, короче – Куян, с которым они, вечно подначивающие друг друга, переругивающиеся, на всех комиссиях, начиная с военкоматской, держались вместе, вплоть до того, пока не оказались в одной эскадрильи, и так два года – не разлей вода. Батя не робкого десятка. Вышел на «ринг» – в свободное пространство между рядами коек – спокойно. По тому, как передвигается в бою, чувствуется, техникой владеет не шибко. Не было у нас такой секции. Может, где-нибудь пробовал надевать боксерские перчатки. Они сошлись с Мустафиным, у которого и стойка – сразу заметно, и ноги – словно на пружинах, перемещается легко. Батя внимательно следит из-за перчаток за противником, старается быть подвижней. Но все равно, если сравнить, как-то не так. Шибко друг друга они не били. Пропустив пару ударов, Батя покраснел, изловчился, врезал-таки как умел. Знай наших! Разошлись вничью. Но то была мирная схватка. Мустафин средь нас держится уверенно, несколько развязно. А при встрече со старослужащими вроде бы даже демонстрирует свою независимость. Кто-то из «стариков», младший сержант из соседней казармы, напросился-таки ему на кулак и заработал правый прямой в челюсть. Не зная броду, не суйся в воду. Рассказывали, челюсть у «старика» разбита. На старшего по званию поднял новобранец руку. Военным трибуналом пахнет. Но, как говорится, дело замяли. К тому же все случилось до принятия присяги. Вроде б как не солдат ударил сержанта. А теперь положение изменилось. Присяга принята. Не забывайся. Мустафин стоит – в лице задумчивость. Какие мысли в голове парня? Может, дом вспомнил, друзей своих.
По торжественному случаю – праздничный обед: белый хлеб да в гуляше мяса побольше. Последний раз в карантине. А наутро – в полк. С песней.
Были мы вчера сугубо штатскими,
Провожали девушек домой,
А сегодня с песнями солдатскими
Мимо них идем по мостовой.
Не глядим!
Последняя строчка, о том, что не глядим, – чье-то, видно, самодеятельное дополнение, охотно принятое нами. Это для форса. Мы, мол, здесь не так себе: первым делом – самолеты, а девушки– то уж потом. Как же, марку надо поддерживать. Авиаторов. А то, что, устав от сугубо мужской компании, по ночам во сне подушку обнимаешь, – нет такой песни.
САЛАГИ
Авиационный полк. Шесть эскадрилий. Эскадрилья – это то же самое, что в других родах войск рота. Казарма двухэтажная. Внизу у входа дневальный. Он при появлении в дверях кого-нибудь из офицеров голосит во всю мочь: «Полк, смирно!» Чтоб на обоих этажах было слышно. Старослужащие на этот сигнал не особо отзывчивы, а мы, молодежь, вскакиваем. Поправляем пояса, шапки, застегиваем верхние пуговицы на гимнастерках.
Здесь совсем другая жизнь. Даже присяга другая. Кое-кого из нас уже «обвенчали» по ней. «Я, салага, бритый гусь, обязуюсь и клянусь: сало-масло не рубать, «старикам» все отдавать». Одному из салаг уже вменена ежевечерняя обязанность: в кальсонах, самый худой, когда старшина после отбоя уходит заканчивать свои дела, он во весь рост встает на табуретку, поставленную на тумбочку, и торжественным голосом, с расстановкой объявляет: «Дорогие товарищи старики! До дембеля осталось …» Сообщается число дней, оставшихся до грядущего приказа министра обороны об очередном увольнении в запас. «Старики» начинают охать, вздыхать: «Ох и служба…» Дальше вставляется крепкое словцо. А потом звучит анафема в адрес тех, кто слишком досадил за время службы. «Презрение кускам!» – провозглашает кто-нибудь. «У-у, суки!» – отвечает хор «стариков». «Куски», «макаронники» – это те, кто на сверхсрочной службе. Дескать, те, кто за три года не наелся солдатской каши и остался поесть на дармовщину макароны.
«Старик» «старику» – рознь. Насчет масла в рационе – вопрос простой. У молодняка его редко кто отбирает. Разве что в первые дни, сев за стол, прозеваешь: кто успел, тот взял из общей тарелки, на которой десять нарезанных кусочков, порцию покрупней, а тебе останется – разок лизнуть. И даже бывает, что старики демонстративно садятся отдельно от молодежи, и никто не обвинит их в ущемлении чьих-нибудь прав. Другое дело – шапки, шинели – еще новенькие на прибылых. Тут в полку посмотришь на иного: шинель поседевшая, цвета перепревшего навоза; шапка – времен царя Гороха, верх у нее – какого теперь уже не бывает – еще фланелевый, так что этот древний головной убор напоминает котелок. И то, и другое наследовалось, видно, уже не пять-десять лет, как эстафета. Не ехать же «дембелю» домой в такой форме. Обмен неизбежен. И тут бывает всякое. Иной «старик» подойдет, снимет с «гуся» шапку, посмотрит размер, примерит, нахлобучит тому на голову свою старую. Без лишних разговоров. Но ведь и «гусь» «гусю» – рознь. Взять того же Мустафина. Иной может заартачиться. Тогда ему внушают: придет время, так же обретешь новье, а пока до дома далеко, служить как медному котелку; на случай увольнения попросишь, мол, у товарища. А если миром не отдашь – ночью сопрем, мол, все равно.
Всяк сверчок знай свой шесток. Молодь – свой. В первый же день по прибытии, вечером, после ужина, после личного времени старшина объявляет: в столовую чистить картошку пойдут… Понятно, кто пойдет. Первое крещение пополненцев.
Куча картошки большая, для целого полка завтрак готовить. Приступаем к ней дружно. Но пока ее перечистишь – все анекдоты перескажешь, все песенки перепоешь, чтоб не скучно было. Так что в постель попадешь за полночь. А подъем утром со всеми вместе. Чтоб на завтрак – в полном составе. Потом на полковое построение, а потом на стоянку, где в пелене закружившей метелицы, словно дремлют, стоят самолеты.
В НАРЯД
Наряд – это повседневье. В наряд ходит большинство солдат; по очереди или вне очереди; даже «старик», случается, подойдет к старшине: пошли, мол, меня сегодня на кухню; тут уж понятно – поближе к котлу. В наказание наряд – драить полы, какая-нибудь другая черная работа, та же кухня. У каждого командира – в зависимости от ранга -свой лимит внеочередных нарядов. По прибытии из карантина мы слышали рассказы про начальника штаба полка подполковника Климова. Увидит он тебя, идешь с расстегнутым воротничком, молча поднимет руку с растопыренными двумя пальцами: мол, передай старшине, чтоб наказал моим именем. «Есть два наряда вне очереди!» – откозыряешь ему. «Пять, пять, римская пять,» – шевелит он двумя пальцами.
В наказание не посылают в караул под знамя полка. Сюда, по идее, должны ставить лучших. Это, вроде бы, как доверяют тебе – охранять святыню. Основной пост. Разгильдяй вдруг да не убережет. Несмываемый позор будет. Без знамени нет полка. Говорят, расформируют. Да и другие объекты не всякому можно доверить охранять: самолеты на стоянке, склады. На этот счет живописный эпизод рассказывал нам еще в карантине сержант Жуков.
«Послали меня однажды разводящим. Уже одну соплю на погоне имел – ефрейтором, значит. На улице конец мая, теплынь. Вот и договорились промеж собой ночью стоять по три часа, а не по два, как обычно. Это чтобы можно было поспать после своей очереди. Как раз за полночь поменял я посты, сам – на боковую. Пару часов покемарил, проснулся, полежал. Что пользы просто так валяться – решил пройтись. Рассвет-то уже забрезжил. По весеннему утру решил просвежиться. Пошел на ГСМ, где земеля мой сторожил; покурили мы, иду назад в караулку мимо холодных складов. А здесь оставлял, вот, как и вы, салажонка. Витьку Арефьева. Сибиряк, крепкий, русоволосый – красавец сам собой. Иду посматриваю. Что-то не видать его нигде. Ну, думаю, залег, значит. Там у них старое сиденье от машины, за складом прятали; договорились, каждый убирал его между ящиками. Если все спокойно, можно потихоньку полежать. Вот, думаю, испугаю его сейчас. Подкрадываюсь, гляжу: Витек-то карабин к стене склада прислонил, пояс на штык повесил. Самого нет. Вот засранец, думаю. Нельзя разве с карабином полежать. А если, случится, уведут? И тут смотрю, из-за угла склада ноги торчат по колен. Босые, без сапог, без галифе. Что ж ты, салага, совсем обнаглел, раздевшись на посту валяться? Поближе подошел, что-то ноги больно полными показались, да и ступни розовенькие. У Витьки-то, знаю, сорок четвертый размер, а это явно не его. Присматриваюсь: выше щиколотки – родимое пятно, этак с пятак размером. Так у поварихи нашей, у Клавки, каждый на эту родинку обращал внимание. Вот, мол, погладить бы. Клавка, посмотреть, когда на кухне, – неприступная; всем улыбается, а чтобы потрогать за козырек не дается. Фигурка у нее – как с картинки; талия – статуэтка, а в бедрах – пышная, в обхват. Когда суп разливает по бачкам, кофта отвиснет, мы каждый потихоньку норовим заглянуть. Так вот ты какая недотрога. Сибиряка-то сподобила вниманием. Ночью она в столовой в комнате отдыха спит обычно, а тут то ли сбегал он за ней, то ли сама пришла.
Вдруг гляжу, Клавкины ноги исчезли, а вместо них сапоги Витькины уже торчат. Он ими по земле начал скрести, вроде как травку зеленую отдирает носками. Я потихоньку подкрался, глянул из-за угла – в голову жар прилил, ладони вспотели. У Клавки кофта расстегнута, сосцы торчком торчат; он ее круглые бедра на согнутых руках держит. Пыхтят. А я не могу отойти. Но расчет-то промелькнул в голове. Потихоньку отступил, прихватил карабин его, отнес, спрятал по другую сторону склада. Когда они закончили, я тут и явился перед ними.
– Вас, девушка, я должен арестовать, – говорю. – Потому что здесь запретная зона для посторонних.
– А я, – говорит, – в солдатской столовой работаю.
– Здесь не столовая, а технико-эксплуатационная часть, военный объект, – толкую все свое.
Витек-то, гляжу, ищет карабин. Растерялся, бедняга. Знает, что за утрату оружия одним выговором не отделаешься, загремишь под трибунал. Поищи, думаю. А сам Клавку за талию.
– Пойдемте в караульное помещение.
Вроде, растерялась.
– Ну что уж вы такой строгий, – говорит. Сама внимательно так смотрит в глаза.
В общем, договорились без слов, взглядами. Витьку я, сказав, где карабин, спровадил в караулку, а сам остался.»
Сколько выдумки было в рассказе сержанта, не так уж важно. Но что в карауле всякое случается – это точно.
В РУЖЬЕ!
Прошло всего несколько недель по прибытии, мы еще не успели освоиться в полку, подошла моя очередь идти в наряд. На главный пост – под знамя. Оказалось, дело не шибко мудреное. Хотя днем здесь с непривычки ощущается постоянное напряжение. Правда, и приятно как-то: офицеры проходят мимо, даже сам командир полка, – все отдают честь. Навродь как тебе. А ты только карабин подтянешь к бедру да стойку смирно примешь. Ночью – другое дело. Никого нет, дежурный по части где-то на первом этаже. Постоишь, если утомился вначале нерешительно (а вдруг какое контролирующее устройство следит за тобой), а потом смелее, прислонишь карабин к пирамиде в основании древка знамени, разомнешься, походишь, а то и посидишь на полу у стены. Правда, тут есть опасность – на сон может потянуть. Но об этом отдельный эпизод.
Отстоишь пару часов, подменят тебя, идешь в караулку, что за чертой полкового городка, ближе к летному полю, потому что большинство постов там. А в ту ночь, вернувшись из штаба, с первого поста, тогда я должен был отстоять часок, охраняя караульное помещение, где спит отдыхающая смена. Рассказывают, всякое бывает. Случилось, где-то весь караул вырезали.
На улице мороз, вьюга бьет в лицо снежными снопами. Поверх шинели – тулуп. Полы до пят. Поднял ворот – не страшна вьюга. Только видимость плохая, поперву-то робость берет: а вдруг и вправду, кто подкрадется сзади. И карабин не успеешь вскинуть. Так что штык примкнул, вставил обойму с патронами в магазин. Теперь, как учили, надо пальцем вдавить патроны глубже, чтобы верхний не ушел в ствол, затвор дослать в боевое положение и нажать на спусковой крючок – по щелчку убедиться, что не заряжено твое ружье. Так было и сделал. Вдавил патрон, клацнул затвором. Только вот опыта-то нет, да и мороз обжигает руки. Оказалось, не дожал патрон вглубь, так и дослал его затвором в ствол. Нажал на курок – бах! Пуля, прожужжав, ударила в бетонный фундамент караулки, взвизгнув, ушла в темноту. Сердце заколотилось от неожиданности, но в голове промелькнуло: ладно хоть не в окно пальнул. А там, за окном, слышу, все пришло в движение. Луч света брызнул в снежную круговерть. Кто-то крикнул: «В ружье!» Я в растерянности отступил к изгороди. Дверь хлопнула – тень метнулась в темноте. Это кто-то сходу бросился наземь, по-пластунски отполз за сугроб. Лежит, притаился, только ствол торчит. И тут голос разводящего младшего сержанта Адыкова: «Обходи по задней стене.» Сам Адыков притаился у крыльца. Из-за его спины еще одна тень пронеслась к дощатому сарайчику, затаилась за углом. Адыков называет мою фамилию.
– Ты жив? Где ты?
– Жив, – отвечаю ему.
Но вьюга швырнула мои слова во мглу, потому разводящий не прореагировал на них. Я иду от забора в его направлении.
– Стой! Кто идет? Стой, стрелять буду! – командует он.
– Да я это, – только и успел сказать.
Сзади кто-то ударил в затылок, должно быть, прикладом, подмял под себя. Ворот тулупа смягчил удар, я в сознании, а в меня, оказывается, влип крепыш Шарафутдинов. Ладно хоть не пристрелил.
Адыков подошел. Тот, кто лежал за сугробом, встает, тоже подходит. А за сарайчиком так и не двигается, притаился, подстраховывает: вдруг еще кто поблизости прячется; если что – открыть огонь.
– Зачем стрелял? – спрашивает Адыков.
– Случайно.
Объясняю ему, как все было.
– Эх ты салага, – возмущается командир. – Как теперь будем объясняться?
Вся беда, оказалось, в том, что за использованный патрон надо отчитываться. Наша четвертая эскадрилья считается лучшей в полку. А тут – на тебе, на ровном месте ЧП.
– Где хочешь, там и находи патрон. А карабин почисть, чтоб никаких следов. Вояка.
Лишь наступил день, он сам пошел улаживать незадачу. До вечера так и раздобыл где-то патрон и уже после наряда перед отбоем подошел ко мне.
– С тебя, молодой, как пойдешь в первое увольнение, – бутылку.
О чем разговор. Тут не его одного следовало бы отблагодарить. Шарафутдинову-то в ног бы поклониться. За то, что не погорячился – не пустил пулю в затылок.
Ни в штабе, ни в эскадрильях, даже в нашей, никто не узнал о ночной стрельбе; и в социалистическом соревновании мы не отступили ни на строчку. Пока не случилась оплошность, которую ну никак нельзя было утаить.
СОН ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
Снова в наряд. Мне опять под знамя. Репутацию мою Адыков тогда сберег, так что не доверять мне нет основания. А разводящим уже другой. Средь напарников моих – Зайнуллин. (Кажется, это был он.) Мы вместе были в карантине. Невысокий, кривоногий, в лице строгость; не любит, когда над ним подшучивают, начинает матерно осаживать насмешника. Но его величество случай избрал именно его, чтобы испытать на прочность.
Все шло нормально, своим чередом. Каждый, отстояв на своем посту: на стоянке возле самолетов, у складских помещений, возле знамени – подменившись, в сопровождении разводящего, возвращался в караульное помещение, отдыхал до следующей очереди. Ночь зимняя длинна. Полк спит. Тишина. Лишь иногда доносится переклик петухов да лай собак. Где-то недалеко деревня Поливановка. Туда нет-нет да уйдет кто-нибудь из пообтрепавшихся в местных условиях старослужащих. Кто в магазин, кто в клуб, а кто и к зазнобе, которую успел завести. Уже давно вернулись в казарму кухонные рабочие, наводящие порядок после ужина, и те, кому сегодня выпало чистить картошку. Плац меж высоких сугробов, дорожки меж строениями – пустынны. Только месяц льет на них свой блеклый свет. Дежурный по части уже не появляется на улице. Может, лежит у себя в кабинете при штабе на диване с журналом в руке или дремлет. А на втором этаже возле знамени – Зайнуллин. Он сегодня впервые пришел в наряд сюда. Вначале, не отходя от порученного объекта, видно, рассматривал выкрашенные стены, высокие своды, но вот воровато огляделся, неуверенно, все еще озираясь, подошел к таблицам, плакатам на стене, шевелит губами, читает, что там написано. Вернулся на место, рассматривает знамя внутри футляра. Потрогал стыки.
Ночью каждый так. Любая мелочь привлекает внимание. Долго смотришь на тяжелый кумач, потрогаешь основание защитного корпуса, из угла в угол пройдешься вдоль постамента; оглядишь все вокруг, перечитаешь плакаты о том, какое место отводит наша партия в жизни советского общества армии. Облокотившись о перила ведущей вниз лестницы, посмотришь в размышлении. Вспомнится дом: а как там сейчас? Тоже ночь, спят; может, тебя перед сном вспоминали. Присядешь на ступеньку. На сон клонит, лучше походить. Походишь и опять или облокотишься о стену, или присядешь. Оглянувшись, посмотришь на то, к чему приставлен. Ничего с ним не случится. Стоит себе.
Какая нужда заставила в то раннее, еще не подоспевшее до своего часа зимнее утро приехать сюда одного из штабных офицеров, уж бог весть. Только днем тот офицер будет рассказывать начальнику штаба нашей эскадрильи капитану Максимычеву о случившейся ночной сцене.
«Я вошел в штаб, поздоровался с дежурным по части и по ступенькам – к себе на второй этаж. Посередине второго марша остановился: что за новость, нет караула. Поднялся еще на несколько ступенек. Гляжу, прямо под знаменем лежит солдат. Калачиком так свернулся, ноги согнул в коленях. Ладошки под щекой. Шапка, упавшая с головы, лежит рядом. Карабин прислонен к стене. Подошел к нему, заглянул в лицо – жив. Шевелит губами, пожевал смачно во сне. Я его за плечо – никакой реакции. Тряхнул посильней. А он только ладошки поглубже под щеку вложил, головой, поудобнее устраиваясь, пошевелил и продолжает ночевать. Ты его хоть в знамя заверни и вынеси вместе. Я карабин взял и к себе в кабинет. Сижу, прислушиваюсь. И тут топот сапог по ступенькам – смена идет. Дверь приоткрыл, наблюдаю.
– Ты что?! – остолбенел сержант. – Встать!
Никакой реакции. Гляжу, дал ему носком сапога под зад. Тот вскочил, хлопает глазами, а потом вытянул руки по швам, вроде бы извиняясь.
– Виноват, товарищ сержант.
– Я тебе дам, виноват. А если бы кто-нибудь из офицеров пораньше приехал? Хана нам тогда.
Но гляжу, долго не разбирались. Подменявший встал, а те ушли, и никто про карабин не вспомнил. Пока я размышлял, что с ним делать, слышу топот – бежит, спохватился. Как вкопанный остановился напротив своего сменщика, озирается по сторонам. Догадался пойти по коридору, увидел, дверь ко мне приоткрыта, заглядывает. А ружье-то его у косяка стоит. Можно, говорит, взять? Взял, не дожидаясь моего разрешения, и за плечо. Как будто место его специальное здесь. И бегом вниз. Ну, умельцы!»
Они с нашим начштаба утром посмеялись, решили пригласить Зайнуллина, который все еще был в наряде. Тот явился, доложил по форме: мол, по вашему приказанию прибыл.
– Вот ведь что, товарищ рядовой, – начал разговор начштаба. – Знамя-то ночью украли. Не видел случаем?
Незадачливый караульный моргает, не знает, что сказать.
– Я говорю, знамя ночью украли. Красную тряпку вместо него повесили. Ты не видел, кто это сделал?
Молчит. Виски понемногу начали алеть.
– Всех нас теперь отправят куда подальше. Что скажешь?
Ни слова. Щеки покраснели. Молча смотрит перед собой. Но поднял на капитана глаза, неуверенно спрашивает:
– А купить нельзя?
– Что купить? Знамя? Да где ж ты его купишь? Знамя-то министр обороны вручил полку. Много лет назад. Его нигде не купишь.
– А у нас райцентре, культмаге продавалса.
– У вас там в культмаге пионерское знамя, наверное, продавалось. А здесь не пионерлагерь, чтобы спать в карауле. Так что, сменишься, давай начинай вещи собирать. В дисбат нас с тобой отправят.
Начштаба помолчал, но скоро уже, раздобрев, продолжил:
– Ну ладно. Ты правду скажи: заснул ведь ночью.
Зайнуллин мотает головой.
– Не-е, товарищ капитан.
Но тут штабной офицер вступает в разговор.
– А карабин твой как у меня в кабинете оказался? Ты что, на хранение его туда поставил?
Тут Зайнуллин опустил глаза, стоит молча.
– Ну так что, рядовой? Как нам быть? В дисбат тебя отправить или на гауптвахту? Выбирай сам.
Никуда его не отправили. Эка невидаль – уснул. Знамя целехонько. Даже стрельбы не было. А вот при подведении итогов соцсоревнования-то, видно, нас тогда приспустили на строчку. Хоть ненадолго. А может, и нет. Четвертая АЭ – так в разговоре именуется авиационная эскадрилья – лучшая среди шести эскадрилий в полку.
Я СОЛДАТ, МАМА!
Время проходит быстро. По молодости не замечая, не задумываешься об этом, не веришь в его быстротечность. Вот и прошли три месяца. Ты уже освоился в новом качестве, послал домой свою первую фотографию с подписью: я солдат, мама! Иной уже на первом снимке весь в значках, которые ему одолжил кто-нибудь, но иной уже, и вправду, отмечен командованием полка – стал отличником УБПП. Ко Дню Советской Армии из штаба уже отправлены благодарственные письма на родину. Контора пишет! Дома у меня переполошились, получив из рук почтальона конверт без марки с армейским штампом, незнакомым почерком. Уж не похоронка ли? Оказалось – благодарность моих командиров за воспитание сына – отличника учебной, боевой и политической подготовки. Что ж, хоть и не понимаю, за что отметили командиры меня, но я отработаю этот аванс; пройдет полгода, девятого августа на наш профессиональный праздник – День авиации – со спокойной совестью приму знак «Отличник ВВС». А пока приближается весна. Вот и снег скоро сойдет. Наступило первое апреля. Только проснулись – шутки, розыгрыши. Первым попался на удочку старшина; его отправили в штаб полка, дескать, подполковник Климов срочно вызывает: кого-то из наших изловили в самоволке, так что разомнись – будет тебе накачка спозаранку. А там подполковник растолковал ему:
– Сегодня первое апреля. Мог бы и сам допереть, что розыгрыш. Больно ты мне здесь нужен с утра с твоими самовольщиками. Иди, занимайся делом.
Остановив его в дверях, добавил:
– Всем старшинам передай: после завтрака – построение. Умер министр обороны.
Старшина, конечно же, понимающе хихикнул, подумав: вот ведь, у подполковника и шутки не то что наши. А тот приструнил его:
– Чего хихикаешь, как будто в заднице пощекотали?
Старшина вернулся в казарму, от самого входа заголосил, чтоб по всем эскадрильям слышно было:
– После завтрака – общее построение на плацу. Умер министр обороны Малиновский.
Слышны смех, комментарии, но кто-то возмущается:
– Совсем сдурел старшинка. Нашел чем шутить.
Но на построении, действительно, объявили о смерти Малиновского. Дважды Героя, депутата Верховного Совета, кандидата в члены Политбюро.
Новым министром обороны стал Гречко. Молодец мужик! Первое что сделал – прибавил масла в солдатском рационе: была норма десять граммов в день, а теперь – двадцать; другое – и того радостнее: срок солдатской службы теперь не три года, а два. Здорово! Новая метла метет по-новому. Так что, хоть и смерть министра – человеческое горе, а для нас вот чем обернулась.
Вечером мы, молодежь, скучковались, обсуждаем радостную весть насчет масла да сокращения срока службы. Кто-то уже подсчитал, сколько месяцев осталось до дембеля; кто-то прикинул, сколько килограммов масла съест за это время.
Шарафутдинов склонил слегка голову, не слышит, трет подбородок в задумчивости. Вдруг очнулся.
– А если и Гречка умрет, нам только год сделают служба. И масла сорок граммов дадут.
– Кишки не слипнутся с сорока граммов? – спрашивают его.
– У меня не липнутся, – отвечает он. – Я масла люблю.
Опять задумался и добавил:
– А если и после Гречка другой умрет, нас совсем домой пустят. И масла совсем не нада.
– Их там много, все не умрут разом, – возражают ему. – А чем тебе не нравится служба? Одели, обули, кормят. Вон какие у тебя розовые щеки. Спать уложат, разбудят – никаких забот.
– Нет, домой хочется, – не соглашается Шарафутдинов. – Дома мать, отец. Помогать нада. Колхозе работы многа. Работать нада.
– Успеешь в свой колхоз. Никуда он от тебя не уйдет.
В апреле нас десятерых – десант – забросили на полевой аэродром: готовить казармы, общежития к прибытию двух эскадрилий на лето. Это целый городок в степи недалеко от поселка Горный. Пустующий, мертвый городок. Двухэтажные дома с унылыми окнами, заколоченными дверями; полынь вдоль облупившихся фундаментов; только шумные стайки воробьев на балконных перилах, голуби да галки, вылетающие из чердачных окон. Здесь наш отряд в течение нескольких недель будет заниматься ремонтом. На окраине городка – радиотехнический батальон. В первую ночь по прибытии мы в растерянности будем слушать доносящиеся оттуда звуки боевой тревоги: касается ли она нас? Наутро нам сообщат: локаторы вели объект – спускаемый аппарат с космонавтом Комаровым. Он погиб в ту ночь. Говорят, перепутались стропы парашюта.
Я видел Комарова двумя годами раньше, приезжавшего, уже Героем, в Уфу к родственникам. В оперном театре ошалелая толпа, объяв героя плотной подковой, медленно перемещалась вместе с ним. Так и не пробившись поближе, я придумал-таки: прикинув направление движения, обежал по галерее, спустился по противоположному маршу навстречу процессии – лицом к лицу с космонавтом. Медленно отступаю, освобождая дорогу, не спускаю глаз с него, чтобы запомнить каждую черточку: красивые волосы, красивое доброе лица с ямочкой на подбородке, усталые глаза, которые спокойно, понимающе смотрят на меня. И вот погиб космонавт, первоклассный летчик. Один из таких, какие служат в нашем полку. Они тоже асы в своем деле и тоже погибают. За несколько недель до призыва я читал в журнале про курсанта Шклярука. Правда, он еще не был асом, о каковых рассказ впереди, но тем досадней. Рок тогда указал перстом на него. В воздухе над Саратовом заглох двигатель самолета, Шклярук направил машину на Волгу. Погибшего не нашли, а обломки самолета – укрытую брезентом кучу – нам показывали старослужащие. Меня приписали как раз в то звено в непосредственное подчинение к бывшему механику разбившегося самолета. Сержант Богдан Трусь неохотно, словно все это привычное дело, рассказывал о трагедии. Нет, дело не привычное, но случается.
Скоро уже я служил в штабе эскадрильи вместе с освоившимся здесь еще до меня Замиловым, призванным тоже из Башкирии. Начавшие службу на несколько месяцев раньше нас, прошедшие подготовку в школе младших авиаспециалистов, ребята с северного Кавказа, из Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, из Украины, Молдавии иногда высказывали предположение о происках капитана-штабиста из полка – Хабибуллина, по национальности то ли башкира, то ли татарина. Все теплые места, мол, за земляками закрепил: в хлеборезку, инструментальный склад, писарями в штаб, почтальонами. Это был наивный домысел. На вакансии, после ухода в запас старослужащих, ставили нас, не проходивших специальной подготовки в полковой школе. Не отвлекать же сюда тех, кого учили несколько месяцев конкретным специальностям, связанным с непосредственным обслуживанием самолета.
ГИГАНТЫ В ВОЗДУХЕ
Штабной писарь. Это название идет исстари. И мнение о писарях укоренившееся – бумагомараки. Берут, мол, сюда только за хороший почерк. По части почерка у меня тут получается наоборот. Годы спустя редакционные машинистки как-то привыкали к нему, а вот самому случалось сидеть разбираться в том, что написал час, день тому назад. И если уж быть точнее, в штабе я числился хронометражистом. Писать тоже приходится много, но суть дела – еще до приведения в порядок записей их надо вести во время полетов. Правда, это в основном цифирь, но она, случается, еще может сыграть злую шутку по причине несоответствия нормам почерка.
Руководителем полетов обычно командир нашей эскадрильи майор Сосюра. Ас. Располневший за годы, но в кабину самолета пока вмещается. По характеру – сангвиник. Реакция на все моментальная, оценка ситуации – категорическая. Если что выскажет – не в бровь, а в глаз; но с солдатами не допускает ни оскорблений, ни даже грубости. Он своеручно выстреливает в воздух зеленую ракету. Полеты начались.
– Гигант-один, я двадцать пятый, щитки пятнадцать, разрешите взлет по маршруту, – запрашивает по рации первый выруливший на взлетную полосу.
– Взлетайте.
Один за другим поднимаются в воздух самолеты. По порядку отмечаешь время взлетов. Лишь минутку дашь опережение в записях. Это для подстраховки. Минутка к минутке – с миру по нитке, так и набегут часы, которые недосягаемы в соцсоревновании между эскадрильями. Но вот отлетал самолет положенное время в воздухе, выполнил все фигуры, возвращается.
– Гигант-один, я двадцать пятый, после третьего, шасси выпустил, впереди вижу, разрешите посадку, – вот уже запрашивает тот, кто ушел в небо первым.
– Садитесь, – дает добро руководитель полетов.
Если за штурвалом курсант, самостоятельно, или, пуще того, это его первая посадка, без инструктора в задней кабине, майор внимательно смотрит, как приближается машина к полосе.
– Молодец! Хорошо идешь, – подбадривает он дебютанта. – Молодец! Чуточку подтяни. Еще, еще. Подними нос, подними. Вот так. Вот так. Еще подними.
Мягким, успокаивающим голосом наставляет он птенца. Шасси коснулись земли. Самолет дает такого козла, что тут, глядя со стороны, весь сожмешься, голову втянешь в плечи от страха.
– Вот та-ак, – говорит майор в микрофон и, уже улыбаясь, отложив микрофон, глядя на нас, добавляет: – Уронил, слава богу.
Приземлившийся уже освободил полосу для других, а здесь у меня он еще минутку-то в воздухе побудет. Для надежности.
Шесть часов позади. Полеты завершились. Майор обращается в эфир.
– Гиганты, гиганты, я гигант – один. Кто меня слышит в воздухе?
Эфир молчит. Майор еще раз повторяет, объявляет о конце полетов, кладет микрофон, встает из кресла. Подошел ко мне. Я тороплюсь, собираю свое хозяйство. Но его наметанный глаз обнаружил что-то в моих записях.
– А что это? Тридцать четвертый полчаса назад сел, а у тебя он все в воздухе.
Забыл я посадить Евреинова. Не беда. Долго ли. Он по маршруту минут двадцать летал, ну пусть двадцать две. Туда-сюда минутку – мелочь. Майор выходит из КП, выстреливает красную ракету. Отбой. Все в автобус. Теперь мне предстоит еще в штабе привести все записи в порядок, подбить бабки. Спать уйдешь за полночь, и ладно если завтра не в первую смену, не в четыре часа утра вставать. Капитан Максимычев по возвращении нас зайдет в писарскую комнату.
– Ну как? Полетал?
– Так точно, товарищ капитан, полетал.
– Ты смотри у меня, лишнего не увлекайся.
Начштаба первой АЭ, той, что вместе с нами перебазировалась на полевой аэродром, нет-нет да тоже заглянет к нам.
– Ты, наверное, приписываешь минуты своим?
– Ну что вы, товарищ майор! Как можно! А керосин-то из баков на землю сливать что ли?
Он молчит. То ли невдомек, а может, понимает. Здесь все прочно отлажено. Мое дело – «летать», а списывать керосин – это уж по части начштаба. Уже будучи газетчиком, я повсеместно встречался с такой практикой в мирной жизни. В колхозе молочный гурт, например, триста коров. Посмотреть на них – так себе, худосочные, разномастные. Какой уж разговор о породности. А в соцсоревновании по надоям хозяйство в первых рядах по району. Надой в группе иной доярки за год – по три тысячи литров в среднем от коровы. От той, у которой вымя не больше, чем у козы. Получается, приписывают? А при сдаче продукции на молокозавод тогда как же получается? Там ведь обнаружится. Это тебе не самолет, не минуты, которые в стакане на стол не подавать. Как-то, оставшись на ферме один, для ради интереса пересчитал коров в группе, о которой готовил отчет. Оказалось, буренушек здесь не двадцать, как мне говорили, а двадцать пять. И по колхозу таких «подпольных» животных иногда под сотню наберется. Ну да не беда. Лишь бы молоко в магазине не переводилось. И здесь, в летном полку, та моя цифирь не в ущерб делу. Нашим соколам те минуты – пустяк. Только бы не были они роковыми.
Тогда, после полетов, начштаба, посмотрев мои с подведенными итогами бумаги, зашел ко мне.
– Ты чего здесь отмочил? – строго посмотрел он на меня. – Где ты видел, чтобы самолет под тринадцатым номером был? С каких пор Пузыревский на тринадцатом летает?
Это был как раз тот случай с моим почерком. Не разобравшись в своих каракулях, я перенес из черновика, где стоял, может, сорок третий номер самолета, переврав на тринадцатый. Нет в авиации такого номера на машинах. Как нет сто тринадцатого, двести тринадцатого. Не берусь утверждать насчет суеверности летчиков и курсантов, но доводилось видеть то медальон у иного начинающего, то кто-то планшет носит только через правое плечо. А тот тринадцатый номер, на который в своих бумагах я посадил капитана Пузыревского, штурмана нашей эскадрильи, словно по моей вине обернулся бедой: через неделю во время ночных полетов наш штурман разбился. И опять, даже хоронить нечего. Всего, что собрали на месте гибели, – со спичечный коробок кусочков обгоревшей кожи с волосами.
БАТЯНЯ
Он был здоровый, словно тот сохатый – лесной красавец, выросший средь дремучей дубравы, в стороне от людского шума. По возрасту ему давно уже можно было в отставку. Но он продолжал летать. Молодые летчики промеж собой не зло, больше с уважением, посмеивались: мол, когда в полете сверяет маршрут по планшету, надевает на нос очки. Заместитель командира полка, здесь, на полевом аэродроме, старший командир, подполковник Суравешкин – уважаемый нами, почитаемый человек-легенда. О нем рассказывали, что давно бы ему быть и командиром полка, а может, и выше, но всего семь классов образования имеет наш батяня. Летчиком стал в годы войны. Дважды его представляли к Герою, но в связи с каким-то пустяком он так и не получил высший знак доблести. Один случай был таков.
Перед полком поставили боевую задачу – разбомбить переправу, через которую шли силы противника вперед. Не один из соколов, боевых товарищей молодого лейтенанта, сложил свои крылья под шквальным зенитным огнем на подлете к объекту. На задание послали очередного – Суравешкина. Он, кажется, деревенский парень. Уравновешенный. Если смекалка – то на глаз, но чтоб надежно. Рассчитав километры, горючее в баках, он далеко с фланга обошел казавшуюся незыблемой переправу противника, с тыла разбомбил ее. К тому времени и звезд на фюзеляже его ястребка, по числу выигранных боев, было достаточно. Заслуживает еще одну – на гимнастерку. Но на фюзеляже нарисовать звезду недолго, а тут сколько бумаг надо оформить. Награду получить – это тебе не фрица бить. Некогда с бумагами-то, а фрицы наседают. Не дают передышки. Однажды прорвались они, с черными крестами, размалеванные в драконов, с воздуха к аэродрому, так что врасплох застали. Спешно пошел на взлет молодой летчик. Но не дал ему набрать высоту один из тех стервятников, что кружили над вспыхивающими на летном поле машинами. Атаковал на взлете. Однако вывернулся паренек и сам сел на хвост фрицу, который не пожелал было схватки на равных. Сбитый оказался асом, в большом чине. Ценного языка доставили в землянку. А ему, асу, видишь ли, захотелось увидеть, кто это смог одолеть его. Вызвали Суравешкина: посмотреть, мол, на тебя желают. Пришел паренек. Ас не верит. Вы, мол, этого… Сказал, в общем, что-то некрасивое. Хоть и уравновешенным был наш паренек, но не выдержал, да и в назидание, чтоб немчура русский язык поболе, чем в объеме бранных слов, в следующий раз изучал, стукнул его в лоб. То ли ас был хлипким в теле, то ли Суравешкин все-таки погорячился здесь, на земле, осерчав еще за то, что не дали отдохнуть после боя, по пустяку вызвали. Только пленный испустил дух. Скандал! Ценнейшего языка уничтожил молокосос. Может, даже специально, во зло командованию, за то, что Героя долго не дают. Какой тут Герой. Скажи спасибо, если смерш не займется тобой. Вредитель!
От кого стало известно солдатам о боевом прошлом батяни – трудно представить, потому что трудно представить самого его словоохотливым, рассказывающим о себе. Нам он казался замкнутым, даже вроде бы угрюмым, неулыбчивым, словно чем-то недоволен. Но мне запомнилось другое, пустяковый случай – так себе; недоумеваю, почему он остался в памяти; видно, все-таки это многозначительная деталь в образе, воспроизводимом мною.
Я шел рано утром по городку по пояс оголенный, умывшись где-то, не захотев плескаться в общем умывальнике в воде, которую не назовешь ни теплой, ни холодной. Издали увидел: навстречу идет батяня, в форме, все как положено. В голове мелькнула тревожная мысль: сейчас остановит, отчитает за то, что хожу по городку в своевольном виде. На подходе поприветствовал его: «Здравия желаю, товарищ подполковник!» Рад бы, но не козырнешь ему без головного убора, руки по швам не вытянешь, как это, помнится, делал Рыбаков. Но подполковник, словно я, а не он командир, выпрямился, на ходу приставил руку к козырьку: «Здравствуйте, товарищ солдат!» Это был редкий для меня случай бессловесного, без назиданий, воспитания нашего брата. Мне запомнился этот воспитатель с образованием, заложенным природой, родителями, семью классами и пятьюдесятью годами жизни.
Однажды в субботу те, кому было разрешено увольнение, отправились в поселок Горный. Вечером здесь танцы на летней площадке. Видно, наши ребята еще засветло употребили и уже на танцах вступили в потасовку с местными орлами. Должно быть, из-за девчат. Прибыл наряд милиции – не под силу, только под ногами у развернувшейся вольницы мешаются стражи. Кто-то сообщил Суравешкину о том, что быть конфликту с местными властями. О следующих подробностях рассказывал нам «старик» Ломков – сибиряк, некрупный, но плотный парень, вспыльчивый по случаю; перед ним молодежь все больше помалкивала.
«Сошлись мы врукопашную. Но те, глядим, за штакетины схватились; а мы ремни сняли, пряжки только сверкают под фонарями. Девчата в кучу сбились, а тут треск идет. Их-то больше, но крепко мы стояли. Подвернется, и лягашу перепадает. На меня трое шкетов насели; один об мою руку штакетину сломал, но и я ему пряжкой на лбу звезду напечатал. И тут гляжу, наш полковой Газ-66 подъехал, из кабины Суравешкин выпрыгнул и в кучу. Первого же меня схватил за плечи. Оторвал от земли, трясет: «Ты что делаешь? А ну-ка марш в кабину!» Синеблузые-то рты пораскрывали; и местные телята, вижу, остывать начали, но не угомонились еще. Так он чуть ли не каждого из наших встряхнул; на что уж Вовка Элли, не шестьдесят кило в нем, и у того, вижу, сапоги в воздухе болтаются. Ни гауптвахтой, ничем не угрожал. «Аники-воины!» – только и сказал».
В ОБОЙМЕ
Это уже в новейшую бытность рассказывал мне один знакомый, как взяли его когда-то в руководящие работники комсомола, а потом инструктором райкома партии; и так дальше, остался, как он выразился, в обойме номенклатурной. Потом представители этих «обойм» в ходе перемен начала 90-х годов благополучно вписались в новую власть, лишь поменяв свои ярлыки.
Моя работа в штабе была не сахар, как могло показаться. Практически не имея свободного времени, приходилось, встав задолго до общего подъема, то мотаться с чемоданом с хронометражистским имуществом, то засиживаться в штабе за полночь, приводя в порядок скопившееся за время полетов. Работалось хоть и напряженно, но легко, потому что было интересно. Упоминавшийся знак «Отличник ВВС» вручили мне, видно, не как приближенному. И более того, обмолвился как-то начштаба: смотри, мол, ты у меня, как бы старшиной эскадрильи не стал скоро. Это, считай, ты уже в «обойме». Только вот попасть в нее, быть может, дело случая, а чтобы удержаться – надо иметь определенные данные. Если ты, как гоголевский Ноздрев, человек исторический, потому что влипаешь во всякие истории, – не обессудь, не застрахует тебя «обойма» от искуса, ниспосланного той смешливой кокеткой, с которой идти бы спокойно под ручку, – судьбой. Но прочь пространные рассуждения. Вернемся в штаб и явим сюда одного из моих героев, с которым уже знакомились под знаменем полка.
Зайнуллина назначили почтальоном. Были ли у него помимо еще какие обязанности, но, помнится, газеты, посылки носил нам он. Работа, как говорится, не пыльная, и трудно в ней обнаружить конфликтную ситуацию, если не считать таковой привычку – перед вручением письма хлестнуть им по носу возрадовавшегося абонента или заставить его сплясать. Часто ли почтальон сам получал письма – неизвестно, только когда вручал их нам, особенно башкирцам, лицо его словно озарялось. Может, тосковал паренек по родине. В тот день Зайнуллин принес почту в штаб, где капитан Максимычев случайно увидел средь писем сопроводительный бланк к посылке, которую прислала мать Валерке Овчинникову. В нем она одним кратким предложением, на которое трудно не обратить внимания, просила сына: «Грелку пришли обратно». Вот уж поистине: у бабы волос долог, да ум короток. Впрочем, что уж упрекать родительницу, которая, конечно же, не думала о возможном контроле почтовых отправлений. А ведь контролирующий сразу поймет: в грелке мать сыну не грудного молока прислала. Капитан тут же приказал Зайнуллину занести посылку в писарскую и вызвать Овчинникова, чтобы тот в назидание своим товарищам вылил у них на глазах содержимое грелки. Овчинников явился, стал вскрывать ящичек, но тщетно; фанерная крышка, видно, была приколочена женщиной – постаралась мамаша. Нервничая, он бросил все и ушел: не нужна, мол, мне грелка. А капитан уехал куда-то по делам и задержался. Вот тогда-то хозяин посылки вернулся с товарищами и с котелком. Тут нет смысла живописать дальнейшее – наше вступление в сговор, о котором, если уж хочется тебе оставаться при имидже верного штабного служаки, можно выразиться помягче: пошел навстречу. Но коварной оказалась в этот раз упоминавшаяся кокетка. Грелки в посылке не было. Вместо нее лежала бутылка. Напутала что-то мамаша. Однако чего греха таить: вкусна кавказская чача. А бутылку Овчинников заполнил водой.
Вечером капитан вызвал-таки его и уже в самом начале экзекуции заподозрил неладное.
– Что-то крышка у нашей посылки легко открылась, – отметил он, наблюдая за руками Овчинникова. – То штыком никак не мог отодрать, а тут…
А когда увидел в ящичке бутылку, обвел нас, молчавших, суровым взглядом.
– Где грелка?
Не объяснять ведь ему: не было ее здесь. И пошатнулся бы авторитет штабного служаки. Но тут к ящичку подошел старший лейтенант, начальник радиотехнической службы, к которой относился Овчинников. Он взял бутылку, выдернул пробку, понюхал горлышко, глянул мельком на нас.
– А ну-ка, дайте посуду.
Направился к столу, взял стакан, налил до половины, интеллигентно отставив в сторону мизинец, выпил. Прошло несколько мгновений, он, спохватившись, сморщился, стал ладошкой махать у рта.
– Хоть кусочек хлеба дали бы...
Снова посмотрел на нас, на Овчинникова, а потом уже на Максимычева.
– Первак, товарищ капитан. Ну что, может, оставим на вечер?
– Выливай, выливай! – замахал руками начштаба. – Скажешь тоже.
Почувствовал ли он подвох в этом эпизоде, нельзя утверждать наверно. Но командир эскадрильи однажды при случае подметил, загадочно улыбаясь, насчет своего хронометражиста: «Он у нас непьющий.» Типун бы тебе на язык, товарищ майор. Этот хваленый хронометражист зимой, когда полеты завершились, заслуженно, в числе первых уехав в отпуск, через положенный срок вернулся в часть с короткой пометкой в отпускном листе: «Задерживался на Уфимской гарнизонной гауптвахте до полного вытрезвления.» То, что не трезвенник, – истинно: не белая ворона. Между прочим, ученые мужи промеж антиалкогольной пропаганды нет-нет да выскажутся: умеренная стопка перед едой – только на пользу. Но это тем, у кого тормоза в порядке. А случай, повлекший приписку в отпускном листке, – опять же проделки все той неверной кокетки.
Соотнося тему «обоймы» с эпизодом, который не смог утаить от читателя, напомню, что много лет спустя, один из наших возросших из «обоймы» до наивысшего поста в государстве, не заглянув в святцы, повелел корчевать по всей стране виноградники, чтобы искоренить зеленого змия. Наломали мы тогда дров в убийственных очередях перед оконцами винно-водочных ларьков! Но вступил в правление, отодвинув именитого трезвенника на задний план, его, побывавший в опале, однообойменник. И потекли реки спиртного. Нет, речь тут не о том, чтобы хоть ручеек от той благодати направить в армию. Тут и без того разобраться бы.
МАХМУТ-БЕЙ
Позже я пытался представить, а как поступил бы на моем месте вот хотя бы он – Махмут-бей. Допустил бы, чтоб в противовес начальству «пойти навстречу»? Этот парень, наш башкирец, как-то незаметно вошел в мою жизнь. Галеев Махмут Мухамет-Бакиевич. Он казался мне вытесанным из каменной глыбы – частицы нашего седого старика Урала. Крупный, из одних мышц – кряж; крепкие, чуть ли не до колен руки; он не размахивает ими на ходу, словно боится задеть кого-нибудь. Не могу представить, чтобы он пустил их в ход, и не только от того, что никто не решится спровоцировать его на драку. Первый раз я обратил на него внимание на стоянке в ураганный февральский день. Разыгравшаяся непогода шквальным ветром крутила снежные столбы между притаившимися вдоль поседевшей бетонной полосы самолетами. Мы, салажня, задраив на себе все, что можно, плотно стянув клапана шапок под подбородками, рукавицами вытирая с рдяных лиц тающие на них хлопья снега, крепили растяжки под плоскостями, мастерили узлы на стропах бьющихся по ветру чехлов. А этот парень словно не замечал разгулявшейся бури. Клапана завязаны поверх шапки, ворот куртки расстегнут. Талые капельки текут по крепким скулам, снежная пыль смерзлась корочкой на ушах. Потом, уже летом, даже в пасмурные, неожиданно похолодавшие дни его можно было видеть под холодным душем. Он наслаждался свежестью, потирая под струйками воды упругие мышцы.
Его, кажется, заинтересовало такое обращение к нему (Махмут-бей – это герой повести про мамлюков, отважный воин, выросший до тысяцкого в гвардии египетского султана). Он подошел как-то ко мне, обратив внимание на мелодию, которую я насвистывал.
– Откуда ты это знаешь?
Разговорились. Оказывается, он успел уже до призыва окончить педучилище, где, по его мнению, им давали разностороннюю подготовку не только по школьной методике, но и по музыке, живописи. Со мной разговаривал, чувствовалось, уже сформировавшийся во взглядах, убеждениях молодой человек. Махмут-бей был неровня нам – беззаботным юнцам, которым одинаково хоть здесь, в армии, хоть дома – лишь бы не обременять себя. На фотографии, которую он носил в военном билете, рядом с ним сидела красивая девушка: спокойный взгляд строгих глаз, слегка склоненная к широкоплечему с ровной стрижкой парню голова – Бану. Он был уже женат.
Вечерами, когда у солдата свободное время, Махмут-бей уходил за казарму, где на вытоптанной площадке средь лебеды у него лежала самодельная штанга. В ту ночь накануне запомнившегося дня я оказался в тесной кочегарке, где компания в стороне от глаз дежурного по части резалась в очко. Мне повезло: все сигареты, на которые делались ставки, перекочевали ко мне в карманы. Штук триста. При пустом солдатском кошельке это несметное богатство. А назавтра вечером мы, земляки-башкирцы, покуривая, с комментариями наблюдали, как словно перекатывались голыши бицепсы Махмут-бея, который возился со своей многопудовой стальной игрушкой. Взяла меня тогда зависть. Раздал я свое богатство охочим до синего дыма. Мы, несколько человек, взялись с тех пор за свою мускулатуру. К случаю нашлись гантели, гиря. Молодое тело отзывчиво на тренировки: прошло несколько месяцев – мы разве что только не крестились двухпудовкой.
Физическая крепость укрепляет в человеке рассудок, особенно если есть тому пример. Замечал я у Махмут-бея и другие, кроме железок, интересы, не бросающиеся особо в глаза. То под мышкой у него можно было увидеть книгу, заложенную тетрадкой, то, глядишь, сидит он где-нибудь в уголке, что-то выписывает из журнала. Подойдешь к нему, он спокойно смотрит. А как-то по просьбе: не найдется ли что-нибудь почитать – протянул, чуть улыбаясь, самоучитель немецкого языка.
– Хочешь? Можешь попользоваться. Только потом вернешь. А я кое-что уже могу сказать тебе по-немецки.
– Да зачем мне это? Что я – Щукарь, иностранными словами забавляться?
Он хохотнул,
– Ну остер ты на язык, – и добавил: – Не знаю. А после армии не собираешься разве куда-нибудь поступать?
Он никогда не навязывал своих убеждений. Видя легкомысленный поступок, мог, улыбаясь, лишь качнуть головой: экий, мол, ты. Но если этот поступок был уж слишком, то не оставался безучастным. "Ну что ты? – строго говорил, сделав короткий жест ладонью. – Ведь уже не мальчишка".
Командиры заметили его. Здесь в полку приняли кандидатом в партию, что в те времена было значительным фактом, назначили старшиной эскадрильи. Но это уже после моего отъезда в составе сводного подразделения на строительство военного аэродрома в сальских степях, как раз в те края, где обитал упоминавшийся шолоховский герой – дед Щукарь. Не знаю, любили ли своего старшину подчиненные, но то, что уважали, – не сомневаюсь. Не за силу его физическую.
Я благодарен случаю за встречу с этим человеком. Не за то, что он научил меня чему-нибудь, и даже наоборот, – не учил, но оставил глубокий след, заставил задуматься, поверить в свои силы, в этот мир, взбалмошный, но интересный.
ПОТОМКИ ЦЕЗАРЕЙ
Этот мир очень хрупкий. Человек в нем, хоть и возрос разумом, покорил природу и уже подался ввысь, в ту, где бесконечная Вселенная манит вечными загадками, но не растратил он вскормленные той природой древние инстинкты. Ум его, ставшего жизнелюбивым, нашел цивилизованную форму удовлетворения этих инстинктов.
Закончив солдатские дела, мы битком набивались в красный уголок, перед телевизором, болея, радуясь за наших соотечественников, завоевывающих медали на Олимпийских Играх в Мехико. Самые сильные на земле – наши парни. Наш Юрий Власов на вытянутой руке легко нес тяжелый кумач сборной при открытии Игр. Леонид Жаботинский – при закрытии.
Но неутолимы те инстинкты в своей первозданной форме – войнах. Американские летчики в те дни жгли напалмом мирных людей во Вьетнаме. Далеко забросили интересы великой державы своих соколов, чьим косточкам гнить в чужой земле. Но мы-то, понятно, сильней американцев, доказали это. Наша армия только пока спит при знаменах, балуется в безобидных рукопашных. Пусть только кто сунется.
Но начеку всегда стальные птицы,
Хотя спокоен их суровый лик,
Они стрелой готовы в воздух взвиться
И на врага бесстрашно устремиться,
Чтоб сокрушить его стремленья вмиг.
Старший лейтенант техник эскадрильи долго стоял перед стенгазетой, выпущенной нами, и удивлялся солдатскому мастерству в стихосложении.
– Как это у тебя так здорово получается? – спрашивал он, с уважением глядя на автора стиха. При военной своей внешности, при звездах на погонах, техник был мирным человеком и мог бы работать на любом машиностроительном заводе или обслуживать самолеты, везущие мирные грузы, и никак не хотел понять творившегося на земле.
– Чего не поделили? Опять стрельба, опять война, – говорил он по поводу стычки на Даманском полуострове с китайцами, теми, с которыми мы недавно были «братьями на век», но почему-то разошлись во мнении насчет нашего общего социализма. Как рассказывали нам на политзанятиях, эти китайцы понастроили по берегу пограничной реки сортиры без тыльных стенок в нашу советскую сторону. Вот, мол, вам наши задницы на ваш неправильный социализм. Но мы находчивые на сей счет – взяли да установили напротив, в тыл тем сортирам, портреты Мао Цзэ-Дуна – их вождя. Словно ветром сдуло те строеньица. Но ладно бы. Началась, однако, стрельба, и немало полегло сколько наших, столько и тех, кого великий кормчий готов был поизредить в горниле мировой войны, чтобы оставшимся, свободней жилось. Наши политологи-бормотологи, кажется, уже тогда иронизировали над идеей, должно быть, сдуревшего правителя-азиата, который, беседуя с Хрущевым о возможности очередной мировой бойни, в принципе допускал гибель трети или даже половины населения Китая, СССР и других стран. Зато, мол, построим на развалинах империализма коммунистическую цивилизацию. Дескать, революционеры должны уметь приносить жертвы ради победы коммунизма. Можно подумать, невдомек им, бормотологам, что класть на плаху истории тысячи жизней мы и сами не меньшие мастера.
А в социалистической системе в те годы проросли новые неурядицы. В кордоне, который ограждал российский социализм от все загнивающего, но никак не гниющего капитализма, наметилась брешь. Наши единомышленники в Чехословакии увлеклись в самодеятельности. Демократизацию общества затеять хотели. Забыли, что самая что ни на есть демократия – только у нас. И свобода слова тоже. Пусть не похваляются американцы, что любой из них может встать напротив Белого дома и крикнуть: долой президента! У нас тоже любой может, встав на Красной площади, крикнуть: долой его, долой!
Скрежет гусениц армий тогдашнего Варшавского договора порушил мирную жизнь в Чехословакии. Немало безвинных людей погибло тогда. Вот вам демократизация, вот вам рыночная экономика и свобода слова. Потянулись военные караваны туда, к западной границе системы. Ночами напролет гудели над нами военно-транспортные самолеты, направлявшиеся в сторону взроптавшей республики. Гудели под покровом темноты.
А у нас в части была объявлена боевая готовность номер три. Офицеры уже ждали приказ – перебраться от семей в общежития. Потому что недалеко от внешней границы Чехословакии капиталисты, надеясь на развал социалистической системы, проводили военные маневры, чтобы в случае чего вступить в страну, отколовшуюся от надоевшего им содружества; кажется, назывались они «Черный дракон» или что-тo в этом роде. А для солдат третья готовность – противогазы за плечом, срочно вырытые на окраине гарнизона щели. И еще – политбеседы. О том, что войны бывают справедливые и несправедливые. Та, что американцы затеяли во Вьетнаме, понятно, – несправедливая, а те, в которых мы погрязали, – они все справедливые; и надо быть готовым для обретения чести – отдать жизнь за Родину. Кроме противогазов, ввели новинку во внутренней службе: у дневальных отобрали солдатские ножи и вручили им карабины, но без патронов, подальше от греха, чтоб не перестреляли друг друга в баловстве. Только вот в случае необходимости ножом я хоть как-нибудь постарался бы отбиться от противника, а карабин – не обучены мы ни штыковому бою, ни прикладом не умеем действовать. Это – так, спектакль, маскарад, игра в войну наших командиров, большинство из которых только внешне воины. Это психоз для поддержания духа.
Но скоро уже несколько человек из нашего полка в составе сводного подразделения уехали строить новый аэродром ближе к южным рубежам необъятной родины. Там нас встретил новый командир – подполковник Попов. После первого же знакомства на построении, вечером, когда мы, готовясь к отбою, стояли, перекуривая на улице у входа в казарму, он, проходя мимо, нашел-таки повод показать строгость. Увидев у меня расстегнутую верхнюю пуговицу на гимнастерке, насупил брови: мол, я знаю твои уфимские дела. Это насчет случая с краткой припиской в отпускном листе. Здесь, мол, тебе не пройдут подобные номера. Какой строгий! Так страшно стало! А то можно бы объяснить подполковнику, что случай тот – пустяк, так себе – случай. И если уж чем-то характерен он, то больше волей к жизни юнца, который, правда, в мертвецком состоянии, после встречи с друзьями, пролежал на тридцатишестиградусном морозе, но уже околевающий, больше подсознательно, нашел силы подняться на ноги и, высадив дверь дома, оказавшегося близ, перепугав хозяев, спасся в тепле.
А та бетонная взлетно-посадочная полоса, которую мы строили под водительством подполковника, она была очень удобна: воспротивившись чрезмерной в отношении к «старикам» строгости нового командира, мы завели строгий порядок – сокращать по этой полосе путь, самовольно посещая прилегающую мирную жизнь. Если б знал тот подполковник, какие гостеприимные миряне жили в окрестных станицах. Какие красавицы и как ласковы донские казачки. Как покладисты были с солдатами сторожа тех окрестных садов, каковых не встретишь у нас на Урале, и сколько диковинно крупных яблок отправили мы в посылках домой. А как чиста и живительна та влага, которой потчевали нас сердобольные миряне.
Уезжая из армии, где остался подполковник со своими заботами у той бетонной полосы, домой, навсегда, ночью через окно вагона я смотрел на гигантскую фигуру на Мамаевом кургане. За много верст виден уперевший небеса меч в руке застывшей в граните женщины. Другая ее рука в призывном жесте повисла в воздухе. Я не был на том кургане, но знаю, есть там другая скульптура – скорбящая по сыну мать. Ее не увидишь издалека. Быть может, сколько-то странная мысль зародилась тогда в моей голове: установить бы где-нибудь на видном месте такие же большие изваяния всяким гитлерам и прочим потомкам цезарей, которые сильны были в искусстве развязывания войн, – крестным отцам той воинственной женщины с мечом, призывающей войной ответить на войну. Установить как напоминание об истоках зла. Нашлось бы там местечко для памятников и нашему отцу народов, и тем, кто обнаружил жизненные интересы во Вьетнаме. Да и не только.
Пройдет несколько лет. Видно, с того аэродрома, который мы строили, поднимутся самолеты и возьмут курс туда, где начальники нашей страны обнаружат вдруг жизненные интересы социалистической системы, – на Афганистан. И, возможно, на тот же аэродром возвращали груз в цинковых гробах – останки сыновей российских. Их матерей олицетворяет та, невидимая издалека, скорбящая на Мамаевом кургане. Но пройдут годы, спохватятся наследники цезарей, признают никчемность афганской войны. Только неистребим варварский инстинкт в их крепких головах. Едва убравшись из Афганистана, новый объект для упражнений найдут они – Чечню. Ату ее! И новые герои родятся в новой войне: Дудаев, Масхадов, Басаев, наши российские солдаты – потомки тех, кто несколько веков назад, как чесотка, утвердились на Кавказе. Утвердились, страдая многовековым болезненным стремлением приращивать территории, хотя спокон и без того не в состоянии были распорядиться по-хозяйски имеющимися-то неизмеримыми пространствами и богатствами. И снова спохватятся обличаемые общественным мнением воители. Да и не до войны, казалось бы; разруха – плод очередных реформ – тех, что решили провести отцы отечества по-кавалеристски, с наскока, – ввергла страну в пучину очередных бед. Но вот, уж и привыкнув к тем "реформам", переживая беды как само собой разумеющееся, мы слышим настроения верховодов, которым надоели почему-то уж очень долго не решающиеся проблемы своей страны, а тут явилась возможность поупражняться во внешней политике. И заверещала скудоумная рать, барахтающаяся в мутной воде близ трона, в котором самодовольно развалился, непонятно, то ли предводитель, то ли жертва событий новейшего времени: подтянуть, повернуть ракеты против НАТО! не дать в обиду братьев славян! там наши интересы! Это они посчет событий в Косово. Того и гляди – снова пойдем на героизм. И несть конца! К Чечне мы, кажется, уже привыкли – к этой так и не прекращенной войне. Начавшему ее правителю недосуг было порешить вопрос: были другие более важные, понимаешь, проблемы – удержаться у власти, не вывалиться по пьяни из трона. А его преемник-назначенец – с молоком матери впитавший осознание непоколебимости величия этой азиатской страны, кивая в сторону безмолвной народной массы: мол, «предположим, мы с народом ошибаемся» – еще на подступах к трону пообещал «мочить в сортирах» непокорных горцев. У моих братьев-башкир из южного Зауралья есть пословица. Грубоватая, но без мата. Потому приведу ее. «Уж лучше задница, которая знает свое дело, чем язык, который не ведает, что мелет».
БОЛЬ МОЯ – ЧЕЧНЯ
Когда в предвкушении легкой прогулки по зазывающим тропинкам безмятежного прошлого я вступил в эту повесть, то не думал обременять ее посвящением двум ближайшим мне созидателям нашего рода. Он испокон отличался замечательным миролюбием, начиная с самого далекого, оставшегося в присной памяти пращура Абкадыра. Сыновья, внуки и правнуки его, а потом и мои отец с сыном потомственно миролюбивы.
Дед мой Кинья на заре прошлого столетия в годы жестоких событий – экспроприаций, братоубийств – дожил отмеренный ему природой, а не случаем век, потому что не ответил, как тысячи его современников, войной на войну. Он первым в округе отдал табун лошадей и все нажитое так называемым экспроприаторам экспроприаторов. Односельчане уберегли богатого соплеменника от высылки и репрессий, памятуя не только добрые дела, но и мирный нрав его. Таким образом, все поколения нашего рода в обозримых временных рамках – не воины. Это факт. И не мне бы прославлять героев или изобличать поджигателей. Так и шло поначалу
Все повествование – и это может отметить сам читатель – вылилось в легкий жанр, не таящий ни глубокомыслия, ни дьявольского подвоха, пока книжица не стала иссякать своими последними страницами. Вот тут-то, как черт из табакерки, выскочил солдат – не мой однополчанин, а воин, герой, защитник или захватчик. А потом – как-то само собой – краткие штрихи: Вьетнам, Афган, Чечня. Они определили последний авторский ракурс.
Как Вьетнам, так и Афган – одинаково бесславное прошлое самых крупных держав планеты. Чечня. Вот она сегодняшняя героика – сегодняшняя боль.
Когда началась эта война, довелось мне ехать в поезде с молоденькой женщиной-чеченкой. Мы неторопливо, не перебивая, выслушивая друг друга, разговаривали о начавших свое движение, как несущий смерть камнепад, событиях. Я удивился тогда мудрости еще не вступившей даже в зрелый возраст представительницы названного так слабого пола. Она, чувствовалось, не была сторонницей генерала Дудаева, но и не поддерживала реакцию пресловутого центра: «Зря они так делают. Совсем не знают чеченский народ. Наши мужчины не боятся пуль и танков. Не боятся смерти. И женщины не боятся. Даже имам Шамиль,уйдя с годами от войны, не учил нас покорности. Ельцин и его генералы никогда не победят чеченца. Убить могут. Терек потечет вверх по ущелью, если горцы покорятся. Ельцин когда-нибудь захочет остановить войну…»
Тогда я собрался съездить на Северный Кавказ. Уже начитавшись о тех событиях, с набитой оскоминой от телесюжетов, большинство из которых испечены по рецепту того еврея из анекдота: «Сколько будет два плюс два? – А вам сколько надо?». Но поездка сорвалась по непредвиденным семейным обстоятельствам, к тому же и аргументы противников затеи звучали довольно убедительно: слишком опасно. Довелось тогда побывать лишь на подступах к местам «боевой нашей славы».
Поезд Свердловск – Симферополь, словно ответственный за все проблемы людей, прибегнувших к его услугам, пунктуально мчал от станции к станции. Но в сложившейся из двух соседних купе компании, в которой как попутчик был и я, казалось, эти проблемы сиюминутные. Взрачный, ладно скроенный старший лейтенант с десантским знаком на груди, в сопровождении такого же солдата-крепыша, молодая женщина с подвижным, как ртутный шарик, малышом, цыган Колька со своей совсем юной невестой Анжелой, другие парни, девчонки из Кабарды, Осетии, Абхазии видели только одну проблему – как всем вместе разместиться за столиком, который ломился от снеди. Еще больше было здесь продукта, не менее актуального, чем еда, чтоб не утомительной показалась дорога, почему проводник вагона, проходя мимо, старался не смотреть на обилие, чтобы не смущать замечанием сложившееся братство. Компания, что называется, гудела. Нельзя было притушить такую жизнерадостную атмосферу никаким серьезным разговором. В центре внимания всегда оказывался то карапуз, который без устали угощаясь тем, что предлагали ему, вдруг начинал звать маму в дальний конец вагона, чтобы там высказать о своем наболевшем, то солдат, малоречивый и стеснительный, почему и досаждали ему девчата, заалевшему в лице от чрезмерного внимания. И даже когда старший лейтенант по какому-то поводу стал изъясняться на предмет бренности армейского бытия, особенно там, куда он возвращался после командировки, молодежь не отреагировала должным образом. Цыган Колька тронул струны своей старой гитары, и, как тысячи искорок ухнут из потревоженного костра, приглушила разговор стозвукая мелодия. Возлюбленная его, Анжела, в течение дня несколько раз менявшая свой наряд, покорная даже взгляду своего нареченного, как тень присутствовавшая при нем, тихо запела. Компания в такт песне стала прихлопывать, притопывать, а цыганка, подобрав край шифоновой юбки, вышла в проход, явив на суд наш и пассажиров соседних купе определенно лучшее, что было исполнено в эти часы веселья. Колька не отводил взгляда от окна, словно там черпая вдохновение, и лишь рывком локтя принуждал гриф гитары привносить плач в мелодию.
– А ты говоришь – чеченская война, – отложив гитару, присел рядом со старшим лейтенантом Колька. – Я цыган. Мой отец, дед и все, кто раньше, были свободными, как ветер. Времена поменялись – отец осел. Теперь нефтяником в Нижневартовске. А я свободен. Вот невесту возил к нему, чтобы благословил нас. Он уже как русский стал. А я цыган. Никто не отберет у меня мое звание и не повернет в другую веру. Чеченцев я знаю. Есть у меня друзья. Мы братья характерами.
– Извини, Никола, – прервал его старший лейтенант. – Наверно, я не к месту о войне. Просто я солдат. Возвращаюсь туда, откуда такого же вот паренька, как ты, отвез матери с отцом. Погиб. Мы вот с его другом, – он кивнул на сидевшего, опустив голову, солдата, – прощение просили у матери. А она просила передать генералам нашим проклятие.
Та, имевшая романтический абрис, поездка, как я оправдывался уже перед читателем, не завершилась конечным успехом. Хотя назвать малополезным то, что было получено в результате кажущегося увеселительным круиза, – опрометчиво. Вторая попытка была предпринята мной лишь через несколько лет. В главном кабинете страны уже новый хозяин. Специалист по «сортирам». Новые перемещения в верхах и регионах. Только вот неспроста в народе говаривают: шиш на шиш менять – только время терять. Наверно, это наш феномен, российский: кого ни изыщи, ни всели в близрасположенные к главному кабинеты – все как овцой Долли произведенные. То ли прививка какая-то им вводится, чтоб в рот патрону смотрели не моргнув, и речи свои начинали со слов: «как было сказано Вами». Стошнит, ей-ей, стошнит, слушая, как рукоплещут и льстят тому, кто и соломинки еще не поднял с пола: «Все путем!» или «Вы наш Владимир-Ясное солнышко!» Сергей Есенин по счет таких клонированных выразился: «Не голова у тебя, а седалище. В твоих жилах моча, а не кровь. Положить бы тебя во влагалище и начать переделывать вновь».
Войну уже тогда объявили законченной, и войска вывели. Только повстанцам нет до этого дела. Они перенесли свои «сортиры» в школы, в поезда, в самолеты. И даже в столицу. После страшной трагедии в Беслане, как это мне показалось, лицом потемнел наш главный спец по «сортирам». Впервые мне стало жалко его. Пока не услышал все тот же твердый, установленный голос отчитывающегося по поводу принимаемых исчерпывющих мер. Не коленопреклонная просьба к пострадавшим простить его, а всего-то – будто кружку молока дочь его на скатерть пролила. Немного полегчало бедняжке после одиннадцатого сентября: не мне, мол, одному отдуваться. Так что телеграмма-соболезнование Бушу – как бальзам на свою душу была.
А я снова в дороге все по тому же маршруту. Теперь, слышал, безопасно. Все тот же поезд Свердловск – Симферополь. Только в пути – две остановки у родственников. Тут вновь увещевания: куда ж ты на верную погибель? Одни ведут только что вернувшегося из самого пекла сына. До полуночи слушал его рассказ, как каждый день смотрел он смерти в глаза. Другие зловещими шутками решили припугнуть: мол, вовремя едешь; как раз сезон работ наступил, там бесплатные батраки нужны. Генерала, друга семьи, воевавшего там, готовы пригласить, чтоб рассказал, удоволил мое любопытство. Только вот генералов я и по телевизору много раз слушал.
И вот уже последний этап на подступах к Чечне – Невинномысск. Ожидание поезда Москва – Грозный. Первое впечатление от поездки. Дежурный по вокзалу объявляет о прибытии поезда и недолгой стоянке. Шум приближающегося состава, который внезапно на полной скорости, словно машинист или уснул, или забыл об остановке, врывается в пределы привокзального перрона и так же внезапно на отрезке не больше пятидесяти метров без скрежета тормозов, без оханья вагонных букс плавно останавливается. Это фантастика – нет, это, как стук сердца влюбленного, воспринятый за шаги любимой, – мое воображение, мои ассоциации: непременно там, в кабине тепловоза,сидит чеченец; он одинаково, что на коне по горной тропинке, что тут по рельсам. Но это пока поэзия, проза – впереди.
Поднимаясь в вагон, я почему-то ожидал суровые лица пассажиров, тихие вполголоса разговоры, недоверчивые взгляды на меня, строгость проводника и непременный наряд милиции. Но сонная проводница дверь открыла лишь после настойчивого стука. Вагон спал, ни одного бодрствующего, хотя время было еще не позднее.
– Куда едешь? – не глядя в билет, спросила проводница. – Постель возьмешь?
Утром, как водится, проснулся, лишь забрезжил рассвет. Опять ни одного бодрствующего. Вышел покурить в тамбур. Седоголовый мужчина пожилых лет, лишь бросив на меня взгляд, продолжал затягиваться сигаретой. Докурив, он вдруг обратился ко мне:
– Говорят, Алханова сняли. Рамзан теперь исполняет его обязанности. Не слышали?
– Нет, я уже несколько дней в дороге. Новостей не слушал.
Он оставался стоять у окна, будто ждал кого-то. Но взялся за дверную ручку и, собираясь уходить, спросил:
– Далеко едете?
– В Грозный.
Он качнул головой.
– По делам?
– Да, в командировку.
И тут я нашелся, чтобы закончить разговор с пользой для себя. Едва понизив голос, не заговорщицки, но и не громко:
– А как, не опасно теперь там?
– Теперь нет.
Небо над Чечней уже несколько дней оставалось за низкой стланью пропитанных обильной влагой туч. Дождь то нудно, как сварливая теща, моросил мелкой, едва заметной крапью, то, отзываясь на порыв ветра, начинал стучать крупными каплями по крышам домов, листьям деревьев и кустарников. Возможно, там, за унылой пеленой, скрывался хрестоматийно величественный кавказский пейзаж, только ничего этого не довелось увидеть. Все словно русская равнина. Для полноты схожести не хватает только белоствольных березовых перелесков. И только в окрестностях Гудермеса взгляд вдруг улавливает мелькнувшую красную полоску. Это свис на высокой шпагообразной мачте российский триколор. Первый блокпост: пригорбившиеся палатки, провисшие камуфляжные сетки, врытые в землю боевые машины, солдаты с автоматами. Блокпосты теперь без малого на каждом километре, то в непосредственной близости друг к другу, то, видно, из тактических соображений удаленные по ту или другую сторону от железной дороги. И везде, будто кобель утром пробежал, задирая возле каждого столба ногу, чтобы пометить свою территорию, – мачты с триколором – напоминанием: территория неделимой России.
Никто из пассажиров поезда на все это не смотрит. Тот седоголовый мужчина, с которым познакомился в тамбуре, заметив мое внимание к картинам за окном, спрашивает:
– Интересно?
Сидящие рядом женщины повернули в мою сторону головы, очертили неостанавливающимися взглядами пространство за окном и снова вернулись к своей негромкой беседе. Для них – привычно. Даже когда за мостом через Аргун, остановив поезд, в вагон поднимается наряд в камуфляжах, в полную выкладку, с автоматами, запасными рожками, никто и головы не повернул в сторону тех, которые привычно, с ленцой словно бы, озираясь, соблюдая дистанцию, прошли в направлении хвоста состава. Картина впечатляющая. В кино или телеотчетах борзописцев такое не увидишь, Там все больше страсти-мордасти – пощекотать болевые точки слабонервных.
До Грозного уже рукой подать. Большинство в вагоне зашевелились. Достают сумки из рундуков, тихо переговариваются, посматривая в окно. Оправляют одежду. Чечня – это другой мир, это не Россия. Еще до рассуждения о нравах, подметишь внешние отличия. Особенно в одежде. За все время я не видел здесь на женщинах брюк, широко декольтированных блузок или миниюбок. Неяркие, длинные, свободного покроя юбки, платья. У поголовного большинства. Была в вагоне девчонка, в джинсах с заниженным поясом, по-над которым обнажился аппетитный животик. Мы с ней несколько раз курили в тамбуре. Чеченки не курят. Скорее всего эта, как и я, была залетной пташкой. В размышлении по сей счет я и стоял у окна, не заметив, что поезд вступил уже в пригород. И тут – словно гром средь ясного неба. За окном появляется многоэтажка, кажется, девяти. Точнее, остов бывшего жилого дома. Разрушенные, обгорелые крыша, стены, черные пустые глазницы окон, тысячи щербатин от снарядов и пуль. Первая, как молния, промелькнувшая в голове мысль: неужели нельзя было снести ее, чтобы въезд в город не был так жестоко страшен? Какой прыткий, – отвечу сам себе позже. Тут же за обрушившейся на мое сознание многоэтажкой последовали еще, и еще, и еще. Как восставшие призраки убитых, но не похороненных людей. Снести… Чужую беду руками разведу. Поднять бы газеты с победными реляциями историков: сколько лет сносили сталинградские руины?
Дальнейшее вспоминается как страшный сон. Перрон, люди, большинство из которых милиционеры, с собакой, с автоматами. А потом – город. Бывший город. Я шел по его улицам. Руины, руины, руины. В некоторых живут люди, То там, то здесь под придавленной плитой – комната с уцелевшим оконным проемом, затянутым чем-то сквозящим. Там слышится жизнь. Шокированный, особенно удивлялся я – если это можно назвать так просто удивлением – стенам, испещренным следами от пуль, снарядов. Это сколько же надо было их выпустить. Когда в реформенные времена большинство наших промышленных предприятий увяли, оборонка-то, должно, еще и расцвела. Плохо помню, долго ли я ходил по отметинам бывшего города. Помню, остановил милиционер: ты что, пьян? Помню, сел в автобус на Нальчик, удивленный взгляд водителя. Бесконечно долго выезжали на автомобильную трассу. Вдоль руин. Такой длинный пригород – частный сектор. И тоже развалины. И эти следы от пуль и снарядов. Здесь, в пригороде, тоже боевиков выбивали? Их что, миллион было? И удручающее чувство: когда-нибудь кончится эта панорама?
Очнулся, кто-то тряс меня за плечо:
– Мушшына, проснись.
Сидящие в соседних креслах женщины отводили сочувственные взгляды. А тот, что тряс за плечо, протягивал бутылку вина.
– Випей – успокойся. Первий раз приежжал?
Читатель может так и подумать: Грозного-то там и нет.
Немножко есть. Построены и строятся новые многоэтажки. Немало и добротно возводится в частном секторе. (А потому рынки строительных материалов на каждом шагу.) Иногда встретится какой-нибудь благоустроенный уголок. Как-то даже проехал мимо ухоженной площади с большущим памятником Ахмаду Кадырову. На некоторых, то ли отстроенных, то ли уцелевших домах – портреты троицы: А.Кадыров – бывший, уничтоженный президент, А.Алханов – нынешний, пока еще живой и Рамзан – сын А.Кадырова. У Рамзана на груди звезда Героя. То ли сами пририсовали, то ли наш спец, не припомню когда, вручил.
Выбирался я из ада на перекладных. Грозный – Нальчик, Нальчик – Пятигорск, Пятигорск – Минводы и т.д. Всю дорогу спал. Словно вечность целую пахали на мне. Впервые в жизни в моем сознании неверующего во сне сложилась молитва.
Появившись на свет безбожником,
Не признавшим ни Судию небесного, ни в черта не верившим,
Долгую жизнь выстоял я стоиком несогбенным.
Но, потерявши вдруг в отчаянии веру в праведность,
Угнетен сегодня мыслями навязчивыми.
Я поверю в Твое, Господи, всесилие
И признаю несовершенными прошлые воззрения свои,
Если только внемлешь Ты мне, услышав мои стенания.
Не бывает народа плохого иль хорошего.
Каждому под солнцем отведено место обетованное.
Не сведет случай воедино и десяти человек с худыми намерениями.
Но найдутся средь них, кто, прикрывшись спинами безвинных,
Будут творить дела недобрые.
Так и кровь, проливаемая сегодня днем и ночью нескончаемо, –
Не суть зло всего человечества.
Как безумный маньяк, жертвенник окропив свежей кровью,
Хитрой лисой запутает следы,
Отрекаются от содеянного сильные мира сего,
Кивая друг на друга беззастенчиво,
Ссылаясь на мораль древневетхую.
Пресытившиеся богатствами наворованными,
Дланью властной указуя,
Направляют они послушную паству свою
Род на род, племя на племя.
Не вернется к матери сын убиенный.
Не дождется своего единственного девчонка заневестившаяся.
Не порадуется никогда отец наследнику.
Все для них стало мраком и безысходностью.
Но не злость и мстительность руководят мною в просьбе к тебе, Всесильный.
Каждый в этом подлунном мире должен получить заслуженное.
Окропи, Господи, солеными слезами черствые души тех,
Кто породил горе горькое.
Обрушь на них тот меч, что в руках придуманной ими Родины-матери.
Пусть хоромы их станут холоднее склепов посмертных.
Пусть высокие кресла покажутся станками для пыток.
Ниспошли, Господи, мое проклятие на крепкие головы цезарионов.
И тихо уверую я в твою суть, всесильную и справедливую.
СУЕТА СУЕТ !
Уезжая, уже далеко от Чечни, с горечью в сердце, повторяя эту молитву, вспомнил я друга своего Юрку Фролова, который живет в Ростове-на-Дону. Как и те, выделяющиеся из череды моих персонажей, был он здоровым парнем. Мы расстались с ним, когда я отправлялся строить аэродром. Напоследок, уйдя с глаз командиров в щель, сидели за бутылкой вина. Он безумно любил Есенина. Запомнились мне строки, которые читал Юрка по памяти в том укрытии:
Люди, братья мои люди,
Где вы? Отзовитесь!
Ты не нужен мне, бесстрашный,
Кровожадный витязь.
Прошло немало лет после того запомнившегося разговора с Арсентьичем, когда мы, впрочем, больше вспоминали о солдатской юности, но никоим образом не противопоставляя наши взгляды на жизненные реалии. Но теперь-то наступило время, когда забурлило общественное сознание в ответ на недобрые политические события. Как когда-то в начале минувшего столетия, приближение его финиша, венчающего второе тысячелетие, вновь, словно на дыбы, поставило жизнь многострадальной страны.
Продолжая многовековую говорильню о ее величии и величии народа, принуждены мы были, однако, посмотреть на пройденный путь глазами реалистов. Появилась возможность вслух признаться о наболевшем. Я встретился как-то с Арсентьичем, показал ему черновик повести, которую предложил сегодня читателю.
– Все так. Было и есть, – говорил Арсентьич, возвращая рукопись. – Только вот не торопишься ли ты, вроде бы вычеркивая армию из жизни.
Нет, не тороплюсь. К тому же я не ЦК КПСС – принимать такие решения – вычеркивать. Но то, к чему непременно придет человеческое сообщество, как пришло от каменного топора, из пещеры – в цивилизацию, не то чтоб надо торопить, однако выбрать бы к нему путь прямее что ли, чтобы без лишних утрат и бездарных жертв.
Мироздание бесконечно. Вселенная, обновляясь в катаклизмах, продолжает свой путь. Жизнь, быть может, как и где-то в других уголках, озарила ее на планете Земля, но, по причине своей микроскопичности в сравнении с масштабами Вселенной, не выражает ее безграничной сути, потому что даже в высшем своем проявлении, Разуме, не может охватить, объяснить эту не имеющую ни начала, ни конца вечность. Жизнь существ разумных – это лишь замечательная стадия развития одной из лучших форм мироздания. И если очередной катаклизм обойдет хоть однажды стороной какой-нибудь оазис подобного проявления мироздания, разум со временем найдет, как превзойти рамки, ограничивающие человеческую жизнь в бесконечном полете Вселенной. Но о каких катаклизмах Вселенной и долгой жизни размышлять нам, кому некогда остановиться в своей ничтожной суете.
СЫН
Рос Мурат, как пират. Был сам чёрт ему рад.
По задворкам, в глухие овраги
Будь то зной или дождь, или будь снегопад
Сорванцов возглавлял он ватаги.
Словно Роджерса стяг бился в древках бродяг,
Нет преград джентльменам удачи.
Их виктория ждёт из любых передряг,
И не может случиться иначе.
Чтоб заснул поскорее в кроватке своей,
Пел про войны я песни Мурату,
Но услышав о слёзах сирот, матерей,
Сын сказал: «Я не буду солдатом».
В школе что ни урок забывал про звонок,
Повествуя о битвах историк.
Но про жизнь Диогена просил паренёк
Рассказать, словно сам был тот стоик.
А сегодня учитель питомцу не рад,
Невзлюбившему войн передряги.
Не воинственный меч, что взметнул Волгоград, -
Open Source1 у Мурата на стяге.
Из старинных былин не усвоил мой сын
Злобный дух азиатского строя,
Не оставив нам для беспокойства причин
За посмертную славу героя.
Рос Мурат, как пират. Был сам чёрт ему брат,
Тот, вскормивший ветрами свободы.
Сыпьте, цезарионы, угроз своих град!
Сын мой – миролюбивой породы.
Open Source – движение за открытые исходные коды
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


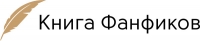




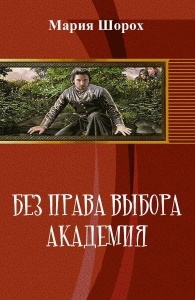



Комментарии к книге «Цезарионы», Дамир Карипович Кадыров
Всего 0 комментариев