Владимир Кирсанов
69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы
Колонна
2005
Проект Общественного центра «Я+Я» осуществлен при содействии посольства Нидерландов в Российской Федерации
Кирсанов В. 69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. Биографии выдающихся россиян и современников. Тверь.: Kolonna Publications, 2005. – 300 с.
В первую часть книги вошли очерки о жизни выдающихся россиян, отличавшихся нетривиальной сексуальностью. Основываясь на редких и забытых мемуарных источниках, автор предлагает свой взгляд на жизнь знаковых персон для российской культуры и политики, начиная с конца XVIII века и заканчивая недавним прошлым. Во второй части – собраны авторизованные, за некоторым исключением, биографии наших современников, чья общественно-политическая деятельность и творчество связаны с борьбой за основополагающее право человека на свободу частной жизни и сексуальности.
© Владимир Кирсанов, 2005
© OOO «Квир», состав, оформление, 2005
От автора
Видные россияне, очерки о жизни которых вошли в эту книгу, выделялись среди соплеменников не только талантами и особыми заслугами перед отечеством, но и своей необыкновенной сексуальностью. Интимная сторона их существования была долгое время сокрыта от потомков под спудом официальных биографий – авторы этих жизнеописаний всеми силами старались утаить и обойти стороной двусмысленные, с точки зрения официальной морали, факты их жизни.
Впрочем, в иные времена было принято и вовсе не обращать внимания на гомосексуальность верных государству сынов отечества. Так, например, в XIX веке высшие посты в государственной иерархии регулярно занимали гомосексуалы. Сподвижница Екатерины II княгиня Дашкова (1743 – 1810), государственный канцлер и один из русских просветителей Николай Румянцев (1754 – 1826), обер-прокурор синода Александр Голицын (1773 – 1844), десятки других высокопоставленных чиновников. Все они служили на благо своего отечества, и почти никого, кроме бесстыдных конкурентов и злопыхателей, не интересовало, какому полу они отдают предпочтение в любви.
В дальнейшем в советской исторической науке интимная жизнь некоторых персонажей русской истории использовалась с целью фабрикации идеологических концепций, устраивающих правящий режим. Поскольку гомосексуальность – как и любое отклонение от «нормы» – осуждалась по советским законам, то даже школьные учебники с удовольствием муссировали скандальные анекдоты о жизни верных царской власти персонажей. Это касается, например, автора формулы «Самодержавие. Православие. Народность» министра просвещения графа Сергея Уварова (1786 – 1855) или близкого к императорской семье редактора «Гражданина» Владимира Мещерского (1838 – 1914).
Естественно, что на свидетельства неординарной сексуальности тех, чья деятельность вполне укладывалась в советские идеологические трафареты, просто не обращали внимания. Так, из кругозора советских биографов выпали многие факты жизни Петра Чаадаева (1794 – 1856), а также путешественников Пржевальского (1839 – 1888) и Миклухо-Маклая (1846 – 1888). Особенно в этом смысле «повезло» композитору Петру Чайковскому (1840 – 1893), гомосексуальность его до сих пор принято игнорировать во всех российских официальных источниках. Обществу, в котором продолжает процветать гомофобия, трудно признать, что все без исключения личные привязанности Чайковского были связаны с подростками, чей возраст находился на грани дозволенного, с точки зрения Уголовного кодекса России начала ХХI века.
За призывами оставить в покое частную жизнь выдающихся россиян и «не рыться в грязном белье» скрывается не забота о некой нравственной чистоте. Эти голоса выражают слепой страх перед противоречиями сексуальности, о которой проще молчать, если не объявлять ее пороком и преступлением, как было в недавние времена.
В этом смысле издание в России книги с биографиями выдающихся геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов можно рассматривать и как протест против тех сил в обществе, которые все активнее используют гомофобную риторику в целях грязной политической борьбы. Именно поэтому мы завершаем нашу книгу историями продолжающихся жизней тех, кто с конца 1980-х годов принимал активное участие в сопротивлении тоталитарной системе и режиму, карающему за одну возможность назвать имя своей любви.
Владимир Кирсанов
13 мая 2005 года
«…Достойная подруга Тамирисы». Екатерина Дашкова (17 марта 1743 – 1 января 1810)
Один из современных историков назвал статью о подруге Екатерины II княгине Екатерине Романовне Дашковой (в девичестве графине Воронцовой), первой женщине, вставшей во главе российской Академии наук, – «Княгиня Сафо». «Небезосновательные подозрения» (Игорь Кон) в приверженности Дашковой к лесбийской любви были и у современников. В частности, у первого биографа нашей «ученой дамы» Александра Герцена. Он знал об интимных отношениях Дашковой с женщинами, так сказать, из первых уст.
В 1859 году в Лондоне в русской типографии Герцен издал перевод записок Дашковой, которые были написаны в последнее десятилетие ее жизни при участии сестер-англичанок Мэри и Кэтрин Вильмот. Даже в этом внимании восемнадцатилетней младшей Мэри Вильмот к шестидесятилетней княгине Дашковой разглядел Герцен «чувства любовницы». Вероятно, у видного русского западника были основания думать так и писать об этом. В Европе еще свежи воспоминания о пребывании здесь Екатерины Дашковой – ее беседах с Дидро, Вольтером, ее выходах в общество непременно с подругами, прежде всего с миссис Гамильтон, к которой Екатерина, по собственному выражению, привязалась «всем пылом голодного сердца». Все это позволило Герцену сделать смелые намеки и о причинах верности графини Екатерины Воронцовой будущей Императрице Екатерине II. «Есть что-то необыкновенно увлекательное в этой отваге двух женщин, переменяющих судьбу империи, в этой революции, делаемой красивой, умной женщиной, окруженной молодыми людьми, влюбленными в нее, между которыми на первом плане красавица 18 лет», – писал Герцен о перевороте 1762 года, в котором юная графиня сыграла одну из ведущих ролей.
Родилась Екатерина Романовна весной 1743 года в семье видного елизаветинского вельможи Романа Илларионовича Воронцова, младшего брата Государственного канцлера Воронцова, и Марфы Ивановны Сурминой. Матушка Екатерины скончалась, когда девочке исполнилось два годика: успела лишь окрестить дочь. Крестными стали Императрица Елизавета и великий князь Петр Федорович.
Четырнадцатилетняя крестница Императрицы, к несчастью, заболела корью. А подобное при дворе считалось едва ли не клятвопреступлением. Болезнь могла пристать к цесаревичу. Родители, дабы не прогневить Императрицу, отправили Екатерину в деревню, не надеясь более увидеть свою дочь. Но «умная, бойкая и живая девочка» выздоровела, да к тому же «нашла в деревне довольно значительную библиотеку» и перечитала ее всю, чтобы не умереть от скуки.
Возвратившись в свет, девочка не долго пробыла в девицах. В шестнадцать с половиной лет, возвращаясь с бала с подругой, была напугана случайным встречным, который оказался блистательным офицером князем Дашковым. И вскоре графиня Воронцова превратилась в княгиню Дашкову.
Еще в родительском доме она была представлена Великой княгине Екатерине. Будущая Императрица была в два раза старше Дашковой, но приласкала ее, и они стали больше, чем просто подругами. До государственного переворота 1862 года, который возвел на трон империи Екатерину, они встречались по меньшей мере раз в неделю. Екатерина II сама заезжала из дворца за Дашковой, отправляясь на встречу с сыном. А были еще и тайные ночные встречи, когда Дашкова инкогнито пробиралась во дворец к будущей Императрице, и в одной постели они обсуждали планы смещения Петра III.
Екатерина Дашкова, историки назовут ее Малой Екатериной, влюблена в свою императрицу – Екатерину Большую, «как мальчики бывают влюблены в тридцатилетних женщин…». При дворе она ведет себя довольно вольно и не боится дерзить Петру...
Но Екатерина Малая не догадывается, что не одна она, склоняющая свою подругу к скорейшим действиям против Петра, держит в руках нити заговора. Отдав свое сердце будущей Императрице, она надеется не только на благодарность монарха к своему верному слуге. Подлинная природа отношения Дашковой к Екатерине II откроется, когда восемнадцатилетняя княгиня узнает о существовании соперника – Григория Орлова… «С этого времени я в первый раз убедилась, что между ними была связь. Это предположение дано тяготило и оскорбляло мою душу», – запишет в своих дневниках Дашкова.
Именно Орлов привез будущую Императрицу в столицу ночью 28 июня 1762 года. Ослепленная любовью Малая Екатерина, встретив свою Екатерину Большую, не догадывается еще о ее связи с Орловым. Сейчас главное – сместить Петра III, возбудившего уже ненависть при дворе «неприличным» поведением своим (при всех громко называл императрицу «дурой») и неумелыми политическими шагами.
И насколько расстроена, смущена, шокирована юная Екатерина, когда после взятия Петергофа, ночью находит у Императрицы Орлова… вальяжно расположившегося на диване в ожидании своей любовницы. Едва ли не в слезах она замечает и небольшой столик, который уже накрыт – какая досада – на троих. «Неужели Орлов останется?..» В мгновение она делается холодной и почти бестактной с Императрицей, приглашающей Дашкову присоединиться к трапезе и отметить победу их тройственного союза. «Оскорбленная своим открытием…», тем, что «…что между ними une liaison», Дашкова не скрывает обиды от изумленной Императрицы. Последняя, дабы вернуть расположение подруги, осторожно (уже как Императрица – не приятельница или любовница, а «наместница Бога на земле») взывает к ней: « Дружба имеет свои права, разве я их лишусь теперь?»
И ведь лишается. Гордая Дашкова не прощает измены с Орловым. И не важно, было ли что между двумя Екатеринами прежде. Возможные претензии Орлова на трон, а, следовательно, супружество с Екатериной зарождают в сердце Дашковой едва ли не мысль о бунте против Императрицы.
Тем временем Орлов в компании офицеров душит хилого Павла III. Охлаждение Екатерины II к княгине Дашковой предопределено. Как прежде восемнадцатилетняя девчонка дерзила при дворе ее бывшему муженьку, Великому князю, так теперь дерзит ей самой, резко противопоставив себя любовнику Императрицы. Гневно отреагировав на известие о смерти-убийстве Павла «по неосторожности», она тридцать неполных лет будет отказываться здороваться с графом Орловым. Примирение состоится лишь через несколько лет после смерти Екатерины. Многолетняя распря будет забыта, и старик Орлов устроит по этому случаю феерический бал.
Интимная близость двух подруг, сестринская любовь Дашковой и Императрицы разбилась о неприступные стены монаршей власти, которыми Екатерина, взойдя на трон, вынуждена была окружить себя. Эта причина видится главной в разрыве двух Екатерин и Александру Герцену: «Екатерина хотела царить не только властию, но всем на свете – гением, красотой; она хотела одна обращать на себя внимание всех…»
После смерти мужа в 1768 году Екатерина Романовна Дашкова, продолжавшая вести себя при дворе довольно самостоятельно, легко была отпущена Императрицей за границу – с глаз долой. В чужих землях Дашкова остается такой же дерзкой, неугомонной… Знакомится и на легкой ноге общается со такими знаменитостями, как Вольтер и Дидро. С ними она тет-а-тет, разве что Руссо остается обойденным ее вниманием.
Из Женевы от Вольтера Дашкова едет в Спа, где «живет в большой интимности с миссис Гамильтон и, прощаясь с ней, романтически клянется приехать через пять лет для свидания». «И что еще более романтически…, – отмечает Герцен, – действительно, приезжает».
Да любила ли Дашкова мужчин вообще? «Ни один мужчина не играл никакой роли в ее жизни», – уверенно отвечает Александр Герцен на этот вопрос. Женщины, напротив, всегда волновали и привлекали Екатерину. За границей она выходит в свет непременно со своими подругами и ведет себя довольно независимо, чтобы избежать не только узнавания, но и – прежде всего – внимания мужчин. В Спа впервые после разрыва с Екатериной II княгиня Дашкова «всем пылом голодного сердца привязалась к Гамильтон….». Кэтрин Гамильтон – дочь Туанского архиепископа – стала главной привязанностью Дашковой… В 1784 году она пригласит подругу в Россию и устроит для нее грандиозные празднества в своим имении Троицкое Калужской губернии. По случаю приезда миссис Гамильтон будет отстроена новая деревня для крестьян, названная в честь подруги «Гамильтоново». Несколько дней длились гуляния с песнями и плясками в народном стиле. Перед Гамильтон было разыграно настоящее представление с хороводами и крестьянскими свадьбами.
До сих пор историки, за исключением Герцена, обходят стороной вопрос о том, что же связало уже главу двух академий – Академии наук и Российской академии – с дочерью ирландского священника? Когда в 1803 году из Ирландии Гамильтон отправит с приветом к Дашковой своих племянниц Мэри и Кэт Вильмот, при встрече со старухой девушек поразит старый шелковый платок, обмотанный вокруг шеи Екатерины Романовны – подарок миссис Гамильтон, с которым Дашкова никогда не расставалась и просила положить с нею в гроб.
Мисс Мэри Вильмот, плененная рассказами тетки, прибыла в Россию и стала инициатором и свидетельницей работы Дашковой над своими записками, которые будут вывезены из империи и опубликованы спустя полвека в Лондоне. Мисс Мэри Вильмот составила существо последних лет жизни Дашковой. «Она ее любит страстно, как некогда Екатерину. Свежесть чувств, их женская нежность, потребность любви и столько юности сердца в 60 лет изумительны» (Герцен). Дашкова, давно не выезжавшая из своего Троицкого, спешит в Москву, возит Вильмот по балам, показывает ей монастыри, представляет императрицам, в лютый мороз украшает ее комнату цветами и проводит с нею вечера, читая свою переписку с Екатериной II.
Екатерина Дашкова окружает Мэри сразу же «внимательностью матери, внимательностью сестры и… любовницы». Что-то позволило Александру Герцену сделать это последнее смелое предположение еще при жизни «моей Мэри», как писала Екатерина Романовна, – Марты Вильмот (1780-1873). …И она, Марта, не возражала против этого вывода…
«Дашкова родилась женщиной и женщиной осталась всю жизнь». «Сторона сердца, нежности, преданности была в ней необыкновенно развита…». Нежность эта лежала в основе ее привязанности к Екатерине II, впрочем, отвергнутой Императрицей, материнского и сестринского внимания к Елисавете Алексеевне (супруге Александра I). И только в сердце английской приятельницы миссис Гамильтон и, наконец, племянницы ее Мэри нашла Дашкова ответ желаниям своего мятущегося в поисках женской любви сердца.
В 1809 году Мэри Вильмот была вынуждена покинуть Россию. Она уехала, почти бежала, не пощадив чувств своей любовницы, тайком… Причина столь стремительного отъезда кроется не только в обострении отношений России и Англии, но и уверенном желании княгини Дашковой покинуть Россию вместе с Мэри. …Через несколько месяцев морозным январским вечером княгиня Екатерина Дашкова тихо умрет в своем Троицком.
Европа, прочитав в начале 1840-х годов записки княгини, сохраненные Мартой Вильмот, продолжит обсуждать величие и интимные привычки Екатерины Романовны Дашковой, которую Вольтер называл «достойной подругой Тамирисы». Под Тамирисой – полулегендарной царицей и победительницей властелина Востока Кира в VI веке до н. э. – Вольтер имел в виду, конечно же, Екатерину II. После выхода записок, публикации которых сопротивлялся клан Воронцовых и не приветствовала императорская семья (не случайно их издал по-русски опальный западник Герцен), вновь ожили слухи об интимной связи двух Екатерин. Распространять их начал еще знаменитый Джованни Джакопо Казанова, который приезжал в Россию в конце 1760-х годов и не смог очаровать своими чарами юную Дашкову, потому и сделал соответствующие выводы. Впрочем, после выхода «Записок Дашковой» разговоры об интимных привязанностях княгини уже не казались только слухами.
«Кассир русской словесности». Николай Румянцев (14 апреля 1754 – 15 января 1826)
Среди высокопоставленных чиновников царской России, которые «славились гомосексуальными наклонностями», Игорь Кон называет министра иностранных дел, а затем государственного канцлера при Александре I графа Николая Петровича Румянцева. Сегодня Румянцев более известен как меценат и основатель Румянцевского музея, его собрание книг и древних рукописей составило основу Российской государственной библиотеки имени Ленина. Сотрудники ее до сих пор называют свою библиотеку Румянцевской. В 2004 году на 250-летний юбилей князя Румянцева в стенах библиотеки установили бронзовый бюст человека, именем которого в русской истории называли некогда всю первую четверть славного ХIХ века – это была «Румянцевская эпоха».
Николай Румянцев был старшим сыном графа, фельдмаршала и губернатора Малороссии Петра Александровича Румянцева, получившего к своей фамилии приставку Задунайский за победу над турками и освобождение Дуная в 1773 году. Род Румянцевых возвеличился при Петре I, который женил деда канцлера, сына бедного костромского помещика, на дочери тайного советника графа Матвеева. Александр Иванович Румянцев, дед Николая Петровича, был одним из любимцев Петра I, он открыл царю место пребывания беглого сына и убедил императора Карла VI выдать отцу виноватого отпрыска. Впрочем, современники считали Румянцева-Задунайского бастардом Петра I. Мария Матвеева занимала первое место среди любовниц императора. Так что Николай Петрович Румянцев приходился внуком Петру I.
Воспитание юный граф получил домашнее, другого в те годы не было. В 19 лет светский красавец был пожалован в камер-юнкеры. С детства проявив интерес к разным наукам, молодой граф добивался от отца возможности получить образование за границей, но тот был против. Желаниям Николая Петровича помогла императрица Екатерина II. В качестве спутника в заграничную поездку братьям Румянцевым она сосватала своего любимца, близкого приятеля Вольтера, публициста барона Мельхиора Гримма. Два года Румянцевы провели в Европах. Николай слушал лекции в Лейденском университете. Вольтер, известный своими бисексуальными склонностями, лично просил привезти двух красавцев к нему в Женеву, вняв настойчивым советам своей корреспондентки императрицы Екатерины II встретиться с молодыми братьями, на которых в делах государственной важности она возлагала большие надежды. «Тем, кои рождены для того, чтобы служить опорой власти неограниченной, не мешает взглянуть на республику», – писал великий вольнодумец в письме к госпоже Епиналь в июле 1774 года, настаивая на том, чтобы Гримм с Румянцевыми заехал к нему в Женеву.
Вольтеру особенно приглянулся старший из Румянцевых, он нашел его более годным к государственным делам и рекомендовал Екатерине. После возвращение Николая Румянцева из-за границы Екатерина приблизила его к себе. Она хотела видеть образованного юношу при дворе, но тот вновь рвался за границу. Несколько попыток поступить на дипломатическую службу не увенчались успехом, но тут возникли личные обстоятельства, для разрешения которых Екатерина надумала использовать верного камер-юнкера. Речь идет о женитьбе внуков Екатерины, в том числе Александра, который в будущем должен был занять трон.
В 1876 году графа Румянцева назначили чрезвычайным посланником и полномочным министром во Франкфурте-на-Майне, он оставался на этом посту более 15 лет. Ему, в частности, предстояло устроить дело о женитьбе наследника престола на принцессе Баденской Луизе Марии Августе, впоследствии императрице Елисаветы Алексеевны. Екатерина состояла с Румянцевым в активной переписке в июне 1792 года по поводу этого брака. Тайно Румянцев должен был организовать приезд в Россию двух принцесс Баденских, старшей и младшей, дабы будущий наследник, внук Екатерины Александр смог выбрать свою императрицу. Занимался этим делом Румянцев ни много ни мало около семи лет: на смотрины «баденские княжны» прибыли только 31 октября 1798 года.
При недолгом царствовании Павла I Румянцев забыт не был, но никаких важных должностей не занимал.
День коронации Александра I стал звездным часом Николая Румянцева. Любимец бабушки был назначен членом Государственного Совета, а потом, с образование в России министерств, получил портфель министра коммерции. Одновременно Румянцев был директором водных сообщений и комиссии по устройству в России дорог. Чему только не приходилось заниматься графу на этих должностях. Он был инициатором издания первой русской деловой газеты – «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостей», устроил промыслы на Каспийском море, для охранения Санкт-Петербурга от наводнений по его распоряжению была произведена отделка берегов адмиралтейского канала диким камнем, он также разработал купеческий устав 1807 года, который подготовил расцвет купеческого сословия в России.
В 1807 году Румянцев возглавил министерство иностранных дел, пост министра коммерции остался при нем. На место, которое еще недавно занимал, как выразился Вигель, «жалкий немец», пришел человек «русский с громким именем, высокою образованностью, благородною душою, незлобивым характером и умом». Не удивительно ли, как нежно пишет о Румянцеве язвительный Филипп Вигель. Верно, что не только из-за уважения к дружбе отца своего и будущего канцлера.
В ближайшее десятилетие Румянцев вместе с императором будет руководить дипломатической жизнью России. В 1809 году он отправится в Париж для переговоров с Наполеоном как посредник в примирении Австрии с Францией. Наполеону чем-то приглянулся Румянцев, и он благоволил ему. Вероятно, Наполеона привлекли образованность графа и его интерес к искусствам. Переговоры завершились успехом.
А в 1810 году Румянцев заключил Фридрисхгамский договор, согласно которому вся Финляндия, принадлежавшая ранее Швеции, отошла России. Это принесло Румянцеву звание Государственного канцлера.
Завистники Румянцева распространяли слухи о тайных переговорах Румянцева с Наполеоном во вред России. Это все клевета, разумеется. Граф казался кому-то галломаном, но изменником он никогда не был. Тот же Вигель справедливо отмечает: да разве можно было подкупить Румянцева золотом – того, который «жил всегда умеренно, источая его (золото) единственно на умножение просвещения в России?» Не золотом, конечно, а идеями подкупал его Наполеон. Мечта о великом союзе северо-востока с юго-западом, перед которым «все должно было покориться» владела Румянцевым. Переход войск Наполеона через Неман и вступление французских войск в Россию – это стало для Румянцева настоящим ударом. «Апоплексический приступ» случился с графом в присутствии Александра I, который сам приехал сообщить канцлеру о начале войны. С тех пор сделался Румянцев малость глуховат… И пошли об этом исторические анекдоты, которые, к несчастью, заслонили анекдоты иного рода…
Помимо слухов об измене, немало могли повредить Румянцеву разговоры о причинах его холостяцкой жизни. Кстати, все три брата Румянцевых так и остались холостяками. Род Румянцевых на них прервался.
Была у Румянцева странная приятельская связь с Анной Никитичной Нарышкиной, его теткой. Она оставила семью свою и поселилась у племянника. Это совместное житье тетки с племянником, годившимся ей в сыновья, стало объектом многочисленных шуток, автором которых был Александр Львович Нарышкин, которого Анна Никитична решила оставить без наследства, завещав все племяннику. Произошла судебная распря, которую Нарышкины выиграли, но позора своего простить Румянцеву не могли.
Нарышкин и был автором нескольких «не всегда удачных каламбуров», высмеивающих сексуальные интересы графа Румянцева. До сего дня они – анекдоты, разумеется, – не дошли. Только некоторые откровенные мемуаристы пишут, что «жало их [каламбуров] автора приписывало Румянцеву какие-то слабости, противные нравственности».
Действительно, дипломатическая работа того времени располагала к гомосексуальности, как замечает Константин Ротиков на страницах «Другого Петербурга». «Если призадуматься, так труднее понять, как среди работников этого ведомства находятся лица гетеросексуальной направленности…» Во времена министерства Румянцева такие лица редко находились по вполне естественной причине. Граф любил окружать себя умными гомосексуалами, среди которых оказались в будущем известный духовный лирик Андрей Муравьев и поэт Дмитрий Веневитинов. Да и Филипп Филиппович Вигель, покушавшийся на «зад Пушкина», продолжил службу в ведомстве Румянцева, но здесь уже исключительно по протекции родителя – губернатора Пензы и приятеля канцлера.
Открыть в себе, возможно, врожденную гомосексуальность, помогла либеральная во многих вопросах среда, в которой Румянцев провел свою юность. Вольтер, барон Гримм, Лейденский университет… Наконец, Французская революция, случившаяся в 1789 году, тоже способствовала свободе нравов. Стоит напомнить, что из рухнувшей Бастилии среди прочих был освобожден и прекрасный маркиз Де Сад, коего возбужденная толпа вынесла из стен тюрьмы на руках, как революционера. Кстати, и судьбу осколков французской монархии тоже пришлось решать Румянцеву еще в царствование
Екатерины II…
Шокированный войной с Наполеоном, который был почти его другом, Румянцев просит отставки несколько раз, но государь ее не одобряет. Тогда министерский портфель он оставляет старшему члену коллегии и уезжает в свое имение. Официальная же отставка состоялась только в 1814 году.
И начались славные времена «румянцевской дружины», завершившие так называемую «румянцевскую эпоху», в которую было сделано невероятно много для истории и словесности России.
Николай Петрович Румянцев полностью посвящает себя благотворительной деятельности. Это обширная работа включает в себя как поиск редких рукописей по всему миру, так и издание новых книг, финансирование научных исследований, а главное – открытие публичных библиотек по образцу европейских в губерниях России. На благотворительность за 11 лет граф потратил около 300 000 рублей. Не случайно его называли «кассиром русской словесности».
Центром деятельности Румянцевского кружка стал Московский архив иностранных дел, который возглавлял Николай Бантыш-Каменский. Его сын Владимир Бантыш-Каменский был ославлен во время одного из самых крупных гомосексуальных скандалов 1810-х годов. В числе прочих знаменитостей, подверженных гомосексуальной любви, он назвал Румянцева, а также министра духовных дел князя Голицына.
После признания Бантыш-Каменского из столицы были высланы в монастыри и на окраинные губернии несколько десятков чиновников. Но более всего досталось самому Владимиру Бантыш-Каменскому (он высылался неоднократно) и молодому Константину Калайдовичу (1792-1832), в будущем выдающемуся русскому историку. Именно Калайдовича старший Бантыш-Каменский рекомендовал Румянцеву для продолжения работы над изданиями русских летописей. Но представить свои изыскания Румянцеву Калайдович смог только в 1817 году, когда скандал чуть поутих. Высланный в Песношский монастырь, Калайдович одновременно собрал там интересные исторические сведения. Румянцев добивался возвращения Калайдовича в Москву у императора, используя покровительство просвещенного духовенства, которое было восхищено работой кружка Румянцева по сбору русских «летописей» в монастырях. Кстати, именно с Калайдовичем 70-летний граф будет совершать поездки по русской провинции в поисках древностей. Калайдович тяжело переживал свою гомосексуальность. Психологическое напряжение было настолько велико, что в 1828 году у него случился нервный срыв, закончившийся потерей рассудка, по причине которого была прекращена его научная и издательская (журнал «Русский зритель») деятельность.
В русских монастырях, европейских архивах и библиотеках (на Румянцева там работало 10 лучших ученых) было обнаружено около 1000 актов. Эти документы объясняли историю России с XIII по XVII век. Все рукописи были обработаны выдающими учеными своего времени и изданы в четырех томах.
Свое собрание Румянцев завещал для общественной пользы. Николай I пожелал открыть его в 1831 году под названием Румянцевского музея. Как этот музей оказался в Москве и положил основу Государственной публичной библиотеке имени Ленина? В 1860-е годы музей Румянцева в Петербурге пришел в такое плачевное стояние, что «его признали бесполезным», и собрание Румянцева принял к себе московский университет.
В 1922 году при Советах коллекция Румянцева была расформирована и распределена по разным музеям, архивам и библиотекам. Основная часть рукописного и книжного собрания оказалась в Российской государственной библиотеке.
О полностью забытом при советской власти меценате вспомнили в конце 1990-х годов – не только в России, но и в Белоруссии, в частности в Гомеле – там, в семейных владениях, Румянцев был похоронен. Этот белорусский город обзавелся памятником Румянцеву, теперь подумывают и о восстановлении его надгробия.
Знают ли белорусские власти, начавшие в 2004 году борьбу «с пропагандой гомосексуализма» о том, что Румянцев был гомосексуалом? Наверное, не догадываются. Но что значила гомосексуальность для самого Румянцева?
За свою долгую жизнь он не создал семьи, он окружал себя приятными молодыми людьми, многие из которых превращались в сердечных друзей и любовников. Интимная жизнь гомосексуалов того времени проходила в кружках и группах, наподобие той самой «румянцевской дружины» при историческом архиве. Устойчивых пар у гомосексуалов начала XIX века не было.
Но Румянцеву не нужно было пользоваться безропотными крепостными мальчиками для сексуальных утех. Он был образованным человеком, который знал настоящую цену душевной привязанности и мужской дружбы. Ценности науки и личные привязанности в конце жизни, к счастью, совпали. После скандала с Бантыш-Каменским Румянцев приложил все усилия для того, чтобы спасти от гонений профессора московского университета Плисова и своего сердечного друга историка Калайдовича – их имена среди других назвал полиции Бантыш-Каменский.
«Старик, по-старому шутивший…». Иван Дмитриев (21 сентября 1760 – 15 октября 1837)
Сенатор, член Государственного совета, обер-прокурор, министр юстиции в царствование Александра I Иван Иванович Дмитриев, несмотря на свои высокие заслуги перед российской государственностью, более всего запомнился современникам остротами и баснями, за что и снискал себе славу русского Лафонтена… А еще популярными песнями. Был он, говоря современным языком, хитмейкером своего времени. Авторство десятка песен, написанных Дмитриевым за один 1792 год, быстро присвоил народ, которому особенно полюбилась вот эта сущая безделица:
Стонет сизый голубочек –
Стонет он и день, и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь…
Своего голубка, а правильнее сказать, голубку так и не нашел за всю свою долгую жизнь Иван Дмитриев. А если правда, то и не искал. Один из его корреспондентов литератор Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев (1790-1849), вошедший в круг приятелей Дмитриева в 1818 году, уверял позже, что «в общении с женщинами он оставался девственником». О его «девственной стыдливости» стали даже слагать анекдоты, вроде вот этого: «Мол, некий высокопоставленный вельможа громко интересуется у Ивана Ивановича: «…Бывали ли вы в борделе?» А Иван Иванович еще более громко отвечает: «Не бывал, и того не стыжусь…»
Впрочем, дабы избавить от любых подозрений столь образцового государственного мужа, каким должен был остаться в истории Иван Дмитриев, тот же Иванчин отмечал, что «…юноши трех поколений в каждый период его жизни, побеседуя с ним, возвращались домой, столь же невинными…» Замечание очень верное и правильное, потому что вне зависимости от того, идет ли речь о духовном или телесном целомудрии, вирус вольнодумства, с которым всегда соседствовала и сексуальная свобода, распространялся в России XVIII – XIX веков в буквальном смысле от гувернера к воспитаннику, от учителя – к ученику…
Наверное, все было именно так и с юным Иваном Дмитриевым.
Иван Дмитриев родился в Симбирской губернии в старинной дворянской семье. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его отдали в пансион, обучаться манерам, французскому языку, арифметике и рисованию. Пансион учителя Манженя находился в Казани, но дед Дмитриева захотел несколько месяцев пожить в уездном Симбирске, и уговорил Манженя перевести пансион туда же – для удобства. Долгое время Иван Дмитриев считался в классе самым «тупым» учеником – мальчику не давались точные науки, зато он с удовольствием занимался историей и «сочинением писем» по историческим темам. Впрочем, сочиненные «нелепости» вызывали смех старших учеников и нового учителя Кабрита…
Кабрит был натурой доброй и умной, но, как многие французы того времени, распущенной. (Вспомним хотя бы, кто открыл секреты однополого удовольствия современнику Дмитриева Филиппу Вигелю – все тот же учитель-француз). С учениками он щедро делился своими интимными успехами – ему было всего 26 лет, и он, как выразится Дмитриев в своем жизнеописании, «платил дань слабостям своего возраста». Отец «испугался последствий худых примеров» и забрал Ивана с братом из пансиона. Он решил дать детям образование под собственным руководством. Но учитель из него вышел плохой, да к тому же и Иван уже грезил похождениями. В пансионе он перечитал все сказки «Тысячи и одной ночи», «Приключения Робинзона Круза», но более всего увлекся любовными переживаниями «Истории кавалера де Грийу и Манон Леско». По этой книге Дмитриев получил представление о французской литературе и фактически изучил французский литературный язык, с помощью «Вояжирова лексикона». Да настолько хорошо, что «по охоте» вскоре смог начать переводить Лафонтена. Интересно, что мемуарах Дмитриев особо оговаривает, что «чтение романа не имело вредного влияния на его нравственность».
Образование Дмитриева было прервано пугачевским бунтом и войной с Оттоманской империей, которая началась в конце 1768 года. В русской провинции того времени, тем не менее, никаких развлечений, вроде клубов и салонов не было. Еще большей диковинкой был театр. День проходил в разговорах с «умными московскими приятелями» и карточными играми (ломбер). Мальчику-то и было всего двенадцать лет, но он уже резво вел разговоры о литературе и внимал рассказам о театре. Вскоре появилась и возможность увидеть оперу. Опасаясь, что вслед за Казанью во власти бунтовщика Пугачева окажется и Симбирск, Дмитриевы отправились в Москву. «Посещение книжных лавок было любимой моею прогулкою», – вспомнит Иван об этом времени. Здесь же он впервые увидел итальянскую оперу.
С 1777 года, семнадцати лет отроду, Дмитриев считает свои опыты в поэзии и рифмовании более или менее серьезными, хотя все свои преимущественно сатирические тексты он позже сжег… Осталась лишь надпись, сделанная по конкурсу, к одному из портретов знаменитых соотечественников в петербургском еженедельнике «Ученые Ведомости» Николая Новикова. Так 14 апреля 1777 года состоялась литературная премьера Дмитриева… – это была подпись к изображению писателя Антиоха Кантемира.
Дмитриев продолжает писать стихи, но так как его увлечение не находило поддержки у близких (старший брат называл его «жалким рифмоплетом»), он отсылал по газетам и журналам безымянные тексты, которые все же частенько публиковались. К 1795 году набралось случайных сочинений достаточно, чтобы собрать их в книгу под названием «И мои безделки…» и на некоторое время, до начала издания Николаем Карамзиным «Вестника Европы» в 1802 году, оставить литературную деятельность.
В 1797 году, «не имея склонности к военной службе», Дмитриев надеется выйти в отставку в звании полковника. Он получает ее и уже собирается удалиться в деревню… Но все меняет смерть Екатерины II. Аккурат на Рождество Дмитриева арестовали по доносу и обвинили в покушение на жизнь нового императора Павла I. Три дня его продержали под арестом, пока не выяснили имя доносителя… В эти дни только Федор Козлятев не побоялся назваться перед полицией близким другом Дмитриева. На фигуре этого человека, которого Иван Дмитриев считал «…больше, чем другом, истинно добрым гением моим», стоит остановиться подробнее. Хотя известно о его персоне немного…
Дмитриев и Козлятев были почти неразлучны, несмотря на разность лет и состояний. В одно время Козлятев был поручиком, а Дмитриев все еще сержантом. Вольтер, Руссо, Дидро – беседы о них с Козлятевым стали для Дмитриева «училищем изящного и вкуса». Служба то сводила их вместе, то разводила по разным концам империи. Они состояли в активной переписке, но почти ни одного послания их друг к другу не сохранилось. Для павловских времен Козлятев казался настоящим вольнодумцем – благоволил солдатам в Преображенском полку, отдавал назад оброк крестьянам и, между прочим, так и не женился. Жизнь его оборвалась как-то внезапно в 1808-м. Уход друга Дмитриев сильно переживал.
Кстати, в 1797 году сидел Дмитриев под арестом не один, а со своим приятелем Лихачевым. И тогда выяснилось, что донос написал крепостной мальчик Лихачева, который хотел таким образом получить от Лихачева вольную. Сейчас над этим фактом можно немало пофантазировать – что это за образованный такой крепостной мальчик?..
После «приключения», грозившего стать последним в жизни, Павел Юрьевич Львов показал стихотворение Дмитриева, адресованное Гавриилу Державину, его герою. И в первый же день Дмитриев просидел в доме у Державина до вечера, а через неделю уже сделался постоянным его «коротким знакомцем». Державин стал для него образцом поэта того времени, который совмещал поэтический труд с государственной службой, составлением законодательных актов, проектов и постановлений, совершенно лишенных любой поэзии.
Да и у самого Дмитриева появилась возможность повторить пример Державина. Когда подозрения в заговоре были сняты, Павел I решил «во искупление недоразумения» дать Ивану Дмитриеву должность статс-секретаря. Так что отставка и деревня были отложены на два года, потому что через день Павел одарил его еще и местом обер-прокурора в сенате, потом назначил товарищем министра и пожаловал в действительные обер-прокуроры…
В запоздалой отставке Дмитриев, оставленный с пенсионом и чином тайного советника, купил в Москве дом с садом и посвятил себя литературе. К 1803 году он подготовил «Собрание сочинений в двух частях», потом книги пошли одна за другой – всего около 15 томов к 1823 году…
Вернул Дмитриева на службу Император Александр в 1806 году – назначил его сенатором и отправил в Рязанскую губернию расследовать дело о взятках. Но ретивости Дмитриева никто не оценил, и главный казнокрад был вновь назначен в ту же Рязань вице-губернатором. Дело у Дмитриева отобрали, а за усердие повысили – назначив членом преобразованного Государственного Совета, который собирался в Петербурге в присутствии Государя по понедельникам.
В 1810-м Дмитриев занял пост министра юстиции. И тут свет сразу же заприметил, что 50-летний поэт наполнил казенное здание симпатичными юношами. На самом деле он привел с собой вовсе не армию, а всего трех молодых отроков – Милонова, Грамматина и Дашкова – каждому чуть больше 20. Язвительный Вигель (тот самый – «не щадивший задов»), искавший внимания Дмитриева, так опишет появление молодежи в министерстве: «…с Дашковым (Дмитрий Васильевич Дашков – чиновник и литератор, один из «сердечных друзей» Вигеля) любил беседовать о любимом предмете… был ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Грамматину и Милонову». Сильно, вероятно, огорчился Вигель, что не было его среди отобранной Дмитриевым троицы. И, действительно, ведь не он, а Дашков сменит своего дядю на посту министра в 1814 году.
Поселившись в Москве, Дмитриев сразу же приобрел особое влияние на молодежь, в том числе поэтическую – переписывался с Александром Пушкиным и Василием Жуковским, учителем цесаревича. Свет почитал его «эгоистом, потому что он был холост и казался холоден».
«Любил он не многих, зато любил горячо…», – напишет позже Филипп Вигель, который станет постоянным посетителем московского дома Дмитриева – уже старца почтенных лет, о котором Пушкин вспомнит в VIII главе своего «Онегина», как о «старике, по-прежнему шутившем…» Среди прочих слабостей Дмитриева были в нем «чрезмерная раздражительность и маленькое тщеславие». Но молодые поэты все равно любили его. Среди них, например, некий князь Петр Иванович Шаликов, приятель Константина Батюшкова, который нашел в Дмитриеве покровителя и защитника. Вот, как писал он о Дмитриеве в своих беспомощных стихах:
И юноша-певец, в движеньях сердца чистых
Певцу маститому благоговейно дань
Приносит творческих небесных вдохновений…
…Умер Дмитриев от простуды. В четверг поздней осенью 1837 года «еще обедал дома, сытно поел поросенка, потом вздумалось ему попросить шоколаду, который запил стаканом молока, после пошел в сад сажать тополя…» Простудился, слег с температурой и через два дня отошел в мир иной, откуда сходит иногда дух святой в образе сизых голубочков.
Государственный деятель и поэт Иван Иванович Дмитриев представляет собой обычного холостяка рубежа XVIII – XIX веков. Одиночество подобных людей историографы обычно объясняют какой-то безумной романтической страстью, которая навсегда разбила сердце. Для Дмитриева, «девственностью» которого современники вслух восхищались, а меж собой над ней иронизировали, тоже придумали такую историю – о его страсти к жене сослуживца П. И. Северина, Анне Григорьевне…
Но чем глубже погружаешься во времена жизни «русского Лафонтена», чем внимательнее вчитываешься в письма, мемуары и редкие исторические анекдоты, тем очевиднее становится его последовательное равнодушие и невнимание к женском полу…
«Придворный ветреник…». Александр Голицын (8 декабря 1773 – 22 ноября 1844)
Князь Александр Николаевич Голицын, министр духовных дел и народного просвещения в царствование Александра II, а также обер-прокурор синода, а также некоторое время министр внутренних дел, главный попечитель Императорского Человеколюбивого общества, главнокомандующий почтовым департаментом, член, а потом председатель Государственного совета, наконец, канцлер Российских орденов… Он был вторым после графа Николая Румянцева высокопоставленным гомосексуалом в Российской империи начала XIX века.
Кто не знает анекдота о князе-полководце Суворове, его звезде и императрице Екатерине II? «Однажды Суворов был приглашен к обеду во дворе. Занятый разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спросила его о причине такого поведения. «Он у нас, матушка-государыня, великий постник, – ответил за Суворова Потемкин, – ведь сегодня сочельник: он до звезды есть не будет». Императрица, подозвав пажа, пошептала ему что-то на ухо; паж ушел и через минуту возвратился с небольшим футляром, а в нем – бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавив, что теперь уже он может разделить с нею трапезу».
Пажом, доставившим полководцу первую – после поста – звезду, и был юный князь Александр Голицын. Этот анекдот, среди множества других, входил в своеобразную «концертную программу», с которой в почтенном возрасте князь, известный как «придворный ветреник», появлялся в свете. Таким вот иронистом был первый министр просвещения России – гомосексуал, одаренный «умом тонким, метким, которому свойственно было замечать и перенимать смешную сторону каждого человека».
Александр Голицын – сын вконец обедневшего князя Николая Сергеевича Голицына, сосланного в Ярославль во времена бироновщины. До десяти лет он воспитывался дома, пока не заметила его Марья Савишна Перекусихина, старая доверенная камер-юнгфера императрицы, и не представила маленького забавного мальчика Екатерине II. Парнишку записали в пажеский корпус, где продолжил он свое домашнее образование.
В 1787 году юного пажа Екатерина взяла с собой, когда отправилась осматривать приобретенный Новороссийский край. Во время путешествия паж особенно подружился с одиннадцатилетним цесаревичем Александром. По возвращении в Царское Село императрица оставила пажа при себе и «назначила» приятелем к внуку.
Екатерина запомнилась Голицыну дамой с тростью и собачкой, непринужденно прогуливавшейся по Царскосельским паркам.
Четыре года слушал Голицын светскую болтовню во время многочисленных раутов и туалетов императрицы, находясь в пажеском корпусе. Тогда это была настоящая школа баловства. …За исключением иностранных языков, выучивались пажи хорошо танцевать, фехтовать да ездить верхом. Игривый нрав Голицына здесь проявился во всем. Весельчак как-то на спор дернул за косичку известного грозным нравом отца Александра, великого князя Павла Петровича, смиренно объяснив, что коса его немного сдвинулась, оттого необходимо было ее поправить.
Со своим сводным братом Дмитрием Михайловичем Кологривовым они были в пажах неразлучной парой. Два шутника любили переодеваться в женские одежды и смущать во дворце во время приемов и балов чиновников и приятелей своих неожиданными разоблачениями. В это время сформировались в Николае Голицыне задатки трансвестита. Привычка к переодеванию нашла отклик при дворе Екатерины, известной затейницы бесконечных маскарадов, неоднократно появлявшейся на них в мужском одеянии. Однажды, представившись девицей, Голицын так далеко завел интрижку с одной дипломатической особой, что заинтригованная сторона чуть ли уже не перешла к решительным действиям – спасло появление Кологривова, не менее искусно «задрапированного» в наряды одной из фрейлин. Последовало феерическое разоблачение.
Когда Александру исполнилось шестнадцать лет, Екатерина женила внука и составила для него свой небольшой двор. Голицын стал играть в нем первую скрипку. Особенно привлекало будущего Императора то, что Голицын отличался скромностью и никаких привилегий не просил, за исключением одной – «счастия ежедневно находиться при царе, наслаждаться его лицезрением, иногда рассеивать, если нужно, грусть его». Тот же наблюдательный мемуарист Вигель замечает, что из окружения Александра только у Голицына была к императору исключительно «чувственная привязанность».
После воцарения Александра I светскую жизнь князя потеснила служба. Александр сделал друга детства членом Государственного Совета, а потом поставил во главе Священного Синода. Возглавляя «православное ведомство» Голицын оставался в придворных кругах известным, прежде всего, своим веселым нравом и многочисленными комическими выходками, иногда на пару с Кологривовым, который стал при Александре обер-церемонимейстером. Не шутка ли, что и должности у двух сердечных приятелей стали называться по созвучию.
Дела Святейшего Синода были доверены Александру Николаевичу Голицыну в 1803 году. В то время поклонник идей энциклопедистов и «вольтерьянец» числился среди «неверующих». В «тесном кругу тогдашних прелестниц» Голицын любил посмеяться над «странной случайностью», поставившей его во главе православия в России.
Вскоре среди иерархов русской православной церкви нашел Голицын немало высокопоставленных персон, понимавших его увлечение мужчинами. Или, быть может, некоторые духовные лица, вроде митрополита Серафима (Глаголевского), именно так добивались возвышения…
Голицын совершенно перестал считаться с мнением членов Синода, но одновременно долгое время избегал любых столкновений с епископами. Первое время его увлекла обрядовая сторона православия. В доме у себя он устроил молельную комнату, в дальней ее части находился алтарь, на котором помещалось алое сердце Иисуса, изготовленное европейскими умельцами из особого стекла. В общем, ударился просвещенный князь в мистицизм.
Замыслил Голицын, не обращая внимания на все возрастающий ропот духовенства, уравнять в правах православную веру «не только с другими терпимыми, но даже с нехристианскими».
Из самых известных проектов Голицына надо назвать «Российское библейское общество», учрежденное и возглавленное им же в 1817 году. В последние годы существования общества при нем издавался журнал «Сионский вестник», который способствовал появлению в России переводной литературы. А Библия благодаря «придворному ветренику…» пошла в народ и получила повсеместное распространение среди всех российских сословий. Голицын поставил своей задачей искоренить всякого рода православные нелепости и суеверия на основе изучения в народе божественной книги. Преподаванию Закона Божьего в приходских школах Россия тоже обязана «вольтерьянцу» и мистику Голицыну. Под его руководством при содействии
М.М. Сперанского были открыты в империи три духовных академии и проведена реформа семинарского образования.
К тому времени учрежденное в 1816 году министерство духовных дел и народного просвещения также было отдано Голицыну. Насаждение библейского просвещения соседствовало с цензурными жестокостями. Известно, что сам Голицын допрашивал Александра Пушкина на предмет сочинительства богохульной «Гаврилиады». В 1824 году, когда Голицына сместили со всех постов после грандиозного гомосексуального скандала, Пушкин вдоволь поиздевался над стариком в злой эпиграмме, намекающей на интимные увлечения обер-прокурора.
Напирайте, Бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.
В 1824 году Владимир Николаевич Бантыш-Каменский, сын историка
Н.Н. Бантыш-Каменского, предоставил в полицию список именитых «мужеложцев», среди которых в числе первых значился и князь Голицын. «Кредит князя» у Императора Александра пошатнулся, и усилиями своих врагов, среди которых были и несколько прежних его фаворитов, Голицын был смещен со всех своих постов.
Формальной причиной отставки послужили дела цензурные. В книжке, пропущенной Голицыным, начитавшимся философских произведений, и выпущенной Библейским обществом, сказано было, будто «Спаситель наш, прежде земли, воплощался уже в других мирах и что у Богоматери, исключая его, были другие дети от Иосифа». Цензоры полетели на гауптвахту, директора департаментов были смещены, а Голицыну взамен духовного ведомства поручили почтовое…
Ничего не осталось князю в удовольствие, как заняться обустройством собственных владений да благотворительностью.
В конце 1820-х годов Голицын начал строить дворец на черноморском побережье. Дом, сад, водопроводы – все делалось по специальным чертежам. Светские щеголи тут же потянулись в Гаспру, где давались феерические балы, напоминавшие своим размахом маскарады екатерининской эпохи. Пока молодежь развлекалась, ослепший от старости «придворный ветреник» рассказывал анекдоты.
«Решил Александр I наградить меня за службу уже в бытность мою обер-прокурором орденом святой Анны 1-й степени. Но рескрипт с лентой был привезен ко мне в дом, когда я уже уехал с квартиры. Приезжаю я на обед к Императору на Каменный остров без ленты, о вручении которой не ведаю. А Император и говорит мне: «Ко двору на обед ездят в лентах, князь, разве вы того правила не знаете». Ничего не оставалось мне, как объяснить его Императорскому Величеству причину отсутствия ленты поспешностью, связанной с государственными делами. И государь тут же поспросил принести Анну высшей, 4-й степени, и милостиво увеличил награду».
Всю свою жизнь Голицын провел в России, в отличие, скажем, от своего старшего современника и другого не менее известно гомосексуала Румянцева. Лишь однажды вместе с императором Александром I он покидал пределы империи, в 1808 году во время свидания Александра I c Наполеоном в Эрфурте. Известный своим добродушием и веселым нравом, как гомосексуал он надел на себя маску одинокого веселого холостяка, осколка екатерининской эпохи.
В государственной деятельности Голицын основывался на безупречной верности Государю-императору и идеям века просвещения. Когда в 1847 году в Петербурге впервые вышел «Словарь достопамятных людей русской земли», составленный одним из сыновей архивиста Бантыш-Каменского, имя Александра Николаевича Голицына справедливо оказалось среди имен лучших сынов России.
Русская Амазонка. Надежда Дурова (17(?) сентября 1783 – 2 апреля 1866)
У «русской амазонки» Надежды Андреевны Дуровой необычная, прославившая ее на всю Россию судьба. Лесбиянка Дурова стала первой русской женщиной-офицером. Родилась она в Киеве в семье гусарского ротмистра. «Седло было моей первой колыбелью; лошадь, оружие и полковая музыка – первыми детскими игрушками», – вспоминала Дурова в «Записках кавалерист-девицы». С юношеских лет в ней проявились яркие мужественные черты, ее привлекали шумные компании дворовых мальчишек, среди которых она и выросла в имении бабушки в Полтавской губернии.
Мать Дуровой в свое время также показала свободолюбивый нрав, бежав от деспота-отца в объятия ротмистра Дурова. Впоследствии возвратить благорасположение покинутой семьи она надеялась рождением наследника, но на свет появилась девочка…
Далее, возможно, последовал бы обычный сюжет о воспитании девочки по образу мальчика и, как следствие, перестройки пола… Но у Дуровой все было несколько сложнее. Как она уверяет в мемуарах, ей с детства были свойственны многие мужские черты. Тем не менее, некоторая неприязнь к матери, присущая трансгендерным личностям, сквозит в мемуарах Дуровой, уверенной в том, что мать ее не любила. Чего стоит история с кричащим младенцем, которого мать выбрасывает в окно кареты. С этого драматического момента, собственно, и начинаются мемуары Надежды Андреевны. Она попадает на воспитание к гусарам – в седло – под пристальный взгляд флангового гусара Астахова, ставшего наставником амазонки Дуровой.
Пока девочке не исполнилось пяти лет (как раз к этому моменту отец вышел в отставку), мать не принимала никакого участия в ее воспитании. А когда опомнилась, было уже поздно – «с каждым днем воинственные наклонности» юной Дуровой «усиливались». Одумавшись, мать пыталась дать ей вдвое больше материнской ласки, которой Надежда была лишена во младенчестве. Но девочка уже грезила сражениями и битвами, соорудив где-то на окраине барского сада свой маленький арсенал – там были стрелы, лук, сабля и изломанное ружье.
«Воинственные настроения» Дуровой еще более усилились, когда на ее двенадцатилетие отец подарил ей черкесского жеребца Алкида, ставшего верным спутником Дуровой в ее боевых подвигах.
В детстве Надя вела себе скорее по модели мальчишеского поведения. Ее интересовали естественные проявления природной жизни. Летом она так много времени проводила на воздухе, просыпаясь засветло, чтобы встретить рассвет, что стала походить лицом, по уверению няни, на «плащеватую цыганку» (а «плащеватые цыгане самые черные»). Чего стоили также попытки сделать вино из собственноручно собранного березового сока, изготовление фейерверков и «ручных гранат», испытания которых устраивались в огне печи…
Мать Дуровой не оставляла попытки бороться с «такими наклонностями» дочери и отправила ее к своей матери, бабке Александровичевой, в Малороссию. От бабки Надежда отправится погостить к тетке Значко-Яворской. Это был непродолжительный момент жизни Дуровой, когда «назначение женщины не казалось уже таким страшным», если бы не несчастная любовь к молодому отроку Кириякову, мать которого отказалась брать в жены сыну бесприданницу. Намечавшаяся было свадьба расстроилась.
Информацию о личной жизни Дуровой мы черпаем в основном из ее автобиографических записок, которые, кстати, стали одним из первых опытов такого рода жанра в русской литературе.
Решение надеть форму гусара Дурова, разумеется, обосновывает не только «отвращением к своему полу» и «любовью к отцу», но и стечением обстоятельств, показавших «ужасную участь» современной ей женщины. Во-первых, как вы помните, мать ее бежала, порвав с семьей, ради любви. Позже она испытала сильнейший нервный срыв, вынужденная смириться с отрытой изменой мужа… Хотела ли Надежда Дурова себе такой судьбы?.. Обстоятельства жизни свидетельствовали, что она вполне может повторить удел матери. В октябре 1801 года Надежду насильно выдали замуж за вятского чиновника Василия Степановича Чернова. Через два года родился сын Иван, но брак не сложился. Вскоре Дурова вернулась в дом к родителям. За всю свою жизнь, после вербовки в Конно-польский уланский полк, Дурова ни разу не вспомнила ни о сыне, ни о муже и не поддерживала с ними никаких отношений.
В 1806 году в Казани она познакомилась с поручиком Григорием Шварцем и безумно влюбилась в него. Интересно, что Шварц был любовником Филиппа Филипповича Вигеля. Бывают такие странные романы у лесбиянок и гомосексуалов… Со Шварцем она совершила свой первый побег из родительского дома, когда того переместили на Дон. Об этом периоде жизни Дуровой сообщает герой войны 1812 года Денис Давыдов в своем письме к Александру Пушкину: «К несчастию ее, Шварца перевели тогда в Литовский уланский полк, который стоял тогда на Волыни. Она поскакала на Волынь и, приехавши в Бердичев, так истратилась в деньгах, что приходилось ей умирать с голоду. В это время вербовали в Мариопольский гусарский полк <...> и она, надев мужское платье, завербовалась в гусары...»
В гусарском полку Дурова назвалась Александром Соколовым, участвовала в Прусской кампании 1806-1807 годов, была награждена Георгиевским крестом за то, что спасла от гибели раненого русского офицера. Когда «переодевание» Дуровой раскрылось, скандал дошел до Императора Александра I, но он отнесся к этому довольно спокойно. Мало того, произвел Дурову в офицеры и разрешил продолжать военную службу под именем Александра Андреевича Александрова. В Отечественную войну 1812 года Дурова принимала участие в нескольких сражениях, некоторое время даже была ординарцем у Михаила Ивановича Кутузова. Вышла в отставку в чине штаб-ротмистра.
В «Записках…» история бегства Дуровой в армию описана иначе. Причиной ухода из семьи служит не любовь (так бы Дурова невольно повторила в своем сознании судьбу матери, которую, как мы уже отметили, не любила), а конкретная цель превращения в «воинственную амазонку». Под метаморфозы пола подкладывается и определенная идеологическая основа – желание послужить Отечеству и Императору. Разнится и возраст героини «Записок…» и реальной Надежды Дуровой. В «Записках…» ей – 16, в жизни – 23.
Свой уход в армию Дурова превратила в обряд посвящения в амазонки. Воинская инициация Дуровой происходит в день ее именин. Она получает от своих близких подарки – от матушки золотую цепь, от батюшки денег 300 рублей и гусарское седло, даже маленький брат отдает ей свои золотые часы. Все дары символизируют снаряжение воина в дорогу…
Впрочем, все это уже свидетельствует о недюжинном литературном даре Надежды Дуровой, который отметил и Александр Сергеевич Пушкин. Летом 1836 года он даже предложил в ее/его распоряжение свою городскую квартиру. При первой встрече галантный наследник арапа поцеловал ей руку. Александр Александров был смущен и произнес в ответ: «Ах, ну что вы! Я так давно отвык от этого…»
Сохранилась переписка Пушкина с Дуровой, в которой речь в основном идет об издании ее первого литературного опыта «Записок кавалерист-девицы», которые она предлагала ему купить. Но Пушкин смог опубликовать лишь отрывок в своем «Современнике» (1836, т. II), где написал в вступлении: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным». Целиком «Записки...» Дуровой вышли по финансовым причинам без участия Пушкина, но Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) в своей рецензии на них не без оснований отметил, что, кажется, «сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо...»
Из членов семьи близкие отношения Дурова поддерживала только с братом Василием Дуровым. После его смерти она поселилась в уединении в Елабуге, полностью оставив литературную деятельность. Живет скромно, на пенсию, положенную ей Императором, посвятив себя своей возлюбленной – бывшей крепостной дворовой девушке Варваре. Надежда Андреевна все так же носит мужской костюм, курит сигары, по-прежнему называет себя мужским именем и содержит в своем домике целую ораву собак и кошек.
Тихо умирает в Елабуге весной 1866 года в возрасте 83 лет.
Похороны устраиваются по армейскому обычаю с воинскими почестями.
Судьба Дуровой, которая, благодаря «сопротивлению полу», прожила жизнь свою так, как хотела, показывает в то же время непростое отношение в имперской России к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Дурова не была публично осуждена ни родственниками, ни Императором Александром I, который, напомним, прослышав о современной амазонке, сам вызвал ее на высочайшую аудиенцию и пообещал покровительство, дал фамилию и возможность сохранить от оглашения тайну. Впрочем, ведь далеко не женский пол мог помешать Дуровой оказаться в гусарском полку, а, например, отсутствие доказательств принадлежности корнета Александра Соколова к дворянству. Это еще раз подтверждает значение тех условностей, которые строит для себя общество, разграничивая людей не только на два противоположных пола. Но воинский дух, упорное желание взять в руки оружие, не изменив физиологической природы, развернули в противоположную сторону пол Надежды Дуровой. В середине ХIХ века в имперской России, находящейся во власти сословных и религиозных схем поведения, Дурова пережила в буквальном смысле настоящий «трансгендерный триумф», с честью выдержав и в армии, и в жизни абсолютно все экзамены на мужскую идентичность.
«…Но, Вигель, – пощади мой зад!». Филипп Вигель (23 ноября 1786 – 1 апреля 1856)
Филипп Филиппович Вигель, современник и друг Александра Пушкина, государственный деятель начала ХIХ века и самый, быть может, известный гомосексуал в России того времени, – личность сегодня незаслуженно совершенно забытая.
Это о Вигеле Пушкин писал в дневниках, что его разговоры всегда «...кончаются толками о мужеложстве», это о нем прозрачная ироничная строчка – «...но Вигель, пощади мой зад!»
Происходил род Вигелей то ли от шведов, то ли, как выражался сам Вигель, от чухонцев. Дед Вигеля был взят в плен под Полтавою во время войны со шведами, а отец уже верою и правдою служил Петру III. На царские именины был ему обещан чин флигель-адъютанта, но… не сбылось. Екатерина вступила на престол, а отец Вигеля, подобно деду Пушкина – отправился «в крепость, в карантин». Однако царской милостью был отпущен и прослужил Екатерине II 35 лет. Всегда с благоговением произносил ее имя. По выходу в отставку он выбрал себе место киевского обер-коменданта, отказавшись от должности губернатора Олонецкого края. C 1806 года старший Вигель был первым губернатором Пензы.
В детстве мальчик, воспитывавшийся в набожной обстановке в Киево-Печерской лавре, одновременно приходил восторг от сказок «Тысячи и одной ночи», которые слышал из уст приятельницы кормилицы. С семи лет «народное» воспитание сменили нанятые учителя – из немцев.
Особенно мучило мальчика невнимание со стороны отца, который был занят государевой службой, – он тосковал и по ласке, и даже по наказанию. Позже Вигель признавался, что равнодушие отца отняло у него «много счастья». Матушка, напротив, стала лучшей подругой, с которой юный Филипп познал «и радости, и гнев, и нежнейшие восторги, и слезы…». Этот недостаток отеческой любви, как правило, является одним из факторов, которые способствуют проявлению скрытых гомосексуальных наклонностей… Их, наклонности, Вигель осторожно называл «странностью своей природы». Они, кстати, судя по всему, проявились в довольно раннем детстве. Из первых воспоминаний запомнится юному Филиппу упорное наставление одной из материнских подруг г-жи де-Шардон – «как можно любезнее вести себя с маленькими девочками и тем приготовлять себя к будущим успехам с большими». Наставление, реализованное лишь однажды – в самом юном возрасте. В 10 лет Филипп пристрастился подглядывать за тем, «как говорили о любви». Надо полагать, что мальчику довелось наблюдать не только разговоры, но и действия. Под впечатлением от увиденного он решил объясниться в любви маленькой княжне Хованской. Девочка ответила взаимностью… За каким таким занятием застал Филиппа и юную княжну учитель танца Потто неизвестно. Но скандал разразился такой, что высекли обоих.
Впрочем, все равно из друзей у Филиппа в основном были девочки. Он очень любил свою старшую сестру, которая вышла замуж и к которой он незадолго до 1800 года переехал в Москву. Там Филипп был отдан в пансион мадам Форсевиль… Он очень тосковал по маменьке, и та нашла способ вернуть сына в Киев и при этом дать ему хорошее образование. На воспитание его взяла к себе подруга матери княгиня Голицына, содержавшая с десяток учителей для своих отпрысков.
Француз-гувернер де-Ролен-де-Бельвиль, который воспитывал девятерых будущих князей Голицыных, и соблазнил юного Филиппа вместе со страшим из детей Голицыных. Началось все с нескромных речей и непристойных анекдотов, которые настолько преумножили бесстыдство Филиппа, что… Впрочем, неизвестно, чем там у них все закончилось. И вообще, как позже посетует сам Вигель, «нравственный» француз в те времена – это нечто вроде диковинки.
Филиппу Вигелю более чем француз запомнился другой учитель – будущий русский Лафонтен – баснописец Иван Андреевич Крылов. Удивительно, что на склоне лет Вигель будет по-настоящему восхищаться этим человеком, возможно, во многом оправдывая свое гомосексуальное одиночество. Крылов – личность странная, он не знал ни дружбы, ни любви. Он никогда не был женат, страдал обжорством, известен был, может быть, более своей леностью, а не острым языком – «две трети столетия прошел он один» и, конечно, слухами о низкой страсти к маленьким девочкам.
После десяти месяцев домашнего образования в доме Голицыных под Киевом Филипп вместе с Михаилом Голицыным был определен в московский архив Иностранной коллегии – там, на окраине Москвы, он переписывал «пуки полуистлевших столбцов».
В архиве Вигель познакомился со страшим сыном своего главного начальника Владимиром Бантыш-Каменским. К «надворному советнику и весьма зрелому молодому человеку я почувствовал омерзение… Не краснея, нельзя говорить о нем… его низости и пороками не стану пачкать сих страниц», – напишет он в своих записках на склоне жизни. А зря… Конечно же, старший из Каменских ославился на всю Россию пристрастием к крестьянским мальчикам. Но стоило ли так жестоко относиться к «пороку» Каменского, за который тот пострадал (за мужеложство заточен в монастырь на всю жизнь) гораздо сильнее того же Вигеля, отделавшегося за увлечение офицерами вице-губернаторской ссылкой.
Там же, среди «архивных юношей», как метко назовет их Александр Пушкин, ждал академических свершений, словно «блуждающая комета» (Вигель), сам Дима Блудов, будущий председатель Комитета Министров и Государственного Совета, принявший в свое время в наследство от Сергея Уварова Академию наук.
Все свободное время Филипп проводит в театрах, увлеченный литературой, и на московских балах.
В 1803 году Вигель отправляется в Петербург – город, в котором «только две дороги – общество и служба – выводят молодых людей из безвестности». С этого времени начинается его светская и государственная карьера. В свете его представляет один из бывших партнеров по юношеским сексуальным играм – князь Федор Голицын. А двери знатных домов и министерств открывают письма отца…
Вигель был причислен к одному из министерских департаментов, но два года только получал жалованье и не ходил на работу из-за бюрократических проволочек при создании министерства, в котором он закончит свою службу в должности директора Департамента духовных дел. Во многих своих неудачах чиновника Вигель винил знаменитого Сперанского, нещадным критиком которого был и сильно ненавидел: даже в мемуарах жалел из-за того, что Александр не казнил его.
Из-за безденежья в 1805 году Вигель напросился принять участие в русском посольстве в Китай, которое закончилось неудачей – послы в Пекин так и не попали. Вскоре Вигель вернулся в Петербург.
В 1808 году он присутствует на открытии Царскосельского лицея, где видит юного Александра Пушкина. Вскоре им предстоит стать друзьями.
Войну 1812 года Вигель встретил в Вильне. Предприняв попытку записаться в ополчение, он все-таки остается при сестрах. «Мужчинка ледащий» делается на время войны «опорой и защитой» своим сестрам. Все остальные члены многочисленного семейства оказываются в армии.
В 1814 году в Петербурге составилась интересная «холостяцкая компания» – Дмитрий Васильевич Дашков (1788-1839), воспитанник поэта и министра иностранных дел известного гомосексуала Ивана Дмитриева, и автор «критической брошюры» поэт Константин Батюшков (еще в разуме и отличавшийся «незлобивым самолюбием»), тот самый Блудов, Дмитрий Николаевич (1785-1864), и Вигель… Вся члены компании известны своими гомосексуальными склонностями, но главное – склонностями литературными. «Живши посреди друзей русской литературы, я неприметным образом с нею ознакомился и стал более заниматься ею», – напишет в «Записках» Вигель. Среди четырех приятелей регулярно появляется пятый – бывший учитель Вигеля баснописец Иван Крылов. Возможно, тогда и возникла мысль составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов», вошедшее в историю русской литературы как общество «Арзамас». Общество собиралась каждую неделю по четвергам у одного из двух женатых членов его – Блудова или Сергея Уварова (того самого, который протежировал Дундукову в академии – «…почему он заседает? Оттого что жопа есть»). В «Арзамасе», по словам Вигеля, верховодил Василий Жуковский. На каждый вечер он придумывал подавать жареного гуся (так как более всего славились в России арзамасские гуси). Называть друг друга было решено именами на новый лад, которые тут же и позаимствовали из баллад Жуковского. Не случайно ли особы с гомосексуальной репутацией получили имена именно на женский лад?.. Уваров – Старушка, Блудов – Кассандра, Жуковский – Светлана… Вигеля же прозвали Ивиковым Журавлем (намек на язвительные насмешки над противниками). Так и прозаседали два года. «Арзамас» пережил собрания славянофилов и ретроградов в шишковской «Беседе», а русская литература расцвела либералами из «Арзамаса», среди которых неожиданно расцвел и Пушкин, принятый в «Арзамас» под именем Сверчка в 1817 году.
До 1823 года Вигель продолжал свою службу в архитектурном комитете по строительству Петербурга, но надеялся получить повышение. Некоторое время он лечился в Париже. Но там, познакомившись со свободными нравами мужской любви, отдался этому увлечению настолько, что, вернувшись в Россию, едва не умер.
Но с 1823 года он отправляется на юг России правителем канцелярии бессарабского наместника, через три года назначается вице-губернатором Бессарабии, потом градоначальником в Керчи.
Остановимся наконец и на портрете Вигеля, каким его увидел приятель, известный французский писатель, гомосексуал А. Сент-Ипполит (Ипполит Оже): «Круглое лицо его с выдающимися скулами заканчивалось острым приятным подбородком; рот маленький, с ярко-красными губами, которые имели привычку стягиваться в улыбку, и тогда становились похожими на круглую вишенку (черта заметная и на портрете Вигеля). Это случалось при всяком выражении удовольствия… Его взор блистал лукаво, но в то же время и привлекал к себе».
«Записки» Вигеля – бесконечный источник материалов для историков – издавались в 1928 году. Но единственное полное издание – около полутора тысяч страниц – состоялось только в 2003 году в издательстве «Захаров». При Советах дневники предали забвению за «реакционность».
Литература была для Вигеля родом развлечения: не стихи или проза, а критика... Многие статьи Вигеля, обидные для объектов его критики (среди которых и близкие по «Арзамасу»), распространялись в списках и для печати в те времена были совершенно непригодны, поэтому и не прошли цензуры. Была у него такая внутренняя натура – от любви до ненависти один шаг, свойственная вообще определенному типу гомосексуалов. Окружение Пушкина Вигеля недолюбливало, чего не скажешь о самом поэте. Подружились они во время южной ссылки Пушкина в середине 1820-х годов.
Встретив Пушкина в Одессе (поэт жил за стеною в одной с Вигелем гостинице), он воспринимает его не иначе как «большое утешение».
Вигель, оказавшись в Кишиневе вскоре после отъезда Пушкина, не стыдясь, сам расспрашивал Александра Сергеевича через одного из любовников, гвардейца Литовского полка Григория Шварца, кого из дворовых здесь лучше и проще будет употребить в известных целях. И Пушкин, словно опытный сводник, желая «рассеять» его скуку, советовал: «...из трех знакомцев годен на употребление в пользу собственно самый меньшой: NB. Он спит в одной комнате с братом Михаилом и трясутся по ночам немилосердно – из этого вы можете вывести важные заключения, предоставляю их вашей опытности...»
И тут же продолжал в том же тоне уже о себе: «...выдался нам молодой денек – я был президентом попойки – все перепились и потом поехали по блядям». В октябре 1823 года Пушкин с прозрачными намеками на особенные интересы Вигеля писал Вяземскому из Одессы: «Вигель был здесь и поехал в Содом-Кишинев, где, думаю, будет вице-губернатором». И, действительно, в 39 лет Вигель стал вице-губернатором Бессарабии по протекции новороссийского губернатора графа Воронцова.
Пушкин адресовал Вигелю стихотворение «Проклятый город Кишинев!», в котором он противопоставляет Содом Кишиневу, намекая на то, что уж лучше бы быть Вигелю вице-губернатором Содома.
«Содом, ты знаешь, был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами,
Гостеприимными домами
И красотой нестрогих дев!
Как жаль, что ранними громами
Его сразил Еговы гнев».
Заканчивается это стихотворное послание ироничным признанием в любви и желании служить Вигелю… «…Тебе служить я буду рад – // Стихами, прозой, всей душою, // Но, Вигель, – пощади мой зад!»
Автор знаменитых «Записок…» Филипп Филиппович Вигель оставил нам эмоциональную картину русской жизни начала ХIХ века. Эти «Записки» принято было считать плодом ума «раздражительного и негодующего» и чуть ли не «дерзким сочинением» всего лишь потому, что Филипп Вигель дал личные характеристики многим персонажам истории, которых знал лично. А это было во времена монархии не принято.
Вигель верно служил своему Отечеству и был отличным чиновником.
К несчастью, он немало пострадал из-за своей гомосексуальности. Его, правда, не сослали в монастырь, как того же Бантыш-Каменского, а всего лишь выслали из Петербурга в 1840-м и лишили должности руководителя Департамента иностранных вероисповеданий.
Сегодня мы можем вспомнить Вигеля и за то, что он разглядел способности будущего зодчего в юном чертежнике Монферране, который не без его участия стал императорским архитектором, а его главной работой на этом поприще оказался Исаакиевский собор. Вигель был первым смелым публичным критиком «Философических писем» Чаадаева, напечатанных в журнале «Телескоп», в своеобразном «открытом письме» митрополиту новгородскому и санкт-петербургскому Серафиму.
«Самонадеянный, заносчивый, многоречивый». Сергей Уваров (26 августа 1786 – 4 сентября 1855)
Граф Сергей Семенович Уваров, автор политической формулы «Самодержавие, православие и народность», был одной из главных фигур царствования императора Николая I. Ославленный Александром Пушкиным в стихотворении «На выздоровление Лукулла» (1835) и знаменитой эпиграмме про «жопу» «князя Дондука», он известен также как гонитель поэта и один из его притязательных цензоров. За эмоциональными оценками Пушкина и других современников была предана забвению настоящая жизнь князя Уварова, одного из умнейших государственных деятелей своего времени.
Сергей Семенович Уваров происходил из старинного дворянского рода, который однако не оставил о себе громкой памяти в русской истории. Отец его, которому покровительствовал сам Потемкин, был известен среди современников под кличкой Сеня-бандурист. Прозвище это Семен Федорович получил благодаря таланту играть на бандуре и с нею в руках плясать в присядку. Потемкин сделал бедного дворянина флигель-адьютантом Екатерины. Она же стала крестной новорожденного Сережи. Сеня-бандурист отошел в мир иной, когда его первенцу едва исполнилось два года. На руках вдовы, привыкшей проводить жизнь в светских удовольствиях, остались два сына. Под предлогом нехватки средств на их воспитание, мать отдала двух крошек своей сестре, выгодно вышедшей замуж за вице-канцлера князя Куракина.
В доме Куракиных Сергей получил домашнее образование под руководством «ученого аббата Мангена», бежавшего в Россию от ужасов французской революции. Подростком он уже сносно изъяснялся на трех языках. В 1802 году дядя оплатил пребывание шестнадцатилетнего пасынка в Германии, где он слушал лекции Геттингенского университета. В возрасте восемнадцати лет после возвращения в Россию Сергей Уваров был принят переводчиком в недавно организованное Министерство иностранных дел и произведен в камер-юнкеры.
У юного Уварова появляется широкий круг общения среди великосветских дам. В течение всей жизни он, по словам Филиппа Вигеля, – «самонадеянный, заносчивый, многоречивый» – довольно сложно сходился с мужчинами, за исключением тех, с кем его связывали интимные отношения. Пользуясь вниманием света, Уваров с 1805 года становится завсегдатаем салона Марии Нарышкиной, любовницы Александра I. Там он знакомится с фрейлиной императрицы графиней Разумовской, которая на двенадцать лет старше Уварова. Графиня влюбляется в юного камергера и пять лет безуспешно добивается от него знаков внимания. В 1810 году, когда отец графини Алексей Кириллович Разумовский занял пост министра, свадьба наконец состоялась. Для обнищавшего Уварова это был брак по расчету, разрешавший все финансовые проблемы его семейства. Одновременно Уварова ждало служебное возвышение по линии его тестя. Через неделю после венчания он стал попечителем Санкт-Петербургского учебного округа – одного из шести в Российской империи, а чуть позже едва ли не самым молодым президентом Академии наук. Ему было двадцать три года от роду…
…Но прежде Уваров изрядно поездил по Европе. В 1805 году его совершенно разочаровал Неаполь, куда он отправился в качестве курьера министерства иностранных дел. Итальянские женщины показались «невзрачными», и единственное, в чем молодой щеголь нашел утешение, – это итальянский балет и опера.
В 1806 году князь Александр Куракин, отправившийся русским послом в Вену, взял с собой Уварова в качестве атташе. Вену Уваров будет вспоминать как лучшую пору своей жизни. Самым ярким впечатлением стала его дружба с мадам де Сталь. О встречах с ней Уваров начнет писать мемуары в 1851 году.
Но вернемся в Россию. Двадцатитрехлетний чиновник занимает высокую должность в министерстве просвещения и задумывает реформировать систему образования в России. Одной из первых работ Уварова станет небольшая книжечка, посвященная способам преподавания истории. Отпечатанная за счет личных средств Уварова она будет посвящена тестю – министру Разумовскому. Но внимание современников привлечет «Проект Азиатской академии», изданный на французском языке в 1810 году. Сергей Уваров замышляет создание в Академии наук востоковедческого отделения, своеобразную петербургскую Азиатскую академию. Россия казалась Уварову связующим звеном между Европой, погрязшей в революциях и терроре, и Азией. В то же время проект был навеян новомодными европейскими идеями. Отделения нескольких европейских академий ранее открылись во французских и английских колониях. Изданный проект нашел поддержку среди европейских мыслителей, но не в России.
На это же время приходится интерес Уварова к древнегреческой культуре. В литературе Древней Греции он одновременно разглядел некоторую альтернативу славянофилам (Шишков) и западникам (Карамзин). Новое течение с его легкой руки получило название неоклассицизма. В 1820 году Уваров издал «Греческую антологию» с новыми переводами из древней греческой поэзии, сделанными Константином Батюшковым. Последний на некоторое время сблизился с Уваровым настолько, что в их отношениях можно подозревать нечто большее, чем просто мужскую дружбу.
В конце 1810 – начале 1820 годов Уваров пишет свои работы на французском и немецких языках. Почти все они до сих пор не переведены на русский. Более чем сдержанно воспринятые в России, труды Уварова привлекают внимание многих мыслителей в Европе. Например, почти пять лет длилась переписка Уварова с Гете.
Основное внимание Уварова было сосредоточено на образовательных проектах. Желанием реформировать народное образование двигала ненависть к Наполеону и «заразе французской революции». Уваров разработал план развития системы среднего образования, который был утвержден осенью 1811 года. Задачей гимназий стала подготовка учащихся к университету. Было увеличено количество часов на изучение общеобразовательных предметов и изгнаны из программы университетские курсы, вроде коммерции и философии. Повсеместно стал изучаться греческий язык. Проект 1811 года значительно улучшил гимназическое образование в России.
Стоит остановиться на конфликте Уварова с другим видным государственным деятелем и гомосексуалом – министром просвещения и духовных дел князем Александром Голицыным. Новое министерство, отданное Голицыну, было создано в 1817 году. Голицын настаивал на развитии сельских церковных школ, способствующих религиозному образованию народа. Уваров требовал сохранить сословный характер образования и задумывался над формированием в России системы университетов. Александр I, считавший необходимым искоренять дух свободомыслия, источником которых в Европе как раз и были университеты, прислушался к Голицыну. Происшествием, заставившим Уварова уйти в отставку, стали волнения среди студентов университетского пансиона в 1821 году.
Голицынские реформы в образовании взяли верх над идеями Уварова. До тех пор, пока в 1824 году после крупного гомосексуального скандала, воспользовавшись цензурными упущениями Голицына, Александр не отправил князя в отставку и не распустил основанное им Библейское общество, Уваров возглавлял департамент мануфактур и внутренней торговли. На это время приходится знакомство Сергея Семеновича с Михаилом Александровичем Дондуковым-Корсаковым (1792-1869), протеже и сердечным другом Уварова.
…Осенью 1833 года Сергей Уваров занял кабинет министра просвещения в правительстве Николая I. Вступая в должность, он произнес слова, которые стали формулой целой эпохи в истории Российской империи: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности». Шестнадцать лет Уваров стоял во главе министерства. В это время был основан университет в Киеве, возрожден обычай посылать молодых ученых за границу, изменены уставы гимназий, положены основы профессиональному образованию, благодаря появлению в губерниях реальных училищ.
Уваров окружал себя людьми, которые беспрекословно выполняли его волю, и Дондуков-Корсаков был первым и самым верным в этом кругу.
Михаил Александрович Корсаков происходил из небогатого рода дворян Корсаковых. Женившись на княжне Дондуковой-Корсаковой, он по высочайшему повелению принял герб и фамилию жены. Участник войны 1812 года, человек с выправкой и поведением военного, Дондуков был, с точки зрения Уварова, идеальным чиновником, во всем беспрекословно выполнявшим приказания начальника. В 1833 году Уваров назначил его на то самое место, которое некогда получил от своего тестя. Уже через год Дондуков был произведен в действительные тайные советники и «к общему удивлению, выразителем которого явился Пушкин» (так осторожно пишет о возвышении Дондукова «Русский биографический словарь»), в 1835 году стал вторым вице-президентом Академии наук.
Позже появилась обидная эпиграмма, сочиненная известным острословом Александром Сергеевичем Пушкиным.
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь.
Почему ж он заседает?
Оттого, что жопа есть.
Тогда же Александр Сергеевич ответил в Москву поэту гомосексуалу Ивану Ивановичу Дмитриеву на вопрос о положении дел в академии: «...явился вице-президентом Дондуков-Корсаков. Уваров фокусник, а Дондуков-Корсаков его паяс. Кто-то сказал, что куда один, туда и другой: один кувыркается на канате, а другой под ним на полу».
У Пушкина, действительно, были основания ненавидеть эту академическую пару. Уваров, в чьем ведении при Николае I находился цензурный комитет, добился того, что мог цензурировать уже изданные произведения Пушкина, тогда как ранее поэт пользовался привилегиями личной цензуры императора.
Когда в связи с «Историей пугачевского бунта» давление цензуры на Пушкина усилилось, он записал в дневнике, отмечая особые «педагогические» наклонности министра: «Уваров большой подлец <...> Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом <...> это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен <...> Об нем сказали, что он начал тем, что был блядью, потом нянькой и попал в президенты Академии наук, как княжна Дашкова в президенты Российской Академии».
А ведь десять лет назад все было иначе: Уваров (один из основателей «Арзамаса», предоставлял для его собраний свою квартиру) сидел недалеко от Пушкина на заседаниях арзамасцев, где они и познакомились. Между ними была даже небольшая переписка, Уваров перевел пушкинские «Клеветникам России» на французский, перевод поэту понравился. А доставил его ему именно близкий друг Уварова князь Дондуков. К Дондукову же поэт сам ездил в цензурный комитет и возвращался вполне довольным.
Вслед за эпиграммой на Дондукова разошлась в списках и сатира против Уварова – «На выздоровление Лукулла» (1835).
Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах благо есть излишек.
Теперь мне честность – трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»
Под Лукуллом Пушкин имеет в виду графа Дмитрия Николаевича Шереметева, неожиданно поправившегося после болезни. Уваров должен был наследовать имущество бездетного Шереметева по жене. После этого стихотворения отношения Пушкина и Уварова окончательно расстроились. Впрочем, остался один человек – Жуковский (его сближали с министром все те же особые сексуальные интересы), через которого Пушкин неоднократно и «устраивал» с ним отношения. Пушкин же вскоре раскаялся в резкости своих суждений об Уварове и просил издателей не печатать «...пьесу, написанную в минуту дурного расположения духа».
Но эпиграмма широко разошлась в обществе, а ее адресат затаил на автора обиду. Хотя принципиальных разногласий у Уварова и Пушкина не было.
Тем не менее, действия Дондукова и Уварова после гибели Пушкина выглядели местью. Дондуков запретил отпуска студентам в день отпевания Пушкина. Потом от «академической пары» прозвучал выговор Краевскому за публикацию некролога в «Литературных прибавлениях...», где Одоевский назвал Пушкина «Солнцем русской поэзии». Впрочем, во всем этом выражалась, прежде всего, официальная линия…
Сам Сергей Семенович Уваров в день отпевания Пушкина пришел в церковь совершенно бледный, в молчании и одиночестве простоял весь обряд. В обществе уже распространился слух, что автором анонимных писем, послуживших катализатором дуэли, был именно Уваров. Впоследствии мнение это множество раз опровергалось, и главным претендентом на авторство «диплома» рогоносца, доставленного Пушкину незадолго до дуэли, стал князь Долгоруков, один из фаворитов барона Геккерена.
В последующие годы Уваров и Дондуков-Корсаков превратились в прекрасный чиновничий тандем. Уваров опирался на Дондукова во многих начинаниях. Например, в разработке цензурных уставов – в 1838 году Дондуков стал присутствующим в главном управлении цензуры и закончил свою карьеру в должности тайного советника в 1842-м.
Сергей Семенович Уваров в 1846 году был возведен в графское достоинство, а 9 октября 1849 года оставил пост министра.
В советский период николаевскую эпоху, которая началась в 1825 году, характеризовали как время реакции. Героями эпохи, с точки зрения коммунистической идеологии, являлись Герцен, Белинский и Бакунин. Уварову был навешен ярлык реакционера. В сотворении мифа о карьеристе и губителе Пушкина сыграла определенную роль и знаменитая эпиграмма о «жопе» Дондукова. Впрочем, в советских источниках это слово долгое время либо вообще пропускали, либо – в академических собраниях – позволяли употребить одну букву «ж».
Но именно на 1830-40-е годы в России приходится золотой век университетского образования. Безусловный рост уровня просвещения на всех ступенях, начиная с приходских школ и заканчивая гимназиями и реальными училищами… Да, существовала жестокая цензура, но именно в это время произошел грандиозный скачок в издании книг и периодики, родились востоковедение, славистика, разразился бум археологии. Такая объективная точка зрения на деятельность Уварова предложена пока в единственной его биографии, написанной в 1984 году профессором Индианского университета Цинтией Х. Виттекер. Но в ней почти ни слова о гомосексуальности графа Сергея Семеновича Уварова.
Последние годы жизни Уваров провел в своем имении Поречье неподалеку от Москвы. Дондуков-Корсаков долгое время жил там безвыездно. Он пережил Уварова на 14 лет…
«Не умре, спит девица...». Константин Батюшков (29 мая 1787 – 19 июля 1855)
"Кто не знал кроткого, скромного, застенчивого Батюшкова, тот не может составить себе правильного о нем понятия по его произведениям; так, читая его подражания Парни, подумаешь, что он загрубелый сластолюбец, тогда как он отличался девическою, можно сказать, стыдливостью и вел жизнь возможно чистую...», – писал в 1854 году один из биографов «первого поэта России», «учителя Пушкина в поэзии» его современник Н. В. Сушков. Писал, словно о покойнике...
Тем временем Константин Николаевич Батюшков третий десяток лет в полном забвении и одиночестве томился в Вологде, в заточении, по причине своего «безумия». А Сушков писал, не замечая того, что еще в первом томе своих знаменитых «Опытов в стихах и прозе», едва ли не первом русском поэтическом бестселлере с мгновенно разошедшимся тиражом, Батюшков провозгласил лозунгом своей жизни – Talis hominibus fuit oratio, qualis vita (лат.), что значит «Речь людей такова, какой была их жизнь». «Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. ...Стихотворцу надо все испытать». Последующие сто пятьдесят лет противоречие в изображении бытового и литературного обликов поэта стало общим и обязательным местом его биографий, которых, впрочем, было не так много.
Константин Николаевич Батюшков родился 29 мая 1787 года в Вологде в старинной дворянской семье. Мать Батюшкова умерла в страшных мучениях, когда мальчику не было и семи лет, от наследственной душевной болезни. О характере этой болезни, постигшей в 33-летнем возрасте и самого поэта, ходит до сих пор много легенд и домыслов. За давностью лет никто ничего связного не может сказать о происхождении «ревматических головных болей». Впрочем, в начале нынешнего века, когда русские литературные критики с медицинским образованием обратили свое внимание на здоровье классиков отечественной литературы, кто-то предположил, что поэт страдал от медленно развивавшейся опухоли головного мозга.
О другой более существенной причине душевных мук поэта – его гомосексуальности – говорить было не принято. Да и сама эпоха, в целом равнодушная к подобным увлечениям, не способствовала заострению особого внимания на столь интимных подробностях человеческой жизни. Хотя романтизм в определенной степени приветствовал интимные отношения между мужчинами.
Из любовников Батюшкова прежде всего нужно отметить поэта-дилетанта и офицера Ивана Александровича Петина (1789-1813), убитого под Лейпцигом. Впервые Батюшков встретился с ним в походе в Восточную Пруссию 1807 года. «Души наши были сродны. Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз. ...Тысячи прелестных качеств составляли сию прекрасную душу...», – писал он, вспоминая друга.
С детства Батюшков чувствовал некоторое психологическое неудобство в общении с женщинами. Глубоко в душу юноши запали предсмертные страдания матери, а позднее он сильно переживал появление у отца другой женщины и семьи, в которой оказался на правах пасынка. К 25 годам Батюшков окончательно определяется в своем неприятии женщин: «...у них в сердце лед, а в головах дым... Я не влюблен.
Я клялся боле не любить
И клятвы, верно, не нарушу:
Велишь мне правду говорить?
И я уже немного трушу!..
Я влюблен сам в себя. Я сделался или хочу сделаться совершенным Янькою, то есть эгоистом». «Женщины меня бесят, – признавался Батюшков в записных книжках самому себе. – ...У них нет Mezzo termine. Любить или ненавидеть! – им надобна беспрестанная пища для чувств, они не видят пороков в своих идолах. Потому что их обожают; а оттого они не способны к дружбе, ибо дружба едва ли ослепляется!». Такую дружбу дала Батюшкову его сестра, Александра Николаевна, которая не покидала брата до того мгновения, пока рассудок не покинул ее в 1829 году.
Для женского пола он находил лишь одно место в своей жизни, откровенно рассуждая по этому поводу в дневниковых записях: «Но где она [женщина] привлекательнее? – За арфой, за книгою, за пяльцами, за молитвою или в кадрили? – Нет совсем! – а за столом, когда она делает салад». Впрочем, и Батюшков в молодости, с друзьями за компанию, пользовался услугами петербургских проституток, ходил с рублем к Каменному мосту, а потом направо... Но ничего серьезного с женщинами не было, разве только один короткий роман – «лучше как-нибудь вкушать блаженство, нежели никак» – с воспитанницей покровителя Батюшкова президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина (1763-1843) – «преузорочной чухонкой» – Анной Федоровной Фурман (1791-1850). Уже и дата венчания была назначена на лето 1815 года, когда Батюшков вдруг неожиданно сбежал из столицы в свое именье в Каменец-Подольске. Оправдывался тем, что будто бы не стоит ее, не сможет сделать ее счастливой со своим характером и маленьким состоянием. А потом в письме «единственной женщине на свете», с которой «...чистосердечен», Екатерине Федоровне Муравьевой (1771-1848) в отчаянье сознавался в истинных причинах своей слабости: «...вы сами знаете, что не иметь отвращения и любить – большая разница».
И хотя общество догадывалось о странностях Батюшкова, в его тайну полностью были посвящены немногие. Среди них следует в первую очередь назвать поэта, издателя Батюшкова Николая Ивановича Гнедича (1784-1833) и поэта Василия Андреевича Жуковского (1783-1852). Последний, кстати, особенно выделялся подчеркнутой манерностью и женственностью, за что в узком кругу своих друзей был с прозрачным для семейных жаргонов смыслом прозван «девицей». Страдал Жуковский и болезнью, широко распространенной среди пассивных гомосексуалов, излишне ненасытных в своей похоти.
Интересно, что Константин Батюшков был одним из первых протеже Румянцева. В одном из своих писем, в котором просил новых поручений в Европе, он назвал Румянцева «покровителем наук, другом добра и человечества».
С 1818 года Батюшков служит в неаполитанской миссии в Италии. С перерывами живет в Риме, среди его друзей многие русские художники: Орест Адамович Кипренский (1782-1836), Сильвестр Федорович Щедрин (1791-1830), Федор Михайлович Матвеев (1758-1826)... Русская колония художников в Риме отличалась вольностью нравов. Маститые художники были окружены десятком юных воспитанников из России, преимущественно несчастными сиротами, получавшими образование стараниями Алексея Николаевича Оленина. В отличие от французской академии, здесь ученик жил в одной комнате со своим наставником. Так и Батюшков поселился в Риме на одной квартире с художником Щедриным, который был младше его на четыре года, он пристально следил за юными воспитанниками, «ласкал их» в свое удовольствие сколько угодно, в чем с радостью сознавался в одном из писем Оленину. С Щедриным Батюшков прожил около года, до того момента, когда уже не мог бороться со своей болезнью. В это время он увлечен культурой античности. В «идеальной эпохе» виделось избавление от условностей современной жизни. Из стихов, написанных в это время, сохранилось очень мало – большая часть уничтожена автором. Но то, что осталось, положило начало целому направлению «антологической лирики» в отечественной поэзии.
В жизни Батюшкова встречалось много знаков и символов, он с трепетом прислушивался к ним, а иногда сам придумывал. Таков и последний тринадцатый фрагмент его «Из греческой антологии», написанный на последнем дыхании покидавшего его рассудка.
С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!
Было у Батюшкова стихотворение «Любовь в челноке». В челноке этом сидел прекрасный мальчик. Но разбился челнок, малютка улетел, а путник очнулся на голом морском камне и бродил в горести, вспоминая об исчезнувшем мальчике. Так и вся жизнь русского поэта Батюшкова...
Император не отвечал на неоднократные просьбы Батюшкова отправить его в отставку, но в конце концов дал ему бессрочный отпуск.
В начале 1820-х годов Батюшкова обуревают мысли о скорой смерти. Рассудок возвращается к нему лишь весной, остальное время он преимущественно пребывает в состоянии астении и беспамятства. Весной 1823 года на курорте в Симферополе он пишет завещание, сжигает свою библиотеку, дневники, рукописи, выбирает место для своей могилы, отдает последние распоряжения, готовый переместиться в мир иной. Трижды пытается покончить жизнь самоубийством, наконец, придумывает вызвать на дуэль некоего А. Потапова, оскорбившего его «за женщину». Этот жест врачи сочли очередным проявлением болезни мозга и насильно перевезли Батюшкова в столицу.
Весной 1824 года он обращается к Императору с повторной просьбой разрешить немедленно удалиться в монастырь. Государь не отвечает. Вскоре от его имени Батюшкову предлагается полечиться на немецких курортах. Его привозят в Зонненштейн, где он оказывается в фактическом заточении вместе со своей сестрой. Впрочем, как это ни удивительно, в это же время предпринимается еще одна попытка женить Батюшкова и тем вернуть его к жизни. Пару ему нашли в семье близкого Батюшкову поэта-острослова и актера Алексея Михайловича Пушкина (1769-1825). Но если в марте сам Батюшков твердо уверен, что дочь Пушкиных будет его женой, то в мае императорскому послу в Германии он гневно пишет: «Устав от преследований Его Величества, Императора Александра, я даю подписку, я связываю себя клятвой в том, что никогда не уйду в монастырь. В том, что отказываюсь от брака с подданной Его Величества и что никогда не вернусь в Россию».
В августе 1828 года Батюшкова под присмотром перевозят в Москву, через год, не выдерживая душевного напряжения от долгого пребывания с братом, лишается рассудка и попадает в психиатрическую лечебницу сестра Батюшкова, Александра Николаевна. В марте 1830-го к Батюшкову приезжает А. С. Пушкин, разговаривает с ним, но тот не признает его.
С 1833 года Батюшков жил в заточении у родственников в Вологде, несколько раз его отправляли в деревню Авдотьино, откуда он неоднократно пытался бежать. Сознание поэта тревожили картины далекого прошлого, его отношения с Петиным. Он пытался выехать за границу, к могиле близкого друга, чтобы выполнить свое обещание и перезахоронить его на родине.
Умер Батюшков 19 июля 1855 года в пять часов после обеда от тифозной горячки, пережив многих своих друзей, современников и любовников, давно уже лежавших в могилах.
Когда-то майским днем 1811 года двадцатичетырехлетний невысокий с маловыразительной серой внешностью юноша бродил между построек Донского монастыря и на монастырской стене наткнулся на одну надпись, особенно тронувшую его: «Не умре, спит девица».
Он остановился и неожиданно заплакал...
«Эти слова взяты, конечно, из Евангелия и весьма кстати приложены к девице, которая завяла на утре жизни своей, et rose elle a vecu ce que vivent ies roses l'espace d'un matin...», – записал он чуть позже в своем дневнике. Записал как будто и о себе, о всей своей еще только начинавшейся и уже закончившейся жизни, вспомнив печальную цитату из грустных «Стансов...» Франсуа Малерба: «...роза, она прожила столько, сколько предназначено утренним розам...»
«…Всегда мудрец, а иногда мечтатель». Петр Чаадаев (27 мая 1794 – 14 апреля 1856)
…Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.
Такой портрет своего приятеля Петра Яковлевича Чаадаева дает в первой главе «Евгения Онегина» Александр Сергеевич Пушкин. Не приходится удивляться, что прозвище Богиня тут же привязалось к Чаадаеву и не оставляло его до конца жизни. Когда из покосившегося обветшалого флигеля дома на Новой Басманной в Москве он по-прежнему выезжал настоящим франтом, чтобы блистать в свете…
И этот человек, «имевший огромные связи и бесчисленные дружеские знакомства с женщинами», так и остался холостяком, и никто никогда не слышал, вспоминал приятель и биограф Чаадаева Михаил Жихарев (1820-1883), чтобы он стал любовником хотя одной из своих поклонниц.
Зато Чаадаев «был первый из юношей, которые (по словам язвительного Филиппа Вигеля) полезли в гении». Известна неприязнь Филиппа Филипповича, поспешившего донести митрополиту Серафиму на первое «Философическое письмо», – к Петру Яковлевичу. Всю жизнь они, почти не встречавшись (так, обменялись парой злоречивых писем), были врагами друг другу. Точнее, Вигель был врагом. Голубые, как сейчас, так и в стародавние времена, редко поддерживают друг друга. Напротив, главный неприятель гея – другой гей. Здесь замешана и какая-то «бабья ревность», и попытка отмежеваться: попробуй-ка, назови меня педерастом, ежели я уже сказал, что ты сам – таковой.
Не иначе как «Нарциссом, смертельно влюбленным в самого себя», называл Вигель Петра Яковлевича…
Отец Чаадаева, Яков Петрович, умер том же, году, когда родился его сын, а матушка Петра, Наталья Михайловна, дочь историка князя Щербатова, скончалась, когда Петеньке исполнилось всего три годика. Двух малышей, у Чаадаева был братик, старше его года на полтора, взяла на воспитание тетка, сестра матери, Анна Михайловна Щербатова. Была она «старой девой». Замуж так и не вышла, а потому все силы свои отдала воспитанию племянников. Женщине в те времена было трудно дать детям основательные познания, поэтому в вопросах образования мальчиков Анна Михайловна опиралась на назначенного опекуном Чаадаевых брата своего Дмитрия Михайловича Щербатова, вельможу екатерининской поры. Щербатов очень беспокоился о «повреждении нравов в России» и души не чаял в меньшом из Чаадаевых.
Так, уже в шестнадцать лет, по словам современников, Петр Чаадаев стал «одним из самых блестящих молодых людей московского большого света и одним из лучших танцоров». По окончании университетского курса молодые Чаадаевы по обычаю того времени оказались на воинской службе – в мае 1812 года были зачислены прапорщиками лейб-гвардии в Семеновский полк.
Весной 1816-го, когда Ахтырский гусарский полк, в который Чаадаев перешел в 1813 году, стоял в Царском Селе, Петр Яковлевич познакомился с Александром Пушкиным. Очень красив – вот первое впечатление современников при встрече с Чаадаевым: «белый, с нежными румянцем, стройный, тонкий, изящный». Он, словно какая-то светская девица, даже заслужил среди товарищей прозвание «le beau Tchadaеf». Таким он запомнился и Александру Сергеевичу. В кабинет к Чаадаеву, «всегда мудрецу, а иногда мечтателю», частенько заглядывал будущий поэт.
В 1817 году Петр Чаадаев был назначен адъютантом к командиру гвардейского корпуса генерал-адьютанту Васильчикову и четыре года до выхода в отставку провел в Петербурге.
Свои кабинетные беседы с Чаадаевым юный Пушкин назвал «пророческими спорами» и адресовал ему два стихотворения: «В минуту гибели над бездной потаенной // Ты поддержал меня недремлющей рукой…» и, пожалуй, наиболее известное (хотя, что у Пушкина неизвестно?) – «любви, надежды, гордой славы // Недолго тешил нас обман…»
…Чаадаев не был борцом, не потому ли, не желая держать в руках оружия, так неожиданно вышел в отставку в 1820 году? Причиной отставки, а Петр некоторое время был на хорошем счету у Александра I, послужили некоторые дамские черты характера Чаадаева. «Гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холился, прыскался духами» (Вигель). Предавался этому ежедневно и однажды опоздал с каким-то важным донесением к Императору.
Выйдя в отставку, Чаадаев отправляется в европейское путешествие, в котором ведет дневник. Эти тетради до сих пор «пугают» его немногочисленных биографов. В них «духовное так тесно переплетено с патологическим, что мудрено решить, кто имеет больше прав на него: психиатр или историк-психолог». Самые интимные части дневника, пересыпанные загадочными знаками, словами и буквами на разных языках, инициалами, так и остались нерасшифрованными.
За границей Чаадаев провел около четырех лет и в июне 1826 года наконец отправился домой, чувствуя вину за тревогу тетки и брата.
Заграничное «лечение» не принесло Чаадаеву никакой пользы. У него открылся ревматизм, болезнь желудка. К тому же после въезда в Россию его немедленно задержали, и ему пришлось отвечать на допросе о связях с декабристами – ведь со многими из которых он переписывался, находясь за границей.
Некоторое время по возвращении из-за границы Чаадаев жил в Москве нелюдимо, ни с кем не встречался, а во время прогулок по бульварам демонстративно надвигал на брови шляпу и ретировался при виде знакомых. Это были четыре года мрачного затворничества (1826-1830), в конце которого в припадках сумасшествия он написал первое «Философическое письмо», посягая на свою жизнь … А более на историю России и ее действительность, которые казались ему полными мрака, несправедливости и будничной грязи.
Суть «Философических писем» Чаадаева – «Россия, как она есть равна нулю…»
В конце 1833 года Петр Яковлевич переехал на квартиру, где прожил до конца своей жизни. Это был небольшой флигель огромного дома его знакомых Левашовых на Новой Басманной. Жизнь Чаадаева проходила довольно однообразно. Находясь в гостях или Английском клубе, он ровно в четверть одиннадцатого откланивался, чтобы ехать домой. В свете Петр Яковлевич был окружен исключительно женщинами – они внимательно слушали его обзоры публикаций в свежей иностранной прессе, которую он в большом количестве выписывал из-за границы. Из приятелей часто наведывался к «по-старому шутившему» старику Ивану Ивановичу Дмитриеву, собиравшему вокруг себя красивых юношей. Накануне публикации «Философического письма» Петру Яковлевичу было около сорока. Он был холост, не собирался жениться. Лицо его «нежное, бледное, как бы из мрамора, без усов и бороды, с голым черепом, с иронической улыбкой на тонких губах» украшало московские салоны и гостиные аристократических домов.
Известно, что первое письмо адресовано Екатерине Дмитриевне Пановой, Чаадаев познакомился с ней в 1827 году в подмосковном имении тетки. Это был ответ на реальную корреспонденцию Пановой – Чаадаев писал ей довольно долго, но писем отправить так и не решился.
Панова была единственной женщиной, в доме которой он изредка бывал. Приятельница Чаадаева окажется, по мнению властей, «безнравственной женщиной», к тому же с лесбийскими наклонностями – она пыталась избавиться от них, обращаясь к религии. Первое (всего их, вероятно, было восемь) «Философическое письмо» как раз и было попыткой ответа на вопрос Пановой, почему обращение к религии принесло ей не просветление, а грусть и переживания, «почти угрызения совести».
По словам пушкинского приятеля Соболевского, Панова «была гадкая собою, глупая… и страшная блядь»: «Я до сих пор не могу понять, как мог Чаадаев компрометироваться письмом к ней и даже признаваться в знакомстве с нею». В конце 1836 года Губернское правление, проводившее разбирательство по поводу появления «Философического письма» в печати, признает Екатерину Панову ненормальною. Ее поместят в психиатрическую лечебницу по ходатайству мужа, недовольного «бесстыдным» поведением супруги, с которой он прожил в бездетном браке пятнадцать лет.
Скандал, вызванный публикацией «Философического письма», явился для Чаадаева полной неожиданностью. Тем более что ранние фрагменты его другого эпистолярного сочинения об архитектуре появлялись в 11 номере «Телескопа» за 1832 год. Действительно, Чаадаев поначалу пытался опубликовать письма в нескольких изданиях или на французском языке, но потом оставил эту затею. Редактор «Телескопа» Надеждин сообщил Чаадаеву о выходе русского перевода «…письма» в 15 номере «Телескопа» за 1836 года, когда тираж уже был почти отпечатан.
Почин гонений на Чаадаева принадлежал другому гомосексуалу – графу Сергею Уварову. Тот смог отомстить своему сопернику, который в начале 1830-х неожиданно стал порываться возвратиться на государеву службу из-за финансовых затруднений (это же на что можно было пустить миллион золотом, оставленный родителями) – все имения были перезаложены неоднократно и наконец пущены с торгов. Государь предложил Чаадаеву место в министерстве финансов, но он просил другой должности, размышляя о плохом устройстве образования в России.
В итоге на докладной записке о статье «Философические письма» в журнале «Телескоп», поданной министром просвещения Уваровым, на чьи лавры посягал Чаадаев, Император Николай Павлович написал: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».
Устроить дела с Чаадаевым было поручено шефу жандармов Александру Бенкендорфу (1783-1844). Бывшего «гусара-философа» официально объявили сумасшедшим. К нему приставили врача, у которого он должен был наблюдаться каждый день. Впрочем, ежедневные визиты врача вскоре перешили в еженедельные. А в сентябре 1837-го они и вовсе прекратились при условии, чтобы Чаадаев «не смел ничего писать…»
Чаадаев перестал писать, но не рассказывать и удивлять свет остротами и сарказмами. До смерти своей он продолжал держаться довольно независимо, демонстрируя недовольство почти всем в России. Некоторые из анекдотов Чаадаева пересказываются российскими интеллигентами, недовольными властью и внутренней политикой России, до сих пор.
Вот один из них, как его передавал полтораста лет назад Герцен.
«В Москве, говаривал Чаадаев, каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может быть, этот большой колокол без языка – гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое».
Когда спустя пятьдесят лет после смерти Чаадаева бумаги острослова разбирал его биограф Гершензон, он нашел всего лишь два женских письма. И это притом, что женщины почитали Чаадаева и благоговели перед ним. На почве такого почитания, кстати, все-таки разгорелся единственный односторонний роман Чаадаева. Некая Авдотья Сергеевна Норова жила в усадьбе неподалеку от имения его тетки. Болезненная девушка, не помышлявшая, впрочем, о замужестве, безответно влюбилась в Чаадаева. Но Чаадаев никак не ответил на эти чувства, «он вообще, по замечанию современников, никогда не знал влюбленности…», «ни в первой молодости, ни в более возмужалом возрасте Чаадаев не чувствовал никакой <…> потребности и никакого влечения к совокуплению» (так сказал «достоверный свидетель» Михаилу Ивановичу Жихареву, приятелю и биографу Чаадаева).
Не чувствовал, потому что рядом всегда был верный камердинер. Иван Яковлевич – знаменитый чаадаевский слуга («гораздо более друг, нежели слуга своего господина»), крепостной – получил от Чаадаева вольную и после этого по меньшей мере еще около десяти лет служил своему хозяину, да не служил, а просто жил с ним. В общении с Чаадаевым он был ему ровней. Они говорили друг с другом на «ты». Изящные манеры его вводили в заблуждение посольских секретарей в Европе. А Александр Сергеевич Пушкин во время визитов к Чаадаеву так вообще подавал тому руку. Слуге – руку!.. Слуге, который в Европе был принят за знатного русского вельможу, не желающего представиться царскому посланнику.
Из крепостного мальчишки Чаадаев воспитал себе помощника, любовника, интимного партнера… товарища и собеседника, способного обсуждать разнообразные вопросы на нескольких языках. Он придумал в России то, чем хотел окружить себя в Швейцарии.
Последние годы Чаадаев провел со своим верным Жаном во флигеле Левашовых. Флигелек осел, покривился, да и у дома появился новый хозяин. За двадцать лет Чаадаев ни разу не выехал из Москвы, не переночевал вне города. Современники прозвали его «преподавателем подвижной кафедры», имея в виду, что он переходил из салона в салон. Москва ухаживала за ним, зазывала к себе, а по понедельникам, когда он принимал, заполняла его скромный кабинет. За три дня до смерти он еще о чем-то говорил за своей «подвижной кафедрой» в английском клубе. Скончался внезапно 14 апреля 1856 года посреди беседы с хозяином дома, ожидая пролетки.
Отвернувшись от царской России и православия, Чаадаев, сообразно своим мыслям и отчасти сексуальным желаниям, создал пространство философских координат, опирающихся на католицизм и взгляды Шеллинга, более предрасположенные к свободомыслию, а, следовательно, и к терпимому отношению к личной жизни человека.
Философические письма» Чаадаева направлены против темной России, прячущей свои государственные и моральные проблемы под грузом религиозных и нравственных табу, в которых и видит только единственный залог своего имперского могущества и силы. В такой России, дабы не отправиться в Сибирь, педерасту-интеллектуалу стоит прикинуться светским болтуном, а греческому Периклу, по словам Пушкина о Чаадаеве, «под гнетом власти царской» уготовано лишь недолго быть «гусарским мудрецом», в котором иная мудрость – всего-навсего довесок к гусарскому кутежу и гульбе.
«Бельведерский Митрофан…». Андрей Муравьев (12 мая 1806 – 30 августа 1874)
В своей долгой жизни Андрей Николаевич Муравьев занимал «положение необычайное <…> между мирским и духовным». Первую ее половину он, мечтавший покорить ретивого Пегаса, был посетителем литературных салонов, отличавшихся славословим в адрес его завсегдатаев… За что и стал объектом нескольких злых эпиграмм. А вторую – всю отдал служению Богу и православию. Главной мечтой его, правда, так и не сбывшейся, было место обер-прокурора.
Человек, который «создал церковную литературу нашу, <> первый облек в доступные для светских людей формы все самые щекотливые предметы богословские и полемические», был «виднейшим петербургским гомосексуалистом».
Андрей – Николаевич родился в семье генерал-майора Николая Николаевича Муравьева. Мать умерла, когда мальчику исполнилось всего три года. Отрока отдали на воспитание родственникам в Петербург. Он вернулся в московский дом отца, когда ему исполнилось девять. Н.Н. Муравьев был основателем и руководителем корпуса колонновожатых – учебного заведения закрытого типа. Там, среди блестящего общества юных офицеров, до семнадцати лет, уже «не выходя из-под родного крова», воспитывался Андрей.
Каждое лето колонновожатые отправлялись в имение Муравьева в село Осташево недалеко от Петербурга, где продолжали в лагере свое воспитание. Летом 1819 года тринадцатилетний Андрей влюбился двадцатишестилетнего К., который ответил ему взаимной «привязанностью». «Он занимался поэзией и первый образовал вкус и внушил склонность ко всему изящному…» Среди других «литературных учителей» Муравьева нужно назвать малоизвестного поэта Семена Егоровича Раича (1792-1855), под руководством которого Муравьев продолжил домашнее воспитание и занялся переводами Телемака. Тогда же «в деревне, в осеннее время, от скуки, <…> составилось между офицерами литературное общество…», в котором Андрей прочел свои первые стихи.
В 1823 году корпус колонновожатых был переведен в Петербург и, как признается Муравьев, «исчезло все, что делало <…> отрадною семейную жизнь». «Я остался одиноким в холодном равнодушном мире…». Попыткой растопить одиночество стала военная служба.
Зимой 1824 году Муравьева переводят в Киев. Переправляясь на лодке через Днепр, он едва не погиб – после двух часов борьбы с волнами лодку прибило к берегу в том самом месте, где князь Владимир, по преданию, крестил народ. Муравьев воспринял произошедшее как знак и замыслил историческую драму «Владимир».
Находясь в Крыму, неуемный Муравьев едва ли не преследовал Александра Грибоедова. Занятый делами дипломат и драматург старательно избегал встречи с юношей. Тогда поселившись в гостинице в соседнем номере, Андрей придумал историю со страшным сном. Посреди ночи он выбежал с криками из своего номера и разбудил Грибоедова. «…только мы увиделись и сейчас же сошлись, по самой странности нашего знакомства». Осенью 1825 года в Крыму Муравьев и Грибоедов неоднократно «случайно» сходились, и всякий раз у Муравьева появлялась возможность прочесть драматургу свои стихи, рассказать о замыслах и получить советы. Крымские приключения закончились сборником «Таврида» (1827), первой и последней поэтической книгой Муравьева.
Тщеславие несло Муравьева в те литературные салоны, в которых он мог услышать лестные отклики о своих сочинениях. Таким местечком, где посетители не скупились друг другу на похвалы, оказался салон княгини Зинаиды Волконской, «русской Коринны». С посещением дома Волконской на углу Тверской и Козицкого переулка связана история, благодаря которой Муравьев получил кличку «Бельведерского Митрофана». Так случилось, что на одном из вечеров Андрей случайно обломил руку гипсовой статуи Аполлона Бельведерского, стоящей в театральной зале. В знак раскаяния он на основании скульптуры оставил следующий карандашный автограф:
О, Аполлон! Поклонник твой
Хотел померяться с тобой,
Но оступился и упал,
Ты горделивца наказал:
Хотя пожертвовал рукой,
Чтобы остался он с ногой.
В ответ Александр Сергеевич Пушкин сочинил следующее…
Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан!
Эпиграмма дошла до Муравьева, когда тот уже уехал в деревню. Муравьев был в гневе и вернулся в Петербург, намереваясь вызвать Пушкина на дуэль. Прежде он переговорил с Соболевским, другом поэта, который уверил Муравьева, что Александр Сергеевич не хотел его оскорбить. А причиной эпиграммы назвал то, что Пушкин, склонный идти навстречу року, на мгновение поверил, что светловолосый и бледнолицый Муравьев и есть тот «белокурый человек», от руки которого, по предсказанию гадальщицы, он должен погибнуть.
Тем временем в одном из журналов появился критический разбор «Тавриды», предпринятый приятелем Муравьева поэтом Баратынским. Это был «жестокий удар при самом начале литературного поприща». И Муравьев, о котором Баратынский сказал в одной из своих эпиграмм – «Убог умом, но не убог задором…» – решил проявить свой задор в прозе.
Настоящим ударом стала для Муравьева гибель его ближайшего друга «милого» офицера Коментовского. Всю турецкую кампанию, которую Муравьев провел уже в качестве дипломата, они были неразлучны. «Прекрасный телом и душою» юноша пал «жертвой убийственного климата», скончавшись от холеры. «Я тщетно надеялся на его юность и силы, – он угас!» – эти скупые строки из дневника, который Муравьев вел с перерывами в течение жизни, позже переработанные для издания, выдают особую степень близости, связывавшую двух офицеров.
Потрясенный гибелью друга, Муравьев замыслил отправиться в Иерусалим ко святым местам. Получив разрешение у фельдмаршала Дибич-Забалканского (1785-1831), он едет ко гробу Господню. В начале XIX века такая поездка – довольно рискованное предприятие. Шайки разбойников, болезни, отсутствие дорог и множество других испытаний.
В Петербург Муравьев вернулся лишь спустя два года. Подробности иерусалимского приключения были положены в основу книги «Путешествие ко святым местам», которую собственноручно правил Митрополит Московский Филарет. Книга принесла Муравьеву славу первого русского духовного писателя и только при его жизни издавалась пять раз.
После возвращения из Иерусалима Андрей Муравьев остановился в доме своих родственников Мальцевых, приближенных к семье митрополита. Интересно, что там он познакомился с бывшим министром духовных дел гомосексуалом князем Голицыным, который был уже не в той силе, как до 1824 года, когда он был вынужден оставить место обер-прокурора. Но именно через Голицына к Муравьеву поступило предложение Николая I занять место за обер-прокурорским столом. При синоде Муравьев был на самых разных должностях до 1842 года. За это время сменилось три обер-прокурора, но своего звездного часа на этом месте Муравьев так и не дождался. Тем не менее, несколько попыток недоброжелателей изгнать Муравьева из-за обер-прокуроского стола в государственном Совете провалились, так как он пользовался справедливым расположением Николая I и заработал уже репутацию известного духовного писателя.
Автором Муравьев был очень плодовитым. Его духовные книги касались самых разных вопросов – от истории церкви до православных поучений, адресованных иностранцам. А в 1850-х с благословения Императора он ежемесячно издает жития русских святых, собственноручно написанные. Всего с 1835 года при жизни Муравьева было издано около сорока (включая переиздания) книг духовного содержания. Наиболее известна из них – «Письма о спасении мира Сыном божьим» (1839)… Интересно, что эти письма написаны как попытка обратить к вере одного из юношей Муравьева, кавалергардского юнкера Ахматова, замечательного «по своему уму и образованности».
Выйдя в отставку из обер-прокурорского стола, Муравьев был произведен в статские советники в 1843 году. С того времени царские награды и звания сыпались на него как из рога изобилия.
За несколько лет до отставки он купил немного земли в Киеве и начал там строительство дома. В помощники себе непременно нанимал холостых офицеров, среди которых самые тесные и долгие отношения связывали его с двадцатилетним «милым сапериком» Михаилом Семеновым. С ним Муравьев прожил последние девять лет своей жизни.
С «милым, ласковым, нежным, расцелованными шпориком-сапериком» Муравьев познакомился в конце 1850-х годов. При производстве в офицеры Семенов был назначен в Киевскую саперную бригаду, и тогда их отношения возобновились. Летом Муравьев по обыкновению жил в Киеве, а зимой уезжал в Петербург. Семенов оставался в хижине, чтобы следить за садом и строящимся двухэтажным особняком. Из переписки, изданной Семеновым спустя год после смерти Муравьева, открываются их удивительно трепетные отношения. Восемь лет Муравьев возражал против женитьбы «моего Мишеля», удерживал его при себе всеми силами.
Первоначально через Муравьева Семенов надеялся получить хорошее место адъютанта при киевском генерал-губернаторе. Но когда связей стареющего Муравьева оказалось для этого недостаточно, не бросил его... Под конец жизни Муравьев испытывал большие финансовые затруднения, едва ли не нищенствовал. Так вот Семенов продолжил ремонт и строительство дома за свой счет и собственными руками перестилал полы. Денег не оказалось даже для того, чтобы заплатить почте за ящики муравьевских архивов, которые в 1868 году были перевезены в Киев, где «Бельведерский Митрофан» решает поселиться окончательно. Когда не оказалось денег даже на камердинера, Семенов нанял одного на двоих.
В разлуке Муравьев и Семенов несколько раз в неделю обменивались письмами. Послания Андрея Николаевича начинаются особенно трогательно: «Спешу отвечать тебе, милый саперик, которого очень люблю и в шпорах и без шпор, …в это последнее время особенно…»; «Милый саперик! Обнимаю тебя крепко и прошу так же… и меня любить…»; «Ты такая умница, милый саперик, что мне остается только расцеловать тебя…»; «Я думаю, что уже надоел милому шпорику своими письмами, только что не всякий день…» «Любезный шпорик, я все исполню, что ты мне приказал, ибо страшно боюсь тебя прогневать. Сегодня писал трогательное письмо о тебе, где все высказал, что только мог о твоих добродетелях; не знаю, будет ли успех, но знай, что ты должен мне за это крепкие объятия и поцелуи»…
Все эти нежности сыплются из уст человека «громадного роста, с кучерявыми, прекрасно сохранившимися густыми волосами, с чисто выбритым лицом, напоминавшего тип шотландского лорда», приводившего в трепет все русское поповство… Одно появление его в храме любой части великой империи заставляло священников вести «службу куда строже, чем без него». Таким запомнил Муравьева его ученик и соучастник его сексуальных приключений «гражданин Гоморры» Владимир Петрович Мещерский. Он, кстати, и посоветовал заехать в Киеве к старику тридцатилетнему поэту Алексею Апухтину, который оставил в альбоме короткое стихотворение.
Пусть там внизу, кругом клокочет жизнь иная
В тупой вражде томящихся людей, –
Сюда лишь изредка доходит, замирая,
Невнятный гул рыданий и страстей,
Здесь сладко отдохнуть…
Последние девять лет, действительно, были временем сладкого отдыха для Андрея Николаевича Муравьева. Он сравнивал своего Семенова с солнцем, называл его своей Великой Екатериной. Но в конце осени 1873 года его Мишель задумал жениться на «женщине, любившей меня восемь лет». Муравьев, все это время протестовавший против брака, наконец «промолчал». Венчание состоялось в Андреевской церкви, восстановленной в Киеве усилиями Муравьева и Семенова. Оставив молодых в своем, то есть уже в общем с Семеновым доме, Муравьев отправился в недолгое путешествие на Святой Афон.
Умер он в августе 1874 года на руках «милого саперика». Шпорик-саперик омыл тело своего друга и подготовил его к погребению.
Гомосексуальность Андрея Николаевича Муравьева не была секретом для его современников. Испытав глубокое душевное потрясение после смерти своего военного друга и любовника, Муравьев однажды решил посвятить себя духовному служению. Оставаясь человеком глубоко верующим, досконально изучив духовные основы православия, он, тем не менее, никогда не сопротивлялся своей гомосексуальности. Скрывая ее в годы служения государству за шторами профессиональных отношений с воспитанниками, среди которых были Владимир Мещерский и Александр Мосолов, развратившие, по словам современников, половину Петербурга, в конце жизни Муравьев, основатель русской религиозной литературы, открыто сожительствовал с мужчинами.
«Светильник человечества…». Александр Иванов (16 июля 1806 – 3 июля 1858)
О гомосексуальности Александра Андреевича Иванова до сих пор можно делать лишь «смелые предположения». Отрешенность Иванова от мира удовольствий, которым, не задумываясь, предавались в Италии его друзья из русских художников-пенсионеров Академии художеств… Замкнутый образ жизни… Неожиданное превращение из религиозного фанатика в атеиста…
Жизнь Иванова на поверхности представляет собой путь религиозного художника, более двадцати лет отдавшего «Явлению Христа…» и на исходе работы отказавшегося от своей религии и потерявшего веру. Не стал ли религиозный скептицизм результатом неожиданного обращения к плоти? На огромном полотне (40,5 квадратных метра), изображено сошествии Мессии, и ни одного женского образа. За двадцать лет работы над картиной Иванов создал для своего детища десятки этюдов обнаженных мальчиков. Он ездил по Италии, перерисовывая образцы лучшей итальянской живописи эпохи Возрождения. И одновременно писал юношей, подглядывая за мальчиками в мужских открытых купальнях. Биографы объясняли противоестественное увлечение Иванова отсутствием у того денег на продолжение работы над «Явлением…». Но это не совсем так, потому что, во-первых, мальчики-натурщики были в Италии неприлично дешевы, а, во-вторых, денег на оплату натурщиц-женщин, например, вполне хватало. Правда, те перед Ивановым не обнажались, художник рисовал только головы. Он хотел списать лица, встречающих Христа с женщин, потому что их выражение более всего, по замыслу живописца, соответствовало той степени восторга, который люди должны испытывать при виде Спасителя.
Картина, а в ней сквозь религиозный сюжет проклевывается протест если не атеиста, то агностика, созревший в душе художника за много лет отшельнической работы над полотном, выдает отчетливое внимание Иванова к плоти – не только как дань традиции Ренессанса… Не только как элемент концепции полотна – во всех встречающих Христа отражено главное человеческое противоречие – духа и плоти…
Когда в возрасте одиннадцати лет профессор Андрей Иванович Иванов привел сына Александра в Академию художеств, он уже был довольно хорошо подготовлен – в его домашних работах наставники и воспитанники долгое время даже подозревали отца. Это, а также возраст мальчика (большинство воспитанников были старше на несколько лет) сделали невозможной обстановку вокруг, впрочем, в «нравственном смысле» она всегда была не очень здоровой. «Порядочные люди страшились поступать в Академию. Драки и пьянства были в ней деяниями обыкновенными», – воспоминает художник и гравер Федор Иванович Иордан (1800-1883). Отношения среди мальчиков складывались довольно напряженные. Старшеклассники объявили непрерывную войну младшим, ловили малолеток в коридорах, били и издевались без причины. Разумеется, не обходилось без детского сексуального насилия. Но юный Иванов избежал неприятностей подобного рода, которые могли бы подтолкнуть его к гомосексуальности. Отцу нравы пансиона при Академии были хорошо известны. Он не стал селить там сына, а решил дать ему домашнее образование: пригласил гувернера и учителя французского языка.
В Академии Александра запомнили мальчиком, присутствующим в ней на особых правах. Среди других воспитанников, Иванов отличался молчаливостью, был «неповоротлив, так что прозвища, характеризующие подобные натуры, всегда были ему напутствием от товарищей».
Отец сопротивлялся появлению у сына друзей из числа воспитанников Академии, поэтому у Александра сформировалось совершенно романтическое представление о дружбе. Он хотел бы изливать приятелям душу, быть откровенным во всем. Бесконечная чистосердечность и верность казались ему необходимой основой дружбы, которая помогла бы избавиться от любых недостатков.
У Александра Иванова были два младших брата, один из которых умер в детстве, а также три сестры… Детство будущего художника прошло исключительно в женском кругу и «под влиянием нежного религиозного и любящего отца». «Мы можем назвать влияние всей этой среды чисто женским, потому что, по складу своего характера, отец Иванова никак не мог внести в воспитание сына иного элемента. Результатом такого воспитания должна была получиться натура нежная, впечатлительная, склонная к дружбе и другим сердечным проявлениям, что и было в действительности», – так резюмировал итоги семейного воспитания Александра Иванова его первый и последний обстоятельный биограф А. Новицкий в книге «Опыт полной биографии А. А. Иванова» (1895).
На ранний период жизни Иванова приходится его единственный интерес («сам я не был влюблен никогда») к женщине. Предметом обожания 21-летнего художника стала дочь учителя музыки Гюльпена. Отец был против брака. Он настоял, чтобы сын продолжал заниматься живописью. И в Александре любовь к искусству оказалась сильнее желания «тихой семейной жизни». На стипендию Общества поощрения художеств он отправляется в Италию.
Иванов выехал из России в конце весны 1830 года, пребывание в Италии должно было продлиться около восьми лет, но затянулось почти на три десятилетия. В Риме Иванов основное время проводит за мольбертом. На первых порах он также посещает салон княгини Зинаиды Волконской, той самой Волконской, к слову, в доме которой Андрей Николаевич Муравьев разбил скульптуру Аполлона. Она перебралась в Рим на постоянное жительство еще в начале 1829 года. Александр Андреевич делает много рисунков с шедевров, которыми заполнены соборы и галереи Рима. И среди других картин пишет полотно на знаковый для того времени сюжет – «Аполлон, Кипарис и Гиацинт, занимающиеся музыкой» (1831-1834). Три обнаженные мужские фигуры символизируют восхождение к мужскому совершенству. А по существу, это, так сказать, «хрестоматийный пример греческой любви»: дитя, мальчик, Аполлон.
Интересно мнение о картине, которая, кажется, так и не была закончена, выдающегося итальянского живописца Винченцо Камуччини (1773-1844). «Очертив рукою верх фигуры Гиацинта, он сказал, усмехаясь: «C’e la natura, ma bruta natura», что значило – «Это натура, но безобразная натура…»
Гиацинт, самый юный из персонажей картины, в сущности, еще дитя, выглядит довольно неестественно. Сказался художественный прием Иванова пририсовывать к мужским телам женские головы. Впрочем, образ Гиацинта по его возрасту лишен какой-либо половой принадлежности. Но лицо его все равно непропорционально телу – это, скорее, лик симпатичной итальянки. Зато другая часть мифологического сюжета воспроизведена блестяще. Аполлон, едва задекорированный широкими складками материи, которая, кажется, вот-вот приоткроет детали, завершающие образ покровителя искусств, обнимает Кипариса, огорченного случайным убийством любимого оленя. В объятиях старшего Аполлона находит он свое утешение. Правой рукой Аполлон как бы отдаляет Гиацинта, играющего им на свирели…
Кипарис превратится в дерево скорби, а Гиацинт, любимец Аполлона, погибнет от рук своего покровителя: Аполлон разобьет голову Гиацинта, соперничая с ним в метании диска, и на земле, окропленной кровью, вырастут цветы.
Академик Игорь Кон в своем обширном труде «Мужское тело в истории культуры» отдельно останавливается на «Аполлоне, Кипарисе и Гиацинте…», а также на изображении мужского тела в картинах Иванова вообще. Он, в частности, приводит мнение известного историка искусства Алексея Алексеевича Сидорова (1891-1978): «Ни до, ни после Иванова никто из русских художников не рисовал мужское тело лучше, чем он». Игорь Кон также напоминает точку зрения лидера русского неоклассицизма 1990-х годов Тимура Новикова (1958-2002), который полагал, что «Аполлон, Кипарис и Гиацинт…», скульптуры Арно Брекера, фильмы Лени Рифеншталь и гомоэротические фотографии барона Вильгельма фон Гледена (1856-1930) принадлежат к одной традиции.
Обращение Иванова к сюжету о «греческой любви» связано и с реальностями жизни, которую художник вел в первые годы своего пребывания в Италии. Письма этого периода, изданные в 1880 году, были значительно купированы их издателем Михаилом Боткиным. Все двусмысленности, вне зависимости от того, касались ли они мальчиков или женщин, последовательно вымараны из переписки. В начале 1830-х годов Иванов принимал участие в походах по публичным домам и равно увлекался как женщинами, так и мальчиками. Страсть к последним особенно понимал художник Григорий Иванович Лапченко (1804-1879), крепостной графа Воронцова, отправленный на средства графа в Италию. В одном из своих писем, высказывая опасения по поводу того, что окружающие могут узнать его «нравственный недостаток», Иванов настоятельно рекомендует Лапченко сжечь свои письма. В обращении неизвестному адресату Иванов признается: «Я до сих пор не соединился еще с прекрасными, которых много и много встречаю. Ах, как оне везде хороши!», и настаивает на продолжении «откровенных бесед» и «дружеских встреч».
В плане сексуальных утех Рим начала 1830-х годов предоставлял русским художникам-пенсионерам самые широкие возможности. Мальчика можно было снять за пряник. Девушки были гораздо дороже. Но и здесь первое время Иванов не отставал от товарищей. Позже он будет предупреждать своего брата от соблазнов римской жизни, рассказывая про «попойки и вечные карты, про буйные скачки верхом, под хмелек, в Альбано (один из дешевых салонов, в действительности – публичный дом) или Фраскати – от скуки…»
Но Иванов-одиночка, близко к сердцу воспринимавший любые несправедливости по отношению к себе, вскоре отворачивается от своих приятелей-пенсионеров. К тому же русский посланник в Риме князь Сергей Гагарин более всего благоволил Карлу Брюллову, который по степени мастерства являлся главным соперником Иванова. Предприняв несколько неуклюжих попыток сопротивления суровым отношениям среди пенсионеров (некоторых из них Брюллов бесконечно третировал), Иванов уходит в себя и перестает принимать участие в жизни бывших воспитанников Академии.
«Явление Христа народу» – главная картина Иванова, он работал над ней едва ли не в заточении, окруженный только дешевыми (средств на существование не хватало) натурщиками, по сути проститутами. За то время, что художник писал свое полотно, положившее основу русской религиозной живописи, он успел уверовать, а потом отказаться от веры. Были ли эти два десятилетия периодом сексуального воздержания или за пряник мальчики, неоднократно воспроизведенные Ивановым на этюдах, легко соглашались обслужить живописца?..
Факты свидетельствуют, что все было не так однозначно. Оставив «гусарские скачки», попойки и кабаки, Иванов сближается с Николаем Гоголем, «уничтожавшим свою плоть».
Но разве продолжали предаваться разврату его соплеменники? Нет, они женились, заводили семьи, заканчивали работу над полотнами, возвращались в Россию.
Гоголь же, обладавший для Иванова огромным художественным авторитетом, стал вскоре единственным собеседником живописца. Насколько интересными были эти встречи?.. Федору Иордану, на первых порах принимавшему в них участие, они казались скучными и разбавленными сальными анекдотами Гоголя, слушателем которых вскоре остался один Иванов. На некоторое время Гоголь «…взял его под свое полное попечение, заботясь даже о его материальном благосостоянии». Переписка с Гоголем приходится на 1847-1848 годы. Интерес Иванова к Гоголю постепенно угаснет к 1851 году. От этой недолгой дружбы остались два портрета автора «Мертвых душ», созданные Ивановым.
Знал ли Гоголь, что Иванов писал картину не ради нравственного переворота, а ради славы?.. Что двадцать лет он работал над ней не оттого, что искал духовные пути, а лишь потому, что сам прием работы художника над таким огромным полотном со множеством персонажей требовал медлительности? Вероятно, нет. Вообще многие советы Гоголя Иванов не воспринял. Отвернувшись от религии, мечтая о славе, он задумал жениться и полагал, что «восхищение и довольство царя и вельмож будет так велико, что последние охотно будут выдавать своих дочерей за светильников человечества». Под «светильником…» Иванов разумел себя. Под дочерями – «молодую деву знатного происхождения» – графиню Марию Апраксину. «Высокий род ее мешал войти в равенство» с Ивановым, но она обещала простить ему «все нравственные недостатки».
Гоголь полагал иначе. Он верил, что такие «светильники» «уже не свяжутся земными узами». Это очень обидело Иванова, который, напротив, считал, что удачная женитьба может быть еще одной наградой за его труд. А взять в жены после художественного и религиозного триумфа он, по собственному признанию, соглашался даже монахиню.
…В 1857 году, перед возвращением в Россию, Александр Иванов едет Лондон, чтобы встретиться с Александром Герценом. Визит к Герцену стал следствием «потери религиозной веры». Закончив «…Христа…», Иванов почувствовал, что «утратил религиозную веру, которая облегчала ему работу». «Мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеалы!» – просил он Герцена. – «Писать без веры религиозные картины – это безнравственно, это грешно…» Что мог посоветовать Герцен?.. Пожелал сыскать новые идеалы.
Вняв мнению публики о том, что картина вполне завершена, Иванов решил отвезти холст в Россию.
Шесть недель в Петербурге он ждал своей участи. Будет ли приобретено полотно правительством и станет ли оно залогом славы и материального благополучия. И что же… Ему сообщили, что картина может быть куплена на таких условиях – 10 000 рублей единовременно и по 2000 пенсии каждый год жизни. Для сравнения – миллионер Кокорев предлагал разом 30 000 рублей золотом. Иванов рассчитывал на большее и раздумывал. Наконец решился, приехал высказать согласие, но выражение оного, по мнению царедворцев, затянулось, и ему сообщили, что теперь судьбу картины решат министры. Взволнованный Иванов вернулся домой, с ним случился припадок. Врачи сочли, что это холера. Через три дня 3 июля 1858 года живописец умер.
Из писем Иванова мы видим, что он вполне откровенно сознается в своих проступках и увлечениях, за которые ему пришлось поплатиться даже расстройством здоровья. Однако он решил бороться со своей сексуальностью путем творческой мысли, направленной к Богу. Этот путь не избавил его от желания удовольствий – «если бы я их не имел иногда, то давно бы был задавлен меланхолией». Как был задавлен Гоголь…
Но даже в «Явлении Христа…», как отмечает летописец «Другого Петербурга» Константин Ротиков, всегда особенно чуткий к любым проявлениям гомосексуальности, пять обнаженных фигур вполне выдают заветное чувство, которое никогда не оставляло Иванова.
«Невозможность жениться…». Николай Гоголь (1 апреля 1809 – 4 марта 1852)
Впервые мысль о «гомосексуализме» Николая Васильевича Гоголя высказал в своем знаменитом сочинении о гениальности итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо. Он же назвал причиной болезни и смерти Гоголя «сексуальные аномалии», которые сопровождали врожденную гомосексуальность писателя.
Впрочем, особенности «полового чувства» Гоголя оказались в центре внимания современников уже спустя несколько лет после его смерти. Загадка болезни и смерти Гоголя заставила биографов обратить более пристальное внимание на его личную жизнь. Но откровенно говорить о «повседневных странностях» Гоголя долгое время не позволяли общественные стереотипы. Не удивительно, что все жизнеописания великого сатирика до сих пор оставляют впечатление некой неразгаданной тайны. «Гоголеведы» с легкостью погружаются в гоголевскую литературную фантасмагорию, которая своей яркостью всегда заслоняет быт писателя. Они уходят в самые глубины его странных образов и уже не могут вынырнуть на поверхность будничных обстоятельств жизни Гоголя.
Единственным исключением стала книга Саймона Карлинского «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя» (1992) – яркое доказательство гомосексуальности писателя. Вслед за Карлинским вышли запрещенные в СССР работы психиатра Владимира Чижа и психоаналитика Ивана Ермакова, созданные еще в начале XIX века.
Николай Гоголь был первенцем Марии Ивановны Гоголь-Яновской, которая вышла замуж в 14 лет и родила ровно через год. Известно, что она отличалась таким «психопатическим темпераментом», что многие приятели Гоголя, например Александр Данилевский, считали ее просто ненормальной. С матерью Гоголь большую часть жизни поддерживал отношения через письма, и эти письма – своеобразное продолжение воображаемого мира его книг. Там все выдумано… Впрочем, и она довольно своеобразно Никошу обожала и совершенно серьезно приписывала ему чуть ли не все современные изобретения: от железной дороги до телеграфа…
Девятилетнего Николая вместе с младшим братом Иваном отослали в Полтаву, где они жили у учителя, который готовил их к Нежинской гимназии, недавно открытой и довольно плохо организованной. Директором гимназии оказался сосед матери по имению господин Орлай, поэтому многочисленные шалости и прогулы часто сходили Никоше с рук, но, впрочем, не всегда. Безобразные истерики, которые случались с мальчиком, игры в эпилептические припадки, дабы избежать публичной порки за провинности, – все это запомнилось как гимназическим воспитателям Николая, так и его соученикам. Юношеская истероидность – всем известный факт биографии Гоголя, вошедший в книжку В. Авенариуса «Гоголь-гимназист» (она издавалась в начале ХХ века около 10 раз).
Друзей у Гоголя с гимназических лет не было, исключением был «грациозный мальчик» Сашенька Данилевский. Вместе они и отправились завоевывать Петербург после окончания гимназии в 1829 году, вместе совершили первое путешествие за границу, в Италию, едва ли не всю жизнь состояли в переписке, полной двусмысленных намеков и витиеватых признаний в верности, любви и дружбе. Но об этом чуть позже.
Пока же мечта о славе терзала душу Николая, который в гимназии не подавал больших надежд на громкое будущее. Попытка штурма нижних ступеней Олимпа государственной службы в Петербурге не увенчалась успехом. Первые поэтические опыты, опубликованные под псевдонимом в «Сыне отечества», провалились и были подвергнуты язвительной критике. Неудачей закончилась и попытка Гоголя устроиться актером в театр – талант его нашли «маловыразительным». Тогда случился первый нервный срыв, и Гоголь, обманув матушку, неожиданно сорвался за границу, но… так же внезапно вернулся.
Тут улыбнулась удача с повестью «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» в «Отечественных записках» 1830 года. Молодой писатель, представленный в свет Владимиром Жуковским, быстро пошел нарасхват, пока в качестве учителя для аристократических семейств.
По дороге в Европу Николай Васильевич на некоторое время задержался в Женеве – дописывал «Мертвые души», а Саша Данилевский поехал нежиться под южным солнцем.
В Риме Гоголь особенно сдружится с молодым художником Александром Ивановым. К тому времени Иванов уже два года как закончил довольно популярную у современных гомосексуалов картину «Аполлон, Гиацинт и Кипарис». Она воплощает как бы восхождение к мужскому совершенству – обнаженные дитя, отрок и, наконец, задекорированный плащом Аполлон. Судя по всему, Иванов был склонен к гомосексуальности. Проблема партнера в этом случае удобно решалась натурщиками, частенько продававшими свою натуру в буквальном смысле.
Но не Иванов стал предметом интимной привязанности Гоголя, а больной двадцатитрехлетний граф Иосиф Вильегорский. С ним, кажется, многое перевернулось в жизни Гоголя, потому что молодой граф был его первой стремительной любовью. От ночей, проведенных у кровати больного, осталась недописанная новелла – «Ночи на вилле», опубликованная только после смерти Гоголя.
«…Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь. Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки и…»
На этом рукопись обрывается, а потом словно продолжается в волнующем письме Гоголя к Данилевскому. «Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются. Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразлучно и решительно братски только – увы! – во время его болезни. Ты не можешь себе представить, до какой степени благородна была эта высокая младенчески-ясная душа. Это был бы муж, который бы один украсил будущее царствование Александра Николаевича. И прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное у нас на Руси!»
Данилевской был едва ли не единственным, с кем Гоголь мог позволить себе быть откровенным. Вот, например, Гоголь пишет о каком-то ресторанном гарсоне, Филиппе, который «явился с большим серебряным кофейником, без сомнения pui demandato da noiche le belle putto» («более желанным для нас, чем красотки»). «…Если кофейник более желанен, чем красотки, так непонятно, почему надо переходить на итальянский», – иронизирует историограф «голубого Петербурга» Константин Ротиков.
После нескольких лет за границей Гоголь внешне преобразился в лучшую сторону. Возможно, тогда на него могла обратить внимание и какая-нибудь девица, ведь уже был вокруг него и некий ореол литературной славы. Таким, например, увидели Гоголя в семье Аксаковых: «Прекрасные белокурые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение…»
Но он не отвечал на интерес поклонниц.
«Невозможность жениться» – так сформулировал сюжет вероятного фильма о Гоголе Сергей Эйзенштейн. Это замечание очень важно для нас, потому что только человек, имевший сходные с Гоголем проблемы, мог прочувствовать подлинные страхи писателя, подталкивавшие его в пропасть меланхолии.
Как мы уже писали, у Гоголя почти не было друзей. Он не искал дружбы ни с Пушкиным, ни с Белинским (на последнее письмо которого даже не ответил), ни с Лермонтовым. Сейчас это может показаться странным, если не принимать во внимание характерный эгоцентризм Гоголя и его равнодушие ко всему происходящему вокруг, когда оно не затрагивает его личных интересов. Невозможность жениться и невозможность свататься. Кстати, посвататься Гоголь соберется лишь однажды в самый безденежный период своей жизни, да еще и к особе в два раза его младшей – Анастасии Вильегорской. Да-да, сестре того самого Иосифа… Разумеется, последовал отказ.
Впрочем, интимная жизнь Гоголя не была такой уж и спокойной. Напротив, она представляет собой череду скандалов, среди которых немало на почве ревности. Автор поэмы «Мертвые души» лишь благодаря своей стремительной славе избежал дуэли с неким гусарским унтер-офицером, который обвинил его в растлении своего несовершеннолетнего брата.
Обратив внимание на подчеркнутую холодность писателя к женщинам, психиатры с начала ХХ века заговорили о «недоразвитии половых чувствований» у Гоголя. Особенно отставал эту идею видный русский психиатр Владимир Федорович Чиж (1855-1922) в своей работе «Болезнь Гоголя» (1903-1904). Он же поднимает вопрос о Гоголе, злоупотребляющем онанизмом. Чиж готов признать, что тот был мастурбантом, если считать «мастурбацию симптомом» душевной болезни писателя, но не ее причиной. В целом история о чрезмерном увлечении Гоголя мастурбацией кажется ему легендой, которая возникла из-за того, что он совершенно не имел любовных увлечений.
Легенда о Гоголе-мастурбанте настолько укрепилась в профессиональном сознании доморощенных российских «психоаналитиков», что некоторые советские «специалисты» еще долго пугали пациентов присказкой: «Уж на что Гоголь был гениален, но и то заболел от онанизма».
Наиболее уверенно говорить о гомосексуальности Гоголя мы можем, основываясь на данных психоанализа. Самую полную реконструкцию либидо Гоголя предпринял пионер русского психоанализа директор государственного психоаналитического института Иван Дмитриевич Ермаков (1875-1924). Его работы находились в СССР под запретом до 1999 года. Ермаков полагает, что с детства «вытесняемая сексуальность Гоголя возвращалась в виде чувства страха» перед женщинами. Страх стал причиной кастрационного комплекса, который нашел свое выражение в повести Гоголя «Нос».
Одной из главных черт личности Гоголя Ермаков считает сосредоточенность на получении удовольствия через анальный проход. «Анатомическим субстратом такой эротики у Гоголя были геморроиды, о которых можно найти многочисленные указания в его письмах». Письма Гоголя пересыпаны пословицами и шутками анального характера. Писатель смаковал все, что относилось к процессу дефекации и калу, часто используя копрологические выражения. Одно из них, кстати, справедливо досталось знаменитому гомосексуалу Бантыш-Каменскому, тому самому, который из-за невоздержанных проявлений своей гомосексуальности во времена Гоголя уже мучался в монастыре. В письмах Гоголь называл его «говном».
Равнодушие Гоголя к дружбе с мужчинами профессор психиатрии Чиж объясняет тем, что он был «лишен тех наслаждений, которые так сладки для его друзей». Отсюда возникла «патологическая неспособность любить кого-либо, кроме самого себя». По мнению Карлинского, для дружеской переписки Гоголь «специально выбирал человека, который меньше всего мог соответствовать его мечтам» – это был поэт Языков.
Женщины оказались более благосклонны к странностям Гоголя, в них, по выражению Чижа, он нашел «свою аудиторию». Если женщины не могли стать любовницами Гоголя, то они заменили ему друзей.
Кто эти внимательные подруги?
… Конечно же, знаменитая фрейлина Александра Федоровна Смирнова-Россети, а также сестры Вильегорские. Отношения со Смирновой-Россети, в салоне которой собиралась вся политическая и интеллектуальная аристократия того времени, ограничивались платонической привязанностью. Причину «робости» Гоголя доктор психиатрии Тарасенков увидел в том, что «половое чувство было в нем резко понижено даже в молодые годы». А профессор психиатрии Николай Баженов, автор работы «Болезнь и смерть Гоголя» (1902), вообще отказывается рассматривать отношения Гоголя с женщинами, несмотря на чрезвычайную важность этого вопроса для верной характеристики психологического типа писателя. Но он отмечает, что, если бы «смутные слухи» о личной жизни Гоголя оказались бы «достоверными», то они, вероятно, пролили бы подлинный свет на причины психопатического состояния Гоголя. О каких «смутных слухах» отказывается говорить Баженов, сегодня понятно…
«Гоголь никогда ни в кого не был влюблен», – уже уверенно заявляет Чиж. Блеск Смирновой-Россети не смог впечатлить Гоголя, потому что он совершенно не воспринимал женскую красоту. Что же касается Анастасии Виельегорской, то она, во-первых, не была хороша собою, а, во-вторых, сватовство Гоголя никто не воспринял всерьез.
Лидер символистов Валерий Брюсов в 1909 году в журнале «Весы» назвал свою лекцию, приуроченную к одному из гоголевских юбилеев, «Испепеленный». Брюсов одним из первых отметил очень важную черту творчества и жизни Гоголя – преувеличение и гиперболизацию во всем. Именно такого рода карнавализация свойственна современной гей-культуре с ее пышными трансвеститскими персонажами. Гоголь, о страсти которого к переодеванию в прямом смысле и переносном – театрализация в жизни, какие-то невероятные проекты (он то пытался занять кафедру истории средних веков в Санкт-петербургском университете, то придумывал какие-то проекты по бесплатному распространению своих книг) – уже сказано довольно много, – натура очень близкая современному гейству. Но эта яркая внутренняя сила была направлена на уничтожение плоти и не нашла своего чувственного выхода. В противоречии плоти и духа заключается гоголевский конфликт. И душа испепелила, уничтожила плоть.
На масленой неделе в 1852 году Гоголь начал говеть и поститься.
На исповеди он, возможно, впервые признался в своих сексуальных желаниях. Ржевский духовник Гоголя священник Матвей Константиновский, который приехал в Москву в конце января – начале февраля, осудил писателя и назвал его желания смертным грехом. Для измученного депрессивным психозом Гоголя это был смертный приговор. Он целенаправленно уничтожал себя голодом. Силы уходили, встревоженные церковники настаивали, чтобы он начал принимать пищу, но писатель отказывался. Наконец Гоголь слег в беспамятстве. Врачи холодными ваннами и кровопусканием только ускорили его кончину.
«В увлечениях страсти утопая…». Михаил Лермонтов (15 октября 1814 – 27 июля 1847)
Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я…
Эти строки из лермонтовских черновых набросков любили приводить в своих исследованиях биографы Михаила Юрьевича Лермонтова. Действительно, семейная жизнь его родителей не сложилась. Известно, что Юрий Петрович (1787-1831), отец поэта, изменял своей супруге Марьи Михайловне (1795-1817)… и не только с женщинами. Семейные размолвки однажды закончились рукоприкладством. Это стало последней точкой в их отношениях…
Бабка Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773-1845) имела возможность однажды разобраться со своим супругом. Он умер при странных обстоятельствах: отравился, не дождавшись на маскерад своей любовницы из соседнего поместья. Злые языки поговаривали, что яд он принял не добровольно. Арсеньева предприняла все, чтобы уберечь и дочь от неразборчивого супруга. Поэтому родители Михаила не жили вместе. А слабая здоровьем Марья Михайловна, испытавшая позор, сгорела от чахотки, когда Мишеньке исполнилось 3 года. Путем шантажа – Юрий Петрович был беден и мог жить только на доходы с имения Арсеньевой – Елизавета Алексеевна добилась того, что получила право заниматься воспитанием внука, пока тому не исполнится шестнадцати лет. Некоторые полагают, что Арсеньева «подозревала его в гомосексуализме и хотела оградить любимого внука от негативных влияний со стороны отца» (Михаил Вольпе).
«Заботливость бабушки о Мишеньке доходила до невероятия; каждое его слово, каждое его желание было законом не только для окружающих или знакомых, но и для нее самой». Все в доме было устроено для Миши – «все ходили кругом да около» него. Для семилетнего внука бабушка создала нечто вроде потешного полка. Собрала в округе мальчиков его возраста, пошили им военные платья. Особенно он любил устраивать между ними кулачные бои с разбитыми до крови носами. Сам участия в них не принимал, не позволяло здоровье. От рождения болезненного Мишеньку бабушка раза три возила лечиться на Кавказ.
Десяти лет от роду с Мишелем на Кавказе случилась странная влюбленность в девятилетнюю девочку. Примечательно, что психологи отмечают раннюю чувственную влюбленность разнополых подростков, связанную с сильным эмоциональным впечатлением (осуждением сверстников и взрослых), как возможное условие будущей гомосексуальности. Лермонтов вспоминал и переживал это первое чувство в дневниках лет до шестнадцати… Едва он успокоился, как потешный полк сменили крепостные девушки, заполнившие дом по распоряжению бабушки, «чтобы Мишеньке не было скучно». Мишель мог выбрать любую... Крестьянки, оказавшиеся в интересном положении, выдавались Арсеньевой замуж.
Четырнадцатилетнего Лермонтова отдали в Благородный университетский пансион в Москве, где он жил на правах полупансиона, то есть вечером возвращался домой в нанятую квартиру. Бабушка поселилась при внуке. Для воспитания наняли француза Жандро, капитана наполеоновской гвардии. «Этот изящный, в свое время избалованный русскими дамами француз, пробыл, кажется, около двух лет и, желая овладеть Мишей, стал мало-помалу открывать ему «науку жизни», – пишет первый биограф Лермонтова Петр Висковатый (1842-1905).
Известно, что в пансионе никаких особых историй с Мишелем не случалось, в отличие от юнкерской школы, в которую поэт поступил после того, как был со многими другими студентами оставлен на второй год. Впрочем, уже в пансионе проявилась наклонность, за которую Лермонтова всю жизнь не любили товарищи. «Пристанет, так не отстанет», – говорили о нем.
...Прослушав первый курс и разочаровавшись университетским образованием (московская alma mater действительно представляла тогда жалкое зрелище), Лермонтов уехал в Петербург, собираясь продолжить учение. Но неожиданно он меняет вектор своей жизни – поступает в юнкерскую школу. Приказом по школе от 14 ноября 1832 года Михаила зачислили в лейб-гвардии Гусарский полк на правах вольноопределяющего унтер-офицера. Военная дисциплина в юнкерской школе соседствовала с «разнузданными нравами». Очень скоро Мишель, воспитанный в женском обществе, переменился – «следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бомблишерства», – отмечает Аким Павлович Шан-Гирей (1818-1883), его приятель и сосед по имению бабушки.
Там же Лермонтов познакомился с Николаем Соломоновичем Мартыновым (1815-1875), которого звал ласково – Мартышка. Юнкера издавали рукописный журнал «Школьная заря», в котором преимущественно публиковались скабрезные истории. Его основными авторами и стали Лермонтов с Мартыновым. Всего в 1834 году вышло 7 номеров, хотя предполагалось издавать их еженедельно. В «…Заре» появились тексты, составившие славу Лермонтову как «новому Баркову».
Эти тексты вполне соответствовали реальным нравам юнкерской школы. Самым невинным из них можно назвать поэму «Уланша» – пересыпанное матерщиной описание группового изнасилования девушки Танюши эскадроном гусар. Были и другие поэмы – «Петербургский праздник» (о сексуальных приключениях юнкера) и «Гошпиталь» (о «грязных, бурных, неумолимых юнкерах»). Но, пожалуй, самыми известными «похабными» сочинениями Лермонтова стали «Ода к нужнику» и примыкающее к ней короткое стихотворение, адресованное юнкеру графу Петру Павловичу Тизенгаузену (1815-?). С Тизенгаузеном Лермонтов в 1838 году продолжит служить в Гродненском гусарском полку, откуда граф будет изгнан за «нравственную распущенность», застуканный с… или, точнее, под Ардалионом Новосильцевым…
Не води так томно оком,
Круглой жопкой не верти,
Сладострастьем и пороком
Своенравно не шути.
Не ходи к чужой постели
И к своей не подпускай,
Ни шутя, ни в самом деле
Нежных рук не пожимай…
Граф Петр Тизенгаузен был пассивным гомосексуалом, своей доступностью он объединял так называемый «Нумидийский эскадрон», группу юнкеров, объединенных общими сексуальными интересами. В этот «круг разврата», помимо «великана кавалергарда» Тизенгаузена и Михаила Лермонтова, входили друг поэта Василий Вонлярлярский (1814-1852), а также братья Череповы. «Плотно взявши друг друга за руки, они быстро скользили по паркету легкокавалерийской камеры, сбивая с ног попадавшихся им навстречу новичков». Сбитые на пол новички, удерживаемые за руки и ноги смелыми нумидийцами, подвергались «легким» сексуальным домогательствам.
В своих бисексуальных приключениях, о которых слагались анекдоты, Лермонтов соперничал с известным повесой Константином Александровичем Булгаковым (1812-1862), сыном бывшего московского почт-директора, который «от сильного разгула рано кончил жизнь». К «нумидиймкому эскадрону» примыкал и Мишель Сабуров (1813-?) – знаток скабрезных куплетов и аккомпаниатор Лермонтова, вечерами у разбитого рояля они на пару любили блистать талантами. В Сабурове Лермонтов искал не только сексуального удовольствия, но и настоящей дружбы. Он посвятил ему целую поэтическую тетрадь, в которую записал поэму «Черкесы» и несколько романтических, а, точнее, любовных стихотворений, адресованных Мишелю, с которым он хотел «разделить святой досуг» в «сени черемух и акаций». «Наша дружба смешана со столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания о ней совсем невеселы. Этот человек имеет женский характер, и я сам не знаю, отчего дорожил им», – позже подпишет Лермонтов под одним из стихотворений, некогда посвященных Сабурову.
Что огорчало Лермонтова в Сабурове? Быть может, непостоянство и то, что Мишель стал в юнкерской школе одним из, так сказать, служителей «вонючего храма неведомой богини» – офицерского нужника. «Ода к нужнику», известная в списках и впервые напечатанная в сборнике «Русский Эрот не для дам» (1879) – едва ли не самое известное сочинение «нового Баркова». Вот ее финал…
Последняя свеча на койке Беловеня (воспитатель юнкеров)
Угасла, и луна кидает бледный свет
На койки белые и лаковый паркет.
Вдруг шорох, слабый звук и легкие две тени
Скользят по каморе к твоей желанной сени,
Вошли... и в тишине раздался поцалуй,
Краснея поднялся, как тигр голодный, хуй,
Хватают за него нескромною рукою,
Прижав уста к устам, и слышно: «Будь со мною,
Я твой, о милый друг, прижмись ко мне сильней,
Я таю, я горю...» И пламенных речей
Не перечтешь. Но вот, подняв подол рубашки,
Один из них открыл атласный зад и ляжки,
И восхищенный хуй, как страстный сибарит,
Над пухлой жопою надулся и дрожит.
Уж сближились они... еще лишь миг единый...
Но занавес пора задернуть над картиной,
Пора, чтоб похвалу неумолимый рок
Не обратил бы мне в язвительный упрек.
От известности эротического рифмоплета Лермонтов не сможет избавиться довольно долго. Даже стихотворение «На смерть поэту» не затмит популярности «нового Баркова». В иные времена дамам будет запрещено упоминать, что они читали стихи «господина Лермонтова». Возможно, лишь за несколько месяцев до смерти на дуэли, когда выйдет уже и «Герой нашего времени», и его «Собрание сочинений», начнет пробиваться сквозь «похабные стишки» слава поэта.
Когда биографы Лермонтова в начале XX века задавались вопросом, почему он до сих пор так незначительно исследован, они, для кого эротические сочинения Лермонтова никогда не были тайной, отчасти кривили душой, зная, что здесь действовала своего рода инерция представления о Лермонтове как об авторе скабрезных текстов.
В XIX веке в обществе о Лермонтове отзывались как о скандальном, капризном, наглом юноше, известном своим несносным характером. Тот же Белинский долгое время называл Лермонтова не иначе как «пошляком». А философ В. С. Соловьев, известный своей гомофобией, писал, что выражение Лермонтова о «пороках юности преступной» «слишком близко к действительности». «Я умолчу о биографический фактах», – отмечает Соловьев… и пускается в рассуждения о «невозможных поэмах» «совершеннолетнего поэта». Его возмущает, как может вполне сформировавшийся мужчина писать то, что сочиняет Лермонтов. Размышляя о его творчестве, Соловьев сравнивает поэта с «лягушкой, прочно засевшей в тине». Иного образа для его «порнографической музы» он не находит. П.А. Висковатов (1842-1905), автор монографического исследования «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество», как бы вступая в заочный спор с Соловьевым (тот в противовес лермонтовским эротическим стихам приводил пушкинские, которые отличаются «легкой игривостью и грацией»), отмечал, что Пушкин начал сочинять такие стихи гораздо раньше Лермонтова.
Так что, разумеется, ропот света над телом безвременно погибшего поэта никак не был связан с его свободолюбием и «неприятием царизма». Он объясним лишь одной дурной репутацией злоречивого Лермонтова в обществе и его сложным характером. Причем характер этот нельзя назвать ни женским, ни мужским. Лермонтов скорее был бесполым существом. В университетском пансионе он уже проявлял нелюдимость и эгоизм. Он равно дерзил преподавателям и товарищам, сочинял о них обидные стишки, язвил по любому поводу и без. Невыносимый нрав Лермонтова, видимо, стал и причиной его дуэли с Мартыновым…
Удивительно, что, несмотря на отмеченную всеми современниками «приставучесть» Лермонтова, друзья у него все-таки были. И первый из них – Монгó, двоюродный дядя Лермонтова Алексей Аркадьевич Столыпин (1816-1858). Как и все окружавшие Лермонтова мужчины, красавец, внешний блеск которого вошел в поговорку. А также Николай Мартынов – фатоватый, замечательно сложенный, высокий, с густыми усами, русский горец, производивший одним своим видом волнение в любом дамском обществе, и Мишель Сабуров – объект снов и грез.
А что же женщины?.. Обычно дам Лермонтов, внушив им надежду на развитие серьезных отношений, любил оставлять ни с чем. Заботу о своих первых шагах в свете он доверил Елизавете Михайловне Хитрово (1783-1839). 50-летняя женщина, не перестававшая оголять плечи, увлеклась Лермонтовым, но он всего лишь использовал ее покровительство… Она ему «надоела несказанно», он не знал, как избавиться от нее, и бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки.
Катенька Сушкова (1812-1868)… «Нет, я не Байрон, я другой…» – эти слова написаны в альбом Сушковой. Шестнадцатилетний Лермонтов «увлек девушку, разыграл роль человека страстно влюбленного, но когда она поверила, раскрыл ей карты и показал, что это был всего лишь фарс, игра». Этот вялый роман развивался с 1830 по 1834 год. Лермонтов, чтобы освободиться от объяснившейся наконец в любви Катеньки, написал ей, разумеется, не своим почерком, который был известен Сушковой, письмо. На четырех страницах он очернял себя, рассказывая от лица некого «неизвестного, но преданного вам друга» историю того, как Лермонтов «погубил девушку, во всем равную» Сушковой «по уму и красоте».
Варенька Лопухина (1815-1851). Начиная с 1830 года она время от времени завладевала сознанием поэта. Но в 1835-м Лопухина вышла замуж за богатого человека. Лермонтов счел это коварством, за которое отплатил прозрачными намеками в «Княгине Лиговской».
…Женщина возле Лермонтова – элемент какой-то игры, задуманный поэтом. С мужчинами же все получалось гораздо сложнее: они не так просто принимали правила Лермонтова, они ломали их и предлагали свои.
Николай Мартынов, с которым поэт вновь встретился на Кавказе после долгого перерыва, предстает совершенно иным в книге Александра Познанского «Демоны и отроки: загадка Лермонтова», до сих пор не опубликованной в России. Автор утверждает, что между дуэлянтами были нежные и трогательные отношения. Иначе говоря, в юнкерской школе они были влюблены друг в друга и, скорее всего, имели сексуальную связь. Познанский приводит высказывания лермонтовского современника Бартенева, в которых находит намек на тесные отношения Михаила и Николая. По словам Бартенева, сам Мартынов якобы рассказывал ему, что накануне поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что «приехал отвести душу после пустой жизни». По этой версии не Лермонтов вызвал Мартынова на дуэль, а Мартынов, приревновав поэта к своей сестре.
Есть две другие, более распространенные версии. Первая – это двусмысленные шутки Лермонтова по отношению к Мартынову, вторая – любопытство Лермонтова, вскрывшего конверт, адресованный Мартынову с дневниками его сестры, с которой поэт заигрывал.
Что же это за двусмысленные шутки?
Лермонтов по-французски называл Мартынова «горцем с большим кинжалом» (montaguard au grand poignard), намекая на размеры мужского достоинства своего приятеля. Мартынов действительно носил довольно большой кинжал и любил выходить в свет в черкесском костюме. Он умолял Лермонтова не выражаться подобным образом хотя бы при женщинах… Но в доме Верзилиных это слово – poignard – отчетливо прозвучало в устах Лермонтова. Весь вечер Лермонтов продолжал «приставать» к Мартынову и едва ли не сам напросился на дуэль…
Что касается вскрытого конверта, то еще за четыре года до поединка у Мартынова была причина вызвать Лермонтова на дуэль. Жертвой своей очередной игры в любовь Лермонтов выбрал одну из сестер Мартынова. И теперь ему было интересно узнать, насколько подействовали его хитрости: вот он и вскрыл конверт с письмом, который ему передали сестры Мартынова, чтобы он доставил его их брату. Лермонтов известил друга о краже пакета с письмом (в некоторых случаях фигурирует дневник одной из сестер) и передал ему 300 рублей, которые были вложены в письмо. Но о том, что в конверте лежали деньги, Лермонтову никто не сообщал. Так многие сделали вывод, что пакет не крали, это Лермонтов вскрыл его умышленно.
Но вернемся к дуэли. В окружении приятелей она не воспринималась серьезно – всем было известно об особенных отношениях Лермонтова и Мартынова, которые завязались еще в юнкерской школе. В полку полагали, что дуэль – лишь шутка…
Лермонтов даже не успел выстрелить. Пуля с правой стороны пробила ему грудь и попала в сердце.
Михаил Лермонтов – русский поэт, который впервые сделал гомосексуальные отношения объектом своей фривольной поэзии. Лирический герой его стихов, а также Печорин в «Герое нашего времени» открывают в русской литературе возможность мировоззренческого осмысления гомосексуальности в качестве жизненной позиции. Этот путь одинокого гомосексуала отчетливо воплощается в жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова – путь одиночки, облекающего свою сексуальную инакость в маску остряка и пошляка, отличающегося вздорным нравом.
«Содома князь и гражданин Гоморры». Владимир Мещерский (23 января 1838 – 23 июля 1914)
Князь Владимир Павлович Мещерский, внук историка Карамзина, – персонаж скабрезных анекдотов и слухов в России второй половины ХIХ века и одновременно один из главных персонажей ее общественной жизни, автор знаменитых «Речей консерватора» («кругом измена, и трусость, и обман…»), заслуживший у многих своих современников похвалы, которой редко кто удостаивается при жизни.
Родился князь Мещерский в семье отставного подполковника гвардии Петра Мещерского и старшей дочери Николая Карамзина. Просвещенные родители, «необыкновенные по нравственной красоте», окружили Володю светом христианской любви и внимания. И многие годы спустя в мемуарах Владимир Мещерский, признавая свой «дурной характер и дурную натуру», а также свойственные ему «недостатки природы», отдавал должное семье. Именно благодаря матушке и отцу, его сердцем завладели идеалы любви к России.
Восьмилетней мальчик из обстановки всеобщей любви в 1846 году отправляется в знаменитое Петербургское училище правоведения, где вся власть была в руках бывшего рижского полицмейстера полковника Языкова, а главным средством воспитания являлись розги. Светский персонал училища с приходом Языкова заменили бывшие вояки. Каждую субботу после всенощной Языков устраивал во дворе училища публичные экзекуции. Табурет, розги… Как для жертв подобного воспитания, так и для невольных зрителей происходящее могло стать первым, а потом и многократным сексуальным переживанием. С Мещерским все именно так и произошло. Возможно, генетически предрасположенный к гомосексуальности – уж слишком неистово отдавался всю жизнь однополой любви – он легко воспринял гомоэротическую сторону культа армейской дисциплины. За ней, впрочем, не было ничего, кроме слепого подчинения однажды установленным правилам.
Но мальчик грезил также и о подвигах на благо российской государственности. Пятнадцатилетний отрок внимательно следил за тем, что происходило на самых вершинах государственной власти, прислушиваясь к разговорам в отцовской гостиной.
18 лет от роду, после окончания училища правоведения, Мещерский увлекается своим двоюродным братом Павлом Демидовым, принадлежавшим к кружку «золотой молодежи» того времени. Так, например, если Мещерский имел 25 рублей на карманные расходы в месяц, то Демидов – 100 000… Год 1857-й отрок Владимир Мещерский проводит в «веселой компании элегантных юнкеров», которые окружали Демидова. Кутежи в ресторане, игры в казино немало впечатлили Мещерского, и тот впервые в своей жизни, дабы запечатлеть падение нравов под шелест купюр, садится за перо и пишет драму… Прочитанную среди друзей и успеха не имевшую.
И все же именно литературный талант, а не только «верность Отечеству» и способность удовлетворять потребности протежирующих молодым чиновникам государственных отцов послужил взлету Владимира Мещерского. В 1861 году он описал пребывание Императора в имении Потемкиных Смоленской губернии, куда был приглашен его хозяйкой, графиней Татьяной Потемкиной. Графиня показала сочинение Императрице, и та вместе с государем пожелала выслушать рассказ из уст самого Мещерского. Вскоре после таких вот «литературных чтений» Мещерский был пожалован в камер-юнкеры.
Ну а пока девятнадцатилетний Владимир Мещерский поступает на государственную службу. На вершины государственности Мещерский медленно поднимался с самых низов. Два года он служил обычным полицейским стряпчим, разбирал дела (расследовал, допрашивал). В 1859 году был избран петербургским уездным судьей.
В 1861 году поступает в министерство внутренних дел, которое возглавил тогда отец соученика Мещерского по училищу правоведения Петр Алексеевич Валуев. Его сын Алексей Алексеевич Валуев (1849-1904) был «сердечным другом» поэта Алексея Апухтина. К нему, кстати, обращены незабываемые стихи – «Сухие, редкие, нечаянные встречи…». Таким образом, покинув стены училища правоведения, Мещерский вошел в круг людей, объединенных одними сексуальными интересами… Помимо младшего Валуева и Апухтина, можно назвать другого, еще более именитого гея в окружении Мещерского – Петра Ильича Чайковского, тоже соученика… Что же касается министра Валуева, то приметить старательного юношу он мог как раз в окружении своего сына. С этого времени придворные успехи стремительно поднимают Мещерского в элиту российской государственности.
Взгляды и поведение Мещерского понравились воспитателю тогдашнего наследника графу Сергею Григорьевичу Строганову (1794-1882). И Владимир после нескольких бесед-испытаний вошел в круг общения цесаревича Николая, а потом стал одним его близких друзей – в том странном смысле, в каком это слово может быть употреблено относительно будущего русского монарха… Легко ли было быть другом будущего царя?.. И дружить с ним на бесконечных светских раутах под пристальным взглядом святейших особ… Нужно сказать, что Мещерскому непросто давалась светская жизнь. По замечанию графа Строганова, он был «плохим куртизаном». Но зато каким интересным собеседником!.. А в будущем и советчиком – для наследника и его окружения.
Дружба с Никсом (так называли наследника в узком кругу) началась летом 1863 года, когда Николай со свитой отправился в путешествие по Волге и Дону. Никс и Владимир вели активную переписку. Одновременно Мещерский все более сближается с Великими князьями, что вскоре позволит министру Валуеву назвать его «интимным при дворе». Он даже отправится в Европу вслед за больным наследником в 1864 году. После смерти Никса Мещерский быстро занял место вблизи «нового цесаревича» – будущего Александра II. На время похорон в 1865 году Мещерский поселился в Царскосельском дворце и провел с Александром немало времени, беседуя о том грузе, который внезапно оказался на его плечах. Мещерскому-консерватору хотелось верить, что перед ним Александр – философ «христанской школы».
В 1866 году новый цесаревич приглашает Мещерского отправиться с ним в путешествие по России. …Путешествие закончится бракосочетанием Александра и принцессы Догмары, от необходимости венчаться с которой приходил в ужас внезапно скончавшийся Никс. В нем, по слухам, подозревали гомосексуала, покончившего с жизнью… Тогда, собственно, становится понятной его дружба с Мещерским. Впрочем, перед браком Александра и Догмары тоже стояли некоторые препятствия, для монаршей четы, в общем-то, несущественные, – любовь Александра к кузине Мещерского. Эти чувства умело нейтрализовал Владимир, за что, разумеется, был обласкан императорской семьей.
Из гомосексуалов старшего поколения, которые оказали на Мещерского наибольшее влияние, нужно вспомнить поэта и духовного писателя Андрея Николаевича Муравьева (1806-1874). Его в шутку называют «одним из виднейших русских гомосексуалистов», «развратившим половину Петербурга». В своих мемуарах Мещерский скажет немало доброго о Муравьеве. Неизвестно, было ли что между ними, но протекцией Муравьева Мещерский пользовался многократно…
Пока судьба не подарила Александру трона, Мещерский продолжал служить в министерстве внутренних дел чиновником по особым поручениям. Его общественная жизнь проходила в кругу императорской семьи, а интимная – среди питерских гомосексуалов… Впрочем, пока молодой Мещерский не находился в центре внимания своих недоброжелателей, которые позже будут с удовольствием перебирать грязное белье его личной жизни.
Тем временем Владимир начинает свою карьеру журналиста и беллетриста. Испытывая сложности с публикацией статей, он задумывает начать издание собственного журнала «Гражданин», чтобы бороться с «вредным действием печати на молодежь». Речь шла о «Голосе» Краевского и «Санкт-Петербургских ведомостях», которые еще в далеком 1861 году отказались напечатать статейку Владимира о святейшей семье. Не помогло даже обращение всемогущего Блудова. Теперь за помощью он обращается к цесаревичу.
Мещерский полагал, что «Гражданин», быть может, станет тем, что сохранит его имя в истории и за что ему будет благодарны потомки. Так и произошло… Среди засилья либеральной прессы 1970-х, «Гражданин» стал настоящим оплотом самодержавия. «Восприемниками» Мещерского в «Гражданине» были Константин Победоносцев, Федор Достоевский, Федор Тютчев и Аполлон Майков. В этом ряду умнейших и талантливейших людей России должно стоит и имя князя Мещерского.
«Гражданин» просуществовал до смерти Владимира Павловича. В нем он нещадно боролся с земством, со светским образованием, которое, по его мнению, должно было сохранять религиозную направленность, с судом присяжных, с крестьянским самоуправлением, с появлением «евреев-интеллигентов» и так далее. В первые годы «Гражданин» выходил под девизом «Поставить точку» – речь шла о либеральных реформах Александра II. Разрыв в 1873 году отношений с императорской семьей как раз был вызван статьей «Точка» – об этих самых либеральных реформах...
С кратковременными перерывами «Гражданин» выходил в самые неспокойные для России годы – русско-турецкая война, террор народовольцев, выстрелы в губернаторов, министров и, наконец, бомба, погубившая царя… После взрыва 1 марта 1881 года новый царь Александр III вновь приблизит к себе друга юности. 13 лет – все время царствования Александра III – личное влияние Мещерского будет чувствоваться во всем. Его, впрочем, попытался пресечь в 1882 году воспитатель Александра Победоносцев, представив доказательства связи Мещерского с юным то ли гвардейским барабанщиком, то ли трубачом (трубачи и барабанщики в то время повсеместно употреблялись офицерами с сексуальными целями). Но Александр предпочел сохранить рядом с собой верного Владимира.
На интимной жизни Мещерского надо бы остановиться подробнее. Но здесь история сохранила больше эпиграмм и обличений, чем фактов. И все же было достаточно много желающих постоять возле постели князя со свечкой, впрочем, как и тех, кто с удовольствием бы в ней оказался…
В 1873 году князь, на первых порах обласканный цесаревичем, открывает свой салон. На «Литературных средах» он почти перестает скрывать свою гомосексуальность. И в итоге в 1889 году попадет в знаменитый отчет полиции о петербургских буграх. В отчете в частности сообщалось, что он «употребляет молодых людей, актеров и юнкеров, и за это им протежирует. В числе его любовников называют актеров Александринского театра Аполлонского и Корвин-Круковского. Для определения достоинств задниц его жертв у него заведен бильярд». Неплохая эротическая подробность, свидетельствующая об искушенности князя в однополом сексе.
Да, столь заметная в общественной жизни персона была окружена бесчисленным количеством молодых людей, добивавшихся внимания. Но все-таки был и тот, кого можно назвать своеобразным супругом Мещерского. Речь идет о Николае Федоровиче Бурдукове, которому князь помог стать камер-юнкером и членом тарифного комитета министерства внутренних дел. Он даже жил в одном из домов Мещерского в Петербурге.
Кратковременной была связь Владимира Петровича со сводным братом Иваном Манасевичем-Мануйловым. Между прочим, одним из предполагаемых авторов «Протоколов сионских мудрецов».
Всемогущего «содомита» ненавидели и левые, и правые… Он к тому же оказывается удачливым писателем и с начала 1870-х издает около десятка романов, многие из которых стали, говоря современным языком, бестселлерами.
Впрочем, что касается сексуальной невоздержанности князя и безнравственности, то, конечно, здесь во многом наводят напраслину на его светлый облик идеологические оппоненты. Ну и что из того, что влюблялся князь в юных трубачей, солдат или вчерашних выпускников столь дорогого его сердцу училища правоведения… Да ведь много кто перебывал в гостиной Мещерского и по протекции перед Александром III позже занял высокие посты в империи. Но говорить, что для измерения достоинства таких людей, как Сергей Витте, Дмитрий Толстой, Тертий Филиппов, Иван Вышнеградский, Мещерский тоже использовал бильярд, могут только гомофобы и последние сплетники. Разумеется, совершенно другим образом оценивал Мещерский и совершенство таланта Федора Достоевского, ненавидящего либерализм из-за «фальши».
Владимир Соловьев назовет Владимира Павловича «Содома князь и гражданин Гоморры» – за эту строчку ухватятся советские историки. Возможно, некоторые из них умерили бы свой пыл, если бы знали, каков был сам Соловьев… Хотя, конечно же, знали, но раздавали ярлыки, следуя из политической целесообразности.
Умрет князь Мещерский от пневмонии в 1914 году. Простыл, когда возвращался с аудиенции у Николая II в Петергофе, во время которой на коленях умолял царя не начинать войну с Германией. Завистливые либералы и здесь обнаружили «личный» интерес – связь с известным геем – князем Филиппом фон Эйленбургом, конфидентом кайзера Вильгельма II.
Николай II обещает в войну не вступать…
10 июня (по старому стилю) Мещерский отдает душу Богу, а спустя неделю Николай объявляет всеобщую мобилизацию и объявляет войну, от которой рухнет тысячелетняя империя.
«…Не наш, а только среди нас». Николай Пржевальский (13 апреля 1839 – 4 ноября 1888)
О гомосексуальности выдающегося русского исследователя Центральной Азии Николая Пржевальского впервые заговорил в 2002 году, можно сказать, его коллега антрополог Лев Клейн. Основанием для подобных разговоров, вероятно, послужило то, что имя Пржевальского включено в списки знаменитых геев на нескольких зарубежных гей-сайтах, не обошлось и без биографии Николая Пржевальского, изданной в Лондоне в 1976 году Дэвидом Рейфилдом.
Кстати, в русских жизнеописаниях Пржевальского также множество фактов, свидетельствующих о гомосексуальности видного ученого. И таких фактов становится все больше.
Нужно сказать, что жизнь Пржевальского начали превращать в идеальную легенду, в которой не было места ничему предрассудительному, с точки зрения государственной морали, задолго до его смерти. Первая биография ученого (600 страниц убористого текста) вышла спустя два года после его смерти. Но еще при жизни Пржевальский стал символом российской государственной мощи. В отличие от экспедиций Миклухо-Маклая, который с трудом набирал на них средства, походы Пржевальского в Азию в то же самое время щедро оплачивались из царской казны. Он был обласкан вниманием общества и императорской семьи. Результаты каждого (всего их было пять) путешествия становились событием для всей России. Пржевальский привозил в столицу тысячи экспонатов (сотни чучел, шкур диких зверей, бесконечное количество гербариев), для которых регулярно устраивались выставки в Академии наук и в Российском географическом обществе. Но и у обывателей он, к слову, был фигурой популярной – сейчас бы сказали мегазведой. Его, например, постоянно преследовали поклонницы, готовые принести себя в жертву, родить от него ребенка и подарить «богатство и любовь».
Фотография одной из таких прелестниц, безуспешно пытавшихся «соблазнить Пржевальского и удержать его» была недавно обнаружена его биографом Еленой Гавриленковой. На обороте прелестница оставила такую надпись.
Взгляни на мой портрет –
Ведь нравлюсь я тебе?!
Ах, не ходи в Тибет –
В Тиши живи себе
с подругой молодой.
Богатство и любовь
я принесу с собой.
Но Пржевальский не соблазнился…
Род Пржевальских происходил от запорожских казаков. Отец Николая Михаил Кузьмич вышел в отставку с воинской службы в 32 года и поселился в Смоленской губернии. Несколько раз он сватался к дочери купца Каретникова, который не считал армейского инвалида хорошей парой для своей Елены Алексеевны. Но в 1838 году брак все-таки состоялся. 13 апреля 1839 года родился первенец – Николай…
В октябре 1846 года отец скончался, Николай и его младший брат Владимир совсем его не помнили. Вдова принялась за воспитание сыновей, но вскоре вновь вышла замуж – детям была предоставлена полная свобода.
Когда подошло время, мать хотела определить детей в кадетский корпус, но сделать этого не удалось, и Николай с Владимиром оказались в Смоленской гражданской гимназии. Учение им больше всего запомнилось розгами. Пребывание старшего Пржевальского в гимназии было отмечено еще и скандалом с уничтожением им списка оценок. Его чуть не исключили из гимназии, так как шестиклассников никогда не подвергали наказанию розгами. Но матушка настояла на том, чтобы Николая высекли. С тех пор Пржевальский считал физические наказания очень действенными, некоторые даже заподозрили в нем садомазохиста, но доказательств тому никаких не существует. «…Если бы меня не отодрали, а исключили бы из гимназии, – наверное, вышел бы из меня повеса из повес», – позже признавался Пржевальский.
Шестнадцати лет от роду, окончив гимназию, он рвется на войну. В сентябре 1855 года поступает унтер-офицером в пехотный полк и через несколько дней выступает в поход. Только тогда раскрылись для него подлинные, а не книжные военные будни. Кормили военных «помоями», большинство в полку оказалось «негодяями, пьяницами и картежниками».
Разгульная жизнь офицера не прельщала Пржевальского, в полку его отказывались принимать за своего. «Он не наш, а только среди нас», – говорили офицеры. Попытки перевестись на Амур не нашли поддержки у офицерского начальства, и тогда Николай засаживается за книги, надеясь поступить в Николаевскую академию генерального штаба. И по-прежнему не принимает участия в офицерской жизни, а занимается чтением и охотою… Но и «от женского общества Пржевальский положительно бегал…», – так воспринимали его отношения со слабым полом современники.
По воспоминаниям одного из сослуживцев Пржевальского Ивана Фатеева, женщин он называл «фантазерками и судашницами, мало ценил их суждения, относился к ним с недоверием и бежал от их общества… для него крайне неприятного». При этом внешне Пржевальский производил очень яркое впечатление. «Он был высокого роста, хорошо сложен, но худощав, симпатичен по наружности и несколько нервен. Прядь белых волос в верхней части виска при общей смуглости лица и черных волосах привлекала на себя невольно внимание», – таким Пржевальский запомнился в академии.
Вопрос о холостяцкой жизни Пржевальского активно обсуждается его биографами. Отчасти потому, что, став известнейшим ученым в возрасте около 30 лет, Пржевальский был заметным женихом и, как мы уже сказали, пользовался вниманием слабого пола, но никогда не отвечал на это внимание и даже пресекал его. В письмах и дневниках Пржевальский размышлял о возможности женитьбы, которую он называл «добровольной петлей», и всегда приходил к одному выводу: в пустыне «при абсолютной свободе и у дела по душе» будет «стократ счастливее, нежели в раззолоченных салонах, которые можно приобрети женитьбою».
Семьи в традиционном понимании у Пржевальского никогда не было. Зато была дружная и верная команда, с которой он пять раз посетил затаенные и невиданные европейцами места Центральной Азии. В 1887 году он построил дом в Слободе Смоленской губернии и собрал в своем имении преданных помощников – вот они и стали его настоящей семьей. Такое мужское братство, в которое не допускались женщины, казалось Пржевальскому идеальным финалом жизни. Перед последней экспедицией он спланировал свое спокойное существование в Слободе: «…буду жить в деревне, охотиться, ловить рыбу и разрабатывать мои коллекции. Со мной будут жить мои старые солдаты, которые мне преданы не менее чем была бы законная жена».
Свои идеи мужского братства Пржевальский смог воплотить еще в 1864 году. Он сам попросил направить его преподавателем в юнкерское училище, открывшееся в Варшаве. Его приняли на службу взводным офицером и преподавателем истории и географии. «За ним юноши шли без оглядки на то, что из всего этого выйдет». При этом «система поблажки любимчиков находилась у него в полном отсутствии». Так, современники вспоминают, что он оставил на второй год «близко к нему стоявшего юнкера К.», несмотря на мольбы и просьбы за К. товарищей. Что за «близко стоящий К.» и какого рода была эта близость, неизвестно.
В училище Пржевальский продолжает общаться исключительно с холостяками. А его квартира оказывается вечерами в полном распоряжении юнкеров. Пржевальскому доставляло немалое удовольствие, что молодежь у него собирается. При этом часто он предоставлял юнкеров самим себе. Снабдив их различными угощениями и холодными закусками, удалялся в соседнюю комнату и предавался чтению книг и работе над рукописями. За одну из них – реферат, подготовленный перед поступлением в академию, – Пржевальский в феврале 1864 года был избран членом Российского географического общества.
Осенью 1866 года Пржевальский добивается своего перевода в Восточно-Сибирский округ и начинает планировать свои азиатские путешествия.
Половина успеха Пржевальского-путешественника заключалась в том, что он умел подобрать команду людей, беспрекословно ему преданных, верных и в прямом смысле слова любящих. В свои экспедиции он отбирал преимущественно молодых и неженатых казаков, а в непосредственные помощники – молодых и крепких юношей. Впрочем, как выясняется, тщательно относившийся к выбору спутников Пржевальский часто ошибался. Например, в свою первую Уссурийскую экспедицию 1867 года он взял из Варшавы некого юного немца Роберта Кехера. Но в Иркутске Кехер бежал к своей любовнице, по которой всю дорогу тосковал, отвлекая Пржевальского от дел своим сумрачным настроением.
Кехера заменил 16-летний Николай Ягунов, сын бедной женщины, сосланной на поселение в Сибирь. Он сопровождал Пржевальского в качестве помощника в Уссурийском путешествии 1867-1869 годов от Байкала и далее через все Забайкалье к Амуру. После экспедиции Пржевальский остановился с Ягуновым в Николаеве. Он позволял подростку общаться собой, царским офицером, на «ты», много времени уделял его образованию. Из Сибири Пржевальский отправил Ягунова на воспитание в Варшавское юнкерское училище.
Во вторую Монгольскую экспедицию (1870-1873) в качестве помощника Пржевальский взял своего бывшего ученика 18-летнего поручика Михаила Пыльцова. Вместе с Пыльцовым он проехал в двухколесной тележке всю пустыню Гоби. К началу следующей экспедиции Пыльцов женился на племяннице Пржевальского, и тогда появился Федор Эклон.
Эклон – 18 летний парень, окончивший всего четыре класса гимназии, сын одного из служащих при музее Академии – «отличный мальчик по своему характеру». Помимо Эклона в свою первую Тибетскую экспедицию (1879-1880) Пржевальский взял еще одного помощника, 17-летнего сына своей соседки по Слободе Евграфа Повало-Швыйковского. «Знаю, что вы будете великие друзья, за то и катаны будете совместно. Конечно, это будет случаться редко, но все-таки будет – кто не без греха…». О чем идет речь в этом письме Пржевальского к Федору Эклону, где он сообщает, что Федор будет не единственным спутником его в путешествии, не вполне понятно. Письмо цитирует Лев Клейн в переводе по книге Дэвида Рейфилда и полагает, что Пржевальский беспокоится о возможных конфликтах между Федором и Евграфом. Но конфликт произошел между Николаем Михайловичем и Евграфом. В дневниках он запишет, что, хотя и «плакал несколько раз, как ребенок», но вынужден был отправить Повало-Швыйковского домой. Подросток оказался совершенно неприспособленным к путешествию, а главное – выполнению своих обязанностей.
Рейфилд сообщает также о неком заболевании, которое поразило половые органы четырех участников экспедиции – Пржевальского, Эклона, а также двух казаков. Клейн делает вывод о том, что заболевание, возможно, передавалось половым путем.
Во второй Тибетской экспедиции Швыйковского заменил соученик Эклона Всеволод Роборовский. Эклон занимался препарированием животных, а Роборовский составлял гербарии. В будущем Всеволод сам станет знаменитым исследователем Азии.
Как-то в Слободе на винокурне Пржевальский приметил симпатичного парнишку, который оказался 18-летним Петей Козловым. В мемуарах убеленного сединами и увешанного наградами советского академика Петра Козлова знакомство его с Пржевальским окрашено в романтические тона. Они встретились в барском саду, словно свидание друг другу назначили. Смотрели на звезды и говорили о том, что вот сейчас где-то в Тибете «эти звезды должны казаться еще гораздо ярче». Пржевальский попросил юношу поутру зайти в барский дом, и «осенью 1882 году» полковник Генштаба и конторщик из винокурни «стали жить одной жизнью».
Чуть позже в буквальном смысле в свою семью Пржевальский принял казака Пантелея Телешова, который получил ласковую кличку «Плешка-Телешка». Пантелею, как и остальным помойникам, было всего 17 лет. После четвертого путешествия, в 1885 году, Телешов поселился в Слободе и до смерти не оставлял Пржевальского. Один из видов открытого в Центральной Азии жаворонка Пржевальский из любви к Телешову назвал «Otocoris Teleschowi».
За два Тибетских путешествия Пржевальский исследовал Тибет вдоль и поперек. Недоступной оставалась только столица Тибета Лхасу. В 1888 году он собрал самую большую экспедицию, в которой должны были принять участие около 30 человек. Император ассигновал на двухлетнее путешествие 80000 рублей. Но… 20 октября в городке Караколе на окраине империи после двух недель болезни Пржевальский скончался от брюшного тифа. Он был похоронен на берегу озера Иссык-Куль.
Уже в марте 1889 года Император переименовал Каракол в Пржевальск, а на могиле путешественника вскоре был сооружен величественный девятиметровый монумент.
Пржевальский всегда сторонился шумного общества. Получил спартанское воспитание и вырос, как говорил, «дикарем». Он последовательно окружал себя подростками и предпочитал в экспедициях иметь одного помощника-ребенка. Здесь невольно может возникнуть параллель с поведением Миклухо-Маклая, но Ахмат «папуасского гостя» выглядит куда беспомощнее юношей Пржевальского, с которыми он не просто делил постель – товарищескую или любовную, не важно – но и выводил их в люди.
Впрочем, в середине ХХ века удивительным образом отыскалась незаконнорожденная дочь Пржевальского некая Марфа Мельникова. Ее дети записали воспоминания матери и отослали в Географическое общество при академии наук. Опубликованы записки были только в 1999 году. И такое появление отпрыска спустя 100 лет после смерти Пржевальского – очень даже закономерный итог его откровенного женоненавистничества при жизни. Чего стоил, например, отказ за любые деньги давать частные уроки географии для девочек. Вот таким он был – Николай Пржевальский – как будто действительно провел жизнь не с нами, но… среди нас.
Чарующий идол. Петр Чайковский (7 мая 1840 – 25 октября 1893)
Гомосексуальные игры были неотъемлемой частью жизни воспитанников Санкт-петербургского училища правоведения, куда юный Петя Чайковский поступил в 1850 году. Среди самых невинных забав – коллективная мастурбация на французскую булочку с ужина. Заканчивавший последним должен был немедленно съесть «кулинарный шедевр».
С верными школьными друзьями Чайковский будет сожительствовать время от времени в течение всей жизни. И первый среди них – открытый (по представлениям XIX века) гей поэт Алексей Апухтин. Были еще Владимир Мещерский (по прозвищу «Содома князь и гражданин Гоморры») и Владимир Адамов. Кстати, именно Адамова 19-летний Чайковский нежно держит за руку (большая дерзость по тем временам) на выпускной фотографии.
После девяти лет в училище Чайковский получил место чиновника в министерстве юстиции и стал законченным гомосексуалом.
Лучший друг Алешенька Апухтин, женственный сибарит с неплохим состоянием, ввел его в тайные петербургские гей-круги. Там царили разнузданная похоть и жажда удовольствия. Чайковский, не задумываясь, отдался гомосексуальным страстям. Настолько, что едва ли не с 20-летнего возраста стал мучиться… геморроем.
В начале 1860-х годов Петр, всю жизнь стесненный в средствах, селится на квартире Апухтина. О них так и говорят: «Живут, как муж с женой…» В спальне стоит одна большая кровать. Вечером Апухтин целует Петю в лобик, шепча на ушко: «Не спи, мой голубок, я сейчас буду…», и идет в ванную комнату, чтобы подготовиться к ночи любви.
Разрыв с Апухтиным произойдет году в 1866-м, после отъезда в патриархальную Москву и первой попытки «…стать нормальным».
Творить и «лечиться», лечиться, «пока не поздно» – призывает он себя и брата Модеста, с которым его связывает не только кровная дружба. Но страсть берет свое…
Еще в начале 1860-х, впервые попав в Европу, Чайковский воспользовался услугами юных парижских проститутов. Тогда, вероятно, окончательно сформировались его возрастные сексуальные предпочтения.
После Парижа «откроется» «темная» сторона его привязанности к 12-летним братьям-близнецам Анатолию и Модесту. Последний стал геем и неоднократно имел сексуальную связь со старшим братом, хотя Петр и отдавал предпочтение экзальтированному Анатолю, у которого были проблемы с психикой.
В Москве Чайковский, с одной стороны, увлекается подростком Владимиром Шиловским, а, с другой – все больше приходит в ужас от возможных последствий огласки своего «порока». Придумывает жениться на французской певице бельгийского происхождения Дезире Арто. Но… Его опережает Николай Рубинштейн, который за день до помолвки предусмотрительно сообщает матери Арто, что Петр «непригоден для роли мужа». Арто немедленно покидает Россию, даже не поговорив с Петром.
Мальчики по-прежнему окружают Чайковского. Например, Эдуард Зак, наложивший на себя руки в 14 лет. «Моя вина перед ним ужасна, – признается Петр в письмах, – но я любил его… и память о нем священна для меня».
В 31 год у Чайковского наконец появляется собственная квартира в Москве. Чуть раньше в клинской деревушке он нанимает себе в слуги Михаила Софронова. Узнав о сексуальных желаниях хозяина, тот начинает поставлять ему мальчиков моложе себя, а потом привозит в Москву своего 12-летнего брата Алексея, который стал прислуживать Чайковскому.
«…Больше всего я доволен младшим… – пишет Петр Модесту, – он вполне понимает все мои нужды и более чем удовлетворяет потребности». Спустя пять лет, когда Лешенька «невыразимо подурнеет», Чайковский пообещает: «Что бы ни случилось, а с ним я никогда не расстанусь». И выполнит это обещание…
Появление слуг, удовлетворявших сексуальные прихоти Чайковского, внесло в его жизнь некоторую упорядоченность. Но временами он по-прежнему пользовался услугами московских теток, поставлявших ему мальчиков. Страх огласки не покидал уже ставшего известным композитора. «Четыре порока», которым Чайковский предавался всю жизнь, – это секс, карты, табак и водка. Три порока были его помощниками в борьбе с главным – сексом.
Повинуясь страху, Чайковский искал повода жениться. И вот 37-летний популярный композитор идет под венец с Антониной Милюковой. О его жене сказано не мало гадостей, в основном братьями Чайковского. Сестры же Петра относились к ней более чем благосклонно. Хотя поговаривают, что Антонина была обычной проституткой, но Чайковский так хотел этого брака, что ему хватило нескольких писем от поклонницы и коротких встреч с ней, чтобы принять решение. После свадьбы открылось, что фанатичная поклонница не знала ни одной ноты из его произведений и никогда не была ни на одном его концерте.
Чайковский бежал спустя три месяца и вскоре попросил развода, который обошелся в 12 с лишним тысяч рублей его меценатке Надежде Фон Мекк, пребывавшей в полном неведении по поводу гомосексуальности композитора.
Позже Антонина преследовала его, писала письма, в которых Чайковскому виделись угрозы и шантаж. Потом она поменяла тактику и сделала несколько попыток сблизиться, следила, сняла неподалеку квартиру, молила о любви в письмах, обещая «терпеть все – порок, любое ко мне отношение».
От бывшей жены Чайковского спрятали в Европе, куда уже докатились отголоски его российской известности. Париж, Рим, Берлин – везде были работа, заказы, деньги, слава.
В Европе он возобновил свои привычные прогулки по злачным улочкам с целью сексуальных приключений.
В России Чайковского тоже ждали. Он постепенно становится главной музыкальной звездой, обласканной царем и зрителем, но не музыкальной критикой. Вот как раз критика да по-прежнему преследовавший его страх разоблачения и доставляли больше всего неприятностей.
Свободное время Петр Ильич проводил с любимым слугой Алексеем, записал его в школу, пытаясь спасти от мобилизации в армию. Когда того все-таки призвали, он не покидал его едва ли не на всем протяжении службы. И часто бывал в казарме…
Тем временем подрастал Боб, племянник Владимир Давыдов, о котором композитор первый раз с нежностью пишет в письмах, когда мальчику едва исполнилось 9 лет.
Страницы дневников, посвященные «чарующему идолу» Бобу, передают муки страсти. С Бобом, с Бобом, с Бобом…. Ходил по базару, за ландышами, гулял по саду с душечкой, в антракте «ходил к моему ангелу». «Он, наконец, меня просто с ума сведет своей несказанной прелестью», – через пару дней после этой записи Чайковскому стукнет 44.
Впереди – семь лет музыкальных триумфов в Европе и Америке, жизни страстной, в которой будет «много суеты, много коробящего, много такого, чего маньяк моих лет равнодушно переносить не может», признается Чайковский.
Скандал разразится, когда Бобу будет уже больше 20. Подробности этого скандала, как и реальные причины смерти Петра Чайковского, так и останутся тайной. И уйдут в небытие вместе с композитором, а вслед за ним и Владимиром Давыдовым.
Через семь лет после смерти Петра Ильича его племянник оставит карьеру военного и поселится в доме Чайковского в Клину вместе с Модестом. Он станет помогать ему сохранять память о брате. Пристрастившись к наркотикам, Боб застрелится в кабинете композитора осенью 1906 года. Его кровь останется на тех самых клавишах, которые впервые услышали Шестую симфонию – «Патетическую», посвященную ему – «чарующему идолу» Бобу.
Гомосексуальность Чайковского умалчивалась в России вплоть до середины 1990-х годов. Почти целый век. В советской биографической литературе и кино был создан выхолощенный образ гения, считавшего себя если не рабом, то слугой музыки. Случайная публикация дневников композитора в начале 1920-х годов была запрятана в далекие спецфонды, а недоступность личных записок Чайковского в архиве дома-музея композитора в Клину стала притчей во языцех.
Покров тайны с особенностей сексуальности Петра Чайковского был снят в конце ХХ века многочисленными зарубежными биографами, среди которых Нина Берберова, Александр Познанский и Энтони Холден.
Гомосексуальность русского музыкального гения до сих пор ставит в тупик ханжей и гомофобов, поэтому современное отношение к наследию композитора подчеркнуто разделяется на его быт и творчество. Но личная жизнь Чайковского, влюбленность в юношей, разрывы и трогательные романы – все это в буквальном смысле отзывалось чарующими звуками в его партитурах, которые стали историей жизни гомосексуала в музыке.
Русский Оскар Уайльд. Алексей Апухтин (27 ноября 1840 – 29 июля 1893)
Поэт Алексей Николаевич Апухтин – самый проникновенный русский лирик послепушкинской поры. Один из тех блистательных гомосексуалов, которые вышли из Императорского училища правоведения.
В правоведческих пенатах круг общения Алексея Апухтина включал в себя таких выдающихся гомосексуалов, какими были композитор Петр Чайковский, а также писатель и общественный деятель Владимир Мещерский.
Мещерский хорошо запомнил талантливого юношу, учившегося на два класса раньше. Среди приятелей он читал свои искрометные пародии, вроде этой, самой, быть может, известной, на одно из стихотворений Фета, написанной в 1854 году.
Пьяные уланы
Спят перед столом;
Мягкие диваны
Залиты вином.
Лишь не спит влюбленный,
Погружен в мечты.
Подожди немного:
Захрапишь и ты!
В училище при Апухтине издавался маленький рукописный журнал, отличительной особенностью которого, по словам Мещерского, были «остроумие, добродушие и порядочность».
…Но сначала несколько слов о детстве Алексея Апухтина. Он родился в городе Болхове Орловской губернии, отрочество провел в имении деда в Калужской губернии. Отец поэта, отставной майор Николай Федорович, происходивший из старинного боярского рода, женился довольно поздно и был почти на двадцать с лишним лет старше своей супруги, Марии Андреевны Желябужской. Алексей стал первенцем в этом браке и получил домашнее образование под пристальным руководством матери.
Модест Ильич Чайковский, друг и первый биограф Апухтина, отмечает особую привязанность мальчика к матери, как это часто бывает у личностей, склонных к гомосексуальности. Внимания отца Апухтин был лишен совершенно, тогда как матушка отдавала ему всю себя: мальчик с раннего детства был в доме «избалованным кумиром». И на эту бесконечную материнскую любовь Алешенька ответил со всей детской непосредственностью, которая, по словам Модеста Чайковского, «поглотила всю нежность души». Мать осталась и главной душевной привязанностью Апухтина на всю его жизнь. Все «дружеские отношения, все сердечные увлечения его жизни, после кончины Марьи Андреевны, были только обломками этого храма сыновней любви».
Нужно сказать, что Модест Чайковский даже не намекает на гомосексуальность своего приятеля в биографическом очерке, написанном в конце XIX века для собрания стихов поэта. Но это молчание выглядит довольно-таки двусмысленным. Порой самые абстрактные характеристики проливают на жизнь подлинного «голубого» света больше, чем любые откровенные письма, дневники и признания. Именно это подчеркнутое внимание Модеста на нескольких страницах короткого очерка к тому, что матушка Апухтина была для сына едва ли не единственной женщиной-подругой, откровенно говорит нам о том, что других женщин рядом с Апухтиным никогда не было. И, действительно, мы не найдем в истории ничего, кроме легенды о влюбленности поэта в певицу Александру Панаеву, муж который, Георгий Петрович Карцов, был приятелем и поклонником Апухтина. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, Карцов в последние годы жизни стал чуть ли не сиделкой для поэта, который из-за ожирения почти не мог передвигаться и едва вставал с дивана, чтобы сделать несколько шагов по комнате… Впрочем, вернемся к началу жизни поэта.
А в Императорском правоведческом училище он уже был поэтом. Стихи Алексей начал слагать с десяти лет. Придя в Императорское училище правоведения, он знал почти все из Пушкина и Лермонтова. Когда в 1852 году матушка отвезла его в подготовительный класс, он с легкостью выдержал экзамены в низший VII класс весной 1853-го, а осенью, перешагнув один год, сразу же сдал экзамены в VI класс.
В училище талантливый юноша пользовался покровительством директора, бывшего полицмейстера А. П. Языкова, известного своими жесткими порядками. Но за пять лет в училище всеобщий «баловень» Апухтин не получил ни одной оплеухи, не говоря уже о розгах – самом «популярном» средстве внушения добрых нравов воспитанникам во времена Языкова.
Напротив, в свободное от занятий время Языков поселял его в своей личной квартире, дабы Алеша Апухтин мог спокойно творить первые свои шедевры. В эти же годы тринадцатилетнему мальчику пишет письма сам принц Петр Георгиевич Ольденбургский – он внимательно следит за творчеством юного пиита. Языков хлопочет и о первых публикациях Апухтина. В 1854 году (Апухтину едва исполнилось четырнадцать) сразу три его стихотворения появились в газете «Русский Инвалид». …Этот отсвет баловня – первого во всем – будет сопутствовать Апухтину и в жизни: «Баловнем людей он начал жить, баловнем сошел и в могилу» (Модест Чайковский).
Биограф Петра Чайковского Энтони Холден, основываясь на воспоминаниях современников, отмечает, что подростком Алексей Апухтин чувствовал себя сформировавшимся гомосексуалом. «Даже в ранней юности, среди гомоэротических забав своих сверстников, Апухтин не скрывал того, что его собственные сексуальные пристрастия не были лишь опытами переходного возраста».
В дни экзаменов в 1859 году скончалась мать Алексея. Тем не менее, Апухтин выходит из училища с золотой медалью и поступает на службу в департамент Министерства юстиции. Он как будто не замечает своих обязанностей чиновника. Начинает активную светскую жизнь (пока позволяет здоровье), посещает литературные салоны того времени, балы и рестораны. В этом же году состоялась его литературная премьера в «Современнике» с «Деревенскими очерками». Но что для Апухтина «Современник» – который обеспечил едва ли не всем своим авторам место в истории русской литературы?..
После окончания училища Апухтин и Петр Чайковский остаются более чем близкими друзьями. Они привыкли проводить лето вместе. А если разлучались по обстоятельствам, то у Апухтина непременно рождались строки, адресованные приятелю. Вот, например, стихотворение «Дорогой» с посвящением Петру Чайковскому. Именно от слова «дорога» – путь; некоторые, впрочем, любят произносить его название как прилагательное «дорогой» – бесценный друг. Написано летом 1856 года. Кстати, Модест Чайковский почему-то не включил этот текст в «свое» издание «Сочинений Апухтина».
Стихотворение, очевидно, – один из многочисленных экспромтов, которые во множестве рождались в сознании поэта, не любившего записывать стихи – то ли из-за лености, то ли из-за откровенно пренебрежительного отношения к писательскому ремеслу.
Сердце жадно волей дышит.
Негой грудь полна,
И под мерное качанье
Блещущей ладьи
Мы молчим, тая дыханье
В сладком забытьи…
Это Апухтин пишет о ночных прогулках с Петром в Петербурге: «…Точно, помнишь, мы с тобою // Едем по Неве…»
Или вот «Ответ анониму». Речь идет о «светлых идеалах», которые «грубый клеветник» порочит в послании безымянном. Но оказывается, что порочит он любовь – уж не любовь ли Чайковского и Апухтина?.. «…Я ту любовь купил ценой таких страданий, // Что не отдам ее за мертвенный покой…»
В 1857-м, когда «сердечная дружба» еще не превратится в воспоминания, не будет разрушена размолвками и расстояниями, во время летних каникул Апухтин пишет шуточное послание Петру, в котором есть такие игривые строки…
Но как друзей своих, наперекор судьбе,
Он помнит вечно и тоскует,
За макаронами мечтает о тебе,
А за «безе» тебя целует…
И, наконец, в конце 1880-х Алексей Апухтин откровенно назовет Петра Чайковского «доминантой в аккордах юности» своей.
После выхода из училища правоведения, когда Чайковский поступил в консерваторию, его отец снова женился. Петр не хотел жить с мачехой и поселился на квартире у Апухтина. По свидетельству современников, сообщает Энтони Холден, они жили «как муж с женой…». Не постеснялся об этом написать в своих дневниках журналист и редактор газеты «Новое время» (с 1868 г.) Алексей Суворин. Мол, приготовился Апухтин почивать, а Чайковский подходит и желает «покойной ночи». Апухтин в ответ целует ручку Петра и сообщает: «Иди, мой голубчик, я к тебе сейчас приду…».
Лето 1863 и 1864 годов Апухтин и Чайковский провели вместе. Они как будто не заметили никаких коллизий бурной эпохи – освобождения крестьян и смены вех. Апухтин, как выражается поэт Федор Тютчев «роняет в землю свои стихи», предается кутежам и обжорству. Именно он, хорошо знакомый с тайной гомосексуальной жизнью Петербурга, ведет Чайковского по самым злачным местам столицы Российской империи.
«…Одну лишь память праздного кутилы // Оставлю в мире о себе…» – позже запишет он в альбом Георгию Карцову. «Роковая любовь», измены, страсти, чревоугодие. Экстравагантный стиль общения с постоянными шуточками и искрометными эскападами. Стены своего кабинета Апухтин обклеивал фотографиями хорошеньких офицеров. Куда уж тут обращать внимание на политические и общественные события, если даже на службу времени не хватает. Не желая тратить время на литературную полемику и участие в общественно-политической жизни, Апухтин объявляет себя «литературным дилетантом» и, не дожидаясь отставки, удаляется в деревню, где продолжает передаваться обжорству и праздной любви.
Вероятно, к перееданию Апухтин был генетически предрасположен. К середине 1860-х годов невоздержанность в еде сказалась на здоровье. Писать Апухтин почти прекратил.
После небольшого путешествия в 1870 году в Святогорский монастырь на могилу Пушкина (поэт боготворил поэта) он поздним летом поселился на Малой Итальянской улице в Петербурге и почти безвыездно жил там 20 лет.
В 1871-м, начиная издание «Гражданина» Владимир Мещерский обратится к Апухтину с просьбой поддержать именем и талантом. Тот согласится. Но критики поднимут такой шум, что Апухтин окончательно решит прекратить публичную литературную деятельность.
В начале 1880-х, несмотря на то, что его произведения почти не появляются в печати, Апухтин становится настоящей литературной известностью. Тем временем Чайковский создает несколько замечательных романсов на его стихи, среди которых особенной популярностью пользуются «День ли царит, тишина ли ночная…», «Забыть так скоро…», «Ни отзыва, ни слова, ни привета…» и, конечно, «Ночи безумные, ночи бессонные…». (На некоторые стихи Апухтина разные композиторы писали до восьми и более вариантов музыки).
…А они ведь такими и были эти страстные ночи Чайковского и Апухтина в конце 1850-х – начале 1860-х годов. Это смелое по тем временам откровенно эротическое стихотворение один из немногочисленных биографов Апухтина критик Михаил Протопопов в статье с многозначительным названием «Писатель-дилетант» (1896) назвал «сущей бессмыслицей».
Приведем его полностью, поскольку сам романс может быть своеобразным гимном безудержной любви – однополой… какой угодно.
Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые…
Ночи, последним огнем озаренные,
Осени мертвой цветы запоздалые!
Пусть даже время рукой беспощадною
Мне указало, что было в вас ложного,
Все же лечу я к вам памятью жадною,
В прошлом ответа ищу невозможного…
Вкрадчивым шепотом вы заглушаете
Звуки дневные, несносные, шумные…
В тихую ночь вы мой сон отгоняете,
Ночи бессонные, ночи безумные!
В последние годы Апухтин переходит на прозу, задумывает роман из 1860-х годов о переходном периоде в русской истории. Но, написав несколько глав, оставляет эту затею. Быть может, потому, что сам почти не обращал внимания на противоречия и сложности общественной жизни. Так о чем было писать?..
Из прозы Апухтин более всего отличился фантастической повестью «Между смертью и жизнью» (1892), в которой заметно влияние буддийской идеи о переселении душ.
Последние годы жизни он почти не выходит из своей петербургской квартиры. Но продолжает с иронией сносить тяготы своего существования. На фотографии, подаренной Георгию Карцову, оставляет такую вот ироничную надпись…
Взглянув на этот отощавший профиль,
Ты можешь с гордостью сказать:
Недаром я водил его гулять
И отнимал за завтраком картофель.
Поэт Алексей Апухтин одним из первых среди гомосексуалов XIX века предпочел удалиться от общественных дел и государственной службы, чтобы его сексуальные интересы не вступали в противоречие с делом и долгом. Он не подвергался гонениям – его не ссылали в монастырь, его персона не интересовала секретных агентов, он не принимал участия в служебных интригах, не состоял в кланах и литературных группировках. Он почти забросил литературу, пустил на ветер талант – не записывая стихов своих. Сделал все, чтобы не привлекать к персоне своей лишнего внимания. И весь отдался любви: искренней, верной, приятельской, как это было с Петром Чайковским, или продажной…
Когда в объятиях продажных замирая,
Потушишь ты огонь, пылающий в крови, –
Как устыдишься ты невольных слов любви,
Что ночь тебе подсказывала злая!...
Русский Оскар Уайльд – женственный, неповоротливый сибарит, бросивший вызов всему русскому обществу своим странным уединением. Прослывший шутом и автор едких эпиграмм. Жизнь отдавший – не для веры, царя или отечества, а для одного только своего удовольствия, «любви безумной». Всю свою жизнь – за право «нежной» и «грустной» необыкновенной любви.
Не устрашат меня – ни гнев судьбы суровой,
Ни цепи тяжкие, ни пошлый суд людей…
Всю жизнь отдам свою за ласковое слово.
За милый, добрый взгляд задумчивых очей!
Возвращение луннокожего человека. Николай Миклухо-Маклай (17 июля 1846 – 14 апреля 1888)
Русского путешественника и исследователя Новой Гвинеи Николая Миклухо-Маклая папуасы называли «луннокожим человеком» – «тамо каараам» – то есть человеком со светлой кожей… Сам Маклай расшифровывал их обращение к себе как «каарам тамо» – то есть «человек с Луны». И хотя книга Василия Розанова «Люди лунного света» – взгляд на гомосексуальность сквозь христианство – будет написана лишь спустя несколько десятилетий, это совпадение весьма символично. Необычным человеком – не только по цвету кожи, но и по образу жизни, научным интересам и сексуальным предпочтениям – Николай Николаевич Миклухо-Маклай казался и своим белокожим современникам.
Николай Миклухо был средним сыном в семье инженера-капитана Николая Ильича Миклухо. Будущий путешественник родился в 1846 году в селе Рождественском неподалеку от города Боровичи Новгородской губернии. Отец его, как говорит Миклухо в своей биографии, происходил из дворян. Мать Николая, Екатерина Семеновна, в девичестве Беккер, дочь полковника Беккера, известного кампанией 1812 года в Низовском полку.
В одиннадцать лет Николай остался без отца, после этого семья переехала в Петербург. Николая отдали в гимназию, но слабый, болезненный мальчик не смог осилить ее… Миклухо вообще отличался «сравнительно слабым и нежным сложением», в жизни был довольно робким, редко заводил знакомства, все его внимание было подчинено одному – науке.
В Санкт-Петербургский университет Миклухо смог поступить только вольнослушателем… Но в феврале 1863 года был исключен из Императорского университета без права поступать в какие-либо другие университеты России. Точная причина изгнания Николая до сих пор не установлена, официальная формулировка гласила – «за нарушение правил вольнослушателей…» Впрочем, советские биографы Миклухо-Маклая уверяют, что он был замешан в революционной деятельности, даже подвергался аресту и сидел в Петропавловской крепости…
Чтобы продолжить образование, Миклухо вынужден ехать в Европу. Там он сначала поступил на философский факультет Гейдельбергского университета, в котором провел около двух лет. Потом учится на медицинском факультете Лейпцигского университета: особенно его интересует сравнительная антропология. Позже поиск различий в анатомии европейцев и папуасов станет главным направлением его научной работы.
В Лейпциге Николай Миклухо впервые добавляет к своей фамилии приставку «Маклай». Под этим именем – Маклай – он и будет более всего известен за границей: в Европе его знали как доктора Маклая, в Австралии – как барона Маклая. «Маклай» – это производное от малороссийского Миколай (Николай). Так некогда подписывался прадед Миклухо. В Лейпциге Миклухо-Маклай познакомился с другим бедным русским студентом князем Александром Мещерским, который учился в Иенском университете. Они подружились, Маклай продолжил образование в Иене. Они даже жили вместе… Всю оставшуюся жизнь, за исключением двенадцати лет путешествий, Маклай вел с Мещерским активную и очень откровенную переписку.
В Иене в то время преподавал молодой, но довольно известный уже дарвинист Эрнст Геккель, который обратил внимание на способности Маклая и пригласил его принять участие в его экспедиции по обследованию губок на Канарских островах и Марокко в 1866 году. Экспедиция продлилась около пяти месяцев. Спустя три года Маклай отправляется к берегам Красного моря с целью зоологических изысканий. Он едет один – без служителей и помощников в начале лета, чтобы осенью возвратиться в Россию через Крым и Одессу. Ненадолго задерживается на нижней Волге, изучая строение хрящевых рыб…
Короткие сообщения о результатах его первых экспедиций все время отсутствия Маклая в России регулярно публикуются в российской периодике. То есть Маклай вернулся в страну уже довольно известным исследователем, к результатам работ которого с интересом и вниманием относились в Русском географическом обществе и Академии наук.
Он был избран членом совета Русского географического общества и на одном из его заседаний в конце 1869 года предложил организовать масштабную экспедицию в Тихий океан. Это предложение не нашло поддержки у председателя общества адмирала Литке. С точки зрения государственных интересов, поездка в столь отдаленный от российских берегов регион не представлялась интересной.
Однако у идеи Маклая нашлось много сторонников, и они устроили его личную встречу с Литке, которому пришлись по душе научные идеи и задор молодого ученого.
Целью планируемого путешествия на берега Новой Гвинеи стало исследование неизвестных и малонаселенных островов северо-восточного берега Новой Гвинеи, открытого всего лишь около сорока лет тому назад. Не получив финансовой поддержки со стороны Императора, Маклай получает возможность воспользоваться кругосветным плаванием корвета «Витязь», а также скромной суммой от Русского географического общества – 1200 рублей. Он также получил некоторую сумму от своих европейских друзей…
20 сентября 1871 года Маклай высадился на берег, куда еще никогда не ступала нога «луннокожего человека». За несколько дней матросы построили небольшую хижину, в которой Маклаю и его двум спутникам – шведу Ульсену и полинезийскому мальчику Бою – придется провести полтора года. Когда в декабре 1872 года к тому же берегу пристанет военный клипер «Изумруд», он возьмет на борт Маклая, едва живого Ульсена и его научную коллекцию. Бой умрет от последствий лихорадки…
Итак, в биографии Маклая впервые появился мальчик, сопровождавший его в экспедиции. И он будет не единственным юным слугой и воспитанником Маклая. Прежде чем осветить свойства отношений Маклая с его подростками-слугами, стоит остановиться на том, как современники воспринимали личную жизнь Маклая.
Один из первых биографов Миклухо-Маклая немецкий профессор О. Финш, который руководил германской колонизации Новой Гвинеи, отмечает, что «личность его внушала симпатию женщинам, но он сам предпочитал одиночество и не любил женского общества». Об этом откровенно говорила жена русского консула в Сиднее, в доме которого Миклухо-Маклай долгое время гостил. Финш лично знал Маклая. Они познакомились в 1881 году, отношения продолжились в 1884-1885 годах, когда Финш написал о Маклае небольшой биографический очерк на немецком языке – первый опыт биографии путешественника, опубликованный в Германии в 1888 году. Кстати, эта короткая биография оставалась единственной на протяжении почти 50 лет.
Одновременно Финш пишет, что внешность Маклая не была лишена привлекательности. «Над высоким лбом поднимались у него обильные кудри рыжевато-шатеновых волос, небольшие усы, коротко подстригаемые баки и борода окаймляли узкое, бледное лицо с прямым, правильным носом и большими глазами».
Восприятие Маклаем женщин подробно реконструировал по его переписке Лев Клейн в одном из очерков своей книги «Другая сторона светила» (2002). «К женщинам он относился с неприязнью и осуждением…», был довольно груб со своими поклонницами в письмах, внешне сохраняя облик «скучающего эгоиста».
Другое важное свидетельство об отношениях Маклая уже с папуасками оставил исследователь Новой Гвинеи д-р Гаген. Он собирал сведения о впечатлениях, оставшихся у туземцев о Миклухо-Маклае, по просьбе первого русского биографа Николая Николаевича Д.Н. Анучина. «В особенности был он осторожен в отношении к женщинам и никогда не искал случая сношения с ними…», – пишет Гаген.
Находясь в своих экспедициях, Маклай упорно отвергал старания туземцев предоставить ему женщину, хотя те предпринимали подобные попытки неоднократно и были немало удивлены его отказом. Несколько таких историй неудавшихся «соблазнений» содержат дневники, которые вел Маклай во время своих путешествий.
Зато, например, сразу же после смерти Боя он предпримет попытку заполучить у папуасов мальчика, предложив им в обмен несколько металлических предметов. Некоторое время Маклаем владела мысль взять с собой папуасского мальчика, чтобы воспитать его в Европе, но он так и не оправил ни одного своего мальчика-слугу в Большой свет…
Невозможность заполучить мальчика у папуасов была связана с особым их отношением к своему потомству («они боялись, что я захвачу ребенка»), но никак не с запретом на секс с подростками. «Длинноногие мальчики… могли воспринимать «прихоти» Маклая без сопротивления… потому что поглощение мальчиками мужской спермы (оральным способом или ананальным) было широко распространено среди папуасов и… считалось нормой на ряде островов», – отмечает Лев Клейн. Он же высказывает мнение о том, что «Маклаю пришла в голову идея, что его сексуальные вкусы (они «сводились к педофилии») могут найти свободное удовлетворение на Востоке».
Особо отметим, что в рамках культуры, в которую погружался Маклай, такие отношения нельзя называть «педофилическими». Во всяком случае, их нельзя считать запретными, преступными или предрассудительными… Кстати, сам Маклай уделял в своих трудах и записках значительное внимание сексуальной жизни и обрядам папуасов, описывая разнообразные операции с вагиной и пенисом, которые выполняются для усиления сексуального удовольствия. Ученый также сделал множество зарисовок половых органов папуасских мужчин и мальчиков.
Боя заменил мальчик-раб, которого Маклай попросил в подарок у султана Тидорского во время полугодичного плавания на «Изумруде». Султан предложил ему на выбор любого мальчика из лучших своих слуг-рабов. Маклай выбрал одиннадцатилетнего подростка Ахмата, типичная папуасская внешность которого запечатлена на нескольких рисунках путешественника. На клипере он пытался обучить его русскому языку, но гуманитарные эксперименты подобного рода Маклаю не очень удавались. Кстати, недостаток знаний в области теории языка сказался и при установлении контактов с папуасами во время первой экспедиции. Неумение связно осмыслить результаты исследований в монографическом плане стало причиной более чем полувекового «забвения» научных изысканий Маклая.
Вместе с Ахматом Маклай совершит два коротких путешествия по Малайскому полуострову. В новую экспедицию на другой берег Новой Гвинеи Миклухо-Маклай также «не предполагает взять никого, кроме своего двенадцатилетнего папуасского мальчика Ахмата». Но желанию не суждено было сбыться из-за внезапной лихорадки, с которой слег Ахмат.
Ахмат, судя по дневникам Маклая, не занимался почти никакой работой, так как оказался очень взбалмошным и ленивым. Вряд ли он подходил к роли слуги, но, тем не менее, Маклай делал все, чтобы не расстаться с Ахматом. Только угроза отмены новой экспедиции заставила его отказаться от услуг больного мальчика. Однако же в составленном в 1874 году завещании Миклухо-Маклай определяет в последнем пункте в случае своей смерти оставить Ахмату 1000 рублей серебром – огромная по тем временам сумма…
Четыре последних года своей жизни Маклай состоял в браке с Маргарет-Эммой Робертсон, дочерью бывшего премьер-министра Австралии, который оказывал поддержку экспедициям Миклухо-Маклая. Семья Робертсонов была против этого брака, который стоил Маргарет части наследства и некоторых имущественных прав, но свадьба все-таки состоялась, хотя едва не стала причиной дипломатического скандала. Отец Маргарет требовал от Александра III брака по протестантскому обряду. В ответ по историческому анекдоту император ответил: «Да пусть женится хоть по папуасскому обряду, лишь бы здесь глаза не мозолил».
И действительно, в России Маклай уже пользовался дурной известностью… Труды его, к слову, так и не были изданы при царском режиме. Зато едва ли не полностью опубликованы в первые годы советской власти (первый том его экспедиционных [не личных – уничтоженных] дневников вышел в 1928 году). Царь не благоволил к Маклаю. С одной стороны, потому, что тот немало взбудоражил общественность идеей создания независимого государства Папуасского Союза, которая могла обернуться крупным дипломатическим скандалом, а также «свободной» колонизацией одного из островов Меланезии – с этим предложением Миклухо-Маклай несколько раз обращался к Императору. С другой стороны, исследователь, по свидетельству Д. Н. Анучина, никогда не отличался хорошим ораторским мастерством. Его лекциями в России были разочарованы, а никаких значительных трудов о своих исследованиях он так и не создал. Впрочем, осталось огромное количество статей на нескольких языках и, конечно, дневников экспедиций.
Скончался Н.Н. Миклухо-Маклай в России 14 апреля 1888 года в клинике С.П. Боткина от опухоли мозга. Перед смертью он приказал жене сжечь все дневниковые рукописи, которые были написаны на непонятном ей русском наречии, а с остальными разобраться по своему усмотрению. С этими дневниками была предана огню и главная тайна интимной жизни Маклая – его любовь к подросткам, которая стала одной из причин уединения, а также стимулировала его научные и исследовательские интересы и стремление полностью погрузиться в ту культуру, где гомосексуальность, в частности сексуальные отношения с подростками, не запрещена. Эту тайну один из последних биографов Маклая и публикатор его парижских писем Борис Носик назвал «интимной, неожиданной и страшной».
Судьба великого русского путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая показывает, как иные интимные вкусы человека, отвергаемые обществом, способствуют появлению исторических репутаций, которые это общество позже ставит в пример и возводит на пьедестал.
Возвращение «луннокожего человека» в Россию началось спустя полвека после его смерти. С конца 1920-х годов Миклухо-Маклай становится излюбленной фигурой советских историографов, героем многочисленных агитационных брошюр, книг, фильмов и даже мультфильмов. Быть может, во много благодаря «революционному прошлому» его матери и братьев и интересу к угнетенным колонизаторами народам.
По предложению Иосифа Сталина, именем Миклухо-Маклая назвали Институт этнографии Академии наук СССР, а к 1950 году было подготовлено наиболее полное собрание сочинений путешественника и исследователя в пяти томах.
Судьба Маклая стала предметом нескольких десятков биографий и художественных романов, последний из которых вышел в 2004 году. Но лишь в отдельных работах о Маклае содержатся робкие намеки на его «тайну».
«Душа, забывшая стремленья…». Константин Романов (К.Р.) (10 августа 1858 – 15 июня 1915)
За криптонимом «К.Р.» в русской литературе конца XIX – начала XX скрывается августейшая особа Великий князь Константин Константинович Романов. До недавних пор мы не имели оснований включать особу царственных кровей в «Русскую голубую книгу». Ведь не было ничего, кроме сплетен и апокрифических рассказов, да странных аллюзий в его поэзии. Но гораздо раньше срока, назначенного князем на 2005 год, открылись его дневники, которые он вел всю жизнь (с мая 1870 года по ноябрь 1913-го; десятки толстых тетрадей) и перед смертью в 1915 году передал Императорской академии наук с одним условием – обнародовать спустя 90 лет. Условие нарушили большевики: напечатали часть дневников в 1931 году в журнале «Красный архив». Разумеется, выбрали фрагменты поскандальнее…
…И тогда открылось – командир лейб-гвардии Преображенского полка, главный начальник военно-морских заведений, добропорядочный семьянин, отец девятерых детей и тонкий знаток искусства для искусства, был гомосексуалом.
Родился Константин Романов в 1858 году в Стрельне. Его отец, Константин, был сыном Николая I. Мать, Александра, – принцесса Саксонская. Разумеется, он получил прекрасное воспитание. С 1866-го обучался в Морском кадетском корпусе. С 12 лет начал ежегодно плавать на судах учебной эскадры. И уже в 16-летнем возрасте, будучи произведен в гардемарины, совершил двухлетнее путешествие на фрегате «Светлана». Принимал участие в боевых действиях в русско-турецкую войну, за что получил Георгия в 19 лет…
Теперь хронику подвигов князя на поприще укрепления воинской мощи государства стоило бы прервать – их и далее в его жизни будет довольно много: командование ротой лейб-гвардии Измайловского полка, потом лейб-гвардии Преображенского полка, наконец, общее руководство всеми кадетскими заведениями России. Последнее особенно пришлось ему по душе. Князь вообще был любителем общения с воинской молодежью. И что бы он ни делал, все было новаторством, как у всякой уникальной для истории личности. Так, командуя Измайловским полком, он начал проводить знаменитые литературно-драматические «Измайловские досуги». С того времени обычные кутежи русских офицерских собраний повсеместно стали заменяться вечерами, посвященными музыке или русской литературе.
…Одновременно Константин Романов возглавляет и Российское музыкальное общество, и Российскую академию наук, президентом которой он был избран в 31 год, сразу же после своих турецких подвигов на Дунае. А еще Константин переписывается с Петром Чайковским. Причина особенного расположения князя к композитору становится прозрачной сквозь его «гомосексуальный дневник». Безусловно, некоторое время их объединяла общая интонация переживания своей физической сущности. Меня считают «лучшим человеком в России». «Но я знаю, каков на самом деле этот «лучший человек». Как поражены были бы все те люди, которые любят и уважают меня, если бы знали о моей развращенности! Я глубоко недоволен собой». Эта запись Константина Романова в дневнике от 19 ноября 1903 года очень созвучна внутреннему настроению Чайковского, чья мировая музыкальная звезда меркла в душе самого композитора, понимавшего презрительное отношение большей части российского общества к его гомосексуальности.
Отношения Константина Романова с Петром Чайковским – трогательный образец творческого союза. Князю, который, кстати, блестяще музицировал, Чайковский доверил впервые исполнить свой Первый концерт для фортепиано с оркестром. Композитор также написал на его стихи несколько романсов, из которых самые известные – «Уж гасли в комнатах огни…», «Растворил я окно…», «О дитя, под окошком твоим…»
Но подлинная награда для поэта – расстаться с авторством своего текста и отдать его в уста народа. Такое было и с Константином Романовым. Один из его солдатских сонетов превратился в народную песню…
Умер, бедняга! В больнице военной.
Долго родимый лежал;
Эту солдатскую жизнь постепенно
Тяжкий недуг доконал...
Из его непререкаемых достижений на ниве чистого искусства еще можно назвать перевод «Гамлета» Уильяма Шекспира, который долгое время считался лучшим переложением английской трагедии на русский язык. В 1887 году Константин написал поэму «Себастиан-Мученик», напечатанную в «Вестнике Европы». Раннехристианский святой, принявший страдальческий конец, в буквальном смысле сошел в его поэзию с полотна Гвидо Рени, хранившегося в Эрмитаже. Примечательно, что именно этот образ волновал сознание гомосексуалов, начиная с середины XIX века. Обращение к святому Себастиану, конечно, лишено у Романова какого-либо гомоэротизма. Но невыносимо пронзительно описывает К.Р. то, как друзья Себастияна уносят его истерзанный труп…
Вообще интерес князя к литературной жизни был связан именно с тем, что сам он считал себя поэтом, писателем или хотел быть им. Принадлежность к великим князьям обязывала ко многому. Князь не вполне был уверен в объективном отношении к своим сочинениям. Но ведь так бывает и с простыми смертными поэтами – кто-то льстит из любви или вежливости, а кто-то ругает из ненависти или невежества…
Гомосексуальность Константина Романова, надо полагать, впервые проявила себя на воинской службе. Уже с 12 лет каждый летний сезон мальчик проводил на судах эскадры Морского училища. Раннее попадание в военную среду способствовало воспитанию чувства к мужчинам, которое вскоре, несмотря на женитьбу, переросло в сильную страсть, род недуга (именно так воспринимал в своих дневниках это желание сам К.Р.).
Принадлежность к монаршему роду требовала династического бракосочетания. Зимой 1883 года состоялась помолвка, а в конце января и венчание с принцессой Елизаветой Саксен-Альтенбургской, герцогиней Саксонской. Династический брак не вышел за границы служения Отечеству. Но удивительным образом Константин Романов, беспокоившийся из-за своей «хладнокровности» по отношению к женщинам и больше времени проводивший в казармах, чем в семейном ложе, сумел исполнить долг многодетного отца. Эта многодетность Великого князя, кстати, стала причиной того, что (дабы не плодить великое множество великих князей) правнуки императора стали называться просто князьями.
Весь век Константина Романова его страсть к мальчикам не проходила и, принося физическое удовольствие, одновременно становилась источником все более сильных душевных мук. Чем больше в жизни Романов предавался телесным страстям, пользуя матросов и юных курсантов, тем больше в творчестве поэтическом он уходил в сторону духовной лирики... Так что в первом сборнике Константина Романова «Стихотворения», который вышел в 1886 году, в основном были стихи о Боге, природе...
Теперь легко соотносить переживания князя, доверенные дневникам, с образами его поэзии. Борьба с самим собою, со своими, как ему кажется, греховными инстинктами – вот цель жизни, которую поставил перед собой К.Р. «…В той жизненной юдоли // Среди порока, зла и лжи // Борьбою счастье заслужи». Но если этот «порок» живет в тебе, в твоем сердце, в твоей плоти? Тогда один выход – «Неутомимая борьба с самим собою»… Но это в поэзии, а в жизни, когда стоит перед тобой юный гардемарин и смотрит пожирающими влюбленными глазами… Что в жизни?..
«Я недоволен собой. Десять лет назад я стал на правильный путь, начал серьезно бороться с моим главным грехом и не грешил в течение семи лет или, вернее, грешил только мысленно. В 1900 году, сразу после моего назначения главой военно-учебных заведений, летом в Стрельне я сбился с пути…» – записано в дневнике от 15 декабря 1903 года. – «Я продолжаю бороться, говоря себе, что Бог дал мне сердце, разум и силу, чтобы успешно бороться, а все же часто бываю побежден. Беда в том, что мог бы, но не могу бороться, ослабеваю, забываю страх Божий и падаю». В этом отчаянии «…душа, забывая стремленья, // Ничего не ждала впереди».
И тогда в борьбе с самим собой Константин Романов обращается к Богу. «Твердая, слепая вера в бога» (это строка из его известной и популярной в начале XX века колыбельной) – спасение во всем. Но свою «слепую веру» Романов превращает в стихи. Свод его религиозной поэзии венчает драма «Царь иудейский», но помогают ли религиозные строки обрести спокойствие? Судя по всему нет. Чистая поэзия, путь, наполненный религиозными истинами, бессильны перед зовом плоти. «Невольно задаю себе вопрос, что же выражают мои стихи, какую мысль? И я принужден сам себе отвечать, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти», – так пишет К. Р. В своем дневнике.
Вот одна из записей:
«15 сентября – Стрельна.
…Я пошел по дороге, по которой должен был приехать в посланной за ним коляске подпоручик Яцко. Посылал за ним, чтобы исполнить его желание еще раз побывать у меня и проститься перед его отъездом в Вильну. Признаюсь, я ему радовался и вместе с тем побаивался новой встречи.
Теперь, что мне известны его наклонности, сходные с моими, было чего опасаться. В прошлый раз я удержался, но кто может ручаться за будущее? Он с еще большей откровенностью признавался мне в своих грехах...
Услышал от него имена людей, которых смутно подозревал в противоестественных наклонностях; с некоторыми из них Яцко согрешил, но теперь, кажется, твердо решился бросить все это».
Гомосексуальность Константина Романова, сокрытая от глаз обывателя, не была секретом в его роду и близком окружении. Судя по дневникам, он неоднократно подвергался шантажу со стороны некоторых офицеров, но имел мужество с честью выдержать подобные провокации.
Естественное образование (возглавляя Академию, он покровительствовал, например, экспериментам физиолога Павлова с собаками), знание древнегреческой культуры, возможно, подсказывали ему, что собственную гомосексуальность можно и нужно воспринимать не только в свете догматической христианской традиции, которую диктовала ему принадлежность к венценосному роду.
Любовь Константина Романова к службе, верность своему Отечеству и долгу не вступали в противоречие с его гомосексуальностью. Долгое время, как признается князь, его «привлекала в роту не столько служба, военное дело, как привязанность то к одному, то другому солдату».
Плотская любовь к мальчикам знала свои границы и в службе воплощалась в высшее проявление платонической привязанности и заботы о кадетах. Поставленный надзирать за благополучием всех военных кадетских заведений России в 1900 году, Константин Романов посетил все кадетские корпуса страны. Очень скоро Великий князь заслужил среди кадетов высшую степень обожания. Рассказывают, дело доходило до того, что когда тот посещал кадетские корпуса, с его шинели срезали на память пуговицы, разбирали как реликвии столовые приборы и брали автографы.
Благодаря воспитательной системе (особое внимание Константин уделял начальному образованию), предложенной Романовым (литература, танец, искусства), русский кадет стал особой социальной прослойкой, благодаря которой, возможно, русский трон пережил и революцию 1905 года, и войну 1914-го… Быть может, если бы не внезапная смерть князя 15 июня 1915 года, то и революционные события 1917 года развернулись бы в несколько иную сторону.
Огонь, вырвавшийся из-за решетки. Лидия Зиновьева-Аннибал (18 октября 1865 – 4 ноября 1907)
Диотима – под этим именем божественная в своей небесной мудрости и внешней красоте Лидия Зиновьева-Аннибал, супруга крупнейшего теоретика и поэта русского символизма Вячеслава Иванова, известна в русской литературе.
Душа и ведущая знаменитых сред в ивановской «башне» на Таврической в Петербурге, где в начале ХХ века собирались люди искусства, которые искали новых путей в творчестве, любви, платонических и плотских радостях жизни. Свое имя, Диотима, она получила по имени героини известного диалога Платона «Пир». Диотима открыла подлинную суть любви, физическая сторона которой – в продолжении рода и воспитании детей, а вечная – в беременности духовной, которая плодит чистый разум.
Род Лидии Зиновьевой связывал ее с Пушкиным, в ней текла кровь «арапа Петра Великого». Из свидетельств девических лет Зиновьевой-Аннибал сохранилась история о том, что в школе диаконис в Германии, где некоторое время училась Лидия, она от скуки «соблазняла», «портила» своих одноклассниц. И однажды начальница пригрозила, что прогонит из школы ее подружку, если еще раз увидит их вместе…
В юности Зиновьева была увлечена революционными настроениями и в 1884 году вышла замуж за революционера К. Шварсалона. Разочаровавшись во взглядах мужа, бежала с детьми за границу. Там и произошла ее встреча с Вячеславом Ивановым в 1893 году. Они прожили вместе 12 лет, никогда не разлучаясь, и всегда хотели поделиться с кем-то своей привязанностью. Так возник замысел создания семьи нового типа. «…Если два человека совершенно слились воедино, то они могут любить третьего… – это будет началом новой человеческой общины… в которой Эрос воплощается в плоть и кровь» – так охарактеризовала их отношения художница Маргарита Сабашникова и ставшая третьей…
Возможность реализовать эту идею появилась в 1905 году, когда «половой вопрос» окончательно завладел умами интеллигенции, а в знаменитой «башне» впервые собралась петербургская религиозная и художественная элита – человек 40. Но обстановка эротических вольностей, поцелуев и обнаженных тел, едва задрапированных в ткани, утвердится в «башне» только к весне 1906 года, когда ивановские среды сменились вечерами Гафиза в более узком кругу – до 10 человек.
Общество «Друзья Гафиза», которое явилось первым шагом его организаторов в реализации идеи соборности – дионисийства, пропущенного через христианство, впервые собралось в квартире Иванова и Зиновьевой-Аннибал в мае.
Зиновьева-Аннибал стала единственной женщиной в кругу мужчин, большинство из которых были гомосексуалами (художник К. Сомов, поэт М. Кузмин, музыкант-любитель В. Нувель) или бисексуалами (поэт С. Городецкий, писатель С. Ауслендер – племянник и воспитанник М. Кузмина). Единственный последовательный в жизни гетеросексуал философ Николай Бердяев вскоре счел интимные вечера неприличными и перестал принимать в них участие. Это окружение как-то позволило Лидии охарактеризовать год выхода «Крыльев» Кузмина и своих «…Уродов» такими словами: «…гомосексуализм витал в воздухе».
Нужно сказать, что все участники Гафиза, судя по мемуарным свидетельствам – письмам и, в первую очередь, дневникам Кузмина – состояли в сексуальных или, так сказать, эротических отношениях (Сомов – Кузмин – Нувель, Иванов – Зиновьева-Аннибал – Сабашникова, Иванов – Городецкий) и так далее.
Любить друг друга равной любовью было одним из условий попадания в узкий круг гафизистов. Более всего волновался по этому поводу Вячеслав Иванов, поскольку идея такой равной любви принадлежала ему и была принята Лидией Дмитриевной. Он будет беспрестанно ревновать гафизистов друг к другу : Кузмина – к Сомову, Зиновьеву-Аннибал – к Сабашниковой… В намечавшихся парах ему виделось разрушение основных принципов вечеров и крушение его идеи соборности в семье.
Вечера получили свое имя в честь Гафиза, персидского поэта ХIV века. На пример собраний «Арзамаса», образованного беллетристами и поэтами (см. статью о Филиппе Вигеле), среди которых большинство тоже были гомосексуалами, век спустя гафизисты раздали друг другу новые имена. Сомов стал Аладдином, Нувель – Петронием, Иванов – Гиперионом, Кузмин – Антиноем… Немецкий поэт и переводчик Иоганнес фон Гюнтер – Ганимедом…
Каковы были темы тех вечеров? Так, в мае 1906 года обсуждали, что такое поцелуй – «диспут шел на полу, по латыни…». Лидия-Зиновьева была мастерица делать хитоны из разноцветных тканей, скрепленных на плечах брошками. Гостей ивановских сред она обыкновенно встречала в алом хитоне. В таком виде позже гафизисты и вели свои интимные беседы.
Каждый раз на вечер необходимо было явиться в костюме «новом для глаз», но соответствующем твоему имени в обществе Гафиза. Разложенные по комнатам тюфяки, задрапированные яркими тканями, горящие свечи в канделябрах, на столиках вина, которые была заведена мода смешивать. Из игр неоднократно повторяли эротические. Например, поцелуи с завязанными глазами – надо угадать имя того, кто целовал. Вот как описаны эти шалости в дневнике Михаила Кузмина: «…я лежал, рядом был Петроний, сверху целовал Апеллес, поперек ног возлежал Гиперион, и еще где-то (справа, на мне же) Диотима и Алладин… По очереди завязывали глаза и целовали, и тот отгадывал, и были разные поцелуи: сухие и нежные, влажные и кусающие, и furtifs (франц. – украдкой)».
Интересно, что летом 1906 года Зиновьева-Аннибал предпримет попытку провести подобные женские вечера Гафиза. Но, судя по всему, попытка эта так и останется неосуществленной и, мало того, дамы, за исключением самой Зиновьевой-Аннибал будут полностью удалены с вечеров…
Для кого же предназначались женские Гафизы? Вероятно, для тех, кто время от времени собирался на подобные же вечера с мужчинами. Это были, прежде всего, художница Маргарита Сабашникова (жена Максимилиана Волошина) и актриса Любовь Менделеева (жена Александра Блока). Они несколько раз примут участие в организованных Лидией заседаниях женского кружка «Фиас». Именно так, кстати, называлось культовое объединение сверстниц, в котором творила Сафо.
Одной из женщин-гафизисток, Маргарите Сабашниковой-Волошиной, и было предназначено место третьей в семье Вячеслава Иванова и Зиновьевой-Аннибал. Идея появления третьего активно обсуждалась летом 1906 года в переписке Вячеслава с Лидией, которая находилась с детьми в Швейцарии. «Добиваться от судьбы счастия втроем…» – на этом все более настаивал супруг, у которого в то самое время развивался роман с другим возможным третьим – поэтом Сергеем Городецким.
У современников мы более не находим свидетельств близости Сабашниковой и Иванова, но строка из февральского 1907 года письма Зиновьевой-Аннибал
М.М. Замятиной ставит Сабашникову именно на место третьей – «С Маргаритой Сабашниковой у нас обеих особенно близкие, любовно-влюбленные отношения».
Однако не все было спокойно в триединой системе семейных координат. Тот же Кузмин в своих дневниках обращает внимание на постоянные приступы гнева – «злости» – у Лидии Дмитриевны и замечает излишнюю нервозность Вячеслава Иванова. Вероятно, что и у Зиновьевой были причины ревновать Иванова к Сабашниковой, а у Иванова – восемнадцатилетнего Городецкого к женщине. У последнего к лету 1906 вне брака родился сын…
Но опыт «притяжения третьего» с Маргаритой Сабашниковой-Волошиной оказался наиболее удачным. Сабашниковой Лидия посвятила первый рассказ в замечательном, по мнению критики, сборнике «Трагический зверинец» (к слову, книге – любимейшей у Марины Цветаевой), а Маргарита написала портрет Зиновьевой-Аннибал, правда, уже после внезапной смерти Лидии и оставила о ней трогательные воспоминания в книге «Зеленая змея».
Лесбийская повесть Лидии Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» («…моя мука высказалась в очень странной форме»), оконченная в начале мая 1906 года, вышла в издательстве «Оры» в 1907 году и почти сразу была арестована по обвинению в безнравственности. В марте арест был снят. Повесть, прочитанная в середине мая 1906 года на одном из вечеров Гафиза, произвела впечатление на публику. В определенной степени она навеяна размышлениями Вячеслава Иванова над природой дионисийства, разговоры о котором велись в башне. Оргии, которые устраивались Зиновьевой-Аннибал и Ивановым у себя дома, являлись «оргиями» в «дионисийском смысле» – это было мистическое действие духовного раскрепощения.
По форме «Тридцать три урода» – дневник лесбиянки. В этом форма текста противостоит интимному дневнику Михаила Кузмина, который Зиновьева-Аннибал отказывалась признать художественным произведением, в отличие от большинства гафизистов. А с точки зрения жизненного опыта «Тридцать три урода» подводят итог неудачной попытки Иванова сделать третьим Сергея Городецкого и намечают в качестве третьей именно Сабашникову.
Только с Зиновьевой-Аннибал Иванов нашел способ воплотить свои идеи в реальность. По справедливому замечанию Бердяева, Лидия Дмитриевна была «более дионисической, бурной, порывистой» натурой. Вспомните хотя бы ее революционное прошлое. Изощренный немецкий академизм Иванова дал плоды благодаря появлению в его жизни этой «огненной» женщины – «золотоволосой, жадной к жизни, щедрой», многодетной матери (трое детей – от Шварсалона, двое – от Иванова) и верной в духовном смысле супруги.
Салон Лидии Зиновьевой-Аннибал и ее супруга Вячеслава Иванова стал самым ярким и самым заметным явлением в салонной культуре декаданса, которая имела отчетливую гомосексуальную направленность. Салонная гомосексуальная культура, как собственно гейская, так и лесбийская, оказалась той колыбелью, в которой зародились взгляды, определившие развитие русской философской и художественной мысли на два, три десятилетия вперед – вплоть до конца 1930-х годов в Советской России и до конца 1960-х в русской эмиграции. Отчасти философская составляющая этих исканий воплощена в книге Василия Розанова «Люди лунного света» (1910, с изменениями 1913 г.). Розанова, впрочем, не было среди гафизистов, зато он принимал участие в собраниях Гиппиус и Мережковского, чей семейный салон, так же не лишенный гомосексуальной ауры, противостоял паре Зиновьевой-Аннибал и Вячеслава Иванова.
Роман Лидии Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» сделал для лесбийской темы в русской литературе столько же, сколько «Крылья» Кузмина – для освоения русским искусством начала ХХ века темы мужских отношений. Не удивительно, что остроязычная Гиппиус, заподозрив в Зиновьевой-Аннибал серьезную идеологическую оппонентку, поспешила в статье «Братская могила» в июльских «Весах» за 1907 год обрушиться и на Зиновьеву и на Кузмина одновременно, впервые употребив слово «мужеложство». Хотя в языковом контексте того времени это выглядело доносом в полицию, правда, только на Кузмина, ведь царские суды толковали «мужеложство» только как анальное сношение двух мужчин. Но уже попытка распространить употребление слова «мужеложство» на однополые отношения в целом очень симптоматична…
Столь же резкую критику вызвал и сборник рассказов «Трагический зверинец» (1907) – книги об «изломанных» (Юрий Айхенвальд) судьбах женщин.
Попытки создания «триединой семьи» прервала скоропостижная смерть Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. Осенью 1907 года, ухаживая за больными крестьянскими детьми, она заразилась скарлатиной, смертельно опасной в зрелом возрасте, и сгорела за несколько дней.
Творчество Зиновьевой-Аннибал в Советском Союзе было под запретом. Ее повесть «Тридцать три урода» вновь вышла в России только в 1999 году. Наследие Зиновьевой-Аннибал, начавшей писать довольно поздно, во время своего супружества с Ивановым, составляет несколько десятков статей, рассказов, пьес и миниатюр. Ее путь в жизни и искусстве – последовательное движение женщины в сторону духовной и телесной свободы и раскрепощения.
«Мне близок тайный твой недуг…». Поликсена Соловьева (Allegro) (1 апреля 1867 – 16 августа 1924)
«Это длится иногда до самой смерти. Умилительное и устрашающее видение: дикий крымский берег, две женщины, уже немолодые, всю жизнь прожившие вместе. Одна из них – сестра великого славянского мыслителя, которого сейчас так много читают во Франции. Тот же ясный лоб, те же ясные глаза, те же мясистые обнаженные губы…», –вспоминает Марина Цветаева в своем «Письме к Амазонке» самую известную женскую пару в России начала ХХ века – поэтессу Поликсену Соловьеву и писательницу Наталью Манасеину.
…Мы, как встарь, идем рука с рукою
Для людей непонятой четой:
Я – с моею огненной тоскою,
Ты – с своею белою мечтой.
Так эта прогулка по дикому берегу жизни воплощена в поэзии Соловьевой. …Встретилась Цветаева с «двумя женщинами» в белогвардейском Крыму в кровавые 1920-е. Марина – эмигрировала, Наталья и Поликсена – вернулись в столицу. Они были неразлучны двадцать лет, пока сквозь «темный вечер жизни» ни дошли «безмолвно <…> до заветных дверей». Поликсена открыла эту дверь первой. Что стало с Натальей – неизвестно… Мы не знаем точной даты ее смерти.
Поликсена была двенадцатым и последним ребенком в семье известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева. С того времени, как девочка взяла в руки карандаш, она стала рисовать. Как только изучила основы грамотности (писать и читать выучилась в 5 лет), – начала записывать стихи. Первое из них послала старшему брату Всеволоду, когда ей исполнилось восемь лет.
«Все первые стихи мои воспевали природу и роковые сердечные страдания…», – признается Соловьева в автобиографии 1911 года. Но «роковые страдания» словно повисали в воздухе – предмета их как будто не существовало. Мужчины не интересовали девушку, которая всю себя посвящала искусству – рисованию и словесности. Она занималась в Школе живописи, ваяния и зодчества, училась у самого Поленова. Поликсену интересовало все подряд, она долго колебалась, что предпочесть. Кроме рисования, училась музыке и мечтала о карьере актрисы. До конца жизни полагала: выбрав литературу, «загубила свои сценические способности».
Когда Соловьевой было пятнадцать, ее брат Владимир, известный русский философ, показал стихи сестры Фету, который нашел, что в них «есть entrain». Так, благодаря похвале Фета, вектор творческих интересов Соловьевой окончательно направился в сторону поэзии. Ее первые стихи, подписанные криптонимами П.С., появились в журнале «Нива» в 1885 году. Ей было 18 лет. Все тексты со времени выхода ее первого сборника «Стихотворения» в 1899 году написаны от лица мужчины и подписаны псевдонимом Allegro. Он был придуман наскоро для публикации стихов в журнале Н. К. Михайловского «Русское богатство». Публика и критики не поверили, что Allegro – женщина, и решили, что этот «пламенный господин» – сам Михайловский. Посчитав подобные отзывы за комплимент, Поликсена «разоблачилась» и до смерти подписывалась – П. Соловьева (Allegro).
К 1911 году, издав четыре сборника стихов – три для взрослых и один для детей – Поликсена Соловьева стала одной из самых заметных поэтических фигур в «женской поэзии». Когда в 1905 году литературовед Сальников составил книгу «Современные русские поэтессы в портретах, биографиях и образцах», то открыл ее именно Поликсеной Соловьевой.
В 1904 году начинают стремительно развиваться отношения Соловьевой с Натальей Ивановной Манасеиной, которая в 1906 году покидает супруга и переселяется к своей подруге. Неразлучными они оставались до самой смерти…
Наталья Манасеина (1869-193?) родилась в Каменец-Подольске на Украине, окончила Киевский пансион благородных девиц, поступила на педагогические курсы в Санкт-Петербурге. Долгое время перебивалась случайными заработками, пока не получила место учительницы в городской школе для девочек. В 1898 году вышла замуж за приват-доцента Военно-медицинской академии Михаила Петровича Манасеина. Петербургский дом Манасеина был известен салоном, в котором собирались поэты-символисты. Там, очевидно, Наталья и познакомилась с Поликсеной. Сборник Соловьевой «Иней» – первый итог любви – вышел в 1905 году. Эта поэтическая тетрадь, которую Соловьева сама проиллюстрировала (более полусотни графических работ), – осталась лучшей в ее творчестве.
Стихотворение «Иней», давшее название книге, единственное в сборнике имеет адресата – Н.И.М. Искрящийся на солнце белоснежный иней – украшение зимы, праздник посреди затянувшейся зимы. В темную душу, отягощенную земными тяжестями, проникает чистый свет любви: «Слышу, вздыхает во тьме надо мной // Светлой молитвою голос любимый».
Что такое «Иней»? В этой поэтической тетради Поликсены Соловьевой развертывается встреча страдающего от любви героя с его возлюбленной. ОН (все стихи сборника написаны от лица мужчины) страдает по НЕЙ – ждет встречи и грезит. Для Соловьевой в ее отношениях с Манасеиной все было довольно просто – Наталья олицетворяла светлую, радостную сторону жизни. Любовь Поликсены воплощалась в прозрачных символах подчас наивных стихов, которые воспринимались современниками как образец чистой лирики.
Я верить не могу, что нет тебя со мною,
Быть может, мне лишь чудится во сне.
Что я один с туманной тишиною,
Что ты одна в далекой стороне.
Вслед за страданиями в разлуке с неизвестной еще суженой состоится встреча. Два героя – ОН, с измученной переживаниями сумрачной душой, и ОНА, нежная и «бездонно белая» – сольются, будут поглощены сиянием любви и отправятся в путь по своей одной на двоих дороге, предназначенной только им. Не случайным окажется и название совместного детского журнала, а потом издательства Соловьевой и Манасеиной – «Тропинка». Этот образ тоже из поэзии «Инея» и возникает в последнем стихотворении книги.
Руку дай, дитя, тропою хвойною
Забредем далеко мы, туда,
Где нас жизнь загадкой беспокойною
Не найдет, не встретит никогда…
Смысл поэзии Соловьевой соткан из узора символов, предназначенных для двоих; это язык любви – «…для любви небывалой // небывалая речь», – который возникает потому, что «мы стыдимся слов нескромной весны». Такими робкими, почти ничего не значащими намеками проникают в стихи Поликсены Соловьевой знаки ее реальных отношений с Натальей Манасеиной.
Стихотворение «Посвящение», открывающее следующую «взрослую» поэтическую тетрадь Поликсены Соловьевой «Вечер» (1914), посвящено Манасеиной, их отношения остаются неразрывными уже десять лет. Теперь лирический герой Allegro перестал страдать по поводу своей любви, он в ней уверен и во тьме душевной, и в светлой радости.
И вечером я тот же неизменный,
Как в яркий полдня час,
И так же для меня горит огонь вселенной
Во тьме любимых глаз.
«Во тьме» теперь «горит огонь» (а ведь он и может пылать, светить, сиять только во тьме). Потому что «без тени смертной – страсти нет» (из стихотворения «Неразрывно», посвященного Зинаиде Гиппиус). «Вечер» – гораздо более откровенная, даже смелая книга Соловьевой. Переживая греховность своей страсти, она не в силах отказаться от награды земной любви.
С тобой люблю, с тобой страдаю,
Мне близок тайный твой недуг.
За всю любовь, за все мученья…
…Я шлю тебе благословенья…
…Интересно, что когда князь Константин Романов писал отзыв на три первые книги стихов Соловьевой, он не нашел ни одной причины для порицания. Хотя мог бы повторить претензию Аполлона Майкова к одной из поэтесс, которую тот обвинял в неискренности, так как она писала стихи от лица мужского пола. Но Романов отказывается и от этого упрека, так как в стихах «Инея» он не увидел ничего, кроме «несомненной искренности». И это, действительно, так. Потому что сборник вышел на волне любви к Манасеиной – чувства двух женщин были чистыми и незамутненными и всегда оставались такими.
В творческом союзе двух влюбленных время отдало первенство Поликсене Соловьевой. Имя Allegro время от времени всплывало в энциклопедиях, литературных справочниках и статьях о русской литературе. Наталья Манасеина совершенно забыта с начала 1930-х годов. О ней если изредка и вспоминают, то как о «соратнице» Соловьевой.
Однако по степени таланта Манасеина ничуть не уступает Соловьевой, а в прозе во многом превосходит ее. Впрочем, их творческий союз при жизни был вполне уравновешенным и, судя по всему, равноценным. Хотя вместе они в основном занимались издательскими делами, а также выпустили несколько совместных сборников сказок и рассказов («Васильки», 1915) для детей. Но литературный талант Манасеиной, в отличие от Соловьевой, издающейся с 1899 года, расцвел именно в период их совместной жизни. Покинув мужа, Наталья Манасеина не просто стала подругой Соловьевой – она выбрала путь в литературе.
Самыми известными и многократно переиздаваемыми произведениями Манасеиной были в начале ХХ века два исторических романа о царских особах. Первый из них, «Цербстская принцесса», публиковался отрывками в последний год издания «Тропинки» (1912). Книга о детстве и юности Екатерины II принесла Манасеиной славу одной из первых русских женщин – авторов исторических романов. В 1915 году она продолжила тему повестью «Царевны» о жизни дочерей русского царя Алексея Михайловича (1945-1676). Обе книги переиздали в России лишь в 1994 году. В конце 1990-х в Санкт-Петербурге вновь были опубликованы и несколько детских произведений Поликсены Соловьевой.
А ребусы, головоломки, шарады и загадки – собранные, придуманные, нарисованные и изданные Соловьевой (Allegro), переиздавались в СССР, начиная с 1930 и до 1960-х годов в различных журналах и сборниках по занимательному воспитанию без указания ее авторства. На них выросло несколько поколений советских детей.
До 1918 года Манасеина и Соловьева издали сотни пьес, рассказов, сказок, которые использовались во всех учебных заведениях царской России начала ХХ века – от приходских школ до гимназий и юнкерских учений. Соловьева первая перевела для детей «Алису…» Кэрролла и переложила в стихах на русский язык французский эпос о Хитролисе.
…Но у них, этих двух литературных амазонок, не было общих детей. И это, кстати, Марина Цветаева («Письмо к Амазонке») считала главной проблемой подобных отношений. «Вокруг них обеих была пустота, бóльшая, чем вокруг «нормальной» пожилой и бездетной пары, более отчуждающая, более опустошительная пустота», – это строки о двух конкретных женщинах, Манасеиной и Соловьевой. Впрочем, выбрав для примера именно эту литературную пару, возможно, акцентируя степень трагизма в противоречии – бездетные и самые известные в России своего времени детские писательницы, – она, будучи права как мать, обиженная любовницами, ошибалась как художник, как творец. Детьми их были миллионы маленьких читателей… Да и как мать, бросившая в соседнем со своим домом приюте второго ребенка, на позаботившись даже похоронить его, ох как сильно ошибалась Марина.
Журнал «Тропинка» (1906-1912) просуществовал около шести лет и пользовался, как и одноименное издательство, закрытое в 1917 году, покровительством властей и министерства просвещения. Две трети книг, выходивших в «Тропинке», рекомендовались к использованию в государственных образовательных учреждениях России.
В русской детской литературе начала ХХ века пара – Соловьевой и Манасеиной – обладала монополией на развитие ее жанров и направлений. Трудно назвать, кто из лучших представителей русской литературы и искусства серебряного века не отметился сотрудничеством с «Тропинкой» – Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб, Сергей Городецкий, Вячеслав Иванов, Корней Чуковский… Из художников стоит назвать Марию Сабашникову – третью в отношениях Лидии Зиновьевой-Аннибал и Вячеслава Иванова. Основу текстов «Тропинки», журнала и издательства, составили, конечно, сочинения Соловьевой и Манасеиной – более 100 книг.
В 1917 году Манасеина и Соловьева, собираясь покинуть Россию, бежали в Крым. Три года скитаний – Феодосия, Коктебель... Но передумали и, вступив в переписку с комиссией по реабилитации бывших специалистов, вернулись в Петербург, потом в Москву. Выходят сборники их рассказов и стихов. Наталья Манасеина даже принимает участие в работе инициативной группы по созданию «Федерации советских детских писателей». Но смерть Поликсены Соловьевой прервет не только ее жизнь. Невероятным образом, приоткрыв «заветную дверь», Поликсена уведет за собой Наталью, следы которой исчезнут с поверхности жизни.
Дева декаданса. Зинаида Гиппиус (20 ноября 1869 – 9 сентября 1945)
Современники, попавшие под острый язык критика Антона Крайнего, недолюбливали и его физическое воплощение – «очень тонкую и стройную… узкобедрую, без намека на грудь» Зинаиду Гиппиус. В откровенных мемуарах, перечисляя многочисленные грехи Гиппиус, разделенные на двоих с ее мужем – романистом и философом Дмитрием Мережковским, – иные собратья по эмиграции намекали на то, что Зинаида Николаевна была гермафродитом.
Но, если присмотреться и к сохранившимся фотографиям Гиппиус, и к описаниям современников, то оказывается, что внешне поэтесса была совершенно лишена сексуального начала и даже подчеркнуто скрывала любые однонаправленные проявления сексуальности. «В моих мыслях, моих желаниях, в моем духе – я больше мужчина, в моем теле – я больше женщина. Но они так слиты, что я ничего не знаю». Поэтому ее столь же трудно назвать лесбиянкой, как и отнести к гетеросексуалам. Справедливы замечания об особой вечной (ну, лет до сорока…) молодости Гиппиус, которая походила то на неоформившуюся девицу, то на подростка.
Именно эта асексуальность, а правильнее сказать, все-таки андрогинность – способность совмещать в себе признаки двух полов, задерживала на Гиппиус взгляды современников.
Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 ноября 1869 года в семье государственного служащего Николая Романовича Гиппиуса, немца, чей род обосновался в России еще в ХYI веке. В детстве ей довелось побывать в разных городах России, где приходилось служить отцу. Когда подошло время, девочку отдали в Киевский институт благородных девиц, но она так тосковала, что почти целый год провела в институтском лазарете. Образование пришлось продолжить дома… с гувернантками и учителями в городе Нежине Черниговской губернии.
В 1881 году отец Зинаиды умирает от болезни легких, и семья переезжает в Москву. Но в Москве прожили недолго, так как у Зиночки обнаружили туберкулез, и матушка немедленно увезла дочь в Крым, потом на Кавказ, в Боржом, где жил брат матери. Зинаида уже во всю сочиняла стихи и блистала с собственными поэзами среди тифлисской молодежи, которую собрала вокруг себя в литературный кружок. Уже тогда большинство ее стихотворений будут написаны от имени мужчины. Сначала это была своеобразная игра: Зинаида повторяла стиль поэта Семена Надсона, недавно скончавшегося от чахотки и прославившегося фразой «Люблю я себя, как бога». В литературную позу форма стиха от мужского лица превратится позже и будет нарушена лишь однажды – в стихотворении-посвящении беллетристу Дмитрию Философову, который станет третьим в их странном, но долговечном союзе с Дмитрием Мережковским.
Своего Дмитрия Сергеевича Зинаида встретила здесь же, на Кавказе. Мережковский был другом Надсона, что особенно впечатлило Зинаиду. А что Мережковский?.. Представьте себе такую картину. Отправляется он на Кавказ и… встречает такое вот андрогинное воплощение своего умершего друга. Наверное, именно в тот момент, когда Зинаида, еще не отработавшая внешнюю стилистику своего бесполого воплощения, златокудрая, стройная – почти прозрачная, читала стихи «под Надсона», намеренно огрубляя свой женский голос, было принято решение – под венец. 8 января 1889 года Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус обвенчались в скромной тифлисской церкви Михаила Архангела. Ему было – 23, ей – 19… Церковный обряд лишь зафиксировал тот духовный союз, который уже заключили Дмитрий и Зинаида, и подкрепил духовные обязательства… Но не физические…
Самый долгий в истории русской литературы ХХ века семейный союз двух литераторов был незыблемым только в области творчества и духа. Никакой физической близости, как утверждают современники, не было. Отсутствие физического воплощения любви стали подозревать вскоре после брака, когда на порог их квартиры в Петербурге начали подбрасывать такой вот каламбур – «Отомстила тебе Афродита, послав жену – гермафродита».
Конвертик было тем более легко подбросить, что в квартире Мережковского и Гиппиус в «доме Мурузи» на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, скоро ставшей известным литературно-художественным салоном Петербурга, кто только ни бывал.
Активно обсуждался на вечерах и вопрос «философии пола». Гиппиус и Мережковский превратили ведущую для искусства «серебряного века» проблему пола именно в вопрос философии, предприняв актуальную для своей семьи попытку решить противоречия сексуальности в области духа и религии. Интересно, что в одной из своих статей, написанных в революционные годы, Гиппиус настаивала на том, что в сфере взаимоотношения полов революция должна быть гораздо более коренной, чем в устройстве государства. …И эту коренную революцию они устроили на троих – Гиппиус, Мережковский и Философов.
С 1901 по 1903 год в «доме Мурузи» проходят заседания так называемых религиозно-философских собраний. Попытка объяснить истоки гомосексуальности с религиозной-христианской точки зрения наиболее полно представлена в книге «Люди лунного света» философа Василия Розанова, чьи идеи во всю обсуждались и на заседании «религиозных собраний». Религиозную основу, развивая идеи Розанова, разработали для своего тройственного союза Мережковский, Гиппиус и Дмитрий Философов.
В центре оказался принцип Софии, который лежит в основе учения русского философа Владимира Соловьева, идеологической предтече русского модернизма. София, которая включает одновременно два начала – мужское (огонь) и женское (свет), сочетается у Гиппиус с идеей Троицы. «…Мы будем не трое, а три единомысленных человека, стоящих вместе, чтобы молиться, может быть, работать, писать вместе о наших мыслях, вместе уповать и ждать будущих. Других для составления Начала, чтобы были Три; могущие стать Троими…», – так сбивчиво выражала свои мысли о триединой семье в письме Дмитрию Философову Зинаида Гиппиус.
С Философовым она познакомилась в 1898 году во время «брачного путешествия» в Европу, куда они отправились смотреть знаменитые фотографии обнаженных мальчиков, сделанные разорившимся бароном Вильгельмом фон Глоденом.
В 1901 году Философов настолько увлекся литературными вечерами у Мережковских (благо редакция «Мира искусства» находилась неподалеку от «дома Мурузи»), что Дягилев, заподозрив возможную измену, увез своего любовника в Италию. Так что и Мережковский как муж Гиппиус, и Дягилев как любовник Философова не сразу смирились с притязаниями Зинаиды на Диму. Только в 1905 году Философов окончательно переселится на квартиру к Мережковскому и Гиппиус. В журналах так и помещали их фотографии: Философов, Гиппиус, Мережковский… Втроем они прожили 15 лет – до тех пор, пока в 1920 году в Польше Дмитрий не предпочтет остаться с террористом Борисом Савинковым, возглавившем антибольшевистское движение.
К 1905 году религиозно-философские собрания были запрещены указом Святейшего Синода как ересь, но концепция, утверждающая однополую любовь, с христианской точки зрения в целом была выстроена.
Каковы же были в сексуальном плане отношения Гиппиус, Мережковского и Философова? Говоря проще, спали ли они вместе? – этот вопрос осторожно задавали в своих мемуарах многие представители русской культуры начала ХХ века. Известно, что Философов не мог иметь традиционных сексуальных отношений с Гиппиус, поскольку еще с гимназической юности сложился как абсолютный гей в кругу таких известных гомосексуалов, как Сомов, Нувель и Дягилев. Примечательно, что в компании Сомов – Нувель, Дима Философов до появления Дягилева тоже был третьим.
Известно, что он несколько раз отвергал плотские притязания Гиппиус и, возможно, предпочел в этом союзе Мережковского…
Известно также, что тесные отношения связывали Зинаиду Гиппиус и издательницу детского журнала «Тропинка» поэтессу-лесбиянку Поликсену Соловьеву (1867-1924)…
…Но в России после 1906 года об их личной жизни почти нет никаких сведений, потому что жили они в основном за границей и очень замкнуто. А там, в беднеющей эмигрантской Европе, на которую с шумом налетала огромная тень Гитлера, было не до интимных переживаний и тонкостей. Парижская эмиграция относилась к Гиппиус с неодобрением. К тому же перед смертью едва живого Дмитрия Мережковского угораздило начать сотрудничать с фашистами…
Итак, у Гиппиус были противоречивые отношения со своей плотью. Как реализовалась ее физиологическое начало в жизни, в сущности, не важно. Потому что борьба с похотью, которую вела Зинаида Гиппиус всю свою жизнь, была направлена не на уничтожение телесного начала, а на его рассеивание, на его андрогинизацию. Гиппиус – единственный духовный андрогин в русской истории ХХ века, воспринимавший культуру сквозь призму этой своей андрогинности.
Быть может, попытка построить свой личный быт в качестве андрогина не вполне удалась. Зато в теории все выглядело блестяще.
«С точки зрения личной любви, – заявила Гиппиус в начале 1930-х годов, – одинаково ненормальны: и мужчина, говорящий, что он любит вообще мужчин (во множественном числе), и другой мужчина, объявляющий, что он любит – женщин. Но они оба абсолютно нормальны, для своей нормы типичны».
Виртуоз «усталой мудрости». Константин Сомов (30 ноября 1869 – 6 мая 1939)
Константин Сомов был вторым сыном в семье историка искусства и художника Андрея Ивановича Сомова, который до конца своей жизни служил старшим хранителем Эрмитажа. В доме была огромная частная коллекция старинных гравюр и рисунков, которые с малых лет мог держать в руках юный художник.
В детстве Костя предпочитал играть в куклы, мастерить для них костюмы, дружить ему было проще всего с девочками.
Образование он получил в частной гимназии К. И. Мая, где одновременно с ним учился Дмитрий Философов. С Димой Костя сразу нашел общий язык, и они сдружились. По свидетельству Бенуа, учившегося в той же гимназии, особая близость Димы и Кости, которые держались вместе и особняком, почти никому не нравилась. И, быть может, они не стали объектами насмешек и изгоями только потому, что оба раньше срока покинули заведение Мая. Но прервалась и дружба подростков, обещавшая перерасти в нечто большее (ведь они оба оказались гомосексуалами). Из-за болезни Диму отправили в Италию, а Костю, которому естественные предметы давались довольно тяжело, отец забрал из гимназии. Сомов поступил в Академию художеств, где с 1894 по 1897 год учился под руководством Ильи Репина.
В феврале 1897 года, не окончив Академии, Сомов отправился в Париж и вернулся в Петербург только осенью 1899 года. К тому времени место друга в сердце Димы Философова давно было занято его энергичным кузеном из Перми – Сергеем Дягилевым. Несмотря на то, что с Дягилевым Сомов будет много сотрудничать, некоторая неприязнь сохранится на всю жизнь – все-таки он увел у него друга и, может быть, любовника.
Но на Дягилева, с точки зрения творческой, ему было грех обижаться. Именно Дягилев, занявшись организацией художественных выставок, в 1898 году привез часть работ Сомова из Европы, где он учился, и представил публике.
Очень быстро, впитав в себя новые веяния европейской живописи, Константин Сомов стал вектором того направления в русском изобразительном искусстве, которое задал открытый Дягилевым, Философовым, Бакстом и, собственно, самим Сомовым журнал «Мир искусства».
Самый заметный лидер «мироискусников», Сомов, создал новый жанр, проникнутый рефлексией и иронией, основанный на стилизации и гротеске. В своих акварелях, картинах, а в особенности, гравюрах он показал особый вымышленный «мирок», населенный странными нереальными персонажами. И главное – он, вдохновленный стилистикой Обри Бердслея, открыл для России некогда абсолютно запретный жанр «ню». Чего стоили его откровенные работы для сборника классических эротических рассказов – «Книги маркизы» Франца фон Блея (1908) с силуэтами вздыбленных фаллосов. В полном «эротическом варианте» книга вышла только спустя 10 лет, в революционной России…
Как проходила жизнь Сомова? В основном на дачах под Петербургом и в Таврическом садике, где можно было выбрать себе на ночь симпатичного молодого гимназиста, чтобы тот хоть отчасти разнообразил привычный досуг с Вальтером Нувелем, который как раз и представил Сомову Михаила Кузмина…
Роман с Кузминым был непродолжительным, но важным для Константина. Скрытный, не склонный к откровенности художник, как шутил Вячеслав Иванов, был Кузминым «развращен» и «лишен девственности».
А что Кузмин? О, он давно мечтал познакомиться с Сомовым, надеясь, что тот когда-нибудь напишет его портрет.
Возможность личного знакомства представилась только осенью 1905 года, когда Кузмин входил в литературу со своей гомосексуальной повестью «Крылья». На Константина произвели впечатление и сама повесть, и облик ее автора. И он, как того хотел Кузмин, действительно напишет его портрет, но только спустя четыре года после первой встречи, когда известность Кузмина уже вполне состоится.
А пока Сомов находился под впечатлением «Крыльев» и с удовольствием форсировал творческое и личное сближение с Кузминым. Зимой 1905-1906 годов они встречались в основном на вечерах в доме у Ивановых, где проходили регулярные собрания «гафизистов» – Сомов, прекрасно разбиравшийся в истории костюма и в современной моде, выступал там в качестве «костюмера».
В это же время художник работал над портретом Вячеслава Иванова и не возражал против присутствия Кузмина. Но влюбленности поэта как бы не замечал – до тех пор, пока… не прочел об этом в дневнике самого Кузмина, который нашел «бодрящим», с «любовью к жизни, к телу, к плоти, никакого нытья». Как известно, дневник – его Кузмин вел в течение всей жизни – был своеобразной открытой книгой, которую поэт читал в узком кругу.
К весне отношения Кузмина и Сомова стали более близкими. Константин со своим сердечным другом Вальтером Нувелем бывает на квартире поэта – заезжают по несколько раз в неделю, обменивается книгами, обсуждают достоинства любовников и проституток из Таврического сада. Кузмин даже познакомил Сомова со своим любовником Павлом Масловым… Но их интимное сближение произошло ближе к осени. В любовных играх принимал участие и Павел Маслов.
Это эротическое напряжение будет сопутствовать общению двух гомосексуальных пар, Сомов – Нувель и Кузмин – Маслов, в течение, по меньшей мере, года. Потом они останутся друзьями, хотя в записках Сомова обнаружится несколько нелестных отзывов о стареющем Кузмине.
Ну, так что же… Они были слишком разные. Сомов – из шестисотлетних дворян, с неплохим семейным капиталом и собственным домом в Петербурге. И Кузмин – всегда, даже в самые лучшие для него времена, стесненный в деньгах и скитавшийся по съемным столичным квартирам. Константина Сомова, довольно скрытного человека, который почти не вел дневников, не расточал елея и благодарностей, был скуп на комплименты – светские и интимные, невозможно представить на дружеской ноге с каким-нибудь питерским сутенером, увлеченным банщиком или продавцом галантерейного магазина. Для Кузмина же все это было повседневной жизнью…
В течение пяти лет, пока выходит «Мир искусства», Сомов, если говорить современным языком, фактически выступает в качестве его арт-директора. Занимается всем – от подбора иллюстраций до рисования виньеток. Во многом Сомов стал родоначальником и русского модерна в графике, ex-librisе, оформлении театральных программок.
В живописи он разработал два основных направления: портрет и стилизованный под XVIII век галантный пейзаж. Это был реконструированный мир рококо, костюмированных балов, искусственных цветов, хрупких фарфоровых статуэток, изящных «мушек», дорогих шелков и фижм. Этот мир, выплывающий из тумана, потребовал особой техники: полупрозрачной акварели, бледной пастели и гуаши. Бенуа вообще называл Сомова «создателем идиллического стиля минувшей жизни».
Такой тихой идиллии он, скорее всего, хотел и в личной жизни. Почти образцово-показательным может считаться брак Константина с Мифеттой, с Мифом… – 17-летней моделью Мефодием Лукьяновым (1892-1932). 22 года неразлучной жизни, без размолвок и почти без измен.
В 1918 году, в разгар революции, Сомов напишет портрет своего Мифа. На улице стреляли и ниспровергали старый мир, а Сомов рисовал Лукьянова в домашнем халате, удобно устроившегося на диване, с выражением спокойного удовольствия на лице.
Так незаметно прошла для Сомова революция. В 1922-м Миф уехал в Париж, а Константин едва успел вырваться из-под крепнувшего уже нового красного гнета – в 1923 году он отправился сопровождать американскую выставку петербургских художников. В Россию не вернулся, а, вкусив парижской дороговизны, поехал Нормандию, где Миф купил ферму и занялся разведением скота.
С начала 1930-х Мефодий медленно увядал от чахотки. Сомов проводил недели у его постели: тут же работал и… плакал. Дневники его никогда не были столь откровенными: «…я так часто был гадким, жестоким… все его (Мифа) вины – маленькие, ничего не значащие… у меня просто придирчивый нрав… меня никто так не любил, как он… теперь я впитываю в себя его лицо, каждое его слово, зная, что скоро не увижу его больше».
Это действительно была настоящая любовь, которая приходит к человеку, когда он уже вкусил достаточно случайного удовольствия и теперь находит прелесть в долгой и тихой привязанности и понимании. Удивительно, что такое правильное и доступное, как заблуждаются многие, только гетеросексуалам постижение любви пришло и к Философову (с Мережковским и Гиппиус), и к Дягилеву, и к Сомову – ко всей той троице, что в 1905 году, бравируя своей элегантностью, отправлялась в Таврический, затем чтобы снять очередную, уже использованную приятелем проститутку.
Сомов на семь лет пережил своего «сына, брата, мужа» Мифа. На склоне лет у него было новое увлечение – натурщик и боксер Борис Снежковский. Но в этой привязанности не было ничего плотского, только легкий флер гомоэротизма. Сомов стал для Снежковского, с которым познакомился, работая над рисунками к древнегреческой истории о влюбленных «Дафнис и Хлоя», своеобразным наставником и учителем.
К тому же после шестидесяти Сомов неожиданно увлекся рисованием гомосексуальных эротических сценок, вроде «Обнаженных в зеркале у окна» (1934), которые хорошо продавались и мгновенно разошлись по частным парижским коллекциям. Борис с удовольствием ему позировал. В конце 1930-х Сомов создал целую серию портретов обнаженного боксера…
Константин Сомов был из тех гомосексуалов, которые, в отличие, например, от Кузмина, не слишком злоупотребляли гомосексуальностью для своего творчества. В работах Сомова широко представлены все виды эротизма. Сомов ввел в русскую графику эротику как иронический жанр. Это была игра – «усталая порочность не всерьез», как выражались критики.
Декаданс требовал раскрепощения во всем. Но на суровой русской почве любая эротика покажется обывателю, и не только, порнографией, как это и произошло, например, с «Крыльями» Кузмина. Шутовская, скоморошеская, наконец, «скурильная», как любят говорить применительно к Сомову, эротика была с легкостью принята эстетикой модерна и русским искусством.
Певец прозрачной ясности. Михаил Кузмин. (6 октября 1872 – 1 марта 1936)
Один из самых выдающихся русских поэтов ХХ века так запутал своих биографов и современников, что установить точный год его рождения не представляется возможным. Пока природа позволяла, поэт, предвосхитивший своей «прозрачной ясностью» целое направление в русской поэзии серебряного века – акмеизм, старался омолодить себя то на пять лет, то на три года.
Внимательные кузминоведы отыскали-таки затерянный в архивах документ и остановились на одной дате – 6 октября 1872 года, Ярославль. Это была, по выражению Кузмина, «недружная, тяжелая, самодурная и упрямая» семья отставного военного. Отцу, Алексею Алексеевичу, когда появился Миша, было уже 60. Он почти не интересовался его воспитанием и умер, когда сыну едва исполнилось 14 лет.
Из друзей у мальчика были все больше подруги, а не товарищи; он любил играть в куклы, устраивать домашний театр из портьер, стульев и стола. За импровизированной сценой представлялись попурри старых итальянских опер. Из книжек Миша зачитывался Шекспиром, Вальтером Скоттом, Гофманом и «Дон Кихотом».
В 1884 году семья перебралась в Петербург, на Васильевский остров. В гимназии Кузмин учился довольно плохо, но зато был вознагражден закадычным другом Григорием Чичериным (будущим наркомом иностранных дел), которого он ласково называл Юшей. Объединила их страсть к музыке. Именно Чичерину Кузмин впервые признался, что любит мужчин, получив в ответ больше, чем дружеское понимание.
Гомосексуальные связи Кузмина быстро перестали быть секретом и среди гимназистов: «они смеялись». В 21 год у Кузмина случился недолгий роман с офицером конного полка. Хотя встречи с ним были связаны с некоторыми сложностями, в дневниках Кузмин назовет эти годы «счастливейшим временем моей жизни». Примерно на этот же период приходится и бурный роман с неким «князем Жоржем», который весной 1895 года увез Михаила в путешествие по Египту. На обратном пути князь заехал в Вену и внезапно умер… С Мишей начались «каталептические припадки», и он, хотя и донельзя стесненный в деньгах, в 1897-м отправился лечиться в Италию. Припадки закончились, когда Кузмин нанял в слуги юного римского мальчика, которого, с согласия его родителей, собрался забрать в Россию. Но пока ехал до Флоренции, lift-boy Луиджино ему надоел…
…Несмотря на свою гомосексуальность, Кузмин был воспитан в глубоких религиозных традициях, собирался после гимназии идти в семинарию и долгое время мечтал стать старообрядцем. Но кондовая церковность вызывала у Кузмина раздражение, и он бросился искать религиозную истину вне церкви. Этому немало способствовал Григорий Чичерин, провоцировавший интерес Кузмина к итальянскому искусству и католицизму. Впрочем, основой для общения, помимо сексуальных интересов, оставалась музыка. Первые стихи были написаны Кузминым именно для своих и Юшиных сочинений.
Истину же телесную Кузмин нашел в удовольствии, которому беспрестанно предавался. В течение трех лет, начиная с 1905 года, Кузмин пытался обустроить свой быт с 18-летним банщиком Гришей Муравьевым. Муравьев был первым, к кому после князя Жоржа Кузмин почувствовал не только «влечение тела»: «…Я ему верю». Даже собирался ехать в провинцию, в Псков, чтобы жить там вдвоем «своим хозяйством». Встречи с Гришей оставались постоянными до тех пор, пока не вышли «Крылья» (1906).
Вера улетучилась вместе с новыми приятелями и популярностью. Осенью 1905 года на музыкальных посиделках у Альфреда Нурока, озаглавленных «Вечерами современной музыки», Кузмин впервые прочитал свою повесть «Крылья». Послушать «гомоэротический роман» пришли художник Константин Сомов и Сергей Дягилев. На Сомове Кузмин сразу остановил свой взгляд – он был из мужчин его типа – «…худых чисто мужских тел». И вот, уже предаваясь с Муравьевым «поцелуям без любви», Кузмин весь сосредотачивается на Сомове. Не найдя ответа у Сомова, берет в любовники вологодского парня Павлика Маслова, купленного по случаю в Таврическом саду, на петербургской плешке тех времен. Купленного, но верного, искреннего и простого. После первой же ночи обычная петербургская проститутка откровенно скажет Кузмину: «У вас ебливые глаза…» И все лето 1906 года Кузмин будет метаться между Костей и Павликом, пока осенью они не окажутся в постели втроем… После столь смелого эксперимента Кузмин наконец остановит свой выбор на Константине Сомове, оставляя Павлику возможность безуспешно обивать порог его квартиры.
Весной 1906 года в журнале символистов «Весы» выйдут «Крылья», Кузмин станет знаменитостью. Это первая в русской литературе книга о любви мужчины к подростку. …И хотя критика сочла «Крылья» «порнографическим романом», действие которого происходит на полке мужской бани, интеллигенция знала, что никакого отношения к порнографическому жанру сочинение Михаила Кузмина не имеет. Впрочем, по тем временам, никто не мог не возмутиться откровенностью «Крыльев». Кличка «банщик» будет еще долго преследовать Кузмина. Даже Антон Крайний, критическое воплощение Зинаиды Гиппиус, в которой некоторые подозревали гермафродита, в своей рецензии задержится на банных подробностях романа. Публичных комплиментов не пожалеет только Александр Блок, чья гетеросексуальность ни у кого не вызывает сомнений.
Банные сцены «Крыльев» – лишь дань реальности, хорошо знакомой Кузмину во время работы над повестью. Но было и то, что волновало его после банных приключений, – воспитание мужской любви и ее эстетическое оправдание. Найти это Кузмину было легко в древнегреческой традиции. И последняя сцена повести, в которой интеллигент Штруп убеждает гимназиста Ваню Смурова ехать с ним в Европу в качестве любовника, и ее название – «Крылья» прямо адресуют нас к диалогу Платона «Федр». Но решительность Кузмина состояла в том, что активно обсуждавшийся в прессе, философской беллетристике того времени, на многочисленных вечерах и салонах «половой вопрос» он облек в изысканную литературную форму. «Крылья» – это классическая русская повесть с либеральной европейской начинкой. С литературной точки зрения придраться было не к чему. Все остальное вызвало споры, способствовавшие более либеральному отношению общества к гомосексуалам, подсказывая, что в их жизни есть не только «мужеложество», но и нечто большее.
Что касается самого Кузмина, то в личной жизни это «нечто большее» он найдет спустя семь лет после выхода «Крыльев» в юном литовце Осипе Юркунасе. С 18-летним Юркунасом 41-летний Кузмин, поиздержавшийся на многочисленных любовниках, познакомился в 1913 году. И уже через несколько месяцев устроил в печать первую повесть Юрия Ивановича Юркуна. Этот псевдоним он дал своему воспитаннику, получив возможность воплотить в жизнь ту часть «Крыльев», которая как бы осталась за пределами текста. Вместе с Юркуном Кузмин проживет, не расставаясь, двадцать три года.
После «Крыльев» Кузмин, помимо прозы, издаст одиннадцать стихотворных книг, среди них особое место займут сборник «Сети» (1908) и поэтическая книга «Форель разбивает лед» (1929).
Умрет Михаил Кузмин 1 марта 1936 года в ленинградской городской больнице от пневмонии – незаметно, забытый всеми, но только не своим Юрочкой. Юркун в последнее посещение решит, что Михаил Алексеевич уже выздоравливает, но… Освобождая палаты для других больных, постель выздоравливающего поэта вынесут в коридор – там, на сквозняке, он вновь простудится. Похоронят Михаила Кузмина на Волковском кладбище, могила затеряется в советские времена. В литературном пространстве Советской России умрет и его поэзия – почти на полвека. Кузмина перестанут издавать в 1929 году. Отдельные стихи поэта появятся в хрестоматиях только в середине 1970-х. Ну а «Крылья» вновь решатся напечатать только во второй половине 1990-х.
Михаил Кузмин первый из русских писателей превратил свой гомосексуальный быт в объект искусства. Его творчество – музыка, драматургия и, в первую очередь, поэзия и проза – непосредственно связаны с той сексуальной и духовной свободой, которой был отмечен так называемый «серебряный век» русской литературы. Гомосексуальность Кузмина и его окружения спокойно и даже не без некоторого энтузиазма воспринималась культурной и интеллектуальной элитой.
Михаил Кузмин, одна из знаковых фигур русской литературы начала ХХ века, –своеобразная предтеча акмеизма. И хотя сам Кузмин не создал школы или направления, он имел учеников, среди них можно назвать, например, Николая Гумилева, а также многочисленных подражателей и эпигонов.
Мессия русского балета. Сергей Дягилев. (19 марта 1872 – 19 августа 1929)
Внучатого племянника Петра Чайковского Сергея Дягилева, родившегося в Новгородской губернии, в аракчеевских казармах военного поселения, можно назвать самым европейским русским человеком ХХ века. В истории танцевального искусства ХХ века ему принадлежит роль мессии.
Но детство юный Сережа провел в Перми в большом доме, похожем на старинную городскую усадьбу. Там, на Урале, он окончил гимназию и в 1890 году приехал в столицу изучать право на юридическом факультете Императорского университета. На лето он остановился у родственников, Философовых. Дима Философов, его будущий любовник и секретарь по первому русскому иллюстрированному журналу об искусстве, который Дягилев так и назвал – «Мир искусства», познакомил Сережу с кружком «пиквинианцев». Так называли свою компанию три приятеля, объединенные общими гомосексуальными интересами и в будущем сыгравшие, каждый по-своему, интересную роль в развитии русского искусства, – Константин Сомов (художник), Вальтер Нувель (один из недолгих любовников Михаила Кузмина, организатор «Вечеров современной музыки», приятель Стравинского и автор первой биографии Дягилева) и, собственно, сам Дима Философов. Четвертым – безоговорочным лидером, способным реализовать любой, даже самый фантастический проект, стал Сергей Дягилев.
Впрочем, поначалу «председательствовал» на собраниях кружка художник Александр Бенуа, пока в буквальном смысле слова не был изгнан с воображаемого трона предводителя кулаками эмоционального Дягилева, не довольного какими-то рассуждениями Бенуа об искусстве.
В 1897 году, когда «здоровяк-провинциал» (А. Бенуа) Дягилев окончил университет, среди его творческих достижений значились попытки написать оперу, книгу, сыграть в спектакле, но все это не соответствовало размаху воображения и не вызывало необходимого восторга. А ведь за исключением университетских приятелей, «самозваный» племянник «дяди Пети» (так Дягилев называл Чайковского) предпочитал общаться исключительно со знаменитостями: из композиторов – с Римским-Корсаковым, из художников – с Васнецовым, Врубелем и Серовым. Во время первой поездки за границу он познакомился с Верди, Золя и Гуно…
Что могло поразить русскую публику? Только скандал в самой, быть может, спокойной и устоявшейся области искусства. И Дягилев придумал начать «войну» с передвижниками. Он привез из Европы два десятка немецких и английских акварелей художников-модернистов и представил почти неизвестное России направление в живописи. К Дягилеву потянулись русские художники-новаторы, среди них – приятель Константин Сомов, которому приписывают идею открытия журнала «Мир искусства» (1897-1899, с перерывами до 1904). Его ответственным редактором стал сам Дягилев, очаровавший задором миллионера Савву Морозова (он дал денег). Нашлось в журнале место и сердечному другу Дмитрию Философову в качестве литературного редактора, тем более что редакция журнала первое время находилась в квартире Дягилева, где любовники, Дима и Сережа, жили вместе.
«Мир искусства» под руководством Дягилева дал название целому направлению в русской художественной жизни начала ХХ века – Врубель, Бакст… Последний, Лев Бакст, будет постоянным спутником Дягилева во время прогулок в Таврический садик (место сбора петербургских геев-проституток) в 1905 году, когда Сергей окончательно поссорится с Философовым.
Но впереди Дягилева ждал балет. Директор императорских театров князь Сергей Волконский (тоже, кстати, гомосексуал) в 1901 году пригласил Дягилева возглавить «Ежегодник императорских театров». Издание вышло шикарное и нашло одобрение у самого императора. Дягилев тут же бросился осваивать новое для себя пространство танца и получил «исключительные полномочия» на постановку балета «Севилья». Но Волконский заподозрил в молодом протеже конкурента и устроил так, что император уволил Дягилева со скандалом. Но было уже поздно – Дягилев, очарованный магией балета (сколько там было красивых юношей!), знал: рано или поздно он вернется в храм танца со своими гениальными идеями.
Пока же он отправился по России, чтобы собрать грандиозную выставку русского портрета. Спустя целый век, вернисаж, для которого Дягилевым было лично отобрано 3 000 портретов российских чиновников, князей, духовенства, светских дам, остается самым большим за историю выставок в России. Этот «апофеоз русского прошлого», который с трудом вместили залы Таврического дворца, Дягилев отвезет в Париж 1906 году. Профинансировал проект император Николай II.
Успех выставки подсказал Дягилеву идею Русских сезонов в Париже. И первый из них состоялся в 1907 году – это были пять музыкальных концертов, жемчужиной которых оказалось выступление Шаляпина с ариями из русских опер. Вдохновленный успехом, весной 1908 года он привез в Париж «Бориса Годунова» и начал готовиться к первому «балетному» сезону.
…Дягилев представил новую звезду русского балета – Вацлава Нижинского, сменившего его прежнего «сердечного друга» Дмитрия Философова. Дмитрий настолько углубился в литературу, что сошелся с поэтессой и критиком Зинаидой Гиппиус, которая, возможно, во многом благодаря своей внешней мужественности впервые привлекала Философова-гея как женщина. Впрочем, нашлось место в этом культурологическом романе и мужчине – ее мужу, писателю Дмитрию Мережковскому.
На некоторое время утешение принесли Дягилеву объятия личного секретаря Сергея Марвина, который, впрочем, вскоре бежал с одной из танцовщиц. Чуть ранее Дягилев едва не поделил молодого художника Сергея Судейкина с Михаилом Кузминым. Однако Судейкин обвел вокруг пальца обоих – он неожиданно женился.
Какую искру мог разглядеть в девятнадцатилетнем Вацлаве, робком, неотесанном и диковатом поляке, Дягилев?.. В отношениях с любовниками Дягилев всегда чувствовал себя своеобразным учителем. Он влюблялся непременно в юношей. Вацлав оказался старше всех.
Танцовщику Леониду Мясину было 18…
Столько же Сержу Лифарю…
Личному секретарю Борису Кохно – 17…
Столько же танцовщику Антону Долину (настоящее имя английского атлета Сидни Френсиса Патрика Чиппендала Хили-Кэя).
И, наконец, последнему обласканному дарами и вниманием композитору Игорю Маркевичу – 16.
Но самой яркой звездой в «донжуанском» списке Дягилева остался Нижинский. От природы стеснительный, «беспомощный, еле живой вне сцены» (П. Ливен), Вацлав преображался в танце. При этом, быть может, именно излишняя опека, которой в быту окружил Вацлава Сергей, дала ему возможность раскрепоститься на сцене. Этот союз «не принес детей, но изменил историю танца, музыки и живописи во всем мире и дал жизнь многочисленным шедеврам».
10 октября 1908 года Дягилев подписал с Нижинским контракт на 2500 франков за участие в первом Русском сезоне. Тем временем на вечерах у Дягилева, чей организаторский талант заключался в умении брать под свой контроль все, начиная с финансовых вопросов и заканчивая самим балетом – хореографией, костюмами и декорациями, началась подготовка к поездке в Париж. Для первого сезона были выбраны «Клеопатра», «Сильфиды» и новый балет «Павильон Артемиды». В двух последних должен был танцевать Нижинский…
К лету 1909 года первый дягилевский сезон русского балета завершился триумфом, долгами и, главное, незабываемыми впечатлениями от прыжков Нижинского. После возвращения из Парижа Вацлав поселился в квартире у Дягилева, который во время недолгой болезни танцовщика после скандала в «Жизели» (см. Нижинский), оплачивал все его счета и долги, в том числе платил пенсию матери. Теперь Нижинский подчинился Дягилеву и в личной свободе. На три года вперед их чувственный союз обрел в глазах окружающих определенную законную силу. Дягилев и Нижинский везде появлялись вместе. Точнее, Нижинский везде следовал рядом с Дягилевым, вслед за ним. Во внешне бесцветном Вацлаве бурлил целый оркестр чувств, идей и образов танца… Марионетка по собственной воли в руках Дягилева, в оправе его любви и внимания, Вацлав обретал славу и ореол звезды.
Еще зимой 1909 года Дягилев начал сотрудничество с начинающим композитором Игорем Стравинским. Для ближайших сезонов Стравинский напишет партитуры «Жар-птицы», «Петрушки» и «Весны священной». Соединение «странного танца» Нижинского и футурологической музыки Стравинского, которое будет с трудом понято, помогут дягилевскому балету заглянуть далеко в будущее танца. В этом фантастическом предвидении заключен итог «дягилевской реформы» балета, которая откроет искусству танца второе дыхание на век вперед.
После «бегства» Нижинского в разгневанного Дягилева вернет спокойствие и вдохнет новые силы все тот же балет в реальном образе Леонида Мясина. Последний оказался куда более восприимчивым воспитанником и любовником, чем замкнутый Вацлав. Поездки по Италии и отдых в светском окружении доставляли обоим массу удовольствия. Идиллии придет конец в 1921 году, когда Дягилев застанет Мясина с женщиной и уволит его на следующий же день.
Неудачная постановка балета «Спящая красавица» в Лондоне в 1922 году превратила инициатора Русских сезонов в банкрота. Долги, почти 200 000 франков, оплатила Коко Шанель – из любви к своему русскому любовнику, великому князю Дмитрию, бывшему другу Феликса Юсупова…
В 1920-е годы трое молодых людей – Лифарь, Долин и Кохно – в разное время становились объектом внимания и ухаживаний своего великосветского протеже. И они, безусловно, сами любили своего Сергея…
«В холостяке Дягилеве была какая-то семейственность и тяга к семейной жизни. Он всегда мечтал о своем доме, как вечный странник об оседлости» (Сергей Лифарь). Это чувство дома могли бы на исходе его жизни дать ему Сергей Лифарь и Борис Кохно. Дягилев мечтал, чтобы они двое составили его семью. Почти совсем ребенок Кохно готов был согласиться с любыми желаниями Сергея Павловича. Но уговорить жить втроем не удалось Лифаря. В 1925 году после одного из успешных спектаклей Сергей Лифарь наотрез отказался выпить на «ты» с Борисом, чтобы символически объединить их семейный союз.
Тогда Дягилев оправил Кохно в Париж и продолжил свое итальянское путешествие с Нувелем и Лифарем. Это был первый год интимной близости Дягилева и Лифаря. Сохранилась фотография: Лифарь – весь в белом с эротично расстегнутым воротом рубашки, Дягилев – в кресле и Вальтер Нувель – на заднем плане. Этот снимок – иллюстрация «самого счастливого года в жизни Сергея Павловича и моей», признавался Сергей Лифарь. Они даже вместе решают бросить курить, тем более что здоровье Дягилева резко ухудшается – сказывались последствия сахарного диабета.
После 1926 года Дягилев постепенно отходит от балета: он собирает библиотеку, в огромном количестве скупает старинные книги. Этому новому увлечению отчасти способствует и Сергей Лифарь, который остается возле Дягилева. Остальные – Вальтер Нувель, Борис Кохно, Игорь Маркевич – как бы в стороне.
Дягилев умер 19 августа 1929 года, ему было всего 57. Кохно и Лифарь оспаривали друг у друга бездыханное тело.
Последний приют Сергей Павлович Дягилев нашел на русском кладбище острова Сан-Микеле. Кохно и Лифарь, обезумев от горя, едва ли не ползли за гробом на коленях до самой могилы. Спустя несколько месяцев они подписали договор о закрытии Русского балета.
«…Верный тому, чему нельзя не быть верным». Дмитрий Философов (7 апреля 1872 – 4 августа 1940)
В истории немало персонажей, чьи имена всегда упоминаются лишь как дополнение к рассказу о выдающихся ее представителях. Имя критика и общественного деятеля начала ХХ века Дмитрия Владимировича Философова принадлежит к подобному кругу спутников ярких исторических личностей. Но на самом деле он был одним из трех, членом союза равных – Гиппиус, Мережковского и Философова. Рискнем предположить, что третьим он стал лишь потому, что штамп в паспортах стоял все-таки у Мережковского с Гиппиус, да и к критике как к жанру, в котором работал Философов, до сих пор относятся с некоторым пренебрежением. Но, создавая воцерковленную триединую семью, они, конечно же, стремились к уникальному равенству во всепроникающей любви друг к другу через прикосновение к Божественному.
Единственное, чем, возможно, выделялся Философов в этом тройственном союзе, так это своей более выраженной гомосексуальностью.
Дмитрий Философов происходит из древнего русского рода, корни которого восходят ко временам князя Владимира Красно Солнышко. Его отец – высокопоставленный царский чиновник – сенатор, член Государственного Совета, одно время военный прокурор России. Матушка – Анна Павловна, урожденная Дягилева. Это о ней писал Блок в отрывке «Возмездие»: «Кто с Анной Павловной был связан, – всяк поменет ее добром… // Вмещал немало молодежи ее общественный салон…»
Дима был самым младшим, кажется, девятым по счету в большой семье. Он пользовался всеобщим вниманием и лаской.
В гимназии завязалась тесная дружба у троицы (как будто сложности триединой семьи были написаны Философову на роду) – Кости Сомова, Валички Нувеля и Димы Философова. С каждым из гимназических товарищей случится у Философова роман. И первый – с Сомовым – начался еще на учебной скамье, но был разбит явившимся в Москву из Пензы продолжать образование Сережей Дягилевым – тем самым, создавшим славу русскому балету.
В 1899 году Дягилев возглавил журнал «Мир искусства». Всю организационную и литературную редакторскую работу взял на себя Философов. Вот тогда Зинаида Гиппиус и начинает присматриваться к Дмитрию Владимировичу.
Пока педерастия в качестве «сексуальной специализации» кажется Гиппиус «извращением, смешным даже для зверей…» «Манерный, женственный v. Gloeden с чуть располневшими бедрами, для которого женщины не существует – разве это не то же самое, только сортом ниже, – что какой-нибудь молодой, уже лысеющий от излишеств, офицер, для которого мужчины не существуют? Какая узость! Я почти понять этого не могу, для меня может ожить в сладострастии равно всякое разумное существо», – запишет она сумбурно в дневнике в августе 1899 года, размышляя о бороне фон Глодене, авторе серии фотографий, на которых запечатлены обнаженные мальчики. И отметит, что ее выбор в другом: «Меня равно влечет ко всем Божьим существам – когда влечет...»
Или такие почти гомофобные по нынешним временам заметки: «Педерасты очень довольны своей зачерствелой коркой и думают, что они ужасно утонченны и новы! Бедные! Жаль, что они здоровье портят, а то бы им дать женщину, авось бы увидали, что физически это шаг вперед. Но к чему рассуждения! Да я и не осуждаю. Надо все пережить. Только надо помнить, что переживаешь, и перейти через это».
Итак, отказавшись от «узкой специализации», Гиппиус вдруг начинает искать женственное в мужчинах. «Мне это нравится, с внешней стороны я люблю иногда педерастов (Gloeden стар и комично изломан). Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко».
Гиппиус поняла, что испытывает некоторую тягу к гомосексуалам – в них «очень приятно влюбиться». Она разглядывает одного из любовников Глодена, некого 24-летнего Briguet, но, может быть, не любит, а жалеет…
С жалости начинается и первое чувство к Философову: «Жалко и Диму, который в такой тесной теме… Не могу ему помочь, он меня не любит и опасается». Присматриваясь к Философову в марте 1901 года, она записывает в дневник свое признание в любви к Дмитрию и выбирает его в качестве третьего для задуманной уже «новой церкви», которая даст их тройственной любви «оправдание».
В то самое время в Петербурге в «доме Мурузи» у Гиппиус и Мережковского начинают проходить собрания, давшие начало Русскому религиозному обществу. Дмитрий Философов посещает их не часто, а если и появляется, то на пару с Вальтером Нувелем. Гиппиус не догадывается пока, что Нувель не просто друг, но и соперник. Главная тема собраний – «нерешенная загадка пола» и поиск «Бога для оправдания пола».
Гиппиус внимательно изучает Философова, прислушивается к любым его высказываниям, ищет тем для бесед. Позже Философов признается, что понимал и чувствовал особое участие Гиппиус к своей персоне и сознательно избегал его. Тем временем концепция, которая позволила бы Мережковским создать триединую семью, в целом теоретически оформилась.
Загадку пола Гиппиус решает через любовь к Христу. «Христос – решенная загадка пола. Через влюбленность в Него – свята и ясна влюбленность в человека, в мир, в людей…» И поскольку существующая церковь «не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени», Гиппиус и Мережковский принимаются за строительство новой церкви. Третьим окончательно избран Философов. Единственной альтернативой ему был Василий Васильевич Розанов (в будущем автор «Людей лунного света»), но он оказался слишком самостоятельной и весомой фигурой, поэтому отношения его с Гиппиус и Мережковским довольно быстро расстроились, – он был изгнан из их круга и религиозного общества.
Однако тут раскрылась привязанность к Философову Вальтера Нувеля, появляется четвертый – лишний. Нувель пришел к Гиппиус и сказал откровенно: «Вы не Бога ищете, а Философова, потому что у вас к нему личное влечение». Гиппиус, не сомневаясь уже в абсолютной гомосексуальности Философова, все же надеялась, что Круг триединой семьи сможет объединить ее влечение к двум из этого Круга.
В Великий Четверг 29 марта 1901 года ночью часа три в «доме Мурузи» Философов, Гиппиус, Мережковский совершили обряд, сопровождаемый молитвами перед образами, за столом, украшенном цветами и фруктами. Они пили вино из одной церковной чаши, вкушали хлебá, пропитанные вином, как кровью Господней, трижды менялись нательными крестами, целовали друг друга крестообразно, читали Евангелие. И так три раза.
…Но Гиппиус замечала, что Философов испытывает к Мережковскому какое-то чувство «брезгливости» – это касалось возможной половой близости. Одновременно Мережковский и Философов хотели единого «полового круга», и Гиппиус как будто смирилась с тем, что иной семьи, кроме бесполой, появиться не может.
Тем временем Вальтер Нувель, все еще влюбленный в Диму, поведал ему истинные причины выбора Философова в качестве третьего – желание интимной близости со стороны Гиппиус, которой, напомним, особенно нравились женственные мужчины. Вскоре после совершения обряда Философов стал избегать Гиппиус и Мережковского. Гиппиус – наивная – полагала, что причина не в ней, а в стыдливости Фолософова, боявшегося вступить с Дмитрием Сергеевичем Мережковским в «половой круг».
Нувель, уверовавший в то, что он должен «спасти» Философова, что в этом его «призвание», рассказывает об обряде Дягилеву… Гиппиус надеется повторить обряд спустя год. Для совместной молитвы шьются специальные одежды, готовятся хлебá, церковное вино, цветы. Но в назначенное время Философов не появляется. Дягилев, к которому Дима вновь «приник», увозит своего возлюбленного за границу… Там и произошла размолвка. Тот же Нувель наябедничал, желая заполучить Философова любыми способами, что Дмитрий Владимирович провел уже несколько приятных часов с новым секретарем Сергея Павловича польским студентиком Виком. Дягилев выставил Философова с громким скандалом.
Прошло два года. Когда в апреле 1903 Синод запретил религиозно-философские собрания, Мережковский и Гиппиус замыслили издавать журнал «Новый путь» и, конечно же, пригласили Философова. Он согласился стать редактором.
В 1906 году они уехали за границу. Пятнадцать лет прожили «вместе, втроем». «Стыдливость» между Мережковским и Философовым почти рассеялась. Из Европы Философов ругал Горького (его блестящую критику не могли простить Советы), спорил с Михаилом Кузминым и его «Крыльями». Дмитрий Владимирович полагал, что «своя» гомосексуальная тема «трагична по преимуществу», а Михаил Алексеевич все страдания превратил в «повесть о том, как легко и безмятежно блудодействуют аномальные люди».
Каждой весной в Великий Четверг они повторяли обряд, положивший начало их Церкви. Так было и 14 марта 1911 года в Париже, когда Зинаида причащала Диму, а Дмитрий – Зинаиду, А Дима – Дмитрия.
Но к 1913 году отношения обострятся – Дима все-таки чувствует себя третьим и тяготится семейной жизнью Гиппиус и Мережковского. К тому же разделились политические взгляды: Философов – за войну с Германией, а Гиппиус с Мережковским – за мир.
Октябрьский переворот, погромы, большевики, расстреливающие больных министров временно правительства в лечебницах, арестованное Учредительное собрание – Философов встретит все это вместе с Мережковскими. Робкие попытки принять советскую власть… Побег в январе 1920 года через польскую границу, лишения эмиграции в Минске, потом в Варшаве.
В Польше они впервые за 15 лет поселились отдельно. Еще в России Философов впал в странное оцепенение. Гиппиус уверяет, что Мережковский едва ли не силой увез его – «он был инертен и безучастен при озлоблении».
Русская эмиграция жила надеждами на борьбу с большевиками. Террорист Борис Савинков (1879-1925), формировавший русский отряд на польские деньги, предложил Философову быть его помощником. Тот, не смотря на сопротивление Гиппиус и Мережковского, согласился. Зинаида Николаевна, подозревавшая в причинах столь быстрого согласия Дмитрия Владимировича какой-то интимный момент, возненавидела Савинкова
Что бы ни говорили об именах второстепенных, чья судьба – лишь сопутствовать славе других, последние двадцать лет своей жизни Дмитрий Владимирович Философов провел как вполне самостоятельная общественно-политическая фигура. Он стал одним из лидеров русской эмиграции в Польше. Сподвижник Савинкова. Редактор газет «Свобода» (1920 – 1921), «За свободу!» (1921 – 1932), «Молва» (1932 – 1934), редактор журнала, впоследствии газеты «Меч» (1934 – 1939). Почетный председатель варшавского «Литературного содружества», основатель литературного клуба «Домик в Коломне» (1934 – 1936).
Он умер в августе 1940 года. Гиппиус, не простившая ему измены, но все еще любившая его, записала в дневнике: «…где ты скитаешься, мой весный, мой верный тому, чему нельзя не быть верным».
Дмитрий Философов, воспринимая гомосексуальность как «трагедию пола», вместе с Гиппиус и Мережковскими предпринял грандиозную попытку решить «проблему пола» в сфере духа. …Правда, триединая семья, основой которой должен был стать «бесполый круг» троих, полюбивших друг друга через Христа, разбилась о житейские страсти и интимный эгоизм ее участников и окружения.
«Возлюбленный – камень, где тысячи граней…». Николай Клюев (22 октября 1884 – между 23 и 25 октября 1934)
О детстве Николая Клюева известно немного. Он щедро украсил историю своего появления на свет «узорами» образов, в которых факты заслонены тем, что происходило с ним в глубинах души.
Клюев появился на свет в одной из деревень Вытегорского уезда Олонецкой губернии. Отец его служил урядником (самый мелкий чин в полиции), а позже получил место сидельца в казенной винной лавке. О матушке осталось еще меньше реальных фактов, зато в поэзии Клюева – это образ «родительницы»-песельницы, которая посвящает отрока в тайны «словесной мудрости». Известно лишь, что она происходила из старообрядческого рода. И именно старообрядчество с его идеями и образами приобрело в координатах поэтического мира Клюева главенствующее значение.
Учился Клюев в обычной церковно-приходской школе, а затем в двухклассном городском училище, но там, разумеется, он не смог бы получить образования того уровня, о котором вскоре будут говорить современники. Вероятно, он упорно занимался самообразованием…
Подростком Клюев отправляется в Соловецкий монастырь, где проводит в качестве послушника несколько лет. Там он встречается со старцем с Афона, который дает ему совет «во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть». По поводу этого события, сыгравшего огромную роль в формировании сексуальности Клюева и его отношению к плоти и духу, существуют разные версии. Духовный биограф Клюева Наталья Солнцева относит эту встречу непосредственно ко времени пребывания Клюева в монастыре. Автор же летописи жизни Клюева Константин Азадовский – ко времени «после Соловков». Старец «снял с отрока вериги, бросил их в омут, а вместо нательного креста надел на него образок из черного агата». Так произошли отречение Клюева от Христа в православной вере и его обращение к Хлысту и секте хлыстовиков с их скопчеством. Старец передал юного Клюева двум молодым сектантам «с наказом ублажать… и грубым словом не находить». У скопцов Клюев провел около двух лет. Все это время Николай готовился к обряду оскопления. Но за день до того, когда у него должны были «отрезать все м…», он выбрался из часовенки, в которой в молитвах ждал «великой печати», и бежал на Кавказ.
На Кавказе предавался плотским наслаждениям с «мальцами». Их было, по уверению Клюева, восемь. Самый красивый – Али, «с маковыми губами и как бы с точеной шеей, необыкновенно легкий в пляске и движениях, стал оспаривать перед другими свое право на меня… Дня четыре эти люди брали мою любовь, каждый раз оспаривая меня друг у друга…» Трудно сказать, насколько такая мифическая биография, придуманная для себя Клюевым, соотносится с реальностью. Однако летописцы Клюева, отмечая его предрасположенность «расцвечивать свою биографию яркими, но вымышленными эпизодами», так и не смогли предложить альтернативную канву жизни поэта до его появления в Петербурге в возрасте 30 лет.
Итак, первым человеком, к которому Клюев осознал не только телесную, но и духовную привязанность был Али, турок из секты скопцов, похожий на «молодой душистый кипарис». Он по легенде искал своего брата по всему Кавказу. И по одной версии застрелился от любовной тоски, а по другой, переданной Клюевым, – заколол себя кинжалом.
Путь Клюева в литературу начинается в 1903-1904 годах, если не принимать во внимание его встречу со Львом Толстым где-то в самом начале 1890-х во время его скитаний по России со скопцами. В Ясной Поляне он прочел Толстому несколько стихотворений, классик поинтересовался, сам ли Клюев слагает эти вирши, похвалил отрока и отправился обедать. Вот, собственно, и все…
Свободомыслие Клюева совпадало с настроениями 1905 года в крестьянском сословии. За призывы к сопротивлению власти на Пятницком сельском сходе в Олонецкой губернии его даже арестовали и заключили в тюрьму на шесть месяцев.
Через социал-демократов Клюев получает доступ в прессу. А один из них, Леонид Семенов-Тян-Шанский, который был Клюеву «больше, чем близок», знакомит Николая с поэтом Александром Блоком. Начинается длительная – более двух лет – переписка Клюева со знаменитым символистом. Блок читал письма Клюева на вечерах в доме у Гиппиус-Мережковского-Философова…
Тем временем подходит призывной возраст. Клюева забирают в солдаты, но он упорно отказывается брать в руки оружие и надевать форму, а также отказывается от еды. Из финской части его возвращают в петербургский военный госпиталь и признают «слабоумным».
В сентябре 1911 года Клюев посещает Блока в Петербурге. Поэт помогает ему войти в литературу. В этом же году сборник Клюева «Сосен перезвон» (посвящен Блоку, на титуле стоит 1912 г.) становится одним из ярких событий литературной жизни. В рецензии на «Сосен перезвон» Сергей Городецкий объявляет о появлении «нового талантливого народного поэта».
После издания сборника «Лесные были» имя Клюева к началу 1915 года ставится в один ряд с крупнейшими русскими поэтами. На 1915 год приходится и знакомство Клюева с Есениным. Началось все с письма Есенина, который сообщал Клюеву о своей первой книге – «Радуница». В письмах два поэта, которых вскоре будут сравнивать с Артюром Рембо и Полем Верленом, «заочно» объяснятся друг другу в любви.
Первая встреча Есенина и Клюева произошла, по всей видимости, на квартире Сергея Городецкого, с которым Есенин некоторое время жил. Клюев «просто впился» в Есенина, «овладел им, как овладевал каждым из нас в свое время» и увел его у Городецкого. На следующий день Клюев и Есенин уже выглядели неразлучной парой. Благодаря неожиданной дружбе через две недели была наскоро сформирована группа крестьянских поэтов «Краса». Потом придумали «Страду» на квартире у Городецкого. И первое, что провела «Страда» – это двойной вечер Есенина и Клюева. Этот же вечер через месяц, в январе 1916, будет повторен в Москве.
Это была удивительная дружба-любовь, в основе которой лежала творческая привязанность Есенина к маститому поэту «своего» – деревенского – круга и глубокая интимная привязанность Клюева к подростку, который очаровал его всем, что в нем было. Клюев был на одиннадцать лет старше Есенина, который жил в Петербурге впроголодь и искал помощи у поэтов. Но не только материальную поддержку Есенин получал от Клюева – тот активно влиял на духовный мир Есенина, а также организовывал его издательские дела.
На весну 1916 года приходится пик отношений Есенина и Клюева. Перед тем как расстаться на лето (впрочем, чуть раньше Клюев гостил у Есенина в Константинове), Сергей оставит Николаю фотографию с такой вот памятной надписью: «Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но эта тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Сережа 1916 г., 30 марта, Петроград».
Была ли между Клюевым и Есениным интимная связь? Среди их современников на этот счет существуют совершенно противоположные мнения. Так, Владимир Чернявский верить в это совершенно отказывается: «Ни одной минуты я не думал, что эротическое отношение к нему Клюева, в смысле внешнего его проявления, могло встретить в Сергее что-либо кроме резкого отпора…»
Однако позже, обиженный на Клюева и расставшийся с ним, Есенин поделился с художником П.А. Мансуровым о моментах интимной близости с Клюевым, впрочем, вопреки желанию Есенина. То, что Клюев добивался от Есенина интимных отношений, можно предположить с большой долей вероятности, так как Клюев почти всю свою жизнь был довольно решителен в проявлении своих сексуальных желаний. За это, кстати, и пострадал… Но об этом чуть позже.
Впрочем, Есенин в хорошем расположении духа любил по-доброму шутить о своей дружбе с Клюевым. Рассказывал приятелям о том, что уже «на Покрова будем свадьбу справлять…» с «хорошим человеком», которого наконец «послал Господь»… Да и любви Клюева Есенин поначалу не сопротивлялся. Стали жить вместе, он даже лег с невзрачным старичком (из-за крестьянского имиджа Клюев выглядел гораздо старше своих лет) в постель, доверился во всем. Хотя, говорят, у Есенина был в это же время роман с некой женщиной. Имя ее почему-то никто из биографов Есенина не называет. Так что в этом легко заподозрить «ученую» мистификацию с целью представить отношения Клюева и Есенина в исключительно дружеском свете.
Любовь Клюева и Есенина разрушится точно так же, как и начиналась – через письма в конце 1917 года. Со стороны Есенина, который к тому времени станет самостоятельной литературной фигурой, это был осознанный разрыв в творческом плане. Воспользовавшись политической неразберихой, Есенин в марте 1917 года дезертирует из армии и женится на газетной секретарше Зинаиде Райх.
Привязанность же Клюева к Есенину не пройдет никогда. С негодованием он встретит летом 1920 года известие о том, что Сергей живет с Мариенгофом: «…тяжко мне от Мариегофа, питающегося кровью Есенина…» В 1921 году он пошлет Есенину весточку из Вытегры вместе с Николаем Архиповым, своим новым другом. Но Сергей отреагирует очень холодно. Получив такой недобрый привет, Клюев кинется писать Есенину письмо. Весь свой гнев он обрушит на Мариенгофа и Дункан: они «мне так ненавистны за близость к тебе».
«Сереженька, душа моя у твоих ног. Не пинай ее. За твое доброе слово я готов пощадить (намек на подчеркнутый антисемитизм Клюева, который отчасти был воспринят и Есениным) даже Мариенгофа…».
Ответа от Есенина не последовало.
В декабре 1925-го, когда Есенин снимет номер в «Англетере», Клюев по стечению обстоятельств тоже окажется в Петербурге, он будет жить в пяти минутах ходьбы от гостиницы. Их последняя встреча произойдет за несколько часов до смерти Есенина.
На фотографиях от 26 декабря Клюев стоит в изголовье гроба Есенина. Он плачет на гражданской панихиде и последний долго целует и что-то шепчет Есенину, не давая опустить крышку гроба, перед отправкой тела поэта в Москву.
Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слюной крепил мысли, слова слезинками,
Да погасла зарная свеченька, моя лесная лампадка,
Ушел ты от меня разбойными тропинками!
…Овдовел я без тебя, как печь без помяльца…
Это строки из поэмы Клюева «Плач о Сергее Есенине».
До 1925 года Клюев жил в Вытегре, отдавая все внимание Коленьке – Николаю Ивановичу Архипову (1887-1967). Едва ли не все сочинения Клюева начала 1920-х годов (четыре поэмы) посвящены этому человеку, бывшему учителю, который записывал в свои тетради сны Клюева. Тексты, адресованные Архипову, насквозь гомоэротичны.
О плоть – голубые нагорные липы,
Где в губу цветений вонзились шмели,
Твои листопады сгребает Архипов
Граблями лобзаний в стихов кошели!
(Из поэмы «Четвертый Рим»).
Кстати, именно откровенная гомоэротичность творчества Клюева конца 1920 – начала 1930 годов станет главной причиной того, что поэта выслали из столицы и расстреляли. В этом, например, был абсолютно уверен выдающийся филолог Михаил Бахтин. Бахтин отмечал, что Клюев никогда «не скрывал этого (своей гомосексуальности)… не говорил об этом, конечно, на каждом шагу, но и тайны из этого не делал».
В 1932 году он закончил поэму «О чем шумят седые кедры». Ее читал редактор «Известий» и никак не мог понять, почему в поэме о любви объект чувства – мальчик. Поинтересовался у поэта Павла Васильева. Тот, уже испытавший интимные притязания Клюева, раскрыл глаза редактора на сексуальность Клюева. Тот немедленно набрал номер Ягоды, потом Сталина. Высылка из Москвы началась легко – с отдыха в Сочи, но возвращения в столицу не последовало.
Говоря языком следователей, покинув столицу, Клюев «работы по разложению литературной молодежи не оставил», и не только литературной. Еще 11 апреля 1928 года он познакомился с художником Анатолием Николаевичем Яр-Кравченко (1911-1983), в будущем известным советским графиком. «Ласточка» – так ласково называл его Клюев.
К Кравченко обращены едва ли не все стихи 1929-1933 годов – это в прямом смысле любовная лирика, а также и любовные письма… Клюев как будто чувствовал скорую трагическую развязку своей жизни, а потому отдавался последней своей любви без остатка. В 1929 году они вместе едут в Вятку, живут в крестьянском доме…
После отъезда из Москвы Клюев со временем начинает испытывать большую нужду. Затем следуют многочисленные аресты. В феврале 1934 года под воздействием пыток он признается в государственной измене и участии в антисоветской организации. Получает пять лет исправлагерей с заменой высылкой в Сибирь. Еще один арест в марте 1936 года в Томске. Вновь обошлось – летом Клюева отпустили… Наконец, последний арест в августе 1937 года. Следствие длилось до осени, и 13 октября тройка НКВД Новосибирской области постановила: «Клюева Николая Алексеевича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать».
Жизнь Клюева закончилась в общей могиле.
В конце 1930-х годов не только творчество, но и личная жизнь поэта Николая Клюева разошлась с официальной «линией партии». Его арест можно считать началом преследования гомосексуалов Советами. Выслав Клюева в Сибирь из-за его откровенно гомосексуального образа жизни, власти воспользовались бедственным положением ссыльного, чтобы организовать очередное липовое дело об измене родине. Оно стало одним из сотен тысяч фактов массового террора, организованного Советским Союзом против своих граждан. Спустя два года из Москвы в Новосибирск пришла депеша с требованием разыскать ссыльного и вернуть в столицу. Чем была вызвана столь спешная забота о давно расстрелянном поэте неизвестно. Возможно, чтобы сфабриковать новое дело… Впереди страну ждали и другие политические процессы.
«…В прекрасном пожаре сжигая свой вечер!». София Парнок (12 августа 1885 – 25 августа 1933)
Поэтесса София Парнок была самой откровенной лесбийской фигурой русской литературы «серебряного века». Как лесбиянка Парнок жила в полную силу, и ее долгие романы с женщинами, очень разными – по возрасту, профессии и характеру, вошли в творчество поэтессы, она заговорила на языке поэзии от лица своих многих молчаливых сестер.
Значение Софии Парнок в русской поэзии принято сопоставлять с поэтессой Каролиной Павловой (Парнок назвала ее «прабабкой нашей славной»), чье творчество было открыто для широкого читателя лишь в начале ХХ века лидером символистов Валерием Брюсовым. Но в отличие от Павловой-»современницы бесправной» Парнок была широко известна в литературных кругах. Хотя известность открытой и последовательной лесбиянки подчас заслоняла вполне заслуженную поэтическую славу.
София Яковлевна Парнок (настоящая фамилия Парнох) родилась в Таганроге в семье провизора и владельца губернской аптеки Якова Соломоновича Парнох. Матушка Софии, Александра Абросимовна, тоже была врачом. Она скончалась при родах близнецов, брата и сестры Софьи. Скорый брак отца с домовой гувернантской навсегда сделал напряженными отношения между ним и дочерью.
Первые стихи написаны Софией Парнок в шестилетнем возрасте. Позже, учась в Мариинской гимназии Таганрога, она заведет свои первые стихотворные тетради. Надо сказать, что в учении София была очень способна и в 1904 году завершила гимназическое образование с золотой медалью. С Таганрогом, навевавшим тоску памятью о матери, семнадцатилетняя Парнок, не задумываясь, рассталась и «бежала» вслед за какой-то понравившейся ей актрисой в свое первое из трех европейское путешествие. Там, в Европе, Парнок встретила революцию 1905 года, путешествуя по Италии и Швейцарии со «скучными типами» вроде Григория Плеханова. Она предпринимает попытку поступить в Женевскую консерваторию, но бросает музыку и возвращается в Петербург, где идет на юридические курсы, которые, впрочем, тоже не оканчивает.
Двадцатилетняя Парнок переживает роман с Надеждой Павловной Поляковой. Их связь длилась более пяти лет. Н.П.П. стала основным адресатом стихотворений еще в ученических тетрадках Парнок. Впрочем, одновременно на 1904-1909 годы приходятся робкие попытки Парнок связать жизнь с мужчинами. Но нереализованной остается привязанность к Софии композитора Михаила Гнесина. На какое-то время от Н.П.П. ее отвлекает друг-беллетрист Владимир Волькенштейн, двухлетний брак с которым закончился неудачей в 1909 году. Семья Парнок болезненно переживает известие о разрыве с Волькенштейном, полагая, что София вновь вернулась к Надежде Поляковой…
Но в это время Софию Парнок более всего волнуют творческие дела. И через Волькенштейна, и через Полякову она долгое время безуспешное предлагает свои стихи и переводы в литературные журналы – «Золотое Руно», «Журнал для всех»… Тогда она пробует себя в жанре рецензии. С 1913 года начинает выступать под псевдонимом Андрей Полянин – как критик, автор статей и детских сказок.
С 1910-х годов звезда жизни Парнок – личной и поэтической – лишь набирала силу, чтобы вспыхнуть в 1914 году сразу двумя солнцами. «Два солнца-соперники» – так Семен Карлинский назвал недолгий бурный роман 1914 года между Софией Парнок и Мариной Цветаевой, перефразируя поэтическую метафору самой Марины Цветаевой.
Софии Парнок было 29, она была на 7 лет старше Марины Цветаевой, которая стремительно увлеклась уверенной и внешне несколько агрессивной женщиной. Отношения их складывались на грани дозволенного: Марина полностью подчинилась своей Сонечке, а она «отталкивала, заставляла умолять, попирала ногами…», но – и Марина до конца дней верила в это – «любила…»
Однако сейчас, глядя на то, как отразилась эта внезапная любовь в поэзии двух Солнц, обнаруживаешь: опытная, испытавшая в жизни немало разочарований – и «отсутствие» детства, и крушение романа с Поляковой – София Парнок всегда сомневалась в значении этой связи-любви, поэтому неоднократно испытывала соперницу волнами равнодушия.
Парнок для Цветаевой – ее «роковая женщина». Рок войдет и в поэтику текстов Цветаевой, адресованных Парнок. В них главным станет мотив смеренной покорности и поклонения перед возлюбленной, от которой не ждешь взаимности, но которую боготворишь. В значительной степени этот роман, подчеркнутая холодность к «сероглазой подруге», ощущение власти над покорной девчонкой, бросившей ради Сонечки мужа и семью, преобразили внутренние ощущения самой Парнок. Она впервые принимала любовь, позволяла любить себя и, как это часто бывает, словно мстила за то, что когда-то в юности сама стала жертвой такой слепой любви к разочаровавшей ее Поляковой («…и это то, на что я пять лет жизни отдала»).
Одновременно в отношении Парнок к Цветаевой присутствовал и некий элемент материнской любви. Парнок относилась к Марине как к своей дочери, многое ей прощала, словно добрая мать. Но ведь матери иногда воспринимают любовь своих детей как нечто должное и разумеющееся, поэтому, когда Марина вдруг прервала свои отношения с Софией, на душе Парнок остался груз обиды.
Почти проигнорировав свою связь с Мариной в стихах 1915-1916 годов, Парнок вспомнит о своей самой «младшей сестре» незадолго до смерти и признается в стихотворении, адресованном осенью 1929 года Марине Баранович, что прощает…
…Такое же биенье теплоты…
И тот же холод хитрости змеиной
И скользкости… Но я простила ей!
И я люблю тебя, и сквозь тебя, Марина,
Виденье соименницы твоей!
Это «виденье», по свидетельству Л. Горнунга, никогда не покидало ее – карточка Цветаевой долгие годы стояла у Парнок на столе возле постели.
Как бы завершая и одновременно знаменуя роман с Цветаевой в 1916 году, была опубликована первая поэтическая тетрадь Софии Парнок. На сборник «Стихотворения» (Петроград, 1916) лестно откликнется подруга Аделаида Герцык и Макс Волошин. Это будет первая из пяти («Розы Пиери» – 1922, «Лоза» – 1923, «Музыка» – 1926 и «Вполголоса» – 1927) книг Парнок. Но самые проникновенные ее лесбийские стихи увидят свет лишь спустя полвека после смерти поэтессы – филолог София Полякова подготовит книгу «Собрание стихотворений», изданную американским издательством «Ардис» в 1979 году. В России ее переиздадут и того позже - в 1998-м (Санкт-Петербург: ИНАПРЕСС)…
А тогда, в 1915 году, когда чувства Марины иссякли, в доме Парнок появилась актриса театра Незлобина Людмила Владимировна Эрарская. Их привязанность друг к другу приходится на черные революционные годы. Летом 1917-го, когда настроение у всех было «убийственным», а жить стало «почти невозможно», вдвоем они отправятся в Крым, Судак, на дачу Аделаиды Герцык. Там Парнок устроится работать то ли бухгалтером, то ли секретарем в городскую управу. На пайке служащего, превратив часть старого виноградника в огород, Парнок и Эрарская проживут всю гражданскую войну.
В начале 1922 года Парнок вернулась в Москву. Написанные в Крыму стихи вошли в два вышедших один за другим сборника. Но это была лишь часть того, что Парнок намеревалась издать, но не смогла из-за притеснений советской цензуры, которая крепла с каждым днем. Цензоры не пропустили ни статью о поэзии Анны Ахматовой, в которой было слишком много о Боге, не эссе об «Эротических сонетах» Анатолия Эфроса, где было слишком много о плоти.
Из числа многочисленных писательских группировок Парнок выбрала для себя самую малоизвестную – «Литературный круг». Одноименный сборник группы, в который, помимо Парнок, предоставили свои стихи Ахматова, Ходасевич и Мандельштам, был освистан и левыми, и правыми.
Чтобы заработать на жизнь, Парнок занимается всем подряд… Сблизившись с Евдоксией Никитиной, вдохновительницей «Никитинских субботников», одного из самых успешных кооперативных издательств того времени и одноименного литературного общества, Парнок занялась организацией писательских вечеринок – «субботников», которые хоть как-то Никитиной оплачивались...
В начале 1920-х София Парнок познакомилась с профессором математики Ольгой Николаевной Цубербиллер, ставшей главной опорой Парнок «в самые страшные» годы. «Бесценный» и «благословенный» друг Ольга взяла Софию, как та выразилась в одном из писем, «на иждивение». Парнок наконец обосновалась в одной из московских коммуналок. Находясь под своеобразным бытовым покровительством подруги, она не оставляет попыток наладить свою литературную жизнь.
Вдохновленная опытом Евдокии Никитиной, в 1926 году Парнок принимает участие в организации кооперативного издательства «Узел». Но у Никитиной были связи и десятки имен, в том числе политически благонадежных, в издательском портфеле… К закрытию «Узла», в котором вышли два последних сборника Парнок, приведут в 1928 году проблемы с цензурой.
В личной жизни Парнок в конце 1929 года неожиданно блеснет короткое увлечение певицей Марией Максаковой, но та, впрочем, не поймет странных желаний стареющей поэтессы.
Отвергнутая и непонятая Максаковой, Парнок, которая в литературе могла надеяться только на труд чернорабочего-переводчика, приближается к закату своей жизни.
Половину предпоследнего года жизни София Парнок провела в городе Кашине со своей случайной подругой физиком Ниной Евгеньевной Веденеевой. Обеим было под 50… Веденеева стала последней любовью Парнок – София перед смертью словно получила награду от Бога, в которого верила. Кстати, рожденная в семье, исповедовавшей иудаизм, София сознательно крестилась, приняла православие и христианскую культуру. На пороге смерти Парнок в полную меру ощутила силу любви и вновь обрела творческую свободу, которую вдохнули в нее чувства к «седой Музе» – Веденеевой.
О, в эту ночь, последнюю на земле,
Покуда жар еще не остыл в золе,
Запекшимся ртом, всей жаждой к тебе припасть,
Моя седая, моя роковая страсть!
После пребывание в Кашине остался цикл стихов – последних у поэтессы. Кашинский цикл – по общему мнению, высшее достижение лирики Парнок.
Следующим летом в разгаре своего необычного позднего романа и яркого творческого взлета «оведенеенная» чувствами Парнок умерла в маленьком русском селе недалеко от Москвы.
В ХХ веке Парнок оказалась единственной русской поэтессой, которая в полной мере и во всем многообразии отразила в своем творчестве сапфическую любовь. Лирика Софии Парнок, как отмечает исследователь ее творчества Диана Л. Бургин, представляет собой своеобразное «жизнеописание лесбийской поэтессы». Гомосексуальность Парнок «сыграла главную роль в становлении и совершенствовании того, что поэтесса называла «такой голос, как мой».
Избавивший Россию от Распутина. Феликс Юсупов (24 марта 1887 – 27 сентября 1967)
Феликс Феликсович Юсупов – последний в роду князей Юсуповых, наследник состояния, размер которого оценивался в десятки миллионов царских рублей, и… убийца старца Распутина.
Свой род, насчитывающий около 1500 лет, Юсуповы вели от Абубекира Бен Райока, первого халифа после смерти Магомета. Фамилия же «Юсуповы» пошла от имени союзника Ивана Грозного Юсуфа. Крещенный в православии Дмитрием Абдул Мирза Юсуф получил от царя Федора Иоанновича титул князя и был записан Юсуповым.
Однако же последний Феликс Юсупов, которого по семейной генеалогии называют Феликсом III, не принадлежал к наследникам по прямой линии, оборвавшейся на семье князя Николая Борисовича Юсупова.
Отец Феликса Юсупова, граф Феликс Сумароков-Эльстон, получил княжеский титул и фамилию Юсупов в браке с княгиней Зинаидой Юсуповой. Сам Эльстон, кстати, был внуком Фридриха-Вильгельма IV Прусского, правда – от внебрачного сына его с графиней Тизенгаузен.
У графа Феликса Сумарокова-Эльстона и княгини Юсуповой было два сына – старший Николай (1883-1908) – убитый на дуэли, и младший – Феликс, о котором и пойдет речь.
Формирование гомосексуальных привычек, возможно, началось у Феликса в тот самый момент, когда от выстрела на дуэли под рукой законного супруга-рогоносца пал старший из последних Юсуповых – Николай.
Известно, что среди родственных пар гомосексуальность чаще проявляют младшие из братьев. Причин тому может быть множество, но одна из них лежит в области воспитания. Оставшись единственным наследником в роду Юсуповых (второй раз за 100 лет), юный Феликс купался в семейной нежности, любви и использовал все приятные стороны вседозволенности. Впрочем, в семье он был уже четвертым мальчиком (двое умерли, не прожив и года). К тому же княгиня Зинаида, мать Феликса, так надеялась на рождение девочки, что даже сшила розовое приданое. Некоторое «огорчение» от рождения сына она позволила себе исправить тем, что до пяти лет одевала маленького Феликса, как девочку, и пыталась дать соответствующее воспитание. Мальчику доставляло удовольствие играть с бриллиантами матушки, примерять ее шикарные платья. Таинственным альковом представлялась ему материнская спальня, обтянутая голубым узорчатым шелком. «В широких горках красовались броши и ожерелья». Любимым развлечением юного Феликса стало переодевания, или так называемые «живые картины» с участием слуг в кабинете отца. Феликс нацеплял матушкины украшения и представлялся то султаном, то сатрапом…
Роскошный гардероб княгини Зинаиды остался одним из самых ярких детских впечатлений Феликса… «Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер», – многозначительно обмолвится князь Юсупов в мемуарах, написанных на французском языке в середине ХХ века.
Матушка привила Феликсу любовь к танцу и театру, что тоже было в стиле просвещенных Юсуповых, состоявших на кроткой ноге и с Вольтером, и с Александром Сергеевичем Пушкиным. Учился Феликс довольно плохо. Единственным уроком, доставлявшим ему удовольствие, был танец по выходным. Для Феликса мать – образец великосветской львицы. А вот отношения с отцом оставались довольно прохладными: между ними «всегда была дистанция». Юному Феликсу приятнее было чувствовать себя наследником знатного и богатого рода Юсуповых, упивавшегося великосветской славой, несметными богатствами и «кричащей роскошью в русском стиле с французским изяществом».
В тринадцатилетнем возрасте у Феликса случилось первое сексуальное приключение. На отдыхе в Европе в уединенной беседке курортного парка он застал аргентинца, тискающего хорошенькую даму. Возбужденный, он вновь явился в беседку, где застал ту же влюбленную пару и посмел расспросить о происходящем. На следующий день аргентинец привел его в номера и «приобщил ко взрослым тайнам». Первый интимный опыт Феликса Юсупова был бисексуальным… Он соединился с «тряпичными» увлечениями мальчика и в определенной степени сформировал в нем предпочтения трансвестита.
Переоблачение в женское из развлечения постепенно превращалось в почти физическую необходимость. Зимой 1900 года Феликс и его родственники, два брата и сестра, устроили шумный визит в знаменитый ресторан «Медведь» (по нынешним временам почти элитный гей-клуб), переодевшись барышнями – «разрядились, нарумянились, нацепили украшенья». Когда дело зашло слишком далеко и некоторые из возбужденных завсегдатаев «Медведя» захотели отправиться с переодетым Феликсом в кабинеты, визитеры, узнанные метрдотелем, с позором бежали. На следующий день отец Феликса получил счет за ресторан и остаток жемчуга с ожерелья, которое сорвал с груди его отпрыска нетерпеливый любитель юношей в дамских платьях.
Капризного и ленивого Феликса родители после провала на экзаменах в военную школу отдали в гимназию Гуревича. Но наследник, в чьих жилах билась кровь далеких предков-кочевников, не унимался – на этот раз сошелся с цыганами. Переодетый в дамское Феликс запел цыганские романсы настоящим сопрано…
В 1904 году, после того как все лето в Европе Феликс провел в женских платьях в парижских кафешантанах и досконально изучил их репертуар, старший брат, ставший к тому времени участником его гардеробных приключений, посоветовал ему выйти на сцену «Аквариума», самого шикарного питерского кабаре. Директор прослушал репертуар синеглазой «певички» и взял ее на работу. На шестое выступление интрига была раскрыта друзьями семьи, заметившими на певичке фамильные юсуповские бриллианты.
Не странно ли, что этот образ жизни – с карнавалами, переодеваниями, шутками и интригами – явился для Феликса воплощением его, если так можно сказать, материнского патриотизма. Он, юный Феликс Юсупов, был единственным наследником древнего рода Юсуповых, чья история полна скандальных подробностей. Но эта пикантная картина заключалась в столь благородную и изысканную раму подвигов, достижений, а главное – громких исторических имен и событий, что застилала своим блеском самые бесстыдные детали человеческой жизни.
Зимой 1909 года Феликс впервые встретился с Григорием Распутиным – он показался «хитрым, злым, сладострастным».
Два года князь Юсупов провел в поездках по Европе и в безуспешной попытке учиться в Оксфорде. Тем временем в Париже и Лондоне начались знаменитые Дягилевские сезоны и Юсупов больше времени поводил в театрах и на балах, чем в оксфордских аудиториях.
На осень 1912 года приходятся первые встречи Феликса с Великим князем Дмитрием Павловичем, который много слышал о «скандальных приключениях» Феликса и был впечатлен красотой юноши. Он откровенно заявил Юсупову, что хотел бы встречаться с ним. Но Феликс побоялся новых скандалов, да и Император, узнав, что его брат, склонный к гей-любви, проявляет интерес к «ославленной» персоне, запретил им встречаться.
Но встреча Феликса Юсупова и Дмитрия Романова позже все-таки состоялась. Фундаментом союза, целью которого было избавить Россию от старца Григория Распутина, стала гомосексуальная любовь двух князей.
Их связь не разрушило и соперничество Феликса и Дмитрия в борьбе за руку княжны Ирины, дочери Великого князя Александра Михайловича, о помолвке с которой Юсуповы объявили в конце 1913 года.
Когда в 1914 году молодые отправились в свадебное путешествие в Париж, из окна тронувшегося поезда Феликс «заметил вдалеке на перроне одинокую фигуру Дмитрия». С кем пришел проститься Великий князь – со своей кузиной, так и не ставшей его супругой, или с сердечным другом, встречи с которым приходилось тщательно скрывать от света?..
По возвращении из Европы Феликс занялся обустройством семейного гнезда – дворца на петербургской Мойке, в подвалах которого будет убит Распутин. «Заказаны были какие-то особые гигантские кафли для ванны; на половине Ирины устроен «фонтан слез» из уральских самоцветов». В личных комнатах Феликса был оборудован специальный подвал, напоминавший декорацию «в духе английского готического романа». Там как будто все жило предвкушением убийства.
Своему отношению к Распутину и тому, что произошло в ночь с 29 на 30 декабря 1916 года в подвале особняка на Мойке, Феликс посвятил целую книгу, которую он написал в 1927 году – «Конец Распутина». К 1916 году против Распутина восстали все государственные институты царской России – и Русская православная церковь, и Государственная Дума. Но Юсупов утверждает, что инициатива убийства Распутина принадлежала ему. Своей идеей Феликс поделился с Великим князем Дмитрием – едва ли не самым близким человеком, с которым его связывала уже многолетняя дружба-любовь. Тот пообещал поддержку…
Для того чтобы завоевать внимание Распутина, Феликс придумал обратиться к нему за помощью в лечении от «гомосексуализма». Старец пообещал вылечить и в качестве лекарства предложил оргии в компании цыган. Феликс несколько раз отказывался, но «старец» не унимался и звал его на «лечение» к цыганам. Можно предположить, что бисексуальный Распутин испытывал к Юсупову определенный род влечения. Иначе трудно объяснить ту откровенность, с которой Распутин рассказывал Юсупову о приемах и способах своего влияния на императорскую семью – если только все это не выдумано князем, чтобы оправдать кровавое убийство.
Из депутатов Госдумы помочь в устранении Распутина согласился Владимир Пуришкевич, а князь Дмитрий, осмотревший подготовленный для расправы подвал, предоставил автомобиль, на котором недобитого старца довезли до Невы и спустили в прорубь.
После убийства Феликс укрылся на квартире Великого князя Дмитрия, а утром их обоих арестовали «по приказу императрицы» на несколько дней. Ночи в ожидании решения Императора они провели вместе. На четвертый день было сообщено: Дмитрия ссылают в Персию на турецкий фронт, а Феликса отправляют в ссылку в имение Ракитное.
Там Юсупов и встретит революцию и отречение Николая II от престола.
Потом будет бегство Юсуповых в Крым и еще 40 лет скитаний вне России, но в сердце с ней.
«Часто говорили, что я не люблю женщин, - признается Феликс в дневниках на склоне жизни. – Это неправда. Люблю, когда есть за что… Но должен признаться, дамы редко соответствовали моему идеалу… По-моему, мужчины честней и бескорыстней женщин».
И еще – «меня всегда возмущала несправедливость человеческая к тем, кто любит иначе. Можно порицать однополую любовь, но не самих любящих».
Феликс проживет долгую бурную жизнь: наследство закончится, европейские дворцы и дома Юсуповых пойдут с молотка. Он умрет в 1967 году. С ним прервется мужская линия рода Юсуповых.
Безумный царь танца. Вацлав Нижинский (12 марта 1888 – 8 апреля 1950)
Ровно по середине шестидесятилетней жизни Вацлава Нижинского проходит пропасть – это 1917 год, когда в Аргентине состоялось его последнее публичное выступление. Эта пропасть делит его жизнь на две половины, которые биографам великого танцовщика и его поклонникам подчас бывает невозможно соединить. Десять лет детства, десять – учебы, десять – на вершине балетной сцены… И тридцать лет безумия во власти шизофрении, разрушающей мир вокруг.
Вацлав родился в семье польского странствующего танцовщика Томаша Нижинского, который оставил свою жену Элеонору с тремя детьми (у Вацлава были старший брат Станислав и сестра Бронислава) и завел новую. Брошенная Элеонора вернулась в Петербург, чтобы привести детей в обитель «казенной Терпсихоры» – императорскую балетную школу. Экзаменовал юного Вацлава первый танцовщик Мариинского театра Николай Легат. Внешне замкнутый и туповатый ребенок преобразился в танце и поразил всех своим прыжком – он как бы на мгновение зависал в воздухе.
20 августа 1900 года Вацлава Нижинского зачисли в балетную школу приходящим, а через два года перевели в интернат. В школе Вацлав познакомился с разными приемами мастурбации. Причем этими шалостями он занимался исключительно в одиночестве, тогда как остальные мальчики предпочитали коллективное удовольствие. Позже в дневнике «Чувства», написанном в конце 1930-х годов, когда Нижинский был давно во власти безумия, он уделил немало страниц своей ранней сексуальности, которая казалась ему пороком. С мыслями о сексуальном удовольствии обыкновенно возникает образ Дягилева, дьвола-искусителя, которого юный Вацлав полюбил, «ибо знал, что моя мать и я умрем с голоду».
Это сумрачное представление больного Нижинского не имеет ничего общего с действительностью. Уже на выпускном вечере 29 апреля 1907 года все понимали: на сцене стоит будущий танцевальный гений. Великая и всемогущая протеже Императора Кшесинская сразу же после выпускного поздравила Нижинского и заявила, что хочет видеть его в качестве партнера. Минуя кордебалет, Нижинский, не смотря на провал на экзамене по истории, начал выступать на сцене Маринки как солист. Уже к концу лета, танцуя с Кшесинской в Красном Селе в присутствии Императора Николая II, Нижинский сумел отложить более 2000 рублей (при щедром жаловании 780 рублей в год), которые не просто позволяли жить безбедно, но даже в роскоши. Популярность Нижинского позволила ему самому давать уроки, получая 100 рублей за час. В это время Дягилев, занятый своими проектами, в «Мире искусства» и постановкой «Бориса Годунова» в Париже, только появился на горизонте жизни Нижинского.
Зато другой великосветский персонаж, известный петербургский гомосексуал князь Павел Львов, был готов сделать ради своего кумира все, что угодно. Львов, приятель и покровитель Дягилева, влюбился в Нижинского на сцене, впрочем, в жизни робкий и неискушенный в однополом сексе Вацлав скоро разочаровал его. Но прежде, желая близкого знакомства, Львов устроил обед в ресторане «Медведь», излюбленном месте встречи петербургских гомосексуалов, туда и привели Нижинского после триумфальной премьеры «Павильона Армиды» Бенуа и Фокина. Куцее пальтишко Вацлава, в котором тот заявился в ресторан, на следующий же день заменила шикарная шуба… На несколько месяцев Вацлав и его семья оказались в золотой клетке, так как Львов оплачивал все его счета. Нижинский перевез мать в новую квартиру, а сам проводил ночи у Львова. Но интерес князя остыл, и Вацлав пошел по рукам… Однако Павел Львов остался первым мужчиной, которого, судя по всему, Нижинский любил, переживая разрыв.
Именно Львов в декабре 1908 года познакомил Нижинского с Дягилевым. И эта встреча двух любовников перевернула представление о классическом балете. Львов представил Нижинского «чиновнику по особым поручениям при театре» во время антракта одного из представлений в Мариинском театре. На первую встречу тет-а-тет с Дягилевым Вацлав отправился в отель «Европейская гостиница», где жил Сергей. Тогда же состоялась и попытка заняться сексом, которая, по словам Нижинского, «оказалась не очень успешной».
Спустя несколько месяцев, Дягилев решил везти русский балет на запад. Перед биографами Нижинского встает вопрос, когда пришло это решение к выдающемуся «антрепренеру» (возьмем это слово в кавычки, так как Дягилев не выносил его) и кто подсказал ему эту, казалось, невероятную идею. Ромола Нижинская, будущая жена Вацлава, уверяет, что инициатором «Русских сезонов» был Нижинский. Это кажется невероятным, ибо молчаливый и полуобразованный Вацлав чувствовал себя уверенно только на сцене и в постели Дягилева. На самом деле впервые о представление русского балета в Париже Дягилев заговорил еще в 1906 году. А реальные очертания в виде сметы и предварительной афиши проект обрел еще до встречи с Нижинским – в июне 1908 года.
В начале мая 1909 года состоялся отъезд русской труппы в Париж. Нижинский проследовал в купе Дягилева, поезд тронулся, очередная золотая клетка захлопнулась почти на десять лет вперед.
18 мая со сцены театра Шатле сошел новый гений танца. Французы долго ждали появления на сцене именно мужчины, которого с некоторых пор вытеснили с парижских подмостков танцовщицы-травести. Пресса заговорила о «чуде мужского танца», воплощением которого был Нижинский. Мужской эротизм, несомненно, явился своеобразным катализатором совершения этого чуда. Понимали ли Нижинский и Дягилев то, что позволяет воспаленным умам со времен выступления Нижинского на парижской сцене твердить о «сговоре гомосексуалистов», соблазнивших публику мужскими чарами?.. В этом есть своя правда, и она заключается в том, что, разумеется, парижские гомосексуалы во главе с Жаном Кокто, ставшим другом Дягилева, были в восторге от экспериментов Нижинского. Но «мужской эротизм» Нижинского содержал в себе лишь самую незначительную толику маскулинности. Движение к воплощению мужского начала в танце шло через размывание границ пола. Нижинский, в котором Фокин отмечал «полное отсутствие мужественности», как нельзя лучше подходил на роль разрушителя традиции. Да и костюмы Нижинского – ленточки, цветочки, нити жемчуга на шее – скорее были воплощением андрогинности. Последнее, кстати, отчасти соответствовало и интимным отношениям Сергея, который выступал в сексе в активной позиции, с Вацлавом, полностью подчинявшимся своему протеже. Нижинский, полный комплексов, переживал свою пассивную роль, хотя она была освоена им еще во время связи с князем Львовым. Но даже в своих «безумных дневниках» «Чувства» он предпочел соврать: «Много раз Дягилев просил, чтобы я любил его, как будто бы он был женщиной».
У успеха в Париже была одна обратная сторона, которая угнетала хрупкую психику Нижинского, – слава распахнула перед ним двери самых неприступных домов, но он по-прежнему чувствовал себя уютнее в одиночестве. Сергей же старался оживить внимание Вацлава интересом к светской жизни через ее внешний блеск. Более всего его интересовало образование любовника: они посещали концерты, спектакли, музеи, Дягилев открыл для своего протеже французскую живопись, особое впечатление на Нижинского произвели картины Гогена.
Вернувшись на новый сезон в Мариинку, Нижинский, ощутил вкус к свободному танцу, нехотя танцевал «классический» репертуар и все чаще сказывался больным, когда в афише назначали спектакли Фокина. Дело в том, что ему уже давал уроки танцовщик-гротеск Энрико Чикетти, который во многом предвидел поэтику модерна в танце.
Спустя год, летом 1910-го, Нижинский, повторив свой успех на сцене в Париже и в Берлине, вернулся в Россию, где уже не мог танцевать, как того требовали старые каноны, и впервые задумался о том, чтобы попробовать себя в хореографии. Нижинский сделал нечто, «выполненное в стиле движущегося греческого фриза». Дягилев подобрал музыку – «Прелюдию к «Полуденному отдыху фавна» Дебюсси, ставить балет взялся Фокин…
Но и этот балет, и феерическое будущее Нижинского так и остались бы в проектах, если бы не его дерзкий жест в «Жизели» на сцене Маринки. Вацлав решил танцевать без обязательных «штанов». Публика решила, что Нижинский вышел на сцену обнаженным. На следующий день Нижинский был уволен из императорского театра, а Дягилев смог наконец создать свою труппу, чтобы отправиться в Европу и окончательно покорить Запад русским балетом – за Парижем последовали Лондон, Берлин, Вена, Будапешт...
«Полуденный отдых фавна» будет поставлен самим Нижинским в 1912 году. И тоже обернется скандалом. Изображая фавна, развлекающегося с шарфом нимф, Нижинский повторит движения, которые были ему хорошо знакомы по мгновениям одинокого удовольствия, – сымитирует мастурбацию в танце. Полиция нравов тут же запретит спектакль, но вторая премьера все же состоится…
Прозрачный эротический жест на сцене подтверждает, насколько важной казалась Вацлаву его скрытая от широких глаз сексуальность. После «Фавна» Нижинский стал единственным хореографом труппы Дягилева, поставил «Весну священную» и «Игры». Но публика не поняла новаторства Нижинского. Вскоре его союз с Дягилевым стал трещать по швам. Причиной конфликта послужили деньги и секс. Пассивная позиция в сексе была навязана Вацлаву его первыми любовниками. Обладая пенисом внушительного размера, Нижинский всегда хотел быть активным и часто возбуждался от самофелляции. В течение всего романа с Дягилевым он постоянно изменял ему с женщинами только для того, чтобы доказать себе свою мужественность.
Что касается денег, то Вацлав никогда не получал больших сумм на руки, в течении десяти лет между ним и Дягилевы не было даже договора.
Разлад завершился неожиданным браком Нижинского на венгерской подданной Ромоле фон Пульски. Скорость и внезапность этого брака напоминают стремительный союз Чайковского и Милюковой. Когда Вацлав и Ромола решили пожениться, они даже не могли общаться друг с другом, так как не знали ни одного общего языка. Долгое время Вацлав не решался вступить с Ромолой в сексуальные отношения…
Нижинский не очень хорошо понимал все последствия своего решения: Дягилев порвал с ним все отношения, а сам он вскоре оказался во власти шизофрении, которая полностью овладела им к 1917 году.
В полубреду Вацлав прожил еще три десятилетия, иногда ненадолго возвращаясь в реальность, чтобы рисовать странные геометрические глаза и писать еще более странную книгу. Попытки вывести его из шизофренического бреда предпринимали и простивший измену Дягилев, и Сергей Лифарь, но более всего Ромола, которую подозревали в том, что она вышла за Вацлава из корыстных побуждений. Было ли это так, не известно, но всю жизнь Ромола и две ее дочери хранили верность мужу и отцу и не раз спасали его от неминуемой гибели в годы первой и второй мировых войн.
Нижинский переживал свою гомосексуальность не так, как, например, Чайковский, – под гнетом общественного мнения… А исключительно по причине своих внутренних психологических комплексов.
Вацлав Нижинский прожил жизнь вне рамок общества – в золотой клетке танца, в которую сам заточил себя, полностью отдавшись искусству. А также за стеной любви и внимания – их ему дарил князь Львов, но более всего Сергей Дягилев. Наконец, болезнь навсегда отгородила его от мира, где у него никогда, с самого детства, не было ни друзей, ни товарищей, а только один-единственный любовник и наставник, от которого он всегда норовил сбежать к парижским проституткам… Но главным его другом, разумеется, был танец, его неповторимый прыжок, символизировавший новаторское движение Нижинского.
«Радость, как плотвица быстрая...». Рюрик Ивнев (23 февраля 1891 – 19 февраля 1981)
Поздней осенью 1911 года на пороге квартиры Александра Блока появился студент юридического факультета Петербургского университета Михаил Александрович Ковалев. Он принес поэту конверт с маленьким коллективным сборником «В наши дни», несколькими вырезками из революционных газет и рукописями. Знаменитый символист запомнил студента Ковалева с «честными, но пустыми глазами…» Уже тогда из глаз поэта Рюрика Ивнева все выжгло пламя его поэзии.
В 1910 году вместе с неким П. Эссом (быть может, это был сам Ковалев) Ивнев издал совершеннейшую ахинею под названием «У Пяти углов; Диалог; Взлет 1». А потом начнут выходить, если судить по названиям, не книги стихов, а какие-то пиротехнические пособия – «Пламя пышет» (1913), «Золото смерти» (1916), «Солнце во гробе» (1921) и, конечно, три «Самосожжения» (1913, 1915, 1916), с которых все – в литературе и в жизни – и начиналось у Рюрика Ивнева...
Михаил Александрович Ковалев родился в семье высокопоставленного царского чиновника. Отец его, офицер русской армии, юрист по образованию, некоторое время был губернатором, потом служил помощником прокурора Кавказского военно-окружного суда, ушел из жизни, когда мальчику едва исполнилось три года. Мать воспитывала Мишу и его старшего брата одна. Чтобы дать детям образование, она вынуждена была искать работу: удалось получить место начальницы женской гимназии в городе Карсе.
Революция 1905 года застала Михаила в Тифлисском военном корпусе. Окончив кадетское училище, он решает пойти по стопам отца-юриста и оказывается в Петербурге, в интимных салонах которого – на «Башне» Иванова, на собраниях у Мережковских… – текла в то время литературная жизнь.
В 1913 году Ковалев уже среди постоянных посетителей литературного кафе «Бродячая собака». Там часто бывали, например, Михаил Кузмин, а также «два Жоржика» – Георгий Адамович и Георгий Иванов, как всегда – под ручку... В 1915 году вместе с сыном Константина Бальмонта Николаем он посещает салон жены романиста Федора Сологуба Анастасии Чеботаревской. На всех этих собраниях атмосфера была просто-таки пресыщена разнонаправленной сексуальностью, поэты – известные и не очень – блистали художественными идеями. И Ковалев, постепенно превращавшийся в Ивнева, задумался придумать свою… Такой оригинальной поэтической метафорой на целых десять лет творчества, до начала 1920-х годов, станет для Ивнева идея «самосожжения».
…В мартовскую петербургскую оттепель через несколько дней после февральской революции Ивнев встретит Сергея Есенина с Николаем Клюевым и еще каким-то поэтом – «резвого, звучного, золотого и загадочного в своей простоте и своей затаенности». Эта есенинская солнечность почти совпадет с «самосожженческими» желаниями Ивнева, и он сразу же влюбится в поэта.
«…И тогда, и потом, и теперь ты возбуждал во мне самые разнообразные чувства… тебя нельзя не любить», – напишет Ивнев, обращаясь к Есенину, в 1921 году в критической книге «Четыре выстрела в Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича». Книжечка, сочиненная, кстати, чуть ли не по заказу самого Сергея Есенина, стала запоздалым объяснение в любви к «соломенному гению» и «критической телеграммой» о разочаровании в дружбе – творческой и личной – ко всем остальным имажинистам…
Тогда, в 1921 году, Ивнев очень легко охарактеризовал путь Есенина, который поэт прошел на его глазах, – это путь из-под «крылышка» Гиппиус и Философова под ручку с Клюевым. В этой характеристике сквозили творческая и личная ревность одновременно.
В «Четырех выстрелах…» Ивнев рассказывает, за что бы он хотел расстрелять – сжечь – своих приятелей-имажинистов. Но совершает лишь один прицельный выстрел – в того, кого «любит невероятно сильно», до «жуткости близкую» «бархатную лапку с железными коготками», – Сергея Есенина. Огонь льнет к огню – «кудрявому, как будущая Россия, загадочная Р.С.Ф.С.Р., полная огня и фосфора». Разумеется, пиромания Ивнева как метафора воплощала то, что происходит в стране, – пожар революции в буквальном смысле был пламенем, в котором сгорало все – барские усадьбы, книги… наконец, судьбы людей. У Ивнева сгорает, прежде всего, тело, «…познав все скрытое и скрытую любовь». Эта идея прозвучит в последнем стихотворение сборника «Самосожжение».
Одними она будет понята буквально (как психическая пиромания и однополый садомазохизм), других озадачит – Максим Горький, например, иронично называл Ивнева лидером секты, который погубит своих детей, а сам сбежит. И в определенной степени случилось именно так. Из имажинистов – чуть ли не лидером которых Есенин назначит Ивнева – сталинские времена переживет только он.
Но вернемся к поэтическому выстрелу в обожаемого Ивневым Есенина – только в Есенина, потому что все остальные оказались осечками – выстрел в «лицемерного» Кусикова это выстрел в никуда: «он уже далеко», в Мариегофа – это пальба в «зеленых облаков стоячие пруды», а в Шершеневича Ивнев вообще отказывается стрелять…
Безусловно, поэтический выстрел в Есенина был для Ивнева своеобразным объяснением в любви. И Есенин, способствовавший написанию книги и ее изданию, об этом прекрасно знал. Но «самосожжение» для Ивнева – все-таки не только жест поэтический, так как в ту эпоху было не принято разделять идеи и дела. Напомним, что Ивнев дружил с поэтом и гомосексуалом Иваном Васильевичем Игнатьевым-Казанским (1892-1914), который стал первым издателем его книг. Он, один из лидеров эгофутуризма, и заговорил в своих статьях об идее самоуничтожения в гомосексуальной любви: «Интуит становится трагиком, и тем трагичнее его судьба, что он идет на самосожжение во имя «Ego». Здесь очень интересна игра слов – «Эго» или все-таки «Его»? Эту игру Игнатьев разрешил в жизни. В конце 1913 года он издал сборник, так сказать, эксбиционистских стихов «Эшафот» с подзаголовком «Любовникам посвящаю», в посвящениях смело указав имена любовников... А 2 февраля 1914 года Рюрик Ивнев сидел на свадьбе Игнатьева. Молодожен налил всем шампанского, поцеловал невесту, вышел в спальню и бритвой перерезал себе горло.
Ивнев и сам устраивал такие вот смертельно-любовные игры с мужчинами, которые ему нравились. Одно время среди знакомцев Ивнева значился музыкант и журналист Всеволод Леонидович Пастухов, который рассказывал, как «в одну из ночей, когда мы были вдвоем, и уже много было выпито и переговорено, с Рюриком случилась внезапная перемена. Он посмотрел на меня полусумасшедшим взглядом и сказал: «Ты такой хороший, и я боюсь, что тебя испортит жизнь. Я хочу теперь, сейчас же убить тебя».
Пастухов подумал, что это всего лишь шутка, и ответил: «Что же, это хорошая мысль». Ивнев тем временем выхватил револьвер и навел его на Всеволода. «Было что-то в его нервно подергивающемся лице, что вдруг меня испугало, но я равнодушным голосом сказал: «Рюрик, бросьте ваши глупые штучки. Вы меня своим незаряженным револьвером не напугаете». Но в это мгновение раздался выстрел, и Пастухов почувствовал, как пуля просвистела мимо его виска…
Ивнев так напугал юношу, что тот перестал встречаться с ним и отвечать на телефонные звонки.
Так что «Четыре выстрела…» доказывают: Ивнев просто-таки обожал Есенина – и не только в качестве поэта. Огонь в орудии убийства должен был уничтожить эту любовь. В одном из поэтических сборников Ивнева «огненной серии» под названием «Пламя пышет» (1913) звучит призыв к божественному огню – «…дорогой, изумительный Боже, // Помоги усыпить мне любовь». Или вот, например, откровенный садомазохизм:
Что может быть лучше крика грубого.
И взмаха плетки, и вздоха стен?
Поцелуй – укус в губы,
Мимолетный, перелетный плен…
На 1918-1921 годы приходится время наиболее активных отношений Ивнева с Есениным, вместе они устраивают литературные вечера, вместе собираются за границу. Но Рюрик, узнав об установлении советской власти в Грузии, едет на Кавказ…
Сергей и Рюрик познакомились в 1915 году на литературном вечере в Петербурге. В антракте к Ивневу подошел «хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной» юноша. «Вот таким голубым он и запомнился мне на всю жизнь», – напишет в мемуарах Ивнев. Эти записки проникнуты ревностью ко всем, кто претендовал на внимание Есенина, особенно пристрастны они по отношению к женщинам – Зинаиде Гиппиус, Асейдоре Дункан, претенденткам на место жены – Толстой или Шаляпиной, протягивавшим к Есенину свои «щупальца». Через пару недель после встречи очарованный Ивлев устроил вечер Есенина в шикарной квартире родителей своего приятеля Павлика Павлова. Но до этого он безвылазно провел несколько дней в полуподвальной комнате Кости Ландау – «лампе Алладина», где Есенин читал им свои стихи.
Вскоре Есенин и Ивнев обменялись поэтическими посланиями… Позже Ивнев рассуждал о том, как, попав под личное обаяние Есенина, он почти избежал его литературного влияния. «Может быть, это произошло потому, что где-то в глубине души у меня тлело опасение, что если я сверну со своей собственной дороги, то он потеряет ко мне всякий интерес…» Не просто тлело, а полыхало, грозило «самосожжением в любви».
В годы октябрьского переворота Ивнев едва не поделил Есенина с Клюевым… Но к 1919 году наметилось сближение Есенина, Мариенгофа, Шершеневича и Ивнева – так появились имажинисты. В январе 1919-го Есенину пришла в голову мысль создать «писательскую коммуну». Для нее выхлопотали квартиру в Москве в Козицком переулке. Основателями коммуны стали Есенин и Ивнев. У каждого была своя комната, но уже на «открытии» Ивневу пришлось перебраться на кровать Есенина. Впрочем, на его койке уже кто-то был… Не вынеся суровых условий теплого дома (там – редкость по революционным временам – было отопление), Ивнев вернулся в ледяное одиночество своей комнаты в Трехпрудном переулке. А Есенин, смущенный быстрым исчезновением своего верного коммунара, написал посвященный Ивневу и единственный во всем его творчестве акростих – «Радость, как плотвица быстрая...»
В 1920 году, вернувшись в Москву после поездки по России, Ивнев встретил Есенина и Мариенгофа в большом зале консерватории – «они сбегали с лестницы, веселые, оживленные, держа друг друга за руки…» Есенин и Мариенгоф жили тогда вместе и содержали небольшой книжный магазинчик, за прилавком которого периодически появлялись. Ивнев стал целыми днями пропадать в магазинчике, манкируя работой у Луначарского. Магазин Есенина он называл своим вторым домом. Издать новую книгу стихов Ивлева предложил именно Есенин – это был сборник «Солнце во гробе», следом появились «Четыре выстрела»…
«Продолжая жить с Мариегофом, Есенин и я все более сближались… но третьему здесь не было места…», – напишет спустя сорок лет, в конце 1960-х, Рюрик Ивнев. И, действительно, Рюрик третьим не стал. Место в сердце «голубого» поэта было занято Мариенгофом. Впрочем, нужно отдать должное Ивневу: несмотря на явную неприязнь к Мариенгофу, он никогда не стремился его опорочить. И даже вступился за него в мемуарах, защищая от тех, кто уверял, что Мариенгоф сознательно спаивал Есенина, пытаясь таким образом привязать поэта к себе…
Конец 1920-х годов Ивнев провел на Дальнем Востоке, работал во владивостокском издательстве, потом в Петропавловске-Камчатском – корреспондентом журнала «Огонек». В начале 1930–х возвратился в Грузию. Жизнь в провинции, возможно, и спасла его от сталинского террора. Ивлев много переводил грузинских, осетинских и азербайджанских поэтов. Во время Великой Отечественной войны был журналистом в газете Закавказского военного округа «Боец РККА».
В 1950-м вернулся в Москву, предварительно переведя на русский язык несколько здравиц в честь «усатого диктатора». «Песня о Сталине» Дмитрия Гулиа в его переложении издавалась более десяти раз.
В конце 1960-х засел за мемуары. Удивительно, что все эти истории – о Кузмине, Клюеве, Хлебникове, Мандельштаме, Есенине, разбавленные воспоминаниями о политически благонадежных Горьком, Луначарском, Маяковском и других, – печаталась в начале 1970-х в советских издательствах.
Сам Ивнев написал много «идеологически правильных» стихов, но в его квартире в Москве по-прежнему собирались осколки большого серебряного зеркала, разбитого террором века.
После смерти писателя остался немалый архив: около 1000 неопубликованных стихотворений, десятки рассказов, повестей, романов, воспоминаний… Не переиздавались вот уже почти век его ранний роман о «противоестественной любви» матери к пасынку «Несчастный ангел» (1917), одним из героев которого стал Гришка Распутин, а также трилогия о жизни русской богемы начала XX века – «Любовь без любви»…
«…Неистовый источник ересей». Марина Цветаева (26 сентября 1892 – 31 августа 1941)
В сорок четыре года вдовец Иван Владимирович Цветаев, на руках которого были маленькие дети Андрей и Валерия, второй раз сочетался законным браком – взял в жены двадцатидвухлетнюю девушку пианистку Марию Александровну Мейн. Почти ровно через год после венчания, в конце сентября 1892 года, Мария родила девочку – Марину.
Радость рождения была омрачена разочарованием юной матери – она ждала мальчика и даже придумала ему имя – Александр. К тому же колыбель да пеленки грозили оторвать Марию Мейн от главного в жизни – музыки. Поэтому едва дети (в 1894-м на свет появилась младшая дочь Анастасия) подросли, матушка передоверила их гувернанткам, взяв под свой пристальный контроль лишь одно – музыкальное образование. Но часы за гаммами у рояля останутся самыми неприятными воспоминаниями детства, а отвращение к игре (не к музыке, а именно к музицированию) будет преследовать Марину всю ее жизнь. И хотя исполнительское мастерство девочка осваивала довольно быстро, к семи годам в ее жизни произошло открытие, которое все больше уводило от звуков, извлекаемых музыкальным инструментом, в сторону звуков и образов литературной речи.
Складывание слов в рифмы в четырехлетнем возрасте, казавшееся матери детской забавой, со временем превратилось для ребенка в необходимость. Открытие слова, восторг пред музой Пушкина (Марина «влюбилась в Онегина и Татьяну… в Татьяну немножечко больше») – все это совпало со странной любовью Марины к старшей сводной сестре Валерии.
Мать пыталась пресечь «бумажную страсть» дочери, прятала бумагу и письменные принадлежности, полагая – нет бумаги, нет и стихов. Но стихи жили, заполняя пространство маленькой Марины. С походами в гимназию на Садово-Кудринскую в ее жизнь пришла старая Москва. Стены уютного отцовского дома на Трехпрудном расширились за пределы Садового кольца.
В 1902 году у Марии Александровны Мейн стал стремительно развиваться туберкулез. Лечение за границей, куда переехала семья, не помогло. Странствия по курортам закончились смертью матери в июне 1906 года. Последовало возвращение в Москву.
Марина продолжила обучение в гимназии фон Дервиз, откуда была исключена в 1907 году. В 16 лет, заявив, что собирается продолжить во Францию, она отправилась в Париж. Новые впечатления торопились воплотиться в стихи… Принимая такие самостоятельные решения, к 1910 году Марина полностью вышла из-под влияния отца.
Под впечатлением юношеской влюбленности в поэта Владимира Нилендера, восемнадцатилетняя Марина решается привлечь его внимание книгой своих стихов и издает на деньги отца, знаменитого основателя Русского музея, свой первый сборник «Вечерний альбом». Рассылает его в редакции литературных журналов. На книжку последовало невероятное для поэтической премьеры количество откликов – Валерия Брюсова, Ильи Эренбурга, Николая Гумилева и Макса Волошина.
Так легко Марина вошла в литературное пространство «серебряного века». Спустя несколько дней к ней в Трехпрудный явился с комплиментами Макс Волошин, она заявила отцу, что гимназия ей – поэтессе – ни к чему и оставила учебу. Именно у Волошина в Коктебеле она встретит своего избранника Сергея Эфрона. Они обвенчаются в январе 1912 года. В этом же году выйдет в свет сборник Цветаевой «Волшебный фонарь» и увидит свет первая дочь Марины – Ариадна…
Семейную идиллию Цветаевой разрушит встреча с Софией Парнок. Знакомство Марины и Софии состоялось глубокой осенью 1914 года в доме подруги Парнок переводчицы Аделаиды Герцык. В это время Парнок была более известна как открытая лесбиянка, чем поэтесса. Ну, может быть, благодаря публикациям в петроградских изданиях она заработала известность критикессы.
Связь Марины и Софии была первым опытом физической лесбийской любви для Цветаевой. Но Марина ждала большего, а «это было только физическое». В сознании Цветаевой не укладывалась возможность подобного расщепления любви. Физическая привязанность не могла, это следовало из чувственного опыта Цветаевой, иметь только плотское олицетворение. Для опытной же лесбиянки Парнок все было гораздо проще с пониманием эмпирического воплощения чувства.
Около полутора лет Парнок и Цветаева были лесбийской парой. Они вместе посещали литературные вечера и салоны. «Обе сидели в обнимку и вдвоем, по очереди, курили одну папироску» (П.Сувчинский). Пик их романа приходится на весну-лето 1915 года. Цветаева оставила ребенка с гувернанткой и отправилась с Парнок сначала в Коктебель, а затем в Святые Горы в Малороссию, в Ростов Великий…
В конце 1915 года Цветаева после недолгого пребывания в Москве вновь оставила семью и поехала с Парнок в Петроград, где София своим волевым решением ввела Марину в число редакторов «Северных записок», журнала левого толка, издававшегося состоятельной русско-еврейской семьей – Яковом Сакером и его бисексуальной женой Софией Чайкиной. Новый 1916 год Марина с Софией также встречали в Петербурге у Сакера и Чайкиной.
В начале января Михаил Кузмин организовал в доме кораблестроителя Акима Каннегисера вечер, на котором Цветаева с успехом прочла свои стихи. На собрании присутствовал широкий круг питерских гомосексуалов во главе с Кузминым, а также Осип Мандельштам (ему Марина симпатизировала и не стеснялась кокетничать) и Сергей Есенин… После этого вечера между Софией и Мариной произошел разрыв. Парнок в дом Каннегисера не поехала, сказавшись больной, но пообещала дождаться Марину с впечатлениям. Цветаева торопилась к приболевшей, а потому ушла с вечера раньше срока, не выслушав музыкальных упражнений Кузмина. Вернувшись, она обнаружила, что София спит.
На утро случился ставший обычным для Марины и Софии скандал. Марина немедленно вернулась в Москву, надеясь, что София сделает все, чтобы восстановить отношения. Но через месяц, устав ждать примирения, она сама поспешила к Парнок и обнаружила у постели больной поэтессы другую женщину.
Своенравной Марине была нанесена жестокая обида, о которой она не забыла до конца дней, превратив свой скоротечный роман в цикл стихов «Подруга».
Ожесточение против Парнок осталось навсегда… Она никогда не отказывала себе в удовольствии при случае устно и в письмах посылать в бывшую любовницу, «о смерти которой теперь не пожалела бы ни секунды», стрелы колкостей.
Как будто в отместку Соне, так ласково она называла Парнок, в качестве своей второй любовницы Марина выбирает… Сонечку. Теперь уже она чувствует себя «старшей сестрой» и наперсницей юной Сонечки Голлидэй, подающей надежды актрисы второй студии Художественного театра. Познакомились они в первой половине 1919 года. Марине было 27 лет, а «маленькая девочка, «живой пожар» была на четыре года младше подруги. История их любви описана Цветаевой в «Повести о Сонечке». Ей же был посвящен цикл 1919 года «Фортуна», для нее написаны роли в пьесах «Приключение», «Каменный ангел», «Феникс» и «Фортуна».
Но любимая Сонечка поступила еще более неожиданно, чем «на время» оставленная Мариной Соня. После гастролей по провинции, откуда она писала Марине трогательные, полные любви письма, Голлидэй просто больше никогда не зашла к Цветаевой.
На внезапный разрыв Марина ответила с удивительным равнодушием. И «Повесть о Сонечке» села писать только летом 1937 года, когда письмо от Ариадны принесло ей весть о смерти Голлидэй – она умерла от рака двумя годами раньше в Новосибирске (там едва вспыхнувшая звезда МХАТа играла травести).
Некоторые исследователи жизни и творчества Цветаевой и Парнок приводят факты возможного продолжительного романа Парнок и Голлидэй. Возникла эта связь двух Сонечек до встречи Парнок и Цветаевой или уже после, неизвестно. Но Цветаева невольно обвенчала своих таких разных любовниц все в той же «Повести о Сонечке» и в «Письме Амазонке».
«Письмо к Амазонке», написанное Мариной Цветаевой в 1932 году, стало своеобразным эссе об уничтожении в себе лесбийской любви.
Любовь к амазонке, которую теперь предстояло развенчать, Марина испытала еще в юности. Это была «любовь с первого взгляда» к амазонке Пенфесилее. Всего лишь гипсовому слепку с античной скульптуры в Германии – образу могучей, мужественной девы-воительницы, воплощающий тот тип женщины, к которому Цветаеву влекло всю жизнь.
Позже, с появлением с Сонечки Голлидэй, Марина наконец сама идентифицирует себя с этой воинственной амазонкой.
В эмиграции Цветаева посетит несколько вечеров известной феминистки Натали Клиффорд Барни и будет обсуждать с ней темы лесбийской любви. Полемике с Барни и идеям, изложенными в ее книге «Мысли Амазонки» (1920), как раз и посвящено «Письмо к Амазонке», где можно заметить некоторые элементы лесбофобии… «По Цветаевой тотальная трагедия лесбийских взаимоотношений заключается в невозможности иметь ребенка, зачатого обеими, общего ребенка», – отмечает искусствовед и исследователь лесбийской субкультуры России Ольга Жук.
Впрочем, нельзя оставлять в стороне и тот аспект критики лесбийских отношений в «Письме к Амазонке», в котором есть отголоски личной неприязни Цветаевой к Барни. Она обещала помочь Цветаевой с публикацией ее сочинений во Франции, но в итоге потеряла ценную рукопись. По справедливому мнению Дианы Л. Бургин, «Письмо…» Цветаевой адресовано сразу двум обманувшим ее чувства реальным амазонкам – Натали Барни и Софии Парнок. Тем более что черты сходства любовной истории «Письма к Амазонке» с взаимоотношениями Марины и Софии очевидны. Но, предрекая в «Письме…» смерть старшей женщины – «одинокой» и «гордой», Цветаева обрекала себя на еще большее, почти вселенское одиночество, о котором она, сочиняя письмо, еще вряд ли подозревала.
Эти неестественные для художника одиночество и страх («Не осталось ничего, кроме страха за Мура (сын Цветаевой)») охватят ее в эвакуации в августе 1941 года. Отправив к соседям шестнадцатилетнего Мура, она запечатает в конверты три письма и повесится у выхода из старой избы, в которой им предстояло жить.
Марина Цветаева, чье творчество, преданное забвению после ее смерти, в полной мере вернулось к российскому читателю только с начала 1990-х годов, в сущности, всегда любила женщин. Она была лесбиянкой, в ее жизни романы с мужчинами становились лишь способом мести неверным «подругам».
Мир творчества Цветаевой насквозь пропитан гомоэротическими желаниями и движется навстречу однополому сексу. Но талант Цветаевой был гораздо шире того пространства, которое можно было осмыслить в границах лесбийской сексуальности. Да и сама Марина, называвшая себя «…неистовым источником ересей», вышла за пределы одной только лесбийской традиции. В отличие, например, от Софии Парнок, которая сознательно выбрала путь первой и самой последовательной лесбийской поэтессы «серебряного века».
«Милый мой, ты у меня в груди…». Сергей Есенин (3 ноября 1895 - 28 декабря 1925)
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди…
Эти последние есенинские стихи, написанные кровью накануне его гибели, всегда вызывали вопросы. Точнее, не стихи даже, а история их появления. Помимо катастрофической обстановки – пьянство, одиночество, безденежье… – они оказались единственной «уликой» самостоятельности ухода поэта. Недоверие к ним возникает и потому, что отданы эти пронзительные строки (между делом сунуты в карман пиджака) какому-то двадцатитрехлетнему еврейчику Вольфу Эрлиху. Как-то не укладывается все это в глянцевую биографию поэта, главными темами лирики которого будут объявлены религиозность и любовь к женщине (как вариант – родине-матери). И вдруг у национального гения не оказывается в Петербурге никого ближе желторотого сотрудника НКВД…
Вольф Эрлих – последний спутник Есенина, который, забыв обо всем, стал слугой поэта весной 1925 года. С Есениным Эрлих познакомился, когда был объявлен призыв в имажинисты – движение поэтов, придуманное Есениным вместе с его другом Анатолием Мариенгофом. Никакой теоретической основы, кроме того, что образ – «imag» (иностранное слово предложил образованный Анатолий) был провозглашен самоцелью творчества, в появлении имажинистов не было. Просто создание группы позволяло в начале 1920-х заниматься литературной коммерцией. Мариенгоф с Есениным открыли свой книжный магазинчик, кафе «Стойло Пегаса» и небольшое издательство. Вместе вели дела, стояли за прилавком, подсчитывали прибыль в поэтическом кабаке… Но, впрочем, вернемся к Эрлиху.
Эрлих в то время жил на квартире Александра Михайловича Сахарова, одного из обожателей Есенина. Он, кажется, даже продал граммофон, чтобы купить бумагу и издать есенинского «Пугачева». Там они и встретились… С юным Эрлихом Есенин быстро сдружился. В начале 1920-х ему нравилось быть наставником у молодых поэтов. «Есенинские птенцы» – так называли современники молодых людей, которые, по словам С. Виноградской, «являлись не только его учениками, но и необходимыми атрибутами его личной жизни». Для Есенина, помимо разных бытовых удовольствий, это был еще и признак его поэтической значимости. Поэтический эгоцентризм проявлялся во всем – Есенин не терпел критики и непонимания, только если это не было организовано им самим – например, демарш с выходом из имажинистов Рюрика Ивнева или первые работы Крученого, ставшего после смерти Есенина его литературным могильщиком. Еще не отяжелеет земля на свежей могиле поэта, а он уже напишет несколько книг о «нравственной» неизбежности «самоубийства» Есенина – пропойцы и развратника.
«Женщин в этом мире хороших – до черта. А на меня одна шваль скачет», – говорил Сергей Есенин Эрлиху. Но Вольф, или, как его по-русски называл Есенин, – Вова, все-таки посвятил свою единственную книгу о Сергее Есенине «Право на песнь» одной из этой «швали» – Галине Артуровне Бениславской…
Несмотря на бесконечные связи с женщинами, среди друзей у Есенина были исключительно мужчины, которые, как мы уже сказали, являлись не столько соратниками или спутниками в творчестве, сколько просто сожителями, с которыми он делил кров и постель. Конечно, в послереволюционное время в Москве гораздо легче было выживать вместе. Но для Есенина присутствие верного друга, с которым ты делишься всем и отдаешь ему больше, чем получаешь сам, было, судя по всему, едва ли не физиологической необходимостью.
Скорее всего, это был отголосок деревенского детства, общинного сознания рязанского крестьянина: «Артельный он был парень, веселый, бедовый, много друзей имел. Соберутся ватагой – и за Оку, в луга…» Первое соприкосновение с однополой сексуальностью произошло, вероятно, в самом раннем возрасте.
Образование Есенин получил в церковно-учительской школе в Спас-Клепиках. В Константинове была только начальная школа. В Клепиках Сергей поселился в интернате в комнате с мальчиками из всех окрестных школ. Обстановка в подобного рода замкнутых подростковых коллективах, как правило, располагает к гомосексуальным играм. Более ничего определенного о сексуальности юного Есенина сказать нельзя. Разве только то, что было в стихах… Но пока это все исключительно гетеросексуально, как, например, конец стихотворения про «…Алый цвет зари» и зацелованную допьяна и измятую, как цвет, которое народ закономерно допишет так:
И уже не девушкой ты придешь домой,
А вернешься женщиной с грустью и тоской.
Тем не менее, в интернате он почти влюбился в болезненного Гришу Панфилова. Мальчики проводили вместе все свободное время, а родителям Панфилова Сережка стал за второго сына. Письма Панфилову, умирающему от чахотки, пожалуй, самые проникновенные у Есенина.
Что было дальше? Дальше был побег в Москву от отца, объявившего стихи пустым занятием. Увлечение социал-демократией, лекции в Народном университете Шанявского, странном учебном заведении, которое могло дать лишь самое поверхностное образование. Первый брак – на А. Р. Изрядновой (на 4 года старше Есенина). В 1914 году Есенин сотрудничал в журнале «Друг народа», но разошелся взглядами и уехал в Петербург. Жену оставил в Москве, с ребенком, и больше не вспоминал о них.
В марте 1915-го Есенин отправился напрямик в квартиру Блока – почти повторил маршрут Николая Клюева четырехлетней давности. Блок порекомендовал Есенина Сергею Городецкому, бисексуальность которого общеизвестна. Напомним, что он был одним и завсегдатаев вечеров Гафиза у Иванова и Аннибал. Случилась однажды короткая влюбленность Вячеслава Иванова в Сергея Городецкого. Еще любил Городецкий беглые поцелуйчики и ласки. Подробные описания таких эротических игр, которые сегодня бы назвали петтингом, оставил в своих дневниках Михаил Кузмин.
Городецкий написал несколько писем издателям и поселил «Сергуньку» у себя. «С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. <…> Мы целовались, и Сергунька опять читал свои стихи». Что значили эти поцелуи Городецкого и Есенина, который недолго, но все же жил у поэта, почти не важно, потому что впереди у Есенина еще будет настоящая любовь человека, искушенного в самых изысканных мужских ласках. Таким учителем во всем станет Николай Клюев, а пока, вероятно, были только самые шалости, первые уроки, так сказать…
Не удивительно, что и претендентов на учительство нашлось достаточно. В «доме Мурузи», на вечерах в логове «триединой семьи» (Гиппиус, Мережковского и Философова), он читал свои стихи. И ревнивая Гиппиус, заметившая взгляд Дмитрия Философова, задержавшийся на Есенине, зло острила над деревенским парнишкой. Смотря на его валенки сквозь лорнет, она намеренно громко вот уже который раз спрашивала: «Скажите, Есенин, на вас, кажется, новые гетры?» И не напрасно ревновала Гиппиус. Первые стихи Есенина опубликует именно Философов в своем журнале «Голос жизни».
В 1915 году Есенин встретил на одном из литературных вечеров Михаила Ковалева (Рюрика Ивнева), недавнего выпускника Пажеского корпуса. Они сошлись как-то быстро, вероятно, потому, что оба почувствовали друг в друге провинциалов. Ковалев прибыл в Москву из Тифлиса и в начале 1910-х обошел уже все салоны.
После первой встречи Ивнев загорелся устроить вечер Есенина на квартире родителей своего приятеля Павлова, у которого он снимал комнату. Сергей прочел стихи в семейной библиотеке. Потом гости уединились в комнате Ивнева. Выключили свет, и Есенин заголосил похабные частушки. Ивнев в мемуарах уверяет, что ему удалось прекратить это безобразие, и после недолгих разговоров они с Сергеем улеглись спать. Но через пару дней на квартиру Павловых пришел взволнованный Дмитрий Философов, с которым Ивнев был едва знаком, и произошло следующее.
«Он говорил о разных литературных мелочах, потом вдруг подвинулся ко мне ближе и спросил:
– Скажите, что у вас тогда было, когда вы устраивали вечер с Есениным?
– Читали стихи, – отвечал я.
– Нет, я не об этом. Что было потом?
– Пели частушки.
– А потом?
– Разошлись по домам.
Д. В. Философов досадливо морщится.
– Мне-то вы можете сказать все!
– Я вам сказал все.
– Нет, бросьте, расскажите обо всем, чем вы ночью занимались.
Мне делается смешно.
Я вам рассказал решительно все, Дмитрий Владимирович!
После этих решительных слов он раскланялся и ушел, как мне кажется, обиженным. Уже значительно позже я узнал, что Философову кто-то рассказал, что у нас был «афинский вечер», и он хотел узнать подробности».
Интересно, что, переиздавая в 1960-х годах свои рассказы о Есенине, Ивнев удалил этот фрагмент, за исключением реплики о «шупальцах» Гиппиус-Философовых, протянутых к поэту. Но вырвал Есенина из этих «щупальцев» вовсе не Ивнев, а Николай Клюев.
В 1915 году Есенин поселился на квартире сестры Клюева. Есенину было двадцать, а Клюеву шел тридцатый год. Для выступления по госпиталям сшили специальные русские сапоги из ярко-коричневой кожи, для Есенина еще голубую русскую рубашку. В таком одеянии рядом с Клюевом в кафтане он выглядел мальчиком-подпаском. Отношения развивались в течение полутора или двух лет. Под их занавес в 1917 году Есенин написал стихотворение «О, Русь взмахни крылами…», героями которого стали Алексей Кольцов, его «середний брат» «бескудроголовый» «смиренный Николай» и сам Есенин.
Иду тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.
Интересно, что здесь он подметил те немногие визуальные черты, которые позволяли уже современникам сравнивать пару Есенина и Клюева с Рембо и Верленом. Лысоватый Верлен и кудрявый Рембо. Приставанья Клюева Есенин не всегда отвергал, о чем существуют недвусмысленные записи в дневнике литературного критика Владимира Чернявского, впервые приведенные в эмигрантском двухтомнике Клюева, изданном в 1969 под редакцией профессоров Бориса Филиппова и Глеба Струве.
Клюев устроит его в Царскосельский гарнизон, в санитарный поезд Императрицы Александры Федоровны, когда придет время призыва в армию. Там Есенин будет обласкан вниманием вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая позволит ему посвятить себе сборник «Голубень». Впрочем, скоро случится революционная смута и набор книги рассыпят, а Есенин из армии дезертирует и неожиданно вновь женится, не сообщив ничего Клюеву, на Зинаиде Райх.
Над браком с Райх, как и над прочими своими связями с женщинами, Есенин иронизировал. Тогда Райх еще не была знаменитой актрисой (которой ее сделал режиссер Мейерхольд, взявший на воспитание и двух детей Есенина). Слава к ней пришла в середине 1930-х, а тогда Зинаида была обыкновенной секретаршей в эсеровской газете «Дело народа». Почему-то кто-то из современников отметит только ее непропорционально толстые ноги. Райх и Есенин познакомились необыкновенно жарким для Петербурга летом 1917 года. Небольшой компанией отправились отдохнуть в Орел, ну и по пути обвенчались в одной из церквей. Вернувшись в Петроград, сняли квартиру на Литейном и даже завели самовар… Но не надолго. Райх вскоре вернулась в Орел, а Есенин поселился в бывшем особняке Морозовых, который занял Пролеткульт. Вместо комнаты ему выделили ванную комнату. Там и разыскал его Анатолий Мариенгоф.
Мариенгоф, хотя и приехал только что из Пензы покорять Москву, был совершенной противоположностью Есенину. Безукоризненно одетый, костюмы шил у лучших столичных портных, вид его всегда был безупречен.
Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств –
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.
Возлюбленный мой! Дай мне руки…
Это из стихотворения «Прощание с Мариенгофом», написанном перед самым побегом Есенина с Дункан.
А вот восприятие той же привязанности с другой стороны, в документальном «Романе без вранья» Мариеногофа.
Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:
– Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне взаправдашний или не друг? <…>
– Что ты, Сережа!..
– Эх, милой, из петли меня вынуть не хочешь... петля мне – ее любовь (Дункан)... <…> Дай тебя поцелую...
Впрочем, позже Есенин жаловался Августе Миклашевской (одной из тех женщин, на которую жаловался другой – например, Галине Бениславской): «Анатолий сделал все, чтобы поссорить меня с Райх. Уводил меня из дома, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат. Развел меня, а сам женился и оставил меня одного». Стоит обратить внимание на последнюю фразу – «оставил меня одного». Здесь звучит какая-то личная ревность, ведь уже было однажды – и Есенин точно так ушел от Клюева в предреволюционном Петрограде, а потом от Мариенгофа уехал с Айседорой Дункан.
Распространено мнение, что Анатолий Мариенгоф – воплощение разврата и худших сторон богемы: пил, гулял, спаивал Есенина. Но Рюрик Ивнев, например, напротив полагает, что «отношения его с Мариенгофом до появления Дункан – самый здоровый период жизни Есенина». И факты говорят, что это именно так. Время дружбы и совместной жизни Есенина и Мариенгофа приходится на 1919 – 1921 годы. Они поселились вместе в Москве в одной комнате в Богословском переулке. Ни о каком пьянстве не было и речи. Как вспоминает одноклассник Мариенгофа по гимназии, однажды он оказался третьим на дне рождения Есенина. И у них даже не было вина. Зато на дверях висело расписание часов приема поэтов Мариенгофа и Есенина.
В начале 1920-х Есенин был полностью погружен в проекты Мариенгофа – имажинизм, магазинчик, который был одной из десяти книжных лавок в Москве, продававшей книги без ордеров, кафе «Стойло Пегаса». Все это приносило неплохие деньги для двоих. Кстати, и отношениям с Райх близость его с Мариенгофом (в комнате была одна кровать) не мешала. Зинаида тогда жила у родителей в Орле, Есенин время от времени наезжал к ней. В 1920 году у них родился второй ребенок – сын Константин (дочь появилась в Орле в 1918-м). Развод последовал в 1921 году. Это было предвестие появления Дункан.
Имажинизм угас после ухода Есенина к Айседоре Дункан. В мае 1922-го они зарегистрировали свой брак, но уже летом 1923-го, после американских приключений, Есенин перебирается к Галине Бениславской в Брюсов переулок. Бениславская в буквальном смысле оторвала его от Дункан, посылая той дерзкие телеграммы, уверяющие танцовщицу в том, что теперь только она, Галина, интересует Есенина. Судя по дневнику Бениславской, она только хотела быть близкой ему, но Есенин так и не ответил на ее желания, честно признавшись: «Как женщина ты мне не нравишься…» Но даже дружбой своей Гали он не дорожил. Трезвый никогда к ней не заходил, а напьется – пожалуйста.
В 1926 году, в очередной раз объяснившись в любви Есенину на страницах своего дневника, Галя застрелится на его могиле на Ваганьковском кладбище.
Итак, рядом с Есениным всегда был мужчина, который оказывался ему больше, чем другом. В зависимости от возраста и общественного положения Есенин играл в этих союзах разные роли. Сначала был идейным подпаском возле Сергея Городецкого, Философова и Мережковских, Николая Клюева. С Анатолием Мариенгофом отчасти чувствовал себя на равных. А вот с Рюриком Ивневым или Вольфом Эрлихом вел себя как уверенный наставник.
В 1924-1925 году наличие мальчика-спутника вошло в привычку. Во время недолгой поездки в Баку он взял к себе шестнадцатилетнего беспризорника Ваську. Известный всему Баку как доступная проститутка Васька стал для поэта нянькой: пьяного отводил в гостиницу, раздевал, укладывал в постель, заботился о ванне и белье (те же обязательства, кстати, по приему ванны были закреплены и за Эрлихом). Интересно, что Васька позже рассказал бакинскому журналисту Льву Файнштейну, как застал Есенина в кровати с небезызвестным в 1920-е годы Владимиром Хольцшмитом, наркоманом, гипнотизером и поклонником свободной любви, а также по совместительству совладельцем московского «Кафе поэтов» – прибежища кокаинистов.
В последние полтора года жизни верным слугой Есенина был Вольф Эрлих. В московском в кафе в Брюсовском переулке Эрлих после небольшой размолвки принес Есенину своеобразную клятву верности. Дело было так. В гостях у одного из многочисленных приятелей Есенина Жоржа Якулова Эрлих отказался сходить к Гале – за трешкой на вино. Ночь Эрлих провел у имажиниста Шершеневича, а утром вернулся в Брюсовский переулок. Вместе с Есениным они молча спустились в подвал позавтракать, и у них произошел такой разговор.
«После долгого молчания, он поднимает на меня глаза. Они печальны и почти суровы.
– Разве я оскорбил тебя?
Я молчу.
– Если так, прости!
Тут только я начинаю понимать, что я совершил гнусность. Я предал его, занятый мыслью о том, что обо мне подумает Якулов! Вспотев от стыда, я подымаюсь на ноги.
– Сергей! Если можешь, забудь вчерашний вечер. Я готов служить тебе.
Он тоже поднимается и смотрит мне в глаза.
– У тебя есть полтинник?
– Есть.
– Дай мне!
Он берет деньги и выходит на улицу. Раньше чем я успеваю сообразить, в чем дело, он возвращается и кладет передо мной коробку «Дукат».
– У тебя нет папирос…»
Вскоре Есенин попросит Эрлиха спать с ним в одной комнате. Он маниакально боится некого заговора с целью убить его. Вместе с Эрлихом он отправится за обручальными кольцами, когда решит жениться, и будет выбирать между двумя фамилиями – дочерью Шаляпина или Толстого. На квартире у последней жены – Софьи Толстой – для Эрлиха и Есенина будет выделена отдельная комната.
«Знаете, живу с нелюбимой, – будет он рассказывать о причинах своей грусти.
– Зачем же вы женились?
– Ну-у! Зачем? Да назло, вышло так…»
Последний брак его был сущей бессмыслицей. «Погнался за именем Толстой – все его жалеют и презирают: не любит, а женился» (Бениславская). Была ли у Есенина личная жизнь с Толстой? Это почти невероятно: он несколько раз срывался в Константиново, даже не сообщая о своем отъезде – только устно или запиской через Эрлиха.
24 декабря 1925 года Есенин едет в Ленинград. Он собирался обустроиться там основательно. Обзавестись квартирой вместе с приятелями – семьей Устиновых и Эрлихом, который ждал его в Ленинграде. В первый день приезда они только и успеют вместе с Эрлихом зайти к Клюеву, который обидел Сереженьку злоречивой рецензией на его новые стихи: «…если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они бы стали настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России». Потом Эрлих устроит для Есенина ванну, они побреют друг друга. В шутливых разговорах Есенин передаст Эрлиху стихотворение… То самое – написанное кровью из-за отсутствия чернил…
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, –
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Эти строки Вольф Эрлих прочтет уже после смерти Есенина.
«…Так и не узнала, что к чему». Фаина Раневская (27 августа 1896 – 20 июля 1983)
«В одну из наших суббот я поправлял Фуфин сползший верхний матрасик на тахте. Войдя в спальню, Фуфа наблюдала за мной, остановившись посредине комнаты. Потом тихо сказала: «Тебе будут говорить, что мы были с бабушкой лесбиянки». И беззащитно добавила: «Лешка, не верь!» …больше мы никогда не говорили об этом». Фуфой близкие называли Фаину Георгиевну Раневскую, а Лешка, Алексей Щеглов, – это внук ее подруги Павлы Вульф, которая стала для Раневской ее семьей на сорок с лишним лет. Разговор происходит в самом конце 1970-х. Только что отметили 80-летний юбилей народной артистки СССР Фаины Раневской. А Павла Леонтьевна Вульф (1878-1961) – «мой первый друг, мой друг бесценный» – скончалась на руках Фаины Георгиевны уже как двадцать лет назад. Раневская тяжело переживала эту смерть. «В жизни меня любила только П. Л.», запишет она на «клочках» своего знаменитого дневника в декабре 1966 года. «Мамочка», «мамочка моя дорогая», «золотиночка» – все это о Павле Вульф, которую пятнадцатилетняя Фаина Фельдман впервые увидела на сцене Таганрогского театра весной 1911 года…
Вообще Раневская любила рассуждать и в шутку, и всерьез на тему своего «лесбианизма». А своих театральных критикесс называла «амазонками в климаксе». Среди них оказалась Раиса Моисеевна Беньяш (она не скрывала свой «лесбийско-альтернативный образ жизни»), автор творческих портретов женщин-актрис, в том числе и Раневской…
«Как сольный трагикомический номер» известна и такая многократно рассказанная актрисой история одного из ее несостоявшихся свиданий. «Однажды молодой человек пришел к актрисе, – она тщательно готовилась к его визиту: убрала квартиру, из скудных средств устроила стол, – и сказал: «Я хочу вас попросить, пожалуйста, уступите мне на сегодня вашу комнату, мне негде встретиться с девушкой». Этот рассказ, пишет в книге «Русские амазонки…» искусствовед Ольга Жук, Раневская обыкновенно завершала словами «с тех пор я стала лесбиянкой…». Включая Раневскую в свою «…Историю лесбийской субкультуры в России», Жук указывает на «узы дружбы-любви» Фаины Раневской и Павлы Вульф, а также на ее вполне вероятный роман с Анной Андреевной Ахматовой.
Фаина Георгиевна родилась в Таганроге в богатой и благополучной еврейской семье Фельдманов («…в семье была нелюбима»). «Мой отец – небогатый нефтепромышленник», - иронизировала актриса над возможным началом книги своих мемуаров. Гирши Фельдман был одним из самых богатых людей южной России. Большая семья несколько раз в год выезжала на отдых за границу – Австрия, Франция, Швейцария.
Детство Фаины прошло в большом двухэтажном семейном доме в центре Таганрога. С самого малого возраста она почувствовала страсть к игре. Это заметно и в затянувшейся у Фаины привычке «повторять все, что говорят и делают» колоритные фигуры вокруг.
В 1908 году поцелуй на экране в раскрашенном фильме «Ромео и Джульетта» стал для подростка настоящим потрясением. «В состоянии опьянения от искусства» она разбила копилку и раздала деньги соседским детям, чтобы все они испытали любовь в кино.
Весной 1911 года на сцене Таганрогского театра Фаина впервые увидит Павлу Леонтьевну Вульф…
Но пройдет еще четыре года, прежде чем, окончив гимназию, Фаина все бросит и, вопреки желанию родителей, уедет в Москву, мечтая стать актрисой. Потратив свои сбережения, потеряв деньги, присланные отцом, отчаявшимся направить дочь на истинный путь, продрогшая от мороза, Фаина будет беспомощно стоять в колоннаде Большого театра. Жалкий вид ее привлечет внимание знаменитой балерины Екатерины Васильевны Гельцер. Она приведет продрогшую девочку к себе в дом, потом – во МХАТ; будет брать на актерские встречи, в салоны. Там Фаина познакомится с Мариной Цветаевой (1892 – 1941), чуть позже, вероятно, с Софией Парнок (1885 – 1933) (сохранилась даже их совместная фотография). Марина звала ее своим парикмахером: Фаина подстригала ей челку…
В это время появится и артистический псевдоним Фаины Фельдман – Раневская. Он пришел из «Вишневого сада» Антона Чехова. Присланные отцом деньги, унесенные порывов ветра на ступенях телеграфа, напомнили приятелям Фаины отношение к деньгам Раневской, и кто-то произнес реплику из пьесы: «Ну, посыпались…»
Гельцер устроила Раневскую на выходные роли в летний Малаховский театр в 25 километрах от Москвы. Так началась ее сценическая судьба.
Весной 1917 года Раневская узнала, что ее семья бежала в Турцию на собственном пароходе «Святой Николай». Она осталась в стране одна – до середины 1960-х годов, когда вернет из эмиграции сестру Бэлу.
От кровного семейного одиночества избавила Фаину Раневскую Павла Леонтьевна Вульф. Новая встреча с ней произошла в Ростове-на-Дону как раз в те дни, когда «Святой Николай» пристал к турецкому берегу. Началась почти сорокалетняя жизнь Фаины Раневской рядом, вместе с Павлой Вульф.
Невероятная степень близости Вульф и Раневской просматривается сквозь ревность к бабушке Алексея Щеглова, автора книги о жизни Фаины Георгиевны, написанной на основе личных воспоминаний и записок Раневской. «Родная дочь Вульф, – кажется Щеглову (речь идет о его матушке – Ирине Вульф), – вызывала у Фаины чувство ревности и раздражения…». Она, Ирина, «отходила в тень, не находила тепла в своим доме». Но все-таки в Крыму это еще была семья из четырех человек – Павла с дочерью, Фаина и Тата (Наталья Александровна Иванова – портниха и костюмерша Вульф). Там в первые годы революции они выжили благодаря заботе поэта Макса Волошина.
Все изменилось в 1923 году, когда все вернулись в Москву из Крыма: «это были уже совершенно непохожие две семьи – мхатовской студентки Ирины Вульф и другая – Павлы Леонтьевны, Фаины и Таты».
В 1925 году Вульф и Раневская вместе поступили на службу в передвижной театр московского отдела народного образования – МОНО. Он, следуя своему названию, скитался по стране – Артемовск, Баку, Гомель, Смоленск, Архангельск, Сталинград… Семь лет совместного быта в «театральном обозе».
С 1931 года, после возвращения в Москву, Вульф занялась педагогической работой в театре рабочей молодежи – ТРАМ. Раневская сыграла свою первую роль в кино – «Пышка» Михаила Ромма. В 1936 году Павла и Фаина ненадолго расстанутся. Театр Юрия Завадского, в котором служила Павла в звании Заслуженной артистки РСФСР, переведут в Ростов-на-Дону. «Женская колония», по словам Раневской, соберется вновь в эвакуации в Ташкенте. Частым гостем дома Вульф-Раневской станет Анна Андреевна Ахматова. Интересно, что свою связь с Борисом Пастернаком Ахматова будет сравнивать с отношениями Раневской и Павлы Вульф: «она говорит, что Борис Пастернак относится к ней, как я к П.Л.».
Раневская вообще после смерти Вульф как-то тяготилась необходимостью объяснить их долгую совместную жизнь. И не находила ничего иного, как соотнести их союз с наиболее успешными творческими гетеросексуальными парами. Наблюдая за вежливыми и трепетными благодарностями между Григорием Александровым и Любовью Орловой, Раневская однажды «заплакала от радости, что так близко, так явственно видит счастье двух талантов, созданных друг для друга». «Очень, очень редко так бывает. Ну с кем еще случилось такое? Разве что Таиров и Алиса Коонен, Елена Кузьмина и Михаил Ромм. Кому еще выпало подобное?.. О себе могу сказать, что не была бы известной вам Раневской, если бы в начале моего пути я не обрела друга – замечательную актрису и театрального педагога Павлу Леонтьевну Вульф».
После возвращения из эвакуации в 1943 году Раневская «боялась надолго разлучаться с Вульф, беспокоилась о ее здоровье, скучала». Хотя с 1947 года Фаина и Павла стали жить отдельно, они встречались и проводили друг с другом достаточно много времени. Вместе отдыхали: «…Третий час ночи… Знаю, не засну, буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне, и не одной, а с П. Л.» – запись «на клочках» 1948 года.
В недолгие недели расставаний они беспрестанно созванивались, писали друг другу нежные послания: «Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к 1 июля… Не унывай, не приходи в отчаяние». Это из переписки лета 1950 года... Обеим было уже за 50 лет.
Уход Павлы Леонтьевны стал для Фаины Георгиевны невозвратной потерей, которая на несколько лет остановила всю ее жизнь. Это был оглушительный удар, он смел все и не оставлял надежды на будущее: «…скончалась в муках Павла Леонтьевна, а я еще жива, мучаюсь как в аду…» «Как я тоскую по ней, по моей доброй умнице Павле Леонтьевне. Как мне тошно без тебя, как не нужна мне жизнь без тебя, как жаль тебя, несчастную мою сестру».
В конце жизни Фаина Раневская, задумываясь над вопросом, любил ли кто-нибудь ее, отвечала: «В этой жизни меня любила только П.Л.» «Как я всегда боялась того, что случилось: боялась пережить ее». Но это произошло, и Раневская постепенно пришла в себя и восстановила дружеские отношения с Анной Андреевной Ахматовой, которую называла в Ташкенте своей madame de Lambaille.
Но Павла по-прежнему оставалась в сердце. На обороте фотографии Вульф Раневская где-то в конце 1960-х написала: «Родная моя, родная, ты же вся моя жизнь. Как же мне тяжко без тебя, что же мне делать? Дни и ночи я думаю о тебе и не понимаю, как это я не умру от горя, что же мне делать теперь одной без тебя?»
Около пятнадцати лет, судя по запискам Раневской, мысли о невосполнимой потере после смерти Павлы Вульф не покидают ее. Павла ей беспрестанно снится, «звонит с того света», просит прикрыть холодеющие в гробу ноги. И на склоне жизни, перебирая в памяти самое важное, Раневская запишет: «Теперь, в конце жизни, я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной Павлой Леонтьевной. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала...
Она умерла у меня на руках.
Теперь мне кажется, что я осталась одна на всей планете».
«На склоне лет: мне не хватает трех моих: Павлы Леонтьевны, Анны Ахматовой, Качалова. Но больше всего П.Л.»
Были ли в жизни Фаины Раневской мужчины? Мы не может назвать ни одного. Да, она влюблялась в своих партнеров на сцене – на один спектакль, на время съемок – в режиссеров. Но это была влюбленность в их талант, в их пронзающий душу дар. Любила ли Раневская кого-нибудь иначе – со страстью неспокойного сердца, слепо рвущегося навстречу дорогого тебе человека? Нет, таких не было. Несостоявшиеся и неудачные ее свидания («…не так много я получала приглашений на свидание») – постоянный предмет актерской иронии, сквозь которую просвечивает характерная только трагикомическому таланту Раневской жизненная драма. Ну разве что вспомнить можно ее непонятную короткую дружбу с Толбухиным, которая оборвалась со смертью маршала в 1949 году.
Последние годы Раневская провела в Южинском переулке в Москве в кирпичной шестнадцатиэтажной башне, поближе к театру. Жила в одиночестве с собакой по кличке Мальчик.
«Экстазов давно не испытываю. Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему».
В кино и на сцене, словно иронизируя на темы своего «лесбиянизма», Раневская оставила довольно двусмысленных шуток. Чего стоит хотя бы ее «Лев Маргаритович» (так называет себя героиня, потерявшая «психологическое равновесие» из-за коварного любовника) в фильме Георгия Александрова «Весна». Эту реплику придумала сама Раневская. А роль в постановке пьесы Лилианы Хелман «Лисички» в Московском театре драмы в 1945 году она просто сыграла, полагает Ольга Жук, как «сложную драму лесбийских переживаний».
«Интеллектуальный девственник…». Сергей Эйзенштейн (23 января 1898 – 10 февраля 1948)
Личность великого режиссера Сергея Эйзенштейна, автора «Броненосца Потемкина», признанного в ХХ веке лучшим фильмом за всю историю кино, может претендовать также на лавры самой загадочной персоны с точки зрения ее сексуальности. Не существует никаких доказательств его сексуальных связей ни с мужчинами, ни с женщинами… Но вопрос гомосексуальности Эйзенштейна и ее воплощения в созданных режиссером фильмах возникает со времени смерти художника всякий раз, когда кто-либо предпринимает попытку проникнуть в его киномир или написать биографию.
Сергей Эйзенштейн родился в семье рижского архитектора Михаила Осиповича Эйзенштейна, крещеного еврея, и дочери петербургского промышленника Юлии Ивановны Коноплевой. Он был слабым, болезненным мальчиком, очень замкнутым в себе. Проблем в воспитании своим родителям почти не доставлял – во всем послушный и воспитанный юноша, которому легко давались гуманитарные предметы. К семи годам мальчик сносно объяснялся уже на трех языках. Но домашняя покорность Сережи свидетельствовала как раз ни о семейном благополучии, а, возможно, о желании ребенка скрыться от бесконечных семейных неурядиц в мир литературы и уютной православной обрядности. На какое-то время матушку ему заменила кормилица, чья комната была уставлена множеством икон и ладанок…
А между матерью и отцом не утихали скандалы… «Матушка кричала, что мой отец – вор, а папенька – что маменька – продажная женщина». В 1905 году мать ушла из семьи и увезла Сережу в Петербург. Но вскоре ребенка, мешавшего ее сердечным приключениям, возвращают к отцу в Ригу – одного, в запертом на ключ купе поезда. В 1909 году бесконечные скандалы закончатся разводом, на котором будут объявлены множественные факты адюльтера матери, в том числе с родственниками ее бывшего супруга. Окончательно развод оформят только в 1912 году. Сережу отправят подальше от все продолжавшихся скандалов – вновь вернут в Ригу, к тетушкам, когда отец в 1910 году будет назначен инженером в управу Санкт-Петербурга.
С детства сыновья привязанность к родителям будет соседствовать в сердце Эйзенштейна с грузом мучительных воспоминаний, страха и нежеланной ответственности. Как это часто бывает, супружеские неудачи родителей отразятся на возможности будущего семейного счастья их сына, который никогда даже не предпримет попытки создать семью.
С 1915 по 1918 год Сергей учился в Институте гражданских инженеров в Петрограде. Но архитектура оставалась на обочине главного интереса его жизни – театра. Варьете и драма заслонили от 19-летнего Эйзенштейна революцию. В феврале 1917 года, когда все началось, он смотрел знаменитую интерпретацию «Маскерада» в театре Мейерхольда. Революцию, гимны которой он будет петь в своих кинофильмах, Эйзенштейн на самом деле пропустит так же, как и время ранней юношеской увлеченности, превращающее подростковую сексуальность в могучее чувство любви. Ему было 19 лет, и он ни разу не обнимал девушку.
Как раз между двумя революциями, вкусив воздух абсолютной творческой свободы, он несет свои первые карикатуры в «Огонек». И подписывает их Sir Gay (Веселый сэр), транскрибируя свое русское имя на английский лад. Интересно, что, спустя полвека, когда слово «gay» приобретет привычное для современных гомосексуалов значение – «гей», то есть мужчина, который любит мужчин, многие русскоязычные геи с еще большей фантазией будут использовать возможности двусмысленной игры с этим своим русским именем.
Впрочем, таких игривых совпадений, разворачивающих вектор жизни Эйзенштейна в сторону гомосексуальности, будет в творчестве и жизни режиссера уж слишком много. Так, в одном из интервью американскому журналисту в начале 1930-х годов он заявит: «Если бы не Леонардо, Маркс, Ленин, Фрейд и кино, то я, очень возможно, стал бы вторым Оскаром Уайльдом». Разумеется, тогда Эйзенштейн имел в виду всего лишь «чистое искусство» Уайльда… Однако с высоты времени, благодаря которому мы можем осмыслить личную и творческую жизнь Эйзенштейна в целом, гораздо справедливее физиологическая истинность этого признания.
Эйзенштейн – Леонардо своего времени. Он был творцом, который, приспосабливаясь к законам общества и сталинского политического режима с целью сохранить свою физическую жизнь, в остальном подчинял ее одному только творчеству, в котором гомосексуальные аллюзии составляли немалую часть. Такую реконструкцию жизни и творчества Эйзенштейна – сквозь призму его сексуальности – предпринял в 1969 году французский писатель-гей Доминик Фернандез. Он создал вторую более или менее полную творческую биографию Эйзенштейна за ХХ век. Первую написала американская журналистка Мари Сетон, которая фиксировала рассказы режиссера в 1932-1935 годах в Америке во время его работы над фильмом «Да здравствует Мексика!». Кстати, в биографа Эйзенштейна Сетон превратилась после безуспешных попыток завладеть его сердцем. До сих пор любопытным поклонникам таланта режиссера не на что опереться в попытках понять его эмоциональную эволюцию. Режиссер почти не оставил личных воспоминаний, кроме нескольких коротких автобиографий и многочисленных теоретических трудов…
Единственное, что лежит на поверхности, – это его, Эйзенштейна, быт в качестве третьего со сложившимися гетеросексуальными парами. Даже когда успешный режиссер мог с легкостью обеспечить себе отдельную квартиру, он равнодушно принимал неудобства, присутствуя третьим в чужой семье, и к 30 годам все еще оставался девственником. В начале 1920-х его, только что вернувшегося с фронта, приютили в семье режиссера Пролеткульта Валентина Смышляева.
Потом была жизнь втроем с актером Александровым и его женой. Встреча Эйзенштейна с «сердечным другом» Григорием Александровым, приехавшим с Урала за славой актера, произошла в 1921-1922 годах. Александров стал закадычным приятелем Гришей и одновременно личным секретарем Сергея. Многие сценарии и замыслы начала 1920-х записаны под диктовку почерком 18-летниго сибиряка. Знакомство, дружба, а вероятно, и любовь начались с драки. Мари Сетон, которая услышала версию встречи Гриши и Сергея в стерео формате – одновременно из уст режиссера и актера во время их совместного пребывания в Штатах, сама в биографии неожиданно поднимает вопрос о гомосексуальности. Стало быть, ко времени написания ее труда, в конце 1950-х, а, может быть, и ранее – во время бесед Сетон с режиссером, этот вопрос уже каким-то образом напрашивался.
«…Физическая красота Гриши сама по себе не имеет для него значения. Речь не идет о гомосексуальном влечении. Он хотел жить, как живет Гриша…», – пишет Сетон. Интересно, что в этом замечании Сетон приводит один из существенных, по мнению Игоря Кона, признаков гомосексуальной влюбленности. Когда один партнер любит в другом то, что он никогда не сможет испытать в самом себе. И таким предметом обожания, на основе которого формируется гомосексуальная привязанность, не обязательно может быть телесная красота – но иной склад характера… И физически и эстетически Григорий Александров был натурой абсолютно противоположной Сергею Эйзенштейну. Актерская фактура и образ жизни Григория привлекали режиссера, но, как справедливо заметил Фернандез, в своем творческом сознании Эйзенштейн упорно отталкивал Александрова, поручая ему исключительно отрицательные роли в своих спектаклях и лентах. Тем не менее, Ольга Жук, автор работы «Русские амазонки…», называет Александрова возлюбленным Эйзенштейна.
Кстати, будущий брак режиссера Александрова с советской звездой Любовью Орловой, как известно, оказался своеобразным творческим контрактом двух киногениев, хотя, конечно, и был проникнут предельным уважением друг к другу. Первый успех комедий Александрова пришелся как раз на время художественного «простоя» Эйзенштейна, который ревностно отнесся к успеху бывшего ученика и друга. По легенде, на просьбу помочь вывезти на международный фестиваль «Веселых ребят» Эйзенштейн ответил: «Ассенизатором не работаю, говно не вывожу…»
…Еще некоторое время Эйзенштейн жил в одной комнате с единственным гимназическим другом Максом Штраухом. К 1924 году кровать артиста Штрауха пришлось отгородить ширмой – он женился.
Возможно, попыткой наладить хотя бы быт с женщиной были отношения Эйзенштейна с Перой Аташевой, киножурналисткой, с которой режиссер познакомился во время работы над «Броненосцем…» Аташева стала подругой-сиделкой, она мечтала иметь от Эйзенштейна детей и очень страдала от того, что Старик (так она его называла) не может дать ей любви в ответ. Их связь оставалась невинной всю жизнь, даже после того, как в 1934 году они официально оформили свой брак… Но и тогда только что вернувшийся из-за границы после пятилетнего отсутствия Эйзенштейн предпочел жить отдельно от супруги. В конце 1930 года место Аташевой займет ассистентка Елена Телешева. Этот союз станет причиной насмешек столичных сплетников: «Он любит женщин-гренадеров», – шептали недоброжелатели, намекая на физические параметры Телешевой.
Теоретическую основу своей упорной девственности Эйзенштейн находит в учении Зигмунда Фрейда: «Без Фрейда – нет сублимации, без сублимации – я простой эстет a la Оскар Уайльд…» С учением Фрейда и выводами немецкой сексологической науки Эйзенштейн знакомится в начале 1930-х в Европе. В Берлине он с интересом окунается в жизнь ночных клубов для гомосексуалов и пристально вглядывается в облик немецких трансвеститов. Посещает институт Магнуса Хиршфельда и, судя по всему, встречается с самим Хиршфельдом. В результате он убеждается, что путь воздержания и сублимации, выбранный им, более правильный, чем дорога раскрепощения своей сексуальности… Сразу после немецких впечатлений Сергей признается Мари Сетон, что окончательно утвердился во мнении: «гомосексуализм – это регрессия», и соглашается на «бисексуальную тенденцию только в интеллектуальной области».
…Но что делать с сотнями гомосексуальных рисунков Эйзенштейна, которые станут достоянием архивов после его смерти? Однополая и бисексуальная часть составляет примерно половину образцов «непристойного письма» режиссера. Огромные вздыбленные члены намечены всего несколькими линиями – очень схематично, без гомосексуального фетишизма к мужскому достоинству. Нужно сказать, что и противопоставить этот схематизм нечему – женские половые органы в набросках Эйзенштейна больше напоминают перевернутые глаза… Боязнь сексуального раскрепощения, преследовавшая режиссера всю жизнь, проявлялась и в тайных граффити на полях рукописей и обрывках бумаг. Как правило, на гомосексуальных рисунках Эйзенштейна (он рисовал их всю жизнь и особенно активно в последние годы перед смертью) присутствуют два партнера, которые принадлежат друг другу. Эйзенштейн всегда занимает позицию вуайериста: все, как тогда, в революционные 1920-е… Интимная жизнь его приятелей проходила рядом за ширмой в общей комнате.
Период исканий объяснения своей сексуальности, который пришелся на 1930-е годы, когда Эйзенштейн, в основном в зарубежных интервью, говорит об этой стороне жизни любого творца, оказался самым беспомощным в художественном смысле. «Да здравствует Мексика!» (1935) была смонтирована без участия Эйзенштейна. «Бежин луг» так и не был снят из-за запрета властей.
Шедевры создавались тогда, когда Эйзенштейн вновь выбрал путь сублимации и выплеснул свою сексуальность на поля рукописей в гомосексуальные рисунки, которые производил во множестве, но тут же рвал на мелкие клочки…
Героический эпос «Александр Невский» (1937), опера «Валькирия» (1940) в Большом, две части «Ивана Грозного» (1944, 1948), феминизированный Басманов (апокрифический любовник царя), Михаил Ромм в пробах на роль Елизаветы… Бесконечная череда гомосексуальных образов, которые Эйзенштейн, всю жизнь боровшийся в себе с Оскаром Уайльдом, оставил в своих фильмах.
«Между амазонкой и скорбной влюбленной…». Анна Баркова (16 июля 1901 – 26 апреля 1976)
Поэтесса Анна Баркова, чье творчество воспринималось в 1920-е годы как революционная альтернатива молитвенной лирике Анны Ахматовой, около тридцати лет жизни провела в сталинских лагерях. Пройдя сквозь тюрьмы и ГУЛАГ, она в полной мере осознала свою гомосексуальность и нашла духовное оправдание своего лесбиянизма в полемике с «Людьми лунного света» Василия Розанова. Над этой книгой Баркова много размышляла в своих дневниках конца 1950-х годов. «В отношении к сексу и браку он (Розанов) в чем-то, безусловно, прав. Я понимаю это. Но правота его меня, человека «лунного света», чертовски раздражает…»
Анна Баркова выступала против маскулинизации «лунных женщин» и стремилась доказать, что лесбиянка способна оставаться просто женщиной. Первый и единственный прижизненный сборник стихов Барковой так и был озаглавлен «Женщина». Он вышел в Петрограде осенью 1922 года с предисловием большевистского наркома просвещения Анатолия Луначарского. Анна Баркова, которой Луначарский обещал «большое будущее…», была настоящей «красной Амазонкой» начала 1920-х годов.
О детстве Анны Барковой известно настолько мало, что мы даже не знаем полных имен ее родителей. Скромные сведения извлекаются из автобиографического эссе «Обретаемое время» (1954). Известно, что Анна была пятым и единственным выжившим ребенком в семье. Где-то в возрасте десяти лет она лишилась матери. Отец пристроил дочь в Иваново-Вознесенскую женскую гимназию, где работал сторожем и, судя по всему, имел близкие отношения с начальницей учебного заведения.
В тринадцать лет «полоумная <…> девчонка», «бронзово-рыжий, курносый, с золотыми косами» ребенок, впервые влюбилась в гимназическую учительницу. «Мне всего тринадцать лет. Я – гимназистка. И я люблю женщину. Она, разумеется, гораздо старше меня. Она моя учительница и немка. Я – русская. И уже около года продолжается так называемая «первая мировая война». …Все это чудовищно».
Первый биограф Барковой Леонид Таганов полагает, что женщина, которую боготворит подросток, – это преподавательница литературы некая Вера Леонидовна, позже уволенная из гимназии за неформальные отношения с воспитанницами. Там же в гимназии лет в пятнадцать Анна Баркова начала вести «Дневник внука подпольного человека», который позже, несмотря на три ареста, неоднократно возобновляла. Дневники забрали при первом же аресте. Судя по поздним записям, они содержали рассуждения Барковой о сексуальности и ее полемику с концепцией однополой любви Василия Розанова…
В 1956 году в записных книжках Анна Баркова признается: «С самого раннего детства в половом чувствовала угрозу и гибель. С восьми лет одна мечта о величии, славе, власти через духовное творчество. Не любила и не люблю детей до сих пор, сейчас мне 55 лет. И когда мне снилось, что я выхожу замуж, во сне меня охватывал непередаваемый ужас, чувство рабства». Уже в пятнадцать–шестнадцать лет, в попытке избавиться от необычной сексуальности, Анна Баркова задавалась вопросом, как соотносятся сексуальное наслаждение и удовольствие с ощущением власти и славы? И полагала, что первое, физиологическое, – «кратковременно», а второе, идеологическое, – «длится бесконечно». Сделав такие выводы, она все же задумывалась: «Нет ли и в любви инстинкта власти?» Но если эта власть существует, то – понимала она - сама хотела бы стать только субъектом этой силы, но никогда не смогла бы повиноваться ей – чьей-то любви. Но вот быть любимой – это значит повелевать и порабощать… Главное, чего боится в интимных отношениях Анна Баркова, – это испытать слабость и привязанность к другой.
Поэтому когда в 1918 году Баркова пришла в газету «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске (ее редактировал в будущем известный пролетарский критик и лидер «Перевала» Александр Константинович Воронский), то только с властным расчетом произвести грандиозное впечатление. Баркова сразу стала местной знаменитостью. А поэтому была представлена Анатолию Луначарскому во время одного из его визитов в Иваново-Вознесенск. После недолгой переписки наркома и провинциальной журналистки последовало приглашение переехать в Москву. Произошел головокружительный взлет. Луначарский лично занялся устройством Барковой в Москве. В 1920 году двадцатилетняя журналистка была назначена секретарем наркома и поселилась в его кремлевской квартире.
Период взаимопонимания Луначарского и Барковой длился около полутора лет. Сборник «Женщины» (Петроград, 1922) с предисловием наркома получил несколько благожелательных отзывов. Валерий Брюсов назвал поэтическую тетрадь Барковой первым «женским голосом в хоре пролетарской поэзии». Кто-то сравнил поэтессу с Жанной Д’Арк… Последнее было гораздо ближе к пониманию Барковой своего поэтического я. И в личном общении, и в творчестве она сразу же стала демонстрировать такую самостоятельность и резкость суждений, которые вряд ли могли найти понимание даже в революционные времена. Она стремилась выглядеть абсолютно независимой (в любви и поэзии) – и это было частью ее представлений о современной Амазонке, впрочем, представления эти очень скоро разбились о лагерную и тюремную реальность. В казематах Баркова испытала желание не только быть любимой, но и любить.
Примечательно, что уже в первом стихотворении «Женщины», Амазонка Барковой ищет и ждет другую – равную себе, которой готова покориться.
Поэтесса великой эры,
Топчи, топчи мои песни цветы!
Утоли жажду моей веры
Из чаши новой красоты!
Воспрянул к ней благоговейный дух мой,
Следы копыт я хочу целовать.
Освежительным ветром слух мой
Овеяли дивные слова…
Амазонка Барковой врывается в новую жизнь на «звонко-золотом коне» и ждет встречи, но не с комиссаром, купающим красного коня, а с другой революционной бестией. Она уже ищет, надеется найти старшую сестру. Да, богохульствуя, Амазонка Барковой взрывает православные храмы «в боевой запыленной одежде». Поэтому у нее нет времени и сил ждать кого-то «в садике наивных мечтаний». Но полагать, что такая Амазонка полностью отказывается от страсти, неверно. Она хочет, она жаждет любить, - но то будут не нежные лобзания с любимой…
Я не буду игрушечкой:
Невозможно, и скучно, и поздно!
Те глаза, что меня когда-то ласкали,
Во вражеском стане заснули.
И приветствую дали
Я коварно-целующей пулей.
Нужно отдать должное прозорливости Луначарского, который в предисловии к книге «Женщина» отметил, что Баркова выражает переживания героини, задержавшейся где-то «между Амазонкой и скорбной влюбленной»... В этом смысле стоит обратить внимание на два стихотворения сборника, одно из которых называется «Две женщины», а второе адресовано Сафо. В своем обращении к Сафо Баркова формулирует концептуальную сторону отношений двух Амазонок. Суть их заключается в необходимости каждой наследницы Сафо вырвать себя из любых сетей: следовать за Сафо – не принадлежать никому: мужчине, другой женщине или даже самой Сапфо.
В необозримых полях столетий
Ты – цветок – звезда сладострастная.
Опасны твои сети,
И вся ты сладко опасная…
…Сафо, вызов бросаю
В благоуханные царства твои!
Сети твои разрываю,
Страстнокудрая жрица любви.
«Две женщины» («Я боюсь бессильем заразиться…») – это, напротив, роман о встрече, пылкой любви, подобной пожару и разлуке. Новая Амазонка одинока, но свое одиночество и силу, а также мужество быть одной она понимает, сознательно отказавшись от любых привязанностей («Опечаль в последний раз мне душу. // А потом уйди, оставь меня!»). Любовь – это бессилье. Но Баркова еще не знает, что любовь становится силой там – за лагерными заборами, над бездной тюрьмы…
На квартире Луначарского Анна Баркова увидела, как легко за обедами и на вечеринках решались судьбы людей. Однажды она слышала, с каким равнодушием обсуждался расстрел поэта Николая Гумилева… Но особенно Анна, по-прежнему чувствовавшая в половом «угрозу и гибель», была шокирована поведением жены Луначарского. Что произошло между Анной Александровной Барковой и Анной Александровной Луначарской, доподлинно неизвестно, но тогда Баркова написала два письма (она вообще вела довольно активную и язвительную переписку с земляками, смело рассуждая об однополой любви). В одном, которое было адресовано той самой любимой учительнице, она сравнивала кремлевскую квартиру Луначарского с Содомом и Гоморрой. Второе письмо – для Луначарского – содержало сообщение о желании покинуть его. Баркова якобы перепутала конверты, и Луначарский прочел письмо, где рассказывалось о «кремлевском содоме»… Естественно, ни о какой помощи наркома далее не могли идти и речи. Анна едва успела опубликовать свою вторую книгу – драматическую повесть «Настасья-Костер» (1923), главная героиня которой, огневолосая атаманша, поглощена неутоленной страстью, заставляющей ее пускаться в бесконечные эротические приключения.
С конца 1920-х годов Баркову все меньше печатают. В 1931-м государственное издательство отказалось издать ее новую книгу. А в декабре 1934 года Анна Баркова была первый раз арестована.
«За счет своей некрасивой внешности она слишком усилила свое внутреннее содержание, и она этим заставила на себя смотреть как на женщину большого, пожалуй, чисто мужского ума, к тому же еще и иронического», – вспоминал Авенир Евстигнеевич Ноздрин. Именно иронические стихи, в том числе о Сталине, послужили причиной ареста Барковой. В марте 1935 года она написала наркому Ягоде письмо в просьбой расстрелять ее, так как она, революционная Амазонка, не сможет жить, имея за плечами 58-ю статью… Но Ягода рассудил иначе и приписал на деле: «Не отсылайте далеко». Пять лет Баркова провела в Карагандинских лагерях. После освобождения в 1939 году перебралась в Калугу, с которой были связаны восемь лет ее жизни. Уборщица в школе, сторож, бухгалтер в КОГИЗе.
Диана Левис Бургин, опираясь на обширный пласт любовной лагерной лирики Анны Барковой, адресованной ее солагернице Валентине Макотинской, полагает, что свою первую большую любовь поэтесса встретила в позднем возрасте, когда ей было далеко за 50.
Однако, судя по дневникам Барковой, опубликованным в 1992 году, уже в Калуге она сожительствовала с простой «деревенской бабой» по имени Тоня. Кроме дочери, главным своим богатством Тоня считала корову. В пространстве ценностей Тони Баркова, неохотно бравшаяся за все предлагаемые ей работы – от сторожа до бухгалтера – казалась лодырем. И при этом она шла на вокзал и, представлявшись цыганкой, промышляла гаданием по руке. Тоня была в бешенстве: сожительнице предлагают «хорошую» по местным меркам работу, а она старательно избегает ее. Не удивительно, что показания калужской «возлюбленной» лягут в основу второго дела Барковой…
«Характер ужасный. Любила она меня до чертиков. Это верно. Всячески любила. Но ревность? Но визгливые ноты в голосе и вульгарные выражения? Общее недоброжелательство по отношению к людям…», – пишет Баркова о Тоне в дневнике весной 1946 года и продолжает: «Корова, огород и характер Тони внушают мне некий ужас и чувство безнадежности». Жить с «московскими мертвецами» (столичными подругами) Барковой казалось проще и легче… А ведь еще в 1938 году (Тоня, фамилия которой не установлена, была солагерницей Барковой) она адресовала ей стихотворение:
Ты найти мечтаешь напрасно
Уголок для спокойных нег.
Под звездой небывало опасной
Обреченный живет человек.
…Но в любви своей к Тоне, как показалось Барковой, она ошибалась. В голодные годы войны, с некоторым осуждением размышляет Баркова о возлюбленной в своих дневниках: она «спаслась за коровьим хвостом». Но при этом разве не помогла Тоня спастись и ей тоже? Конечно, наверное, в первую очередь заботилась она о дочери, но выжила бы Анна, у которой дважды была дистрофия, без Тони, без «коровьего хвоста»?.. Ведь среди самого страшного из военной поры, что врезалось в сердце, было – людоедство.
…перекошено, огненно, злобно
Небо падает в темный наш мир.
Не случалось вам видеть подобного,
Ясный Пушкин, великий Шекспир.
Противоречивое восприятие отношений с Тоней мучило Баркову: «Может быть, это свойство декадентской ориентации; может быть, здоровые люди ничего этого не чувствуют. Но значит ли это, что здоровые правы?..»
В 1947 году после короткой поездки к друзьям в Москву Баркова была арестована второй раз по статье 58-10. Свидетелями выступили квартирная хозяйка – та самая «ревнивая» Тоня и ее дочь. Суд дал Барковой десять лет лишения свободы, восемь из которых она провела в ГУЛАГе.
«Загон для человеческой скотины. // Сюда вошел – не торопись назад…» И Анна Баркова никуда не торопилась. Здесь в лагере она нашла свою самую яркую и главную, судя по поэтическим итогам, любовь в жизни.
Не гони меня, не гони.
Коротки наши зимние дни.
Отпылала и нас обожгла
Наша белая вешняя мгла.
Не хочу, чтобы кто-то из нас
Охладел, и замолк, и угас…
Когда-то в сборнике «Женщина» в стихотворении «Византийский дипломат» Баркова рассказала о запретной любви политика к юноше: «Да. Люблю я юношу-танцора, // Пламенного, словно Дионис…» И теперь, спустя тридцать с лишним лет, Анна Баркова не боится назвать имя своей любви в поэме о встрече двух узниц ГУЛАГа:
– Что значит жить? В борьбе с судьбою,
С страстями темными сгорать, –
Она наедине с собою
Не уставала повторять.
Но credo северного скальда
Не претворила в жизнь она.
На участь смутную Уайльда
Она была обречена.
Эта вторая арестантка – сама Баркова, а первая, которая «любила слушать, а не спорить» – это Валентина Михайловна Макотинская (1908- ?). Машинистка издательства иностранной литературы, осужденная дважды в 1938 и 1948 годах. Она стала возлюбленной Барковой, и ей поэтесса адресовала множество любовных стихов, поэму «Первая и вторая» с подзаголовком «…о двух арестантках». Об интимной близости Барковой и Макотинской рассказывает поэма «АБ+ВМ», до сих пор неопубликованная.
Пути Барковой и Макотинской разошлись после выхода из лагеря. Наступил, как выражается Баркова «беспощадный разрыв». Макотинская сама писала довольно интересные стихи, в которых не последнее место занимал и образ Барковой. Приведем короткий отрывок, выбранный Леонидом Тагановым, очень осторожным в повествовании об интимной стороне жизни Барковой. В первом издании своей книги он даже не называет адрес любовной лирики Барковой, скрывая его за инициалами В. М. М.
Кто же он? Мой царевич-Иван?
Или, может быть, Лебедь-царевна?
Из каких-то таинственных ран
Родилась эта двойственность, верно…
Второй срок Барковой закончился в 1956-м. Но в 1957 году в маленьком украинском городке Ворошиловградской области, где она поселилась со своей лагерной подругой Валентиной Семеновной Санагиной, последовал третий арест. С конца 1950-х Баркова перешла на прозу. «Экспертиза» признала ее сочинения, а заодно и записки ее подруги, – антисоветскими. Каждая получила по пять лет.
В этот последний срок Баркова едва не умерла на одном из этапов. Накануне 1960 года лагерь переводили из Кемеровской области в Иркутскую. Заключенных гнали этапом по заснеженной дороге. У Анны Александровны, страдавшей астмой, случился приступ. Она легла на снег и сказала: «Пусть расстреляют, больше идти не могу…» Тогда арестанты соорудили из платков носилки и волокли ее по снежному насту…
В 1965 году Баркова была освобождена и полностью реабилитирована, благодаря помощи Александра Твардовского. Она поселилась в Москве в коммунальной квартирке на Суворовском бульваре. Попытки опубликоваться в «Новом мире» и других изданиях остались безуспешными.
Проявления лесбийской любви, хотя и осуждались коммунистической моралью, не преследовались советским режимом. Но лесбиянство Барковой, несомненно, сыграло определенную роль в ее социальном отчуждении. Уже в гимназии Анна проявила свою независимость, свою необычность, сексуальную основу которой медленно осознавала до середины 1930-х годов. Объявив себя Амазонкой, которой чужда чувственная любовь, она сделала попытку избежать полового проявления своих желаний. Тюрьма и лагерь перевернули ее жизнь и подтолкнули к эротическому проявлению однополой любви.
«Сгорел от безделья и умер от трезвости…». Георгий Милляр (7 ноября 1903 – 4 июня 1993)
Артист Георгий Милляр прославился благодаря детскому кино. Кто не помнит его Бабы-яги с манерами травести из гей-клуба начала ХХI века?! А какие неприличные и по нынешним временам жесты позволяет себе милляровская героиня! …И без грима современные гомосексуалы запросто бы узнали в знаменитом артисте своего.
Родился Георгий Милляр в семье аристократа Франца де Милляра, французского инженера, который приехал в Россию, чтобы консультировать русских при строительстве мостов. В Сибири Франц познакомился с Елизаветой Журавлевой, дочерью известного золотопромышленника. Случился стремительный роман, и де Милляр решил остаться в России. Но счастье молодой семьи было недолгим – в 1906 году Франц скончался от чахотки в Ялте. Неподалеку, в Геленджике, де Милляры купили дачу… Примечательно, что Георгия Милляра всю жизнь связывало с отцом сильное чувство сыновнего долга. Пока была возможность, он каждый год приезжал на могилу отца.
Революцию Елизавета с сыном встретила на своей даче в Геленджике. Подмосковное имение де Милляров было реквизировано большевиками, огромную квартиру в Москве превратили в коммуналку, оставив матери и Георгию жалкую комнатку. В ней Милляр прожил до середины 1980-х годов.
Самой первой театральной работой Милляра была роль… Золушки. В геленджикском театре, где юный Георгий начинал бутафором, заболела актриса. Заменить ее оказалось некому. И тогда Жоржик, наизусть вызубривший все роли, сам напросился на замену. Так Милляр впервые переоблачился на сцене в женщину.
В 1923 году Георгий возвращается в Москву – надо было получать образование. Поступает в актерскую Школу юниоров при Московском театре Революции (ныне Театр им. Маяковского). Тщательно скрывает свое аристократическое происхождение и знание трех языков. В анкете пишет: «родился в семье служащих, языков не знаю». Остается работать в этом же театре и покидает его только в 1938 году, когда начинает грезить кино.
Первой главной ролью Милляра в кинематографе стала Баба-яга… На роль Бабы-яги – Милляр сыграет ее у Роу около 10 раз – актера никто не приглашал. Впервые искрометная старушка появилась на экране в 1939 году в «Василисе Прекрасной». В амплуа сказочной злодейки Александр Роу пробовал нескольких актрис и уже почти остановил свой выбор на Фаине Раневской. По случаю режиссер поделился сомнениями с Милляром, игравшем в фильме отца и гусляра. «А давайте я сыграю Бабу-ягу, – предложил актер. – Зачем вам женщина в этой роли?..» Роу решил рискнуть. После «Василисы...» они не расставались никогда. А Баба-яга с тех пор – самая обаятельная нечисть мирового кино. А ведь еще были Леший, Кащей бессмертный, Квак, Черт, Чудо-юдо и прочая нечистая сила из знаменитых детских фильмов.
О масштабах народной любви к Милляру свидетельствуют анекдоты, которые стали слагать о его Бабе-яге, казавшейся очень реальным персонажем. А ведь так и было – грим Яги Милляр отчасти придумал сам по образу крикливой старухи-гречанки, которая была «визитной карточкой» предреволюционной Ялты. Манеру разговаривать взял у склочной соседки по коммуналке.
Но мало кто, кроме детей и поклонников таланта актера, воспринимал всерьез другой ходячий анекдот: «артист театра и кино Георгий Милляр». Был, конечно, друг Александр Роу. В 16 фильмах Роу Милляр сыграет около 30 ролей, если считать с многочисленными эпизодами (он играл сразу несколько персонажей в каждом фильме Роу).
Вся скромная квартирка Милляра на Бронной была увешана зеркалами. Не только с целью профессиональной. В 1930-е мало кто из актеров советского кино мог поспорить с Милляром в способности в любых условиях выглядеть джентльменом. Женщины, несмотря на невзрачную внешность, находили в нем идеального кавалера. Правда, до тех пор, пока… Милляр не открывал рта.
Похабником он был известным. На склоне лет сам в шутку называл себя Стариком Похабычем. В общем, языком любил похулиганить. К примеру, актера, игравшего Панаса в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», прозвал Поносом. Он извергал сотнями такие афоризмы, от которых костюмерши заливались краской и бежали с жалобами прямо к режиссеру Роу.
Идет по Ялтинской киностудии экскурсия. Учащиеся педучилища разглядывают декорации и актеров. Колоритнее всех оказывается сгорбленная старушенция в гриме.
– Ой, смотрите, какая бабушка!
– Бабушка-то, бабушка, – бормочет «киноактриса» и вдруг выдает: – Бабушка, да с яйцами!
Таким же был Георгий Милляр и в общении – слегка грубоватый, но всегда веселый и бесшабашный.
Возможно, вся эта внешняя анекдотичность, несерьезность были маской, чуланом, в которой Милляр запер себя в конце 1940-х годов, после того как едва не отправился в лагеря. Начинающего актера застали в «неловком положении» вместе с одним лауреатом, который ходил в непререкаемых любимчиках у генералиссимуса. Фаворита Сталина НКВД тронуть не рискнул, а вот Милляра несколько недель продержали в общей камере и… отпустили.
С тех пор Милляр спрятался в своем футляре из одного пальто и, казалось, вечной каракулевой шапки. С начальниками и коллегами, за редким исключением, не дружил – «имел в искусстве только сослуживцев, но не единомышленников». Общался в основном с симпатичными и не очень работниками сцены – осветителями, бутафорами, костюмерами, гримерами.
Ближе к 50 годам Милляр стал выпивать, жил замкнуто, никогда не принимал участия в общественной суете – не стремился вступить в партию. Профсоюзные и прочие собрания были для него настоящей мукой… Семью Милляр тоже не создал, а холостяцкий образ жизни в Советском Союзе не приветствовался. Надо было выполнять план по деторождению. Милляр ненавидел советский режим тихой ненавистью. Он не был диссидентом, просто чувствовал какую-то личную обиду на большевиков. Рассказывают, что в свой день рожденья, который приходился на главный коммунистический праздник, 7 ноября, пил в одиночестве и плакал…
О гомосексуальности Милляра ходили слухи. Может быть, чтобы избавить себя от гнусных шуточек и подозрений, он и придумал свой юмористический «Алфавит для взрослых», в котором каждому слову соответствовало какое-нибудь анекдотическое определение. В «Алфавите…» актер достаточно много иронизирует и над своей «педерастией». Вот одна из таких шуточек.
«Педерастия – использование прямой кишки не по прямому назначению. П. – не тот случай, чтобы объявлять: государство в опасности. Впрочем, что за необходимость из-за жопы ссориться с государством?!». И Милляр старался не ссориться. Иронизируя на тему своей инакости, Милляр играл роль безобидного шута и в жизни… Но кому-то и этот шут в те времена мог показаться Вольтером.
Поэтому в конце 1960-х, когда у истока брежневского золотого застоя власть вновь активно стала использовать статью в УК, карающую за «гомосексуализм», друг Александр Роу всерьез озаботился женитьбой популярного артиста. В 1969 году, когда снималась «Варвара-краса, длинная коса» – это был девятый фильм Роу с Милляром – он устроил Георгию Францевичу последний серьезный разговор на тему «пора жениться».
Георгию Милляру шел 65-й год. Как раз, к несчастью, умерла мама, с которой он жил в одной комнате.
…Существует легенда, что первой женой Милляра была некая молодая актриса, которая заявила Георгию Францевичу, что ждет от него ребенка. Но Милляр сообщил «дорогой» супруге, что бездетен, поэтому она может отправляться на все четыре стороны.
Немало косточек перемыли Милляру сплетники на тему его сексуальной ориентации. Что делать, поводы позлословить действительно были. Однажды в Ялте Роу пришлось отправиться на поиски Милляра в общественное место, очень популярное у «определенного круга лиц». На следующий день на съемках Милляр сгорал со стыда. Даже грим не ложился. Гримерам объявили, что лицо сожгли перекисью водорода, съемки отменили. А Роу получил над Милляром такую власть, что актер в будущем не стеснялся при случае называть его во всеуслышанье «моим Царем и Богом.
Женой Милляра, по совету Роу, стала Мария Васильевна, 60-летняя соседка по коммуналке.
«Да не нужны мне мужчины», – удивилась женщина, когда от именитого соседа прозвучало предложение... «А я и не мужчина... Я Баба-яга», – ответил Милляр.
…Власть Георгия Францевича не жаловала и не замечала.
На международные фестивали, где фильмы Роу брали высшие премии, артиста не отпускали.
Не дали Милляру провести и ни одного творческого вечера, даже на юбилей.
В середине 1980-х, когда милляровскую коммуналку в центре Москвы расселяли, двум восьмидесятилетним старикам дали на самой окраине столицы малогaбаритную двухкомнатную квартирку на последнем этаже многоэтажки.
Званиями любимец публики тоже был не избалован. Народного артиста получил только на 85-летний юбилей.
Но снимался Георгий Францевич до последних лет жизни. Назадолго до кончины, в 1993 году, закончил работу в фильме «Ка-Ка-Ду». Всего же число картин Милляра и мультфильмов, героев которых он озвучивал, перевалило за сотню…
Умер он, не дожив несколько месяцев до 90-летия.
В Музее кино от Милляра осталась маленькая папочка с документами. Там есть стихотворение, написанное актером незадолго до смерти.
Сгорел от безделья и умер от трезвости –
Вот что пишите на гробе моем.
А сниматься? Когда же? Скорее же!
Впереди только темный лес.
Сыграть бы хоть пьяного сторожа,
На березу который полез.
Не нужна мне жена чужая
И ролей чужих не хочу,
Но найдется же роль такая,
Чтобы мне пришлась по плечу…
Несмотря на грандиозные творческие успехи, популярность и искреннюю народную любовь, Милляр оставался глубоко одиноким в быту и личной жизни… Сначала он вынужден был скрывать свое аристократическое происхождение, потом прятать от власти и бесстыдного интереса спецслужб и обывателей свою необыкновенную любовь.
Советский тоталитаризм толкал гомосексуалов, если не в тюрьму, то к рюмке, в петлю или в «психушку». «Алкоголь – посредник, примиряющий человека с действительностью…», – иронизировал Георгий Милляр в своем знаменитом «Алфавите…» и продолжал: «…когда человек окончательно примиряется с действительностью, про него говорят, что он... опустился».
Равнодушие к таланту Милляра советской политической системы было вызвано не только «легким» сказочным жанром, в котором работал актер. Тот же режиссер-сказочник Роу был обласкан советской властью… Презрение и бесстыдная забывчивость связаны с нетрадиционной сексуальностью актера, которую тот вынужден был прятать в чулане своего «похабного» образа.
Затравленный соловей. Вадим Козин (21 марта 1905 – 10 декабря 1994)
Вадим Алексеевич Козин – легенда русского романса. До сих пор биографы певца и поэта спорят о том, где в жизни «русского соловья» заканчивается правда, а где начинается вымысел. Обычно, говоря о Козине, вспоминают, что он был внуком великой цыганской певицы Варвары Паниной. Не обходится и без истории «участия» певца в Тегеранской конференции. Там он выступал для Сталина, Черчилля, Рузвельта…
Вадим Козин родился в Петербурге в богатой купеческой семье. Но считался незаконнорожденным ребенком, так как его отец, купец 2-й гильдии Алексей Гаврилович Козин, формально состоял в другом браке.
До революции Вадим успел получить довольно хорошее домашнее образование. В воспитателях у него оказалась писательница Клавдия Лукашевич. Она привила мальчику любовь к литературе, и тогда же юный Вадик пытается сочинять первые стихи.
После октября, когда все имущество семьи было национализировано, 13-летний Вадим был вынужден подрабатывать тапером в синематографе. В 1921 году, в возрасте 16 лет, на одном из дивертисментов он впервые вышел на сцену и исполнил «Песню о стратостате» на стихи популярного тогда поэта Демьяна Бедного. Успех предрешил его судьбу…
Еще немного и голос Козина ворвется в хмурую жизнь Советского Союза с искренними, человеческими интонациями песен «Осень», «Любушка», «Смейся, смейся громче всех…». То полуречитатив, то нежный, ласковый шепот – это звучало почти невероятно в стране, оглохшей от маршей и гимнов.
Первый сексуальный опыт с женщиной, о котором Козин вспоминает в своей «тюремной автобиографии», написанной, возможно, под диктовку следователя, оказался неудачным. Вадима соблазнила школьная учительница, которая использовала его дольно долго для орального секса, шантажируя тем, что у нее будет от Козина ребенок, о чем она сообщит родителям. С этого времени интимная жизнь Козина сосредоточивается на самоудовлетворении. В сексе Козин предпочитал гомоэротическую мастурбацию с мужчинами.
После успеха на сцене в начале 1920 года, когда Козина по конкурсу взяли певцом в Ленпосредрабис (Ленинградское посредническое бюро работников искусств), он полностью отдается карьере: на личную жизнь времени не было.
Гомосексуальность Вадима Козина открыто никак не проявлялась. Напротив, восходящая звезда пользовалась популярностью у слабого пола… Но и у сильного тоже. В роли «совратителя» молодого Козина выступил известнейший композитор (он предложил ему секс в обмен на новые романсы), автор музыки к десятку золотых хитов русской эстрады начала ХХ века, Борис Прозоровский (1886-1937), одна из первых жертв сталинской кампании по «борьбе с цыганщиной». Все подробности своей личной жизни, в том числе и о связи с Прозоровским, Козин рассказал следователям после своего второго ареста в 1959 году…
С начала 1930-х годов популярность Козина росла с неимоверной силой. Пластинки выходили одна за другой и тут же попадали в разряд «не подлежат переплавке». За девять лет, с 1937 года и до его ареста в мае 1945-го, вышло около 70 дисков.
Одетый по последней моде, с аккуратно уложенными редеющими рыжими волосами, элегантный Козин собирал вокруг себя бесконечное число поклонников. Круг самых близких к нему (его так и называли – «кружок имени Козина») состоял исключительно из молодых людей.
Жил Козин в основном в лучших столичных гостиницах, особенно часто в «Метрополе», с директором которого его связывала тесная дружба. Приятели Козина допускались в отель беспрепятственно. Некоторые из участников тех встреч рассказывали в середине 1960-х, что все на самом деле «было очень похоже на мастер-класс». Впрочем, ни для кого из гостей Козина не была секретом, как бы сейчас сказали, его сексуальная ориентация. Мало того, многие стремились завести с Козиным знакомство именно по этой причине. Однако попасть в близкий круг было не так-то просто. Тем более что после мастер-класса несколько особенно приближенных оставались у маэстро на ночь.
Влюблялся Вадим Козин неожиданно быстро. Один роман еще был в разгаре, как непременно начинался другой. Иногда его можно было видеть в ресторане «Метрополя» оплачивающим обед сразу трем приятелям.
Разумеется, Лаврентий Берия регулярно докладывал Сталину об «аморальном поведении» артиста, но тот смотрел на увлечения Козина сквозь пальцы. Ведь он был среди немногих любимцев вождя, пользовался особенным расположением, часто аккомпанировал Сталину, когда тот заводил любимые им скабрезные частушки.
Женщин в жизни Козина почти не было, за исключением Дины Климовой, которая провела с ним несколько последних лет и собственными силами создала уникальный музей в его квартире, и… знаменитой летчицы Марины Расковой (она погибла в 1943 году). Этим своим гетеросексуальным романом Козин перешел дорогу самому Лаврентию Берия.
Первый арест последовал в 1945-м, Козин был осужден решением Особого совещания НКВД СССР от 12 февраля 1945 года на 8 лет. Берия лично советовался со Сталиным, по какой статье «проводить» «всенародно любимого». Вождь выбрал «антисоветскую пропаганду»… Для верности в дело все-таки записали несколько статей, в том числе ту самую, как потом выражались, «бытовую».
В лагерной жизни Козина бараки чередовались с концертами и премьерами в магаданских театрах. И здесь слава его не угасла. На одном из концертов, по замыслу режиссера, сцена и фортепьяно утопали в искусственных цветах, среди которых пел Козин… Зал взорвался аплодисментами. Кто-то из зрителей выкрикнул: «Ура, Козину!..», и зал повторил: «Ура! Ура!..».
Вдруг в ложе поднялся разъяренный хозяин Магадана генерал Никишов.
– Кто орет «ура»? Вы кому орете «ура»? Педерасту – «ура»?! Только Сталину можно кричать «ура». Вон дурака из зала! А ты, – обратился Никишов к Козину, – вон со сцены, в карцер, в одиночку…
…Сохранились дневники Вадима Козина конца 1950-х годов, изъятые спецслужбами во время его второго ареста. В них много обидных наблюдений, в которых сквозит тоска из-за осознания своей горькой участи. Власти ограничили географию выступлений Козина, запретив ему петь в столицах – Москве и Ленинграде. Тем не менее, он оставался своеобразной «примой» Магаданского театра. Только благодаря его имени эстрадная программа приносила театру огромные прибыли, а Козин вынужден был терпеть зависть, интриги и, как он пишет, «низкий культурный уровень артистов». Ему постоянно приходилось ощущать и вину из-за обвинения в «безнравственности» по причине своей гомосексуальности. В дневниках эта боль особенно чувствуется. Вот, например, запись от 20 июня 1955 года: «…смысл разговоров… сводится к похабщине, двусмысленности, анекдоту… При всем моем, как все считают, «глубоком моральном падении» мне никогда не придет в голову сказать в компании нечто подобное… Черт бы побрал такую мораль и этику!». «Мерзавцы и ханжи!.. Мерзавцы и ханжи!..» – несется со страниц его поденных записок.
Тяжело далась Козину первая после лагерей гастрольная поездка. Ему было уже 50, старость набросила свою вуаль на лицо певца. Его впервые назвали дедушкой – какой-то мальчик, передавая из зала записку. И за три месяца гастролей был всего лишь один букет – 9 июля 1955 года «какой-то молодой человек нерусской национальности преподнес букет полевых цветов».
Стыдливая мысль о возможности вновь любить брезжила в мечтах… А вокруг было столько красивых мужчин – моряков, военных, спортсменов. И поклонников тоже, будивших по ночам в нетерпеливом ожидании автографа. Но естественный страх никогда не покидал Козина. Даже дневнику он чаще доверяет не личные переживания, а скрупулезные наблюдения о том, как плохо обустроено эстрадное хозяйство в Северном крае.
Но поклонников, скромных советских юношей, красневших при виде звезды, становилось все больше. Поначалу «никаких мыслей» у Козина на их счет не возникало, но переживать одиночество было все сложнее. Осенью 1955 года Козин начинает активную жизнь гомосексуала, по крайней мере, он доверяет ее своему дневнику. Студенты, мальчики, театральные «урбанисты», но ни один из них Козину не «по душе».
Этот дневник, в котором Козин нелицеприятно выражался о «советском режиме», и стал одной из причин второго ареста певца осенью 1959 года в Хабаровске.
На этот раз статья была названа четко: 152 УК РСФСР – «развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий в отношении их».
Случилось все в гостинице «Дальний Восток», где «стражи порядка» застали певца с местной несовершеннолетней проституткой мужского пола.
Прошел второй срок. Козин окончательно осел в Магадане. Работал в филармонии, выступал с концертами. Последний его большой концерт состоялся на 70-летие, в мае 1973 года.
20 лет Вадим Козин не давал публичных концертов, за самым редким исключением… Но зато очень часто музицировал дома, у магнитофона, для своих гостей. Записи расходились по всему миру.
В начале 1990-х квартира Козина превратилась в своеобразную магаданскую музыкальную Мекку. К нему рвались фанаты и кумиры современности, заезжал по случаю во время своих гастролей по России открытый гей и мегазвезда 1980-х Марк Алмонд.
А Козин жил очень неустроенно, много пил... Питьевого спирта в Магадане достать было невозможно, кумир с лупой внимательно разглядывал талоны на водку, переживая: «Месяц заканчивается, а водки нигде нет…»
90-летие Вадима Козина отметили в магаданском театре без маэстро. Тот «закапризничал» и на юбилей не пошел. На сцене поставили кресло, завалили его цветами, а зал утонул в овациях, когда под его сводами зазвучал в записи тихий голос певца.
Вел тот вечер Иосиф Кобзон. В последние годы он много сделал для Вадима Козина. Пытался содействовать присвоению ему звания народного артиста. Но… в администрации Президента РФ ответили: «С такой статьей званий не дают…»
Наверное, поэтому Вадим Козин не пошел на свой последний юбилей. Он знал: власть, которая всласть потешается на юбилейном торжестве, завтра скажет брезгливо: «Нет».
«Нет» – званию почетного гражданина.
«Нет» – государственному музею.
«Нет» – жизни человека, который много ошибался, но был искренен в полете своей творческой фантазии: в музыке, поэзии и – в любви.
Ему некуда было торопиться, он давно не рвался петь… «…Я вовсе не рвусь петь, пусть лижут зады все те, кто таким способом добивается прощения. Я больше ни в чем не виноват. Прежде всего, я чист перед самим собой, перед Богом и перед великим русским народом, он не считает меня виновным – я это понял, а правители приходят и уходят. Вот перед ними я не хочу распинаться, о чем-то просить и унижаться…»
Так, оскорбленным, с растерзанной судьбой, но не позволившим унизить себя последним выступлением перед теми, кто получал удовольствие от одного предвкушения зависимости от них, ушел Козин.
Вадим Козин прожил долгую жизнь и навсегда вошел в историю мировой музыки как один из лучших исполнителей романса, из которого вышел шансон. Мелодику козинских песен и стилистику его романсов восприняла и советская лирическая песня, которой без Козина просто бы не было.
С середины 1950-х Козина преследовал один и тот же сон – он безуспешно взмахивал руками, как крыльями, в попытке взлететь, освободиться от физических оков, морального осуждения, которым окружила его власть. Внутренне он давно считал себя свободным и «невинным, как двухлетний младенец».
В российской гей-культуре Вадим Козин останется и исполнителем своеобразной песни гей-гордости – романса «Дружба», в которой есть такие строки: «…Давай пожмем друг другу руки // И в дальний путь на долгие когда…» Своему биографу Борису Савченко Кузьмин сознался, что романс о «нашей нежности и нашей дружбе», которые «сильнее страсти и больше, чем любовь», был посвящен любимому мужчине…
«…Сложенный, как греческий сатир». Сергей Лифарь (2 апреля 1905 – 15 декабря 1986)
«Сергей Лифарь – очень юный, маленький, сложенный, как греческий сатир, с симпатичной обезьяньей мордочкой», – таким художник Константин Сомов увидел юного Лифаря рядом с Сергеем Дягилевым в середине 1920-х годов. Лифарю едва исполнилось 20 лет, но, как многие представители поколения, на отрочество которых пришелся октябрьский переворот, он испытал уже многое – ужасы революции, гибель родных, нищету и голод. То, что он очутился в сытом и блистательном Париже, самому Лифарю казалось невероятным. Путь из красного Киева в Европу занял несколько месяцев и едва не стоил Сергею жизни. Но теперь все было позади, и он нежился под солнцем Италии, окруженный любовью и вниманием самого Дягилева…
Безмятежное детство закончилось для Сережи в 1911 году, когда семья, одна из самых состоятельных в Малороссии, переехала жить в Киев. Шести лет он был отдан в школу вместе со старшим братом и через два года надел гимназический мундир и синюю фуражку Императорской Александровской Киевской гимназии, обитателям которой Сергей запомнился тихим мальчиком с книжкой в руках…
В гимназии он начал петь в хоре и так выделялся своими способностями, что получил казенную стипендию, но родители, одобряя его музыкальные успехи, всячески противились интересу сына к театру. Только в 1916 году, когда Сереже исполнилось двенадцать лет, родители отменили запрет и разрешили посещать киевский драматический театр и оперу.
Очень рано, еще в шестилетнем, возрасте мальчик пережил первые эротические впечатления, оказавшиеся настолько сильными, что запечатлелись в сознании. Он простудился и был обязан выздоровлением, по его собственным словам, какому-то «детскому эросу плоти». Тогда Сережа впервые ощутил невероятную ласку женщины, возможно, нянюшки, которая склонилась над ним своим телом. Это первое эротическое переживание еще долго затмевало в сознании подростка все другие чувства к женщинам, пока не было развеяно невероятной привязанностью к Сергею Дягилеву. В жизни Лифаря не было ни одной женщины, с которой бы его связывала плотская любовь. В книге «Страдные годы с Сергеем Дягилевым» Лифарь расскажет о своих детских и юношеских – до 18 лет – эротических впечатлениях. Это невероятные истории несостоявшейся инициации. Они связаны с женщинами, которые были всегда старше юного Сергея – вдвое, втрое. Под дулом револьвера зажимающая подростка по темным углам чекистка Ася, жена большевистского чиновника, поселившегося на лучшей половине реквизированной квартиры. Некая страдающая по Лифарю при живом муже графиня П. Ни одной влюбленности в сверстницу, никаких проявлений сексуальных желаний, направленных в противоположенную сторону…
«Революция захватила меня, двенадцатилетнего мальчика, да и не могла не захватить: это был какой-то сплошной массовый психоз», – вспоминал Лифарь междоусобицу 1917-1918 годов. Киев занимали немцы, был период «гетманщины», потом пришли поляки, и на какое-то время город стал центром освободительного белого движения. Наконец Киев оккупировали красные. Квартиру Лифарей на Софийской площади, куда в целях безопасности перебралась семья, реквизировали.
Бывших гимназистов то использовали на военных строительных работах, то записывали в «белую» милицию. В 1921 году большевики объявили мобилизацию. Юношами забили несколько пароходов, отправившихся в центр России. С одного из них под покровом ночи бежал Лифарь… Но службы на красную власть избежать не удалось. шестнадцатилетний Лифарь был призван в Красную армию и сразу же, так как имел гимназическое образование, назначен офицером. Два месяца прокомандовав ротой красноармейцев, Лифарь подал начальству прошение командировать его в университет.
Во время бессмысленных прогулок по Киеву с приятелями он забрел в студию Брониславы Нижинской, сестры Вацлава Нижинского, не успевшей выехать из России. Но Нижинская отказалась принять подростка учеником. Тогда Сергей воспользовался преимуществами красного офицера. Но, несмотря на приказ зачислить Лифаря, Нижинская напротив его фамилии написала «горбатый», так что пришлось получать справку, что он вовсе не горбат. …Вскоре Нижинская бежала из Киева в Польшу, а затем в Париж. Лифарь продолжил образование самостоятельно. Пятнадцать месяцев – пятьсот дней – он проводил по пять-шесть часов в студии. «Пятнадцатимесячная аскеза» совпала с первым увлечением поэзией Пушкина. Начиная с 1930-х годов Лифарь напишет несколько книг о Пушкине.
В конце 1923 года из Парижа пришла телеграмма от Нижинской, которая должна была подготовить пять танцовщиков для «Русского балета» Сергея Дягилева. И хотя Лифарь не учился в студии Нижинской, он напросился пятым. Предстояло нелегально покинуть Россию. Окончены сборы, брошена некая графиня П., предмет обожания семнадцатилетнего Лифаря. Опустим эти приключения, которые длились несколько месяцев и едва ни стоили Лифарю жизни.
13 января 1923 года Лифарь и еще четверо танцовщиков прибыли в Париж. Их встретил Вальтер Федорович Нувель (1871-1949), тот самый – бывший любовник Дмитрия Философова, третий в интимной компании Сомова и Кузмина, – теперь один из помощников Дягилева по «Русскому балету».
«Впереди – крупный, плотный человек – он мне показался колоссом – в шубе, с тростью и в мягкой шляпе. Румяное слегка одутловатое лицо, живые блестящие глаза, полные грусти и мягкости – бесконечно мягкой доброты и ласки, петровские усики, седая прядь в черных волосах… <…> «Это Дягилев», – сказал я сам себе, сказало во мне шестое чувство», – это первые впечатления Лифаря от Дягилева. Последний, кстати, вскоре оказался крайне недоволен уровнем подготовки прибывших из Киева танцовщиков, готов был всех оправить назад, за исключением «маленького, жалкого воробушка» Лифаря. «Из него выйдет несомненный толк. Он будет танцором…», – решил Дягилев.
Почти год Лифарь будет упорно избегать сближения с Дягилевым. Его диковатость и нежелание отвечать на интимные притязания Дягилева, очарованного подростком, будут причиной бесконечных скандалов на глазах у других участников труппы «Русского балета». Но это, скорее, напоминало процесс ухаживания кавалера за девицей, не готовой так просто расстаться со своей девственностью. Сам Лифарь с первого взгляда понял, что сердце его и талант вскоре будут принадлежать только ему – Сергею Дягилеву: «До 1923 года в моей душе царствовала, владычествовал она, женщина, околдовавшая мое детство, после 1924 года он – Сергей Павлович Дягилев, от которого неотделимо мое второе, духовное отрочество…»
Отношения Дягилева и Лифаря в это время проникнуты подчеркнутой ревностью, свидетелями которой часто становились многие участники труппы и балета. Дягилев беспрестанно подозревал восемнадцатилетнего подростка в связях с «девками», грозя Лифарю тем, что он вконец «прошатает» свой талант. Но Лифарь если и «шатался», то не с девками, а со своим близким приятелем известным парижским гомосексуалом Жаном Кокто. Это вызвало град обвинений со стороны Дягилева, который пригрозил Лифарю изгнанием из труппы: «Если вы не желаете слушать меня, то можете уходить из труппы и хоть каждый день сидеть в первом ряду кресел с Вашим Жаном Кокто». Разумеется, танцовщикам труппы запрещалось появляться во время репетиций в зале, но Дягилева здесь более всего возмущала близость Лифаря к Кокто.
Первая попытка соединиться в одну семью произошла в Версале в 1923-м, когда Лифарь попросил у Дягилева на память программку Версальского спектакля. Тот пригласил его к себе в номер. «Почему ты не пришел ко мне тогда за программой! Все было бы иначе, и ты не потерял бы напрасно год!», – скажет Дягилев Лифарю в 1924-м, когда танцовщик и антрепренер наконец объединят свои жизни и судьбы, – ради балета, ради внимания и любви друг к другу. А пока – Дягилев почти в бешенстве: «О нем заботятся, интересуются им, а он нос воротит…»
Дягилев не хотел сдаваться, терпение лопнуло, он должен был немедленно завоевать этот «цветочек», «ягодку», «милого, хорошего мальчика». Все это Дягилев говорил так нежно, что, вспоминает Лифарь, сердце его билось, как «от первой ласки в моей жизни (кроме ласки матери), и чьей ласки – Дягилева, великого Дягилева…» Отдавшись чувственному вниманию Дягилева, Лифарь, понимая свою привязанность к Сергею Павловичу, все больше боится физических проявлений однополой любви: «Мне пришли в голову все ходившие в нашей труппе разговоры о необычной интимной жизни Дягилева, о его фаворитах…» Но к осени 1924 года, после летних каникул и интенсивной школы у семидесятичетырехлетнего Энрико Чекетти (1850-1928), в Венеции Лифарь сам станет таким фаворитом.
«Я хочу создать из тебя мирового танцора, второго Нижинского…», – заявляет Дягилев Лифарю и отправляется за ним Италию, возит его по города и показывает древности. Они начинают жить вместе, в одних гостиничных номерах.
Осенью 1925 года Лифарь и Дягилев совершили совместную молитву на могиле святого Антония Падуанского – с этого дня их любовь была освящена свыше...
Они относились друг к другу, как два домашних человека, которые понимают с полуслова. Оправдывая «бледность» личных воспоминаний о Дягилеве, Лифарь ссылается на особый тип его домашних отношений с Сергеем Павловичем: «Семейным людям часто нечего рассказать друг о друге, потому что любовь затмевает все».
«Я действительно всеми своими помыслами принадлежал ему. Желая, чтобы я всегда оставался только его, как будто боясь, что он в моих глазах перестанет быть нужным, что я уйду от него, если стану другим…»
Двадцать второй и последний парижский сезон «Русского балета» Дягилева прошел, как обычно, с успехом, Лифарь выступил в качестве хореографа нового балета Стравинского, а также танцевал в «Блудном сыне», который ставил Баланчин. «Теперь мне тебя нечему учить, я у тебя должен учиться…», – сказал Дягилев Лифарю, и рядом с Сергеем Павловичем появился юный композитор Игорь Маркевич (1912-1983), которого он стал возить по крупным музыкальным европейским фестивалям.
Но в декабре 1929 года именно Лифарь и Борис Кохно будут хлопотать у кровати больного Дягилева: обтирать с его тела холодный пот, поить обессилившего Сергея Павловича через соломинку.
После смерти Дягилева Лифарь продолжит безупречную карьеру танцовщика, балетмейстера, теоретика танца, а также исследователя творчества Александра Пушкина. Почти тридцать лет он руководил главным балетом Франции.
В жизни Лифаря произошел случай, который произвел на публику большое впечатление. Это касалось его несостоявшихся взаимоотношений с балериной Ольгой Спесивцевой, которая испытывала безответную любовь к Лифарю; к тому же ей стало известно о гомосексуальности красавца и интеллигента Лифаря, что привело ее к сумасшествию.
Вторую половину своей жизни Серж Лифарь проживет в Швейцарии. Несколько раз он посетит СССР с частными туристическими поездками, а позже даже примет участие в жюри одного из балетных конкурсов. В это время с ним будет его верная компаньонка, графиня Лиллиана Алефельд. Она поможет Лифарю в ведении финансовых дел, в продаже на аукционах его многочисленных коллекций, а также в организуемых им культурных проектах.
Умер Сергей Лифарь в Лозанне (Швейцария). Его прах покоится на парижском кладбище Сен-Жевьев де Буа. На надгробии надпись: «Серж Лифарь из Киева».
«Великий Сережа…». Сергей Параджанов (9 января 1924 – 20 июля 1990)
Выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов снял за свою творческую жизнь восемь фильмов и написал четыре сценария. Это не так много… Но путь Параджанова в искусстве кино словно разорван на два мира пятнадцатилетней пропастью молчания. С 1969 по 1984 год великому режиссеру не давали снимать. А в декабре 1973-го противостояние свободолюбивого художника и власти закончилось обвинениями в «гомосексуализме» и «торговле иконами»…
Сергей Параджанов родился в старинной армянской семье в Тифлисе, как тогда назывался Тбилиси. После школы он учился на вокальном отделении Тифлисской консерватории, потом недолго в институте инженеров железнодорожного транспорта… В 1949 году устроился ассистентом режиссера на Киевскую киностудию имени Александра Довженко, работал на «Армен-фильме» и «Грузия-фильме» до 1960 года.
В 1952-м Параджанов окончил ВГИК и стал дипломированным режиссером. Позже первые пять своих художественных фильмов и несколько документальных работ он откровенно называл «хламом», полагая, что нашел свой индивидуальный стиль только в ленте «Тени забытых предков» (1965) – романтической сказке по произведениям М. Коцюбинского. После выхода «Теней…» сорокалетний режиссер проснулся знаменитым. За несколько лет фильм собрал 30 призов на международных фестивалях в 21 стране. Факт этот отмечен даже в бесполезной Книге рекордов Гиннеса. Имя Параджанова встало в один ряд с именами Феллини, Антониони, Годара, Куросавы. Репутация кинематографического гения окончательно закрепилась за Параджановым сразу же после выхода фильма «Цвет граната» (оригинальное название «Саят-Нова», 1967-1969). Все последующие сценарии режиссера отвергались в Госкино со ссылкой на мнения членов партии и правительства.
17 декабря 1973 года Сергей Параджанов был арестован по обвинению в мужеложстве с применением насилия (статья 122, части 1, 2 Уголовного Кодекса Украинской ССР) и распространении порнографии (статья 211) и направлен в Лукьяновскую тюрьму Киева. Несколько игральных карт с обнаженными девицами (принадлежали приятелю режиссера Валентину Паращуку), ручка с корпусом в виде женского торса, показания коммуниста Воробьева...
Состоялся мучительный для художника закрытый суд («у меня изъята квартира, и я лишен мундира художника и мужчины»).
Причиной ареста Параджанова послужили его гомосексуальные связи. К началу 1970-х Сергей Параджанов стал творцом с мировым именем, известным своим эпатажным поведением. Особенности сексуальной натуры Параджанова не были секретом для его близкого окружения и часто становились объектом шуток самого мастера. Как-то в интервью одной датской газете он заявил, что «его благосклонности добивались десятка два членов ЦК КПСС». Шутка обошлась дорого – пятью годами заключения с конфискацией... И все это время киноэлита, а вслед за ней и обыватели тоже по-своему «шутили»: «...посадили за изнасилование члена КПСС».
Еще за несколько месяцев до ареста приятели предупреждали Параджанова: «Тебя арестуют как педераста»... В обвинительном заключении фигурировала фамилия члена КПСС некоего Воробьева, но были и другие. Впрочем, кто-то потом от показаний отказывался. Кто-то после бесед со следователем вскрывал вены...
О гомосексуальности Параджанова и после смерти вспоминают и говорят неохотно, особенно родственники. Смелости сказать правду хватило у одного из близких друзей Сергея Параджанова кинорежиссера Романа Балаяна: «Пока его дело добиралось до тюрьмы, кем-то запущенный слух долетел до нар: посадили педераста. На самом деле сегодня таких, как Параджанов, называют бисексуалами. Таких в зонах немало...»
Тюрьма стала для Параджанова еще одной вехой в печальном развитии его жизни. А сумрачной жизнь казалось ему всегда, отсюда – стремление к карнавалу, к украшательству действительности. В 1988 году в одном из интервью он так говорил о себе: «Биография... Я не очень-то помню мою биографию. Что моя биография? «Дард» (арм. – горе, печаль) – вот это вечная ее форма. Сейчас, в последнее время, как третий арест прошел, я как-то могу что-то суммировать, обернулся – вижу старость. Это я ощущаю мои 63 года. Мой профессор умер в 43. Человек, у которого я учился – Савченко, великий мастер советского кино, умер в 43 года. Для нас он был тогда старый человек. Мы все были молодые двадцатилетние юноши: Алов, Наумов, Хуциев, Миронер, Бережных».
30 декабря 1977 года Сергей Параджанов был освобожден из заключения в Перевальской колонии. Спустя 15 лет Юрий Ильенко, друг режиссера и оператор «Теней забытых предков» снял фильм в трех тюрьмах Параджанова. Едва ли не большая часть съемок прошла под Перевальском. Фильм назывался «Лебединое озеро. Зона».
С июня 1974 года по декабрь 1977 года Сергей Параджанов писал письма – сыну Сурену, жене, матери, друзьям. Собранные вместе они составили своеобразный «Дневник узника» – яркое свидетельство внутреннего сопротивления художника действительности и самому себе...
Попав в зону, Параджанов оказался в пространстве зла. Он понимал безосновательность большинства обвинений против себя, но признавал и другое – «...свои противоречия, эксцентрику, патологию и прочее, прочее...», «я не говорю о своей вине. Она скорее клиническая, чем уголовная». В этом смысле примечателен интерес Параджанова к творчеству Пьера Паоло Пазолини (1922-1975), смерть которого потрясла художника...
Уже в пятом письме с зоны к жене Светлане (октябрь 1974) он просит ее непременно найти и прочитать том Корнея Чуковского с «Оскаром Уайльдом» – «...это не случайное совпадение, а неизбежность», спустя год повторяет и повторяет то же: «Тебе надо прочесть: Чуковский К., глава «Оскар Уайльд». Твердит о том же Роману Балаяну: «Рома! Прочти, пожалуйста, Корнея Чуковского III том – Оскар Уайльд, – ты все поймешь. [...] Это просто страшно – аналогия во всем».
Но в то же время первые месяцы в тюрьме он еще надеется на возможность скорого возвращения. Какое-то время настроен решительно и к своему клеветнику Воробьеву («остаток своей жизни я посвящу его уничтожению»), потом изменяет свой тон, добиваясь от последнего повинной – «...у меня в отношении Воробьева совесть чиста». Но через год изоляции сам пишет прошение о помиловании: «Предъявленные мне обвинения и осуждение мной глубоко осознано».
И, действительно, принятие некой вины, которая лежит на нем перед близкими ему людьми, поселяется в сознании все прочнее, но в основе ее – вины – он не признает «...ничего, кроме патологии». Он все больше задумывается над природой преступления, наблюдая за характерными типами тюремной жизни, в том числе за лагерными гомосексуалистами. Даже создает небольшой рисунок «Петухи-гомосексуалисты».
Естественно, заключенные знали об «особой» статье Параджанова. «Лагерь больше, чем Губник. Озверелые. Неукротимые. Моя кличка «старик». Подозрение, кто я! И зачем я. Я или меня. Если меня, то могут убить». И в самом деле, поначалу его били. Уголовники, к которым поместили Параджанова, считали, что он сидит, чтобы «снять киношку про тюрьму». Потом выяснилось, что в параджановском деле есть та самая строчка – «изнасиловал члена КПСС». За подтверждением сего факта к Параджанову пришла свора «уважаемых» лагерных урок. Визит закончился выражением почтения и заверениями: «Мы коммуняк всегда на словах имели, а ты – на деле!». Окрыленный таким признанием его «заслуг», Параджанов нафантазировал целый эпос из своей жизни и рассказывал, что сознательно изнасиловал 300 членов КПСС.
«Предательство, вши, сифилис в лагере, гаремы гомосексуалистов, прогоревших в картах...» – осваивалось Параджановым именно в кругозоре его восприятия как художника. Собственно, иного восприятия, бытового или жизненного, быть в полной мере не могло. Параджанов, конечно, очень скоро стал приспосабливаться к зоне в той степени, в которой вообще можно привыкнуть к насилию. Он усвоил ее некоторые неписаные законы – подмазать, подсуетиться... Он пытается использовать свои связи с волей, чтобы достать для начальника то какой-то дефицит, то, например, пленку с записью Высоцкого – это уже настоящая валюта. Но и здесь не все получается.
Все пять лет Параджанова преследовал шлейф «его» статьи. Нередко за решеткой не верили, что с ними знаменитый режиссер. Из лагеря в лагерь перебирался слушок – «...однофамилиц Параджанова – старик, храпит, обвинен в п...»
Но все же самый яркий и символичный образ мужского братства Сергей Параджанов нашел в тюрьме. Речь о сценарии «Лебединое озеро. Зона». Его Параджанов называл своим «последним сценарием». В нем вообще очень много до простоты прозрачных символов... Остановимся на одном – самом главном.
Мент, «овчарка», дает свою кровь «шерстяному», привилегированному зэку. Последний становится «грязным человеком» и может вернуться в барак «только через петушиный гарем... когда будет опедеращен...»
Мать мента признает «шерстяного» своим сыном, а мент – братом. Он незаметно подкладывает зэку письма, сообщая, что их общая мать добилась освобождения и оно близко. В ту же ночь суд «шерстяных» объявляет «шерстяному», что он должен плюнуть в лицо контролеру, который дал ему кровь.
«На белой фате пороши лежал юноша – побратим контролера... он вскрыл вены... [...] Брат стоял над умирающим братом...»
В последнем сценарии Параджанов поет гимн братской мужской любви, которая вырастает в зоне между ментом и зэком.
Вырастает вопреки всему там, где правит бал сборище воров, торбохвостов, картежников. Эта светлая всепроникающая любовь-радость-доброта была основой мировидения Сергея Параджанова. Именно она стала и одним из источников его бисексуальности.
В начала 1980-х Параджанов вновь оказался на зоне. Спецслужбы инициировали дачу им взятки при поступлении его племянника в театральный институт. В тюрьме он провел около года. Чтобы вызволить Параджанова из советских застенков, Луи Арагон и Федерико Феллини создали Международный комитет по спасению Сергея Параджанова – «Великого Сережи…» Когда Брежнев дал добро на условное освобождение, режиссера еще несколько месяцев не могли найти по лагерям…
Тюрьмы и лагеря подорвали здоровье Сергея Параджанова, он тяжело и долго болел. В 1990 году по решению правительства Франции был приглашен в эту страну на лечение.
Умер от рака.
Похоронен в Пантеоне славы столицы Армении.
Принц, разбудивший балет… Рудольф Нуреев (17 марта 1938 – 6 января 1993)
Автобиографию, изданную в Лондоне в 1962 году, когда Рудольфу Нурееву исполнилось 24 года, он начал не с истории своего рождения в вагоне поезда, мчавшегося вдоль берегов Байкала, или, например, первого выхода на сцену Мариинского театра. Он рассказал о «прыжке к свободе», который «подающий надежды артист советского балета» совершил в парижском Ле Бурже июльским утром 1961 года…
Рудольф Нуреев не любил вспоминать о своем прошлом не потому, что его детство пришлось на скудные годы Великой Отечественной войны и последующее лихолетье. Хотя появление на свет под стук колес в ледяное мартовское утро порой казалось ему «самым романтическим событием в жизни». Он был человеком, который никогда не страдал от привязанностей и ностальгии – по стране, былому и близким. Нуреев истово был предан только танцу. Побеждая в танце, он чувствовал себя властителем мира и ждал королевских почестей и поклонения. Подчеркнутое внимание к своему социальному статусу Нуреев будет переживать всегда и станет требовать к себе соответствующей степени уважения от тех, кто, по его мнению, не дотягивал до одного с ним уровня. Он сделает исключение только для своих любовников – тех из простолюдинов, с которыми ему понравится спать. Он будет превращать неповоротливых этуалей (скромных мальчиков из кордебалета) в звезд на время их недолгих романов…
Война застала семью Нуреевых в Москве. Отец, Хамет Нуреев, бывший политрук артиллерийского батальона, был мобилизован. На руках Фариды Нуреевой остался трехлетний Рудик и три старшие дочери. Фарида, не дожидаясь паники, немедленно покинула Москву и через 16 часов была в маленькой Башкирской деревушке на Урале.
…Позже, когда Нуреевы перебрались в Уфу, первое, что привлекло мальчика в детском саду, помимо возможности получить второй завтрак за одно утро (Нуреевы жили в суровой бедности), это… башкирские народные танцы. Усердие маленького Рудика на уроках танца заметили и его взяли в небольшой детский ансамбль, выступавший по госпиталям.
31 декабря 1945 года Фарида, достав только один билет, в суматохе проскользнула на балетный спектакль Башкирского театра оперы и балета. Семилетний Рудик был потрясен обстановкой и происходящим на сцене. Позже Нуреев признается, что именно тогда он понял, что будет танцовщиком.
Возвращение Хамета Нуреева добавило комфорта, но не уюта. Отношения сына и отца были напряженными. Однажды, когда отец мыл Рудольфа в бане, у мальчика случилась эрекция. Хамет был взбешен и по возвращении домой побил сына. Это воспоминание стало одним из самых болезненных детских впечатлений Нуреева. Позже отец бил его за посещение танцевальных классов. Впрочем, после долгих увещеваний он все-таки согласился отправить ребенка в балетную школу в Ленинград…
В августе 1955 года Рудольфа приняли в Ленинградское хореографическое училище. После первых недель в училище Нуреев своим скандальным нравом одиночки восстановил против себя всемогущего директора Шелкова и ушел из его класса под руководство другого преподавателя, Александра Пушкина. Тезка великого русского поэта станет для Рудольфа больше, чем простым учителем. На какое-то время он заменит ему отца – такого, которого он всегда хотел иметь в своих мечтах: понимающего наставника и друга. Недоброжелатели будут поговаривать, что Пушкин, его жена и Нуреев жили втроем.
Именно в балетной школе Нуреев окончательно осознал свою гомосексуальность. Хотя позже он уверял, что до «прыжка свободы» оставался девственником…
Этот прыжок в Ля Бурже был на самом деле всего лишь продолжением стремительного взлета яркой балетной звезды, которая взошла над сценой Большого театра летом 1958 года. Тогда в Москве состоялся Всесоюзный конкурс артистов балета, на котором Рудольф Нуреев представлял Вагановское училище. Его выход на сцену назвали «взрывом бомбы». После конкурса в сознании Нуреева еще раз утвердилось: в любом соревновании он должен быть первым. За триумфом последовали приглашения в три театра. Нуреев выбрал Кировский.
Осенью 1958 года Нуреев дебютировал на сцене Кировского – сразу вместе с примой этого театра. Все пришло в движение: закулисье, балетная критика, публика. Но чем больше становилось у Нуреева поклонников в зале, тем больше врагов и завистников – за кулисами. И он сам давал тому немало поводов: едва ли не требовал ролей и дерзил ветеранам.
К девушкам Рудольф не проявлял особого интереса. Впрочем, и к мальчикам тоже… Его полностью захватил новый мир прекрасных людей – звезд театра, кино и эстрады.
За дерзостью в быту (у Нуреева совершенно не было друзей) следовала дерзость на подмостках. В финальном акте «Дон-Кихота» он почти повторил сценический подвиг Нижинского в «Жизели», отказавшегося танцевать в панталонах. Шантажируя руководство срывом спектакля, Нуреев вышел на сцену в одних трико, без, как он выразился, «абажурчиков».
Общаясь с зарубежными звездами, которые зачастили в Москву перед началом хрущевской «оттепели», Нуреев стал мечтать о возможности такого танца, который бы не регламентировался размерами панталончиков и пачек, а стремительно двигался вперед, высвобождая красоту тела человека и… его инстинкты.
Первый недолгий гомосексуальный роман случился у Нуреева во время продолжительной поездки на Берлинский фестиваль с «очень милым и симпатичным мальчиком». Так что осуществленный менее чем через год прыжок был уже не только вперед к творческой независимости, но и навстречу к свободе любви и секса.
В тот день 16 июня 1961 года Нуреев стал танцовщиком с самым высоким гонораром в мире – 8 000 долларов в месяц. И через неделю уже блистал на парижской сцене… Триумфы следовали один за другим, на ворчание отдельных критиков в газетах, вроде коммунистической «Юманите», никто не обращал внимания.
Карьера Нуреева в балете – это бесконечная череда достижений. Успехи на лучших балетных сценах мира, создание в 1974 году собственной труппы «Нуреев и друзья», руководство балетом парижской «Гранд-Опера» (1983-1989). За 30 лет на Западе он сотни раз выходил на сцену как танцовщик и поставил около 20 балетов как хореограф и балетмейстер.
Лучшие театры мира готовы были принять у себя Нуреева, любые звезды воспринимали его, если не как своего соперника, то как соседа по театральному поднебесью. В одну из таких звезд, затмивших его на гастролях в Ленинграде, Нуреева угораздило влюбиться. Это был танцор Королевского датского балета Эрик Брун. Едва ли не первая и главная страсть на всю жизнь. Эрик Брун… К нему он неизменно возвращался. В то же время были бесконечные случайные связи, походы по маленьким потайным притонам «Ла Дус», «Артс энд Баттлдрес» и геевским баням, желание анонимного секса, «ужасающий непомерный аппетит на любовников». Удовольствие и восторг – на сцене и в жизни, примерно до середины 1980-х, когда в мире заговорили о СПИДе.
Эрик Брун стал путеводной звездой Нуреева в любви. А его нитью Ариадны к славе на сцене оказалась женщина – Марго Фонтейн, прима Лондонского королевского театра. Фонтейн была последней балериной, которой Нуреев позволил выбрать себя в партнеры. Далее он принимал подобные решения только сам. Пара Нуреев – Фонтейн, представленная в «Ковент-Гардене», стала феноменом во всех смыслах: публика неистовствовала и сходила с ума. Во время гастролей в Америке балетоманы жили в палатках у «Метрополитен-опера», чтобы попасть на спектакль с Марго и Рудольфом. И так – по меньшей мере два десятилетия…
Нуреева возбуждала истероидность поклонников. Он принимал условия их игры и устраивал скандалы, превращая бытовой и сценический дебош в искусство. Пресса 1960-1980-х годов столь же часто восторгалась талантом Нуреева, как и вспоминала его дурной нрав. Чего стоила подножка партнерше Наталье Макаровой во время «Лебединого озера» под открытым небом во дворике Лувра… А в Америке он несколько раз умудрился спровоцировать свой арест.
Демонстрируя высочайшую степень профессионального мастерства в классическом танце, в общении и на широкой публике Нуреев вел себя как поп-звезда, охотно выступал в многочисленных телешоу, снялся в кино… Но главное – он стал первым откровенным геем на балетной сцене, хотя и никогда не заявлял о своей гомосексуальности. Любовь мужчины к мужчине жила в его плоти и проявляла себя в непозволительной прежде степени эротичности, которая на сцене Кировского театра могла показаться бесстыдством.
Ошеломительные полеты Нуреева над сценой и новаторские, каких мир балета не знал со времен Нижинского, эксперименты и нововведения в технике танца и костюме в значительной степени определили основные направления развития балета на десятки лет вперед. Они показали возможность взаимодействия классического танца и танца-модерн.
Нуреев, благодаря природной экспрессии, безумной работоспособности, конечно, таланту и особенной сексуальной привлекательности, которая может быть только у гомосексуала, положил конец восприятию танцовщика как вспомогательной фигуры на сцене.
А еще его жизнь была борьбой – за свободу танца, за свободу творческой мысли, за возможность увидеть умирающую мать. И, наконец, за возвращение в Россию, на сцену Мариинки, уже больным – на самом излете своей яркой жизни.
Он умер от СПИДа 6 января 1993 года в возрасте 54 лет.
Свое многомиллионное состояние Нуреев оставил двум фондам – Европейскому и Американскому. И почти ничего – родственникам и любовникам. Гей-сообщество было особенно недовольно: ни доллара на исследования в области СПИДа и гроши на поддержку ВИЧ-инфицированных танцоров. Даже в американских некрологах сквозила некоторая неприязнь к противоречивому Нурееву, которому и после смерти пресса не преминула напомнить его «антисемитские выходки» и дебоши на сцене и за кулисами…
«Изнеженный ангел падения». Евгений Харитонов (11 июня 1941 – 29 июня 1981)
Евгений Харитонов - человек широкого дарования: поэт, прозаик, драматург, переводчик, актер и режиссер. Поэт Дмитрий Пригов в своем некрологе, опубликованном в эмигрантской прессе после внезапной кончины Харитонова, назвал его «одним из талантливейших прозаиков в нынешней русской литературе». Но он был не просто талантлив - он был потрясающе талантлив… Харитонов не только сделал предметом литературы свой гомосексуальный быт… Гейскость стала тем узором, орнаментом жизни, который выделял его среди других, превращая в неповторимого художника.
Родился Евгений Харитонов в Новосибирске за десять дней до начала Великой Отечественной войны. Он рос «добрым мальчиком с мягким сердцем», его воспитанием занимались две женщины – мама, Ксения Ивановна, и бабушка. Как раз во время войны в Новосибирске завершалось строительство грандиозного здания театра оперы и балета. Маленького Женю привели туда, когда ему еще не исполнилось и десяти. Опера с ее преувеличенной эстетикой – колоссальными перепадами от вычурных условностей до естественного выражения самых тонких чувств – произвела на мальчика великое впечатление. Необычный метаязык, который определит его литературную индивидуальность, запрограммирован был уже теми невероятными эмоциями, что вызвали в сознании ребенка оперные спектакли в Новосибирском театре.
После Новосибирска жизнь Харитонова в Москве внешне складывалась вполне благополучно. В 1972 году, вскоре после окончания актерского факультета во ВГИКе, он блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Пантомима в обучении киноактера» под руководством Михаила Ивановича Ромма.
У него была своя студия пантомимы – «Школа нетрадиционного сценического поведения» во Дворце культуры «Москворечье». В театральной Москве много шума наделал спектакль «Очарованный остров», поставленный Харитоновым в Театре мимики и жеста с участием глухонемых.
Еще Харитонов ставил шоу для группы (в начале 1970-х это называлось «эстрадно-театральный коллектив») «Последний шанс», существующей до сих пор и вошедшей в историю раннего советского рока.
На полставки работал на кафедре психологии Московского государственного университета: его интересовала тема исправления дефектов речи...
Жил Евгений довольно легко и просто, вел необычные кружки в самых разных клубах Москвы и Подмосковья, за что неплохо платили. Всегда был окружен благодарными мальчишками, любовь и внимание которых стоили славы режиссера, писателя или карьеры филолога. Но он не ценил и не искал этой преданной любви учеников… Находил сексуальных партнеров в клозетах аэропортов и вокзалов (в одном из своих рассказов дал точное описание секса в популярном у столичных геев 1970-х общественном туалете на площади Революции в Москве).
Харитонов словно сознательно распылял свой талант и силы. Для него это был способ уйти от активного сотрудничества с режимом. Он не стремился сосредотачивать свой дар на одной профессии, признание и известность в которой обернулись бы необходимостью пойти на сделку с властью. Такой статус потребовал бы от него конкретной моральной маски, отказа от многих проявлений гомосексуальности, которые он себе позволял…
В литературу Харитонов пришел через стихопись в традиции, по его собственным словам, «позднего Пастернака и Заболоцкого». Но уже в стихах середины 1960-х годов он словно осознает свою поэтическую и одновременно почти физиологическую избранность.
Вам – книги мнимая раскрытость,
Мертва печатная листва.
Спасет – двусмысленность и скрытность
От большинства…
…Спасение от большинства для Харитонова с его художественным миром и оригинальной сексуальностью означало естественную возможность жить и творить.
И дальше…
Условленный огонь из ставни
Приотворенной – гений жжет.
С того, кто ждал, – намека станет.
Глаз начеку – того, кто ждет.
Для полуночников с томами
Моргнет из-за стеллажных стекол;
Язык, который за зубами,
Вот так красноречив и тепл…
Все эти образы - отворенное в сад окно, огонь мысли… – банальные трафареты советской поэзии 1960-х годов. Но Харитонов уже обращается к себе и себе подобным на ином языке, понятном лишь избранным. Остальным он обещает молчание, в котором услышат витийства лишь только «бесплодные гибельные цветы». Так он называл братьев геев в своем единственном декларативном тексте, озаглавленном соответствующим образом – «Листовка». «…И как цветы, – продолжает Харитонов, – нас надо собирать в букеты и ставить в вазу для красоты. Наш вопрос кое в чем похож на еврейский. Как, например, их гений, по общему антисемитскому мнению, расцветает чаще всего в коммерции, мимикрии, в фельетоне, в художестве без пафоса, в житейском такте, в искусстве выживания, и есть, можно сказать, какие-то сферы деятельности, нарочно созданные ими и для них – так и наш гений процвел, например, в самом пустом кисейном искусстве – балете. Ясно, что нами он и создан. Танец ли это буквально и всякий шлягер, или любое другое художество, когда в основе лежит услада...»
«Листовка» – своеобразный гей-манифест эпохи брежневского застоя как любая декларация упрощает проблемы, но очень точно расставляет акценты, важные для Харитонова, не избежавшего влияния склонной к категоричным выводам всякой советской идеологии. И первый акцент падает, словно по созвучию, на… евреев. Об антисемитизме Харитонова сказано достаточно много. Он не был воинствующим антисемитом, но, кажется, не переносил жидов на физиологическом уровне. Во-первых, с детства был слишком пресыщен жиденятами – с ними «было легче сходиться на почве того, что не будут с тобой прямо и грубо…» Во-вторых, они сверх меры напоминали ему самого себя – правильно благовоспитанного интеллигентного мальчика, от чего всю свою жизнь он стремился избавиться.
Человек, выбиравший путь гомосексуала, выпадал в самый осадок советской жизни, на дно ее. Действительность не могла предложить ему ничего, кроме беспорядочных связей. «Семейство однополых невозможно. Это дело блядское...» – вывод героя Харитонова, к которому он, судя по всему, пришел в жизни и сам.
К прозе Евгения Харитонова и в самиздате 1970-х годов относились довольно настороженно именно из-за ее темы – «…дела блядского». Отталкивала не сосредоточенность писателя на своей внутренней биографии (исповедальность стала для литературы застоя привычной), ни даже узорчатый язык Харитонова, а именно откровенность «некоторого личного свойства, раскрывающаяся в теме, им разрабатываемой». Таковой, по словам писателя Владимира Сорокина, была, например, реакция на Харитонова поэта из старшего поколения «самиздата» (еще времен «Синтаксиса» конца 1950-х) Всеволода Некрасова. То есть и в довольно либеральной интеллигентской среде сексуальная ориентация Харитонова подчас вызывала некоторую настороженность. Причем, Сорокин не случайно вспоминает именно о реакции Некрасова на Харитонова, так как их очень роднят эксперименты в области поэтики. Некрасов, восхищавшийся тем, как пишет Харитонов, был «шокирован» тем, о чем он пишет.
Пугала, впрочем, не сама гомосексуальность Харитонова, а то, что он посмел вынести эту сферу человеческих отношений в литературу такого рода, которая не воспринималась иначе, кроме как в качестве самого интимного дневника. Такому впечатлению от текстов Харитонова во многом способствовал и их неповторимый алитературный язык. Для следователей и экспертов советских спецслужб (каких угодно, КГБ, МВД) признание в авторстве таких текстов – равнозначно чистосердечному признанию в совершении уголовного преступления. К тому же, для них, их экспертов от соцреализма, фонетическое письмо Харитонова – это не литература. Это именно собственноручное признание вины. И возможность получить это признание появилась у власти в 1980 году.
Только что основанный Московский клуб беллетристов, «ответственный лишь перед жизнью и культурой» представил в самиздате альманах «Каталог». В нем впервые была опубликована проза Харитонова, до сих пор не имевшего особых проблем с властью. Еще не утих скандал с первым бесцензурным советским альманахом «Метрополь» (1979), в котором в основном участвовали писатели, широко печатавшиеся и в официальных издательствах. В «Каталоге», напротив, собрались совершенно неизвестные в смысле литературы авторы, посмевшие к тому же в ноябре 1980 года обраться в ЦК и Моссовет с предложением издать свой сборник в количестве 300-500 экземпляров.
Этой дерзости власти простить не смогли и решили по полной программе отыграться на «тайном мужском союзе» семерых участников альманаха. Евгения Харитонова вызвали в органы, «затаскали» больше других, потому что было, чем угрожать. Главным аргументом сразу же стала 121 статья.
Друзьям Харитонов рассказывал о нескольких обмороках во время допросов и визитов следователей, они начались еще в 1979 году, когда был убит его любовник Александр Волков. Харитонов, организовавший похороны Волкова, оказался среди подозреваемых. Позже выяснилось, что Волков погиб во время садо-мазохистких игр со своим дядей, у которого жил. Вся эта история воплотится в новелле «Слезы об убитом и задушенном».
Харитонов как будто предчувствовал свой возможный уход или арест. Незадолго до смерти озаботился публикацией своих текстов на Западе. Собрал их в одну рукопись под названием «Под домашним арестом…» За день до смерти закончил свое последние произведение – пьесу «Дзынь».
…Собранные в двухтомник, подготовленный Ярославом Могутиным и Александром Шаталовым, тексты его в наиболее полном виде были изданы только в 1993 году.
Жизнь Харитонов оборвалась внезапно жарким июньским днем 1981 года на Пушкинской улице (ныне Большая Дмитровка) в Москве. Он умер от инфаркта. Врачи, проводившие вскрытие, уверяли, что все сердце было в рубцах. Не подозревая – не замечая – болезни, он перенес восемь микроинфарктов. Девятого сердце не выдержало…
Он умер вовремя. Примерно через год после его смерти альманах «Каталог» вышел в издательстве «Ардис». И если бы у него хватило сил выдержать расследование, начатое спецслужбами, то он, конечно же, оказался бы в тюрьме. Всего лишь пять лет назад у властей был «удачный» опыт осуждения Сергея Параджанова по 121-й статье…
Но Харитонов не просто не был борцом: он не умел и не мог сопротивляться, потому что на подобное сопротивление у него, занятого более всего своими личными переживаниями, не хватало даже физических сил.
Евгений Харитонов нигде и никогда не играл в гомосексуализм - на сцене, в литературе, а тем более в жизни. Его проза – отражение советской гей-субкультуры 1960-1970-х годов. Он всего лишь двигался в ту сторону, куда ушла двумя десятилетиями раньше вся советская литература – к искренности. Но в своем поэтическом прямодушии он зашел так далеко – туда, где художественные законы столкнулись с нормами УК СССР.
В искусстве со своей «запретной темой» Харитонов испытал неизведанную степень одиночества. «Мы есть бесплодные гибельные цветы…» – так начал он свою «Листовку». А вот как закончил: «В косной морали нашего Русского Советского Отечества свой умысел! Она делает вид, что нас нет, а ее Уголовное уложение видит в нашем цветочном существовании нарушение Закона…»
Но надежду, питавшую его жизнь, Харитонов черпал в других законах и заветах. Изнеженный и лукавый «ангел падения» – весь «в бусах, бумажных цветах и слезах» – он знал, что где-то «у Бога под сердцем» ему уготовано «первое место в раю и Божий поцелуй…»
«Бело-розовый, нежный, пушистый…». Юрий Богатырев (2 марта 1947 – 2 февраля 1989)
Актеры, как, впрочем, и знаменитости других профессий, остаются в памяти обывателей по двум причинам – из-за скандалов, слухов и сплетен, которыми окружена их жизнь, или благодаря таланту и ролям, которые запоминаются гораздо сильнее скабрезных историй и подробностей. Слава Юрия Богатырева – последнего свойства: она заработана путем невероятного творческого напряжения и мощи – в кино и на сцене. Это впечатление огромной силы и энергии, которые заключал в себе облик популярного в 1970-1980-е годы актера, сопровождало Юрия Богатырева всю его творческую жизнь. Тем невероятнее казался его внезапный уход в марте 1989 года.
…Гипертонический криз, который привел к скоропостижной смерти, был вызван смешением большой дозы антидепрессантов и алкоголя. На следующее утро из квартиры исчезли ценные вещи, несколько тысяч долларов, полученные в качестве гонорара за фильм «Очи черные», десятки рисунков артиста, выставка работ которого вскоре должна была открыться в театральном музее имени Бахрушина.
После смерти Юрия Богатырева последовали еще две…
Через год покончил жизнь самоубийством последний приятель артиста Богатырева – Саша Ефимов. Через три – от СПИДа скончался один из его близких друзей, по словам Вячеслава Зайцева, «единственный человек, который пытался быть ему полезен», Василий Росляков.
…Юрий Богатырев родился в семье морского офицера Георгия Богатырева. А его мама, Татьяна Васильевна, происходила из тверских крестьян. Познакомились родители в Ленинграде, когда Георгий был еще курсантом военно-морского училища. Поженились в 1937-м и сразу уехали во Владивосток. Так начались годы скитаний военного офицера по Советской стране. Мама Юры долго не могла забеременеть, и мальчик оказался долгожданным ребенком, появившимся на свет в марте 1947 года. В конце 1950-х семья переехала в Подмосковье…
В детстве, по воспоминаниям Татьяны Васильевны Богатыревой, ее сын страдал странной формой лунатизма: вставал, наряжался в шелковый матушкин халат с черными страусами на голубом фоне, водружал на голову шляпу с пером и вуалью и бродил по квартире. Днем своих ночных костюмированных похождений Юра помнить не мог. Родители наблюдали за необычным поведением сына, но не препятствовали ему, и вскоре спектакли под покровом ночи прекратились. Но зато днем Юра стал устраивать во дворе настоящие кукольные шоу. Свою дворовую театральную труппу он собрал исключительно из девочек: с ними он чувствовал себя гораздо увереннее, чем с пацанами, которые измены такого рода не прощали и нещадно дразнили его «девчоночником»…
Игры в «войнушку» оставляли мальчика равнодушным, зато он удовольствием занимался рукоделием – сам шил костюмы для кукол, увлекался живописью. Куклы стали тем миром, в котором Юра смог соединить свою тягу к лицедейству с интересом к изобразительному искусству. Не удивительно, что после школы он поступил в Художественное училище, правда, не окончил его и нацелился прямо в Щукинское училище.
Впрочем, еще в школе он стал артистом настоящего театра – Детского кукольного на Ленинских горах. Там в постановке по Владимиру Маяковскому ему доверили сразу несколько ролей и назначили ведущим. Он в черном костюме с галстуком объявлял участников и комментировал происходящее – был единственным актером среди кукол. Позже эту постановку показали в прямом эфире советского телевидения. Юра держался блестяще.
В Щуке, как ласково называют воспитанники свое театральное училище, Юра попал в первый набор Юрия Катина-Ярцева, талантливого актера и педагога. Курс оказался очень удачным – с Богатыревым учились Константин Райкин, Наталья Гундарева и Наталья Варлей. Последняя вспоминает, что сокурсники ласково называли его «пельмень» или «бело-розовый», подчеркивая какую-то особенную пушистость и нежность Богатырева в общении с людьми.
Несмотря на свою «бело-розовость», о которой будет говорить не только Варлей, физически Юра производил довольно серьезное впечатление своими мощными руками и атлетической фигурой (его огромные руки называли «верхними ногами»). Но этот настоящий атлет никогда ни с кем не дрался. А на съемочной площадке фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» выяснилось, что он не знает, как складывать кулак, и по-женски прижимает большой палец к ладони.
Режиссером картины был Никита Михалков. И для Богатырева, и для Михалкова – это первая большая работа в кино. Они познакомились еще студентами, и Михалков пообещал после армии (Богатырев в армии не служил из-за проблем с сердцем) обязательно снять Юрия в своей ленте. Тот стал готовиться к роли и худеть на одних капустных котлетках.
Никита Михалков – режиссер, который открыл в кино самые разные амплуа Богатырева как артиста. Лучшие свои роли он сыграл именно в фильмах Михалкова. После «…Чужих…» (1974) был образ мифического Владимира Максимова в «Рабе любви» (1975), где Богатырев просто присутствовал на обложках журналов. Потом специально «под Богатырева» была написана роль Сергея Войницева, «прекраснодушного бездельника-либерала» в «Неоконченной пьесе для механического пианино» (1977). Наконец, Штольц в «Нескольких днях из жизни Обломова» (1979) и незабываемый Стасик в нашумевшей «Родне» (1981). В 1987 – «Очи черные»… Интересно, что и роль генерала Радлова в «Сибирском цирюльнике» также писалась для Юрия, но фильм Михалков начал снимать уже после смерти актера.
…После училища Богатырев работал в театре «Современник».
С жильем в Москве у него всегда были проблемы: до конца 1970-х он мотался по квартирам друзей и приятелей. Дольше всего прожил на квартире Райкиных. Константин Райкин, который считал Богатырева своим другом, вспоминает, что он никогда не был против «женской работы». С удовольствием убирал квартиру, готовил ужин, мыл посуду. Позже, когда Юрий поселился у режиссера Александра Адабашьяна, случилась та же история. Адабашьян так и остался уверен в том, что эта такая поза – форма благодарности за возможность иметь кров. Но Богатырев, своего дома не имевший, просто очень любил заниматься домашними делами.
В начале 1970-х работа в театре не приносила Богатыреву большой творческой отдачи. Так часто бывает у молодых актеров. Не складывалась и личная жизнь, тогда как коллеги по сцене и кино заводили семьи, а то и не одну. Восходящая звезда и наследник знаменитого рода Михалковых посоветовал Юрию взять в жены одну из своих бывших. Наверное, в ответ Богатырев, который слыл острословом, что-нибудь съязвил. Но в глубине души очень тяжело переживал свое одиночество и сексуальную «странность». Бутылка портвейна, которую обычно распивали в общежитии с друзьями, все чаще оказывалась напротив, одна – на пустом столе. И тогда он спешил, например, к Наталье Варлей и другим женщинам-подружкам, которые не могли стать его любовницами, но заменяли ему друзей, как это часто бывает у определенного типа гомосексуалов.
Наталья Варлей вспоминает о ночных визитах Юрия с бутылкой водки в свою коммуналку на Суворовском бульваре: «…он мог выкричать все, что накопилось в душе и требовало выхода». Друзья Богатырева вообще отмечают эти постоянные смены настроения, хотя они и не были какими-то необъяснимыми срывами. У каждого психологического сбоя Юрия обнаруживались веские причины. Однако окружающим они могли показаться ребячеством. А это было всего лишь проявлением непосредственности и искренности, которыми отличался характер Богатырева.
В 1977 году Богатырев ушел из «Современника» и начал служить во МХАТе. Актерским триумфом в этом театре стала для него роль Клеана в «Тартюфе» (1981) в постановке Анатолия Эфроса. Спектакль оказался одним из главных событий театральной Москвы начала 1980-х. Кстати, в 1981 году ему дали «Заслуженного артиста России». «Народного» он получил уже на «закате» своей мхатовской карьеры, в 1988-м, когда печатать на программках «засл.арт.» перед фамилией Богатырева стало просто неприлично.
Но одновременно с театральной славой у Богатырева появились проблемы с алкоголем. Во МХАТе 1980-х невозможно было не пить – это была часть жизни театра во главе с Олегом Ефремовым. Вытащить Богатырева из алкогольной ямы взялась переводчица Кларисса Столярова. Спектакль «Юристы», который поставил немецкий режиссера Гюнтер Флеккенштайн, дважды отменяли из-за запоев Богатырева. Столярова уложила его в больницу, где артиста, как говорится, «зашили…»
И вот здесь, за кулисами, в пьянстве и одиночестве начинается личная жизнь актера, недавнего нашего современника, о которой, если и стоит говорить, то, наверное, очень осторожно. «Художник интересен своим творчеством, а не личной жизнью. Ведь после себя он оставляет произведения…», – замечает, рассуждая о судьбе Юрия Богатырева, актер Всеволод Шиловский.
Нет, все-таки стоит, потому что после смерти Богатырева его друзья, как один, твердили о несправедливости этого ухода. Они видели в Богатыреве современную мегазвезду, которая с легкостью могла бы почивать на лаврах… Но самые яркие творцы, как выяснилось, не сгорают в огне искусства, а тонут в болоте неустроенной личной жизни.
В театре Юрий Богатырев – гомосексуал и одиночка – имел не только друзей. Кто-то предпочитал называть его чудаком, другие – завидовали: даже тому, от чего сам Юрий страдал. Он жил один – у него не было ни жены, ни детей. Кто-то называл это свободой, а для талантливого человека – это могло оказаться тюрьмой.
Из близких Богатыреву женщин нельзя не назвать актрису Надежду Серову. Она стала «законной женой» Юрия («наш брак был благородный порыв»), но при этом о существовании жены мать Богатырева узнала на следующий день после смерти сына. Они разъехались как раз незадолго до того, как Юрий из общежития в центре Москвы, на Манежной улице, переехал в квартиру в Гиляровском переулке. Надежда Серова была его соседкой. Брак случился внезапно, вместе они не жили, просто помогали друг другу – скрашивали одиночество, провели много дней за беседами-разговорами.
…Когда он лечился в клинике, участие в его судьбе пытался принять врач Игорь Арцис. Он же вел в те годы сексологический прием и как опытный психолог «пытался вывести на откровенный разговор» об особенностях сексуальности актера. Не получилось…
Психологическая проблема, разрушавшая Богатырева изнутри, была в том, что, по словам Адабашьяна, «свою «непохожесть» Юра переживал очень болезненно…» Быть может, только женщины, к которым он всю жизнь стремился как к верным подругам, могли понять и принять его таким, каким он был. И, наверное, никто не сказал Богатыреву более правильных слов, чем актриса Наталья Гундарева: «Успокойся, да, ты не такой, как все… Но ты разве кому-то хуже делаешь? Ты кого-то заставляешь страдать? Кому это мешает? Это твое – и все».
Но ведь мешало же. Мог ли Богатырев жить тогда с любимым мужчиной свободно и легко, как ему того хотелось? Конечно, нет… Во-первых, он всегда находился под гнетом возможного уголовного преследования. Реальным примером может служить судьба коллеги Богатырева по кинематографу Сергея Параджанова. Во-вторых, слухи, сплетни, давление родителей, желающих иметь внуков. Наконец, ощущение своей неполноценности везде и во всем, начиная с бухгалтерии (налоги на бездетность и холостяков) и заканчивая светскими вечеринками.
С детства страдая сердечным недугом, обладая тонким характером, болезненно воспринимающим любые обиды, в зрелом возрасте осознав свою «необычность», Богатырев оказался под жестким прессингом общественных стереотипов. Виной всему – обычная гомофобия, которая была частью советской системы и не только не давала геям выйти из чулана, но и заставляла их строить вокруг себя бесконечные футляры алкоголизма и того духовного и физического болота, в котором они были вынуждены прятать свои чувства и желания.
«…Невыносима легкость бытия». Тимур Новиков (24 сентября 1958 – 24 мая 2002)
Тимур Новиков – лидер петербургского неоакадемизма, мозг альтернативной питерской культуры 1980-х – 1990-х годов.
В 1989 году Новиков явился инициатором основания Новой академии изящных искусств, во многом определившей направления культурной жизни северной столицы России конца ХХ века. «Новая академия изящных искусств» начиналась с художественной декларации собственной гомосексуальности в самиздатовском журнале «Кабинет» (1989).
Беседа с Тимуром Новиковым и Сергеем «Африкой» Бугаевым, которую провели Маргарита и Виктор Тупицыны, была позже опубликована в первом номере литературно-художественного гей-журнала «РИСК» (1995).
В довольно сложной культурной программе Новикова трудно вычислить подлинное значение гомосексуализма. С одной стороны, это была художественная поза – перед «новыми классиками» стояла цель «опустить» модернизм. С другой стороны, для тех, кто приходил за авангардом – постмодернистов, однополая сексуальность часто одновременно становилась и способом жизни, и изобразительным приемом – технологией существования в пространстве искусства. Наиболее яркими в этом отношении фигурами в окружении Новикова были художник Кирилл Миллер (в начале 1990-х он запомнится широкой публике совместным с Вовой Веселкиным музыкальным гей-проектом «ОВД»), а также незабываемый Владик Монро, его Новиков считал первым русским фриком.
К концу 1980-х Новиков, по словам Бугаева, был знаком с «американской гомосексуальной свободой» «сантиметров на двадцать». За этой, скажем так – метафорой, в беседе с Тупицыными Новиков и Бугаев хором признаются в своей культурологической гомосексуальности. Ответ звучит буквально: «Да, мы педерасты…»
Для Новикова такой «гомосескуализм» был в первую очередь удобным способом развенчания – «опускания» – авангарда. Сама изобразительная провокация, превращающая авангард искусства в его арьергард (так происходит смена вех), ассоциируется с «деконструкцией гетеросексуального». «Объясню последовательно, – форсирует Новиков, – вот в камеру заходит новых зэк – такой важный, ну... бывший издатель журнала и т.п. Вдруг к нему подходят блатные, снимают с него штаны, ебут и заставляют сосать хуй. Вот это, например, и называется «опустить».
Виктор Тупицын вообще, кстати, склонен противопоставлять «гетеросексуальную московскую ному» «отчасти гомосексуальной ленинградской номе…»
Но для гей-движения в России гораздо важнее неоклассических игр Новикова, в которых принимали участие его приятели, геи и бисексуалы (художники, музыканты и литераторы), были те проекты, в которых гомосексуальность выплескивалась на поверхность и становилась фактом общественной жизни…
Речь идет о важной и не только теоретической роли Новикова в развитии клубной жизни в России, о чем он рассказал в статье для журнала «ОМ» «Как я придумал рейв» (1996).
В 1988 году Новиков впервые оказался за границей, прожил в Нью-Йорке около года, посещал центры клубной жизни в Лос-Анджелесе, во Флориде и на Майами. После возвращения в Россию в 1989 году вместе с Георгием Гурьяновым он провел первую в Ленинграде рейв-вечеринку с ди-джеем. Непосредственными участниками шоу должны были стать и такие привычные для Америки и Европы персонажи клубной жизни, как трансвеститы, геи, лесбиянки и то, что называется drag gueen.
«…Это была дискотека с хаус-музыкой и элементами техно, для пущего веселья мы организовали шоу «Голос альтернативной певицы». Альтернативными певицами у нас были небезызвестный ныне Владислав Юрьевич Мамышев (Монро), менее известный человек по имени «Алла Пугачева» и еще менее известный и ныне проживающий в Германии – «Сандра». <...> Поскольку сексуальные меньшинства очень ярко выражают себя в области внешнего вида, максимально броско одеваются и пользуются косметикой, то мы пригласили большое количество представителей сексуальных меньшинств. Для них вход на дискотеку был дешевле, чем для остальных. Цены были смешные, для всех вход стоил 10 рублей, а для сексменьшинств – 5. Я сам осуществлял фейс-контроль и решал, кому за сколько продавать билет».
Таким образом «…первая дискотека с ди-джеем одновременно была и первой дискотекой сексменьшинств, и первым Drag Queen шоу, – пишет Новиков, – но надо сказать, что тогда сексуальные меньшинства у нас еще не были легализованы, и поэтому мы боролись за права всех «униженных и оскорбленных». С тех пор как статью за гомосексуализм отменили, я никогда больше не интересовался и не занимался этим движением…»
Тем не менее, в 1991-м, за два года до отмены 121.1. статьи, Тимур Новиков принял участие в мероприятиях, проходивших с 23 июля по 2 августа в Москве и Санкт-Петербурге на деньги, собранные Романом Калининым во время его поездке по Америке. На Пушкинской, 10, где в 1993 году будет открыт Музей Новой Академии Изящных Искусств, а также в галерее Сальвадора Дали, принадлежащей Кириллу Миллеру, работала секция культуры и искусства. Выступление Тимура Новикова, которого петербургские газеты называли «признанным теоретиком розово-голубого искусства» («Вечерний Петербург»), открывало заседание гей-культурологов из других стран.
В это время Новиков также принимал участие в работе Фонда Чайковского, который некоторое время возглавляла искусствовед Ольга Жук. «Мы работали вместе с Тимуром Новиком, – вспоминает Жук в интервью молдавскому центру «ГендерДок-М», – великим художником современности, который недавно умер от СПИДа. В качестве основной была работа над программами по ВИЧ/ СПИДу и защите прав сексуальных меньшинств, искусству и культуре».
Последние годы жизни Тимура – это медленное физическое угасание. Все подозревали СПИД. За шесть лет до смерти Новиков полностью ослеп. С того времени, по словам лидера питерского литературного декаданса писательницы и переводчицы Маруси Климовой, некоторые его и «похоронили». «Но он всякий раз возвращался откуда-то из больницы, бодрый и невозмутимый…». Болезнь Новикова, о которой он предпочитал не говорить, активно обсуждалась в окололитературных кругах и Рунете. Некоторые считали слухи о СПИДе очередным «художественным проектом» – «говорят, бородатый православный старец болен СПИДом». Новиков предал анафеме гомосексуализм и заговорил о православии. В этом виделось все то же противостояние (Сергей Кузнецов) «левого авангарда», почувствовавшего вкус к теоретическому и бытовому гомосексуализму, и питерского «постмодернизма».
А противостояние, напротив, начиналось с гомосексуальных деклараций еще в конце 1970-х годов, когда в Ленинграде оформился круг художников, вошедших позже в группу «Новые художники» (1982), основанную Новиковым. В это же время Тимур организовал на своей квартире постоянно действующую галерею «АССА», интерьеры квартиры запечатлены в одноименном фильме Сергея Соловьева. Там, кстати, состоялась и одна из первых неофициальных персональных выставок Новикова.
Позже официальные вернисажи его работ прошли в Финляндии (1989), потом в Австрии, Германии и США (1991). И только пятая выставка состоялась в Москве, на ВДНХ СССР – в павильоне «Космос» во время знаменитой «Гагарин-party», которую Новиков оформил как художник. В 1990-е годы – это время триумфа Тимура Новикова в качестве автора и куратора многочисленных арт-проектов и художника – прошло более 30 его вернисажей в 7 странах мира.
«Новые художники» еще в 1983 году превратились и в «Новых композиторов». Новиков принимал участие едва ли не во всех «Поп-механиках» Сергея Курехина до середины 1990-х годов, то есть до обострения своей болезни. Пожалуй, он полностью проигнорировал только Международный междисциплинарный фестиваль памяти Курехина, который проходил в русско-турецких банях Бруклина. Некоторые, кстати, полагают, что идея фильма о Ленине-грибе была подсказана Курехину Новиковым.
«Самый интересный музыкальный объект, сделанный Тимуром – это «первый русский синтезатор «утюгон» <…>. Утюгон представлял собой старый прямоугольный кухонный столик, вероятно, найденный на помойке или брошенный хозяевами на старой квартире. С одной стороны в столешницу были вбиты гвоздики, на которые гитарными струнами были подвешены старые чугунные утюги. Около струн на столешнице крепились гитарные звукосниматели, передававшие сигнал на дешевые гитарные флэнжер и дилэй и далее на усилитель и колонки. С другой стороны в стол были воткнуты острыми концами различные кухонные ножи, вибрация которых также снималась гитарными звукоснимателями, возможно, в столешнице были также звукосниматели – от самых дешевейших старых проигрывателей» (Сергей Летов, «Поминальные заметки о Тимуре»).
Новиков также работал с группой «Кино», был художником и постановщиком многих ее концертов. Театр интересовал Новикова не меньше, чем музыка и изобразительные искусства. В 1984 году он основал «Новый театр» и поставил несколько спектаклей, среди которых – «Анна Каренина», «Идиот», «Стреляющий лыжник», «Балет трех неразлучников»…
Уже потеряв зрение, Новиков взялся писать новое и издавать старое... В 1998 году вышло собрание его теоретических статей «Новый русский классицизм», подготовленное Государственным Русским музеем. Вместе с А. Хлобыстиным он взялся издавать газету «Художественная Воля».
В 1999-м в сотрудничестве с А. Медведевым Тимур Новиков работал над книгами «Похищение Европы» (I-II том), «Похищение разума». В 2000 году издал сборник лекций «Горизонты», в 2002 году – первую на русском языке биографию Короля Людвига II Баварского (совместно с Медведевым).
«Он был по-настоящему, в самом лучшем смысле этого слова, «аморален». Образно говоря, ему удалось превратить мораль в ничего не значащую бутоньерку на своем сюртуке. Вне всякого сомнения, Тимур был русским денди, и с ним теперь умерла целая эпоха в отечественной культуре, о которой еще не раз с тоской вспомнят удрученные потомки…», – написала Маруся Климова на сайте Gay.Ru в своем посмертном эссе о Новикове. «Незадолго до смерти Тимур признавался мне, что доволен тем, что достиг в жизни практически всего…», – уточнила она.
«Лидер эмоционального меньшинства…». Роман Виктюк (28 октября 1930)
В интервью журналу «Квир» в июне 2004 года выдающийся режиссер Роман Виктюк отметил, что одна только «высота любви» категорически опровергает существование какого-либо «сексуального меньшинства». «Человек по своей природе – андрогин, мы спинами соединены и со зверем, и мальчик с мальчиком, и мальчик с девочкой, и девочка с девочкой, и ребенок со взрослым. Все это потом было реализовано в культуре…» Человек-андрогин – истина и для жизни, и для театра Виктюка. Платоновская идея о «двух половинках человека», о которой, по словам режиссера, в Советском Союзе молчали даже преподаватели философии, – и стала основой его драматургии: «…актер своим воображением может проникнуть в любую душу любого существа».
Быть может, до недавних пор в его театре мы не могли найти воплощение «любви со зверем», но вот первая театральная премьера 2005 года – «Коза, или кто такая Сильвия?» Эдварда Олби. Вторая, ну, быть может, третья – после Лондона и Бродвея – постановка «последнего детища» главной величины драматургии XXI века… Сыграть, что «любить можно все», великий театральный маэстро доверил своему вечно девятнадцатилетнему ученику – актеру Ефиму Шифрину.
Роман Виктюк родился в Европе – на Западной Украине во Львове, где всегда были сильны антиимперские настроения, в интеллигентной учительской семье. Еще мальчишкой он собирал ребят на городской площади Рынок и представлял с ними все, что ему удалось увидеть на сцене местного театра. Позже в школьном театре среди первых ролей дитя свободы Виктюка была юная коммунистка Зоя Космодемьянская…
Тем временем родственников Виктюка коммунисты сослали в Сибирь. А окна школы, в которой учился Роман, смотрели прямо во двор пересылочного пункта НКВД. Верующий пионер Виктюк, выходя из школы, срывал красный галстук – атрибут любого юного коммуниста – и бежал домой, на свободу. Поэтому решение отправиться после школы из Западной Украины в Москву, логово режима, поработившего сотни народов с окраин России, и родителям и друзьям могло показаться только «безумием».
Но Виктюк благополучно выучился на актера. И с конца 1950-х годов, после службы в армии, играл в нескольких театрах на Украине, в том числе в Киевском театре юного зрителя, откуда был уволен по недоразумению… Молодогвардеец, которого изображал актер Виктюк, пукнул на сцене в самый патетический момент, когда вражеская пуля должна была пронзить сердце пламенного патриота. Если бы не этот сценический конфуз, узнали бы мы Виктюка-режиссера?
Первый спектакль, поставленный режиссером Виктюком во Львове, назывался «Все это не так просто». Пьеска о проблемах воспитания, в которой облроно усмотрело «сексуальное развращение молодежи». Второй его спектакль – «Город без любви»; именно о пробуждении и переживании этого великого чувства пытался говорить Виктюк…
В конце 1960-х он возглавил Театр юного зрителя в провинциальном Калинине, где решил ставить Шиллера – «Коварство и любовь». Для того чтобы начать работать над спектаклем, в одну секунду сочинил письмо Клары Цеткин к Крупской с пожеланиями Ильича. Такие «интеллектуальные диверсии» Виктюк совершал за свою театральную карьеру неоднократно. То закончит спектакль о коммунистах греко-католическими песнопениями, то «Нобелевскую лекцию» Солженицына выдаст за дневники Гольдони…
Спектакль в Калинине увидел Марчелло Мастрояни. В Калининской области как раз в это время снимали фильм «Подсолнухи». Мастрояни написал потрясающий отзыв о «европейском театральном уровне» в русской Сибири. Не меньше – уже рецензией знаменитого француза – были потрясены чиновники. В местных газетах появились «жуткие» статьи. Виктюка уволили.
Но не так-то просто убить в Виктюке режиссера – до тех пор, пока в нем живет актер. Вместе со всей труппой – 30 актеров выпускников «щуки» – он отправился в Вильнюс, куда самолично устроил себя, разыграв угрожающий телефонный звонок из Министерства культуры литовскому чиновнику. Четыре года, с 1971-го по 1975-й, – это до сих пор самый долгий по времени роман Виктюка с одним театром. С середины 1970-х он надолго не задерживается ни в одном из театральных коллективов. Это был своего рода «партизанский» способ существования свободного творческого человека в государстве, где царили невероятные идеологические запреты, в которых с трудом разбирались даже их авторы.
Зато многие спектакли, поставленные Виктюком, стали настоящими театральными долгожителями. Во МХАТЕ с 1982 года идет «Татуированная роза» со звездой советского кино Ириной Мирошниченко. В Театре им. Моссовета 25 лет представляли «Царскую охоту», любимый спектакль заграничных коммунистов времен застоя.
Уже в период работы Романа Виктюка в Калининском театре имени Ленинского комсомола пошли слухи о его гомосексуальности. Несмотря на преследования гомосексуалов в СССР, во времена правления Леонида Брежнева подобные предположения для людей творческих не всегда заканчивались тюрьмой. Зато служили удобным способом манипуляции, приемом очернить человека, поводом пустить вослед гнусный слушок. И тогда любые идеологические претензии «непуганых идиотов» казались вмешательством не только в творческую, но и личную жизнь. Так было в том случае, когда речь шла не о художнике-дельце, для которого сцена – лишь способ обеспечения своего быта, а о творце, для которого жизнь – это сцена. Роман Виктюк принадлежал и принадлежит к плеяде людей, у которых есть только театр. Интересно, что даже с конца 1980-х годов, когда желтая пресса в России принялась старательно перерывать ворохи постельного белья знаменитостей, Виктюк так и не стал объектом хотя бы одного публичного скандала. При этом интерес обывателя к личности Виктюка и подробностям его быта – огромен.
Роман Виктюк никогда не рассказывает о своих интимных тайнах. И это понятно: у большого художника есть один внутренний секрет – то, что происходит в мастерской его сердца и души. Относительно Виктюка это не просто слова. Он последовательно отстаивает эмоциональную природу любви.
«Влюбленность – это единственное мое состояние, другого я не знаю. Если его нет, не может быть никакой работы», – признался Роман Виктюк в интервью Ярославу Могутину в 1993 году. С тех самых пор фразы о любви, способной «пробивать любые стены и долетать до любой части земного шара», можно услышать в каждом публичном выступлении режиссера. Возможность петь о великой всепроникающей любви – ярко, феерично, без оглядки на туманные идеологические запреты – дала Роману Виктюку Перестройка. Начиная с юности Виктюк хранил в себе «светоносное начало любви», оно помогало ему сопротивляться «ненависти, злости, зависти – всему тому, что государством культивировалось…»
В 1988 году в театре «Сатирикон» он поставил пьесу Жана Жене «Служанки», в которой мужчины играют женщин. Для Виктюка-художника это был еще один смелый и удавшийся творческий эксперимент, доказывающий бесполую природу любви одной только возможностью сыграть это на сцене. Потому что настоящее актерское мастерство не может быть основано на чувственной лжи.
«Служанки» стали сценическим прорывом к андрогинности, одновременно стремительным броском русского театрального искусства к мировому наследию – а ведь мы были лишены возможности общения с ним многие десятилетия. Вокруг Романа Виктюка немедленно возникла аура главного гей-режиссера современного российского театра. Гомосексуалы, прежде лишенные возможности сопереживать искусству, которое продвигало их к познанию своего внутреннего мира и природы, превратили Виктюка в настоящую икону. Со «Служанками» Виктюк объехал более 30 стран. Вокруг театров стояли кордоны полиции, на бис повторялись целые действия, но публика не отпускала…
Вслед за «Служанками» последовала «Федра» (1988) в театре на Таганке, где зазвучали темы любви Марины Цветаевой и Софьи Парнок, а также женской привязанности поэтессы к своему сыну.
В 1991 году «Саломея» по Оскару Уайльду дала начало Театру Романа Виктюка. Спектакль, который «ребенок Роман Виктюк» называет своей «любимой игрушкой», сыгран около 300 раз. «Саломея» открывается сценой суда над Уайльдом, призывающим в качестве своего адвоката философию Платона. За два года до отмены в России статьи УК, преследующей гомосексуалов, Виктюк разыгрывает трагедию сопротивления любви страху, вызываемому «нравственными фантомами», а за ними на самом деле – пустота. Но из черных дыр правил и традиций, повергающих людей в состояние ужаса, давно ушла душа…
Еще более откровенно Роман Виктюк заговорил о бестелесной природе любви в спектакле «M. Batterfly» (1990) и, наконец, в первой пьесе на тему однополой любви современного драматурга Николая Коляды «Рогатка» (1993). Это история о «снах любви» инвалида афганской войны, грезящего о самоубийстве, и его восемнадцатилетнего друга.
Чуть раньше, в 1992-м, Виктюк поставил «Лолиту». Со времени премьеры «Служанок» режиссер словно пытался показать на сцене, что она – любовь – действительно бывает настолько разной, что подчас повергает в шок. «Сначала были нимфетки, потом – мальчишки, наконец – поэтесса с поэтессой…» И вот в начале 2005-го – коза и ее друг в исполнении Ефима Шифрина.
Не бояться, осуждать или обсуждать такую разную любовь зовет Роман Виктюк, потому что она, любовь, всегда – тайна. «Любовь имеет прямое отношение к тайне. Ее нужно просто ощущать, но не расшифровывать. Не уничтожать и не возвышать, это – величайшая глупота…», – сказал режиссер на страницах «Квира». Он, кстати, один из первых не побоялся рассказать о своем творчестве и жизни в интервью российскому гей-журналу…
Однажды Роман Виктюк признался, что, как только началась перестройка, он начал ставить те пьесы, которые «Надя Крупская, когда она была министром просвещения, <…> требовала из школьной программы и из библиотек вычеркнуть навсегда», потому что они «идеологически не воспитывают…». С начала 1970-х годов Роман Виктюк поставил в театрах двух десятков государств мира около 200 спектаклей, но «список Крупской» еще далеко не иссяк. Поэтому с середины 1990-х годов Виктюк занят строительством собственного театра, который должен открыться в стенах бывшего Дома культуры в московских Сокольниках.
И там мы не только увидим драму Виктюка, но и услышим его оперы. Свой первый оперный спектакль профессор кафедры режиссуры музыкального театра РАТИ Роман Виктюк поставил в Краснодарском театре. Последняя опера Петра Чайковского «Иоланта» была представлена в 2003 году под названием «Дочь короля Рене». И ее автор, Чайковский, как это было и с Уайльдом в «Саломее», вышел на сцену и стал героем действа: великий композитор сам рассказал нам историю о всепроникающей любви, способной победить все, что угодно, – даже слепоту.
В этих «краткосрочных спазмамах любви», по мнению режиссера, есть «высота и искренность», составляющие «божественную суть искусства». Вот этим и живет театр Романа Виктюка. И еще нежностью, которой режиссер однажды пожелал всем посетителям сайта Gay.Ru: «Мне хотелось бы, чтобы все мужчины чаще и больше давали друг другу нежности…»
«Высвобождение чувств». Елена Гусятинская (10 августа 1946)
В одном из гей-гидов по России, Украине и Белоруссии, изданном, кажется, в Австралии есть короткий анонс, посвященный московскому Архиву лесбиянок и геев (АЛГ). О хранительнице архива сообщается, что она предпочитает соблюдать инкогнито…
Архив, в который приезжают ученые, студенты, просто люди, интересующиеся проблемами гомосексуальности, со всего мира, действительно существует. Первая его часть – систематизированная библиотека более чем из 2000 книг – художественных, научных и научно-популярных – на русском и иностранных языках. Вторая – это несколько тысяч единиц хранения, обширное и разобранное в соответствии с правилами архивного дела собрание гейской и лесбийской периодики, а также коллекция вырезок из российских газет, начиная с конца 1980-х годов. Здесь можно найти всю гей-прессу, начиная с «Темы» Романа Калинина и заканчивая редкими рукописными номерами самиздатовской «Омской темы» 1990 года. И третья часть архива – дневниковая и литературная. Она включает в себя рукописи, дневники и письма гомосексуалов.
Создателя и бессменного хранителя архива зовут Елена Григорьевна Гусятинская. Она родилась в Москве в первый послевоенный год в интеллигентной семье. Окончив Институт иностранных языков, стала специалистом по французскому языку и с тех пор успешно работает в средней и высшей школе, а также практикует в качестве переводчика.
«Свою нетрадиционную ориентацию я ощутила довольно рано, еще в юности, – рассказывает Елена Гусятинская, – но так как эта тема в те годы, в 1960-е, была под совершенным табу, я особенно глубоко над своими желаниями не задумывалась. Хотя, поскольку я легко читала на иностранных языках, то у меня был, разумеется, некий объем информации по этому вопросу. Но в целом моя гомосексуальность оказалась зарыта глубоко в подсознание. С одной стороны, я это чувствовала, но, с другой – вела традиционный образ жизни: вышла замуж, развелась…»
Высвобождение чувств состоялось в конце 1980-х, когда в Советском Союзе стало набирать силу гей-движение. Елена Гусятинская была приглашена на знаменитую международную правозащитную конференцию летом 1991 года. «Я увидела там огромное количество людей одной со мной сексуальной ориентации, почувствовала себя в своей среде и поняла, что необходимо об этом говорить, отстаивая право на личную свободу. А главное, я поняла, что существует какой-то другой мир, в котором мне хотелось бы жить».
На конференции и кинофестивале у Гусятинской завязались контакты с активистами западных гей-организаций. Она узнала о том, что в мире активно развивается LGBT-движение. Существует гей-пресса, издаются книги, снимаются фильмы. Люди одной ориентации собираются, чтобы просто проводить вместе время – заниматься творчеством, поддерживать друг друга.
Из российских гей-активистов у Елены Гусятинской завязались контакты с Машей Гессен и Виктором Обориным (В. Гульчинским). Возможно, именно деятельность Виктора Оборина, основателя российского центра «ГендерДок», который с начала 2000-х годов успешно продолжает работать в Молдове, подтолкнула Гусятинскую к созданию своего архива. Виктор Оборин (с конца 1990-х годов живет в Канаде) собрал и обработал большой объем информации по российскому гей-движению. Основная часть его собрания сейчас находится в Homodoc (Амстердам).
В конце 1994 года Оборин пригласил Гусятинскую сотрудничать в информационном бюллетене центра «ГендерДок» «Зеркало». Вместе они работали над тремя первыми номерами.
«Именно тогда, прикоснувшись к архиву Оборина, я поняла, – вспоминает Елена Гусятинская, – что очень важно собирать и систематизировать весь тот поток информации по проблемам гомосексуальности, который выливается на страницы общероссийской прессы и многочисленных гей-изданий, век существования которых все еще недолог».
Так как коллекция Оборина была вывезена за рубеж, Елена Гусятинская своим трудом преодолела ту библиографическую и архивную пропасть, которая оказалась на месте российского гей-движения в государственных библиотеках и архивах. Но целью Гусятинской было не просто сохранение информации. Она хотела сделать архив общедоступным, а для этого нужен был читальный зал. Первым местом, где расположился в 1995 году архив Гусятинской, стал офис «Треугольника». Однако грант ILGA, на который существовал «Треугольник», вскоре закончился, и архив вновь остался без помещения. Хотя за год публичной работы его фонды значительно пополнились, благодаря поступлениям от читателей из всех регионов России и зарубежья.
Попытки Елены Гусятинской найти новое помещение под свой некоммерческий проект успехом не увенчались. В частности, она обращалась за поддержкой в многочисленные развлекательные гей-заведения, но владельцев столичных гей-клубов ее идеи не заинтересовали.
Инициативу поддержали американские и французские друзья Гусятинской. В конце 1997 года на частные пожертвования была снята однокомнатная квартира, в которой разместились архив и библиотека. С этого времени здесь принимают посетителей каждый четверг, с перерывом на каникулы. Люди приходят почитать новые журналы для геев и лесбиянок, взять домой интересную книгу. Регулярно архив превращается в литературно-музыкальную гостиную, где звучат авторская песня, стихи, проза.
В 1997 году сложилась и группа единомышленников, которые координируют работу АЛГ. Это администратор Юлия Смирнова, библиограф Ольга Царева, издатель лесбийского журнала «Остров» Елена Цертлих, а также Анна Давыдова, Светлана Вольная, Ольга Герт, В.Письменный и другие.
Почти за десять лет существования архив сменил несколько съемных помещений и в конце концов вернулся в личную квартиру Елены Гусятинской.
В архиве перебывали десятки иностранных журналистов. О коллекции Гусятинской хорошо знают по обе стороны океана – в Америке, и в Европе. Работать с документами приезжают ученые из Франции и Германии, США и Нидерландов, других стран мира.
С недавних пор Елена Гусятинская стала желанным гостем на международных конференциях. Дважды она выступала с докладами по проблемам гомосексуализма в Марселе на Летнем Университете (2000, 2002). В зарубежных изданиях (Harvard Gay & Lesbian Review, Lesbia, ex Equo, Tetu) появлялись статьи об архиве и интервью с его хранительницей. Не пропускают сотрудники архива и акций российских лесбиянок.
Среди самых запоминающихся поездок – визит в Нидерланды на лесбийский фестиваль в ноябре 2004 года. Интерес голландских лесбиянок к деятельности АЛГ не случаен. Среди последних проектов Елены Гусятинской – «Антология лесбийской прозы». Идея издать эту книгу возникла в ответ на беззастенчивую эксплуатацию образов лесбиянок в современной «низкопробной литературе». Один из отобранных в антологию рассказов – «Мой сын» Юлии Смирновой – привлек внимание организаторов фестиваля и был переведен на голландский язык. Вместе с автором рассказа в фестивале приняли участие Елена Гусятинская (она рассказала о работе АЛГ), исполнительница русских романсов Елена Бирюк и журналистка из Барнаула Елена Гаврилова.
Ранее с помощью архива был издан роман Натальи Воронцовой-Юрьевой «Снег для Марины» (2000), ставший настоящим бестселлером лесбийской литературы начала ХХI века, и содействовал публикации исследования Сони Франеты «Розовые фламинго: Десять сибирских интервью» (2003). Книга Франеты в 2004 году вошла в десятку самых популярных среди геев и лесбиянок по результатам продаж в магазине Shop.Gay.Ru.
В последние годы поле деятельности для архива Гусятинской постоянно только расширяется. Особенно активизировалась издательская деятельность лесбиянок. На начало 2005 года вышло 4 номера альманаха «Лабрис», более 20 тетрадей журнала «Остров». А еще прошли три фестиваля лесбийской песни, организованные Еленой Боцман. Каждое событие находит отражение в архиве.
Но главная задача – сделать архив наиболее доступным, а для этого необходимо помещение, поиск которого не прекращается. Ведь количество постоянных посетителей, на которых заведены библиотечные формуляры, уже достигло 116 человек. «Но эту цифру стоит умножить на два, шутит – Юлия Смирнова, – так как за одним читателем, как правило, стоит семейная пара лесбиянок или геев».
«Материализованная боль…». Михаил Аникеев (14 июня 1947 года)
Михаил Аникеев вырос в простой московской рабоче-крестьянской семье. После школы окончил Институт иностранных языков Мориса Тереза, работал по специальности – преподавателем и переводчиком.
Свою нетрадиционную сексуальность Аникеев почувствовал в пятилетнем возрасте. Так что уже на пороге совершеннолетия в конце 1960-х годов Михаил легко влился в сокрытую от глаз обывателя «подпольную» гей-жизнь Москвы. «Я не ограничивал себя в желаниях и вел по отношению к потенциальным партнерам довольно агрессивно…», – рассказывает Михаил Аникеев. – «Но эти сексуальные приключения всегда сопровождал страх. Тем более что мой первый друг, с которым мы прожили несколько лет, отсидел в советской тюрьме по 121 статье. Он настолько был напуган и внутренне надломлен, что мы сексом занимались с оглядкой на плотно закрытые шторы окон московской квартиры… Настолько этот страх перед системой проник в его сознание, что, как только появилась возможность, он из страны уехал. Причем в довольно преклонном возрасте. «Знаешь, – говорил он мне уже после отмены 121 статьи, – меня во время секса не отпускает ощущение, что они снова придут…» Да и у меня до сих пор вид милиционера, который пытается войти в мой дом, вызывает ужас».
Участие Михаила Аникеева в гей-движении 1990-х началось, по его словам, с «материализации боли». С ранней юности он был полностью погружен в нелегальную жизнь московских гомосексуалов. Ослабление режима подтолкнуло его к тому, чтобы начать записывать свои впечатления о, как бы сейчас сказали, гейской субкультуре. Это произошло в конце 1980-х годов, когда Аникеев уехал из Москвы и обосновался в среднерусской деревне. Там в одну из морозных зим он сел за печатную машинку – так родился роман «Оплеуха». Первая книга об однополой любви современного российского автора-гея, вышедшая при его жизни. С «Оплеухи», изданной в 1996 году, в современной русской литературе начинается поток литературного творчества российских геев и лесбиянок. За книгой Аникеева последовали сочинения Дмитрия Лычева (1997) и Дмитрия Бушуева (1998), Александра Ильянена и Евгении Дебрянской...
Первоначально «Оплеуха», написанная еще во времена действия 121-й статьи, задумывалась как литературная мистификация – перевод романа некого иностранного автора. Именно поэтому местом действия «психологической драмы с эротической окраской» – такой жанровый подзаголовок выбрал Аникеев – стала ферма в неком условном англоговорящем государстве. А своеобразным ключом к повествованию – эпиграф: «Страна, где происходят описываемые события, находится в сердце автора».
Когда рукопись «Оплеухи» была закончена, автор отправился с ней к нескольким литературным экспертам, писателям-профессионалам. Их мнения о книге разделились. «Я услышал абсолютно взаимоисключающие отзывы, но главное, что меня удивило, – это их вполне серьезное отношение к моим литературным опытам. Они говорили об «Оплеухе» как о законченном тексте, одни сцены в котором удались мне лучше, а другие – несколько хуже. Вдохновленный таким заинтересованным восприятием, я решил опубликовать свой роман…»
Попытки пристроить рукопись в несколько гейских изданий – от «Темы» до «Риска» и «Арго» – не увенчались успехом. «Один из гей-издателей, который, кстати, прочел рукопись «Оплеухи» за один вечер отказал, – вспоминает Аникеев, – такой вот откровенной фразой: «Во всем, что мы печатаем, должна быть политика…». Этот ответ подтолкнул Михаила Аникеева самого заняться изданием своих текстов.
В 1993 году – после отмены 121-й статьи – появился первый номер «Партнер(Ши!)». Скромное (от 16 до 24 страниц) черно-белое издание с эротическими фотографиями, рассказами и объявлениями о знакомстве до 4 номера выходило как литературное приложение к газете «Импульс». Одноименное агентство «Импульс» под руководством Николая Сиволобова занималось профилактикой ВИЧ-инфекции. В создании «Партнер(Ши!)» принимал участие ныне покойный активист «Импульса», известный под псевдонимом Вит Владимиров. Он и стал главным редактором издания, а его учредителем – Михаил Аникеев. После того как у Аникеева и Владимирова возникли разногласия с Сиволобовым, «Партнер(Ша!)» также активно сотрудничала с антиспидовской организацией «Мы и Вы» Геннадия Крименского. Тема пропаганды безопасного секса оставалась на страницах издания одной из основных.
Окончание «ша!» в названии было, по признанию Аникеева, неким элементом «хабальства». И, действительно, своеобразная и присущая только гейской субкультуре интонация общения наличествует во всех издательских проектах Михаила Аникеева, за исключением, быть может, «изысканного» «Урануса».
В «Партнер(Ше!)» Аникеев полностью отказался от использования эротических фотографий зарубежных моделей. В номерах были представлены только русские парни, многие из которых не являлись гомосексуалами. Большинство фотографий сделаны самим Аникеевым, а модели найдены, так сказать, «в глубинке», – во время поездок редактора по отдаленным губерниям. В создании изобразительного ряда Аникееву помогла его прошлая профессия. Он имел опыт работы с фотографией, а также долгое время работал профессиональной моделью у модельера Славы Зайцева.
В 1994 году «Партнер(Ша!)» представляет собой довольно странный коктейль из рекламных объявлений, пропагандирующих безопасный однополый секс в форме различных шуток, частушек, прибауток и черно-белых эротических фотографий… Короткие гомоэротические рассказы непрофессиональных авторов соседствуют с фрагментами из Константина Кавафиса, Томаса Манна, бисексуальными частями «Метаморфоз» Апулея, биографическими материалами о жизни Фредди Меркьюри и Оскара Уайльда.
Постепенно издательский портфель Аникеева наполнялся материалами и иллюстрациями, поэтому было принято решение увеличить объем издания. В 1995 году выходит «строенная» (№ 10-11-12) тетрадь уже «спидпрофилактического, публицистического и литературно-художественного журнала». А в следующем номере (13-14), который появился в 1997 году и стал последним, исчезла двусмысленная приставка «ша».
В «строенном» номере печатаются главы из «Оплеухи» – романа, как пишут во внутренних издательских рецензиях, представляющего собой смесь «эротических сцен, грешащих натурализмом». К этому времени книгой Михаила Аникеева заинтересовалось крупное провинциальное издательство «Феникс» из Ростова-на-Дону. С автором был заключен договор, и первый экземпляр своей гомоэротической истории Аникеев получил в начале 1996 года на Московской международной книжной ярмарке. Изданная тиражом 10 000 экземпляров в серии «Лики любви» «Оплеуха» была полностью распродана менее чем за год. Но это была только первая часть романа, о продолжении которого автор думает до сих пор.
«Главное действующее лицо книги – работник фермы, гетеросексуал Фрэд, устремивший силы своего благородного сердца и крепкого тела на завоевание девушки своей мечты. Постепенно она становится объектом его эротических фантазий… Но Фрэд оказывается свидетелем ошеломляющей сцены: он видит, как молодой ветврач Фил, немой мальчик, избегающий шумных компаний, самозабвенно… слизывает… с дерева… остатки его утренних семяизвержений. Вожделение, с которыми Фил манипулировал с плодами его интимной жизни, вселило в душу Фрэда смятение…» Так довольно претенциозно пересказывалось содержание книги в предисловии, предварявшем публикацию глав из «Оплеухи» в «Партнер(Ше!)».
В 1995 году «Партнер(Ша!)» увеличилась в объеме не только за счет литературного материала, но и благодаря иллюстративному ряду. В журнале были опубликованы фотоработы авторов из российской провинции – некоего Владимира Тимофеева из Новокуйбышевска, своеобразного «энтузиаста» на ниве распространения гомоэротического фото в середине 1990-х годов, а также Олега Уральского из Челябинска. Эти фотографии могут вызвать сегодня лишь улыбку – обыкновенное домашнее мужское ню. Среди них, впрочем, выделялись работы самого Аникеева и фотографии журналиста Виталия Лазаренко.
В начале 1994 года началась работа над журналом «Уранус». С Михаилом Аникеевым связалась группа профессиональных издателей, которые хотели создать полноцветный гей-журнал на высоком полиграфическом уровне. Почему «Уранус»? Уранус – в переводе с древнегреческого – небо, голубое небо. УРАН – БОГ НЕБА. «Цель журнала «Уранус» – сделать достоянием широкой читательской аудитории поэтические и прозаические произведения, работы живописцев и фотохудожников, а также публицистические изыскания на темы, волнующие современное розово-голубое сообщество».
Единственный номер «Урануса» на 82 страницах вышел в конце 1995 года. До появления журнала «Квир» в 2003 году он оставался самым привлекательным издательским гей-проектом, – с точки зрения дизайна, полиграфии и содержания. В этом смысле единственный номер «Урануса» опередил такие разные гей-издания 1990-х годов, как «Риск» и «Арго».
Самой запоминающейся моделью «Урануса» стал гетеросексуальный парень, который работал продавцом в хозяйственном магазине в провинциальном Владимире. «Лопаты, какие-то тачки, и вдруг выходит парень, – вспоминает Михаил Аникеев, – и у него на голое тело одет какой-то обычный рабочий халат. Блондин, с голубыми глазами и такая фантастическая мраморная грудь… И через пять минут он мне уже позировал в какой-то каморке или раздевалке. Я даже не просил его раздеться. Позже он приехал в Москву, мы заплатили ему гонорар и сделали, на мой взгляд, одну из лучших первых эротических фотосессий с русской моделью для русского гей-журнала».
Из современных авторов в «Уранусе» были представлены Михаил Аникеев и прозаик Евгений Попов с рассказом «Водоем». Все остальное – проверенная временем классика: от науки и философии в трудах Мастерса и Джонсона, из русских – Василия Розанова («Загадка Гоголя»), до художественной литературы разных эпох, направлений и жанров – Петроний, фон Захер-Мазох, Жан Поль Сартр, Станислав Лем. Неожиданно прозвучала и статья Михаила Аникеева «В Содоме не было содомского греха». Это, а также несколько других исследований Аникеева – результат его интереса к «бескрайней, бездонной, захватывающей» теме «гомосексуальность и православие».
Был почти подготовлен и второй номер «Урануса». Но он так и не появился, в частности, из-за возникших разногласий между редактором и издателями.
Михаил Аникеев вернулся в провинцию, в деревню. Экономический кризис 1998 года сделал невозможным продолжение выхода «Партнера». Остались долги, о которых, впрочем, хорошие друзья не напоминают…
«Это я, гейка!..». Евгения Дебрянская (10 июня 1953 года)
Евгения Дебрянская пришла в гей-движение с политическим опытом за плечами, со своей историей сопротивления власти, начавшейся в середине 1980-х годов, когда только зарождался Демократический Союз – первая альтернативная коммунистам структура в СССР. Впрочем, Дебрянская находилась почти в физической оппозиции власти едва ли не с момента своего рождения…
Она появилась на свет в советском лагере, где ее мама отбывала срок за кражу – «Тогда еще были смешанные зоны: мужские и женские. И мама успела там зачать меня…» Но это была – верит Евгения – не случайная связь с целью вырываться из лагеря, родив ребенка. Во всем этом присутствует какая-то невероятная предопределенность.
«Цель их встречи – чрезвычайно проста, ничего оригинального – зачатие меня, но путь друг к другу они проделали долгий. Мой отец – потомственный дворянин – оказался в лагере понятно почему. Мама – чрезвычайно интересная женщина, молодая, темпераментная и жизнелюбивая, – оказавшаяся в лагере по глупости (вот ведь судьба!), не могла не обратить на себя внимание отца. Отец был намного старше матери…»
Женечка росла в Екатеринбурге. Природное упрямство словно подсказывало ей все, что ждет в жизни. Так, Дебрянскую исключили из комсомола из-за неявки на коммунистический ленинский субботник в самом начале 1970-х. Из школы она «вылетела» с такой характеристикой, что ее «социальный вектор притормозил навсегда».
В 17 лет Евгения бежала из дома, решив, что «жить, как живут мама с бабушкой, не будет никогда». С тех пор в вольном плавании она чувствовала себя необыкновенно комфортно, за исключением, возможно, нескольких случаев откровенного протеста. Вроде сольного выхода на Красную площадь осенью 1989 года после отказа в итальянской визе. Впрочем, и тогда спецраспределитель не оставил никаких новых впечатлений, в отличие от Рима и Нью-Йорка, куда осенью 1990-го Евгения Дебрянская и Роман Калинин были приглашены как первые открытые гомосексуалы в России.
Дебрянская почти не вспоминает о своей жизни до встречи с Александром Дугиным. Иногда даже сомневаешься, что она где-то была, жила. Первый брак – «скорее дань традиции» («я жила в провинциальном городе и комплексовала…»). Второй – гражданский союз с философом Александром Дугиным – «совершенно сознательный» («отца своего второго ребенка я и сейчас очень люблю - как человека…).
Дугин для Дебрянской – то «редкое исключение, которое по своей глубине и ужасу вполне сравнимо с мистическим опытом, то есть очень близко к нему приближенно». «О! Александр! Брат мой…» – восклицает Евгения, обращая свой взгляд назад. Но что их связывало, кроме общего сына?..
«Мы не имели никаких общих политических взглядов. Мы об этом вообще никогда не говорили. …Александр источал смертельный яд. Александр, блестящий юноша, на десять лет моложе меня, появился в моей жизни, чтобы разрушить ее и увлечь в мир сновидений, где всякое может случиться. В принципе, я была готова к подобной встрече и ничего меньшего не ждала. Ведь горизонтальный брак был мне уже известен прежде нашей встречи, но он не относился к мистическому переживанию».
В конце 1980-х группа философа Дугина вливается в радикальный национал-патриотический фронт «Память». Дугин стал главным идеологическим центром «Памяти»: будущий лидер Русского национального единства Александр Баркашов тогда только лишь слушал его лекции.
«Забавное время. Жестокое, пьяное, интересное, – говорит Дебрянская, – в этом месте моя судьба дала резкий крен: я стала популярной, но сначала стала популярной моя квартира». Речь идет об однокомнатной хрушевке на улице Рычагова в Москве, ее в 1986 году Дебрянская приспособила для собраний единомышленников. Здесь собиралась группа «Доверие» и прошел радикальный политический семинар «Демократия и гуманизм», на нем была выработана идеологическая платформа «Демократического Союза». Его лидером чуть позже стала Валерия Новодворская. Пресс-конференция, на которой было объявлено о создании «ДС», состоялась в той же женечкиной хрущевке в мае 1988 года. Тогда же среди своих гостей Дебрянская впервые увидела Владимира Жириновского. Он запомнился тем, что выступал против создания «партии», предлагая назвать «ДС» «общественной организацией». Но к нему не прислушались… Все понимали, что речь идет именно о «создании первой легальной оппозиционной партии в России, с вполне внятной антикоммунистической программой».
Все в ту же хрушевку на Рычагова в конце 1989 года пришел молодой человек и попросил организовать пресс-конференцию по проблемам бесправного положения в СССР гомосексуалов. Это был Роман Калинин. На пресс-конференции нужно было представить какие-то печатные материалы. Так был создан первый номер «Темы», основу которой из-за отсутствия «своих» статей, составили переводы из западных газет.
Пресс-конференция состоялась-таки в феврале 1990 года в двухкомнатной квартире на Пролетарке. Успех, если судить по количеству иностранных журналистов, в несколько раз превзошел прежнее мероприятии на Рычагова. Из будущих российских гей-активистов на пресс-конференции Дебрянская запомнила Романа Калинина, Дмитрия Кузьмина и Влада Ортанова. «Журналистов – тьма. Ни одного – советского. Уже после, как отклик на западные СМИ об этой пресс-конференции – разгромные статьи в советских газетах. После этой пресс-конференции мы с Ромой и «прославились»… Мы были первыми… Нравится это кому-то или нет – но это простой исторический факт…»
Они, действительно, были первыми. То есть первой была Евгения Дебрянская. В августе 1989 года она выехала в Европу для участия в международной правозащитной конференции. В визе сначала отказали, но потом все-таки отпустили – «под давлением многочисленных демонстраций Транснациональной радикальной партии Италии у стен советского посольства в Риме».
«Конечно, оказаться после совка в Вечном городе – это нечто. Да и сама международная правозащитная конференция… А шикарные обеды в фешенебельных ресторанах после голодной и нищей Москвы. А магазины, полные шмоток. Кстати, меня там итальянцы впервые прилично одели и надарили кучу шмотья для друзей в далекой Москве. Там я познакомилась с Чиччолиной, живыми транссексуалами (я их впервые в жизни видела) и Аликом Гинзбургом, приехавшим специально из Парижа»
Спустя три месяца в повторный визе в Рим Дебрянской отказали. Сольная акция протеста на Красной площади завершилась спецраспредилителем.
В начале лета 1990 года Дебрянская объявила о создании Либертарианской партии. В ее программу, наряду с политическими требованиями, вошли вопросы декриминализации проституции, легализации легких наркотиков и отмены уголовной статьи за гомосексуализм. Съезд партии превратился в шумное событие с юмором, стебом, эпатажными акциями в центре Москвы. Либертарианцы демонстрировали обществу главное: мы – несоветские – красивые, эмоциональные, свободные люди. Естественно, совковая пресса сразу же навесила на либертарианцев ярлыки наркоманов, проституток и педерастов. Но, вспоминает Дебрянская, «мы, конечно, на все плевать хотели: устраивали эпатажные демонстрации, выпускали скандальные декларации… Да и сами мы были людьми эпатажными – любили покутить, постебаться». Костяк партии составляли в то время Дмитрий Волчек, Роман Калинин, Андрей Бабицкий и Александр Денисов. В самом гей-движении такой стиль поведения не у всех находил поддержку. Впрочем, существует вполне справедливое мнение, что на самом деле никакого гей-движения в 1990-х годах не было – были Евгения Дебрянская и Роман Калинин. Дистанцироваться от них и что-то сделать самостоятельно смог разве что Влад Ортанов со своими издательскими проектами «РИСК» и «АРГО».
После дружественного визита к итальянским трансрадикалам Дебрянская вместе с Романом Калининым отправилась в США по приглашению американских гей-лидеров. Первых открытых русских геев в конце 1990 года провезли через всю страну. «Радио и телеэфиры. Куча встреч и знакомств. Лестные деловые предложения. Супер-турне. Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Вашингтон, Лос-Анджелес. Контракт с книжным издательством. Было от чего потерять голову. Я провела в Америке около четырех месяцев, – рассказывает Дебрянская. – Очень тосковала по России… я всегда сильно тоскую по России и не люблю надолго уезжать из дома…»
Из Америке, кроме впечатлений, Дебрянская привезла идею создания единой организации сексуальных меньшинств. Весной 1991 года на конференции в Москве было объявлено о создании Московской ассоциации сексуальных меньшинств. Однако АСМ просуществовала недолго. Так называемое умеренное крыло, представленное Владом Ортановым и Константином Евгеньевым (псевдоним Дмитрия Кузьмина), отказалось участвовать в организации сразу же после выхода второго номера «Темы» Романа Калинина. На месте АСМ в Москве стал действовать Московский Союз лесбиянок и гомосексуалистов (МСЛГ), который возглавили Дебрянская и Калинин.
Важным этапом в развитии гей-сообщества России могло стать создание летом 1993 года «Треугольника». При полном аншлаге в московском Доме кино прошла конференция, на которой было объявлено о создании общероссийской организации геев и лесбиянок. Но власти отказались зарегистрировать это движение. Дебрянская прошла два суда, но они не поддержали требования геев и лесбиянок.
«Осенью 1993 года жизнь меня прижала…», – говорит Дебрянская в одном из интервью. Возвращаясь с Курского вокзала, где она торговала газетами, Женя попала под обстрел у осажденного Белого Дома, в котором обосновался мятежный Верховный Совет России во главе с Хасбулатовым и Руцким. «Такой случился шок, что меня в момент как ветром сдуло из общественно-политической возни».
О том, в каком направлении ее сдуло, Женя не рассказывает. Вроде бы она некоторое время жила в Сан-Франциско «на средства американских геев и лесбиянок». Там она, кстати, с удовольствием отдалась писательству. Лет шестнадцать она пробовала себя в литературе… И вот результат – первая книга «Уроки плавания» (1999). Но снедаемая тоской по России, «по полю, где маленькая белая церковь видна вдалеке», Евгения вернулась в Москву. И уже 17 ноября 1995 года информационное агентство Има-Пресс сообщило: лидер общественного центра геев, лесбиянок и бисексуалов «Треугольник» Дебрянская заявила, что «Треугольник» собирается блокироваться с Национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова.
А в 1996 году Евгения Дебрянская затевает свой маленький лесби-бизнес в «Трех обезьянах». Вечеринки популярного лесби-клуба «DYKE» шесть лет проходили на Трубной площади 4. «Это были действительно первые цивилизованные встречи девчонок в первом «нашем» замечательном гей клубе Москвы…». Позже «DYKE» ненадолго переехал на Таганку, а в 2002 году на Тверской в центре Москвы открылись уютные «12 Вольт» – заведение, где каждый, вне зависимости от сексуальной ориентации, чувствует себя свободно.
В 2002 году в издательстве «Колонна» вышла вторая книга Евгении «Нежная агрессия паутины», закрепив за Дебрянской репутацию «дерзкого автора, который не всем нравится».
5 июня 2002 года были закончены съемки документального фильма «Алкоголь и душа», представленного на нескольких кинофестивалях. Режиссер ленты – Евгения Дебрянская: «Алкоголь я прочитала до конца, как увлекательную книгу. Узнала его с неистовством, до последней точки, до белой горячки…»
Дебрянская в начале 2000-х – это уже знак, символ прошлого российского гей-движения, которого, как утверждает сама Евгения, никогда не было. Были Дебрянская и Калинин – до отмены 121-й статьи… Впрочем, после ее отмены публичной «гейкой» из первых открытых геев в России осталась одна Дебрянская. И хотя Дебра – так называют ее «свои» – давно мечтает оставить клубный бизнес детям, уехать в Тибет и писать книги, она по-прежнему, не задумываясь, комментирует все приступы гомофобии во власти и в СМИ. …Потому что больше некому.
«…Сам полюбил – расплачивайся сам». Ольга Краузе (12 марта 1953)
Ольга Краузе родилась в Ленинграде и воспитывалась в семье советских инженеров. В самом начале 1960-х окончила национальную украинскую школу в Днепропетровске. Школа, а еще «улица и коридор», признается Краузе, стали ее первыми и главными университетами. Там она впервые поняла, что выделяется среди подружек чем-то особенным.
«Я все время прикидывалась мальчиком, я скорее даже была «трансвеститом». Например, приходила в школу в брюках, быстренько забегала в гардероб или спортивный зал и переодевалась в форменное платье. Так и ходила по школе. Тогда же с этим строго было. Потом переодевалась и на улицу выходила в брюках».
…И все время влюблялась: в детском саду – в воспитательниц, в учительниц – в школе. Сознательное понимание своей сексуальной «странности» пришло гораздо позже – в 25 лет. До того времени – полное неведение и одиночество. Разве только какие-то отвлеченные представления о Древней Греции.
В конце 1970-х Краузе познакомилась со скрытой от глаз «советских людей нового типа» субкультурой геев и лесбиянок. К этому времени Ольга вернулась в родной Ленинград, где работала по специальности – художником-оформителем. «В 1978 году я попала во все эти компании. Между Москвой и Питером мы крутились. Дальше уже пошла активная жизнь, участие в подполье, во взаимопомощи. Очень хорошо помню, как мы устраивали фиктивные браки с геями, когда их было нужно спасать от статьи».
Дыхание горбачевской перестройки и падение СССР вывели гей-лесби-движение на поверхность. С начала 1990-х Ольга Краузе начинает работу в общественных организациях. У нее был второй членский билет «Крыльев», ассоциации защиты прав геев и лесбиянок в Петербурге. Первый – у бессменного лидера ассоциации профессора Кухарского.
Появлявшиеся в России гей-лесби-группы концентрировались в основном на проблемах геев – советские законы карали только за анальный секс между мужчинами. Но со временем лесбиянки стали создавать параллельные союзы.
В начале 1990-х Ольга Краузе стала президентом «Клуба независимых женщин» Санкт-Петербурга. Совместно с «Крыльями» она создала одну из первых служб знакомств для геев и лесбиянок. В итоге появилась большая адресная база по всему бывшему Советскому Союзу, которую, к сожалению, пришлось уничтожить – «были набеги на мою хату».
В 1990-е начинается финансирование российского гей-движения из-за рубежа. Но гранты, вспоминает Краузе, частенько уходили на «выпивание водочки в парадниках». «Когда я понимала, что начинается очередная пьянка, то разворачивалась и уходила…» И наконец ушла с мыслью создать союз, в основе которого мог быть интерес к творчеству, например, слову или авторской песне.
Стихи Ольги Краузе появились в одном из альманахов писателей-маринистов в середине 1980-х годов. Все это время она активно общалась с неформальной литературной средой Питера и Москвы.
А первые литературные опыты были еще в юности. Друг отца, композитор и инженер Борис Потемкин, автор нескольких хитов Эдиты Пьехи, звезды советской эстрады 1960-1970-х годов, создал в Доме народного творчества клуб песни. Туда и пришла Ольга Краузе. С тех пор она с гитарой неразлучна.
Своими учителями в поэзии Краузе называет Виктора Соснору и Александра Кушнера, а еще Татьяну Голушко и Нору Егорскую. Ее литературным наставником был Семен Ботвинник. «Поскольку море было моей стихией, я пришла в литобъединение при ДК моряков. Выбрала именно Семена Ботвинника, потому что строчки из его стихотворения были созвучны моим внутренним ощущениям…
В этом городе, не верящем слезам,
Есть женщина. Она слезам не верит.
Она тебя холодным взглядом смерит.
Сам полюбил – расплачивайся сам.
В 1996 году группа питерских лесбиянок объединяется в творческий союз «Лабрис». В него вошел костяк участников организации «Сафо», которой некоторое время руководила Раиса Таирова. Финансирование работы «Лабриса» шло из Германии и оставалось под контролем «грантодателей». А курировала деятельность «Лабриса», став его первым лидером, – Ольга Краузе.
Внимание Краузе привлекла и издательская деятельность питерских лесбиянок. Она поддерживала отношения с Валей Катагановой, работавшей над альманахом «Посиделки» (выходил при гендер-центре). Не без участия Краузе состоялся журнал «Гей, славяне!», идея которого принадлежит искусствоведу Ольге Жук. Два номера «хорошего культурологического журнала» на несколько лет опередили свое время. Эротики в нем не было, поэтому он, к сожалению, не пользовался широкой популярностью. Однако финансирование журнала осуществлялось с расчетом на то, что издание сможет выйти на самоокупаемость. Этого не произошло из-за проблем с распространением. Ольга Краузе лично обходила книжные магазины и лавки Петербурга, отстаивая право на появление «…Славян» на книжных полках. Ей везде отказывали. И только директора «Дома книги» удалось уговорить поставить журнала на продажу – правда, в отделе медицины. Так «Гей, славяне!» оказались рядом с сексологическими работами профессора Игоря Кона.
В конце 1990-х Ольга Краузе ненадолго оставляет творчество и общественную работу. «Были личные проблемы, кризисы и прочее проблемы – я легла на дно…» Возвращение к активной творческой деятельности началось с концерта в клубе «Триэль», который устроила израильская подруга Ольги. И тогда вновь другие таланты откликнулись на ее талант. Ольга Краузе продолжила свою творческую жизнь вместе с питерским клубом «Лестница» и московским «Лабрисом», издающим одноименный литературный альманах.
Своим ярким творчеством Ольга Краузе своеобразным образом соединяет ранние лесбийские союзы Москвы и Петербурга, которые никогда особенно не дружили. «Это как в басне Крылова про рака, лебедя и щуку, – рассуждает Ольга об отношениях среди «лидеров» современных лесбиянок. – Но вот была Валя Курская – она среди первых организовывала в Москве вечеринки. Близки они мне были или нет, неважно. Но человек старался, работал для других. И благодарность ей огромная. И пусть мы будем все – разные существовать рядом…»
Но, тем не менее, сегодняшние лесбиянки кажутся Краузе менее дружелюбными. «Мы тогда дружнее были. Нас объединяло то, что могли любого в психушку спрятать. А мы, если кто-нибудь залетал по статье, скидывались на адвоката. Из Москвы в Питер ездили друг к другу в гости. Устраивали шикарные квартирники. А какие у нас роскошные концерты с трансвеститами были. Я уже не говорю об огромной традиции авторской песни. Ведь все лучшее из того, что сейчас на эстрадной сцене и в рок-тусовках, вышло из нашего подполья…»
«За равноправие гомосексуалов». Владислав Ортанов (16 января 1953)
«В конце 1980-х началась демократизация страны, – вспоминает Владислав Ортанов, – но по отношению к сексуальной жизни человека, и особенно однополому сексу, общество по-прежнему оставалось во власти стереотипов. Тем временем назрела необходимость декриминализации однополого секса и отмены 121-й статьи, а для этого нужно было направить общественное мнение в сторону терпимости по отношению к гомосексуалам».
В 1989 году Владислав Ортанов, Константин Евгеньев (псевдоним Дмитрия Кузьмина) и Алексей Зубов подписали обращение, которое Ортанов лично отнес в популярную газету «СПИД-Инфо». Вероятно, письмо троих, изданное огромным тиражом в массовой газете, стало первой публикацией от имени геев в российской прессе. И хотя никаких официальных откликов на обращение не последовало, статью заметили…
Первый номер газеты «Тема», который вышел в декабре 1989, делали два человека – Владислав Ортанов и Роман Калинин. Одну из статей написала также Анна Ветрова. По советской традиции было принято, что газета всегда является органом некой организации. Поэтому несколько человек в 1989 году придумали для издания «Темы» Ассоциацию сексуальных меньшинств, надеясь, что со временем АСМ сможет стать реальной силой. Идею АСМ подсказала Евгения Дебрянская, одна из лидеров российского отделения Транснациональной радикальной партии. Дебрянская не вошла в АСМ, но всячески поддерживала начинания членов ассоциации. От имени АСМ были проведены и несколько пресс-конференций, посвященных преследованию гомосексуалов в СССР. Их активно освещали крупнейшие мировые информационные агентства.
Владислав Ортанов оставался редактором второго и третьего номеров «Темы». «Мы разошлись с Романом после третьего номера, когда я увидел основные материалы, которые предлагались в четвертый выпуск газеты. Да, у нас были определенные разногласия, но их суть сегодня мне не кажется столь важной, – говорит Ортанов. – К тому времени уже собралась группа людей, которые придумали новое гей-издание – журнал «Риск».
Что же касается АСМ, то это неформальное объединение прекратило свою деятельность. Роман Калинин зарегистрировал газету «Тема» на свое имя и вместе с Евгенией Дебрянской занялся проектом так называемой Либертарианской партии.
Пилотный номер «Риска» появился в декабре 1990 года. На него было получено много хороших отзывов – и от читателей, и от участников гей-движения того времени. Поэтому продолжение напрашивалось само собой, его ждали. В начале 1991 года группа людей из восьми человек зарегистрировала в Моссовете «Риск» как периодический журнал для геев и лесбиянок, и он стал выходить регулярно.
«Риск» под редакцией Владислава Ортанова был первым изданием журнального типа для русских геев. Кроме новостей российского и международного гей-движения, в нем публиковались литературные произведения профессиональных авторов. Специальные рубрики были посвящены юридическим вопросам (напомним, что 121-я статья еще не была отменена), сексуальному здоровью и пропаганде безопасного секса, а завершали номер объявления о знакомстве.
«Риск» – это и литературный, и информационный, и публицистический, и развлекательный журнал. Так как других гей-изданий подобного рода тогда не было, мы старались сделать его универсальным, – рассказывает Владислав Ортанов, – и максимально охватить все темы и проблемы, которые могли быть интересны гомосексуалам в то время…»
Вокруг журнала вскоре собралась группа единомышленников и авторов. Среди первых известных в СССР и за его пределами людей, которые не побоялись сотрудничать с «Риском», был выдающийся ученый Игорь Кон. Большое интервью с ним было опубликовано в одном из первых номеров. Среди писателей, чьи произведения появились на страницах издания, – Любовь Зиновьева, Ярослав Могутин и популярный в начале 1990-х автор гей-рассказов Сергей Вервольф.
Всего, начиная с 1990 года, вышло 11 (7 тетрадей, если учитывать сдвоенные номера) «Рисков» под редакцией Владислава Ортанова. За это время объем издания увеличился – с 24 до 48 страниц. А с 1994 года, когда Владислав Ортанов передал права на издание «Риска» Дмитрию Кузьмину, журнал превратился в «альманах с сильным литературным уклоном», последний (4-й) номер которого вышел в 2002 году.
Оставаясь редактором и издателем «Риска», Ортанов продолжал заниматься общественной деятельностью. Во многом благодаря публикациям «Риска» впервые в российской истории человек, осужденный по 121-й статье, был признан «узником совести» международной правозащитной организацией Amnesty International. Речь о Владимире Миронове, судебный процесс над которым освещал журнал.
В 1995 году, когда в России был создан как международный проект центр «Треугольник», который собрал все действующие гей- и лесби-группы Москвы, Владислав Ортанов некоторое время возглавлял этот центр. В совет «Треугольника» вошли все гей- и лесби-лидеры столичных организаций. Это был «западный пилотный проект организации, которая бы занималась защитой прав гомосексуалов в России и распространением информации».
В 1994 году был зарегистрирован журнал «Арго» (его название условно расшифровывается как Ассоциация за равноправие гомосексуалов), который, по словам Владислава Ортанова, стал «первым эротическим журналом для геев». «Все, что было в «Риске», перешло в «Арго», – отмечает Ортанов, – плюс добавилась еще и эротика».
Одной из причин издания нового журнала стали претензии властей к «Риску». В начале 1993 года Владислава Ортанова вызвали в Управление по средствам массовой информации, чиновники намекнули ему на формально существующую 121-ю статью УК и сообщили, что, по их мнению, журнал «Риск» содержит элементы эротики, поэтому он не может продаваться нигде, кроме специально отведенных мест. Элементами эротики в журнале были признаны «веселые рассказы» и полуобнаженные фотографии юношей. «Нас поставили перед фактом, – вспоминает редактор «Риска», – либо нас закрывают, либо мы должны полностью сменить концепцию издания». Судиться с российскими бюрократами в условиях все еще действующих карательных статьей УК РФ Ортанов счел бессмысленным. Тем более что чиновники, по своим понятиям, демонстрировали верх либерализма. Они говорили: «Мы не против издания «Риска», просто перерегистрируйте его как эротическое издание…»
Ортанов предпочел другой путь. Он передал «Риск» Дмитрию Кузьмину, и теперь эротики, «заметной для чиновника», там не было, а ТОО «Арго-Риск» стало издавать иллюстрированный эротический литературно-публицистический и рекламный журнал для геев «Арго». Всего было издано пять журналов, последний – в 1997 году.
Поскольку журнал фактически выходил один раз в год, большое место в нем занимали обзоры (рубрики «Калейдоскоп», «Новости голубой планеты», «Кино, голубое и розовое»), подготовленные на основе зарубежной гей-прессы. Основная часть «Арго» – «эротическое чтиво» (Сергей Вервольф, Вадим Калинин, Дмитрий Лычев и несколько переводных авторов, среди которых – Трип Вандерфорд), а также публикации по самым разным проблемам гомосексуалов на всем пространстве бывшего Советского Союза.
На страницах «Арго» были представлены и эротические фотосессии с участием русских парней в рубрике «Первые шаги фотостудии журнала «Арго».
Интерес российских геев к зарубежным поездкам подтолкнул Ортанова к созданию в 1995 году туристического агентства «Арго-Риск», которое предлагало гей-туры в Прагу, Испанию, Грецию и другие страны. Особенностям гей-туризма в Германии, Испании, Чехии и Болгарии посвящены и несколько репортажей в «Арго», написанных русскими туристами.
Причиной закрытия «Арго» стал крупнейший финансовый кризис, случившийся в России в августе 1998 года. ТОО «Арго-Риск» потеряло все средства и влезло в долги из-за резкого роста курса доллара.
Журналы «Риск» и «Арго» оказались востребованными в регионах России. Многие их активные подписчики сами начали заниматься правозащитной деятельностью. Это, по словам Владислава Ортанова, основатели московского центра «ГендерДок-М», который продолжает работать в Молдове, Алексей Виноградов из Твери, а также лидеры гей-организаций в Казахстане, Белоруссии и Украине.
Почти во всех гей-проектах Владислава Ортанова принимал участие его любимый друг, с которым они вместе уже 18 лет. И сегодня Владислав Ортанов продолжает внимательно следить за гей-жизнью России и высказывать свое отношение по многим проблемам, в частности, в Интернете.
Звезда без футляра. Борис Моисеев (4 марта 1954)
Борис Моисеев – эпоха в эстрадном искусстве постсоветского пространства. Его творчество, его неизменный успех – всегда на взлете, без провалов и падений, символизирует разрушение коммунистической империи. Он – как первый и самый запоминающийся глоток свободы, запечатлен в умах миллионов граждан бывшего Советского Союза в своей неистовой песенной и танцевальной экспрессии. Именно так – «Экспрессия» – называлось танцевальное трио, созданное Моисеевым в 1978 году в Каунасе. Позже, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, его музыкальный азарт на сером советском телеэкране словно перебивал и обгонял темп заставки официозной программы «Время». В «Экспрессии» был слышен подлинный ритм нового времени, а Борис Моисеев стал дерзким художником, способным предугадать и воплотить в танце яркое будущее без границ. «Свобода – это знак, символ моего характера, моей жизни, того постоянного стремления к независимости, которое с самого детства подстегивало меня и определило очень многое в моей судьбе».
Покорение эстрадного олимпа началось для Бориса Моисеева с Литвы. Прибалтика на закате Советского Союза была небольшим островком ограниченного либерализма в творчестве. В Каунас Моисеев приехал в 1975 году. Он только что ушел из Харьковского театра оперы и балета, в котором начал служить на ставке простого артиста после окончания Минского хореографического училища. Борис учился в классе балерины Младинской, танцевавшей в свое время на одной сцене с Анной Павловой. Подающий надежды воспитанник особенно преуспел в классическом танце, хотя его неукротимо тянуло к танцевальным экспериментам на эстраде…
Борис родился в 1954 году в тюрьме белорусского города Мозырь, где его мама, политзаключенная, отбывала наказание среди тысяч таких же советских граждан, единственная вина которых была в неосторожных высказываниях о советской власти и КПСС. Рассуждая об андрогинном образе певца, многие любят вспоминать, что она ждала девочку. Но появилась, вспоминает Борис «легендарные слова» мамы, – «девка с яйцами…»
Семья Моисеевых жила в маленьком «еврейском гетто» в Могилеве. Своего отца, который, очевидно, был одним из тюремных надзирателей, Борис не знал. Мама воспитывала его и двух старших сводных братьев одна. Он был поздним (матушка родила, когда ей было 39 лет), но желанным и любимым ребенком, который весьма отличался характером от братьев. Болезненно воспринимал самую незначительную несправедливость по отношению к себе. Наказания и обиды, нанесенные товарищами, закрывали мир вокруг черными тучами трагедии.
Борис был довольно слабеньким мальчиком. Он не интересовался дворовыми играми и спортом. Беспокоясь о здоровье сына, мама отдала его в танцевальный кружок. И танец полностью завладел вниманием подростка. Но занятий в кружке ему было явно недостаточно. Он постоянно упражнялся дома, а еще устраивал концерты для соседей во дворе.
Судьба Бориса после школы была предрешена – парень сложил свои немногочисленные вещи в чемоданчик и уехал в Минск поступать в хореографическое училище. После училища – Харьковский театр. Там он встретил незабываемую любовь… Привязанность к танцору-латышу, с «огромными глазами, чистыми и красивыми» артист назовет «изнасилованием души». Хотя первое гомоэротическое увлечение произошло гораздо раньше – лет в двенадцать. Это было свидание на скамейке в городском саду Могилева, первый поцелуй в сумраке вечера… – с юношей. «Я разрешил себе получить поцелуй, но чтобы его никто не увидел».
Вслед за обворожительным латышом Борис уезжает из Харькова в Прибалтику, чтобы быть ближе к возлюбленному. Там он вскоре встретит двух женщин, которые определят его личную и творческую жизнь на много лет вперед. Одна – это та, что в 1976 году родит ему сына – Амадеуса, а вторая – «девушка в ресторане с сумасшедшим порывом в глазах», восходящая звезда советской эстрады Алла Пугачева…
К концу 1970-х годов Моисеев становится главным балетмейстером Государственного ансамбля Литовской ССР «Тримитос» и создает трио «Экспрессия». Он ставит несколько номеров, из которых уже можно составить яркую концертную программу. Встреча с Аллой Пугачевой состоялась в 1980 году в одном из шоу популярного курортного городка Юрмала. Тогда Пугачева начинала активно сотрудничать с Раймондом Паулсом, самым ярким и последним советским хит-мейкером. Паулс надеялся, что Моисеев будет работать с Лаймой Вайкуле, известной в то время только на прибалтийской сцене. Но, не раздумывая, Борис отдал предпочтение Алле – от нее поступило предложение о сотрудничестве в ее новой концертной программе.
В 1981 году в Олимпийской деревне прошли гастроли «Тримитаса». Звезда в пространстве Литовской республики, в столице он был никому неизвестным прибалтом, к которому к тому же привязался слушок: «гомосексуалист – раз, еврей – два…».
Премьерой «Экспрессии» в составе коллектива Аллы Пугачевой стало участие в концертной программе «Пришла и говорю!» Андрогинный образ танцовщика шокировал чиновников из Министерства культуры, потребовавших убрать со сцены «ЭТО». Но авторитет звезды позволил Пугачевой отстоять «Экспрессию» – сошлись на том, что Моисеев отрастит бородку, а, следовательно, приобретет более мужественный вид. Интересно, что с уже более внушительной моисеевской бородой в середине 1980-х на советском телевидении будет записан танцевальный клип «Экспрессии» – редкий пример современного танца, которым на ЦТ СССР любили завершать единственную официальную музыкальную программу в легком жанре – «Утреннюю почту» по выходным.
Танцевальное трио сопровождало победоносное шествие звезды советской эстрады на многочисленных международных фестивалях. Шоу продолжалось на лучших концертных площадках мира и Советского Союза в течение почти десяти лет. Творческие планы разошлись в 1987 году перед гастрольной поездкой в Индию. Моисеев, руководивший новым балетом Пугачевой – «Рециталом», был отстранен от гастролей по требованию спецслужб. Артист ушел из коллектива Пугачевой и задумался о собственном шоу.
С 1987 по 1989 год «Экспрессия» работала на лучших клубных площадках США, Франции, Израиля. Европейская телепремьера трио состоялась в эфире шоу «Рафаэлла Кара представляет» на телевидении «RAI-2» (Италия). Работа Моисеева, танцора и хореографа, пришлась по душе продюсерам телеканала. Коллектив русского танцора отработал в эфире популярной программы два сезона. В Милане он познакомился с Рудольфом Нуриевым и вскоре оказался среди его друзей. Отношения не были близкими, но Борис особенно сдружился с одним из последних русских любовников великого танцора.
Европейский успех подтолкнул Бориса Моисеева к мысли о покорении Америки. И в 1990 году он стал главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане (штат). Но все же отсутствие артиста в России было, скорее, вынужденным. К тому времени политическая ситуация в стране стала резко меняться. Развалился СССР, бывшие республики обрели свободу. В России перестали преследовать инакомыслящих. Интеллигенция и правозащитники требовали отмены статей, карающий за «добровольный гомосексуализм».
В 1991 году Борис Моисеев принял решение вернуться в Россию. Это был, как и многое другое в жизни артиста, смелый и решительный шаг. Молодая постсоветская эстрада ушла далеко вперед, на сцене властвовали певцы-однодневки и безликие группы, бесстыдно копировавшие стилистику популярных мировых групп. К тому же общество находилось во власти спидофобии. В околомузыкальной тусовке обсуждалось появление Моисеева в окружении Нуреева, слухи о болезни которого все усиливались. Некоторые не даже подавали руки похудевшему и измотанному переездами Борису.
Именно тогда Моисеев дал несколько скандальных интервью, в которых признался в своей гомосексуальности. Самой откровенной оказалась беседа артиста с журналистом и открытым геем Ярославом Могутиным. Моисеев, раскрыв множество подробностей своей интимной жизни, радикально разобрался с комсомольскими функционерами, от которых еще недавно зависело его творческое и личное будущее. Более всего публике и бывшим партийным боссам не понравилась фраза о «грязных концах комсомольцев». В оригинале она выглядела так: «Я вспоминаю конец 70-х... Эти коммунисты и комсомольцы водили танцоров в бани и хотели иметь с нами секс. Их страшно тянуло на все это! И мы, молодые мальчики, играли в их игры. Мы сосали грязные концы этих старых мудаков – престарелых комсомольцев! Нас заставляли это делать, нас запугивали…» Откровенность артиста вызвала шок у публики и ненависть у вчерашних власть имущих – ведь они продолжали занимать высокие посты в уже «демократическом» руководстве страны. Мало того, Борис едва не устроил камин-аут для тех музыкантов, которые тщательно скрывали свою гомосексуальность от публики. В интервью он стал называть имена исполнителей и названия «неблагодарных» своему бывшему протеже музыкальных коллективов.
В творчестве Борис Моисеев, в это время фигуровавший в артистической среде под именем Берта, делает ставку на эпатаж и гомосексуальность. Но у шокирующих заявлений и яркого провоцирующего имиджа оказываются совершенно благие намерения – они должны снять любые табу с публичных проявлений гомосексуальности. «У меня есть одна цель, – настаивает Борис, – чтобы натуралы нас любили. Любили – это не значит «имели» - нет! Чтобы принимали нас как нормальных людей. О'кей? Как супернормальных! Чтобы никто не делал нам конфуз, душевную боль. Это моя главная цель как художника. Я – проповедник, который говорит людям: «Не плюйте в голубых! Они – нормальные люди!»
В 1992 году на страницах самой тиражной газеты бывшего Советского Союза «Аргументы и Факты» он сделал «coming out» – вышел из чулана и почти сразу представил первый большой шоу-проект – «Борис Моисеев и его леди». Одним из самых эффектных номеров стало исполнение композиции «Эгоист» в гробу, установленном на сцене. Это был символический ответ тем, кто отказался от бывшего друга. На сцене творилось невероятное – двадцать смен костюмов, декорации, свет, пиротехника!
В 1993 году состоялась премьера концертной программы «Боря М. плюс Бони М» с участием вечно-популярной в России группы, следом – «Шоу продолжается – памяти Фредди Меркьюри». Эта программа, признанная лучшим шоу года, была удостоена Российской национальной музыкальной премии «Овация».
1994 год увенчался «Капризом Бориса Моисеева». 1995-й – эпатирующей публику феерией «Дитя Порока». Продолжая тему, в 1996 он ставит потрясающий спектакль-исповедь «Падший ангел». Большая концертная программа на основе этих шоу была представлена на сценах Германии, Испании, Израиля и в 1998 году пользовалась огромным успехом у русскоязычного зрителя на Бродвее – «Beacon Theatre»
Шоу 1999 года «Просто Щелкунчик», посвященное двадцатипятилетию творческой деятельности, остается, по мнению музыкальных критиков, самым удачным у артиста, хотя с тех пор на суд зрителя были представлены и спектакль «Не отрекаюсь» (2000), и «народная драма» «Чужой» (2002).
С начала 1990-х Борис Моисеев – непревзойденный мастер легкого жанра, который «на два-три месяца поднимает певца в хит-парадах». Однако Борис добивается этого с завидным постоянством. Его песни становятся хитами, уходящими в вечность через народный фольклор, анекдоты и мифологемы времени.
Нужно сказать, что не все российские гомосексуалы оценили смелый жест артиста, когда он первым среди эстрадных певцов перестал скрывать свою гомосексуальность. Гей-движение в России с начала 1990-х годов носит в основном неформальный характер. Существенное место в нем занимает зависть и подчеркнутая ревность, сильно распространенная в замкнутом кругу российских гомосексуалов. И в гей-среде до сих пор существует мнение о том, что яркий андрогинный образ артиста, его первые эпатажные шаги на сцене формируют у обывателя предвзятое мнение о российских гомосексуалах в целом. Это так называемое «умеренное» крыло предпочитает договариваться с властью и, как правило, использует такие соглашения в целях личного обогащения… Моисеев, как кажется некоторым, не оценил деятельности немногочисленных гей-лидеров по отмене 121-й статьи УК. «Этой статьи для меня никогда не существовало, потому что я всегда оставался свободным человеком и делал то, что хотел», – сказал артист журналисту и поэту Ярославу Могутину в дни отмены средневековых норм российского законодательства. И, действительно, один Моисеев сделал для социализации гомосексуальности в России гораздо больше, чем все вместе взятые гей-организации.
С начала 2000-х годов, когда консервативные круги стали активно использовать гомофобную риторику, концертная деятельность Бориса Моисеева находится под постоянным давлением реакционных кругов. С 2001 года его гастроли в российских городах проходят под усиливающийся шум религиозных фанатиков, делающих громкие заявления с требованием запретить «пропаганду гомосексуализма» и возобновить преследование гомосексуалов в России. Летом 2004 года Борис Моисеев обратился за разъяснениями к главе федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилу Швыдкому. По словам певца, решения властей о запрете концертов, а также стихийные митинги, санкционированные местными администрациями, наносят не только ущерб имиджу артисту, но и направлены против общественности, нарушают статьи Конституции России и международной Конвенции о защите прав и свобод человека. После получасовой беседы Михаил Швыдкой заверил Бориса Моисеева, что будет лично контролировать ситуацию при подобных инцидентах. Однако скандалы не утихают по всей России.
Борис Моисеев тем временем продолжает активную концертную деятельность. Гомофобные акции не мешают аншлагу на его шоу. «Я верю, что принцип гомофобии в обществе пройдет, – говорит Моисеев, – но обострение этого заболевания не помешает появлению новых гениев, таких, как Рудольф Нуреев, например».
Творческие интересы Бориса Моисеева давно вышли за пределы эстрадного искусства. Он с увлечением снимается в кино, делает собственное шоу на телевидении, пишет книгу о своей жизни. Он хочет быть самим собой и как верующий человек надеется, что будет услышан не только поклонниками, которые понимают, о какой тайне – любви – он говорит своим творчеством. Но одновременно артист, взошедший на самый олимп российской эстрады, знает, что «люди, воспитанные в нашей стране, привыкли к унижению и террору над личностью…»
«Мне кажется, что, несмотря на отмену 121–й статьи, – говорит Моисеев в интервью газете «Известия» спустя десять лет после указа Бориса Ельцина, – дискриминация была, есть и будет. Я сам постоянно сталкиваюсь с кривыми взглядами, хотя я человек с такой толстой кожей, что «пробить» меня сложно. Но, к сожалению, люди гомосексуальной ориентации иногда не в силах постоять за себя, они всего и вся боятся: говорить, любить, стесняются своих чувств. Это их горе, и с этим ничего нельзя сделать до тех пор, пока общество будет смотреть на них как на прокаженных полулюдей».
«Революция выстрела лифчика». Сергей Зарубин и его Лора Колли (23 мая 1956)
В русской клубной культуре конца XX века нет более экстравагантной и запоминающейся травести, чем Лора Колли. Она «училась искусству любви на кривых улочках Шанхая и Гонконга, а шлифовала и оттачивала его в родовых поместьях близ Лондона и Суссекса». «Боже! – восклицает Лора. – Кто только не клялся мне в вечной любви! Альберт Эйнштейн целый час играл мне на скрипке и читал наизусть Шекспира, чтоб я согласилась стать его женой, и очень расстроился, когда я сказала «нет». «Don't worry Alby, – бросила я ему уходя, – все в мире относительно». На следующее утро из газет я узнала: он открыл теорию относительности…»
Действительно, в этом мире все относительно, но есть некоторые – с высоты человеческого века – незыблемые величины. В стремительно меняющемся клубном мире Москвы такой величиной стала травести Лора Колли, созданная силой творческого воображения заслуженного артиста России Сергея Зарубина.
Сергей Зарубин – донской казак, родился и вырос в Ростове-на-Дону. Его родители, отец – майор Советской армии и мама – ученый микробиолог, вопреки своим абсолютно нетеатральным профессиям когда-то мечтали быть актерами. Возможно, именно поэтому они с особой радостью воспринимали попытки лицедейства, которыми отмечено самое раннее детство Сергея. Тем более что окна их квартиры выходили прямо на ростовский театр оперетты. «Но даже если бы не было этих внешних примет, – рассказывает Сергей Зарубин, – я уверен, что все равно стал бы актером. Мое актерство, как мне кажется, точно предопределено – это словно некая реинкарнация…»
Впрочем, ни оперетта, ни драматический театр не произвели на юного Сергея такого впечатления, как «Лебединое озеро» Чайковского и «Болеро» Равеля в театре Ташкента, на родине матери – «это был театр на все сто процентов». Единственное, что поразило подростка в драматическом театре – это способность перевоплощения: оказалось, что одного из отъявленных хулиганов на сцене тюза представляла женщина.
После школы Зарубин сразу попал в театр юного зрителя… – рабочим сцены. Это стало продолжение школы – он узнал театр изнутри…
Первая попытка поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии закончилась провалом, и Сергей выбрал один из факультетов Ростовского педагогического института. В начале 1970-х было модно объединять специальности, Зарубин стал студентом отделения истории и английского языка. Вторая попытка штурма ленинградской актерской альма-матер, осуществленная спустя два года, увенчалась успехом. А последующая служба в армии стала для Зарубина настоящей практикой. В ансамбле внутренних войск была собрана мощная команда специалистов всех направлений – балетмейстеры и музыканты с консерваторским образованием, актеры из лучших театральных вузов страны. «Мы делали программы, – вспоминает Сергей Зарубин, – в которых армейская тема была только в первой песне «Служу во внутренних войсках», а дальше начиналась настоящая эстрада высокого уровня».
Именно там, в Ансамбле песни и пляски внутренних войск СССР, впервые вышла на сцену Лора Колли. А если быть точнее, премьера клубной дивы состоялась еще на институтских театральных подмостках. Тогда Сергей Зарубин сделал эксцентричную пародию на цыганку, в чертах которой уже угадывалась будущая Лора, с ног сшибающая клубную публику. К тому же, она – цыганка, представленная Зарубиным, – пела, а Лора клубный народ все-таки щадит, а потому злоупотребляет все больше разговорным жанром. Так вот, в ансамбле внутреннего значения цыганка стала центром «развернутой вокально-хореографической картины», которая была представлена сначала собратьям по оружию из ГДР, а потом по многим советским зонам. Зэки, в отличие от начальства, наблюдали за выступлением резвой цыганочки с тюремных крыш и передавали ей трогательные письма и подарки, не подозревая, что жгучая красавица – всего лишь образ, мастерски созданный актером Сергеем Зарубиным.
Последнее очень важно и для успеха Лоры Колли как травести на клубной сцене России в начале 1990 года. Актерский талант Зарубина во многом позволил сохранить особое восприятие этого персонажа у публики и в конце 1990-х, когда репутация нового жанра была испорчена костюмированной самодеятельностью тех, для кого женское платье на сцене, – всего лишь реализация собственных сексуальных комплексов.
Впрочем, и перед актером, работающим в жанре травести, как считает Сергей Зарубин, есть множество ловушек, которые удается обойти не каждому. «Просто залезть в пошлость, скатиться к, извините, «жопному», скабрезному юмору – сиськи поправить, чулок подтянуть, – откровенничает Зарубин, – это, конечно, вызовет дикий гогот в зале, но что дальше? Какая низость должна последовать за этими гнусными перлами…» За удачным травести-образом непременно должна быть какая-то основа, тип женщины, который можно встретить в жизни. Для Лоры Колли такой реальной сестрой стала уверенная в себе цыганская мадонна – эдакая, по словам Зарубина, оторва, способная на самые противоположные чувства и эмоции – от нежной грусти до стервозного коварства…
Наиболее профессиональными актерскими работами в жанре травести Сергей Зарубин называет образ бразильской тетушки, созданный Александром Калягиным в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», и администраторшу из гостиницы Аркадия Райкина. «Это высший пилотаж…» На эти образцы Зарубин ориентировался, и у него получилось… Тем более, что рядом был сам Аркадий Райкин, за потрясающей работой которого Сергей мог наблюдать в театре «Сатирикон», где он служит с 1983 года. 10 мая, через день после дембеля, Сергей Зарубин явился на репетицию в «Сатирикон», и его тут же ввели в спектакль «Лица». В этот театр Зарубин попал благодаря поддержке Константина Райкина, по просьбе отца отбиравшего талантливых молодых ребят в театр. «Во время службы я частенько приходил в институт, и однажды мне сказали, что Костя Райкин набирает молодежь к папе в театр. Мой приятель-однокурсник болтался без дела, и я предложил ему показаться с номером. Показали, и Костя сказал мне: «Вы останьтесь, а остальные свободны».
«Очень много в смысле актерского мастерства дала мне работа с Аркадием Райкиным. Он мало объяснял актеру, но много показывал – и главное, принцип, те рецепты, которые проверены временем. Благодаря Райкину, я понял, что такое шутка – как она строится на сцене, как из обычного текста, подкладывая под него второй визуальный, интонационный план, можно, так сказать, выжать юмор. Все это пригодилось мне не только как актеру, а в моей будущей активной деятельности в качестве балетмейстера или, я бы сказал точнее, режиссера по пластике».
Так сложилось, что в «Сатириконе» Зарубин не сыграл много ролей. Это бывает у актеров, но, тем не менее, он остался верен театру, и звездный час настал, когда в театр пришел Роман Виктюк и показал Райкину пьесу «Служанки» (1988).
«Роман Виктюк, – говорит Зарубин, – дал мне ощущение того, что есть я нас сцене. То, что видит зритель, и то, что переживает сам актер, часто не совпадает. Секрет того, как преодолеть эту разноголосицу чувств и впечатлений, я раскрыл в работе рядом с Виктюком».
В конце 1980-х годов Сергей Зарубин и его коллега Андрей Смирнов, ныне покойный, представили на театральных капустниках травести-дуэт «Сестры Колибри». А до этого фрагмент совместного номера Зарубин в качестве шутки показал на одной из театральных вечеринок. Импровизация публике понравилась, и друзья потребовали продолжения, которое последовало на Новый год, а потом и на… 8 марта. Так Лора Колли стала завсегдатаем театральных междусобойчиков, пока к услугам набирающей популярность травести ни обратился Владимир Ворошилов, автор и ведущий одного из самых популярных в СССР и России телешоу – интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Идея Ворошилова заключалась в создании шоу-двойников – Лайза Минелли, Элтон Джон, Майкл Джексон… Но этот проект вскоре столкнулся с проблемой отсутствия профессионалов, обладающих внешним сходством со звездами. И тогда Сергей Зарубин предложил Ворошилову посмотреть программу «Сестер Колибри».
Летом 1990-го года сестры вышли в эфир суперпопулярной программы. Специально для музыкальных пауз в исполнении «Сестер Колибри» была построена летняя площадка шоу «Что? Где? Когда?». Загадочную пару привозили к самому эфиру, так что о реальных персонажах никто не догадывался. И только в последней день летней сессии игр клуба экстравагантная пара сняла парики.
Мегапопулярное шоу сделало травести-персонаж Сергея Зарубина известным на всем пространстве Советского Союза.
Первые клубы, которые открылись в Москве в начале 1990-х, с удовольствием приглашали на свои подмостки новоявленную звезду. Это были небольшие музыкальные номера, а заговорила Лора на сцене клуба «Три обезьяны» в 1994 году в программе «Кабаре Лоры Колли». С тех пор Лора остается своеобразной визитной карточкой этого развлекательного заведения.
Впрочем, Сергей Зарубин как профессионал давно не разделяет сценическую и клубную площадки. Кстати, и в клубах, и в театрах он активно работает в качестве балетмейстера. В 1990-е годы он вместе с несколькими режиссерами поставил такие спектакли, как «Багдадский вор», «Мнимый больной», «Голый король», «Хозяйка гостиницы». И это только на сцене «Сатирикона», а были еще совместные работы с Людмилой Гурченко, два спектакля на сцене театра имени Вахтангова («За двумя зайцами», «Левша»), три постановки в театре Рубена Симонова и несколько антреприз…
Ну и, конечно, Лора Колли, героиня российской клубной сцены, готовится к более масштабным работам, чем те, что она может позволить себе на клубных подмостках. «Взять хотя бы эту пресловутую сексуальную революцию? – вспоминает Лора. – Скажу, не хвастая, что я была тем выстрелом крейсера «Аврора», с которого и началась революция. А выстрел произошел во время моего выступления в парижском «Лидо», еще где-то в двадцатых годах. Это лопнул мой лифчик…» С того самого времени Лора Колли ждала своего героя и, возможно, дождалась. Она наконец нашла своего Генри Миллера и в самое ближайшее время надеется представить широкой публике сценическую сагу о своей жизни.
«…На западе нет вопроса – кто ты и что ты, – говорит Сергей Зарубин, – там в клубы приходят работать обыкновенные геи, им нравится клеить ногти, брить ноги и руки, чтобы быть похожими на женщину. В этом есть какая-то патология. Для меня Лора Колли – возможность проявить себя в профессии. Сексуальная ориентация здесь совершенно ни причем. Просто иногда актеры, когда у них нет ролей, начинают заниматься режиссурой, писать книги. А я сделал Лору Колли и стал работать, думаю, довольно успешно в качестве балетмейстера…»
Лора Колли – эта эстрада высокого уровня. Не удивительно, что такой уникальный конферанс имел в России конца 1990-х – начале 2000-х годов огромный успех далеко за пределами гей-клубов, в которых он начинался во всем мире. Во многом благодаря усилиям актера Сергея Зарубина в России все произошло иначе. Решившись выступить на клубных площадках, он настолько высоко поднял планку жанра травести, что эта волна, это ощущение подлинной работы мастера просто мешает «халтурить» многочисленным клубным трансухам.
Последний поворот к свободе. Александр Шаталов (10 ноября 1957 года)
Для большинства граждан бывшего СССР открытие своих личных свобод, в том числе сексуальных, началось не с демонстраций и манифестаций, а с книг. Советский Союз по праву считался одной из самых читаемых стран мира. И тоталитарный колосс рухнул не только под собственной тяжестью, но и потому, что миллионы советских читателей перетянуло на свою сторону если не слово правды, то слово свободы, к которой они прикоснулись благодаря либерализации книжного рынка.
Так называемый книжный бум (резкий рост тиража советской периодики в 1985-86 годах) произошел в стране не без участия Александра Шаталова, чей «Глагол» стал, вероятно, первым частным издательством в России.
Но, разумеется, до «Глагола» была в буквальном смысле другая история. Инженер по образованию, Александр Шаталов работал в научно-исследовательском центре гражданской авиации. Потом его пригласили литературным консультантом в издательство «Молодая гвардия» – в общей сложности он написал более тысячи отзывов. Позже прошел хорошую журналистскую школу в «Вечерней Москве» (самой популярной столичной газете 1980-х годов). В конце 1980-х запомнились его интервью с Владимиром Войновичем, Владимиром Максимовым и другими литературными диссидентами.
Поклонникам таланта Александра Галича он известен как автор первых публикаций о нем, а также как издатель трех книг его стихов.
И, конечно, с 1980 года Шаталова знают как критика – сперва в прессе (начиналось все с «Литературного обозрения»), а потом на телевидении – в популярной интеллектуальной программе «Графоман» (он был ее создателем и бессменным ведущим на протяжении десяти лет).
Датой основания «Глагола» можно считать 11 ноября 1991 года. Такой необычный подарок для миллионов российских читателей Александр Шаталов сделал на свое тридцатичетырехлетие. В этот день появился тираж книги «Это я – Эдичка» Эдуарда Лимонова, не просто советского диссидента, а того из эмигрантов, который своими художественными провокациями не вызывал особого восхищения и у идеологических оппонентов на Западе (чего стоит одна его демонстрация протеста против газеты «Нью-Йорк Таймс» в 1976 году). У Лимонова всегда была своя идеология, и о нее спотыкались любые, даже самые противоположные идеологические стереотипы.
Почему Лимонов? «…Мое интервью с Лимоновым, – рассказывает Александр Шаталов, – было опубликовано в СССР 25 марта 1990 года в газете «Книжное обозрение». Это было его первое интервью после бегства на Запад. …Он попросил меня стать его литературным агентом. В России такой профессии еще не было, так что предложение мне показалось любопытным. Именно этим я и занимался в России в течение нескольких лет. Поскольку все издательства отказались тогда выпускать его лучший роман, то не оставалось ничего иного, как издать эту книгу самостоятельно».
Но проблемой было не только издание книги эмигранта. Больший скандал, возможно, могла вызвать, так сказать, сексуально раскрепощенная стилистика автора, а в особенности сцены однополого секса. 121-я статья УК РФ еще действовала и, мало того, российские геи и лесбиянки с лета 1991 года предприняли активное наступление на сознание чиновников и обывателей несколькими общественными акциями. Возмутители сексуального спокойствия вызывали резкую критику в консервативной прессе. И Шаталов рисковал попасть под один из приподнятых волной демократии прессов – если не идеологический, так сексуальный.
В общей сложности «Это я – Эдичка» был отпечатан полумиллионным тиражом. Первая часть тиража - в Прибалтике. Обескураженный литературный обыватель был введен откровенной книгой в состояние невероятного ступора – трудно понять, чем возмущаться: потоком, так казалось тогда, матерщины или… гомосексуализмом. Все-таки обывательское сознание больше задержалось на эротических сценах – с тех самых пор клеймо «гомосексуалиста» по-настоящему преследует Эдуарда Лимонова, основавшего позже Национал-большевисткую партию и ставшего в начале 2000-х одной из самых заметных фигур политической оппозиции.
«Гомоэротические сцены, – вспоминает издатель, – не вызывали ни протеста, ни возмущения в то время. Они художественно обоснованы и до сих пор являются одними из самых ярких в русской литературе. Другое дело, что они мешали политической карьере автора, о чем мне откровенно говорили высокие номенклатурные работники…» Но, отдавая в Риге в типографию ЦК Латвии (там книга Лимонова печаталась под охраной рижского ОМОНа) гранки, Шаталов все же понимал, что появление в России этого текста может повлиять и на отношение в стране к гомосексуалам.
«С учетом того, что гомосексуальные отношения в Советском Союзе тех лет уголовно преследовались, выпуск романа, как мне кажется, помог изменить отношение общества к этой проблеме и способствовал скорой отмене 121-й статьи УК об уголовном преследование за добровольный акт между мужчинами. Далее было выпущено еще несколько книг Лимонова, которые принесли ему широкую известность в России».
Интересно, что на первой книге «Глагола» стоял номер 2. Такую игру в журнал Шаталов придумал, опасаясь преследования со стороны властей. Успокоил, так сказать, чиновника: мол, если вышел второй журнал, значит, к первому претензий не было. Но в то же самое время шел суд над редакцией эротической газеты «Еще» в связи с использованием в этом издании ненормативной лексики. Поэтому Шаталов подстраховался – он напечатал на «…Эдичке» предупреждение: «Из-за наличия ненормативной лексики и откровенных сцен книга не рекомендуется для чтения лицам, не достигшим совершеннолетия». «По форме – предупреждение, по смыслу – реклама», - отмечает издатель.
В дальнейшем выбор номера для книги сам будет интриговать читателей и рецензентов. Например, совершенно не случайно лимоновский «Дневник неудачника» пошел под цифрой 13 – «какой еще номер был бы для него самым подходящим?..»
Примечательно, что под номером 1 значится в серии «Глагола» откровенный роман Хьюберта Селби об американских геях – «Последний выход в Бруклин» (в других переводах и изданиях – «Последний поворот на Бруклин»). Почему? Быть может, потому, что это на самом деле один из первых откровенных американских романов о жизни геев. У остальных, особенно значимых, по мнению Александра Шаталова, книг в его издательском портфеле могли оказаться совершенно незначимые номера.
«Самой важной книгой того времени была, возможно, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина (15), – отмечает Шаталов. – Я знаю, что она в определенной степени изменила общественное состояние тех лет, изменила самосознание многих молодых читателей. Еще я бы отметил выход «Голого завтрака» Уильяма Берроуза (20, 39 – вместе с «Электронной революцией» и «Последними словами»). Это первая книга, в которой предпринимается попытка художественного осмысления наркотического трипа. Такой литературы, да и вообще литературы о проблемах наркоманов в России не было... Надеюсь, что лучшие рассказы Чарльза Буковски (24, 25) изменили стиль молодых авторов, помогли им писать по-новому, раскрепостили их. Мне также очень близка книга Шарлоты фон Мальсдорф «Сам себе жена» и двухтомник «Слезы на цветах» Евгения Харитонова».
«Конечно, - продолжает Шаталов, - очень важна еще книга Стивена Спендера - он сам (был тогда жив) и дал мне разрешение на публикацию своего знаменитого романа о жизни геев в Германии накануне второй мировой войны. Герои романа - два знаменитых человека - Херберт Лист, великий немецкий фотограф, и Оден – великий англо-американский поэт».
Александр Шаталов впервые опубликовал и тексты Евгения Харитонова, писателя советской эпохи, сделавшего проблемы гомосексуалов главной темой своего творчества. Первым за всю послереволюционную историю русской литературы собранием сочинений писателя-гея оказались в 1993 году и две книги «Слез…» Над подготовкой издания Шаталов стал работать сразу же, как появилась возможность напечатать его в России – после отмены 121-й статьи в мае 1993 года.
«Задумав издание Харитонова, я начал искать составителя будущей книги, – рассказывает Шаталов. – Можно было напечатать уже известные его работы, но хотелось выявить весь контекст. Я был знаком со многими людьми, которые дружили с Харитоновым, но собирать его тексты – иная работа. Первоначально договор на книгу был заключен с критиком Олегом Дарком, но он оказался занят в тот период. Поэтому составлением двухтомника занялся молодой тогда поэт Ярослав Могутин. Он собрал значительную часть текстов. Существовало много разных авторских версий одних и тех же произведений, но за основу нами были взяты наиболее полные из них. Книга получилась в определенной степени массовой – поскольку двухтомник был дополнен воспоминаниями о Харитонове».
Едва ли не две три книг, изданных «Глаголом», тем или иным образом поднимают проблемы гомосексуальности. Был ли это издательский принцип? Оказывается, нет… Для Шаталова-издателя всегда существовало лишь одно мерило литературного мастерства – талант. Конечно, большая часть книг «Глагола», по словам Шаталова, носила некий перверсивный характер. Но это произошло только потому, что данная «ниша не была занята на российском книжном рынке, и появилась возможность, не снижая уровень публикаций, познакомить читателей с западной классикой».
Множество раз сказать о Шаталове – «первый», это значит не сказать ничего, потому что Александр Шаталов как издатель один поднял на поверхность десятки лет недоступные пласты лучшей зарубежной литературы. Чего стоило появление «Комнаты Джованни» Болдуина! Это все равно что культурный взрыв на витринах постсоветских книжных киосков и магазинов. На обложке – два обнаженных юноши, которые едва ли не тянутся друг к другу. Под обложкой невероятная история привязанности и любви. Начитавшись Болдуина русские мальчики писали в газетах для знакомств – «Ищу своего Джованни». «Можно сказать, что поколение нынешних тридцатилетних парней у нас в стране не смогло пройти мимо этой книги. И главное, что они смогли открыться себе, выйти «из подполья».
Всего в пронумерованной серии издательства глагол вышло около сорока книг. Три десятка имен – знаковых не только в масштабах мировой литературы. Из русских это – статьи Софии Парнок, рассказы Константина Плешакова, первые матерные опыты Михаила Волохова, книга «розовой феи российских геев» Натальи Медведевой. Большая часть – это проза, но особое место занимают стихи Татьяны Бек, Ольги Постниковой, Александра Межирова и самого Шаталова.
Рассказывая о Шаталове как об издателе, все-таки сделаем предположение (мы в нем абсолютно не сомневаемся): поэзия для Шаталова – это не мимолетное увлечение, а стержень, проходящий через всю его жизнь. Невероятное чутье к литературному слову, доступное только настоящему поэту, скорее всего, позволило ему сделать и блестящую карьеру издателя, открывшего шлюзы для большой литературы, хлынувшей в Россию, преобразившей наш мир всеми многообразными переживаниями, которые испытывают мужчины в своей земной любви. Об этом, конечно, и стихи Шаталов. Но, для того чтобы почувствовать это, нужно открыть книгу…
Прощание с «профсоюзом». Любовь Зиновьева (25 декабря 1958 года)
МОЛЛИ – Московское объединение лесбиянок литературы и искусства – было первым неформальным творческим союзом российских гомосексуалов. Принцип взаимодействия и построения лесбийской организации на основе творческих интересов оказался приемлемым именно для «розовой» части российского гомо-сообщества. С конца 1990-х годов в Москве и Петербурге появляются действующие с разным успехом группы лесбиянок, объединенных в творческие клубы: питерская «Лестница», московский и питерский «Лабрисы», в Москве – проект журнала «Остров» или «Клуб свободного посещения» Елены Боцман. Инициаторы их создания либо хорошо знакомы с работой МОЛЛИ, либо сами некогда принимали участие в его собраниях.
Идея Московского объединения лесбиянок литературы и искусства принадлежит Любови Зиновьевой.
Люба воспитывалась в советских детских домах. После школы окончила Крапивенский лесхоз-техникум, хотя с детских лет ею владело желание писать. Но рассчитывать на профессиональное литературное образование воспитаннику детдома не приходилось.
Зиновьева рано почувствовала свою «нестандартность», но табу, которое лежало в СССР на всем, что было связано с проявлениями гомосексуальности, не давало возможность понять это в себе. «Были ли у меня гомосексуальные романы до 1990-го года? – размышляет Любовь. – Они, хотя и не часто, но случались как исключение из реальной, а не книжной, нормы жизни. Просто о себе подобных как о целых сообществах я узнала поздно».
Итак, она долгое время просто не подозревала о существовании в Москве гей-лесби-сообщества. Только в 1991 году из советских газет Люба узнала о деятельности либертарианской партии во главе с первой открытой лесбиянкой России Евгенией Дебрянской. Чуть позже произошло знакомство с членами так называемого «профсоюза», одним из лидеров которого была легендарная Валя Курская. «То, что эти люди, как и я, выходцы из низшего слоя общества, – отмечает Любовь Зиновьева, – было очевидно, некоторые из них балансировали между тюрьмой и волей». Но Любовь не привлекали ни политические проекты Дебрянской, ни полулегальный мир «профсоюза». Она была вхожа в писательский и околописательский круг Москвы, где гомосексуальность не принято афишировать. Эта среда «…ретушировалась под гетеросексуальных людей, которые находятся как бы в творческом поиске, и только поэтому иногда позволяют себе однополые романы, ориентируясь на определенную литературную традицию. Рассчитывать на то, что они (гомо-писатели) пойдут в «профсоюз» в поисках талантливых или просто способных людей, не приходилось, – вспоминает Зиновьева, – но именно в такой организации, как мне казалось, была острая необходимость…»
В 1991 году Любовь предложила психологу М. З. Дукаревич создать культурно-просветительское общество и направить выход гомосексуалов из подполья в созидательное русло. Такой путь, по ее мнению, мог ускорить социализацию геев и лесбиянок в обществе. Она надеялась противопоставить его тому образу, который формировала пресса – гомосексуалы изображались изгоями, подверженными пьянству, наркомании и промискуитету. «Я считала и считаю, что мы неотделимы от своего народа, мы живем в обществе законы которого – нравственные, культурные и юридические – обусловлены и нашим личным участием в нем. Все, что мы создаем, мы создаем не для себя… – писатель или всякий другой творческий человек работает на идею и несет эту идею людям независимо от их ориентации».
В 1991 году Зиновьева и Дукаревич пришли с идеей творческого союза лесбиянок на собрание гомосексуалов в один из столичных медицинских центров. Здесь они познакомились с «деловой, энергичной девушкой» Милой Угольковой, известной в то время под псевдонимом Еленовской. Через неделю они встретились у Дукаревич, а затем уже на квартире у Зиновьевой. Начало МОЛЛИ было положено. На следующем заседании зачитали программу объединения, написанную Зиновьевой, а чуть позже она представила устав МОЛЛИ.
Собрания МОЛЛИ проходили с конца 1991-го и в 1992 году спонтанно. Костяк организации составили – Любовь Зиновьева, Татьяна Ш., поэтесса Ольга Ганеева, художник Татьяна Миллер и Мила Уголькова – она вскоре заняла место неформального лидера. «Мила не делилась со мной информацией, кто и почему встал в ряды МОЛЛИ, – отмечает Зиновьева. – На мое предложение зарегистрировать организацию, а в будущем и журнал, который мы надеялись выпускать, Мила ответила решительным отказом».
Тем не менее, Мила Уголькова начинает довольно активную публичную деятельность. Выступает на собраниях геев и лесбиянок, принимает участие в гей-конференции в июле-августе 1991 года в Москве. Речи и доклады для этих событий пишет Любовь Зиновьева, а зачитывают их либо сама Зиновьева, либо Уголькова.
«Я писала по просьбам Милы воззвания к сбору пожертвований в помощь больным СПИДом и другие небольшие рекламные проекты, которых, честно говоря, уже и не помню. С ними Мила представляла МОЛЛИ и настаивала на том, чтобы наша организация считалась рабочей не с июня месяца 1991 года, а с мая. Вероятно, смещение сроков было связано с получением грантов. На фестиваль (речь о конференции 1991 года). Мила пригласила для рекламы МОЛЛИ подругу, журналистку газеты Моссовета «Куранты». Заметка вышла злая и псевдоироническая, в том обычном стиле, в каком в те годы писали о гей-лесби-движении».
«Мила не оправдала моих чаяний, – продолжает Зиновьева, – при всех ее организаторских способностях, она не хотела делить лидерство в МОЛЛИ, на которое, впрочем, я и не претендовала. Меня вполне устраивала роль идеолога организации, но это, вероятно, не убедило ее. Наши «деловые» встречи проходили угнетающе тяжело. Мила говорила грубо, на непозволительно высоких тонах… через несколько месяцев мое терпение иссякло и я ушла из МОЛЛИ».
В феврале 1992 года Мила Уголькова предприняла попытку начать издание литературно-художественного журнала лесбиянок «Адэльфе» – он должен был стать печатным рупором МОЛЛИ. Редактировать его было предложено Любови Зиновьевой, но она отказалась, потому что к тому времени уже вышла из объединения. «Адэльфе» так и остался в проектах, в 1995 и 1996 годах были изданы лишь два литературных приложения к нему. На некоторое время литературным органом МОЛЛИ стал журнал «Софа Сафо» под редакцией Елены Цертлих, но после выхода двух номеров издание было прекращено.
Некоторые тексты участников МОЛЛИ также печатались в отдельных номерах газеты «Гуманитарный фонд»…
Любовь Зиновьева продолжила свою творческую работу вне МОЛЛИ и активно печаталась в гей-лесби-периодике 1990-х годов: проза – в журнале «РИСК» (1992) и «Голубом альманахе» (1998), стихи и проза – в журналах «Приложение к Адэльфе», «Софа Сафо», «Остров» и «Пробуждение». Впрочем, либерализация литературного процесса позволила ей войти в современную литературу еще раньше. В 1987 году состоялась премьера Зиновьевой в сборнике «Истоки» (издательство «Молодая гвардия»).
В 1994-м она выступает в качестве организатора концерта поэтессы и исполнительницы своих песен Ольги Краузе. Зиновьевой помогают издатель Влад Ортанов, литератор Дмитрий Кузьмин и Валентина Курская. В 1995 году вместе с Ортановым Любовь принимает участие в работе конференции по правам гомосексуалов в Амстердаме. В Нидерландах Зиновьева и Ортанов представляют «Треугольник» – объединенную организацию геев и лесбиянок Москвы.
В 1996 году Любовь покинула Россию – уехала жить в Америку к своей подруге. Шесть лет в Нью-Йорке, оторванная как политическая эмигрантка (не имела права на выезд в Россию) от России, она продолжала общаться с русской литературной эмиграцией. В «Новом журнале» и в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) в 1996-2003 годах были опубликованы девять ее рассказов и подборка стихов.
В 1996 году стихотворение Зиновьевой в переводе ее подруги И. К. Шперле получило первое место на поэтическом конкурсе имени А. С. Пушкина, организованном Колумбийским университетом (Нью-Йорк).
В 2002 – 2004 годах поэзия Зиновьевой представлена на страницах альманаха «Встречи» (Филадельфия), сотрудничество с ним продолжается. Свои стихи она собрала в поэтическую книгу «Луна в стакане», которая вышла в Москве в 2000 году.
С 2002 года Любовь Зиновьева живет в Гамбурге (Германия).
Успех МОЛЛИ, а затем и многочисленные попытки современных лесбиянок строить свои организации на основе творческих принципов, показали, что творчество – самая здоровая основа для объединения, которое может заставить гетеросексуальное большинство посмотреть на гомосексуалов иными глазами...
«Я сам себе и небо и луна…». Вова Веселкин (10 марта 1961)
«Первый официальный бисексуал российской сцены», «секс-террорист», «секс-символ рока», «рыжая бестия», «приемный сын Дитрих и Меркьюри…» – такими эпитетами советская пресса конца 1980-х – начала 1990-х годов писала о Вове Веселкине. Во Франции, сравнивая танцовщика Веселкина с Вацлавом Нижинским, его называли «Балашниковым» – смесью звезды балета Барышникова и создателя автомата Калашникова. А еще Вова Веселкин был первым артистом, который на излете советской диктатуры публично выступил против государственного «сексуального террора» по отношению к гомосексуалам. За год до отмены 121-й статьи УК РФ в интервью одной из советских газет он откровенно признался в своей бисексуальности…
Вова Веселкин родился в Ленинграде в обычной пролетарская семье, мать – крановщица башенного крана, отец погиб, сидел в тюрьме за кражу и погиб. Володя окончил среднюю школу, получил профессию хореографа в Ленинградском государственном ордена Дружбы народов институте культуры имени Крупской (1987). С 1989 года – в популярной рок-группе «АукцЫон». Общероссийской и европейской известности «АукцЫон» обязан именно бурной творческой энергии Вовы Веселкина и статье в одной советской газете.
Весной 1989 года газета «Советская культура», а вслед за ней «Комсомольская правда» сообщили о грандиозном, с точки зрения коммунистических властей, скандале. Вова Веселкин, участник рок-группы «АукцЫон», во время выступления в Париже на фестивале популярной музыки «Весна в Бурже» оголил перед публикой свой зад. Мужской «стриптиз», продемонстрированный на фоне гостиничного бассейна, вошел и в телесюжет о гастролях русских рок-групп. Публика ломилась на концерты и неистовствовала. Русских рокеров во многом благодаря успеху «АукцЫона» принял министр культуры Франции Ж. Ланг, лично посетивший концерт «красных стриптизеров».
Вова Веселкин выходил на сцену в костюме, сшитом из формы солдата советской армии, что вызывало особое негодование консерваторов в СССР. И в этом армейском френче, превращенном, по словам Веселкина, в «блядский костюмчик», он творил на сцене нечто, вызывающее у бюрократов шок... Это был откровенно гомосексуальный танец – хорошо продуманная импровизация, приводящая публику в восхищение всюду – в русской провинции и в изысканном Париже.
Эротические пляски Вовы Веселкина соответствовали духу свободы, от которого пьянела Россия, пробуждающаяся после 70-летнего тоталитарного ига. Вернувшись из Франции, Вова Веселкин вступил в полемику с ханжеской советской прессой, не отличавшей стриптиза от экспрессии танца, в котором вслед за раскрепощением тела, оживает разная сексуальность.
Об этом – о сексуальной стороне жизни советского человека – и заговорил Веселкин на пресс-конференции в самой тиражной ежедневной советской газете «Комсомольская правда» сразу после парижских гастролей. Он попросил слова и зачитал письмо в защиту сексуальных меньшинств, призывающее отменить 121-ю статью УК РФ. Под ним уже стояли подписи «АукцЫона»… Письмо идет по рукам, почти все оставляют свой автограф, среди первых Гарик Сукачев («…я за отмену этой дурацкой статьи»). Только Константин Кинчев кричит: «Что это за ерунда такая!», вскакивает и уходит. Количество подписей под обращением, переданным в Верховный Совет СССР, постоянно увеличивалось – всего его подписали около 300 деятелей советской культуры и представителей науки. Последними поставили с вои подписи писатель-сатирик Михаил Жванецкий и Вячеслав Бутусов, лидер культовой советской рок-группы «Наутилус Помпилиус» и Влад Листьев…
«Идея письма, – рассказывает Веселкин, – возникла после проведения в Харькове (Украина) грандиозного фестиваля «Рок против террора». Он прошел по инициативе рокера Гарика Сукачева, чья беременная супруга была избита сотрудниками милиции… Государственный террор по отношению к гомосексуалам, преследуемым на основе советских законов, был еще большей проблемой, в том числе для самого Веселкина. Свою бисексуальность, которая «резко переросла в гомосексуальность», артист почувствовал довольно рано – в 6 или 7 лет. «С бабами теперь накладно связываться, - вызывающе посмеивается Веселкин, – я просто с ними дружу…»
Другой акцией Веселкина в защиту сексуальных меньшинств стало его появление в прямом эфире российского телевидения в ночной «Программе «А», которую вел «теоретик» русского и советского рока Артемий Троицкий. Совместный с «синтетическим человеком» – художником и музыкантом – Кириллом Миллером проект назывался «Орган внутреннЫх дел» («ОВД»). Премьера композиции, посвященной сексуальным меньшинствам и подготовленной при помощи рок-групп «АукцЫон» и «Бригада С», состоялась, но «теплую реакцию публики из эфира убрали». И это не удивительно, раньше «АукцЫон» если и показывали по государственному телевидению, то, например, в ночной программе «Взгляд» «вместе с панками, наркоманами и прочими тунеядцами».
Так, например, выглядит концерт «АукцЫона» конца 1980-х в восприятии одной из поклонниц Вовы Веселкина. «Веселкин висел на высоте балкона первого яруса и балансировал парадом свечей. Очень сосредоточенно он кувыркнулся в зал, Олег дразнил его красным хитоном, во время дразнения у Вовки украли штаны...».
Зритель неистовствовал в «вакханалии исступленных телодвижений», а Веселкин мечтал о том, что «праздник станет праздником» и «публика – вместе с роком – осмыслится и будет цивильнее, элегантнее…» И действительно, шоу, устраиваемое на сцене Веселкиным, было настоящим уроком для советской публики, которая прежде только молча и в такт песне аплодировала на официальных фестивалях «Песня года». А рок – первый глоток музыкальной свободы – требовал от зрителя самостоятельной осмысленной реакции. «Слез на глазах…» ждал от публики Веселкин и воспитывал в ней умение думать, которое должно было пробиться сквозь животное удовольствие народа, спущенного с поводка кровавой истории.
В конце 1990 года на Украине в Киевском Дворце спорта состоялись совместные концерты «АукцЫона» (Гаркуша) и «Бригады С» (Гарик Сукачев). На афишах значилось – «Лига защиты сексуальных меньшинств». Шоу посетили более 11 000 человек, которые встречали овациями обращение Веселкина с требованием отмены 121-й статьи УК РФ. В начале 1991 года в еженедельнике «Собеседник» Владимир Веселкин назвал свои акции в поддержку гомосексуалов настоящей «борьбой» и призвал провести рок-фестиваль, средства от которого должны были пойти «на создание общества сексуальных меньшинств».
Веселкин собирает подписи и под обращением с требованием зарегистрировать в Ленинграде Фонд культурных инициатив в поддержку сексуальных меньшинств имени Петра Чайковского. Ленсовет, недовольный использованием имени великого композитора, отказался сделать это. Среди подписавших призыв – режиссер Александр Сакуров, писатель Михаил Жванецкий, многие рок-исполнители, члены творческих союзов.
…Из «АукцЫона» Веселкин ушел в мае 1992 года. В последнее время и группа, и сам Вова Веселкин тяготились сотрудничеством друг с другом. Шумная слава Веселкина – мастера эпатажных выходок – затмевала рокерские эксперименты «АукцЫона». Да и самому Веселкину, по собственному признанию, «надоело заниматься всем подряд – быть танцовщиком, переводчиком с немецкого и пиар-менеджером «АукцЫона…» Первый сольный проект артиста – концертная программа песен, которые исполняла с конца 1930-х до начала 1960-х годов звезда советской эстрады Клавдия Шульженко.
Но публику и не только ее продолжал привлекать и оригинальный дар Веселкина-танцовщика. Услышав и увидев работу артиста над советской лирической песней, молодой режиссер «Ленфильма» Максим Эмк предложил сделать фильм на тему знаменитого балета Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна». В одноименной документальной ленте (премьера с успехом прошла в декабре 1992 года) Фавн-Веселкин танцевал в самых разных интерьерах – «на улице, на вокзала, во дворцах, на полях». Одновременно он сделал парафраз «Послеполуденного отдыха…», который представил на сцене Кировского театра оперы и балета. На подмостках, изгнавших за непозволительные «безнравственные» вольности Вацлава Нижинского и Рудольфа Нуреева, Веселкин танцевал то, о чем мечтали его великие предшественники. «В тот день, когда Горбачев принял закон о нравственности, – рассказывает Веселкин, – я разделся и под музыку Дебюсси совершил половой акт со сценой Кировского театра».
Другим гей-проектом Вовы Веселкина и его группы «ОВД» стал диск «Невозможная любовь» (1992) - первая в истории российской грамзаписи «пластинка с гомосексуальной тематикой», считают рецензенты. Обложку украсил рисунок великого Тома оф Финланда. На Апрелевском заводе грампластинок альбом даже отказывались печатать по причине «слишком откровенных текстов» и «непечатного оформления конверта».
Впрочем, «Невозможная любовь», выдержанная в последовательной гей-эстетике, почти не имела успеха среди гей-сообщества России, потому что явилась на несколько лет раньше появления этого сообщества. Отмечая сей факт в развитии российского гей-движения, журнал «ОМ», самый амбициозный русский глянцевый проект, в 1996 году включил Веселкина в свою историю андрогинной музыки. Тем не менее, «Невозможная любовь» в апреле 1993 года вошла в хит-парад пластинок, составленный по сообщениям корреспондентов «ИТАР-ТАСС». Заняв шестое место, она опередила винилы таких монстров популярной музыки, как «На-На», Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. В Санкт-Петербурге, на родине Веселкина, «Невозможная любовь» была особенно популярна. Откровенно гомосексуальная композиция «Аборт» летом 1993 года вошла в чарты многих радиостанций северной столицы. В прямом эфире ее заказывали гомосексуалы, а ди-джеи с удовольствием шутили на темы однополой любви.
Жанр «Невозможной любви» Веселкин определил как «пост-совковый декаданс». Однако это определение – «советский декаданс» – придумал сам Веселкин. Но запрограммированные негативным восприятием самого понятия декаданс в истории советской культуры критики увидели в «капризно-жеманном» вокале Веселкина «бесконечную игру в порочность», «автоэротизм», «нарциссизм».
Летом 1992 года в питерском клубе «Маяк» прошел первый «Фестиваль голубых розовых» – «Kristofer street days». На нем выступил Вова Веселкин с хитами из «Невозможной любви»… Вообще Веселкин в начале 1990-х просто разрывается между многочисленными проектами – он принимает участие в художественных выставках, организует свою артистическую контору «ОВД», планирует издать на западе книгу своих эротических стихов, несколько новых альбомов…
Но потом произошло то, что Веселкин или кто-то еще мог бы назвать «творческим кризисом». Впрочем, на количестве выпущенных записей Веселкина этот «кризис» никак не сказался.
«Это произошло в Москве в 1995 году, - исповедуется Веселкин в газете «Россiя» в апреле 2003 года, - я потерял квартиру из-за своего брата и оказался на улице. Мне пришлось выживать в этой жизни. Все остальное отодвинулось тогда на задний план». И тогда Веселкин решил креститься. Обряд был совершен в Елоховской церкви в Москве. Он надеялся стать другим человеком – «тише воды, ниже травы». «Не будьте артистами, будьте людьми…», – с таким призывом он обратился к своей публике в 2003 году, на 42-й день рождения.
Акция «Похороны Веселкина» прошла в одном из клубов. Веселкин, решивший сменить даже фамилию, разоблачал откровенно гомосексуальных звезд русской попсы. Он заявил, что «уже столько наворотил в жизни», что «теперь можно ни хрена не делать». Когда перформанс в одном из столичных ночных клубов перевалил за полночь, прямо на сцене лихим движением руки Вова остриг свою знаменитую рыжую шевелюру, что знаменовало его отречение от прошлого.
Отречение совпало с очередным конфликтом Веселкина с российской милицией. За свою рокерскую карьеру Веселкин не раз испытывал силу кулака советского милиционера и омоновца. Весной 2003 года он был жестоко избит сотрудниками милиции и провел три дня в отделении… Вернувшись, рассказал о произошедшем в прессе, призывая всех стать «скромными, тихими, милосердными, молчаливыми…», и… подписался: «покойник Веселкин».
Но в этой настоящей физической и духовной боли, отказываясь от своего прошлого, артист Веселкин, ставший гражданином Владимиром Филипповым, уже не мог изменить самому себе, тому таланту художника, который не выбьет из глубины сердца ни религия, ни омоновская дубина. Веселкин уже не принадлежал себе, он принадлежал публике – подчас неискренней и неблагодарной, способной забыть, смешать с грязью, но однажды – умеющей вспомнить…
В 2004 году у Вовы Веселкина и группы «Уши Ван Гога» вышли два новых альбома, а в начале 2005-м он опять стоял на клубной сцене. Новые и старые хиты Веселкин представил на творческом вечере своей давней подруги писательницы Маруси Климовой. Успех, как всегда, был невероятный.
«Сказка о русской Белоснежке…». Костя Дива (19 мая 1963 года)
Костя Дива – это имя почти неизвестно в России, зато каждый финн, услышав его, одобрительно улыбнется. В середине июня 2003 года в Хельсинки прошла премьера ленты Канервы Цедерстрем «Lost and Found» («Потерял и нашел»). В зале – аншлаг. Событие освещали многие финские СМИ – и не только потому, что режиссер картины, Канерва Цедерстрем, одна из самых известных кинематографистов Финляндии. Да, Цедерстрем – лауреат Государственной премии Финляндии, обладательница двух гран-при кинофестиваля в Тампере, профессор киноискусства. Но не меньший интерес вызвала фигура главного героя третьей ленты Цедерстрем о России – эмигранта Константина Гончарова, известного под творческим псевдонимом Костя Дива.
Костя Дива – первый русский парень, который в мае 1993 года, за две недели до отмены в России 121-й статьи, получил политическое убежище в Финляндии. Решение Верховного Суда Финляндии, отменившего приказ МВД страны о депортации Гончарова из страны, основывалось на возможном негуманном отношении к нему в России по причине его нетрадиционной ориентации. Примечательно, что решение обосновывалось и невозможностью разлучить Константина Гончарова с его финским партнером. Так дело Гончарова создало в Финляндии прецедент «признания гомосексуальных пар как имеющих ограниченный легальный статус».
Константин Гончаров родился и вырос в Москве в семье спортивного тренера, мама работала техником-конструктором в Курчатовском институте. Еще подростком Константин ощутил свою необычную сексуальность, а к семнадцати годам признал гомосексуальность как часть жизни, не хотел и не мог сопротивляться ей.
С шести лет подросток учился пению и музыке, его приняли в знаменитую капеллу Судакова. С 1970 года – он уже солист в капелле мальчиков музыкального училища имени Гнесиных.
После школы в 1980 году Костя Дива в 1980 году поступил в Московское музыкальное училище имени Октябрьского революции, на факультет «Музыкальный театр». Однако окончить училище Константину не удалось – его отчислили за… «аморальное поведение» и запретили продолжать образование. Только в 1987 году, благодаря поддержке одного высокопоставленного чиновника, имя которого Дива отказывается назвать, он поступил в московский медтехникум № 18, окончил его с отличием и получил специальность фельдшера.
«Ходячей провокацией» уже называли Константина в Москве.
…Он сотрудничал с Московской областной филармонией и три сезона (1987-1990) работал в музыкально-поэтическом кабаре «Кардиограмма» Алексея Дидурова. В программе Кости Дивы звучали стихи Вадима Степанцова, Владимира Вишневского и, конечно, Дидурова…
Константин не скрывает своей гомосексуальности. И в жизни создает провоцирующий обывателя яркий образ гендер-блендер, унисекс дивы, которая может украсить любую богемную компанию. Возможность быть самим собой среди других – главное, о чем мечтал Дива в начале 1990-х, когда гей-движение в России только зарождалось. «Я до сих пор не очень люблю шкафных геев, – признается Дива в интервью порталу Gay.Ru. – В советские времена многие страдали именно от них, а не от гетеросексуалов. …Однажды меня бросил человек, у которого четверо детей и финская жена. Я таких презираю. Потому что делать из женщины ферму по разведению детей подло. Как и рожать детей, ради вида на жительство. Я удивляюсь тому, как женщины могут жить с такими мужьями, зная, что у супруга двойная, если не тройная жизнь».
Такая решительность присуща Косте Диве во всем – в отношении к творчеству, в волонтерской работе и правозащитной деятельности. В начале 1990-х он принимал активное участие в первых правозащитных акциях российских гомосексуалов. Например, в российско-американских встречах по проблемам сексуальных меньшинств и профилактике СПИДа, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге в июле-августе 1991 года, в московской конференции ОБСЕ по правам человека осенью того же года.
В это же время Костя Дива как фигура очень популярная среди сливок столичной жизни оказывается в центре внимания спецслужб. «Отдел по борьбе с гомосексуализмом, – признается Гончаров, – жаждал взять меня в свои осведомители». В течение нескольких лет он не мог устроиться на работу – по его мнению, в этом были виноваты, с одной стороны, органы безопасности, а с другой – неприятие постсоветским обществом его образа жизни и яркого облика.
В середине 1990-х годов, продолжая работать в правозащитных проектах, в основном в Прибалтике и Финляндии, Константин Гончаров покинул Россию и обосновался в Финляндии, где в 1992 году получил статус беженца.
В 1993 году принял участие в конференции ILGA, которая прошла в Хельсинки. В следующем году проводил в Риге и Вильнюсе семинары по проблемам СПИДа уже в качестве сотрудника AIDS-центра столицы Финляндии.
В мае 1995 года на международной конференция «Меняющиеся лица проституции» он представлял финскую организацию, занимающуюся защитой прав проституток. В 1997 году Дива посетил проходивший в польском городе Щецине форум AIDS and mobiliti, посвященный сходным проблемам.
На творчество времени не хватало. К тому же статус эмигранта из России не позволял рассчитывать на большой успех. В России он был – «правозащитник, волонтер многих общественных организаций, медработник, косметолог, актер кабаре, автор песен». В Финляндии – все то же, только вот с мечтой о карьере артиста пришлось расстаться. Хотя некоторое время он возглавлял детскую русскоязычную певческую группу при одном из православных храмов страны.
В Финляндии Костя Дива пошел работать в психиатрическое отделение дома престарелых. В это же время продолжал активно общаться с музыкальной и не только тусовкой, рассказывая о своих буднях в пансионе для финских стариков. О необычном парне из России услышала Канерва Цедерстрем, собиравшаяся снимать фильм о русских эмигрантах. Сначала она предполагала дать в картине небольшой фрагмент о Диве, но, ближе познакомившись со столь колоритной персоной, Цедерстрем решила, что лента будет только о нем. В течение двух лет Канерва сквозь объектив камеры следила за тем, как складывается в Финляндии жизнь парня, покинувшего родную страну из-за неприятия соотечественниками его гомосексуальности. Когда фильм вышел, критики заговорили о том, что Цедерстрем разглядела в Косте современного князя Мышкина. И еще, как добавил один из критиков в журнале «Z», «это история человека, который не сломался, а, пройдя сквозь множество трагедий, стал еще сильнее…»
Несколько лет жизни русского гея-эмигранта Кости Дивы символизируют собой жизнь вообще, складывающуюся из потерь и приобретений, – это жизнь людей, которые его окружают, и даже целых стран. Вместе с Дивой мы оказываемся то в Москве, то в Хельсинки, то в больнице, то в ночном клубе. Сейчас он медбрат, через мгновение – актер кабаре, потом – композитор… Наконец, гуляка, развлекающийся в гей-клубе. А вот он, парень, отвергнутый Россией, с нежностью ухаживает за обездвиженными финскими стариками. Над этой частью фильма зрители плакали…
Название картины – «Lost and Found» – пришло само собой. Так назывался известный гей-клуб в Хельсинки, где Константин любит проводить свободное время.
Со времени премьеры «Lost and Found» был показан уже на пяти международных фестивалях – в Италии, Швеции и Германии. И, конечно, в Финляндии – в Тампере, здесь в 2004 году он получил главный приз финских кинематографистов.
Премьера фильма вернула Диву к творческой жизни. Спустя 13 лет он вновь запел и подготовил специальную программу из новых песен. Картина «Lost and Found» сделала его популярным в маленькой, но дружной Финляндии, в которой, по словам Дивы, «президента можно встретить в душевой открытого бассейна, а премьера на центральном проспекте города без охраны…»
Теперь Костю Диву узнают на улицах Хельсинки, как и премьер-министра страны. Просто обращают приветливые взгляды в сторону «заблудившейся Белоснежки» (таков подзаголовок фильма Цедерстрем). «Но это не мешает жить, - признается Дива, - не заставляет бежать из страны, задумываясь о безопасности и хлебе насущном».
Сегодня Костя Дива дает до четырех концертов в месяц, в основном в Хельсинки и пригородах. Пока он не может позволить себе большего, так как продолжает получать образование. Костя надеется, что самое лучшее – в творчестве и личной жизни – еще впереди. И все-таки, урывая время между учебой и работой, он готовит свой первый альбом, рабочее название которого – «Запрещенные песни».
Он сочиняет композиции на стихи Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Алексея Дидурова. И одна из них уже стала хитом на русскоязычных радиостанциях Финляндии. Правда, не надолго…
Основа хита «Сфинкс» – стихотворение Кати Горбовской «Медленно ползет лифт…» и «Мчались звезды...» Бориса Пастернака. Композицию создали (на старой музыкальной основе Юрия Прялкина) финские парни Оскар Ахо и Ристо Хакулинен при участии Дивы. В середине ноября 2004 года «Сфинкс» по отклику слушателей «Радио Спутник Финляндия» обогнал по популярности песни Аллы Пугачевой, но… был снят с эфира, а позднее запрещен.
Впрочем, почти тут же пришло приятное известие из Лондона – на одной из клубных тусовок туманного Альбиона «Сфинкс» прозвучал дважды. Так, что Костя Дива, «заблудившаяся в финских краях русская Белоснежка», не отчаивается. Он уже знает основной принцип жизни – «Lost and Found» – здесь потерял, а там – нашел.
Первый открытый гей в России. Роман Калинин (16 апреля 1966 года)
Роман Калинин – одно из самых громких имен начала 1990-х годов. Человек, который стал гей-лидером постсоветской России «просто потому, что был первым публично открытым геем». «Я был голубым и считал невозможным для себя и безнравственным вообще скрывать свою ориентацию…», – рассказывал Калинин в интервью сайту Gay.Ru о временах, когда 121.1 статья УК РФ еще не была отменена.
Роман Калинин родился в «хорошей семье», но «гомосексуалистом был с рождения». Правда, как и тысячи правильных советских подростков, он узнал, «как это называется, только лет в двадцать».
Но сначала была знаменитая квартира Евгении Дебрянской на улице Рычагова в Москве, где по четвергам проходили дискуссии членов первой оппозиционной партии в СССР – Демократического союза. Там, впрочем, о гомосексуализме никогда не говорили…. Будучи студентом престижного советского вуза, МВТУ им. Баумана, Калинин вышел из комсомола для того, чтобы вступить в ДС. В университете случился скандал, ведь студент Калинин был не просто рядовым членом организации, а секретарем комитета комсомола по идеологии: «Мой комсомольский билет долго лежал под стеклом на столе секретаря. До сих пор не знаю зачем, может, он надеялся, что я одумаюсь? Не очень понимаю, почему меня тогда не выгнали из института…»
В Демсоюзе вместе с лидером социал-демократического крыла партии Александром Лукашевым («Он был единственным открытым геем в Демсоюзе, – отмечает Калинин, – увы, через несколько лет его убили») Роман Калинин принимал участие в издании «Новой Жизни», одной из первых независимых газет в СССР. Опыт в работе над «Новой Жизнью», печатавшейся в Прибалтике и доставлявшейся в столицу окольным путями, помог Калинину в издании гей-газеты «Тема».
«…Я просто физически больше не мог скрывать свою ориентацию, я не хотел жить двойной жизнью. В моей ориентации не было ничего позорного. Скрывать ее заставляло советское общество. И я понял, что надо действовать, что с преследованием, угнетением гомосексуалов, репрессиями против нас надо бороться…», – к такому выводу Калинин пришел к середине 1989 года. Тогда же в «Новой Жизни» под видом письма от гомосексуала он напечатал обращение с призывом к действию. Откликнулся на письмо единственный человек, «известный сегодня под псевдонимом Владислав Ортанов». «Помню, встретились мы у Центрального телеграфа, – рассказывает Калинин. – Влад был в сопровождении друзей, «на всякий случай». Он оказал мне помощь в издании первого номера, особенно в редактировании и правке материалов. Все-таки у меня было только техническое образование. С лесбийскими статьями помогла работавшая в одном издательстве девушка по имени Нонна – ее фамилию я так никогда и не узнал». Позже Ортанов, не согласный с политическим радикализмом «Темы», отказался от сотрудничества с Калининым…
Название газеты пришло само собой. «Темой» на жаргоне называли круг гомосексуалов. К концу 1989 года был закончен набор первого номера. Редактор Калинин сам сделал макет, на собственные деньги напечатал в Риге тираж и привез его в Москву.
Итак, «Тема» вышла. Значение этого факта в истории российского гей-движения огромно. Благодаря «Теме» советские геи смело и открыто заговорили о своем праве просто жить в то самое время, когда еще действовала 121.1 статья УК РФ. Но главное – «Тема» решительно и немедленно разрушила табу, прежде лежавшее на всем, что касалось любых проявлении гомосексуальности. Безапелляционность публикаций «Темы», твердая уверенность ее редактора в необходимости как можно скорее добиться отмены положений советских законов, преследовавших гомосексуалов, отвечали настроениям всего общества даже больше, чем робким желаниям геев того времени. Возможно, поэтому выход «Темы» был благожелательно принят лесбиянками, которые испытывали при советах меньшее давление, чем те, кого судили за «добровольное мужеложство». Советских педерастов, существовавших в закрытых мирах своей субкультуры или пошедших на сделку с властью, напротив, настораживала категоричность суждений Романа Калинина и его «агрессивность». Но «Тема» была именно политическим изданием, а не самодеятельным литературным журналом с эротическими картинками. …С эротикой власти смирились гораздо раньше, чем даже с самыми робкими проявлениями инакомыслия. «Я считал и считаю, – признается Калинин спустя 15 лет после начала издания «Темы», – что абсолютно безнравственно и аморально было выпрашивать понимания и «прощения» у коммунистов, идти на сговор с властью, уничтожившей миллионы моих соотечественников вне зависимости от сексуальной ориентации. Тем более нелепо было издавать «политически корректную» газету, которую приходилось тайно, опасаясь ментов, доставлять из Прибалтики в столицу».
«Тема» сразу же стала центром притяжения молодых либеральных сил не только в России, но на всем пространстве Советского Союза. По традиции газета в Советском Союзе должна была быть органом какой-то общественной организации. Поэтому Калинин придумал «Ассоциацию сексуальных меньшинств» и ее учредительный съезд, который на самом деле никогда не проходил. В дальнейшем обязательного членства в АСМ не было. Роман Калинин до сих пор уверен в том, что «универсальной гей-организации не может быть, поскольку все мы, кроме своей ориентации, – абсолютно разные по убеждениям люди». Тем не менее, в начале 1990-х «Тема» смогла стать настоящим информационным центром и координационным штабом молодого гей-движения. Особый вклад в работу редакции внесли куратор отдела писем Александр Досегаев («без его кропотливой работы, наверное, газета была бы совсем другой») и журналист Виталий Лазаренко.
Всего вышло 14 номеров «Темы», каждый тиражом от 20 до 25 000 экземпляров. По подписке газета расходилась по всему СССР. В Москве, где розничная продажа «Темы» была «почти под запретом», газета распространялась только на лотках с либеральной прессой. Например, в знаменитом оплоте постсоветского свободомыслия – переходе на Пушкинской площади.
Многие советские геи совершили первый робкий выход из-под подполья именно благодаря «Теме». Она же впервые ввела в широкий обиход слово «гей», пришедшее на смену жаргонному – «голубой» и казенному «гомосексуалист».
«Тема» стала и первым зарегистрированным столичными властями изданием для геев. В начале 1990 года после выхода Российского закона о печати, вводившего уведомительный порядок регистрации СМИ, Роман Калинин подал в Моссовет заявку и получил свидетельство за номером 82. Последние номера «Темы» печатались уже легально в Москве в типографии «Литературной газеты». Издание было прекращено в 1994 году. На смену «агитационному листку» пришли «1/10» и эротический «Димка» Дмитрия Лычева.
Важная поддержка гей-движению в России была оказана международными правозащитными организациями и частными лицами. Весной 1990 года Калинин познакомился с Джулией Дорф, американской подданной, работавшей с еврейскими репатриантами из СССР. Она живо интересовалась правами геев и лесбиянок в СССР и советским правозащитным движением в целом. Летом того же года в Москву приехал американский гей-активист Джим Тейвз. Он искал единомышленников, в том числе и для продолжения своей деятельности в США. Калинин познакомил двух американцев в России, и Джулия с Джимом стали сопредседателями созданной в Москве Международной комиссии по правам человека для геев и лесбиянок (IGLHRC), цель которой – защита прав гомосексуалов по всему миру. Третьим сопредседателем стал Роман Калинин. В этом качестве в конце 1990 года он выехал в США для сбора средств в фонд новой организации. Это было изнурительное месячное турне. Вместе с американскими геями Калинин принял участие в пикетах у советских консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
В знак поддержки российского гей-движения мэр Сан-Франциско провозгласил 16 ноября 1990 года «днем Романа Калинина в Сан-Франциско». Русский гей оказался первым гражданином иностранного государства, который был награжден специальным знаком «За заслуги» муниципалитета Сан-Франциско.
Средства, собранные Калининым в ходе лекций и встреч, в том числе в конгрессе США, были использованы для организации в Москве и Санкт-Петербурге грандиозной гей-конференции летом 1991 года, а также проведения кинофестиваля в московском кинотеатре «Новороссийск». В Россию приехали несколько десятков американских гей-активистов. На фестивале и конференциях в Москве и Петербурге побывали без преувеличения тысячи людей.
Часть средств (точных сумм Роман Калинин указать не может, он не распоряжался деньгами) были переданы московским и петербургским гей-организациям, а также на издание газеты «Тема» и журнала «Арго». «Кажется, спасибо мне до сих пор не сказал никто…», – отмечает Роман Калинин.
Осенью 1991 года в Москве была предпринята последняя попытка создать общую гей-организацию. По итогам двух встреч, в которых приняли участие около 70 гей-активистов, был создан так называемый «Треугольник». Но никакими делами и проектами в дальнейшем он не отметился. Попытку реанимации «Треугольника» предприняли Ортанов и Лычев под внушительный грант, полученный от ЕС в 1996 году.
«…Деньги, которые были выделены на «Треугольник», – уверен Роман Калинин, – ушли впустую – на функционирование… Мы год ходили на работу, обменивались с Госдумой письмами и факсами, журнал какой-то издавали. Кому это было нужно? Никому».
Политическая деятельность Калинина не осталась незамеченной властями. До отмены в 1993 году 121.1 статьи УК его неоднократно вызывали в прокуратуру, напоминая о существовании этой нормы в советском законодательстве. «Вы же ездите в электричках, – говорили Калинину прокуроры, – вы понимаете, что когда-то вы куда-то не доедете». Свои усилия по защите прав геев Роман Калинин воспринимал как часть политической работы. С этим был связан его переход в радикальное крыло «Демократического союза», в Радикальную ассоциацию за мир и свободу (РАМС), а потом в российский филиал итальянской Транснациональной радикальной партии (ТРП). «Радикальная партия была тогда единственной известной нам организацией, открыто защищавшей геев», – вспоминает Калинин.
Из ТРП выделилась Российская либертарианская партия – движение, которое собиралось заниматься «защитой прав ВСЕХ угнетенных». Инициаторами его создания стали, помимо Романа Калинина, писатель Дмитрий Волчек, «первая лесбиянка России» Евгения Дебрянская и журналист Андрей Бабицкий. АСМ к тому времени перестала существовать, так как ее умеренное крыло отказалось поддерживать политические лозунги.
Лидеры новой партии ратовали за свободу как таковую. «Я осознавал тогда и осознаю сейчас движение за права геев исключительно и непременно как часть всеобщего правозащитного процесса. Просто невозможно требовать себе права и мириться с притеснением других социальных групп. Гласность и публичность – важнейшие инструменты нашей борьбы. Только тогда обыватель понимает, что геи – это не кровожадные чудовища за тридевять земель, а живущие рядом с ним обычные люди – друзья, родственники, просто хорошие соседи. Поэтому борьба с замалчиванием была моим важнейшим оружием», – говорит Роман Калинин.
Эта борьба могла быть успешной только благодаря проведению шумных и заметных акций, которые постоянно напоминали власти о необходимости отмены статей УК, карающих геев. Первый съезд Либертарианской партии, прошедший в актовом зале Историко-архивного института на Никольской улице, выглядел как настоящий рок-концерт. Возле института организаторы съезда раздавали кондомы под плакатом «Одна подводная лодка – 5 миллиардов презервативов». «Мои оппоненты любили осуждать нас за публичность, – вспоминает Калинин и отмечает, что его правоту подтвердило время, – …победителей не судят!» И действительно, кто сейчас вспомнит хотя бы имена его оппонентов.
Возможно, самой яркой политической акцией либертарианцев, от которой до сих пор не могут опомниться «гомосексуалисты-оппуртунисты» стало выдвижение кандидатуры Романа Калинина весной 1991 года на выборах президента России. Благодаря этому шагу геи России впервые получили широкую трибуну в государственных СМИ. Тогда приемы желтой прессы еще не были освоены российскими журналистами, поэтому в многочисленных интервью и статьях Калинину удалось в целом сформулировать главную мысль: гомосексуалы – не изгои, а поэтому преследование их в России должно быть прекращено.
Общественные стереотипы подверглись благодаря шагу Калинина глобальной перестройке. Один из геев, а они в сознании общества воспринимались не иначе, как отверженные, как парии, претендовал на главный пост в стране. 24 сентября 1991 года в «Московском комсомольце» появилась передовица «Государству не место в постелях своих граждан…», написанная журналистом Артуром Гаспаряном. Первую полосу украшал большой снимок Романа Калинина и открытого гея канадского сенатора Свена Робинсона, который принял участие в Московской конференции по правам человека СБСЭ.
…Через два года, весной 1993-го была отменена статья 121.1.
В это время Роман Калинин ушел из гей-движения – «…как лидер, как скандалист». В 1992 году вместе с Павлом Чаплиным Калинин организовал первую гей-дискотеку в кинотеатре «Ленинград», а также на других московских площадках. Через год Чаплин открыл «Шанс», а Калинин – клуб «Андерграунд» на Волхонке, 13 (он закрылся в 1995 году). «В общем, мне не удалось открыть только первую гей сауну…», – шутит Калинин. «Андеграунд» стал прообразом будущего первого гей-клуба. Именно туда пришел Илья Абатуров (об этом он рассказал в одном из своих интервью), чтобы посмотреть, как действует гей-заведение. «Сегодня в Москве функционирует два гей-клуба, в создании которых я принимал участие (назовем это так скромно)», – признается Роман Калинин.
В 2004 году, отвечая на вопрос сайта Gay.Ru о причинах ухода из политики первых гей-лидеров – его и Евгении Дебрянской – Роман Калинин ответил: «А мы в «политике» никогда и не были, мы были в правозащите. Задача выполнена. Снова понадобимся – вернемся…»
Маша Гессен. (13 января 1967 года)
Маша Гессен воспитывалась в традиционной еврейской семье, близкой многим советским диссидентам. Свою гомосексуальность она осознала довольно рано, лет в 12… Коренным образом вектор ее жизни поменял отъезд из СССР вместе с родителями в 1981 году. Через некоторое время Гессен обосновалась в США. В Нью-Йорке она училась в Архитектурном институте, но не закончила его. В дальнейшем профессиональные интересы Маши связаны с журналистикой и правозащитной деятельностью.
После 10-летнего отсутствия в Маша Гессен приехала в Советский Союз в марте 1991 года, чтобы принять участие в работе Первого независимого женского форума. С 1993 года Гессен живет в России со своей семьей. А в 8 июле 2004 она как гражданка США зарегистрировала свой брак с гражданкой России.
Контакты Гессен с первыми лидерами российского гей-движения состоялись еще осенью 1990 года в Америке. Когда в США приехали Роман Калинин и Евгения Дебрянская, к Маше, которая активно работала в американских гей-организациях, срочно обратились за помощью в качестве переводчика. Русские гости, как оказалось, не говорили по-английски. Но и Маша уже десять лет не разговаривала на русском. Однако переводчик требовался немедленно, и Маша согласилась.
Во время поездки Калинина и Дебрянской по Америке у них возникла идея проведения в СССР конференции, главной темой которой должны были стать проблемы гомосексуалов. С просьбой о поддержке и помощи они обратились к Гессен.
«Мне это казалось совершеннейшей утопией, - вспоминает Маша Гессен, - но поскольку они уверяли меня, что это возможно, я решила им во всем довериться и сделать все, что могу, как организатор. В общем, я фактически им организовала эту конференцию. Ее финансовую сторону отчасти организовывала такая американка - Джулия Дорф, которая к тому времени уже много лет ездила в Советский Союз. Она тогда как раз была среди основателей организации под названием Международная комиссия по правам человека для геев и лесбиянок (IGLHRC). Собственно, первой акцией этой организации, которая теперь уже действительно стала крупной международной организацией, была вот эта конференция в Москве и Петербурге летом 1991 года. А на разведку мы приехали еще в марте 1991 года…»
Маша Гессен называет розово-голубой форум в России летом 1991 года «фантастическим событием», которое стало «катализатором» для развития гей-движения в России, а в дальнейшем и во многих государствах на месте бывших республик Советского Союза.
Первый международный гей-лесби конгресс – так звучно назвали организаторы свое мероприятие – привлек огромное внимание международных и российских СМИ.
«Во-первых, там были две очень важные программы в Питере и в Москве. В Москве, где это все организовывал Роман Калинин, многое не получилось. А в Питере, где у Джулии Дорф было больше хороших контактов, все отчасти организовывала Ольга Жук. В Питере тогда была и более активная неформальная жизнь. Был такой человек по имени Валерий Соловьев, если Яне ошибаюсь, который до сих пор занимается активной общественной деятельностью. Он не «голубой», но очень хороший организатор, просто толковый парень. Мы его просили, чтобы он помог нам в Питере. В какой-то момент пришлось заплатить, чтобы его выпустили из тюрьмы. На что было потрачено 200 долларов из моего собственного кармана. И в Питере все было нормально организовано, хотя до последнего момента было ощущение, что никто на эти мероприятия не пойдет…»
Но в Питере, напротив, все прошло просто блестяще. Был арендован Дом Культуры неподалеку от Невского проспекта, который оформили художники из «Новой академии изящных искусств» Тимура Новикова.
Можно сказать, что в Питере состоялась рабочая часть международной конференции. На заседаниях нескольких секций, у каждой из которых было два куратора – русский и американский – обсуждался огромный спектр вопросов: от развития международного гей-движения до гомосексуальных аллюзий в творчестве писателей и художников и состояния современной массовой культуры. Хорошая команда переводчиков предупредила любые проблемы в общении. И американскую сторону (в основном это были гей-активисты из США, около 70 человек) приятно удивил уровень понимания проблем, которые поднимались во время работы секций. «…Идея заключалась в том, - подчеркивает Гессен, - чтобы сделать западных гостей соведущими секций… и помогали российским людям начать говорить на темы, на которые никто никогда в России не разговаривал. …Сначала американцы пытались обсуждать правозащитные вопросы на каком-то примитивном уровне. Но оказалось, что россияне им тут же отвечают на понятном образованном западном уровне».
Отмечая значимость питерского форума и степень интереса к нему, Маша Гессен напоминает, что «в Питере были несколько человек, которые приехали из Сибири. Они не знали точно, когда состоится конгресс, поэтому приехали недели за две до этого события, пришли домой к Ольге Липовской. Она их на две недели устроила в Петербурге, пока они нас ждали. Это люди, которые до сих пор активно что-то делают. Там были по два человека из Барнаула, Красноярска и Новосибирска…».
«В Москве получился только кинофестиваль, а вся конференция была провальная…» - отмечает Гессен.
…Помимо конференции в столице прошла первая гей-дискотека, а также несколько публичных акций – все это вызывало неизменный интерес у прессы. Сохранился замечательный снимок, ракурс которого передает ажиотаж вокруг международной тусовки «розовых» и «голубых» в бывшем логове коммунизма. Джулия Дорф и Маша Гессен застыли в публичном поцелуе напротив памятника основателю Москвы Дмитрию Долгорукому возле Моссовета. На заднем плане - тесный ряд фотографов и телеоператоров, словно у красной дорожки в Каннах.
Другой этап участия Маши Гессен в российском гей-движении – работа центра «Треугольник», деятельность которого стала возможна после отмены 121 статьи УК РФ. В том же году в августе состоялась и еще одна правозащитная конференция геев и лесбиянок, более скромная по размаху, чем форум 1991 года.
Маша Гессен отмечает, что отмена 121-й статьи стала результатом стечения обстоятельств. В новой России началась реформа уголовного законодательства. Некий «умный человек» из КГБ, вероятно, по словам Гессен, «стукач», преподавал международное право в одном из элитных московских вузов. Он написал об уголовном преследовании геев несколько научных работ и был включен в большую команду юристов, работавших над поправками в российский Уголовный кодекс.
Поправок было настолько много, что их в те времена принимали после одобрения экспертами, как говорится, не глядя. Так поправка, отменявшая наказание за мужеложство прошла несколько инстанций и, наконец, была принята вместе с другими Верховным Советом РФ.
«Принятия этой поправки поначалу мало кто заметил, - рассказывает Маша Гессен. – Документ появился среди других напечатанных мелким текстом в «Российской газете».
Никто не задумывался и о последствиях поправки, ведь в лагерях и тюрьмах томились сотни осужденных по 121-й статье».
Маша Гессен после опубликования поправок позвонила их «автору», который рассказал, что, не смотря на отмену карательных норм, до сих пор никто не удосужился сделать приказ по Министерству внутренних дел, на основе которого осужденные по 121-й статье могут покинуть места заключения.
Весной 1993 года Маша Гессен получила небольшой грант, чтобы вновь приехать в Россию и заняться вопросом с освобождением этих людей. Большие списки заключенных она получила от Валерия Климова, уральского гей-активиста, занимающегося вопросами реабилитации геев, побывавших тюрьме, а также всех, кто подвергался гомосексуальному насилию в местах заключения.
Приехав в Россию, Гессен немедленно разослала телеграммы во все колонии и тюрьмы, в которых, судя по спискам Климова, находились люди, осужденные по 121-й статье. В результате выяснилось, что многие данные Климова либо устарели, либо не соответствуют действительности. Примерный текст телеграммы, разосланной от имени Международной комиссии по правам человека, таков: «В связи с отменой 121 ст. 1 ч. УК РФ просьба сообщить статус заключенного такого-то…».
«Я уверена, что рассылка телеграмм там, где информация соответствовала действительности, имела положительный результат…» - говорит Гессен.
Результатом этой поездки Маши Гессен в Россию стала подготовка большого отчета по ситуации с правами человека для геев и лесбиянок.
В 1993 году после создания «Треугольника» Маша Гессен стала одним из сопредседателей (всего их было 8) организации, среди главных инициаторов создания которой были Евгения Дебрянская и Влад Ортанов. Отказ «Треугольнику» в регистрации властями России обратил на него внимание Европейской комиссии. Из Брюсселя была предложена новая версия «Треугольника» как международной организации, в которую вошли бы два российских гей-союза, московский и питерский, а также два прибалтийских. «Треугольник» получил финансирование, было снято помещение, разработан штат…
«Треугольник», считает Гессен, функционировал как обычный европейский или американский гей-центр. Он занимался мониторингом положения геев, издавал информационный бюллетень, пытался работать в направлении психологического и правового консультирования. Но деньги закончились. К тому же после истечения срока гранта произошел раскол, закончившийся скандалом.
С одной стороны оказался Влад Ортанов, который вышел из «Треугольника», и Кевин Гарднер, один из американских гей-активистов, приехавших в Россию. С другой – Евгения Дебрянская, Маша Гессен, Николай Нездельский… Вскоре выяснилось, что от имени одной организации в фонд «Евразия» поданы две заявки на новый грант. Денег не дали никому. Шел январь 1996 года.
«Мне кажется, - признается Маша Гессен, - что основной вклад «Треугольника» в гей-движение России заключается в том, что в центре было воспитано поколение людей с навыками и умениями, которые позже продолжили свою правозащитную работу, в том числе в других государствах бывшего Советского Союза».
«Никакого гей-движения после распада «Треугольника» в России больше не было», - говорит Маша Гессен. Но с тех самых пор она никогда не отказывает в интервью, вопросы которого тем или иным образом касаются жизни геев и лесбиянок на всем постсоветском пространстве. Гессен неоднократно помогала и российским геям, просившим политического убежища в США… «Но в какой-то момент я стала отказывать подобным просьбам адвокатов, - рассказывает Маша. - И это приходится делать все чаще. Да, я считаю, что люди имеют право жить там, где хотят. И когда уехать собирается молодой парень из Кубани, я помогаю. Потому что на Кубани жить гею совершенно невозможно. Но когда недавно появился такой молодой человек в Питере, я отказала. Если он просит политического убежища, потому что он пацифист и его заберут в армию, - пожалуйста. Но если только потому, что он голубой, то, поверьте, я не смогу написать ничего, чем будет отличаться его американская жизнь от российской. Разве что он поселится в Массачусетсе, где разрешены однополые браки.
Впрочем, возможно, кто-то считает, иначе. И он до сих пор не чувствует себя сексуально свободным в России по ряду каких-то непонятных мне причин – будь то образование, деньги, наличие гражданства другой страны и что-то другое».
«Не вижу, не слышу, не говорю…». Илья Абатуров (26 сентября 1968)
Илья Абатуров, чье имя неразрывно связано с таким гей-брендом, как «Три обезьяны», справедливо считается лидером клубного строительства в постсоветской России. Первый гей-клуб открылся в Москве в 1993 году. Впрочем, в начале 1990-х всего два заведения в Москве отвечали концепции клубного заведения. Это были «Арлекино» и «Премьера»… Последняя встречала своих посетителей после завершения вечернего спектакля в Театре киноактера на улице Воровского.
Окна театрального фойе закрывались темными шторами, расставлялась пластиковая мебель, вроде той, что сегодня используют летние городские кафе. Позже, когда было получено разрешение, оборудовали барную стойку и сцену.
«Премьера», проработавшая в стенах Театра киноактера чуть больше года, была создана усилиями Ильи Абатурова и его друга по имени Александр. Здесь многое случилось впервые в истории клубной жизни России. На подмостки впервые вышли российские трансвеститы – Дима Петрунин (Люся Сохатая) и непревзойденный мастер своего жанра, звезда травести 1990-х годов Лора Колли – заслуженный артист России Сергей Зарубин.
«Мы ничего не умели…», – признается Абатуров. Все пришлось начинать с нуля. Обращались за консультациями к немногочисленным специалистам, которых можно было отыскать в России. Например, Дольф Михель, шеф ресторана «Театро», самого дорого ресторанного проекта начала 1990-х годов, «консультировал официантов по поводу посуды»...
Владельцы «Премьеры», по словам Ильи Абатурова, «…делали все, чтобы гомосексуалы чувствовали здесь себя комфортно, в том числе с точки зрения безопасности». «Не нужно забывать, – рассказывает Абатуров в интервью журналу «Квир», – что мы открывали наш клуб в то время, когда 121-я статья еще действовала… А мы не просто заявили, что ориентируемся на гей-аудиторию, мы стали работать над специальными шоу для геев».
10 февраля 1994 года «Премьера» отметила год своего существования в стенах Театра киноактера и вскоре закрылась. Уже в апреле первых посетителей принял клуб «Три обезьяны» – до сих пор самый успешный клубный гей-проект в России, переживший несколько реинкарнаций, он менял свое расположение в Москве, но не принципы, воплощенные в названии. В бренде «Три обезьяны» заключалась идея закрытого клуба – «…ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Первая обезьянка закрывает глаза, вторая – уши, а третья – рот… Я придумал этот образ, – говорит Илья Абатуров. – Кроме того, я по гороскопу – Обезьяна, и два моих партнера тоже. Мы заказали на «Мосфильме» трех золотых обезьян, которые и переехали с нами в новый клуб…».
Кроме правильного расположения звезд успеху Ильи Абатурова в клубном бизнесе способствовал опыт общественной работы, который он получил еще в советские времена. Окончив педагогический институт, Абатуров должен был стать учителем географии... Но на «девчачьем факультете» мальчиков, по его словам, «ценили и «продвигали» в лидеры».
«Это «продвижение» совпало с моим комплексом: я очень не любил, когда меня «задвигали» и сам стремился занять лидирующее положение. Я тогда искренне верил в необходимость общественной активности…». В армии в конце 1980-х Абатуров стал кандидатом в члены КПСС. Политическая предприимчивость молодого кандидата, с одной стороны, одобрялась коммунистическими боссами, а с другой – вызывала раздражение. В желании разобраться, «что же это такое происходит» в стране, Абатуров дошел до секретаря РКП на Старой площади.
Оканчивая вуз, Абатуров стал работать добровольцем в общественной организации по студенческим обменам с зарубежными странами, потом уже занимался этим на постоянной основе. В итоге после института он ни дня не проработал по специальности, кроме студенческой практики, – весь ушел в туристический бизнес. На одном из туристических проектов удалось хорошо заработать. На этот капитал и состоялась «Премьера».
С «Тремя обезьянами» все оказалось гораздо сложнее. Клуб был отстроен невероятно быстро, но все приходилось делать своими собственными руками – красить, штукатурить, вбивать гвозди... Партнеры Абатурова заложили столичную квартиру, получили кредит и начали работать.
Вскоре после открытия «Три обезьяны» подняли планку клубного бизнеса для геев настолько высоко, что на 10 лет стали своеобразным эталоном гей-заведения, с которым до начала 2000-х годов никому не удавалось конкурировать. …Только спорить с точки зрения качества услуг и сервиса. Причем, во всем – в особенностях кухни, музыки, шоу-программ и безопасности.
Репутацию и уровень закрытого клуба оценили такие мировые знаменитости, как Валентино, Пако Раббан, Жан Поль Готье, посещавшие «…Обезьян» не как звезды, а как обычные посетители, знающие толк в хорошем эксклюзивном отдыхе.
Что касается эксклюзивности, то Абатуров всегда стремился представить «очень взыскательной» публике артистов, чья музыкальная аура соответствует самому настроению гей-культуры. На сцене «Трех обезьян» пели Алла Баянова, Гелена Великанова, Людмила Гурченко. А в «Центральной станции», например, состоялся первый клубный концерт Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, мега-звезды российской эстрады начала 2000-х годов.
Итак – «Центральная станция». Еще одна легенда клубной гей-жизни конца 1990-х годов, собиравшая геев и лесбиянок в особняке на Большой Татарской, открылась в 1998 году. Для «ЦС» была специально разработана своя стилистика – так называемый «британско-русский postindustrial». От здания, которое было превращено в современный клуб, осталась только коробка. Внутри все полностью перестроили, придумали ярусность: подвал, танцпол, ресторан… Оригинально было решено пространство внутреннего двора – тихого местечка для общения.
Осенью 2002 года открылась «Центральная станция-2» в помещении Театрального центра на Дубровке. Первая вечеринка состоялась в «ЦС-2» в ночь с 26 на 27 сентября. Предполагалось, что это будет суперсовременный культурно-развлекательный центр. Но… В ночь на 23 октября произошел самый крупный за всю современную историю Москвы террористический акт. Клуб в этот вечер не работал. Террористы захватили Театральный центр, в котором в это время шло представление первого русского мюзикла «Норд-Ост».
Помещение клуба превратилось в штаб по проведению антитеррористической операции. Для проникновения в здание ДК спецслужбы устроили направленный взрыв, разрушив внутреннюю стену «ЦС».
Трагедия на Дубровке навсегда разрушила планы открытия новой «ЦС» и принесла Абатурову и его партнерам огромные убытки. Впрочем, Илья Абатуров не склонен видеть гомофобии в том, что после теракта чиновники не разрешили открыть «…Станцию» на Дубровке. Причина в «запретительном стиле управления», преобладающим не только в Москве: «…о демократии как о полном уважении меньшинства большинством в России говорить пока рано».
Однако желтая пресса подняла шумиху: делались безосновательные предположения о связях владельцев «ЦС» с «чеченской мафией», что наводило обывателей на мысль о причастности гей-бизнеса к организации теракта. Эта шумиха достигла такого размаха, что со специальным заявлением были вынуждены выступить представители гей-движения. Илью Абатурова на сайте Gay.Ru поддержала Евгения Дебрянская, которая в конце 1990-х годов в рамках одного из клубных проектов Ильи открыла своеобразный клуб в заведении «Дайк». Лесбийские вечеринки долгое время проводились в «Трех обезьянах» по субботам.
Страсти вскоре утихли. У спецслужб не возникло ни одной претензии к владельцам гей-клуба на Дубровке. А вот у бизнесмена Абатурова они могли бы быть. После того как Илья наконец смог попасть в помещение клуба, он увидел разграбленные полуразрушенные интерьеры. Мало того, что исчезла дорогостоящая аппаратура – на стенах заведения красовались гомофобные надписи.
Оставалось сосредоточить основное внимание на развитии «Трех обезьян». Цель преобразований – «превратить советский клуб в европейский». Был значительно расширен танцпол, улучшена вентиляция, установлены новый звук и свет. Все это позволило Абатурову заявить в интервью журналу «Квир» в декабре 2003 года: «У нас лучшая публика, по качеству мы обгоняем другие клубы на 150 процентов».
В конце 2004 года «Три обезьяны» вновь переехали и открылись под названием «Три обезьяны New Age». Абатуров называет это заведение «абсолютно новым клубом по устройству, но сохраняющим традиции качества».
До середины 2004 года Илья Абатуров и «Три обезьяны» активно сотрудничали с проектами Gay.Ru, российского национального портала геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, а также Общественного центра «Я+Я». В частности, весной 2002 года в «Центральной станции» совместными усилиями был проведен фестиваль гей-лесби-кино. Вечерние показы «тематических» художественных и документальных фильмов посетили несколько тысяч человек. Илья Абатуров также охотно предоставлял свой клуб для проведения многочисленных акций по борьбе со СПИДом. А 1 декабря 2001 года выручка за один день работы «ЦС» была передана антиспидовскому проекту «Защити себя» для издания брошюры о профилактике ВИЧ-инфекции среди геев.
Проекты Абатурова – «Три обезьяны», сауна «Вода», «Центральная станция-2», планы открытия которой перечеркнула трагедия Норд-Оста, – с самого начала позиционировались как те, что геи делают для геев. «Мы должны помнить о своей патриотичности…», – говорил Илья в интервью сайту Gay.Ru, настаивая на том, что среди множества развлекательных заведений из соображений «корпоративного» единства гей должен предпочесть то, которое создано геями. За этой уверенность Абатурова лежит большая работа по созданию клуба, способного удовлетворить требованиям самый взыскательной публики. Есть у Ильи и убежденность в том, что «задача клуба – объединять геев, может быть, даже помогать решать вопросы кризиса в личной жизни».
Профессионал в сфере клубного бизнеса, сам Илья Абатуров никогда не был активным тусовщиком. Из всех видов отдыха он предпочитает туризм. Может долго и увлекательно рассказывать о том, как и где отдохнуть гею. Туристическое агентство «Три обезьяны», созданное при его участии, остается одним из самых популярных среди геев в России. В захватывающие гей-круизы Илья отправляется в компании своих друзей и единомышленников, среди которых – чиновники, бизнесмены и политики самого высокого ранга.
«У меня есть вторая половина, мы вместе два года, – признается в интервью Илья Абатуров. – А вообще, личная жизнь публичных людей складывается непросто. Многие из них несчастны и одиноки, например Борис Моисеев. Я называю его имя, потому что он открытый гей: за это я перед ним преклоняюсь…»
Впрочем, профессиональный успех Ильи Абатурова давно сделал из него фигуру, известную среди геев и ничуть не менее значимую, чем Борис Моисеев. Так что у многих завсегдатаев «Трех обезьян» есть достаточно причин уважать и ценить их хозяина. Который по-прежнему сам приходит в своей клуб, чтобы убедиться в прозрачной чистоте посуды, качестве блюд и… Которого часто никто «не видит, не слышит и не разговаривает с ним», но «Три обезьяны» по-прежнему заставляют переживать массу впечатлений геев и лесбиянок со всего мира, предпочитающих назначать свидания в Москве.
Гей-литератор как проект. Дмитрий Кузьмин (12 декабря 1968 года)
Трудно дать Дмитрию Кузьмину какое-либо более точное определение, чем «литературный проект». Он – поэт, критик, беллетрист, филолог, переводчик, издатель, журналист, организатор литературной жизни, возмутитель литературного спокойствия.
Лидер союза молодых литераторов «Вавилон», основатель и бессменный ведущий проекта современной русской литературы Vavilon.Ru, лауреат многих литературных наград, среди которых – премия Андрея Белого за 2002 год (номинация «За заслуги перед русской литературой»)…
Дмитрий Кузьмин – эгоцентричная фигура российского литературно-художественного андеграунда 1990-х годов – до сих пор остается самым ярким и талантливым раздражителем современной литературной жизни России – в столице и в провинции. Особую неповторимую ауру сопротивления серости и косности в словесности, журналистике и литературной науке придавала Дмитрию Кузьмину его позиция открытого гомосексуала. Он один, благодаря широте своих знаний, настоящей харизме литературного лидера целого поколения, сделал для гей-движения в России больше, чем любая гей-организация.
Кузьмин родился и вырос в семье с глубокими литературными традициями. Бабушка Дмитрия по материнской линии – советская переводчица Нора Галь. Ей принадлежат русские тексты «Маленького принца», «Постороннего» Альбера Камю, «Поющих в терновнике» Маккаллоу. Среди множества произведений оказался и редкий рассказ известного писателя-фантаста Рэя Брэдбери «Секрет мудрости». Переведенный бабушкой «из чистого собственного удовольствия в середине 1970-х» рассказ этот, по признанию Дмитрия, словно дожидался его в столе двадцать лет. «В нем никакой фантастики нет, а речь идет о юноше-гее и его камин-ауте перед своим дедом, который по этому поводу вспоминает о собственной полудетской влюбленности в мальчика…».
Другой творческой стихией, вошедшей в жизнь Дмитрия с детства, стала музыка. «С отцовской стороны в роду преобладали музыканты, хотя сам отец – архитектор, лауреат Госпремии СССР». Но родители расставились, Дима остался с мамой…
В школе Дмитрий всегда имел успех у девочек и «был вполне удачлив в гетеросексуальном романе», но в пятнадцать лет влюбился в одноклассника. «Мальчику я был не особо интересен, а потому у меня было много времени для самоанализа, который и привел меня к удивительному открытию: мне хочется не просто дружить с ним, а целовать, обнимать и все остальное. В общем-то, это показалось мне вполне естественным (на фоне прочитанной мною тогда «Семьи Тибо» Роже Мартен дю Гара, описывающей ровно такую же подростковую влюбленность), так что мои стихи, посвященные Паше, имели широкое хождение среди моих друзей и родственников – а у тех хватило ума принимать мои чувства как данность».
Окончив школу, Кузьмин довольно легко поступил на филологический факультет МГУ, но долго там не задержался. Был «отчислен за разнообразные подвиги, вызванные независимым нравом». В свои пенаты его принял филфак МПГУ (бывшего имени Ленина). Но и оттуда Кузьмин ушел – «мне дали понять, что геев на моей кафедре и так слишком много». Так что кандидатская диссертация была защищена в тихой и незлословной провинции – в Самарском пединституте, «подальше от московской литературной общественности, которая меня любит, как собака палку», признается Кузьмин.
В начале 1990-х годов Дмитрий Кузьмин начинает сразу же несколько литературных проектов – тем или иным образом они пересекаются с проблемами гомосексуальности. Эта тема привлекает его как одна из ярких инноваций современной русской литературы, стремительно осваивавшей новые темы и жанры после падения идеологических запретов.
Первым полностью тематическим литературным проектом стал 50-й номер газеты «Гуманитарный фонд», который вышел в 1992 году. Он был подготовлен Дмитрием Кузьминым вместе с поэтессой Вероникой Боде. На восьми полосах публиковались эссе о гомосексуальности в творчестве Олега Дарка и Егора Городецкого, фрагмент романа Жана Жене «Керель из Бреста», впервые появились в печати стихи Евгения Харитонова с предисловием Ярослава Могутина. Также была представлена гомоэротическая лирика трех поэтов «серебряного века» и рассказ Марины Сазоновой «Триптих» – до сих пор лучший, по мнению Кузьмина, «русский лесбийский рассказ». Завершала номер подготовленная Дмитрием Кузьминым короткая библиография «Культура и искусство в отечественной гей-прессе».
Спустя год в издаваемый Кузьминым ежегодник молодой русской литературы «Вавилон» (1993) вошли гомоэротические стихи Александра Анашевича и Ярослава Могутина. Разумеется, составителя интересовала не сексуальная ориентация их авторов, а степень мастерства… Кроме того, уже в начале 1990-х годов у Кузьмина складывается твердая уверенность в том, что появление гей-текстов в общем литературном потоке – это более продуктивная стратегия, в том числе и в смысле воспитания толерантности в обществе через литературный процесс.
Именно Кузьмину принадлежит идея создания первого серьезного литературного гей-журнала «РИСК» – самого успешного литературного гей-проекта конца 1990-х – начала 2000-х годов.
Первоначально издание под названием «РИСК» предпринял Влад Ортанов. Это был второй – после «Темы» Романа Калинина – опыт периодической гей-печати в России. Издавать «Тему» Калинин и Ортанов начинали вместе, но вскоре их взгляды на гей-движение разошлись. С тех пор за Калининым подразумевают так называемое «радикальное крыло» гей-сообщества 1990-х годов, а за Ортановым – «умеренное». После разрыва Ортанова с Калининым Дмитрий Кузьмин примкнул к учредителям «РИСКА», в производстве которого участвовал в качестве редактора, журналиста (печатался под псевдонимами Константин Евгеньев и Алексей Зосимов) и корректора. Позже эту же работу он выполнял и в «Арго»; этот журнал замышлялся Ортановым как эротический альманах – «достаточно легкое чтение для более или менее широкой гей-аудитории». «Арго» Ортанов считал более перспективным издательским проектом, а «РИСКом» начал заниматься Дмитрий Кузьмин.
«Я стал делать альманах, – рассказывает Дмитрий, – ровно таким, каким мне было интересно его видеть: вполне высоколобым и эстетским, с опорой на современную литературу (хотя при наличии человеческого и/или финансового ресурса охотно добавил бы разумное количество материалов по другим видам искусства). Ортанов продолжал частично финансировать издание – собственно, выкупая некоторую часть тиража и распространяя ее по прежним каналам. Надо сказать и о том, что саму издательскую марку «АРГО-РИСК» Ортанов фактически мне подарил: под этой маркой мной с 1993 года по сегодняшний день выпущено больше 200 книжек, и в литературных кругах это название вызывает ассоциации с современной поэзией авангардного и поставангардного направления, а не с гей-тематикой».
Начиная с 1995 года вышли четыре (последний в 2002 году) выпуска альманаха «РИСК». В редколлегию «РИСКа» входило всего три человека – Дмитрий Кузьмин как главный редактор, культуролог Егор Городецкий и Ярослав Могутин. Участие последнего было довольно условным, так как с середины 1990-х Могутин не живет в России. Егор Городецкий, напротив, во многом подсказал Кузьмину концептуальные основы проекта и сделал первый перевод фрагмента из «Истории сексуальности» Мишеля Фуко о любви к мальчикам в Древней Греции.
С 1995 года на страницах «РИСКа» отметились все современные литераторы (Александр Анашевич, Дмитрий Волчек, Сергей Круглов, Вадим Калинин, Василий Чепелев), тем или иным образом затрагивавшие в своем творчестве гей-темы. Дмитрий Кузьмин называет лишь одно исключение – поэта и издателя Александра Шаталова, «который в период существования альманаха был по личным причинам несовместим под одной обложкой с Ярославом Могутиным».
В «РИСКе» печатались дневники питерского прозаика Александра Ильянена, цикл Дмитрия Пригова «Мой нежный ласковый друг», лучшая, как полагает Кузьмин, «русская лав-стори» «Арборетум» киевской журналистки Марины Козловой. И не смотря на то, что русская гей-литература в своих лучших проявлениях активно входила в это время на страницы всего потока отечественной литературной периодики, Кузьмину довольно часто удавалось быть первым. Например, с публикацией «Арборетума», который успел стал своеобразной легендой русской гей-прозы еще в Интернете. Отдельное издание «Арборетума» вышло лишь в 2001 году на итальянском языке, а на русском – только в начале 2005.
До конца 1990-х Кузьмин как редактор испытывал проблемы с качественной лесбийской литературой, которая «оставалась очень слабой, эпигонской и по форме, и по содержанию». Поэтому первые талантливые имена в этом направлении отметились лишь в последнем (2002) «РИСКе» – это Галина Зеленина (Гила Лоран), Маргарита Меклина, Наталья Стародубцева.
Из публицистических работ наибольший резонанс имели «Заметки о гомофобии» самого Кузьмина в первом выпуске «РИСКа» – полемика с «вздорными писаниями «лучшего друга геев» журналиста Шахиджаняна», а также круглый стол «Мужское тело: визуальный аспект».
«РИСК» перестал выходить просто потому, что я опубликовал все, что мне хотелось опубликовать: на новые выпуски не набирается материала. Круг авторов, интересно работающих с темой, по-прежнему невелик, а публикационные возможности у них достаточно разнообразны. Со временем, кто знает, такого рода проект мог бы быть возобновлен, если ход литературного процесса даст для этого новый материал».
В 1997 году началось сотрудничество Дмитрия Кузьмина с тверским издательством «Колонна». Дмитрий Боченков обратился к нему за помощью в поиске текстов, которые могли бы составить основу так называемой «Тематической серии». Дмитрий Бушуев, автор первой книги серии, к тому времени давно жил за границей и почти не поддерживал связей с русскими литераторами. В России о нем помнили как о подающем надежды поэте. С тематической прозой Бушуева Кузьмин познакомился по изданной в США антологии русской гей-литературы «Out of the Blue». Ее привез в Россию один из составителей – славист из Вермонта Кевин Мосс. Через составителей Кузьмин получил полный текст «…Арлекина», который казался ему хотя и не «шедевром», но «достаточно простым текстом для восприятия», чтобы открыть «Тематическую серию».
Это уже дальше в рамках серии (ее редактором и стал Дмитрий Кузьмин) вышли и «рафинированно-эстетская проза Александра Ильянена, и брутально-иронические рассказы Вадима Калинина». Но серия, как и журнал «РИСК» вскоре стала испытывать проблемы с авторами. К тому же оказалось, что литературные вкусы издателей серии – Дмитрия Боченкова и Дмитрия Волчека довольно резко расходятся с представлениями Дмитрия Кузьмина о том, какие тексты должны составить основу «Тематической серии». Так что отношения с «Колонной» остались для Кузьмина лишь опытом. «Со временем, быть может, для издательской программы, связанной с гей-литературой, возникнет более прочная почва – это вопрос не только развития самой литературы, но и формирования читательской аудитории, которая в сегодняшней России вообще довольно слаба».
Литература занимала основное место в гей-проектах Дмитрия Кузьмина, однако он нашел время принять участие в нескольких просветительских акциях. Например, за подписью Алексей Зосимов издал популярную книжку «Если ты голубой». Был автором брошюры по безопасному гей-сексу, написанной по заказу международного фонда PSI. В середине 1990-х годов вместе со своим супругом открыл одну из первых домашних страниц русских геев в Интернете. Она появилась почти одновременно с сетевым проектом Вадима Темкина и Александра Милованова Gay Russia и просуществовала в течение несколько лет. …Пока провайдеры не сочли размешенные на ней фотоработы супруга Дмитрия, запечатлевшие его полуобнаженным, порнографическими.
«В целом мне кажется, что сама фигура литератора – открытого гея до сих пор остается в России своего рода проектом…», – признается Дмитрий Кузьмин.
«Между Далидой и Дерридой». Влад Монро. (12 октября 1969 года)
Владислава Мамышева-Монро проще всего назвать «фриком», нетленным персонажем светской жизни России конца ХХ – начала ХХI века. Он – мастер перформансов, связанных с переодеваниями, ученик, друг и соратник Тимура Новикова, гения красного заката и розового рассвета, последователи которого взрастили на дикой почве постсоветской массовой культуры изысканную лилию Оскара Уайльда.
Влад Монро – первый из кэмпа. Кто-то из критиков новиковского неоклассицизма окрестил стиль его присутствия в культурном пространстве кэмповым дендизмом. Как неподражаемый Оскар Уайльд, Монро в буквальном смысле вышел на улицы российских городов – из клубной жизни, а украшением ее он стал в начале 1990-х, и уверенно шествует по ним лет пятнадцать. Невероятное долгожительство для «первого фрика» (по словам Тимура Новикова) в России – и одновременное доказательство того, что Монро давно уже гораздо больше, чем фрик.
На самом деле Владислав Юрьевич Мамышев-Монро никогда не был профессиональным club-kids. Монро – художник, уайльдовская лилия в петлице сюртука которого каждый раз расцветает, словно новый диковинный цветок, способный ошеломить своими странными формами и смыслами любого вокруг. Обывателей это цветение вводит в состояние ступора и эйфории. Именно поэтому Монро, среди немногих отечественных фриков, смог почти без последствий неоднократно пройтись в образе по грязным тротуарам и мостовым и не получить по физиономии. Любой другой клубный фрик по-прежнему будет покалечен на российской улице уже в ближайшем квартале от заведения… Как, какими фибрами души эта кучка бритоголовых признает в Иване-царевиче Монро своего соплеменника и чует в размалеванной даме с перьями трансуху из ближайшего гей-клуба?..
Образы, возвращенные к жизни сознанием Монро-художника, оказывают на обывателя просто-таки гипнотическое воздействие. Они взывают к чему-то подсознательному, впитанному с молоком матери в светлые годы советского благополучия. Фарфоровая – вечная в своей неувядающей экранной прыти – Любовь Орлова. Карикатурный – истеричный полупьяный придурок – Гитлер. Рыжеволосая и в доску своя тетка, которая поет, – Алла Пугачева…
Монро – порождение великого крушения советских и коммунистических мифов. Помните, главным из них была мечта всех советских детей – стать космонавтом? Мироздание со своими таинственными глубинами, приближенными к обывателям на картинах космонавта Леонова, было необитаемым живописным пространством, и из него особенно не хватало ответа «братьев по разуму». Ну и что, что до Луны в СССР так и не долетели, а станцию «Мир» затопили в мировом океане?.. На куче обуглившегося в верхних слоях атмосферы металла, на обломках идеологических конструкций прошлого вырос этот уайльдовский цветок – Владик Монро. «Кем вы мечтали быть в детстве?», – спросили Мамышева однажды. Последовал ответ: «Трансвеститом из космоса». И в нем, словно в шейкере, которым жонглирует бармен за стойкой в гей-клубе «Шанс», идет великая плавка – времен, культур, цивилизаций… Гордое и великое советское слово «космос» и непонятное слово «трансвестит» из раздела «Извращения» популярной советской медицинской энциклопедии. Они как две параллельные прямые линии вопреки всяким евклидовым аксиомам все-таки пересеклись в феномене по имени Влад Монро.
Почему Монро?
Мэрилин Монро – одна из икон кэмповой культуры, запечатленная Энди Уорхолом, образ из самых запоминающихся и доступных современному западному человеку. В качестве Мэрилин Монро Владислав Мамышев объехал цивилизованную половину мира на заре своей карьеры.
В СССР Монро – девушка из одного-единственного фильма о двух мужиках-трансвеститах, не способных противостоять кучке тупоголовых мафиози. «Такая пышная, такая белокурая... – это сама невинность, это ангел. То есть при всей сексуальной подоплеке, при тысячах, миллионах мастурбирующих на нее в свое время мужчин Америки и всего мира – за ней закрепился ореол великомученицы, святой, в итоге покончившей жизнь самоубийством или даже убитой президентами».
Монро в сознании советского человека – это жертва, «последняя жертва» всего западного: образа жизни (талант, но злоупотребляет горячительным и наркотиками), коварства сильных (флиртует с олигархами и не сопротивляется их насилию), машины массовой культуры, в которой человек работает на износ. Впрочем, о ком это мы – о Мэрилин или Владике?..
И вот здесь мы постепенно приближается к ответу на вопрос: кто такой Влад Монро? Шикарный гардероб, искусство гримеров, наконец, главное – безупречное артистическое мастерство, все это только ингредиенты профессии, но не из них слагается то ощущение необыкновенного изысканного вкуса, что остается от встречи с визуализациями Влада Монро. С точки зрения визуальной, талант Монро не ограничивается тем, что картинка ожила. Возникает эффект присутствия и многозначительного фарса. То, что выглядит из глубины времени трагедией, которую можно найти во всяком образе Мамышева (будь то Христос или Будда, Гитлер или Екатеринa II, Наполеон или Ленин, Аленушка или Иван-царевич…), обретая плоть, повторяется как фарс. Как усмешка – горькая, сквозь слезы, над собой – своими страхами и комплексами.
Вслед за Мэрилин Монро усилиями Владика возродилась ее советская сестра Любовь Орлова. Это был совместный проект Влада Монро и галереи Марата Гельмана. Звезда кино 1930-х годов, воплощающая «утонченное счастье советской эпохи», воскресла в 1997 году, спустя двадцать лет после своей физической смерти. Визуальный эксперимент Монро подтвердил бессмертие законченных кинообразов. Любовь Орлова, сошедшая с небес на пыльный московский асфальт, естественно смотрелась как у карты своих гастрольных поездок, так и на смертном одре в окружении скорбящих родственников. Появись Монро вместе с актрисой в «Макдональдсе» на Пушкинской, что прямо под последней московской квартирой звезды, никто бы не подумал, что – «свят, свят, свят…» – «показалось»…
– Ах, Любовь Орлова?
– Да, наверное, зашла перекусить…
Когда-то Владислав Юрьевич Мамышев был обычным питерским пацаном. Первый раз о нем написали в местных газетах примерно следующее: ученик Ленинградского кожевенного объединения имени Радищева Мамышев портит лезвием журналы в публичной библиотеке, вырезая из них картинки. Невинное занятие для продвинутых подростков конца 1980-х: изымать из журналов «Ровесник» и «Кругозор» фотографии идолов западного масскульта. Но Владику явно не доставало этой «поповой» звездности на иконостасе политбюро. Французов, снимавших очередной фильм о перестройке на ленинградской улице, Мамышев привел к себе в дом. Те увидели не стене портрет генерального секретаря Горбачева, разрисованного под индийскую матрону. Так первый шедевр Мамышева обошел обложки нескольких западных журналов.
Вся дальнейшая деятельность Влада Монро положила вскоре начало появлению «монрологии» – науки, призванной заменить все области знания, а равно все культы и религии. Монролисты уже успели посвятить Владу Королевичу Мамышеву-Монро целый номер журнала «Дантес» (2002). Он вышел под трепетным кураторством бодрой декадентки Маруси Климовой.
Интересно, что первая тетрадь «Дантеса», отпечатанная под 200-летний юбилей незакатного «солнца русской поэзии», была, в сущности, посвящена тем, кто окружал это яркое солнце – небесам «голубым вокруг Пушкина». Влада Монро назвал главным наследником этого лазоревого ореола сам Эдмон Дантес. Тогда же Дантесом как издателем было запланировано появление книги «Владислав Мамышев: между Далидой и Дерридой», но она до сих пор не состоялась. Но Маруся Климова успела выведать у господина Дантеса самый замысел этой книги, который, надеемся, еще смогут присвоить себе какие-нибудь неодекаденты. «Влад Монро, – говорит Дантес, – в равной степени способен успешно исполнить песню Далиды ее голосом, переодевшись в ее платье, или же прочитать студентам с кафедры лекцию Дерриды, облачившись в профессорский сюртук, что он неоднократно уже проделывал. И никто, поверьте мне, никто, не заметит подмены, ибо способность к переодеванию, которой наделен Владислав Мамышев-Монро, выходит далеко за пределы узкой проблематики взаимоотношения полов и носит воистину универсальный характер».
Книга, как нам кажется, до сих пор остается в проектах еще и потому, что поклонников Монро как раз более всего интересует не «универсальный характер отношений полов», а самый что ни на есть частный случай пола Владика Монро.
Образный «переодевальщик» (это слово Мамышев-Монро придумал чуть ли не для личного общения с Жаком Дерридой) всякий раз примеряет на себя и тот сгусток сублимированного либидо, присущий его харизматическим персонажам, которых хотят и ненавидят миллионы, а также их предки и будущие наследники в нескольких поколениях.
Кажется, справившись с «переодеванием» в образ как с художественной и технической задачей, Владик Монро, уже не как творец и мыслитель, а как сложный физиологический организм, не может совладать именно с «сублимированным либидо» своих воплощений. Поэтому так часто возникает вопрос об отношении Мамышева-Монро к сексуальности.
Вспомним, например, что говорил Владик Монро о Мэрилин Монро и «…миллионах мастурбирующих на нее в свое время мужчин Америки и всего мира...», среди которых добрая половина – морячки и военные. Так вот, дух Монро словно витал над Мамышевым еще за шесть лет до своего воплощения в нем, когда Влад, например, «мастурбировал на слуг закона на Дворцовой площади в Новогоднюю ночь 1991 года под воздействием различных допингов…». Эта страсть к онанирующим морячкам захватит его на несколько лет. «Свободного от комплексов и предрассудков общения с молодежью, моряками и солдатами» ему будет не хватать на протяжении всех 1990-х.
Если постараться, то в биографии Мамышева-Монро можно найти множество свидетельств того, как сублимированное либидо миллионов словно овладевало Владом задолго до того, как он создавал образ сексуальных кумиров миллионов.
И вот еще проблема: как Монро, воплощающий, например, ту же Мэрилин или Любовь Александровну Орлову, должен относится к поднимающемуся в его сторону вниманию «молодежи, моряков и солдат срочной службы», которого самому Мамышеву-Монро так недоставало в жизни, по крайней мере в начале 2000-х годов?
Отсюда сразу возникает вопрос о сексуальной основе образных трансформаций художника. По словам самого Монро, с какими-то сексуальными проблемами его художественное «переселение душ» никак не связано.
Выйдя из кэмпа, Владислав Мамышев-Монро признается: «К гей-культуре отношусь, иногда. Иногда меня к ней относят. Почти все ценное и интересное, что сейчас есть в мире общей культуры и искусства, корнями уходит – это всем известно – в гей-культуру. То есть почти все яркие явления общей, массовой культуры порождены этой субкультурой. Но сама по себе, в отрыве от жизни, в отрыве от общества, это все-таки ловушка, гетто…»
Так что от реинкарнаций, пережитых Монро, даже не пахнет нафталином. В его художественном мире нет чулана, из которого время от времени на поверхность жизни выбирается странный монстр с толстым слоем кладбищенской штукатурки.
Владик Монро – он как Будда, равно прекрасный и живорожденный во всех своих воплощениях.
«Издательство для удовольствия…». Дмитрий Боченков (10 марта 1969)
В 1997 году в издательстве «Колонна» (KOLONNA Publications), расположенном в провинциальном русском городе Тверь, вышла первая книга так называемой «Тематической серии». С этой книги в современной России начался до сих пор едва ли не единственный серьезный издательский проект, целью которого стала публикация текстов, затрагивающих различных аспекты гомосексуальности.
Начиналось все в 1992 году, когда компания студентов факультета романо-германской филологии Тверского государственного университета для того, чтобы публиковать в основном научную литературу, основала маленькое издательство. У его авторов, сплошь полиглотов, возникла мысль издать сборник короткого гей-рассказа. Но оказалось, что гораздо проще составить небольшую своеобразную антологию зарубежной «лесбийской прозы». И гомосексуальную» тему открыл в «Колонне» сборник «Короткая лесбийская проза», издание которого, впрочем, затянулось на долгих два года. Так в 1997 году стартовала «Тематическая серия»…
В начале 2000-х годов с «Колонной» сотрудничает много талантливых современных художников, переводчиков, поэтов и прозаиков. Над художественным оформлением книг работают тверские полиграфисты, молодые дизайнеры, разработчики шрифтов, редакторы. За десять лет им удалось создать уникальный узнаваемый стиль, а эмблемой издательства стала колонна, нарисованная графиком Анной Святкиной… Но правильно будет сказать, что на самом деле «Колонна» – это издательство-человек. И зовут его Дмитрий Боченков.
Дмитрий Боченков родился в 1969 году. Высшее образование получил в военно-политическом училище имени Андропова. Должен был стать обычным советским политруком. Впрочем, на занятиях тогда учили заниматься тиражированием боевых листков и злободневных стенгазет. Только в этом при желании можно разглядеть будущий интерес Боченкова к профессии издателя.
Кстати, открыть «Тематическую серию» могла гомоэротическая повесть поэта Михаила Кузмина «Крылья», спустя 90 лет после своего первого издания. Для нее хотели подготовить подробные комментарии, но потом решили все-таки ориентироваться на массового читателя.
Книгой, которой в конце 1990-х – начале 2000 года зачитывались не только читатели-гомосексуалы, стала повесть талантливого русского поэта Дмитрия Бушуева. Рукопись под названием «На кого похож Арлекин» попала в руки Дмитрия Боченкова от Владимира Ортанова, издателя и редактора одного из первых русских гей-журналов «Арго». «Мне говорили, что материал казался ему излишне откровенным, и он его не печатал, – рассказывает Дмитрий Боченков. – Но мы сразу поняли, что эта книга может вызвать интерес, особенно, если будет первой. Одновременно мы «наткнулись» на роман петербургского прозаика Александра Ильянена, и позже при встрече он передал мне полную рукопись романа «И финн», печатавшегося в трех номерах «Митиного журнала». Это было то, что действительно хотелось издавать».
«Арлекин…» получил прекрасную прессу – в «Русском Телеграфе», «Независимой газете», «Литературной газете», «Книжном обозрении». Тогда же книги «Колонны» появились на страницах глянцевых журналов – «ОМ», «Playboy», «Медведь», «GQ»…
К 2004 году в «Тематической серии» вышло восемь книг. Помимо «…Лесбийского рассказа» и повести Бушуева, это – роман Александра Ильянена «И финн», его же «Дорога в У.», две книги Ярослава Могутина («Америка в моих штанах» и «Роман с немцем»), сборник прозы Евгении Дебрянской «Нежная агрессия паутины» и, наконец, книга американского поэта Витаутаса Плиуры «Нежность в аду». Немного, как признается и сам Дмитрий Боченков… Но причиной тому были обстоятельства, которые мало зависели от самого издателя.
«…Приходилось долго упрашивать некоторых геев и лесбиянок дать согласие на издание под шапкой «Тематической серии»… С тех пор выпущено много книг, так или иначе «по теме», но мы не ставим знак серии на всех этих книгах, – говорит Боченков. – Не ставить же его на книгах Берроуза, правда? Было бы странно. Но серия не закрыта. Есть специальные проекты...»
Можно сказать, что все проекты «Колонны» тем или иным образом относятся к «Тематической серии». Так, например, такая культовая для русских геев фигура, как Ярослав Могутин, в России, за одним исключением, издавался только в «Колонне». Вадим Калинин, по мнению критиков, «закрыл здесь гей-литературу» сборником своих рассказов «Килограмм взрывчатки и вагон кокаина». Дважды выходили переводы Пьера Гийота (с «Проституцией» в 2002 году и «Эдемом…» в 2004-м), пять раз – Уильям Берроуз, а кроме того, впервые в России напечатаны рассказы основателя ордена телемитов мага Алистера Кроули, среди которых несколько гомоэротических.
Многие издания зарубежных авторов – это совместный проект двух Дмитриев – Боченкова и Волчека. Когда первых сотрудников «Колонны» в конце 1990-х разбросало по миру, книги, изданные в Твери, попали в руки Дмитрия Волчека, редактора и издателя «Митиного журнала» – одного из самых ярких проектов российской альтернативной литературы с середины 1980-х годов. Сотрудничество Боченкова и Волчека привело к появлению в «Колонне» еще двух книжных серий – «Сосуд беззаконий» (с 2002-го) и «Creme de la creme» (с 2004-го).
Смелые издательские проекты Боченкова иногда вызывают аллергию у власти. Так, скандалом закончилось первое издание в России одного из самых загадочных современных писателей Ильи Масодова.
«После выхода книги «Мрак твоих глаз» писателя Масодова издательство получило предупреждение от Минпечати РФ. Автора обвинили в «глумлении над памятью героев гражданской войны, описании сексуальных извращений», производителями которых являлись пионеры. Нам пригрозили лишением издательской лицензии, – рассказывает Боченков. – Я ехал с пляжа, когда позвонил Дмитрий Борисович Волчек и сообщил эту новость. Он был очень рад и смеялся. Он звонил из Праги. Я испугался и представил, что меня посадят в тверскую тюрьму. Под каким-нибудь предлогом. Если честно, было неприятно и страшно. Но потом мы все равно издавали Масодова…»
В 2004 году роман Масодова «Черти» вошел в финальный шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер».
Книги «Колонны» неоднократно становились лидерами продаж в книжном магазине сайта Gay.Ru. В числе самых популярных изданий 2004 года оказалось документальное повествование американки Сони Франеты «Розовые фламинго…» – 10 интервью с сибирскими геями и лесбиянками, а также «Лесбийское тело» Моник Виттиг. Это первый перевод на русский язык литературного произведения знаменитой феминистки.
Слово «первый» применимо к издательству «Колонна» по множеству причин. Но не смотря на процесс постоянных открытий, которые дарит российским читателям издатель Дмитрий Боченков, он никогда не забывает о цели, которую когда-то поставил перед собой, начиная «Тематическую серию».
«Я надеюсь, что мы дождемся таких времен, когда нам не нужно будет ни перед кем оправдываться в особенностях своей сексуальности или скрывать ее. То, как русские гомосексуалы предпочитают проявлять себя в искусстве, до сих пор похоже на какое-то оправдание. …Но нам оправдываться не за что, нам надо научиться просто жить», – сказал он в интервью сайту Gay.Ru летом 1998 года.
И эти времена последовательно приближает издательство «Колонна».
В России начала 2000-х годов можно по пальцам перечислить более или менее успешные частные издательские проекты в провинции, работающие к тому же с художественной литературой. Мало того, с интеллектуальным чтивом, которое у чиновников вызывает ужас, а у массового читателя – аллергию… И «Колонна», безусловно, – в числе таких уникальных для России издательств. Его можно назвать первым и единственным успешным книжным гей-проектом начала ХХ века.
«Что делать с мальчиком моим…». Дмитрий Бушуев (11 октября 1969)
Книга Дмитрия Бушуева «На кого похож Арлекин», с которой в 1998 году началась широкая известность «Тематической серии» издательства «Колонна», была написана автором, за которым к концу 1990-х уверенно закрепилась репутация духовного лирика.
С 1992 года, со времени издания в Ярославле первого поэтического сборника Бушуева под старомодным названием «Усадьба», он был больше известен как поэт, обласканный вниманием русской провинции и юношеских литературных конкурсов. В родном Иванове о нем писали рецензии и называли «редкостно одаренным человеком»… До выхода «…Арлекина», разумеется.
В 1992 году журналом «Юность» Дмитрий Бушуев был признан одним из лауреатов этого издания как автор лучшей поэтической публикации. Поэт, которому едва исполнилось 23 года, был стипендиатом Российского Фонда Культуры, победителем костромского литературного конкурса, участником международных фестивалей поэзии (один из них прошел в Германии).
Автор четырех поэтических сборников («Усадьба», «Барбарисовая осень», «Осень в Берлине», «Четвертая эскадрилья») окончил филологический факультет Ивановского университета, потом семинар поэта Юрия Левитанского в Литературном институте в Москве. От публикации стихов талантливого ученика Левитанского не отказывались лучшие литературные журналы, но Бушуев выбрал карьеру радиожурналиста в Великобритании.
Впрочем, сначала была школа в провинциальном Иваново, будни которой описаны в романе «На кого похож Арлекин» – книге, совершившей переворот в изображении геев в новой русской литературе.
Дмитрий Бушуев появился на свет в Твери, которая в 1969 году носила имя Михаила Калинина, безропотного советского чиновника времен сталинского террора.
«В тот месяц, когда я родился, – вспоминает Бушуев, – американские астронавты высадились на луне (что, в общем, весьма сомнительно), я смутно помню вечерние огни старой Твери, морозные сахарные звезды и тесную коммуналку, в которой мои родители ютились после окончания своих институтов. «Дети цветов» уже остепенились, а ритмы Вудстока только-только просачивались в СССР из-под железного занавеса... Уже можно было купить маленькую пленочную пластинку «Биттлз» в приложении к журналу «Кругозор», из окон общаг хрипел Высоцкий и «Машина времени», жизнелюбцы пили долгоиграющий дешевый портвейн «Кавказ» и «777» или бормотуху «Золотая осень» (1 рубль 48 копеек за бутылку)».
Родители Бушуева принадлежали к поколению шестидесятников, они вели бесконечные споры о «физиках» и «лириках» в дыму студенческих костров – в строительных отрядах, популярных в те годы походах и спортивных состязаниях. Отец Дмитрия – спортивный тренер, воспитывавший юных боксеров. Матушка – научный работник, который читает лекции студентам энергетического университета.
Детство и юность Бушуева пришлись уже на другие времена. Вслед за хрущевской оттепелью начался ледниковый период брежневского застоя. Впрочем, сам Дмитрий полагает, что «идеологический прессинг тех лет был, как ни странно, благодатной средой для творчества», которое стало единственной возможностью самореализации, а для Бушуева еще способом своеобразного «Богослужения».
Дмитрий Бушуев рано осознал свою гомосексуальность. Это открытие стало для подростка настоящим «кошмаром»: «моя любовь была вне закона, и мне казалось, что я один такой фрукт в своем роде и обречен на полумонастырское одиночество». До 16 лет Бушуев, по собственному признанию, даже не подозревал, что он со своей «запретной любовью» не один в этом мире, и искал объяснения у Бога: «Это надо принимать так, как есть, Богом данное или попущенное – и это может быть и спасением твоим, и погибелью, в зависимости от того, как мы этим воспользуемся...»
Интересно, что к осмыслению своей гомосексуальности в прозе Дмитрия Бушуева подтолкнуло именно желание прочитать об этом, чтобы не остаться в одиночестве: «Мне приходится писать то, что я хотел бы прочитать, а раз ТАКОЕ никто не способен написать, то мне приходится это делать самому». Так возник замысел книги об истории любви школьного учителя Андрея Найтова и его четырнадцатилетнего воспитанника Дениса Белкина. Это была одна из попыток автора «прочитать свою судьбу». «…И детской графомании привычка вдруг переходит в ауру судьбы», – напишет Бушуев в стихотворении, адресованном своему учителю в поэзии – Юрию Левитанскому. Кстати, первая поэтическая книга Бушуева – «Усадьба» – включает в себя многочисленные фрагменты дневниковой прозы. «…Арлекин» же, напротив, завершается собранием стихов Андрея Найтова.
Рукопись «…Арлекина», законченная автором в 1993 году, долгое время лежала в портфеле издателя гей-журнала «Арго» Владимира Ортанова, который считал ее непозволительно откровенной для отечественного читателя. Первоначально книга и предназначалась для западного читателя. Большая часть ее написана в лондонском Брайтоне в перерывах между работой и долгими беседами на даче у режиссера Дерека Джармена.
«Мы говорили с ним о вопросах маргинальной литературы и кино, – рассказывает Дмитрий, – о времени, когда маргиналы трудились над изменением общественного сознания в своей области, избавлялись от стигматизации. Результаты эпатировали обывателей, уже были Жан Жене, Энди Уорхол, Пол Морисси, Джо Даллесандро. Вышел фильм Уильяма Фридкина «Мальчики в оркестре» по пьесе Марта Кроули, построенной как серия грустных исповедей… Лукино Висконти, Пьер Паоло Пазолини, Райнер Вернер Фасбиндер – это особая субкультура, язык, формы общения и, может быть, к несчастью – это был стиль жизни (если говорить о субкультуре арлекинского Брайтона)».
Итак «арлекинский Брайтон», в логове которого была написана книга о том, на кого похож «Арлекин» – маргинал, гей – в России и что он из себя представляет. В дерзкой рецензии в гей-газете «1/10», воспринявшей «Тематическую серию» Дмитрия Боченкова, а, стало быть, и автора первого успешного гей-романа в современной литературе как конкурирующий проект, сразу же была выложена формула этого русского «…Арлекина» – «герои совокупляются, не снимая нательных крестиков».
Книга «напугала» своей откровенность не гетеросексуальное большинство, как того опасались издатели, а некоторых гомосексуалов, которые в немногочисленных гей-изданиях обвинили Бушуева в грядущем росте гомофобных настроений. Но все произошло иначе…
«На кого похож Арлекин» стал первой книгой о запретной любви мужчины к подростку, едва достигшему возраста согласия (в 1998 году в России он был обозначен вехой в 14 лет). Издание, отпечатанное колоссальным по тем временам тиражом в 10 000 экземпляров, поступило в широкую продажу. Тираж продавался в течение нескольких лет в книжных магазинах во многих уголках России, а также в общедоступных киосках с книжной продукцией. По впечатлению издателей, роман был очень легко воспринят в читательских кругах и понят именно как книга о чистой любви, а не о пороке…
Тот культурный резонанс, который имел «…Арлекин», подчеркивает интерес к книге провинциальной критики – несколько рецензий на издание появились не только в Москве, но и на родине Бушуева в Твери, а также в Иваново, где развертываются события «…Арлекина».
В 2001 году кинематографичность прозы Бушуева (вспомните его беседы с Джарменом во время работы над «...Арлекином») подтолкнула Игоря Григорьева, отца-основателя популярного в России журнала «ОМ», снять по мотивам книги художественный фильм. Но проект, против которого на первых порах выступил сам Бушуев, по каким-то причинам остался не законченным…
Этот шум и неподдельное внимание к книге лишь едва доходили до Бушуева. К 1998 году он уже несколько лет жил за границей. В течение шести лет Бушуев не печатал новых книг в России. Он занимался бизнесом в Швеции, создав фирму «Фантасма», но много писал в стол, в том числе закончил новый большой роман.
«На кого похож Арлекин» Дмитрия Бушуева стал, как заметил один из критиков сетевого «Русского журнала», «первой внятной попыткой отечественных представителей «голубой» культуры выступить в жанре литературы «серьезной». Это сочинение справедливо вобрало в себя целый ворох книг из русской литературы – запретных и не очень: от Достоевского до Набокова. Сходство с «Лолитой» некоторые находили слишком явным, вспоминая одно из последних стихотворений Найтова в книге…
Скажи, безумный Гумберт Гумберт,
что делать с мальчиком моим,
когда немыслимой лазурью
его венчает звездный нимб?..
Так литературная глубина впервые в русской литературе конца ХХ века перенесла акцент в восприятии книги о «голубой любви» на вторую часть этой жанровой формулы. Скандальный гей-роман был прочтен как обычная книга о ЛЮБВИ.
В мае 2005 года в издательстве «Listopad Productions» (Москва) вышло двухтомное собрание сочинений Дмитрия Бушуева – в первый том вошли почти все написанные им стихи, во второй – роман «На кого похож Арлекин» и повесть «Осенний яд». Новые романы Дмитрия Бушуева «Райский синдром» и «Алкоголь и электричество» еще ждут своего издателя.
«Попытка интромиссии…». Дмитрий Лычев (26 августа 1969)
Сразу после распада Советского Союза, рухнувшего в историческую пропасть после августовского путча 1991 года, Дмитрий Лычев, сотрудник Всесоюзного центра по борьбе со СПИДом в Москве, начал издание газеты «1/10» («Одна десятая»). Первые два номера размножались на ксероксе, который стоял в кабинете Вадима Покровского, руководителя того самого центра на Соколинке…
«1/10» до сих пор остается самым успешным и продолжительным (всего вышло 23 номера) опытом периодического издания для геев в России. Газета выходила более семи лет, суммарный тираж номеров газеты, превратившейся в полноцветный журнал, составил около полумиллиона экземпляров. Первые гей-рассказы, стихи, работы русских фотографов и, конечно же, обширная рубрика объявлений о поиске гомосексуалами друзей-братьев из всех бывших республик-сестер.
Дмитрий Лычев родился в семье офицера Советской Армии, который погиб, когда мальчику было шесть лет. Его вырастили мама, инспектор охраны штаба ВВС, и бабушка. «Свое детство я считаю счастливым благодаря им…», – признается Дмитрий сегодня. И настаивает на том, что чувствует себя больше бисексуалом, рассказывая чешскому журналу «PRINC» (1997, № 52) историю своего «классического случая»: первого гомосексуального опыта с приятелем во время летнего отдыха в деревне.
«Мне тогда и в голову не могло прийти, что это гомосексуальностью зовется, я и слов-то таких не знал. На летние каникулы я уезжал в деревню к бабке. Был у меня там друг, на год старше, с которым мы ходили купаться, на рыбалку, по грибы. Грибы-то и стали судьбоносными. Вернее, это я их сделал судьбоносными. Даже в том возрасте я уже был мальчиком смышленым и понимал, что попросить пососать просто так, значит, запросто потерять в общем-то единственного друга, который бы попросту счел меня извращенцем. И я своими маленькими мозгами разработал план. Мы пошли по грибы. Друг мой был изрядным спорщиком, мы часто по разным пустякам заключали пари. На щелбаны в основном. <…> Лбам нашим доставалось примерно поровну. А тут я предложил ему как бы в шутку, что можно поспорить на минет (понятно, что я обозвал это тогда как-то по-другому). Покосившись, он принял пари. Для выигрыша рта друга нужна была малость – первым найти гриб. Вы уже знаете, чего хотелось мне, и поэтому я пропустил четыре больших гриба, прежде чем он издал победный крик. (За ними я потом незаметно вернулся). Ну и все. Этим в тот день все и кончилось. Но он вспомнил о том, что было, завтра…»
Главными университетами Лычева была Советская армия, куда он отправился на два года, окончив московскую школу в 1986-ь. Почти 15 лет спустя на Петровке, 38 (туда Лычева доставили для «беседы» вместе с Сашей Прокофьевым и архивом) сотрудников спецлужб, помимо прочего, интересовало именно то, как Лычев изобразил армию в своем автобиографическом романе «Интро(миссия)». Следователям-любителям русской гей-литературы писатель Дмитрий Лычев ответил строкой из романа: «Армия – самое большое говно на этой планете». «На самом деле, – позже уточняет Лычев, – мой роман, если в нескольких словах, о взрослении, о превращении московской пидовки в мужчину, о запретном сексе как единственно возможной форме протеста против нечеловеческих условий Советской армии; о последних годах жизни, агонии этой самой армии; о любви, запертой в казармы, о ненависти к несвободе…»
Но тогда, в 1991 году, когда по рукам пошли первые, отпечатанные еще на ксероксе номера «1/10», неповторимая МИССИЯ Лычева только начиналась, и было совершенно непонятно, какая приставка – «ре-», «э-» или, например «интро-» – обозначит суть его личной жизни, общественной работы и составит название его романа, настоящего гей-бестселлера конца 1990-х годов, с которым по популярности у гей-аудитории смог лишь отчасти поспорить только «…Арлекин» другого Дмитрия, Бушуева.
Ну а «1/10» началась с идеи о защите прав ВИЧ-инфицированных геев. В начале 1990-х на страницах государственной и частной прессы ВИЧ-инфицированные изображались как исчадие ада, а их болезнь – непременное наказание за какой-нибудь порок, среди которых на первом месте – «гомосексуализм». Дмитрий Лычев написал об этом в несколько влиятельных российских изданий, и везде получил отказ. Что уж говорить, если даже Роман Калинин не решился в своей «Теме» напечатать дерзкие стати Лычева, отмахнувшись их специальной «медицинской темой». Не напечатал, и уже через две недели держал в руках вторую в России гей-газету – «Одну десятую». Газета открыла запретную при советах тему… Материалы второго номера были перепечатаны в «Независимой газете» и «Медицинской…». Французская «Liberation» также опубликовала две большие статьи Лычева о масштабах распространения СПИДа в России и бывших государствах СССР. Выводы Лычева прозвучали для российской бюрократии тем угрожающе и неприятнее, что он как сотрудник Всесоюзного центра по борьбе со СПИДом был непосредственно знаком с проблемой. Впрочем, с работой в центре Лычеву вскоре пришлось расстаться («После выхода «1/10» Покровский выгнал меня на фиг») – чиновники не привыкли мириться с критикой.
Название газеты – «1/10» – было выбрано не случайно. Оно основано на одной из популярных в те годы теорий: один из десяти мужчин хотя бы раз в жизни занимался сексом с однополым партнером. Отсюда – та самая «одна десятая», пресловутые 10 процентов… Вместо коммунистического слогана «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» (он открывал тогда почти все советские газеты) под заголовком «1/10» значилось: «Газета для всех». И, действительно, она стала такой – сотрудники (в основном женщины) почтовой службы, рассылавшей газету по стране, были первыми внимательными читателями каждого номера. «Даже критические стрелы относительно оформления позволяли себе отпускать…», – вспоминает Дмитрий Лычев.
Первый номер «1/10» вышел в свет в начале октября 1991 года. А 7 декабря 1991 издание было официально зарегистрировано в Моссовете. К необходимости поставить печать на регистрационном свидетельстве чиновники отнеслись «прохладно, но палок в колеса почти не ставили. Тогда они находились на гребне волны послепутчевой эйфории».
Печаталась газета в типографии «Литературной газеты» на Цветном бульваре, некоторые номера – в Щербинской типографии. Когда издание выросло из черно-белого офсета и превратилось в цветной журнал (с 15 номера) – в Праге. Необычный формат (А4, от 32 до 40 страниц) был самым удобным для рассылки по почте. За семь лет постоянными подписчиками «1/10» стали, по словам Дмитрия Лычева, около 10 000 человек из всех независимых стран бывшего Советского Союза.
Редакция располагалась в московской квартире главреда. Здесь собирались авторы – помимо Алексея, мужа Лычева, это Саша Прокофьев, Марк Залк, Элла К., Сергей Парвус, Сергей Вервольф. Из них после закрытия «1/10» в других изданиях печатался разве только автор гей-триллеров Вервольф. Сборник рассказов Верфольфа был издан «1/10» в издательстве «АРГО-РИСК» («мне от них нужен был ISBN, иначе б я не ставил их марку», – отмечает Лычев) под названием «Родная кровь» в 1994 году. Книжку составил и отредактировал сам Дмитрий, подсказавший автору и оригинальный жанр гей-триллера, а оформил художник Дмитрий Крюгер. Среди других гонорарных иллюстраторов «1/10» нужно назвать и Виктора Путинцева. Но рисунки Крюгера, возможно, в том числе благодаря неожиданным текстам Вервольфа, более всего запомнились читателям «1/10». Наверное, первая массовая гей-литература в России могла появиться только в форме необыкновенной готической сказки, взрывавшейся тайной эротикой.
Годом раньше, в 1993-м, Лычев издал сборник рассказов молодых авторов «Другой». Это первый сборник художественных произведений на гей-тему, который вышел в независимой России после того, как в 1906 году в Санкт-Петербурге в журнале «Весы» была напечатана повесть Михаила Кузмина «Крылья». «Другой» Лычева на несколько месяцев опередил трехтомник режиссера и писателя Евгения Харитонова, собрание текстов культовой фигуры советской гей-жизни 1970-х годов, подготовленное Александром Шаталовым и Ярославом Могутиным.
Довольно быстро «1/10» стала и своеобразным общественным центром. Главной задачей было давление на власть с целью отмены статьи 121.1. УК РФ, преследовавший мужчин за однополый анальный секс. Сам Дмитрий Лычев направил в адрес президента Бориса Ельцина и Верховного Совета РФ восемь петиций с требованием отмены норм УК, нарушающих право человека на тайну личной жизни. Кроме того, вместе с сотрудниками редакции, благодаря помощи зарубежных неправительственных организаций, с 1991 по 1999 год Лычев провел 34 семинара по профилактике ВИЧ/СПИДа в 25 городах России.
Последний номер «1/10», выполнившей, по словам ее главного редактора, «свою историческую миссию», вышел в свет в середине 1998 года. Незадолго до этого появился единственный выпуск на английском языке – «1/10 International».
В течение семи лет власти в России довольно равнодушно относились к изданию «1/10». Правда, чиновники обещали привлечь Лычева к ответственности за клевету после выхода нескольких статей о масштабах эпидемии СПИДа в стране. Впрочем, в почте газеты было довольно много гомофобных писем с угрозами. Подобного рода звонки постоянно раздавались и дома у Лычева. «Угрозы поутихли только после моего переезда в Прагу...», – признается Дмитрий.
В Чехии Дмитрий Лычев поселился в 1995 году. Первое время часто бывал в России – продолжалось издание «1/10». Позже визиты Лычева на родину были связаны с общественными акциями и правозащитной деятельностью. В это время среди других участников гей-движения дружеские отношения у Лычева сохранились, прежде всего, с Романом Калининым и Владиславом Ортановым. «С Дебрей (Евгенией Дебрянской) мне всегда было интересно, – рассказывает Лычев, – надеюсь, взаимно. А вообще лесбы меня не очень жалуют. Наверно, после того, как я на конференции в Киеве в октябре 2000-го предложил «активистам-мальчикам» раз и навсегда отделиться от «активисток-девочек». Если задуматься, у нас на самом деле мало общего…»
В январе 1998 года Дмитрий Лычев издал роман «(Интро)миссия», который писал семь лет. Фрагменты книги, основанной на «Армейском дневнике наблюдений», начатом автором в армии в 1987 году, переведены на 8 языков и изданы в 12 странах мира.
«МИССИЯ – это зов судьбы и внутреннее призвание к выполнению особо ответственного поручения, связанного с преодолением трудностей, повышенной опасностью и самоотверженностью. ИНТРОМИССИЯ – это введение чего-нибудь внутрь чего-нибудь. В данной книге мы впервые встречаемся с редкостным феноменом слияния обоих понятий», – так расшифровывается название романа в предисловии к книге.
После того как Лычев потерял возможность приезжать в Россию, он живет в Чехии и по-прежнему много занимается правозащитной деятельностью. Он всегда готов принять участие в судьбе гомосексуалов, чьи права нарушаются в странах бывшего СССР. Одновременно Лычев не оставляет литературную работу: консультирует несколько чешских изданий, готовит сборник своих рассказов на чешском языке и заканчивает перевод «(Интро)миссии» на язык своей второй родины.
Статьи Лычева о нарушения прав человека в России за последние годы опубликованы в более чем 50 зарубежных изданиях.
Миграционные отделы министерств внутренних дел Европы и Америки часто просят Лычева прокомментировать состояние дел с правами человека в России. По фактам их нарушения он постоянно обращается в международные правозащитные организации, в том числе комиссии по правам человека европейских стран, а также США и Канады.
Преодолевая барьеры. Эд Мишин (23 июня 1973)
Сайт Gay.Ru остается самым успешным гей-проектом в России конца ХХ – начала ХХI века. К началу 2005 года Российский национальный портал геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов посетило более 32 миллионов человек. А все проекты Gay.Ru охватили аудиторию примерно равную населению России – около 160 миллионов визитов.
В разное время по оценкам экспертов глянцевых журналов сайт и его разделы неоднократно входили в рейтинги лучших специализированных ресурсов сети.
А начиналось все в первой половине 1990-х годов, когда Эд Мишин познакомился с преподавателем МГУ, известным психологом и беллетристом Владимиром Шахиджаняном. Шахиджанян в свое время первым заговорил в советской прессы о различных аспектах человеческой сексуальности. В СССР все, что связано с сексом, долгое время было под определенным табу. Итогом многолетней работы Шахиджаняна в этом направлении стал бестселлер «1001 вопрос про ЭТО», несколько раз переизданный в 1990-е годы. Неофициально за Владимиром Шахиджаняном в то время закрепилась репутация человека, который «пишет книгу о гомосексуализме».
Эд Мишин окончил факультет прикладной математики и кибернетики МГУ, провел год в Америке, где получил диплом колледжа. К концу 1990-х годов в качестве журналиста и редактора он прошел хорошую профессиональную школу в таких изданиях, как «Известия» и «Компьютерра». Ко времени создания Gay.Ru Мишин был успешным журналистом. Он, в частности, запомнился тем, что первым среди россиян взял интервью у Билла Гейтса. Было это в 1995 году. Успел Мишин поработать и заместителем главного редактора в двух самых популярных компьютерных изданиях России.
В том же 1995 году Эд Мишин создал в FIDO конференцию ru.sex.gay – предтечу сайта Gay.Ru. Техническую сторону взял на себя 268-й узел ФИДО. «Название ru.sex.gay, по словам Эда Мишина, было выбрано не случайно. Подписаться на ru.gay для многих было бы сложно. А на конференции ru.sex.* подписывали скопом – их было полно. Заодно проскакивала и ru.sex.gay... После того, как конференцию признали главные администраторы московского ФИДО (с жаркими дискуссиями) и ru.sex.gay стала одной из обязательных для распространения конференций, дела пошли замечательно».
В 1997 году в России начался Интернет-бум, и тогда же в WWW на сайте Geocities.Com появилась небольшая домашняя страница, адресованная российским геям. Она не была самой первой веб-страницей русскоязычных геев в Интернете, но оказалась единственной, на которой размещались серьезные материалы по проблемам гомосексуальности. За полгода на странице скопилось довольно много материалов, они обрели свою довольно большую по тем временам аудиторию.
В 1997 году владельцем доменного имени Gay.Ru стал Эд Мишин. Все приходилось делать самому в кругу немногочисленных основателей Рунета. В начале 1998 года Мишин принимает решение полностью посвятить себя проекту Gay.Ru. Единственным местом его работы стал сайт, а офисом – квартира в Кузьминках. Сюда приезжали неравнодушные геи и лесбиянки со всей России и из-за рубежа. Первое время сайт был проектом, создававшимся при активном участии добровольцев и друга Эда Мишина – Дмитрия Санникова.
По содержанию сайт представлял собой своего рода виртуальную библиотеку, в которой собиралось все, что тем или иным образом связано с проблемами гомосексуальности. Русскоязычные корреспонденты присылали на Gay.Ru материалы со всего мира. Например, издатель и писатель Дмитрий Лычев, обосновавшийся с середины 1990-х годов в Чехии, регулярно вел колонку «Радужных новостей», на их основе с 2000 года началась ежедневная новостная лента Gay.Ru.
На предложение о сотрудничестве с сайтом в начале 1998 года откликнулся и выдающийся ученый Игорь Кон, известный своими сексологическими работами, в том числе о природе гомосексуальности. Тогда на сайте открылась отдельная рубрика академика Кона – здесь, помимо фрагментов исследований ученого, представлялись статьи, очерки и сообщения, написанные Игорем Семеновичем специально для сайта.
На Gay.Ru появилась и первая из сетевых виртуальных библиотек, которая вместе, например, со знаменитой библиотекой Машкова, по версии «Русского журнала», входила в список регулярно обновляющихся сетевых литературных собраний Рунета. Первыми литературными текстами, выложенными в сети на Gay.Ru были повесть Михаила Кузмина «Крылья» и рассказы Евгения Харитонова.
Следом свои виртуальные представительства появились на Gay.Ru и у гей-периодики 1990-х годов – «1/10» Лычева, «Арго» Влада Ортанова, «Урануса» Михаила Аникеева и «РИСКа» Дмитрия Кузьмина.
Большинство статей для для Gay.Ru писались Эдом Мишиным и юристом Никитой Ивановым (с начала 2002 года – сотрудником Европейского суда в Страсбурге). Никита Иванов долгие годы был ведущим сразу нескольких рубрик на портале. Он с равным успехом выступал на страницах сайта в совершенно разных ролях – от автора увлекательных репортажей из гей-клубов Москвы и многих столиц мира до серьезного эксперта по сложным правовым вопросам.
Уже в 1997 году была поставлена цель обновлять сайт два-три раза в неделю. Для сетевых ресурсов того времени – это вершина профессионализма. Читатели быстро оценили оперативность Gay.Ru, и посещаемость сайта пошла вверх. Gay.Ru демонстрировал удивительную мобильность. Кто-то готовил материалы для отдельных рубрик, кто-то создавал параллельные небольшие сетевые проекты, так называемые сайты-спутники. Но такое самодеятельное сайтостроение имело и свои отрицательные стороны. Проекты рождались и умирали. Многие хотели вырасти в самостоятельные ресурсы и покидали Gay.Ru. Правда, из тех, кто ушел, успешный независимый проект смогли создать только Вдова и VolgaVolga – они начинали делать на Gay.Ru лесбийскую рубрику, на основе ее в 1999 году был создан сайт Lesbi.Ru.
Но с первых дней сайтостроительства Эд Мишин понимал, что Gay.Ru как мощный сетевой ресурс может вырасти только на профессиональной основе. «Изначально мы были поставлены в ситуацию, когда для того, чтобы делать проекты профессионально, мы должны были платить людям деньги, – рассказывает Мишин в начале 2005 года. – Разумеется, месяц, два, три можно работать на энтузиазме, но не до бесконечности... Хотя бы сотрудники, которые координируют деятельность добровольцев, должны получать зарплату».
Поэтому уже в 1998 году над сайтом начинают работать не только добровольцы, но и постоянные сотрудники. Первый из них – Алексей Макридин, бывший помощник Владимира Шахиджаняна, – он работает с Эдом Мишиным почти со времени открытия сайта.
Все тонкости и секреты сетевого «бизнеса» Мишину пришлось испытать на собственном опыте. Были месяцы, даже годы, когда средств, заработанных сайтом, хватало как раз на выплату зарплаты одному, двум сотрудникам. Руководитель сайта в этот список мог регулярно не попадать…
Работая на сайтом для гомосексуалов, Эд Мишин постоянно сталкиваться с проявлениями гомофобии. Например, некоторые рекламные кампании отказывались брать сайт в общие сети обмена, мотивируя свое решение нежеланием клиентов показывать банеры сайта «голубых». Первой рекламной системой, которая приняла Gay.Ru в свои ряды была Reklama.Ru. Во многом это произошло благодаря поддержке Тимофея Лебедева, одного из лидеров российского сайтостроения. Сегодня, когда Gay.Ru показывает более миллиона баннеров в день, проблемы тех лет выглядят смешными. Но все когда-то начиналось с борьбы за 50-100 показов баннеров в день.
В 2001 году программистами и психологами Gay.Ru была разработана своя система знакомств Love.Gay.Ru, насчитывавшая на момент закрытия около 70 000 анкет. В 2004 году схема анкетирования этой службы знакомств была положена компанией Mamba в основу первой и самой крупной российской национальной системы знакомств в Интернете. И первым в эту систему влился, естественно, проект Lоve.Gay.Ru, который каждый день посещают более 60 000 человек.
Еще в 2000 году Эд Мишин зарегистрировал Благотворительный фонд «Я+Я». Это структура позволила начать сотрудничество с российскими и зарубежными общественными организациями. И главным направлением совместной деятельности на первом этапе стала борьба со СПИДом. Наиболее запомнившейся акцией из подготовленных центром «Я+Я» совместно с PSI, стало шоу «Огненная леди», поставленное по мотивам оперы «Кармен» с участием профессиональных моделей. Премьера шоу с успехом прошла во всех московских микс- и гей-клубах осенью-зимой 2002 года. Позже фонограмма шоу используется во время подобной акции в клубах Санкт-Петербурга. «Огненная леди» – не первый и не последний проект Gay.Ru совместно с PSI. Две клубные антиспидовские программы продолжились в рамках двухлетнего сетевого проекта Gayhealth.Ru.
Запомнился клубной публике и фестиваль гей- и лесби-фильмов в клубе «Центральная станция» в 2002 году.
В 2003 году Благотворительный фонд «Я+Я» начал издание первого ежемесячного глянцевого журнала для русскоязычных геев «Квир». Пилотный номер вышел в августе 2003 года. А сентябрьский уже распространялся в столичных гей-клубах. Через год, войдя в общие сети распространения, «Квир», по данным Союза распространителей печати в России, сумел в несколько раз обогнать по покупаемости такие глянцевые бренды, как GQ и др. Целые полосы посвятили первому глянцу для геев в России лондонская «The Times», итальянская «La Republika» и «Independent».
«Если бы в 2003 году я знал, через какие трудности мне придется пройти, – рассказывает Эд Мишин, – я бы никогда журнал не стал издавать. Это огромный объем работы, денег, биений в стенку. Представьте, мы приносим журнал распространителям, а они говорят: «Мы его не будем ставить». И даже деньги не берут. Есть ряд компаний – причем, ключевых на рынке. Они говорят: «Мы не хотим связываться с изданиями гей-направленности. Нам наплевать, что у вас не эротическое издание, что у вас на каждое издание есть заключение экспертного совета о том, что оно хорошее, правильное и может распространяться без ограничений».
Но уже в начале 2005 года Эд Мишин в целом был доволен тем, как идут дела в журнале «Квир»: «У нас появляются новые авторы. Известные журналисты, не только гомосексуалы, довольно легко соглашаются на работу с нами. Поэтому с авторами нам, наверное, немного проще. Но с точки зрения проекта в целом, конечно, это очень сложно. Потому что до сих пор большая часть наших усилий направлена на преодоление барьеров…»
Вдохновленная успехом, редакция «Квира» дерзнула взяться и за другие издательские гей-проекты. В начале 2005 года журналисты и корреспонденты журнала подготовили первый большой гей-гид на русском языке – «Спартак». Почти на 200 страницах представлена подробная информация о странах и городах, где гомосексуалы могут рассчитывать на благоприятный прием.
В конце 2003 года у общественного центра «Я+Я» появилась возможность начать работу групп взаимопомощи. Сначала психолог и около 15 участников групп собирались прямо в маленькой комнате Эда Мишина. Но вскоре стали приходить более 30 человек. Тогда группы были разделены и начали работать несколько раз в неделю по проблемам.
В 2004 году группы взаимопомощи собирались в центре «Я+Я» более 130 раз. Одновременно несколько известных московских психологов, среди которых Екатерина Кадиева, проводили под эгидой центра индивидуальные психологические консультации. В центре прошли также несколько творческих акций, например, с участием писателей Сони Франеты и Маргариты Шараповой.
К сожалению, проблемы с помещением вынудили центр в конце 2004 года приостановить работу групп взаимопомощи. Однако их кураторы – Елена Боцман, Ольга Суворова и Тиль Тобольский – с разным успехом продолжают работу в этом направлении.
С лета 2004 года успешно развивается другой благотворительный проект Gay.Ru и центра «Я+Я» – телефон доверия для геев и лесбиянок. Телефон доверия, созданный на средства сайта, спустя восемь месяцев после создания, был высоко оценен международными организациями и с начала 2005 года продолжил свою работу не только под эгидой центра «Я+Я», но и при участии и финансовом содействии Всемирной Организации Здравоохранения.
Широкий резонанс во всем мире получила в начале 2005 года совместная акция Эда Мишина и правозащитника из Башкирии Эдварда Мурзина. В конце 2004 года Эдвард Мурзин написал Мишину письмо с просьбой поддержать его деятельность по внесению таких поправок в российское законодательство, которые бы позволили регистрировать однополые браки. Мурзин хотел найти через сайт пару, прийти в ЗАГС и получить отказ, чтобы отстаивать свои права в суде. Но желающих в России не нашлось. Поэтому 18 января 2005 года в Бутырский ЗАГС Москвы с Эдвардом Мурзиным отправился Эд Мишин. Власти в браке отказали. Дальше последовали отказы нескольких российских судов, на их основании Мурзин 21 апреля 2005 года передал в Европейский Суд по правам человека жалобу на действия российских властей.
Самым успешным направлением гей-жизни в больших и средних городах России Эд Мишин считает открытие культурных LGBT-центров. Уверенность в этом ему придает успех общественный работы «Я+Я». А степень успеха определяется востребованностью среди гомосексуалов не только клубного отдыха, но и общения на основе творческих и мировоззренческих интересов.
«Моя задача – открыть в Москве Культурный центр для геев, лесбиянок и транссексуалов, – рассказывает Эд Мишин. – Хотя все оказалось сложнее, чем предполагалось… Но я уверен в том, что у гомосексуалов в России должны быть не только кабаки, но и такие места, где геи смогут находить единомышленников, общаться, знакомиться, а значит – находить себя. Это показали и те группы взаимопомощи, которые активно проводились в центре «Я+Я» в 2004 году. ...Самый главный пример того, как надо организовывать работу – это центр, который я видел в Америке. Перед входом – огромный плакат «Что у нас сегодня проходит в центре?» И там пунктов тридцать: 10.00 – группа такая-то, 10.20 – показ фильма, 10.50 – лекция и так далее. У нас должно быть, я очень надеюсь, что будет, – также».
Фея сексуальной революции. Владим Казанцев и его Заза Наполи (14 апреля 1973)
«А у нас Новый год…» – эта фразочка из рекламного ролика медленно проникла в анналы массового сознания в начале 2000-х годов. И произнесла ее Заза Наполи, одна из самых ярких звезд отечественной травести-культуры, блеск которой вышел за пределы клубных подмостков – в телеэфир: рекламу, видео, ток-шоу, телесериалы и кино. Заза – колоритное явление современной массовой культуры.
Заза Наполи – подружка по жизни замечательного актера Владима Казанцева, талант и творческое усердие которого превратили героиню пародийных вечеринок в далеком Улан-Удэ, где Казанцев учился в театральном институте, в профессиональную травести-диву, желанную гостью любого шоу – клубного, театрального, концертного… В 2001 году фурор произвело появление Зазы Наполи в эфире телеканала «TB6» – в программе «Субботняя лихорадка…» – эту программу придумал легендарный Игорь Григорьев, отец-основатель андрогинного глянца «ОМ». Однажды побывав в гостях у Григорьева, Заза сделалась постоянной участницей проекта. А в 2004 году Наполи стала примой телешоу «Сексуальная революция» на первом российском женском телевидении – «ТДК». Ушла Заза – шоу как праздник закончилось.
Владим Казанцев родился в глубине России, на Алтае. С детства мальчишка знал, что превращать будни в праздник – его профессия. Вытаскивал во двор пластинки, проигрыватель, собирал приятелей и устраивал шоу для соседей. «Помните, – рассказывает Владим в интервью журналу «Квир», – были такие погремушки, которые на коляски прикрепляли? Так вот из них я делал бусы, а платья – из занавесок…»
Времена сценической бутафории давно позади. Сегодня гардероб Зазы Наполи – отдельное шоу и музей постсоветского клубного движения. И большинство нарядов создал для своей подруги собственными руками Владим Казанцев. С этими руками, тысячей целковых в кармане и парой нижнего белья он приехал в Москву в 1997 году. «Я стоял на Красной площади и думал, куда податься. Я оставил все, что у меня было, – престижную работу, бизнес. Но я верил в себя, свои силы и не распылялся на других…»
Из Улан-Удэ, где Владим Казанцев уже имел имя – вел шоу на телевидении, программу «Презент» на радио «Европа Плюс», шил костюмы для классических и современных постановок драматического театра, в Москву он явился скромной золушкой. Разумеется, за шитье в столице платили гораздо больше… Но в Улан-Удэ Казанцев был один такой замечательный, а в Москве – их тысячи, сотни тысяч...
Казанцев недолго довольствовался участью хорошего портного. Однажды с приятелем он оказался в гостях у травести Мулатки, работавшей на подмостках «Трех обезьян». Та предложила «попробовать»…
«Я на радостях купил на барахолке три каких-то безумных индийских платья, перешил их в одно, мне выделили какие-то туфли, они были ужасны, но и моего 44-го размера не нашли, а это был 41-й. Я феерично раскрасил лицо, макияж был жутким, но тогда я казался себе самым красивым на свете! Меня выпихнули на сцену. Я смешал все жанры, какие мог, – от кабаре до буффонады. По отзывам, «большего ужаса еще не было»! Но, как ни странно, меня пригласили на постоянную работу… А «более старшие коллеги», например, Лора Колли, поддержали: «Если поработать – может выйти толк!» Так Заза Наполи вспоминает подробности своего первого выхода на клубную сцену в интервью Интернет-проекту VolgaVolga.
Клубной примой Заза стала не сразу. Даже сценического псевдонима некоторое время не было. Выручил случай. Когда позвонили из клуба, чтобы узнать, какое имя наконец печатать на афишах, Казанцева дома не оказалось. Зато его приятели как раз смотрели искрометный гей-фильм «Клетка для пташек», главная героиня которой – «травести-истеричка» Заза Наполи. Так персонаж комедии шагнул с киноэкрана на клубную сцену «Трех обезьян».
Впрочем, после первого «смешения жанров» с выходом Зазы на сцену администраторы клуба повременили. Сначала Казанцева выпустили в зал гей-клуба «Центральная станция» в качестве официанта. Но поскольку Владим уже проявил те черты характера, которые делают встречи с Зазой незабываемыми, – блистал иронизмами, а главное, имел кучу друзей среди завсегдатаев «ЦС», работа не ладилась. Все хотели «похабалить» и расслабиться в устном жанре с неугомонной Зазой. Так что на карьере ресторанного гарсона и Зазе, и Владиму Казанцеву пришлось поставить жирную точку.
На сцену «Трех обезьян» и «ЦС» вновь вышла Заза Наполи. А в «…Обезьянах» конца 1990-х годов Заза стала безраздельной неповторимой хозяйкой понедельника. «У меня на протяжении трех месяцев не повторялись образы, платья, парики и бижутерия». Репутация восходящей звезды была заработана и активным участием Казанцева во многих просветительских проектах. Так, вместе с Сарой Айсберг Заза Наполи работала в первом клубном проекте по борьбе со СПИДом в 2002 году. Шоу-программа по мотивам оперы «Кармен», подготовленная общественным центром «Я+Я» в рамках гранта PSI, прошла по всем гей-клубам и барам столицы.
Встречают травести по платью, а провожают по уму. Таков секрет успеха в этом жанре. Сейчас в гардеробе Зазы Наполи более 100 концертных платьев. Это одновременно и целое состояние, и коллекция, на основе которой можно устроить не один модный показ. Так что овации на выходе Зазе всегда обеспечены, а вот овации под занавес зарабатываются умом. Успех Наполи как травести был связан не только с внешним блистательным антуражем и умением синхронно открывать рот под разноязычный попсовый музыкальный материал. Наполи – одна из немногих звезд, овладевших разговорным жанром и искусством заранее подготовленной импровизации. В гей-тусовке реплики Зазы любят цитировать, ее номера и находки беззастенчиво используют десятки эпигонов. Приметой заслуженной славы стали двойники Наполи и ее театра «Райские птицы». С самозванцами, посягающими на репутацию, заработанную годами усилий, и Заза, и Владим Казанцев ведут решительную борьбу…
В конце 1990-х годов четверо парней, работавших в жанре травести, решили объединиться. Так появилось шоу «Райские птицы», в состав которого вошли Сильвана Бомбанини (Андрей Морозов), Аладора Беранже (Андрей Цымбалов), Гертруда (Геннадий Антонюк) – в народе и среди близких друзей Геля, а также Заза Наполи, или ласково для самых верных поклонников – Зина. «Райские птицы» собрали сливки клубных травести своего времени. И первым, кто поддержал коллектив, был всемирно известный кутюрье Валентин Юдашкин. В кабинете Юдашкина состоялась памятная встреча – решили работать вместе, обсудили планы первых гастрольных поездок. Знаменитый модельер подарил артистам несколько платьев, помогал заниматься дизайном и созданием гардероба «пташек».
Объединившись в рамках травести-театра «Райские птицы», ребята сделали большой шаг в развитии своего шоу, которое может быть представлено не только на клубных сценах, но и как концертный проект. Активная гастрольная деятельность «Райских птиц» началась в конце 1990-х годов. С концертной программой Заза Наполи объехала все крупные города России, собирая аншлаги на главных концертных площадках.
Вслед за российскими гастролями последовали поездки в Прибалтийские государства, Турцию, Арабские Эмираты, Голландию, Таиланд, Израиль. Усилиями Зазы Наполи и шоу «Райские птицы», неформальным лидером которого Владим Казанцев остается вот уже несколько лет, жанр травести вышел далеко за пределы гей-клубов. С начала 2000-х Заза желанный гость в лучших развлекательных заведениях столицы – от казино до кабаре – и российской провинции. «Гей-сообщество, – говорит Владим Казанцев, – даже возмущается, что Зазы Наполи в гей-заведениях не видно. Но Зазе интересно выступать для разной публики…» «Где только не выступаем – в клубах, на свадьбах, в казино, куда приходят крепкие молодцы с бритыми затылками, на правительственных дачах...»
Вот так с подмостков гей-клуба «Три обезьяны» разлетелись «райские птички» по всей стране. Жанр, который обрел своего зрителя и поклонника во многом благодаря высокому профессионализму Владима Казанцева и Зазе Наполи, королеве «Райских птиц», занял ведущее место в клубной жизни постсоветской России.
Многие золотые мечты Зазы Наполи уже сбылись – она спела дуэтом с Аллой Пугачевой, первая из клубных травести-див вышла в телеэфир… Впрочем, есть еще одна мечта – это стационарное шоу с поющей Зазой Наполи. Шикарный зал, человек на 50, – словно в Москву переехало парижское «Лидо», а то и «Мулен-Руж». Гаснет свет, на мгновение затихает зал, с выстрелом бутылки шампанского раздается первый аккорд, и на сцене появляется блистательная Заза. Впрочем, это не мечты, а проекты, на которые просто не хватает времени, – ведь концертный график расписан на месяц вперед. Так что все возможно, потому что Москва – «это город без потолка». Эта возможность невероятного творческого взлета когда-то и привела сюда Владима Казанцева.
Поэтика страсти. Всеволод Галкин (20 апреля 1974)
Всеволод Галкин, первый в современной России открытый гей-фотограф, сделавший себе имя в рекламе, родился в Молдавии в семье потомственных врачей и никогда не думал о том, что его профессиональная карьера будет связана с визуальными искусствами.
В 1996 году Всеволод окончил Новосибирский медицинский институт и перебрался в Москву, рассчитывая на ремесло, кого угодно – певца, рекламного агента или предпринимателя. …Выбрать стезю начинающего врача в России конца ХХ века – значило обречь себя на нищенское существование. Но не по этой причине Галкин отказался работать по специальности. Для него все же логичнее было попробовать себя на эстраде, потому что свою новосибирскую юность Всеволод просто пропел. Жители Новосибирска, считающегося столицей русской Сибири, запомнили его группу «Каприс», для которой местные поэты и композиторы с удовольствием писали песни.
В 1995 году Всеволод Галкин принял участие в «Утренней звезде» Юрия Николаева – телевизионного шоу, в котором выступали талантливые музыканты со всех концов России. Но в Москве мечте Галкина о покорении эстрадного Олимпа не суждено было сбыться – может быть, просто не повезло, а, скорее всего, подающий надежды артист не попал в формат: он чувствовал себя непринужденно в блюзовом направлении, которое никогда не было популярным в России.
В 1997 году Галкин стал ассистентом фотографа в крупной московской полиграфической фирме. В стране стремительно развивался рекламный рынок – индустрии нужны были как мастера фотографии, так и подмастерья. Всеволод начинал с самых низов, но поставил перед собой конкретные цели, четко разделив бизнес и творчество. Об этой решительности и целеустремленности Галкин позже будет повторять в своих интервью: «Главное, чтобы была нацеленность на успех…». Такими целями стали реклама и попытка работы с обнаженной мужской натурой. Но и в качественной рекламной фотографии критики могут разглядеть подлинное творческое открытие, а на мужском ню можно неплохо заработать. Так, фон для натюрморта с колбаской – первого рекламного заказа Галкина – зажил самостоятельно и имел большой успех. А всего лишь и были запечатлены для него связанные чилийские перчики с московского рынка. Агентство поместило их на огромный постер, который стал узнаваемым и популярным.
Но визитной карточкой Галкина в рекламе стали все-таки не красные перчики, а черно-белые мальчики, снятые для рекламы парфюмерного концерна «Арбат-Престиж», – это серия фотографий в стиле 1930-х годов: атлетические мужские тела на фоне сталинской архитектуры.
В 1997 году Всеволод Галкин делает несколько фотосессий для литературно-художественного и иллюстрированного журнала «Уранус» – одной из первых попыток изданий для геев в России. Акцент в нем был сделан на качественные тексты и фотографии. Но после экономического кризиса в августе 1998 года журнал разорился, а серии фотографий – «Путешествие в Можайск», «Фавн», «Негр-ангел» – составили основу первого в России альбома мужского ню – «Индиго», который был подготовлен в издательстве «Всемирная литература» в 2000 году, благодаря поддержке мецената Гоши Сазонова.
Внезапность появления «Индиго» на рынке произвела скандал. Во-первых, в России почти не существовало культуры альбома фотографии как жанра. Справочники по искусству, путеводители, сборники исторического фото – все, что угодно, но не каталоги авторской фотографии. Во-вторых, российская публика очень быстро привыкла к тому, что мужское обнаженное тело, если и возможно увидеть, то только в жанрах, существующих на грани порно – желтых газетах, эротических гей-журналах, на видео. Галкин решился разрушить этот стереотип, и «Индиго» на несколько недель возглавил рейтинги продаж фотоальбомов в крупнейших книжных магазинах Москвы.
Сотрудничество с «Уранусом», а также несколько ранее с гей-альманахом «Арго», премьера «Индиго» – все это направило профессиональный интерес Галкина в сторону визуального контента. Делая рекламу одежды «Enton», работая с модельером Валентином Юдашкиным, создавая обложки к многочисленным глянцевым изданиям, Всеволод впервые задумался над жанровыми решениями альбома и журнала. Успехи в этом направлении (в 2002 году обложка журнала «Beauty» от Галкина стала «Лучшей…» в номинации женских изданий) подсказывали правильность выбора. И в конце 2003 года Всеволод Галкин принимает решение стать арт-директором первого в России глянцевого гей-журнала «Квир».
Здесь Галкину пришлось разрушать предубеждение моделей против съемок в журнале для гомосексуалов. Задача трудновыполнимая, так как в России гомосексуальность по-прежнему воспринимается в ореоле скандальности, безнравственности и порочности. К тому же именно тогда депутаты Госдумы РФ активно стали обсуждать возможность возвращения уголовной ответственности за однополый секс… Но в то же самое время на обложке «Квира» и в сериях фотографий для него рискнули появиться несколько моделей, чьи лица примелькались обывателям в рекламе нескольких мировых брендов на российском рынке. Спустя год после выхода первого номера журнала на страницы «Квира» вошли модели крупных европейских агентств. А начиналось все с танцовщиков и стриптизеров элитных московских клубов…
«Я, наверное, все-таки элемент российской гей-культуры, если она существует. И я пытаюсь, так сказать, поднять голову от имени российского гей-сообщеества…», - признался Всеволод после выхода его второго альбома «RUS» осенью 2004 года.
«RUS» – это книга о русском – о русских мужчинах, о тех, кто понимает, что русскость давно не ограничивается лаптями и патриархальностью. Не удивительно, что на обложке и вкладыше в динамике движения непременно вперед, играя платком «а ля рус», изображен чернокожий мужчина.
Если говорить о художественных достижениях Севы Галкина, то, безусловно, он открыл мужское тело в современном русском фотоискусстве. К концу 1990-х в России привыкли к обилию лишь невзрачного женского ню. Русская фотография конца XX века была совершенно лишена мужского эротизма. Можно сказать, что маскулинной эротики в визуальном искусстве в России не было так же, как секса, за исключением, разумеется, бытовой пляжной фотографии – и это все…
Галкин не просто вернул обнаженную мужскую натуру на фотобумагу. Он одним из первых стал продвигать ее во все области использования фотографии – рекламу, периодику, плакат.
Это обретение тела мужчины не имело аналогов в русском искусстве, которое никогда не знало подлинной свободы в изображении мужской натуры с самого начала ХХ века. Благодаря Галкину оно было стремительным. Что, надо сказать, очень соответствовало настроению и стилю его работы и жизни.
Мужчинам в объективе видения Севы Галкина чужд покой. Покой им только снится. Никакой статики – впечатление, что за спиной, спустя мгновение, вырастут крылья. …И они вырастают.
Этот изумительный эффект достигается и приемами как самой черно-белой фотографии, так и способностью Галкина неповторимо выстраивать композицию снимка. Минимализм аксессуаров в пространстве заставляет работать воображение. И настоящее мастерство в том, что Галкин всегда знает, в каком направлении отправится мысль зрителя.
Вот, например, черно-белый гламур – серия фотографий среди руин, которые становятся метафорической оправой напряженного зрелого тела, испытывающего в этом стареющем пространстве бесконечно много впечатлений, пойманных фотографом. Смущение, вызванное желанием бежать из хаоса, достоинство филигранной плоти на фоне почти античных развалин – и благоговение перед прошлым архитектурных шедевров. Но теперь в шедевры превращается тело…
Естественное соседство плоти и безжизненного камня, который нас окружает, характерно для Галкина и всегда по-разному передает грань между холодом и теплом жизни. Мужчина Галкина – это резвый парень, в жилах которого бьется горячая кровь, а его тело – сосуд, царственно сдерживающий в себе иногда звериные инстинкты. Случается, что они вырываются наружу, взрывая безжизненное пространство вокруг. И тогда получается треш… Кстати, может быть, запустение давних развалин – это и есть результат (и свидетельство) животной и эмоциональной экспрессии, на которую способны мужчины.
На одном из снимков к корням древнего дерева, почти обнимая их, припадает юноша. Исполин взметается над ним знаком победы, но в подчеркнутом смирении тела у ног великана не заметно поражения. Это почти библейский символ – знак силы, дерзости и нескромности… – всего, что заключает в себе мужское начало, которое так по-разному поет Всеволод Галкин в своем творчестве.
Работы Всеволода Галкина вызывают у критиков множество ассоциаций – Мэплторп, Херб Ритц, даже мадам Рифеншталь. Выдающийся сексолог Игорь Кон, автор бестселлера «Мужское тело», нашел для Галкина еще одного учителя – балетмейстера и фотографа Дитера Блюма, запечатлевшего в 1970-е обнаженных танцовщиков Штутгартского балета. Они произвели фурор, чтобы в начала ХХI века стать классикой. То, что сделал Галкин в русской фотографии конца ХХ века, сопоставимо по степени новизны и смелости с танцующей плотью Блюма.
Спокойный и нетерпящий истерик Всеволод живет в Москве со своим бой-френдом Жорой. Уютное гнездышко, которое устроили для себя любовники, уже попало на страницы одного из популярных русских журналов по интерьеру. «Хай-тек – стекло, металл и, может быть, какой-нибудь один цветной акцент…». Какой акцент? С Жорой они до сих пор так и не выбрали свой цветовой акцент – тот самый, который разбавит серебро их редко пустующей гостиной... Даже в таких мелочах должна быть цель, к которой можно стремиться – думать, размышлять, творить.
Привратник «пидарского бога». Ярослав Могутин (12 апреля 1974)
Ярослав Могутин – первый открытый гей в современной российской истории. Персона, к которой с начала 1990-х годов были прикованы взгляды всей тайной армии гомосексуалов на постсоветском пространстве. По легенде, придуманной то ли самим Могутиным, то ли западными журналистами, он был всего лишь простым сибирским парнем, приехавшим покорять Москву в четырнадцатилетнем возрасте…
Ярослав родился в семье «не очень успешного» советского детского писателя, который вместе с молодой женой в конце 1960-х отправился покорять Сибирь. Когда ему исполнилось семь лет, родители вернулись из Кемерово, где Слава как раз и появился на свет, и поселились в Подмосковье. Отец, по словам Могутина, «настоящий семейный тиран», бросил семью. «Я не мог больше выносить эту драму и поехал в Москву», – так в интервью американскому гей-журналу «The Guide» в октябре 1999 года Могутин раскроет секрет появления в столице четырнадцатилетнего юноши, которым вскоре заинтересовалась вся «голубая» и не только часть московской «богемы».
На самом деле в Москве Могутин оказался после окончания восьмого класса советской средней школы. В детстве он получил музыкальное образование – окончил музшколу по классу скрипки. Попытки продолжить учение не увенчались успехом. Куда бы ни поступал Могутин – в издательско-полиграфический техникум, историко-архивный институт (РГГУ)… – его ото всюду отчисляли, сначала за неуспеваемость, позже – за аморальное поведение.
Из этого аморального поведения, как некогда из «сора», сквозь который «растут стихи, не ведая стыда», проклюнулся SuperMогутин, который стал одной из самых ярких фигур русской литературы и общественной жизни 1990-х годов. Только «сор», кормивший Могутина, был сочнее и гуще того, которым питалась поэзия «серебряного века». Новый век предложил более изощренные удовольствия, среди которых – реальная свобода мыли и однополого секса, на что лишь едва надеялся в искусстве русский серебряный век вместе со всеми самыми яркими его гомосексуальными персонами: от Кузмина – в поэзии, Нижинского – в танце, Сомова – в живописи, Эйзенштейна – в визуальных искусствах и так далее. И, разумеется, главная предтеча Могутина – предреволюционный футуризм.
Могутин стал тем художественным мессией, которого ждала русская культура по неподведенным из-за занавеса тоталитаризма итогам начала XX века. Но выплюнула его на поверхность только после полувекового забвения. Могутин – дитя «возвращенной» в конце 1980-х – начале 1990-х цивилизации русского декаданса. Примечательно, что подростка, которому еще не исполнилось и двадцати, с легкостью начнут сравнивать с Маяковским, Лимоновым, Оскаром Уайльдом, Пазолини… Эти имена можно перечислять еще долго и довольно хаотично. Из всех сравнений Могутину, разумеется, более всего понравились ассоциации с Артюром Рембо, который подходил ему и по возрасту и по мироощущению подростка-бунтаря. Бунтарство легко проглядывало в звуковых ассоциациях – Рембо или Рэмбо (герой серии популярных американских фильмов с участием Сильвестора Сталоне). Это прельщало массовостью жанра (Могутин в 1990-х – несомненно, элемент российской масс-культуры) и глянцем плоти. Поэт – стихи которого так же хороши и свежи, как его юное мускулистое тело («Мое тело – инструмент, который помог мне стать тем, кто я есть»). Кстати, бегство Ярослава в Америку, пожалуй, было необходимо не только для продолжения и развития карьеры, но для сохранения культа его сексуального тела. В общем, ничего необычного нет в этом вполне здоровом, украшенном тату и подкаченном теле – но только не для американской гей-культуры. Даже физически такой Могутин мог сохраниться только в Америке – «Америке в моих штанах» (так он назовет сборник заокеанской прозы 1999 года)…
Ну а пока в начале 1990-х 16-летний Могутин, пользуясь поддержкой «клозеточных гей-редакторов», начал выходить за пределы наивной полуграфоманской гей-журналистики, которая процветала в немногочисленных гей-изданиях начала 1990-х годов (все они вскоре позакрывались).
Интересно, что реплика о «клозеточных гей-редакторах и журналистах» прозвучит в ответ на вопрос американского интервьюера о первом сексуальном опыте. Могутин, в общем-то, не случайно проговорился о том, что его журналистские университеты совпали с университетами сексуальными. Но у Могутина было главное отличие от его опытных великовозрастных коллег: он не был рабом – своего сексуального желания, страны, семьи… У него не было никаких привязанностей, кроме тех, которые символически воплотил в его имени русский язык. Примечательно, что вся дальнейшая жизнь Могутина окажется реализацией его имени – Ярослав Могутин – как развернутой метафоры.
Неистовство – Слава – Всемогущество.
Журналистская карьера Могутина развивалась стремительно не благодаря, а вопреки популярности молодого мальчишки среди «гей-редакторов». Он вскоре отбил всякую охоту общаться с собой у всех латентных «педиков» постсоветской словесности, написав ряд скандальных текстов, самым дерзким из которых в этическом смысле стала «Сексуальность фашизма», которая публиковалась в журнале «ОМ» – лидере русской альтернативной культуры. Истерику вызывает в обществе интервью Могутина с Борисом Моисеевым в позже закрытой властями эротической газете «ЕЩЕ!», озаглавленное – «Грязные концы комсомольцев». К тому же, не задумываясь, он вывел из клозета (устроил auting) сразу несколько звезд российской культуры… Этого Могутину не смогли простить уже сами «чуланные» российские геи.
Самым плодотворным в начале 1990-х годов был творческий союз Ярослава Могутина с поэтом Александром Шаталовым. Поэт и журналист Шаталов основал издательство «Глагол», в котором при участии Могутина вышли книги Евгения Харитонова «Слезы на цветах» (1993), «Голый завтрак» Уильяма Берроуза (одно из первых его изданий в России), «Комната Джованни» Джеймса Болдуина, «Палач» Эдуарда Лимонова, «Самоубийство Чайковского» Александра Познанского, «Игра в жмурики» драматурга Михаила Волохова. О каждой из этих книг можно сказать – «впервые…» То ли Шаталов так подбирал авторов для своего соредактора и компаньона, то ли сам Могутин сделал этот выбор… Но он оказался абсолютно провокационным для начала 1990-х и в определенном смысле подготовил тот поток «злостного хулиганства с исключительным цинизмом и особой дерзостью», который по ст. 74 ч. 1 УК инкриминировали Могутину прокуроры в 1995 году, когда он будет вынужден внять совету адвокатов и эмигрировать, бежать в Америку. А иначе – до 5 лет лишения свободы.
Судебная палата по информационным спорам Президента РФ дважды (в марте 1994 и в феврале 1995 года) изучала творчество Ярослава Могутина. Вывод был неутешительным: «описание патологических извращений… употребление нецензурной лексики, оскорбительные обобщения» и так далее. Могутин в середине 1990-х годов совершил непростительную, с точки зрения российской власти, вещь – свои «маргинальные» взгляды он рискнул озвучить в общедоступных СМИ. До сих пор власть позволяла творить тихо и незаметно – «извращаться» в малотиражных альманахах и литературных клубах, но не могла простить успеха с хлесткими текстами в «Независимой газете», газете «Завтра» и журнале «Столица». Не могла простить публичности особенно после того, как со своим американским бой-френдом журналистом Робертом Филиппини Ярослав Могутин в день своего рождения 12 апреля 1994 года явился на порог Бутырского загса и попытался зарегистрировать однополый брак.
Тогда возмутителей спокойствия даже не пустили в святилище брака и вызвали наряд милиции. Скандал с «брачующимися гомосексуалистами» перешагнул рамки национального масштаба. Власть подавилась суперславой Славы, и тому пришлось просить политического убежища в США, где в июне 1996 года Могутин, благодаря обращениям в Госдеп США Amnesty International и Американский PEN-клуб, получил статус политического беженца.
Первая книга стихов Могутина вышла в 1997 году в Нью-Йорке – «Упражнения для языка». Книгу привезли в Россию – и в Могутине разглядели поэта не только читатели малотиражных альманахов. Второй сборник, «Sверхчеловеческие Superтексты», уже СуперМогутина с подзаголовком «О сексе, насилии и смерти» выйдет там же спустя три года. Это будет другой Могутин, сделавший шаг в сторону визуального искусства (книгу впервые проиллюстрируют его фотомонтажи), а следовательно, в сторону углубления провокации. Ведь наследники советской прокуратуры умели смотреть вперед, подозревая в невинном Могутине начала 1990-х увлеченного порнографа.
Завоевать Америку русским языком можно – буквально понимает Могутин. И поработав некоторое время продавцом одежды, потом офис-менеджером, он выбирает карьеру фотомодели. Его с удовольствием фотографируют крупнейшие мастера мужского ню – Тьерри Ричардсон, Райнер Феттинг, Аттила Ричард Лукас, Артур Тресс…
Продолжая использовать свое тело в качестве инструмента, Ярослав снимается в порнофильме Брюса Ля Брюса о банде скинхедов. В жестком видео его упорно сношают два скина, а в мягкой киноверсии он читает фрагменты своей поэмы «Моя жизнь в качестве живого туалета». После съемок ленты он едет с Бросюм в Берлин, где наблюдает за реальной жизнью немецких скинов-геев и пишет книгу «Роман с немцем» (Тверь: Колонна, 2000).
А в России его бывшие недоброжелатели и «сердечные друзья» по ночам с однозначным удовольствием рассматривают откровенные фотографии Ярослава в Интернете и мастурбируют над пиратскими копиями видео Ля Брюса и его прозой – стихи все-таки противны такому однообразному занятию, так как задают свой нервный ритм. Днем те же любители онанизма выступают уже с неоднозначными мнениями по поводу могутинских сочинений на страницах российской прессы.
Первый открытый гей в современной России, в Америке Могутин становится первым известным русским геем, у которого охотно берут интервью многочисленные гей-издания. А Слава тем временем не упускает возможности поговорить с классиками мирового гей-движения. Уильям Берроуз, Аллен Гинзберг, из русских – славист и исследователь гей-культуры Семен Карлинский и как противоположность – известный гомофоб-теоретик Геннадий Климов. Какой русский, кроме Могутина, сподобился бы взять у них интервью?.. Могутин оказывается их первым и последним русским интервьюером. Всего за десятилетие девяностых наберется 30 бесед, которые войдут в книгу, изданную в 2001 году.
Стихи, или, как их называет Могутин, стехи – «…Испражнения для языка» – тоже находят своих ценителей в России. В 2000 году за давностью «преступлений» перед российской властью Могутин приезжает в Россию на вручение ему премии имени Андрея Белого за книгу «Sверхчеловеческие Superтексты». Премия и некоторая «усталость» от поэзии поворачивают интерес Могутина в сторону фотографии. Три года Ярослав не издавал книг в России: появлялся на обложках, снимал – на фотопленку – мальчиков с улицы и на улице. Помимо многих выставок в галереях Америки, в России были показаны «Фетиши» в Центральном доме художника, также проекты «Сон Терминатора» (2000), «Kabul Olimpics» совм. с С.Братковым (2001) и «Белый негр» (прежде представлен в Нью-Йорке, 2005) в галерее «Риджина». Все это потом возникает на страницах импортного и русского гей-глянца и хорошо продается в модных галереях.
В 2004 году Могутин объявил свою «Декларацию независимости» – так называется очередной сборник его стихов.
От кого и чего Ярослав Могутин декларирует свою независимость? От повседневности, которая пресытилась анальными эскападами СуперМогутина в тот час, когда Слава понял, «что уже не к чему больше стремиться // это просто последний предел». Физиологически и идеологически все было расширено сперва до границы, потом до заграницы, наконец, до испанских, костариканских, голландских и других дыр… Вставлять больше некуда и некому. «Пидарский бог» молчит в ответ на потоки жертвенной спермы, ректальной слизи и крови мальчиков-девственников, чьи анусы поэтическое сознание Могутина лузгает, как базарная бабка тыквенные семечки.
Мы заигрывали со Славой славой, и нам хотелось верить, что он принимает эти правила игры. Мы восхищались его песнями о свободной любви, а ему-то хотелось любви на свободе… И вот теперь этот радиус свободы в «Декларации независимости» поэт Ярослав Могутин установил для себя сам. Он и в фотографии признается, что из эксгибициониста превратился в вуайериста. «Мне нравится фотографировать людей в интимных, уязвимых ситуациях… Я ищу первобытную красоту и невинность в самых нетрадиционных и откровенных сценах и ситуациях, которые обычно расцениваются, как «неприличные», «шокирующие» или «извращенные», будь то парень, нюхающий подмышку другого парня, или немецкие скинхеды, ссущие и плюющие друг на друга».
Могутин стал частью современного искусства, не тая, а, напротив, раскрывая свою гомосексуальность. Его провоцирующее гейство перестало быть провокацией для тех, для кого оно стало художественным достижением. Благодаря таланту он поднялся над… но люди и российское общество тем временем обрушились в своем отношении к творческим экспериментам далеко вниз, и они опять друг друга не поняли.
Голубой щенок. (1976)
Что еще для счастья надо,
Если друг надежный рядом.
Если всеми ты любим,
Быть неплохо голубым!
Юрий Энтин
Кроме разошедшихся на фразы советских кинохитов, вроде «Чапаева», «Подкидыша» или «Белого солнца пустыни», есть несколько особенно популярных у российских геев и лесбиянок. Первое, что придет на ум русскому гомосексуалу на рубеже ХХ и XXI веков, – это строка из одного мультипликационного мюзикла – «Голубой, голубой! Не хотим играть с тобой...»
Мультфильм «Голубой щенок», созданный на главной анимационной студии СССР «Союзмультфильм», вышел на экраны в 1976 году.
В конце 1970-х – начале 1980-х ни о какой гомосексуальной, собственно «голубой» ауре, мультфильма не могло идти и речи. Вплоть до конца 1980-х у слова «голубой» не было никаких жаргонных значений. И только на рубеже веков глобальному смысловому сдвигу перестали сопротивляться даже лексикографы. «Голубой», то есть гомосексуал, – это давно не только жаргон, а практически слово с самостоятельным значением.
В «Голубом щенке» пел прямо-таки звездный состав – Андрей Миронов (1941-1987), Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Александр Градский. Снимал фильм режиссер Ефим Гамбург (1925-2000). В число его наиболее известных режиссерских работ входят такие мульт-хиты, как «Шпионские страсти», «Ограбление по...», «Пес в сапогах».
Поэма Юрия Энтина, превратившаяся в мюзикл «Голубой щенок», была написана популярным советским поэтом по мотивам одноименной пьесы известного венгерского писателя и драматурга Дюлы Урбана. К началу 1980-х Энтин стал любимцем советской детворы, благодаря шлягерам к таким кинолентам и мультфильмам, как «Приключения Буратино», «Чебурашка», «Чунга-Чанга», «Достояние республики».
А вот с музыкой оказалось не все так просто. Сначала Юрий Энтин предложил писать ее своему другу замечательному мелодисту Давиду Тухманову. Мелодию Тухманова представили художественному совету объединения «Экран» – худсовет не утвердил. Мало того, Тухманову передали решение: «Близко к детской музыке не подпускать». Впрочем, написанная тогда главная музыкальная тема тухмановского «Голубого щенка» – «Если всеми ты любим, быть неплохо голубым» – не умерла, а некоторое время спустя воплотилась в шлягере «Веселых ребят» – «Как прекрасен этот мир».
Ну а «Голубой щенок» запел под музыку Геннадия Гладкова, принимавшего участие в создании таких советских мульт-хитов, как «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Как львенок и черепаха пели песню», «Пластилиновая ворона» и других.
Сразу же после появления на экранах «…Щенок» имел огромный успех у советской ребятни. Следом на фирме «Мелодия» вышло несколько пластинок. Да и в советских издательствах едва ли не каждый год рождалось по новому «Голубому щенку», последнее многотысячное издание которого появилось в 2004 году. Вскоре с кино- и телеэкрана «…Щенок» переместился на подмостки детских музыкальных театров. Это была трогательная история о дружбе одинокого щенка, от которого отвернулся весь мир из-за его необыкновенного – голубого – окраса, и брутального моряка, превращавшегося под воздействием дружбы в прекрасную розовую фею. Выполненная и в буквальном смысле в розово-голубых тонах сказка должна была, выражаясь языком времени, нести подрастающему поколению идеалы добра, любви и… если перейти на современный язык, – толерантности. Но с последней как раз и возникли проблемы…
Вряд ли Юрий Энтин мог представить себе, что фраза «Голубой, голубой! Не хотим играть с тобой…» станет обыкновенной детской «дразнилкой», а мультфильм «Голубой щенок» с начала 1990-х годов будет восприниматься сквозь призму иронии в адрес гомосексуалов, которых в России называют «голубыми».
Как появилось такое значение у русского слова «голубой», не совсем понятно. Возможно, это как-то связано с английским «blue», которое имеет еще и значение «грустный». Русский гей, в отличие от своего западного собрата, который «gay», – вовсе не веселый, а, напротив, очень даже грустный, одинокий парень, как тот самый печальный голубой щенок. В целом именно такое – минорное – восприятие гомосексуальности свойственно концу 1980-х годов, времени, когда русские геи едва приоткрыли дверь своего чулана. Культура гей-совка, воплощенная, например, в творчестве таких писателей, как Евгений Харитонов (1941-1981) и Геннадий Трифонов (род. 1945), была проникнута напряженной грустью и одиночеством. Мир одинокого советского гомосексуала из провинции начала 1990-х годов – это пространство, в котором он ждет встречи со смелым и уверенным в себе героем, словно Голубой Щенок, встретивший своего единственного и неповторимого моряка. И тогда все стало вокруг не только голубым, но и зеленым, розовым и желтым… Именно так – взрывами разноцветных фейерверков – заканчивался мультик по сценарию Энтина: «Если всеми ты любим, быть неплохо голубым!»
И именно Юрию Энтину с начала 1990-х годов приходилось несколько раз комментировать восприятие мультфильма в качестве своеобразного гимна толерантности. Впрочем, некоторые понимают «…Щенка» и как своего рода сатиру на гомосексуалов. Интересно, что поначалу в книге Дюлы Урбана «голубой щенок» был… негром, потому что эта «коммунистическая пьеса» для детей представляла борьбу американских чернокожих за свои права. Только в сказке Энтина щенок-негр превратился в щенка с нетрадиционной окраской. «Но, поверьте, – признается Энтин, – я в жизни бы этого не сделал, если бы мог предположить, с чем это будет ассоциироваться. Это в прямом смысле удар ниже пояса. У меня огромное количество знакомых нетрадиционной ориентации, это замечательные люди, с которыми я в самых нежных отношениях. И так издеваться над ними я бы себе никогда не позволил…»
Но с начала 1990-х мультфильм-мюзикл «Голубой щенок» воспринимается, особенно юной, достаточно осведомленной в тусовочном жаргоне аудиторией, уже исключительно сквозь призму гомосексуальности. Что тут говорить о взрослых, которые тоже по-своему дети… На учредительном собрании Партии любителей пива (называвшей себя также «фракция сексуального большинства») в начале 2000-х годов совершенно серьезно была принята резолюция с требованием немедленно переименовать мультфильм «Голубой щенок», «пропагандирующий гомосексуализм».
А вот, что пишет в одной из своих статей кандидат педагогических наук Софья Иванова: «Злые силы не только порождают отвратительную лексику, но и стремятся испачкать, изуродовать светлый смысл добрых и прекрасных слов. Ярчайшим примером является «захват» черными силами (речь идет о гомосексуалах) в свой отвратительный арсенал самого прекрасного русского прилагательного «голубой», внутренняя семантика которого связана с чистым небом, Богородицей, Святой Русью».
В ответ на подобные выводы государственные каналы некоторое время стыдливо отказывались включать «Голубого щенка» в свои программы. Казалось, век жизни «…Щенка» закончился, но неугомонный щенок возродился, прежде всего, на театральной сцене…
В конце 1990-х годов, помимо «Голубого щенка» Юрия Энтина, появляется еще несколько сценических переложений, авторы которых, впрочем, назвали своего щенка другим именем. Так, в санкт-петербургском театре марионеток спектакль по мотивам пьесы Урбана идет под названием «Щенок по имени Блюз».
В московском камерном музыкальном театре кукол «На петровских Линиях» представлен «Голубой щенок» на основе сказки Энтина. Изюминка действа – «планшетные куклы». А компания Фаргус даже выпустила компьютерную игру «День рождения Голубого Щенка», голубой щенок в которой «вместе со своим другом Стивом займет ребенка веселыми и добрыми играми». Есть еще и игрушка-погремушка «Голубой щенок» и, конечно, множество пушистых голубых щенков самых разных пород.
А если хотите увидеть настоящего гомосексуального «…Щенка», можно, например, поторопиться в один из красноярских клубов, где еще весной 2000 года на церемонии вручения наград в области клубной жизни, мюзикл «Голубой щенок» стал подлинным украшением вечера.
И голубые «щенки» были уже по-настоящему – голубыми.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

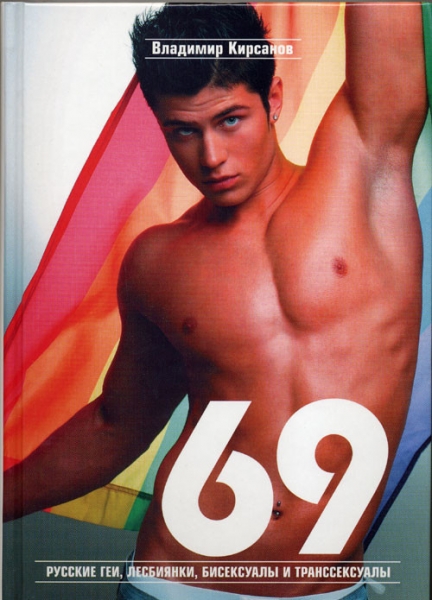


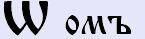


Комментарии к книге «Владимир Кирсанов 69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы», Харитонов
Всего 0 комментариев