Эфраим Баух Ядро иудейства
В отличие от многих, не было у меня вначале острой эйфории, а потом – горького разочарования, когда я ступил на землю Обетованную. С детства я знал, что мое место здесь. И вступив, как говорится, в собственную Историю, я готов был ее принимать со всеми ее подъемами и падениями.
Был ли я очарованным странником, верным «Земле обетованной», как Одиссей – Итаке?
Подозревал ли я в себе «блудного сына», но старался об этом не думать в течение сорока лет?
Земля же эта была мне верна. Да и не во мне, как и в Одиссее было дело, а в земле этой, не предавшей себя.
Кто не пытался ее прельстить – дети Христа, дети Магомета, дети Сталина. Под пятой каких только империй не пребывала эта пядь земли – египетской, вавилонской, персидской, греческой, римской, арабской, турецкой, британской.
Но крепость духовного ядра иудейства оказалась настолько сильна, гибка, жизненна, что об него обломали зубы все кажущиеся неотразимыми идеи, идеологии, системы.
Как это ядро сумело соединиться с умением ремонтировать старые корабли, со смелостью уловить пробивший время молниеносный миг судьбы и провозгласить не существовавшее по сей миг государство?
С десяти лет, после возвращения из эвакуации, подсознанием я знал, что место мое в Израиле, и любое упоминание о нем, что было весьма редко в те годы, и на каждом стояло клеймо – «заклеймить», было для меня подобно дуновению «ветки Палестины» из стихотворения Лермонтова.
Палестина – прелестина…
Родина таится в деталях – запахе, пейзаже, камнях, словно в сотах, Истории.
Душили слезы, потому что в эти первые минуты пребывания в Израиле, я так остро понял, что сразу и напрочь избавился от страха преследования, заушательства, омерзения от собственного слабодушия, но еще не привык жить без этого.
Позднее, когда пошел поток приезжающих из России, и на меня со всех сторон катилось недовольство и проклятия, я опять ощутил удушье: вот же, удрал от них, а они меня настигли и достали.
Близился конец марта. Возвращаясь с прогулки, я замер на краю сада, под деревом цветущего жасмина, насыщающего свежестью вечерний воздух. В серо-стальном предсумеречном небе отчетливо, вещно, почти наощупь, висела пиала луны донышком к земле, а над нею, в высоте, ярко, немигающе сверкала звезда.
И настолько ощущалась невидимая связующая нить между луной и звездой, что они казались замершим маятником. И чаша луна была занесена налево, а звезда воспринималась осью равновесия земли и неба, мгновения и вечности, покоя и умиротворения души человеческой.
Горы Иудеи я впервые увидел на заре. Особая таинственная сила приподняла душу близостью к Богу, чего не ощущал, видя в свете зари сверкающие снегами вершины Кавказа. Слишком большим внешним восторгом они захватывали душу, не оставляя места Ему.
Негоже копошиться на земле, обреченной мировой Мистерии.
Солнце за спиной клонилось к закату. Возвращался в сумерки, светлые книзу там, где угадывалось море. Темнели громады домов. Окна светились уютом. Сумерки полны были свежести, и холодящая печаль жизни очищала дыхание, делала шаг легким, и душа раскрывалась, как роза Иерихона, чтобы впитать этот становящийся родовым горизонт.
Иудейская концепция мироздания – брыкающийся конек, и оседлать его нелегко. Отождествлять себя с этим непросто нам, отрицавшим идеологию, которая опосредованно впиталась в нас. Оттуда ушли – сюда не пришли. Висели между. Отсюда – неуверенность, рождающая недовольство и агрессивность.
Словно одним рывком вырвав корни своей судьбы переездом в Израиль, я видел происшедшее четко: покинул «империю зла» не только ради свободы, но и жизни в возродившемся потоке Истории своего народа.
Не было реальней слов «Отпусти мой народ», начертанных на папирусе ли, коже, стене «перстами руки человеческой».
Теперь же, с развалом «империи зла» даже метафора в пастернаковском смысле «орлиного охвата» событий не схватывала реальность, разваливающуюся, как в калейдоскопе.
Всё то, что семьдесят лет на виду у всего мира выдавалось за «светлое будущее», а, по сути, было преисподней, вдруг открылось, как в анатомичке – в реальных развороченных внутренностях, в черной дыре гибели, поглотившей 60 миллионов жизней, и смешны были споры о цифрах. Как выразить все это абсурдное, называемое Историей и однажды уже определенное Джойсом, как «сон пьяного трактирщика Ирвикера» в романе "Поминки по Финнегану"?
Реальный хаос кружил голову посильнее алкоголя и наркотиков.
Когда думаешь о том, что удалось дожить до самоубийства Гитлера, Нюрнбергского процесса, смерти Сталина, опровержения «дела врачей», начинаешь осторожно верить, что еще не все потеряно.
На пороге нового тысячелетия я ощутил, что жизнь от мгновения ока до вечности выразима лишь искусством и любовью.
Это – два крыла жизненной тайны.
Стою на набережной Тель-Авива.
Мотыльково белеет парус одинокий.
Голубизна всепоглощающа.
Чуть более пятидесяти лет назад возникла эта страна евреев, по которой с минарета мечети Хасан-Бека за моей спиной, сухим треском разрывая великолепную тишину голубого пространства, вели пулеметный огонь арабы. До тех мгновений наш избранный на страдания народ, против которого весь мир использовал событие, связанное опять же с евреем Иисусом, Мессией, который по-гречески – Христос, витал в воздухе все эти две тысячи лет. Сначала подобно привидению, потом в виде дыма и пепла Катастрофы, и только в этот ничтожный отрезок времени встал твердо на землю, хотя и на одной ноге, по знаменитой притче Гилеля, да еще хромая, как Иаков после борьбы с Ангелом. Но стоит он у основания лестницы в вечность.
В центре абсорбции, в первые недели, я спал, просыпался, пил воду, и снова засыпал.
Вероятно, таким образом, изживают из себя страх и напряжение смены места жизни, всё более ощущая прочность берега, куда спрыгнул с качающейся льдины прошлого, которое даже этот последний прыжок ставило под угрозу: оттолкнувшись, можно свалиться в полынью.
Всё еще качало: пошаливали нервы. Как в музыке, резкие диссонансы отошедшей жизни все еще вызывали сердцебиение. Врачи произносят слово – синдром. Проще это называлось комплексом ощущений. Пугало трубное, как торможение на полном ходу, вызывающее прилив крови, слабость в кончиках пальцев, головокружение и тошноту слово – «синдром».
Всё здесь вокруг, при горячей приязни, заранее отданной этому месту, воспринималось не так: дома стояли не так, свет и тени угнетали непривычной резкостью, бесшабашно ослепительная солнечность полдня вызывала тревогу.
С трудом сдерживаемый восторг казался мне то выздоровлением, то еще большим углублением болезни. Но и эйфория несла свои плоды. Они могли быть незрелыми до оскомины, но давали резкий новый вкус набегающему новыми местами и впечатлениями времени.
Я просиживал на берегу, только подумать, Средиземного моря, как бы очищаясь отчужденной и в то же время касающейся самой сердцевины души синью. Начинало темнеть, и я не отрывал взгляда от огненного шара, закатывающегося в густую, как масло, морскую пучину.
После слякотной тоски северных зим, всасывающих саму жизнь, этот декабрьский день южной зимы с облачной тяжестью, накатывающей с плоских пространств Средиземного моря, был удивительно полон жизни. И ощущалась она в промытой отчетливости фонарных огней, четких очертаниях пальм, колышущихся метелками, в юношеском очерке луны – в прорехах облаков, словно бы природа давала понять, что всё это бурно-ливневое, мимолетно, и не стоит брать грех на душу, принимающий очертание тоски и отчаяния.
В этот предзакатный час с умиротворено-голубым небом и розово-прозрачной призрачностью облаков, красноземье у подножья рощи, которую я пересекал на обратном пути, казалось очарованным собственной печалью и затаенным удивлением делам Божьим.
К седьмому часу все цвета гасли. Оставались лишь мазки облаков в небе и темные массы холма и рощи.
Глядя на звезды, я думал о том, что в эти же мгновения на эти же звезды глядят мои друзья и знакомые, оставленные мной по ту сторону Ойкумены, в как бы не существующих, но таких знакомых, до малейшей детали, землях, вплоть до тени тополя на скамье, где я сиживал в юности. Это меня сердило.
Память не отпускала.
Память была честнее искреннего и все же неосуществимого желания полностью оторваться от прошлого. Все сны были там.
После посещения различных учреждений – больничной кассы, банка, отделения профсоюза, университета, куда сдавал документы и уже имел несколько бесед с преподавателями и деканом факультета, где занимались славистикой, общей философией и историей, я возвращался в репатриантский центр, буквально высунув язык.
Однажды, присев на скамью у перекрестка улиц, долго следил за дряхлым псом, который гнался за каждой машиной, добросовестно ее облаивая. Затем, выдохшись, залег на отдых, в осознании выполненного долга и полезно отработанного дня. Это напоминало мне мое собственное, пока явно бесцельное, копошение. Но кто же кормит пса, или свое неотъемлемое право лаять на хозяина пес не продает за чечевичную похлебку?
Диссонанс начинал восприниматься новым пространством музыки: так скребущая сердце какофония разрывов жизни, казалось, трещавшей по швам, оборачивалась додекафонией.
Скрипичный ключ колокольни францисканского монастыря старого Яффо разворачивал нотную линию горизонта, и город пронизывался главной темой, невидимо, но всеслышимо и всеощутимо проникающей во все самые глухие слуховые извилины этого разрастающегося на глазах и в реальном времени городского урочища.
Квартиру я получил недалеко от моря. Над крышами "городского моря", по выражению любимого им Блока, закаты андерсеновской сказочности вершились в его окнах. Я, конечно, случайно получил эту квартиру, раскрытую лицом к морю, как новый репатриант, но в этой случайности виделся мне перст судьбы.
На этой малой земле каждый камень, имя, название, подобны колышку, за который можно уцепиться, укрепить память сердца, корень души, летучую палатку жизни, которая дворцов и храмов тяжелей. Такова эта земля, что каждый обычный сюжет разворачивается на ней сразу в двух планах – сугубо земном и небесном. По сути, речь о жизнеописаниях. Ведь история человечества – это история семей, отцов и детей, одним словом, поколений. И вот – история семьи первого человека, Адама и Евы, семей Авраама, Исаака и Иакова. Каждый их шаг отмечен на топографии этой малой земли: вот колодец Авраама, колодцы Исаака, место у реки Йавок, где Иаков боролся с Ангелом, место Дотан, где братья бросили Иосифа в колодец. Нет иного места на земном шаре, где от каждого холма, колодца, камня мгновенно начинает разворачиваться история мира, подобно свитку – вглубь тысячелетий. Это и есть – Книга Книг, Танах, Библия, тираж которой в мире ныне достиг двух с половиной миллиардов экземпляров.
Невыраженное, и потому еще более мучительное влечение к этому феномену требовало от меня, первым делом, сделать нелегкое, но невероятно необходимое и благотворное усилие – прочесть Священное Писание в оригинале.
И уже с первых дней пребывания здесь пробуждало и побуждало столько лет лениво дремавшую душу взаимоотношение текста и пространства при самых обычных поездках, положим, из Тель-Авива-Яффо в Иерусалим или в другие места этой, в общем-то, узкой полоски земли, тем не менее ставшей в мировом сознании Землей Обетованной, места, мгновенно вызывающие в памяти устойчивое воспоминание, некий мини-архетип на глубину собственной моей жизни, но тут же включающий меня в это на взгляд обычное пространство полей, холмов, лесов и перелесков, ущелий и гор.
К примеру, едешь в девять утра по шоссе на Иерусалим, прямиком на восток, навстречу солнцу, слепяще распахнутому в глаза, до плавного поворота на юг, и горы Иудеи в этом свете мерцают легкими, тонкими, как на китайском рисунке, декорациями, нанесенными пастелью. Повернул на юг, и тут же, слева обрывом Иудейских гор маячат селения верхний и нижний Бейт-Хорон, и неизвестно, что более убедительно для души – этот скалистый обрыв или история разгрома войск селевкидов Маккавеями на этом спуске.
Миф, легенда, история, древняя реальность опережают, оттесняют, берут в абсолютный плен эти на вид ничем не примечательные места. Вероятно, потому, что земля эта мала и преизбыточно насыщена образами и событиями истории на глубину времени, во всяком случае, не менее трех с половиной тысяч лет, энергия воображения здесь интенсивней, чем в любой другой точке мира, эти события и образы, их стечение, противостояние, наложение, повторы, вытекание одно из другого, некое подобие матрешки, где семь "я" это и семья и и каждое "я" отдельно и враждебно одно другому, порождает невероятной мощи духовный кокон, из которого выпрастываются великие религии: из иудаизма, из знаковой гениальности отточенных понятий о Боге, его освященных временем и глубиной проникновения Книг, вызревают христианство и ислам. Первое этого и не скрывает, ссылаясь в каждой своей строке на Тору, Пророков и Писания, как на повеления Свыше.
Ислам же заглатывает всё это, подобно легендарному киту, Левиафану, и выбрасывает пережеванным, как последнее слово Божье, с криком "Алла акбар" – "Аллах велик".
Тем временем лесопарк на месте древнего города Хамат стирает дальнее мерцание гор, неся уже целое гнездо мифов. В бытность после вхождения народа Израиля в землю Обетованную, здесь крикнул Йошуа бин-Нун: "Солнце, стой над Гаваоном, луна над Аялонской долиной". Здесь, в городе Хамат, ставшем позднее Эммаусом, воскресший Иисус встретил паломников, что запечатлено на полотне Рембрандтом. Ныне на этом месте – монастырь молчальников, а напротив, справа от шоссе, в Латруне – здание бывшей сначала турецкой, затем британской полиции, ставшее музеем артиллерии и бронетанковых войск Армии обороны Израиля.
Текст Пятикнижия, Летописей и Пророков мог быть пассивным источником символов, мифов, архетипов, образующих, вместе нечто, именуемое иудейством, иудаизмом, еврейством. Но текст этот мог быть и активным. В нем энергия гениального словесного потока сознания сливалась с потоком реальных событий. Хаотичность, случайность, драматичность, трагичность этого потока сама искала собственный смысл и форму – опять же, миф, символ, архетип.
События навечно повязывались с топографическим местом – от первого восклицания Бога "Да будет" – в слухе и в знаке. Пространство этих гор, долин, ущелий, отдельных камней несет первородство этих событий, вовсе не запечатленных в камне или скульптуре, а лишь в слове. События эти являются как бы наследниками этого пространства, плотность которого на этом пятачке в понятиях земного шара гениально и счастливо их интенсифицировало, потрясая еще младенческое сознание человечества.
Все эти образы и события, в каждой клетке и знаке которых присутствуют Бог и человек, оторвались и ушли в большой мир, вошли архетипами во все языки, но изначально и навек пленены этим их "родовым" пространством. Оно продолжает их держать пучком стрел и мгновенно раскрывается в памяти знаком-паролем – "Мегиддо", "Иерихон", "Азека", Масличная гора и Кедронская долина Последнего Суда (долина Йосафата).
Это пространство – родина художественного.
Это пространство – нечто природно-материальное – именно здесь совершило прорыв в сферу духа, осознавшего впервые Бога – его единоначальный феномен.
Но без отдельного, сосредоточенного в своем одиночестве, отделенного от всего "шума времени и бытия", человека, обладающего гениальным чутьем слушать свое подсознание, корнями уходящее в природу и дух, ничего бы и не было. Только он, одинокий, подающий голос, различивший корни мифа, символа, ошеломленный силой знака, уже в момент начертания отрывающегося от своего рисунка, увековечивающего мимолетное и уже не исчезающего, только он, человек, становится мыслью, сознанием, самосознанием, образом и подобием – создателем наново в художественном и духовном плане этого пространства.
Самое удивительное, как этот духовный свод сохраняет свою силу через тысячелетия разрушения стереотипов, отпадающих в непрекращающемся процессе живого существования поколений. В нем не угасает глубинное, ни от кого и ни от чего не зависящее стремление поддержать свежесть и естественность человеческого бытия, – в противовес выступающему в напряжении всех своих мышц хаосу изначальной энтропии, немоты, беззнаковости и бессловесности.
Все это зачаточно и смутно мучило меня там, а здесь просто стало одержимостью. Это была жажда осознать себя в новом контексте, в новых обстоятельствах, читающих в отпущенных пределах жизни эту древнюю знаковую систему, как новый свет нового дня, неповторимого во временности, настырного свидетеля, который по-новому высвечивает, разыгрывает и толкует это древнее пространство.
Я думал о вещах. Они выскакивали из-за каждого угла, поворота, шума, свиста, дыхания, и это не были только вещи в немецком понимании слова Ding (Kant, Hegel) в смысле "обслуга (Динген – служить), а в более широком смысле с прибавлением времени в 3000 лет, и оно ощущалось хвостом кометы, световым веером за каждой вещью, именем, названием. Сквозь беспамятные воды забвения эти имена и названия стояли, как деревья и камни – незыблемыми основаниями, вросшими в это малое пространство памятью того или иного единственного во времени события, застолбившего вечность.
И вот тут-то возникает момент смыкания текста с собственной жизнью его создателя. Биография художника внезапно обнаруживает в себе внутренние линии, течение, насущность выразить себя в тексте, ибо она, биография, наиболее ему знакома, она и зеркало и зазеркалье жизни художника.
Все комплексы его разделяются текстом.
Более того, нередко текст обнаруживает еще большее упрямство в этих комплексах, чем сам творец, погружая последнего то в депрессию, то в эйфорию.
Вот я и поставлен в эпицентр мифа, быта и бытия, россыпи знаков. И эта позиция изматывает своей обязывающей интенсивностью проживания в двух языках.
Вспоминаю слова Эйнштейна:
"Влечение к знанию ради самого знания, почти фанатичная любовь к справедливости и жажда личной независимости – таковы черты еврейской традиции, которые заставляют благодарить Бога, что я принадлежу к еврейству…
…Но еврейская традиция заключает в себе и еще нечто, находящее великолепное выражение во многих псалмах, а именно какой-то вид необузданной радости и удивления перед красотой мира, о котором человек может себе составить лишь слабое представление. Радость – это именно то чувство, из которого истинная наука черпает духовную поддержку; эта же радость выражается разве что в пении птиц…"
Приходит на память строка Пастернака – "И даль пространств – как стих псалма…"
Оркестровый окоем юга лихорадит нежностью своего пианиссимо, трагическим ландшафтом своего стаккато. Сирены пианизма сидят на колоннах его метафизической архитектуры, протягивающейся жемчугом развалин вдоль берегов Средземноморья, через Малую Азию, Афины, Рим и далее, до геркулесовых столбов Гибралтара. Вот с чем повязана моя земля Обетованная, которую усиленно пытаются втиснуть в контекст Леванта.
Восточный берег этих вод – прямое продолжение средиземного подбрюшья Европы. В конце концов к Азии его причислил какой-то географ, но у Бога и культуры свои духовные границы материков и чаще всего они не совпадают с высокомерной категоричностью географов и путешественников.
Насколько далеко и несводимо разведены такие два понятия, как – "азийские пространства" и "азиатчина".
Это была необычная поездка, – первая, в Иерусалим, за рулем собственной машины. Вообще, дорога в Иерусалим вызывала во мне внутреннее напряжение, какую-то запредельную, с трудом им самим переносимую сентиментальность, которая затрудняла дыхание. А тут еще накладывалась на это напряженность от прикованности к рулю, от переключения скоростей, от вида лежащих на обочинах сожженных арабами еще в сорок восьмом машинах, на которых евреи пытались прорвать кольцо блокады Иерусалима. Ко всему этому, в голову лезли складывающиеся в стихи строчки, и я повторял их про себя, боясь забыть:
По дороге на Ерушалаим Нашу жизнь мы всю обозреваем, Словно ленту фильма развеваем По дороге на Ерушалаим. Иудея поднимает склоны, Розовея с солнечным восходом. Пахнет вечность чем-то жженным и паленым На земле, текущей молоком и медом.Впервые в жизни на собственной машине я ехал по Иерусалиму. Миновав музей Рокфеллера, спустился в Кедронскую долину. Оставил машину, пошел пешком до усыпальниц Авшалома, сына царя Давида, и пророка Захарии. Зной усиливался. Звенело в ушах от безмолвия, словно бы за миг до начала Страшного суда.
Я понимал, что эти усыпальницы, куполами своими проткнувшие тысячелетия, внутри пусты, и все же какая-то нелепая, но весьма ощутимая надежда увидеть нечто в этих склепах тянула внутрь. Посидел в прохладе, пахнущей мышиным пометом, усыпальнице Авшалома, сына царя Давида… Вспомнил стихи Александра Блока, посвященные матери, который раз потрясаясь ими:
Мне снился сон: мы в древнем склепе Схоронены; а жизнь идет Вверху – всё громче, всё нелепей; И день последний настает. Чуть брезжит утро Воскресенья. Труба далекая слышна. Над нами – красные каменья И мавзолей из чугуна. И Он идет из дымной дали; И ангелы с мечами – с Ним; Такой, как в книгах мы читали, Скучая и не веря им. Под аркою того же свода Лежит спокойная жена; Но ей не дорога свобода: Не хочет воскресать она… И слышу, мать мне рядом шепчет: «Мой сын, ты в жизни был силён: Нажми рукою свод покрепче, И камень будет отвалён. — «Нет, мать. Я задохнулся в гробе, И больше нет бывалых сил. Молитесь и просите обе, Чтоб ангел камень отвалил».На миг ощутил себя замурованным, бездыханным, «одетым камнем». Выскочил, как ужаленный, из полумрака гробницы в ослепляющий солнцем полдень. Острым, словно бы внезапно открывшимся слухом уловил вместо далекой трубы приглушенные пространством и зноем звуки автомобильных клаксонов.
Молча поднялся из долины к Гефсиманскому саду, удивился невероятно огромным, в узлах, стволам древних масличных деревьев. Кора, подобная слоновьей коже, охраняла их от гибельности времени.
Шел вверх по дорожке, иссеченной промоинами, заросшей с двух сторон диким бурьяном, в котором валялись рваные шины. Так дошел до церкви Марии Магдалины, а еще выше – до часовни «Dominus flebit» – «Бог плачет».
Вернулся, сел в машину, обогнул стены Старого города, поднялся в сторону могилы царя Давида, остановился на обочине шоссе, на противоположной стороне которого скромно и непритязательно торчал указатель на иврите «Спуск в Геенну».
Спустился.
Между камней пробивался бурьян. Два арабских подростка, пасущих стадо овец, с удивлением смотрели на взрослого, прилично одетого дядю, которому, вероятно, больше не было чем заниматься, как посещать этот пыльный, запущенный овраг.
Обратный путь был гораздо легче, хотя уже была ночь. Все же – домой.
Над «Шаар Агай» – «Воротами ущелья» – стыл в густой и чистой синеве месяц. Опять строки лезли в голову, и я изо всех сил старался снизить их патетику:
По дороге на Ерушалаим В ночь луна стоит над Аялоном. Эти земли стали нашим лоном — Все дороги – на Ерушалаим. И деревья здесь всего упорней Вверх ползут вечнозеленым сводом. Мы живем и будем жить, пуская корни, На земле, текущей молоком и медом.Осторожно, чтобы не разбудить жену, которой предстояло рано ехать на свои курсы, и детей, которым – в школу, вскипятил чай, выпил, и долго еще стоял у распахнутого в ночь окна салона с тем же, увиденным над Аялонской долиной, месяцем.
Самолет, ночная лампа вдоль границы Израиля, пролетел по оранжевой полосе вдоль моря. Так и вошел в сон мистическим зрелищем, тревогой и праздником.
Вечерами я шел к морю – смотреть закатывающийся за горизонт огненный шар солнца.
Особенно удивительным был миг, когда море возникало за краем берега – иссиня-голубое, лощёное, с барашками прибоя у камней и выпукло слепящей – до марева – далью. По мере того, как я спускался с высоты берегового обрыва, со сменой угла зрения, море всё более вытягивалось пластом. Под солнцем, заполняющим бескрайнее разомкнутое пространство усыпляющей сладостной дымкой, море становилось молочно-синим, белопенным у берега, шумя, как молоко перед закипанием, с какой-то изящной легковесностью неся на себе бабочки яхт.
Камни, омываемые изумрудом невысоких волн, показывали свои опаловые с подпалинами бока.
Песок у кромки вод был молчалив, светел, погружен в себя
Цвела мимоза, тяжестью собственного цветения обламывая свои ветви. Избыточность запахов кружила голову пространству.
Звезды в бесконечности ночного неба были в эти мгновения невероятны, абсолютно не связаны с моим обычным опытом существования. И, тем не менее, они входили в мой взор абсолютной реальностью, причем, до такой степени, что серпик луны казался знакомой частью домашней утвари, временами исчезающей, но живущей в душе знанием, что объявится, возникнет, отыщется вновь.
Лунный диск – как мера жизни, в один миг переносящая через сорок лет – в заброшенное село времен войны.
Однажды я поехал по каким-то делам в кибуц Гиват-Бреннер. Было жарко.
И внезапно я ощутил невероятное чувство свободы в этот июльский, все плавящий полдень, под раскалено-чистой синевой неба и огромным, развесистым деревом на плоском зеленом поле – как мгновенное раскрытие ключа жизни. Дерево – самодостаточное и полное свободы – подобно люстре жизни, висело в мареве пространства, растворяющем ствол, и, казалось, парило в воздухе, без связи с землей. Но именно оно выражало неразрывную органическую связь с пространством окружающих небес, земель, далей. Я замер, впервые истинно физически впитывая – порами, телом, сознанием, подобно этому дереву, врастание в эти пространства неба, полей и трав.
Исход при всем своем величии, всегда трагичен, но насущно необходим, ибо в нем открывается всегда сопутствующее существованию непонимание: в чем смысл жизни?
Далеко не любой исход, являющийся, в общем-то, реальным событием, превращается в воображаемый миф.
Разве когда-то поток горловых звуков, называемых речью, был настолько неохватным, не прекращающимся, приведшим к возникновению целой всемирной индустрии телефонов, их невидимой паутинной сети, оглушительной болтовне? Глас Божий, сказавший однажды кратко «Да будет», обернулся шквалом ничего не значащей речи, залившей человеческий род посредственностью, не менее страшной, чем всемирный потоп.
Об этом я подумал, увидев на берегу моря полузасыпанный песком, обглоданный волнами скелет корабля, вокруг которого, словно бы только сошедшие с него семь пар чистых загорали в живописном беспорядке.
В детстве я любил рассматривать картинки в книге из библиотеки отца «Вселенная и человечество». Особенно волновала меня картинка: человек добрался до края земли и, пробив головой хрустальный свод, дивится чуду открывшегося ему мира, полного звезд. Таким я видел себя, раскрывшим рот, на новой этой земле, о которой столькие годы мечтал.
Потом были военные сборы. Стояла тревожная ночь.
Тревога, ощутимо висящая над огромным, раскинутым вдаль военным лагерем, не может заглушить особый оливково-сосновый запах этой охраняемой им земли. Я бы даже сказал, – олеографический.
Так пахнет лубок, выписываемый маслом.
Краска каплет с кисти и пальцев, и не просохли еще капли, только сброшенные с кисти. Добавить следует сладкий запах липы, смесь запахов цитрусов, мирта, речной вербы, ну, и, конечно, особый цвет неба, идущий от пустыни и моря.
Солнечный свет – сквозь узоры листвы – днем.
Лунное сияние – сквозь китайский рисунок метелок пальмы – ночью.
И если всё это, невидимо текущее молоком и медом, вливается в душу, то уже несколько дней за ее пределами возникает в душе одиссеева тоска по родной Итаке. Возвращаясь из-за границы, входишь в самолет компании «Эль-Аль», и слышишь по радио песню ансамбля «Все проходит, дорогой» -
И с песней, как в начале, Проснуться в ранний час, Петь в боли и печали, Слез не стирая с глаз, На утреннем ветру услышать флейты зов, И снова все начать с азов.И слезы предательски выступают в уголках глаз.
Освободившись от резервистской службы, выехали натощак, решив позавтракать по дороге в бывшей помещичьей усадьбе, превращенной инициативными молодыми людьми в место отдыха с весьма симпатичным и сравнительно недорогим рестораном.
Я ориентировался по карте, отвлекался, с наслаждением вбирая взглядом убегающие зелеными волнами мягко очерченные холмы нижней Галилеи в сторону синего хребта горы Кармель, из-за которой, как бы ленясь, потягивалось лучами солнце. По обе стороны дороги дымились еще не пробудившимися с ночи тенями неглубокие долины. На склоне одной из них, в глубине рощи, и обнаружилась искомая усадьба. В огромном приемном зале на первом этаже раскиданы были широкие, мягкие, потертые от времени кресла среди кадок с растениями, густо тянущимися вверх и свисающими с лепного потолка. Удивляли шириной подоконники высоких, как в соборах, прямоугольных окон, вообще редкие в Израиле. Все вокруг дышало недвижностью времени и долго длящейся дремотой. И это посреди страны, где бег времени, и чехарда событий были головокружительными.
Заехали в парк Ротшильда, недалеко от Зихрон-Яакова. Немного погуляли по аллеям. Я ухитрился оторваться на некоторое время от спутников, замер в гуще зелени. И внезапно в запущенном, запушенном, затушеванном светом и тенью парке нахлынула на меня вся прелесть и тоска безмолвных аллей какого-нибудь помещичьего дома в забытой и полной необъяснимого солнечного ликования безжизненности средней России. Безжизненность эта была сродни медально обмершему лицу Блока накануне всеобщего провала в кровавый круговорот «бессмысленного и жестокого бунта», названного «великой революцией». И стоявшее на горизонте Средиземное море, явно не к месту, из иного регистра, замыкало всё окружение в рамку блоковских строк: «В легком сердце – страсть и беспечность,/ Словно с моря мне подан знак./ Над бездонным провалом в вечность,/ Задыхаясь, летит рысак./»
Так впитываемое зрением, осязанием, слухом, вечным ритмом волн, соединяется в нечто живое. И оно, в сущности своей, полно любопытства и неизвестно где упрятанного и откуда возникающего умения души застолбить каждое мгновение своего бытия окружающей, подвернувшейся по случаю реальностью, которая уже навсегда отметит этот миг в уносящемся потоке жизни.
Душа, обладающая талантом излить себя в воспоминании, фиксируемом текстом, подобна замершей клавиатуре. Но стоит памяти коснуться клавишей того мгновения, и оно оживет во всей своей зрелищной и музыкальной силе, всегда пронизанной печалью невозвратности.
Удивителен феномен: человек внезапно и врасплох захватывает замечтавшееся пространство метафорой или воспоминанием, разворачивающимся перед зрением и сознанием.
Главное – устоять под отвесно рушащимся на тебя потоком времени.
Недостаток бытия.
Первое, что поразило меня, когда я покинул прежнее пространство проживания, ступил на эту Землю, и осторожно стал ее осваивать, это внезапная мысль, что Иерусалим открыт небу, а Тель-Авив открыт морю.
В минуты прочного чувства одиночества, внезапно осознаваемого, как истинное состояние души в безмолвии Иерусалима, я вспоминал, как детскому моему взгляду открывалась картинка из книги "Вселенная и человечество" в отцовской библиотеке. На картинке преклонил колени человек, странник, который дополз до края небесной сферы, пробил ее головой, и потрясенно озирает занебесье с его колесами, кругами планет, – всю эту материю, подобную рядну, где ряды напоминают вздыбившуюся шерсть на ткацком станке Вселенной.
Но потрясала наша земная сторона со средневековым спокойствием звезд, закатывающимся детским солнцем над уютно свернувшимся в складках холмов и зелени полей городком.
Человек-странник всю жизнь шел, полз, чтобы, наконец, добраться до этой сферы, а жители городка обитают рядом и не знают, да их и не интересует, что тут, буквально за стеной их дома, – огромный мир Вселенной. Их не то, что не тянет, их пугает заглянуть за предел, прорвать сферу, прервать филистерский сон золотого прозябания. Вот они, два полюса отцовского восклицания «Ce la vie» – «Такова жизнь» – так удивительно сошедшиеся на околице затерянного в земных складках городка.
Все годы я отряхивался от этого видения, как от не дающего покоя сна, спасаясь мыслью, что только в поэзии, слове, метафоре можно пройти над бездной.
Обычно это накатывало на меня после бесконечных изматывающих душу споров о самоиндификации человека, как "еврея".
Сколько казуистики тратится на поиски "национальной сущности" – особенно в русской и немецкой массе.
В русской традиции сразу приходят на ум Толстой и Достоевский, которые, по сути, выросли на Священном Писании. Что ж, продолжим знаменитую в свое время кампанию, развязанную советской властью по "раскрытию псевдонимов", в поисках скрываемого "еврейства".
В свое время иудейскому мальчику дали при рождении имя – Кифа. Он вырос и стал апостолом Петром. Другому мальчику дали имя Шауль, а он стал апостолом Павлом. Так оно – европейская цивилизация не в силах откреститься еврейского генома.
Антисемитизм это подушная удушающая реакция на собственные опостылевшие корни.
Кого-то, в достаточной массе, преследуют, как Мандельштама, лежащие, "как руины, рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами". И даже пригвожденный им, как самый страшный деспот в мировой истории, "кремлевский горец" с таким сюсюкающим прозвищем – Сосо (опять же, от еврейского имени имени – Иосиф), не мог до конца отмыться от того, что прилипло к его узкому лбу в духовной семинарии.
Футуризированный в юности Пастернак, казалось бы, легче коллеги Осипа переносил свое "еврейство", но это лишь казалось. Роман "Доктор Живаго", тайком прочитываемый нами в одну ночь в годы всеобщей перлюстрации, усиленного сыска и мышиного фиска, и воспринимаемый, как свет в окошке в атмосфере всеобщего "криводушья", по выражению Нобелевского лауреата, отказавшегося от премии по известным всем и каждому обстоятельствам, в последующие десятилетия значительно потускнел. И что осталось в сухом, но все еще пылающем остатке? Выпятилась и бесконечно обсуждается мучительная неприязнь автора к своему неотстающему еврейству. Ведь даже гению полагалось заполнять в анкете пятый пункт.
Да что говорить: чем мешало провозвестнику будущего мира всеобщего счастья, безоглядно выстилающему благими намерениями дорогу в ад, Карлу (при рождении – Мордехаю) – не папе Карло, с бессмысленным упорством строгающему мир деревянных человечков, востривших нос во все дела, а скорее бородатому злодею, подобно Карле Черномору, – его еврейство.
От своих корней откреститься невозможно. Сколько их не выкорчевывай, слишком они глубоки и неуничтожимы. Тут даже не идет речь о последующих побегах этих корней – христианстве, исламе, фрейдистском комплексе "ненависти к отцу", и множестве иных комплексов.
Корни эти экзистенциальны, проще говоря, идут от самой сущности Сотворения существа с челом века – человека. Однажды открывшись, они уже не могут исчезнуть, сколько их не отрицай, не отбирай, не унижай, не уничтожай, не заваливай землей – пробьются. Тут не обойтись без мессианской эсхатологии.
Мессианская эсхатология не просто изобретение евреев, а их судьба. Евреи ведь народ Книги, а всякий текст подспудно связан, прочен и зависим от "теологического контекста". Стоит подумать над тем, не будет ли разрушена любая речь при попытке сделать ее независимой от "теологического контекста". Сообразность и прочность мира людей держится на этой основе, во всех ипостасях скрепленная Высшим присутствием. Снять эти скрепы, и все разваливается в кровавый хаос "конца дней".
Эсхатология напрягает Историю, заставляя ее балансировать над пропастью вечно ожидаемого Апокалипсиса, и тем самым взывая к ценностям жизни, как правды и справедливости, что, по сути, и есть – ожидание Мессии.
Эсхатология – это бытие, выходящее за пределы Истории, предполагающая личность, способную отвечать за свою жизнь, говорить от своего имени, а не повторять анонимные слова, диктуемые ей Историей.
Эсхатология – предупреждение – против провала в хаос, предупреждение Богом еврея, избранного Им на участь Иова.
В годы юности легко и заранее прочитывалась ситуация: евреи– полукровки (прозываемые окружающими аборигенами – "полужидками") отрабатывали русский хлеб. И как ни пытались откреститься от своей въедливой нации, слишком слабо было им стать ловчее таких же "прокаженных", чаще всего "полных" евреев, тысячелетиями пытающихся отказаться от матери, а то и отца, вплоть до затирания их имен на надгробьях и замены их титульными фамилиями их жен из среды аборигенов. Писателям было легче: им разрешалось прикрываться псевдонимами еще до кампании по "раскрытию псевдонимов".
Драматургам это даже высочайше рекомендовалось для карьеры. Так Котляр стал Алёшиным, Лифшиц – Володиным, Маршак – Шатровым, Гибельман – Рощиным, Гоберман – Алексиным.
В годы перестройки, по телевидению, на всю страну передавали творческий вечер Шатрова. Развернув записку из зала, он ее сразу (сказывалась оказавшаяся впоследствии ложной атмосфера еще незнакомой свободы и искренности первых шагов гласности и перестройки) прочел вслух. Не помню, как она точно звучала, но смысл был таков: почему вы Шатров, когда вы – Маршак (кстати, фамилия древнееврейская – уважаемого рава, подобно Рамбаму или Рамбану). Шатров начал стыдить безмолвствующую аудиторию, но это выглядело жалко, и более было похоже на оправдание. Стыд, неловкость висели топором в воздухе, все, сидящие в зале и даже в отдалении, у экранов, ощущали, и, главное, понимали, что их словно окунули в нечто дурно пахнущее.
"Народ безмолвствовал", но это не было безмолвие угрозы или затыкание ртов, а, скорее, зажимание носа, когда внезапно обнажаются затхлые задворки десятилетий прошедшей и, увы, не ушедшей жизни.
На лекции о прогрессивном параличе один из отцов советской психиатрии М.О.Гуревич демонстрировал больную с этим тяжелым заболеванием, сопровождающимся слабоумием. Она не могла назвать ни своего имени, ни числа, ни времени года. Но на вопрос, кто ее привез в больницу, она неожиданно, с осознанной злобностью, ответила: "Жиды".
Профессор обернулся к аудитории и заметил:
"Вот видите, как мало нужно ума, чтобы быть антисемитом".
Но – чума на голову, в которой мало ума и слишком много власти. Такие особи периодически возникают в истории. Они обладают несгибаемой самоуверенностью, что могут поставить последнюю точку в этом деле. Один из таких, по имени Адольф Алоизыч, был совсем близок к решению, да и тот надорвался.
Вспоминаю слова Юлиана Тувима о родословной еврейского народа – не по крови, текущей в жилах, а по крови, текущей из жил, прочитав следующие строки из эссе писателя и музыканта Леонида Гиршовича "Плачущие маски" ("Окна". 28 апреля 2011), впрямую связанные с со словами Юлиана Тувима: "если еврея уколоть, у него тоже пойдет кровь…" Такой эксперимент всегда пользовался успехом. Это кажется невероятным, но кровь евреев всегда была разрешена к пролитию.
Автор эссе как бы цитирует, хотя, как ни странно, без кавычек, "левых" открывающих давно известную, ставшую уже тривиальной, будь она даже повторена "левыми", к которым с излишним подобострастием прислушивается Запад, мысль о том, что "еврейского вопроса нет и не было. Доказано, что в строго научном смысле слова еврейской расы не существует… В резолюции ООН совершенно справедливо сионизм приравнивается к расизму… "
Более того, и в этом особая постмодернистская софистика, быть может, навеянная пребыванием автора эссе в парижском Центре Помпиду – "… Во-первых, евреев не существует. Мандельштам – русский поэт лютеранского вероисповедания, а Лосев – русский поэт неустановленного вероисповедания. А во-вторых, антисемитизм – чувство общечеловеческое, отказывать еврею в праве на него есть скрытая форма антисемитизма…"
Тут, ненароком, обидишься, если тебя не назвали "жидом", и таким образом нарушили твое освященное веками право быть "презренным евреем", торжественно и брезгливо растоптанным в прах этими словами Пушкина, потомка эфиопов.
Не могу припомнить, где и кем это отмечено, что Пастернак называл евреев, "окопавшихся", по выражению автора эссе, в Израиле, – "жидоба". При всей неприязни к своему еврейству, не мог он опуститься до такого базарного языка, особенно после частых поездок на электричках из Переделкино в Москву, проделанных мной бессчетное число раз, где волей-неволей окунаешься по макушку в простоту, которая хуже воровства, русского люда, обильно пересыпанную матом, и все же восхваляемую поэтом – "…Превозмогая обожанье/, Я наблюдал, боготворя./ Здесь были бабы, слобожане,/ Учащиеся, слесаря./ В них не было следов холопства,/ Которые кладет нужда,/ И новости и неудобства/ Они несли, как господа/…"
Одним из камней в основании главной книги иудейской Каббалы «Зоар» является закон переселения душ. Душа, не изжившая свои грехи при жизни, мечется от одного края ада до другого его края, подобно камню из пращи Давида, сразившему великана Голиафа, пока не освободится от грехов, чтобы вселиться в новое живое существо.
По мне, существует еще и закон философского и словесного освоения мира. По этому закону одна и та же неприкаянная душа еще при жизни вселяется в разных людей, изживая себя в каждом из них по линии его судьбы, где, согласно Стендалю, господствует его величество Случай.
На земле Обетованной, становится понятным, как этническая сторона знаковой системы смыкается с лингвистикой и историей культуры.
На земле Обетованной, я ощутил, что слово не только пригвождает собой присутствие вещи или со-бытия, ибо это «со» к слову «Бытие», говорит о бытии, переживаемом вместе с другими, Слово не только обозначает, но и хранит присутствие вещи или события.
Лишь теперь я понял, чего мне там, в прошлой жизни, не хватало.
Я бы назвал это "недостатком Бытия".
Недостаток Бытия сродни хронической нехватке воздуха, вызывающей одышку, сумрачность души и виноватую улыбку.
Оказывается, это не выдумка. Недостаток этот обнаруживается, быть может, всего на миг, но присутствие этого недостатка уже обозначено.
Обратного хода нет.
Недостаток этот восполняется структурной поэтикой. Поэтическое слово не обычно. Оно захватывает некое пространство, размытое, осыпающееся, но своей незавершенностью дающее глубокофокусный взгляд на понятие целостности.
Особенно это ощутимо в библейских текстах. Там это обещание целостности и есть та невероятная сила, которая дает этому тексту энергию, пробивающуюся через три тысячелетия.
Гениальная находка – пауза. Она-то и породила слово.
Словесный пучок слов может дать эффект лазерного луча, усыпить зрение читателя или разрушить катаракту его видения, которая образовалась годами накапливающейся слепоты от нежелания видеть истину, боязни ее видеть, готовности изменить истине, ссылаясь на слепоту, как на «истину жизни». Только слова становятся подобными укротителю. Они приручают бесконечность вещей и предметов к существованию в мире.
Но сам язык, само течение букв и фраз остается ревниво скрытым, словно прячет свое возникновение и происхождение, как тайну за семью замками.
В «Зоаре» есть гениальная притча, как Бог должен решить, на какой букве ему построить мир. Весь алфавит выстраивается к Нему – в очередь, и каждая буква рвется доказать свое преимущество.
Но частица «со» есть и в слове «со-держание». Наша жизнь «держится» на языке, как на проволоке держится канатоходец, выражая своим бесстрашием наше тайное и главное желание балансировать в собственной жизни, испытывая ее остроту на грани падения и вознесения. И держимся мы единым усилием. Таково оно – «со-держание» всеми нами отрезка отмеренной нам жизни – и ее содержание.
И что такое – монолог? Это не терпящий возражения диалог, ибо,
утверждая в нем или сомневаясь, ты натыкаешься на возражение, иронию, подвох, собственное неверие. И за всем этим кто-то стоит. Дай бог, чтобы это был Бог. Ведь вокруг нас вертятся десятки людей. Друзья и мимолетно знакомые. Враги и двуличные. Неутомимые доносчики. Скучные и неожиданные сутяги. Обаятельные и невыносимые негодяи. Самоуверенные глупцы, с потрясающей знатока наглостью рассуждающие на любые религиозные, философские, литературные темы, до того, что знаток онемевает. Вот, и длится безмолвный диалог с сонмом, по сути, теней, окружающих писателя и философа. Но это и есть литература и философия. Когда же в редкие минуты озарения этот диалог достигает присутствия Бога, ощущается мгновенный, как озноб, поцелуй Ангела смерти. И это подобно молнии, которая дает чувство, что жизнь прожита недаром, даже если и это, по сути, иллюзия.
При помощи диалога личность соединяется с вечностью. Пример: Платон, Достоевский, Паскаль, царь Давид. Его «Псалмы» рождены его прелюбодеянием. Это отчаянная исповедь, полная раскаяния и в то же время радости жизни, опять же данной Им – диалог с Ним. И настолько велик и неисчерпаем этот диалог, что стал откровением любого человеческого существа во все времена и на всех языках. Жажда жизни прорывается сквозь мольбу о прощении, но глубина раскаяния не вызывает сомнения в своей искренности. А то, что это царь, – у евреев не воспринимается, как нечто особенное. Это какой-то не такой царь. Он царь, что ли, в необыкновенном человеческом понимании, с первого момента, когда юношей-пастухом приходит к братьям в военный лагерь и как бы ненароком, но уверенно убивает Голиафа.
Если видеть язык как завершенный в себе феномен, то – мертвый, безмолвный – он оживает в говорении. Такое событие произошло с древнееврейским языком, ожившим заново. Именно он возродился в отличие от двух других великих языков древности – греческого и латыни, замененных новогреческим и итальянским. На примере иврита особенно видно, как язык заново порождает нацию, ее каждодневное бытие, вещи и события. И все, скрытое в книгах на этом языке, растасканное переводами на языки всех наций мира, внезапно вернулось к своему первоначальному истоку. Древнееврейский язык – иврит – показал свой великий нрав одного из изначальных языков человечества, несущих тысячелетия в своих словах-сотах.
Это трудно осознать. Да и не нужно. Феномен «малого народа», давшего великий язык, подобен феномену большого взрыва из малой точки.
Величие языка еще и в его отъединении, в создании зазора, в умении стать самостоятельным феноменом. Да, так он теряет свою «почвенность» и тут же воруется всеми, оттесняющими его самого.
Многие из лингвистов чувствовали это в своей жизни, когда кто-то выдавал их мысли за свои. В такие минуты остается только онеметь или заикаться от удивления.
Но эти воры быстро вянут, ибо неоригинальны, вторичны и, главное, не могут продолжить мысль.
Язык же, как и оригинальное творчество – судьбоносен. Можно им манипулировать какое-то время, но все это облупливается, как бездарная штукатурка, под которой обнаруживается истинная колонна или арка.
Истинное в языке и творчестве в сущности своей архитектурно. Всякая фальшивая надстройка обрушивается.
Архетип – коллективное бессознательное – это знак.
Исход – глобальный знак иудейского этноса.
И на собственной индивидуальной судьбе я ощутил великое знаковое событие – Исход евреев из России в двадцатом веке.
Когда человек меняет место жизни, все остраняется, по выражению Виктора Шкловского. На этом изменении, как на разломе, обнажается мир и действующие в нем лица, возникают новые связи, соединения, слог и стиль, то есть все то, что переводится с латыни одним словом – «текстум» – текст.
Открывается истина, что текст, называемый романом, есть открытая словесная система. И она втягивает в себя все потоки – жизни, памяти, всего прочитанного, усваиваемого через цитату, образ, иронию, трагедию и даже запах.
Вспомним Пруста.
Только в этом контексте начинаешь понимать феномен структурной поэтики таких структурированных знаковых текстов, как Тора, Пророки и Летописи, возникших тысячелетия назад и покоривших весь мир. Даже по тиражу их не может догнать никакой иной текст. Речь идет о Библии.
Тогда, во второй половине семидесятых, я говорил в своем докладе о структурной поэтике, что философский или художественный текст – нечто большее, чем составляющие его части, как, положим, кристалл – нечто больше чем его первооснова – углерод. И преподаватели израильского университета, будучи в курсе последних новшеств мировой культуры, воспринимали это, как нечто элементарное, тривиальное, само собой разумеющееся. И это, – перешептывались они, – выдается, как последнее достижение мысли за «железным занавесом»?
На самом же деле, объяснил я, под этим поверхностным уровнем квазикультуры в страшные дни сталинского террора, а затем – в тухлой брежневской империи формировались яркие гуманитарные идеи и выдающиеся интеллекты уровня Бахтина и Лотмана, которые, вырвавшись в свободный мир, потрясли его.
Сейчас мы раскачиваемся на краю потока Истории, прорвавшего плотину. Смешались воды, хлынули идеи с Запада и из собственного исторического прошлого здесь, на Востоке. Но, в общем и целом, ничего уже нельзя изменить: научный и идеологический кризис захлестывает сегодня весь мир.
И все же единое духовное поле с периодическими провалами в пропасть звериного разгула масс, выносит эти провалы на своем хребте, возвращая дух на потерянные им высоты.
И еще одна тема, которую следует вынести из прошедшего века и расследовать в назидание следующим поколениям.
Тема эта – «Биология и власть».
Предстоит еще изучить шизофрению, лобовые инсульты, старческое слабоумие вождей, уровень мышления ефрейтора-недоучки Гитлера и сына сапожника-пьяницы Сталина, взлетевших на волне массового психоза. А они ведь возомнили себя создателями «человека будущего».
Прибавить к этому наследственные признаки – психозы Ленина, приведшие его к прогрессивному параличу, психозы впадавшего в экстаз Гитлера, короткую сухую ручку и сросшиеся пальцы на ноге – Сталина. И все это – при оказавшейся в их руках неограниченной власти. Над темой паранойи вождей, передающейся массе и направляющей нацию, над феноменом безумия власти я размышлял еще в ранние семидесятые годы. Над этими размышлениями эпиграфом витал анекдот: чем отличается шизофреник от неврастеника? Шизофреник знает, что дважды два – пять и он спокоен, он верит в светлое будущее. А неврастеник знает, что дважды два четыре, что светлое будущее – блеф, но это его страшно нервирует.
Всякое творчество есть покушение на прерогативы Бога. И если ты еще жив, и в полном сознании, и можешь достаточно быстро извлекать из памяти, как занозу, имена людей и название мест. Узнаешь себя и все вокруг тотчас после пробуждения даже в самом пустынном бесполом месте, лишенном вообще предметов, лишь по силуэту холма, очертанию дальнего дерева или повороту дороги, значит, Бог к тебе по-особому милостив. И пусть над этим смеются образованные дураки, столько на твоем веку и в твоем веке наломавшие дров, приведшие к истреблению миллионов людей, умрут они с отчаянной пустотой в глазах, в конечный миг силящихся увидеть Бога. Но увидят они лишь печальный укоризненный взгляд вечно торчащего перед ними Вечного жида.
Сейчас стало модным ругать информативный взрыв, захлестывающий человечество. Но информация есть спасение жизни, ее способность и залог вывернуться из любой гибельной ситуации и устоять под любым обвалом. Ведь лишь отсутствие информации у европейских евреев о чудовищных намерениях нацистов, помноженное на неверие и наивность души человеческой, привело к Катастрофе.
Эти мысли, как ни странно, возникали у меня на берегу солнечно безмолвствующего Средиземного моря, взывая к исповеди.
И я часами просиживал у кромки вод, избывая тоску бездарно прожитых лет, боль – от безнадежной рассудительности, неколебимой трезвости, скучной посредственности прошлого существования.
Только прекрасная пустыня моря медленно излечивала, втягивая в себя до такой степени, что, казалось, вот, обернусь, а там никакого города, Но надо было обладать пророческой верой Герцля, чтобы эта абсолютная фантазия обрела корни в реальности.
Через десятилетия проживания на этой земле, не отстает вопрос, не дающий душе пребывать в дреме. Может ли она обрести новое дыхание, приникая к пространным и престранным фрагментам неизвестных текстов, фрагментарность которых вызывает бурный прилив творческой энергии и острую тоску по полному тексту?
Хотя известно, что завершенных текстов не бывает: все они внезапно начинаются и также внезапно кончаются, и все великие книги это разомкнутые системы, рождающиеся, как Венера из пены морской, и исчезающие в ночи.
И земля эта – такой же незавершенный текст. Из любой ее точки, даже из самых ее скрученных и скученных переулков, виден простор и провалы в синеву бескрайней обители Бога, и тайно ощутимая тяга с высот словно бы очищает человеческие лица от всего земного и углубляет взгляд, обращенный в себя. Надо лишь сорвать с глаз пленку озлобленности, постепенно и терпеливо обрести долгое дыхание, и не принимать все заново приобретенное как прекраснодушие или заблуждение души, памятуя, куда завели человечество заблудшие души.
Профессор Бар-Иланского университета, блестяще читавший курс о книге "Зоар" сказал в беседе со мной:
«Вы говорите о понятиях западной науки – времени, скорости, материи. Но они явно недостаточны для построения всеобъемлющей картины мира. Психические переживания этих понятий, конечно, не исчезают. Но управлять космосом способны и другие категории, как, например, сефирот в кабалистическом строении мира, связанные с переживаниями иного рода. И функционируют они, по-видимому, ничуть не хуже тех, принятых на Западе. Ученые говорят, что знаковые системы существуют независимо от того, видел и видит их человек, или не видит. Другими словами, знаки, буквы существовали до сотворения мира людей. Были растворены в пространстве. Это уже сказано в Кабале, где Святой, благословенно имя Его, выбирает из построившихся к Нему в очередь 22 букв ивритского алфавита одну, чтобы создать на ней наш мир».
«Знаете, что удивительно, – сказал я, – русские символисты – Блок, Белый, – считали, что текст опережает реальность. Потому и была им близка еврейская мистика».
Покидаю берег.
Два мира, сливаясь в слуховых извилинах, несут мою голову на плоском блюде пространства – мир города, вращающего во всю все свои колеса, так, что слышен треск разрываемой ткани мировой жизни, и мир рыбаков на скалах, мир парусников, погруженных в тишину, очарованных далью.
И все лучшее в нас обращено в это очарованное самим собой пространство.
Лучшим определением этой вытянувшейся узкой полосой вдоль моря земли, да и завершением этого эссе, являются, пожалуй, слова, недавно написанные Амосом Озом, как известно, страдающим далеко не "детской болезнью левизны":
"Если смотреть сверху – не через объективы С.Н.Н., показывающие нас, как кучку поселенцев и солдат, – создали мы здесь некий новый состав: видишь на приморской низменности новый народ Средиземноморья, горячий, невротический, – не социалистический рай, не мечту Герцля, не еврейское местечко, но нечто необычное, своеобразное, неповторимое, стоящее крепко на собственных ногах".
Странник и его тень
Игры пространства.
Я покинул срединные европейские, ничем не отмеченные Богом, суглинистые земли. Это было скудное образами, правда, холмисто-зеленое пространство. Я переселился (точнее, взошел) на восточный берег Средиземноморья, откуда пошла вся мировая цивилизация. Это небольшое пространство, породило три мировые религии (Иерусалим), историю и философию (Афины), живопись и скульптуру (Рим). Это захватило дух – в прямом и переносном смысле – погруженной в животную, в лучшем случае, языческую спячку Евразии. Африка еще вообще обреталась в дреме, предшествующей существованию.
Это пространство играет во весь Божественный размах морем и сушей, пустыней и горами, то есть географией вкупе с духом – то есть философией, и жизнью масс, то есть историей. И все они вступают в поистине свободную игру, которую порождает свобода воли, несущая в себе столкновение и подавление. Запаздывающие свирепы.
Прекрасная Эллада была достаточно быстро сброшена с исторической арены, оставшись Атлантидой на дне морском и сонмом богов на вершине Олимпа. Иудаизм же, открывший единого Бога, создал подвижную систему, быстро нащупывающую все новое, перерабатываемое согласно своим законам, и потому жив. Это выводит из себя бессильно запаздывающие народы, которые обрушивают это свое бессилие на "выскочек". Но именно эти выскочки, "малый народ", не обладающий массой и потому не подавляемый ее слепой волей, был в достаточной степени одиноким, чтобы услышать голос Бога.
Черчилль сказал, что "сказкам" Священного Писания почему-то все верят, и лучше которых ничего не создано в подлунном мире.
Я покинул земли, где чудом остался в живых, ибо в годы моего младенчества там одна половина населения перерезала другую, а затем половина победителей по шею в крови опять поделилась пополам – на палачей и жертв. Я читал "Процесс" Франца Кафки, а тайком – "Приглашение на казнь" Владимира Набокова, "Тьму в полдень" Артура Кёстлера, прикасаясь к истинной реальности жертвы и палача в той патетической до патоки виртуальности, которая меня окружала возведенной в закон ложью.
Я был захвачен этой ложью в заложники, влюбленным в захвативших меня террористов, ибо воочию видел свою жизнь в их пальцах на спусковом крючке, понимая, что их ненависть и комплекс неполноценности – две стороны медали, которую можно, не задумываясь, выдать каждому антисемиту в мире.
В их ларчике можно было найти пусть неполные, но все же объяснения глобального характера: их смертельную ненависть к Западу, опередившему их во всем, а к евреям, как ядру этого Запада, особенно. Ведь именно они открыли теорию относительности, создали ядерное оружие по обе стороны конфронтации, бионику, компьютеры, лекарства. В мозгу этих ненавистников по сей день не умещается такое невероятное противоречие: горстку людей по мерке мира на пятачке земли невозможно стереть не только физически с лица земли, но из памяти мира и истории.
Здесь же мне снилась пустыня – целиком и в деталях – такой же, какой она была в реальности, звала из скученности бетона и суеты. И это ощущалось во мне тягой к собственной неразгаданной сущности. Это – как впервые видишь незнакомое существо в зеркале и вдруг понимаешь, что это ты. Так и это пространство примеривалось Богом к самому Себе, чтобы раскрыться всей глубиной своих зрительных, голосовых, словесных метафор.
Воистину феномен "малого народа", который три тысячи лет назад поставил на Слово, как на карту, свое существование, по сей день не дает покоя человечеству. Мы эфемерны, подобно тростнику, колеблемому всеми ветрами, но тростник этот – мыслящий. Разве не на эфемерном, казалось бы, исчезающем на ветру человеке построено все грандиозное здание еврейского Бытия, жизни в тысячелетиях?
Так я распинался на миру да еще был горазд на анекдоты, но судьба была ко мне благосклонна, несмотря на бесшабашность молодости среди всеобщего стукачества. А ведь жили мы в тесном мирке, подступающем гибелью вплотную к каждому, ощущение которой делало порой жизнь невыносимой до удушья. Спасала мысль: переживу этот миг и жить мне долго.
Искривление пространства.
Однажды спасение пришло, когда я впервые вник в общую теорию относительности Эйнштейна, в поразительное доказательство тяготения пространства. Потрясла меня внезапно возникшая мысль, что подобно тяготению пространства есть тяготение души, а нередко душа сама себе в тягость, и нельзя оттягивать час ее выздоровления.
Искривление пространства держит, как скрепы, это пространство, искривление души уничтожает душу.
Судьбой мне был дан опыт познания бесконечных беспробудных, можно сказать, мертвых пространств, в течение тысячелетий не породивших ничего великого, кроме дичи, великой скуки и тоски, выливающихся лишь в кровавые бойни и тянущиеся вдоль железнодорожной колеи – живые кладбища лагерей ГУЛАГа. Это была единственная слабо пульсирующая артерия через тысячекилометровые пространства тайги, поезд Москва-Хабаровск, в котором я ехал в геологическую экспедицию, ведущую поиски и картирование Забайкалья по заданию Московского института геологии (ГИНа).
Это был знаменательный 1956-й год.
Только мы отъехали в усиливающуюся жару июньского дня от Москвы до самых до окраин, как я уже по горло был сыт костью, брошенной мне пространством. Лишенное всякой игривости, оно заталкивало меня в тошнотворный закуток полки. Она была сродни собачьей конуре, хотя изо всех сил я пытался представить себя неким подобием перекати-поля, прохваченного ветром дальних странствий.
Поезд, казалось, бессильно буксовал в жажде отбросить назад по ходу пространство, которое упорно проворачивалось на вертикальной оси этого дня, подобно огромному запущенному навечно волчку в абсолютно запущенном неухоженном мире.
Пассажиры, сидящие подо мной, молчаливо и угрожающе шелестели газетами, начиненными взрывчаткой такой силы, что она в любой миг могла взорваться ссорой, а то и дракой, необъяснимой дружбой и неоправданной враждой. Открытым текстом во всех газетах печаталось постановление "О преодолении культа личности и его последствий". В эпоху поголовной грамотности каждый на виду у всех проглатывал этот пылающий, обдающий смрадом факел, становясь факиром на час.
Можно было, конечно, принимать все, как есть, можно было лицемерить, колеблясь вместе с линией партии, вдрызг проигравшей партию в игре на человеческую жизнь, вместе со всем этим поездом, со скрипом идущим в завтра, но если уж отрицать – надо было всё до последнего пункта. В этом отрицании все четко связывалось, выстраивалось, и получалось, что как ни верти перед собой факты, как ни выкручивайся, – налицо была невероятная историческая Катастрофа, под стать по размаху этому бескрайнему гибельному пространству. Унесла она десятки миллионов безвинных душ. И если Дьявол задумал сократить народонаселение мира, то весьма удачно выпестовал двух своих учеников с усиками. Только у одного был лихой разбойничий чубчик, а у другого – благородный зачес ото лба к затылку.
Надо же было, чтобы событие захватило в пути, когда пространство твоего проживания трясет, швыряет со стороны в сторону с металлическим скрежетом и звоном то ли сцеплений, то ли цепей. Трясло, как в эпилептическом припадке, весь этот слепой и глухой простор, и через всю – в одиннадцать тысяч километров – евразийскую махину шли трещины.
Дьявол по народному поверью является строителем мостов. По ним, чёртовым, поезд летел через Волгу, Оку, Каму в надвигающуюся по всему окоему Сибирь, втягивающую в свою гибель и забвение.
Событие заставало всех и каждого по-разному: в страхе, в запоздалой радости, в оглядке, в неверии. Успокаивал лишь вливающийся в окна солнечный свет, приклонивший голову на лесных полянах. Но время от времени мелькали пыльные городки с непременным архитектурным набором – заброшенной церковью без креста и еще не сброшенными с каменных пьедесталов каменными истуканами развенчанного вождя. От его, знакомой до тошноты, посконной фигуры в суконной шинели, и такой окутывающей их мистически тяжкой тоски можно было лишь спастись, залив горло спиртом, пустить кровь в драке и поножовщине, чтобы не подавиться бесконечно наплывающим и не пережевываемым пространством. А оно крепко держало в своих тисках поезд, который рвался вдаль, надеясь выскочить из этих тисков, свистя с петушиной лихостью, но скука в этих краях без края была обложной и бесконечной.
Встречные рвал воздух с треском и сиреной, которая глохла, задушенная скоростью и пространством. Тысячекилометровая растянутость пространства все более ослабляла душевные связи. Я нырял в сон, проглатывающий за ночь сотни километров, "засыпал" пространство, спал, как птица на ветке, держась пальцами за край полки.
Кувшинное рыло власти.
Просыпаюсь от взрыва пьяных голосов, ревущих песню "Бежал бродяга с Сахалина". Странные какие-то алкаши. Если они после отсидки, то не в ту сторону едут, правда, блатные песни поют.
А за окном все те же леса да леса. Изредка, вдалеке – знакомые силуэты вышек – колокольни острожного мира. Из осторожных негромких разговоров подо мной понимаю, что освобожденные из лагерей зеки едут на запад. И каждого выпускают отдельно и в другое время. Их можно узнать по пепельным изможденным лицам, вздрагивающим от каждого крика, принимаемого ими за окрик.
Заглядываю к проводнице Марусе. Трясется мелкой дрожью: "Вот горе. Надо же, в мой вагон да по мою душу – пьянчуги: начальнички лагерные да шестерки их, помощнички сучьи". – Откуда они. – С какого совещания. – Так может, с горя пьют? Из-за постановления. О культе.
Маруся смотрит на меня расширенными от испуга глазами, вдруг начинает судорожно смеяться: "Ты что, совсем чокнулся? Ну и пассажиры, скажу я вам. Ну и рейсик, одни чокнутые да контуженные".
Под пьяные хоры опять взбираюсь на хоры – осточертевшую мою полку. Лежу на животе, уныло уставившись в эти глухие и пустынные, как кладбища, пространства, которым единственно по плечу – скрывать чудовищные по размаху преступления. И кажется, каждое дерево – надгробье, а длящаяся вдоль полотна бесконечная лесная опушка – край уходящих в даль и тьму омутов легендарно жуткого Государственного управления лагерей, позднее названного Солженицыным "Архипелагом ГУЛАГ".
Памятник всем жертвам ГУЛАГа.
Алкаши в песнях уже добираются до Байкала, священного моря. Вспоминаю описанный Герценом в "Былом и думах" памятник Торвальдсена в дикой скале у Люцерна. Умирающий лев с обломком стрелы, торчащей из раны, – во впадине, задвинутой горами и лесом. Прохожие, проезжающие и не догадываются, что вот, совсем рядом умирает лев. Но разница весьма существенна. Прохожие и проезжие здесь не просто догадываются, а знают о гибнущем рядом многомиллионном льве, но делают вид, что не знают, в душе радуясь, что все это надежно скрыто от глаза горами и тайгой.
Иногда кто-либо из "хористов", хватаясь за стенки вагона с профессиональной ловкостью вертухаев несет себя в туалет. Истинную сущность его лица могло бы раскрыть сферическое зеркало, подобное новогодним шарам, превращающее его в кувшинное рыло власти, за которым – темное существование, растление, запой и забой человеческих жизней. Уши прихлебателей-шестерок, вихляющих между начальством, движутся от бесконечного жевания, как на шарнирах. Эта шушера бегает на остановках, чего– то выносит, приносит. Кто они, стражники, волокущая снедь ВОХРа, военизированная охрана, стукачье, человеческое отребье, несущее вареную требуху начальству на закуску? Смесь похотливости и страха выделяет их личины, все время как бы выскальзывающие из-за начальнической спины или лапы. А начальники что? Вседозволенность в сочетании с бескрайней глухоманью, сжимающей горло немотой, вытачивает эти хари, их сиплое рявканье вместо нормального человеческого разговора, когда редкие слова тонут в матерщине, гоготе, чавканье и гавканье.
И "Постановление…" кажется потайным, пусть и подпорченным, зеркалом, с которого сорвали покрывало, – и вся эта свора ощутила себя на виду у всех – с клыками, хвостами, неисчерпаемым запасом свирепости.
И великая природа, которую они забили бетоном, колючей проволокой, карцерами, голодом и издевательствами, внезапно и во всей мощи обнаружилась вокруг и поверх – в размах земли и неба, которых в этих краях с лихвой, как и горя. Она текла за окнами вогнутой чашей, щетинящимся бесконечной тайгой сферическим пространством, возникая с востока, искривляясь и пропадая на западе, пространством, повязанным в одно лесами, реками, холмами и долинами, и абсолютно не связанным с этой оравой хищников, отторгаемой от его интимного бытия. Или само оно породило эту свору и тем унизило себя под стать веку.
Вывихнутые суставы времени.
Искривленность этого огромного пространства (общая теория относительности Эйнштейна духом Божьим витала над этой бескрайностью) выражала саму сущность обтекающего нас времени, искривленного человеческой жестокостью и массовым психозом адских экзекуций. Времени этому вывихнули суставы, добиваясь признания их экзекуторского права настоять на своем. По сути же, палачи вывихнули суставы себе. И было далеко неясно, пройдет ли безболезненно первое пробуждение после адского наркоза нашатырным спиртом "постановления".
А поезд, не уставая и трубя, врезался во тьму, и летели ему навстречу природа, обложная ложь, прикидывающаяся историей, реальная мертвая глушь. Радио не переставало трубить об Ангарской ГЭС, об Иркутском искусственном море, и чудилось, апокалиптический рог трубит о новом потопе, и воды зальют новую Атлантиду.
А вдоль вагона с непоколебимо-холодной твердостью, сталинскими усами в форменной фуражке двигался контролер. Даже свора присмирела перед этим представителем власти, неумирающей частичкой Усача, чью мертвую личину я видел всего лишь несколько дней назад в Мавзолее, самодержавного в течение стольких лет продавца билетов в одну сторону – на тот свет.
За окном, среди лесной глуши, мелькали волчьи глаза редкого освещения, падающего на кощунственный памятник над могилой миллионов жертв. Вождь не только уничтожал их физически, но лишал их последней человеческой памяти, после их гибели ставя на их могилу собственный памятник. Застолблена была им не память великой эры, а сокрыта многомиллионная братская могила. Стоило его скинуть, как тяжкое облако вырвалось на свободу, растеклось над землей, отравляя все живое. Миллионы безвинных полузабытых душ и лиц (ведь оставшиеся на свободе родственники со страху уничтожали фотографии репрессированных) слабели в памяти живых и близких виноватой улыбкой, беззащитной слезой, полуоборотом, последним объятием. Они мучили близких своим отсутствующим присутствием.
Мертвые предпочитали добираться до родных мест илом рек, ночными ветрами, а днем прятались по лесам, за изгибами дорог и холмов.
Вся страна сдвинулась с места.
Шел Исход. Великое переселение душ.
Шло оно, это великое переселение, с востока на запад, – именно душ, ибо тела уже слились с вечной мерзлотой Сибири. Вскрывались бескрайние пласты живой боли. Души добирались до своих родных мест перед тем, как вознестись в небо. И бескрайние эти пространства были под стать этому переселению.
Исход евреев из Египта остается единственным живым Исходом.
Тут же был мертвый Исход, тоже после сорока лет (1917–1956). Но не странствий по Синайской пустыне, а рабства. И не было земли Обетованной.
Исход был не из чужой земли, не из-под чужих угнетателей, а от своих же сатрапов и палачей.
Лежал я на полке и думал о том, кем должен быть тот, кто опишет эти мрачные бездны. Угрюмый ли аскет, провидящий кошмары надвигающегося возмездия, подобно Савонароле (Солженицын еще прозябал в безвестности)? Ученый ли, сжигаемый гуманизмом за грехи свои (уже носились слухи о Сахарове)? Гениальный ли циник и насмешник Франсуа-Пантагрюэль-Рабле? Дон-Кихот ли, несмотря длящееся сотни лет разочарование, пытающийся опять сразиться с винными бурдюками и ветряными мельницами? Только на фоне этого свихнувшегося от жестокости и гибели пространства внезапно обнаруживалась гениальная глубина этих образов, данных мне в книжном ощущении и оживших здесь с галлюцинирующей реальностью.
Глядя в ночь, в эти не породившие даже искры гениальности пространства, я старался припомнить галерею картин Рима, развешанных по стенам Киевского вокзала в Москве. Это была реклама, приглашающая посетить Вечный город. Несколько дней назад я крутился на этом вокзале, с грустью понимая, что мне-то туда путь заказан.
Потрясала плотность Истории в стоящих почти вплотную друг к другу соборах и дворцах, словно нехотя оставляющих узкие, подобные теснинам, улочки между собой. И они с отчуждением и пренебрежением принимали ползущие массы букашек, называемых людьми, которые привычно и свободно, принимая это как должное, посещали эти места, когда им заблагорассудится.
Я пытался себе представить, как ведут себя "наши", вырвавшись из многолетних депрессивных – не пространств, а тисков – с вечным комплексом быть подслушанным, преследуемым, посаженным. Даже вырвавшись на свободу, как после кессонной болезни, они продолжают нести в себе все эти комплексы, и потому мгновенно различаешь "своих".
Попавшие в разряд "счастливчиков" выпущенных не из простого, а социалистического лагеря, бегут они за гидом, теряя дыхание, боясь отстать, хотя бы на миг остаться наедине, ибо, согласно инструкции, их тут же начнут вербовать.
Я спустился с полки. В коридоре вагона было пусто, все спали. Я пристроился на откидном сиденье и стал на клочке бумаги записывать строки прыгающими буквами, ибо поезд шел на большой скорости.
Время ора незримо Вторгается Орами в сны. Я на Форуме Рима. Развалины мира тесны. В жаркой полости полдня, Меж мертвых творцов и торцов, Нас полонит и полнит Щебенка колонн и дворцов. Замечаю резонно, К удивлению наших друзей: "Вкруг осколка колонны Сотворить можно целый музей В тех гнетущих просторах, Где впадаешь от пустоши в транс, В цепенеющий морок Заснеженных скифских пространств". Наказанье – Казанью, Читой причитаемый грай. Свернут в клетке сознанья Запуганной юности край. Обью баржу качает Острожный застуженный сон. И отчаянно чает Молчание вырваться в стон. Вот – Сибирь – частью мира, В бескрайность распахнутый свет — Но для завязи мифа Ни лона, ни семени нет.Побег в райские эмпиреи.
Ночь несет меня в безвестность, перестукивая колесами на стыках рельс. В бесконечной волчьей темени слепящим отверстием стынет луна, подобно жерлу тоннеля сквозь чернокаменную стену неба в иной лунатически-прекрасный райский мир. Темные облака, разбросанные на разных высотах, кажутся крыльями Ангелов, уносящих безвинные души погибших через этот тоннель в лунное забвение, в запоздалый побег. Это, наконец, осуществление многолетних фантазий арестантов – пролом в стене, и не просто в иную гибель, в таежную глушь, а в райские эмпиреи.
Вспоминаю первую строфу из стихотворения Мандельштама столь подходящую к окружающему меня пространству – "Да, я лежу в земле, губами шевеля,// И то, что я скажу, заучит каждый школьник:// На Красной площади всего круглей земля// И скат ее твердеет добровольный". Какая чудовищная ирония заложена в слове – "добровольный". Стихотворение, столь непривычное для поэта, рождено борьбой между отчаянной честностью его души с не менее отчаянным желанием жить.
Но на Красной площади продолжает властвовать "век-волкодав", бросавшийся Мандельштаму на плечи, умопомрачительная эпоха тюрьмозаключений, золотой век непрерывно прогрессирующей науки тюрьмостроения.
Тюрьмодинамика.
По площади идут Демонстры. Монстры же черной стаей хохлятся на мавзолее, над разлагающимся трупом своего набальзимированного учителя. Медленное кровообращение проталкивает в них инфантильную мысль. Мировое силовое поле человечества вздымается гибельной воронкой с горбящейся брусчатки дыбящейся Кремлем площади.
Я это понимал, ощущал, я был из молодых да ранний.
Я был траченный, я боялся этого вцепившегося в душу знания.
Я рад был вскочить в этот поезд, уносящий меня от Москвы.
Алкаши храпели, сипели, отрыгивали во сне. Выжигаемые изнутри спиртом, обжорством, скудоумием, они ворочались на полках, и вправду похожих на ниши в аду.
Стояла полночь. В Москве же часы отстукивали семь вечера. Москва, как паучиха, соткавшая паутину над одной шестой планеты, доносилась голосом Левитана, сидящим, по сути, в небольшой комнатке вещания. И все эти огромные пространства охватывал и сжимал властвующий обман, волчья болезнь этих пространств, ложный круп, открытый Маркони, но приписанный Попову, – феномен радио. И в фосфоресцирующих глазах зверья в таежных дебрях поезд проносился Летучим Голландцем среди мертвых зыбей Сибири.
Вскочил посреди ночи со сна с колотящимся сердцем, пытаясь понять, куда это нас несет – неискушенных, всезнающих, жертв, палачей – несет и несет вот уже пятые сутки подряд? Или мы стоим на месте, только колеса вертятся вхолостую, а вагоны уже охвачены корнями и ветвями глухой тайги, проросли плесенью и гнилью, и запах тлена, раньше уносимый движением и ветром, в этом оцепенении отравил весь воздух.
Странник и его тень.
Я ощущаю себя странником и его тенью из книги Ницше «Так сказал Заратустра», которую, с ятями, будучи еще учеником провинциальной школы в бывшей Бессарабии, а нынче – Молдавии, в один присест прочел в каптерке букинистического магазина под присмотром старика-еврея, подслеповатого букиниста.
Тень моего времени, словно наручниками, пристегнута ко мне, пустившемуся в первое такое дальнее странствие. Временами тень слегка отступает под светом возникающей из-за облаков луны, присовокупляя ко мне зеленые лица людей, спящих вповалку. Лунный свет выхватывает, как в сюрреалистическом полотне, то голову невероятной формы, то руку, то ягодицу, обрисованную ветхим, видавшим виды домотканым одеялом. Все охвачены неестественным напряжением, словно страх не оставляет эти тела даже во сне. Вид отдельных частей тела рождает мысли о расчленении, дисгармонии, смерти. Тяжкое время наложило след на лица – шрамы, складки обветшавшей кожи. Никогда раньше я не ощущал себя в окружении такой массы лиц, такого завала мешков, бутылок, чемоданов, грубой одежды. Кажется, огромный поток живых людей, увешанных мертвыми предметами, тянущими их к земле, вообще потерял ориентир в этих косо и во все стороны разбегающихся дремучих пространствах. В безумном страхе непонимания, где она находится и куда ей податься, толпа рвется к поезду, все же в этом хаосе идущему в определенном направлении по твердым куда-то проложенным железным шпалам. Часто кто-то спохватывается, не туда едет, не на то направление сел, а оно ведь одно – либо на запад, либо на восток. Человек теряет над собой контроль, хватает и роняет вещи, путается у всех под ногами, пока не исчезает на первой по ходу станции, чтобы ждать не весть сколько встречного поезда.
За Тюменью говорили о лесоповале. Приближаясь к Томску – о голодной зиме и диких морозах. Дает себя знать собачий сибирский холод, не способствующий работе мозга. Он лишь способен заморозить разум.
Проплывшие вдали красные каменные столбы Красноярска не могут дикой своей красотой заглушить ощущение тревоги. Угольно-черное Черемхово тоскливо давит своими терриконами, напоминающими египетские пирамиды, только сожженные дочерна.
С приближением к Байкалу становится сквозней и синей. Орава не опохмелившихся алкашей-экзекуторов схлынула где-то ночью, да и сгинула в бескрайних этих омутах. Справа бесконечным покоем, голубой студеной синью начинается Байкал. Свежесть и мягкость воздуха, кажется, несет поезд на подушках, вносит мягкость в человеческие лица. Вносят на станциях свежего омуля. Москвичи достают припрятанную водку, чистую, как слеза. Звонкое эхо, по-мальчишески свесив ноги с крыш вагонов, начинает передразнивать пыхтящий поезд. А он не сердится и с удовольствием ввязывается в эту игру с пространством, как бы пытаясь доказать пассажирам, что вот же, не зря он был неутомим в своих усилиях, все же вырвался из чертовой обложной глуши, и оба – эхо и поезд – начинают играть в догонялки да прятки. Эхо резвее, прыгает по горам, легким мячиком отлетает от крыш вагонов в миг, когда поезд ныряет в очередной тоннель, и в дразнящем нетерпении ожидает его при выходе из тоннеля.
Дни пойдут чередой в походах в горы и ущелья, в собирании образцов, в отбивании ладоней геологическим молотком. И каждый раз, возвращаясь на базу, замираешь над озером. Удивительный по яркости красок и холоду пламени неверный свет заката разлит над сопками, долинами, байкальскими водами. Скорее даже не свет, а неслышный вечерний звон. Это чудится звуками лютни, льющейся с высот. И в этом призрачном, захватывающем дух водопаде печально и отрешенно стоят горы, деревья, домики, лодки, зачарованно прикованные взглядом к медленному малиновому закату.
Шарм-а-Шейх.
Я вернусь в Москву. Тысяча девятьсот пятьдесят шестой год еще выкинет свои штучки. Давно и начисто лишенные бдительности, москвичи будут дневать и ночевать в очередях. И это даст возможность поддержки нового шута, возникшего на арене с его непристойной для русского уха фамилией – Насер, закрывшего Суэцкий канал.
И год в ноябре вместе с путанным венгерским восстанием с ходу влетит в Синайскую кампанию. Было ясно, тектоническая трещина проходит по линии Будапешт – Синай. Набитая серой взрывоопасной скукой, советская пресса втянет в свою трясину Имре Надя вкупе с Матиасом Ракоши и Яношем Кадаром. В газете "Правда" появится воззвание, клеймящее агрессию Израиля, подписанное тридцатью двумя моими соплеменниками, включая дряхлого циничного волка Заславского и писателя Натана Рыбака, взахлеб воспевшего легендарного погромщика Богдана Хмельницкого, который занялся всерьез решением еврейского вопроса.
И на краю тектонической трещины забалансируют новые имена – Бен-Гурион, Ги Молле и Энтони Иден. Но все это будет далеко, и в память врежутся лишь имена двух синайских мест – Абу-Агейла и Шарм-а-Шейх.
Тогда я и представить не мог, что через двадцать пять лет, в 1981, призванный в Армию обороны Израиля, как резервист, я окажусь в этом самом Шарм-а-Шейхе, и вспомню дни Шестидневной войны, пережитые в бывшем недружелюбном отечестве, и песню, транслировавшуюся по "Голосу Израиля: "О, Шарм-а-Шейх, мы снова вернулись к тебе".
Теперь же остаются считанные месяцы до того, как начнут эти земли отдавать Египту.
Заезжаем в Ди-Захав, место стоянки колен Израиля, ведомых Моисеем. Полно купающихся, палаток, автомашин, детишек, взъерошенных финиковых пальм. Среди рычащих автомашин – первобытный рев тоскующего по дальним странствиям верблюда, покрытого домотканым цветным ковром. Мальчик бедуин катает на нем детишек, а то и взрослых за плату. Верблюд печальным взглядом смотрит вдаль, словно еще видит пыль за уходящим в тысячелетия караваном собратьев, вместе с седоками, ношей и погонщиками, погружающимися вглубь легенды, которая стелется скудным путем в лучезарно ослепительную за горами землю Обетованную. А его бросили на растерзание времени, оставили здесь, и вот до чего докатился.
Купаемся.
Ныряем к неглубоким коралловым рифам: задерживаем дыхание, как задерживают его перед чудом.
Весь Синай это – чудо.
В неверном свете солнца, клонящегося к закату, за странниками тянутся их узкие удлиняющиеся тени, встают угловатые пики гор, лунный пейзаж.
Миражи Синая – с ними труднее расстаться, чем с реальностью. Они вечны, как самый корень человеческой души, жаждущей свободы и приобщения к небу.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


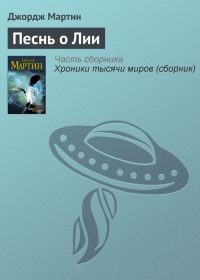
Комментарии к книге «Ядро иудейства», Эфраим Ицхокович Баух
Всего 0 комментариев