Александр Городницкий Стихи и песни
© Городницкий А.М., 2016
© ООО «Издательство «Яуза», 2016
© ООО «Издательство «Якорь», 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», 2016
Атланты держат небо (1958–1969)
Снег (песня)
Тихо по веткам шуршит снегопад, Сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, Что вспоминается мне? Неба далекого просинь, Давние письма домой… В царстве чахоточных сосен Быстро сменяется осень Долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, Снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег Тихо на тундру ложится, По берегам замерзающих рек Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной Вьется веселый снежок, Вспыхнет в ресницах звездой озорной, Ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней Кос твоих светлую прядь, И над бульварами Линий По-ленинградскому синий Вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, Снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег… Что тебе, милая, снится? Над тишиной замерзающих рек Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? — Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, Наших стоянок огни. Вплавь и пешком – как придется, — Песня к тебе доберется Даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, Снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег… Пусть тебе нынче приснится Залитый солнцем вокзальный перрон Завтрашних дней. 1958, ЛенинградПесня полярных летчиков (песня)
Кожаные куртки, брошенные в угол, Тряпкой занавешенное низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, В маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, Голову рукою подопрет второй пилот, Подтянувши струны старенькой гитары, Следом бортмеханик им тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, — Наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, Снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, Наша жизнь – мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, Ты, метеослужба, нам счастья нагадай! Солнце незакатное и теплый ветер с веста, И штурвал послушный в стосковавшихся руках… Ждите нас, не встреченные школьницы-невесты, В маленьких асфальтовых южных городках! 1959, ТуруханскПесня болотных геологов (песня)
А женам надоели расставания, Их личики морщинками идут. Короткие вокзальные свидания Когда-нибудь в могилу их сведут. А я иду, доверчивый влюбленный, Подальше от сервантов и корыт, И, как всегда, болот огонь зеленый Мне говорит, что путь открыт. А женам надоели годовщины И частых провожаний маета. Подстриженные «бобриком» мужчины Уводят их туда, где суета. А я иду, обманом закаленный, Брезентом от случайностей прикрыт, И, как всегда, болот огонь зеленый Мне говорит, что путь открыт. Шагаем мы сквозь лиственное пламя, Нас песнями приветствует страна. Взрастают под чужими именами Посеянные нами семена. А я иду, совсем не утомленный, Лет двадцати, не более, на вид, И, как всегда, болот огонь зеленый Мне говорит, что путь открыт. 1959Деревянные города (песня)
Укрыта льдом зеленая вода, Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, Висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова, нарубленные впрок, Здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, И стали мне докучливы и странны Моих товарищей нездешних голоса, Их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре – еще весна, Плывет цветов замысловатый запах, Но мне ни разу не привидится во снах Туманный Запад, неверный дальний Запад. Никто меня не вспоминает там, Моей вдове совсем другое снится… А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половицы. 1959Про Дядьку
Памяти моего неродного дяди А. П. Серегина
Полковник на снимок: «Дайте-ка! Давно – не узнаешь с ходу». Выходит, он помнит дядьку По тридцать давнему году. Выходит, он помнит ясно, А тетка, видно, забыла — Шлем со звездою красной Среди тряпья сохранила. А я вспоминаю Киев И запах печеного хлеба, Две сильных руки мужские, Меня поднявшие в небо. Я день вспоминаю жаркий, Загаром согретые лица. А он, говорят, служака, А он, говорят, тупица. Казарменным запахом жестким Был он насквозь пронизан — От стен, беленых известкой, От тухлой капусты снизу. Такие шли на аресты, Не вздрагивали при стоне. А дядька погиб под Брестом С пустым наганом в ладони. Узлами корней скрутило Поляну, где умирал он. В отдельных своих квартирах Спиваются генералы. Сокурсники, сополчане, Хранители ротных фактов — Пускай бы они молчали До скорых своих инфарктов! 1959Принцесса береника (песня)
Лидии Карасиной
У леса не черника, А мох растет. Принцесса Береника На Охте живет. Покрыты там обочины Быльем-травой. Мы очень озабочены Ее судьбой. В двухкомнатной квартире Живет она, К автобусу «четыре» Идет одна, И каблучок резиновый — Весь след ее, Плывет дымок бензиновый — И нет ее. А путь без песен труден нам, Как ни скрывай. На улице полуденной Звенит трамвай. И я к своей указанной Судьбе привык, И нету в мире сказок — И Береник. 1960За белым металлом (песня)
Памяти геолога Станислава Погребицкого, погибшего в 1960 году на реке Северной
В промозглой мгле – ледоход, ледолом. По мерзлой земле мы идем за теплом: За белым металлом, за синим углем, За синим углем да за длинным рублем. И карт не мусолить, и ночи без сна. По нашей буссоли приходит весна. И каша без соли пуста и постна, И наша совесть – чиста и честна. Ровесник плывет рыбакам в невода, Ровесника гонит под камни вода. А письма идут неизвестно куда, А в доме, где ждут, неуместна беда. И если тебе не пишу я с пути, Не слишком, родная, об этом грусти: На кой тебе черт получать от меня Обманные вести вчерашнего дня? В промозглой мгле – ледоход, ледолом. По мерзлой земле мы идем за теплом: За белым металлом, за синим углем, За синим углем – не за длинным рублем! 1960, река Северная, Туруханский крайПерекаты (песня)
Памяти геолога Станислава Погребицкого, погибшего в 1960 году на реке Северной
Всё перекаты да перекаты — Послать бы их по адресу! На это место уж нету карты, — Плыву вперед по абрису. А где-то бабы живут на свете, Друзья сидят за водкою… Владеют камни, владеет ветер Моей дырявой лодкою. К большой реке я наутро выйду, Наутро лето кончится, И подавать я не должен виду, Что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, — Не стоит долго мучиться: Люблю тебя я до поворота, А дальше – как получится. Всё перекаты да перекаты — Послать бы их по адресу! На это место уж нету карты, — Плыву вперед по абрису. 1960, ЛенинградНа материк (песня)
От злой тоски не матерись, — Сегодня ты без спирта пьян: На материк, на материк Идет последний караван. Опять пурга, опять зима Придет, метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума Теперь уж поздно для меня. Здесь невеселые дела, Здесь дышат горы горячо, А память давняя легла Зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля Не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, А камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, — Сегодня ты без спирта пьян: На материк, на материк Ушел последний караван. 1960, ЛенинградВ Уэльсе (песня)
В Уэльсе теплые дожди По крышам шелестят. Подруга, ты меня не жди, Я не вернусь назад. Стакан зажат в моей руке, Изломан песней рот, — Мы в придорожном кабачке Встречаем Новый год. Мой нос багров, я пить здоров, И ты меня не тронь. Под бубна рев по связке дров Пустился в пляс огонь. Мы собрались здесь налегке, Без горя и забот, Мы в придорожном кабачке Встречаем Новый год. Кругом туманные поля, Шумят кругом друзья. Моя ячменная земля, С тобою счастлив я! Стакан зажат в моей руке, Изломан песней рот, — Мы в придорожном кабачке Встречаем Новый год. 1961Брусника (песня)
Ты мне письмо прислать рискни-ка, Хоть это все, конечно, зря. Над поздней ягодой брусникой Горит холодная заря. Опять река несет туманы, Опять в тепло уходит зверь. Ах, наши давние обманы, Вы стали правдою теперь. Меня ты век любить смогла бы, И мне бы век любить еще, Но держит осень красной лапой Меня за мокрое плечо. И под гусиным долгим криком, Листвою ржавою соря, Над поздней ягодой брусникой Горит холодная заря. 1962, ИгаркаАх, не ревнуй (песня)
Ах, не ревнуй меня к девке зеленой, А ты ревнуй меня к воде соленой. Ах, не ревнуй меня к вдове дебелой, А ты ревнуй меня к пене белой. Закачает вода, завертит, Все изменит в моей судьбе, Зацелует вода до смерти, Не отпустит меня к тебе. Ах, не ревнуй меня к ласке дочерней, А ты ревнуй меня к звезде вечерней. Ах, не ревнуй меня к соседке Райке, А ты ревнуй меня к серой чайке. Только чайка крылом поманит — И уйду от любви твоей, Пусть сегодня она обманет — Завтра снова поверю ей. Ах, не ревнуй меня к глазам лукавым, А ты ревнуй меня к придонным травам. Ах, не ревнуй меня к груди налитой, А ты ревнуй меня к песне забытой. Мне бы вовсе ее не слушать, Как услышу – дышать невмочь, Снова песня источит душу И из дома погонит прочь. Ах, не ревнуй меня к девке зеленой, А ты ревнуй меня к воде соленой. Ах, не ревнуй меня к вдове дебелой, А ты ревнуй меня к пене белой. Закачает вода, завертит, Все изменит в моей судьбе, Зацелует вода до смерти, Не отпустит меня к тебе. 1962, парусник «Крузенштерн»Чистые пруды (песня)
Анне Наль
Все, что будет со мной, знаю я наперед, Не ищу я себе провожатых. А на Чистых прудах лебедь белый плывет, Отвлекая вагоновожатых. На бульварных скамейках галдит малышня, На бульварных скамейках – разлуки. Ты забудь про меня, ты забудь про меня, Не заламывай тонкие руки. Я смеюсь пузырем на осеннем дожде, Надо мной – городское движенье. Все круги по воде, все круги по воде Разгоняют мое отраженье. Все, чем стал я на этой земле знаменит, — Темень губ твоих, горестно сжатых… А на Чистых прудах лед коньками звенит, Отвлекая вагоновожатых. 1962, река Сухариха, Туруханский крайОсенняя песня (песня)
И снова закаты мглисты, И пахнет сырой золой, Ковры-самолеты листьев Над синей скользят землей. И низко туманы влажные Плывут вослед, — Ведь вовсе не так уж важно, Что крыльев нет. Сигналит гусь утомленный, Словно такси во мгле, Звезды огонек зеленый Дрожит на его крыле. И низко туманы влажные Плывут вослед, — Ведь вовсе не так уж важно, Что крыльев нет. И если усну теперь я, — Не твой я уже, не твой: Усталое пенье перьев Я слышу над головой. И низко туманы влажные Плывут вослед, — Ведь вовсе не так уж важно, Что крыльев нет. 1962Английский канал (песня)
Анне Наль
Над Английским каналом огни, Над Английским каналом туманы. Ах, зачем до тебя всё считаю я дни, — Наши встречи редки и обманны. Снова чайка кружится, трубя, Над негромкой вечерней волною. Ах, зачем, ах, зачем так люблю я тебя, Когда нет тебя рядом со мною? Цвет на серый меняет вода, И становятся звезды на место. Ах, зачем ты судьбой одинокой горда — Не жена, не вдова, не невеста? А над Английским каналом огни, Над Английским каналом туманы. Ах, зачем мы с тобой в целом мире одни, Ах, зачем мы с тобой постоянны? 1962Черный хлеб (песня)
Михаилу Иванову
Я, таежной глушью заверченный, От метелей совсем ослеп. Недоверчиво, недоверчиво Я гляжу на черный хлеб. От его от высохшей корочки Нескупая дрожит ладонь. Разжигает огонь костерчики, Поджигает пожар огонь. Ты кусок в роток не тяни, браток, Ты сперва погляди вокруг: Может тот кусок для тебя сберег И не съел голодный друг. Ты на части хлеб аккуратно режь: Человек – что в ночи овраг. Может тот кусок, что ты сам не съешь, Съест и станет сильным враг. Снова путь неясен нам с вечера, Снова утром буран свиреп. Недоверчиво, недоверчиво Я гляжу на черный хлеб. 1962Пиратская (песня)
Пират, забудь о стороне родной, Когда сигнал «К атаке!» донесется. Поскрипывают мачты над волной, На пенных гребнях вспыхивает солнце. Земная неизвестна нам тоска Под флагом со скрещенными костями, И никогда мы не умрем, пока Качаются светила над снастями! Дрожите, лиссабонские купцы, Свои жиры студеные трясите, Дрожите, королевские дворцы И скаредное лондонское Сити, — На шумный праздник пушек и клинка Мы явимся незваными гостями, И никогда мы не умрем, пока Качаются светила над снастями! Вьет вымпела попутный ветерок. Назло врагам живем мы, не старея. И если в ясный солнечный денек В последний раз запляшем мы на рее, — Мы вас во сне ухватим за бока, Мы к вам придем недобрыми вестями, И никогда мы не умрем, пока Качаются светила над снастями! 1962, парусник «Крузенштерн», Северная АтлантикаСлова
Слова подчас взрываются не сразу. Нам долго их опасность невдомек. Чуть тлеет посреди забытой фразы Безвредный синеватый огонек. Но боевая взведена пружина Под ворохом позднейших голосов. Стучат неслышно и неудержимо Колесики невидимых часов. Мы позабудем их в веселом гаме Сверкающих и торопливых дней. И вдруг земля качнется под ногами: Чем дольше срок завода, тем сильней Ударит взрыв и помутится разум, Бессильная сомкнет ладони злость. Слова, что брошены, взрываются не сразу, А сколько их еще не взорвалось! 1962Акулы
Минуя зыби медленные глыбы, В движенье обтекаемо-легки, Акулы, фантастические рыбы, Изогнутые стелют плавники. Глубинных армий боевые птицы, Рожденные для будущих побед, Как в давний век могли они явиться На свой подводный желтоватый свет? …Еще Земля – пустыня, а не клумба, Еще не верят, что она кругла. Идут за каравеллами Колумба Акульи реактивные тела. Они обходят их по борту справа, От скорости вибрируя слегка. Стоцветием дюралевого сплава Стремительные светятся бока. Идут акулы, пеною одеты, Подобия подводного ферзя, Гряденьем термоядерной ракеты Беспечным современникам грозя; Еретикам нечесаным утеха, Молитвам христианским вопреки. И с палубы глядят на них без смеха Охочие до смеха моряки. 1962Прощание с городом (песня)
Мне разлука с тобой знакома. Как у времени ни проси, Он горит у подъезда дома — Неуютный огонь такси, Чемодан мой несут родные, И зеленый огонь погас. И плывут твои мостовые, Может, нынче в последний раз. Мне не ждать у твоих вокзалов, Не стоять на твоих мостах. Видно, времени было мало Мне прижиться в этих местах. Как приехавший, как впервые, Отвести не могу я глаз. И плывут твои мостовые, Может, нынче в последний раз. Не вернуть уходящих суток Ненадежной шумихой встреч, Четких улиц твоих рисунок От распада не уберечь. Восстановят ли их живые, Вспоминая погибших нас?.. И плывут твои мостовые, Может, нынче в последний раз. 1962Атланты (песня)
Когда на сердце тяжесть И холодно в груди, К ступеням Эрмитажа Ты в сумерки приди, Где без питья и хлеба, Забытые в веках, Атланты держат небо На каменных руках. Держать его, махину — Не мед со стороны. Напряжены их спины, Колени сведены. Их тяжкая работа Важней иных работ: Из них ослабни кто-то — И небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, Повыгорят поля, И встанет гриб лиловый, И кончится Земля. А небо год от года Все давит тяжелей, Дрожит оно от гуда Ракетных кораблей. Стоят они, ребята, Точеные тела, — Поставлены когда-то, А смена не пришла. Их свет дневной не радует, Им ночью не до сна. Их красоту снарядами Уродует война. Стоят они, навеки Уперши лбы в беду, Не боги – человеки, Привычные к труду. И жить еще надежде До той поры, пока Атланты небо держат На каменных руках. 1963, парусник «Крузенштерн», Северная АтлантикаПаруса «Крузенштерна» (песня)
Расправлены вымпелы гордо. Не жди меня скоро, жена, — Опять закипает у борта Крутого посола волна. Под северным солнцем неверным, Под южных небес синевой — Всегда паруса «Крузенштерна» Шумят над моей головой. И дома порою ночною, Лишь только раскрою окно, Опять на ветру надо мною Тугое поет полотно. И тесны домашние стены, И душен домашний покой, Когда паруса «Крузенштерна» Шумят над моей головой. Пусть чаек слепящие вспышки Горят надо мной в вышине, Мальчишки, мальчишки, мальчишки Пусть вечно завидуют мне. И старость отступит, наверно, — Не властна она надо мной, Когда паруса «Крузенштерна» Шумят над моей головой. 1963, парусник «Крузенштерн»В океане зима (песня)
Протекают трюма, Льдом покрыта корма, Третьи сутки ни солнца, ни звезд. В океане зима, в океане зима — Мокрый снег да скрипучий норд-ост. Не сидеть мне сегодня В домашнем тепле И не мять мне ногами траву. Так ходи за меня по веселой земле, Так смотри за меня на Москву. Там потоки людей В торопливой ходьбе, Там машины в четыре ряда. Пусть там все, что угодно приснится тебе, — Пусть тебе не приснится вода… Всё шторма да шторма. Ты ведь знаешь сама, Что дождаться меня нелегко. В океане зима, в океане зима, И до лета еще далеко. 1963, парусник «Крузенштерн», Северная АтлантикаЗа тех, кто на земле (песня)
Бушует ливень проливной, Шумит волна во мгле. Давайте выпьем в эту ночь За тех, кто на земле. Дымится разведенный спирт В химическом стекле. Мы будем пить за тех, кто спит Сегодня на земле. За тех, кому стучит в окно Серебряный восход, За тех, кто нас давным-давно, Наверное, не ждет. И пусть начальство не скрипит, Что мы навеселе, — Мы будем пить за тех, кто спит Сегодня на земле. Чтоб был веселым их досуг Вдали от водных ям, Чтоб никогда не знать разлук Их завтрашним мужьям. Не место для земных обид У нас на корабле, — Мы будем пить за тех, кто спит Сегодня на земле. 1963, парусник «Крузенштерн», Северная Атлантика«В канадской старой цитадели / Разглядываем дотемна…»
В канадской старой цитадели Разглядываем дотемна Значки полков, не бывших в деле, Оружие и ордена. А у ворот, как неживые, В медвежьих шапках хороши, Презрительные часовые Уперли в землю палаши. Здесь полковым оркестрам рады Розовощекие задиры. Как здесь торжественны парады! Как здесь воинственны мундиры! Грохочут, салютуя, пушки С не знавших приступов стены. Все кажется: война – игрушки В стране не видевшей войны. 1963Над Канадой (песня)
Над Канадой, над Канадой Солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, — Отчего же мне не спится? Над Канадой небо сине, Меж берез дожди косые… Хоть похоже на Россию, Только все же – не Россия. Нам усталость шепчет: «Грейся», — И любовь заводит шашни. Дразнит нас снежок апрельский, Манит нас уют домашний. Мне снежок – как не весенний, Дом чужой – не новоселье: Хоть похоже на веселье, Только все же – не веселье. У тебя сегодня слякоть, В лужах солнечные пятна. Не спеши любовь оплакать, Подожди меня обратно. Над Канадой небо сине, Меж берез дожди косые… Хоть похоже на Россию, Только все же – не Россия! 1963, ГалифаксФинская граница (песня)
Над рекой Сестрой, над границею, Заскрипит сосна на ветру, И перо обронившей птицею Электричка уронит искру. Мне бы видеть сны распрекрасные, По звенящей лыжне бежать, — Отчего ж стою понапрасну я Возле бывшего рубежа? Время всхолило дачи около, Мир по-новому поделя: Были Оллила да Куоккала — Нынче наша кругом земля. Ветер зимний здесь ноет тоненько, — Что ни песенка, то навет. Наши стриженые покойники Заселили ее навек. Не тобою, друг, было плачено, Ты в чужую беду не лезь. Небольшая кровь здесь потрачена, А большая – совсем не здесь. Понапрасну ее мы отдали В позабывшейся той зиме, А большая кровь – в реке Одере, А большая кровь – в Колыме. И чего вспоминаю ради я Про чужой разоренный дом? Мы Финляндию у Финляндии Всю когда-нибудь отберем… Над рекой Сестрой ветка клонится, Заметает метель пути. Ах, бессонница, ты, бессонница, Отпусти меня, отпусти! 1963Не женитесь, поэты (песня)
Позабыты недочитанные книжки, Над прудами шумное веселье — Это бродят беззаботные мальчишки По аллеям парковым весенним. Им смеется солнышко в зените, Дразнят их далекие рассветы… Не женитесь, не женитесь, не женитесь, Не женитесь, поэты! Ненадолго хватит вашего терпенья. Черный снег над головами кружит. Затерялись затупившиеся перья Между бабьих ленточек и кружев. Не нашел княжны упрямый витязь, Для стрельбы готовы пистолеты… Не женитесь, не женитесь, не женитесь, Не женитесь, поэты! Зимний вечер над Святыми над Горами, Зимний вечер, пасмурный и мглистый. И грустит портрет в тяжелой раме, И зевают сонные туристы. Ткет метель серебряные нити, В белый пух надгробия одеты… Не женитесь, не женитесь, не женитесь, Не женитесь, поэты! 1963Полночное солнце (песня)
Твое окно рассветным светом полно, Вчерашних туч ушел далекий фронт. А в Заполярье солнце всходит в полночь, На полчаса зайдя за горизонт. И ты звенишь в асфальты каблучками, Спеша продолжить свой свободный труд. А в Заполярье зацветает камень И птицы перелетные орут. И будет все, как мы с тобой хотели, И будет день твой полон синевой. А в Заполярье мокрые метели, И замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь, — Меня теперь и помнить не резон, А в Заполярье солнце всходит в полночь, На полчаса зайдя за горизонт. 1963Перелетные ангелы (песня)
Памяти жертв сталинских репрессий
Нам ночами июльскими не спать на сене, Не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос. Перелетные ангелы летят на север, И их нежные крылья обжигает мороз. Опускаются ангелы на крыши зданий, И на храмах покинутых ночуют они, А наутро снимаются в полет свой дальний, Потому что коротки весенние дни. И когда ветры теплые в лицо подуют И от лени последней ты свой выронишь лом, Это значит – навек твою башку седую Осенит избавление лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям, Вы не врите, братишечки, про утраченный юг, — Перелетные ангелы летят на Север, И тяжелые крылья над тундрой поют. 1964Как грустна осенняя вода (песня)
Как грустна осенняя вода, Как печальны пристани пустые! Вновь сентябрь на наши города Невода кидает золотые. И, еще спеша и суетясь, Все равно – смешно нам или горько, Трепыхаясь в лиственных сетях, Мы плывем за временем вдогонку. Ни надежд не будет, ни любви За его последнею границей. Ах, поймай меня, останови, Прикажи ему остановиться! Только ты смеешься, как всегда. Только ты отдергиваешь руки. Надо мной осенняя вода Начинает песню о разлуке. Как грустна осенняя вода, Как печальны пристани пустые! Вновь сентябрь на наши города Невода кидает золотые. 1964Петровские войны
А чем была она, Россия, Тем ярославским мужикам, Что шли на недруга босые, В пищальный ствол забив жакан, Теснили турка, гнали шведа, В походах пухли от пшена? Кто мог бы внятно нам поведать, Чем для него была она? А чем была она, Россия, Страна рабов, страна господ, Когда из их последней силы Она цедила кровь и пот, На дыбу вздергивала круто, На мертвых не держала зла, Цветы победного салюта Над их могилами несла? В ее полях зимой и летом Кричит над ними воронье. Но если б думали об этом, — Совсем бы не было ее. 1965Геркулесовы столбы (песня)
У Геркулесовых столбов лежит моя дорога, У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня оплакать не спеши, ты подожди немного, И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. У Геркулесовых столбов дельфины греют спины И между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога Вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, Пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У Геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, — И вина сладкие не пей, и женихам не верь! 1965, парусник «Крузенштерн»Испанская граница (песня)
Овадию Савичу
У испанской границы пахнет боем быков — Взбаламученной пылью и запекшейся кровью. У испанской границы не найдешь земляков, Кроме тех, что легли здесь – серый крест в изголовье. Каталонские лавры над бойцами шумят, Где-то плачут над ними магаданские ели. Спят комбриги полегших понапрасну бригад, Трубачи озорные постареть не успели. Эй, ребята, вставайте! – нынче время не спать. На седые шинели пришивайте петлицы. Вы бригаду под знамя соберите опять У испанской границы, у испанской границы! Но молчат комиссары в той земле ледяной, Им в завьюженной тундре солнце жаркое снится. И колымские ветры все поют надо мной У испанской границы, у испанской границы. 1965, парусник «Крузенштерн», Гибралтар«Цареубийцы из домов приличных…»
Цареубийцы из домов приличных, Интеллигенты с белыми руками, О ваших судьбах юношеских личных Молчат архивы за семью замками. Над вашими портретами не плачем: Как мало вы похожи на живых. Как холодно от ваших шей цыплячьих, От ваших взглядов – светлых, ножевых. Летать во сне и слушать Баха робко, На лето ездить к тетушке в Херсон, Мальчишеским пушистым подбородком С намыленной петлей играть в серсо. Ни поцелуя, ни письма любовного Единой страстью сердце сожжено. И плакали. И поднимали бомбу, Как сеятель, кидающий зерно. 1965Моряк, покрепче вяжи узлы (песня)
Моряк, покрепче вяжи узлы — Беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злы, И зол, как черт, капитан. Пусть волны вслед разевают рты, Пусть стонет парус тугой — О них навек позабудешь ты, Когда придем мы домой. Не верь подруге, а верь в вино, Не жди от женщин добра: Сегодня помнить им не дано О том, что было вчера. За длинный стол посади друзей И песню громко запой, — Еще от зависти лопнуть ей, Когда придем мы домой. Не плачь, моряк, о чужой земле, Скользящей мимо бортов. Пускай ладони твои в смоле, Без пятен сердце зато. Лицо закутай в холодный дым, Водой соленой умой, И снова станешь ты молодым, Когда придем мы домой. Покрепче, парень, вяжи узлы — Беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злы, И зол, как черт, капитан. И нет отсюда пути назад, Как нет следа за кормой. Никто не сможет тебе сказать, Когда придем мы домой! Сам черт не сможет тебе сказать, Когда придем мы домой! 1965, парусник «Крузенштерн», ГибралтарЦирк шапито (песня)
Вы не верьте наветам тоски, Задушите в душе шепоток. Между серых домов городских Открывается цирк шапито. Там оркестры и цокот подков, Электричества солнечный свет. По карманам хоть горсть медяков Постарайтесь набрать на билет. Тот билет – как билет на перрон, Что вам стоит не выпить сто грамм? Мимо окон зеленый фургон Сонный ослик везет по утрам. И окликнет вас ласково мать, И сгоревшее встанет жилье, И подарит вам детство опять Полотняное небо свое. Позабывшие облик земли, Нафталином засыпьте пальто, — На окраине, в рыжей пыли Открывается цирк шапито. 1966Песня подводников (песня)
К антивоенному спектаклю студенческого театра Московского авиационного института
На что нам дети, на что нам фермы? Земные радости не про нас. Все, чем на свете живем теперь мы, — Немного воздуха – и приказ. Мы вышли в море служить народу, Да нету что-то вокруг людей. Подводная лодка уходит в воду — Ищи ее неизвестно где. Здесь трудно жирным, здесь тощим проще, Здесь даже в зиму стоит жара, И нету поля, и нету рощи, И нет ни вечера, ни утра. Над нами, как над упавшим камнем, Круги расходятся по воде. Подводная лодка в глубины канет — Ищи ее неизвестно где. Нам солнце на день дают в награде, И спирта злого ожог во рту. Наживы ради снимают бляди Усталость нашу в ночном порту. Одну на всех нам делить невзгоду, Одной нам рапорт сдавать беде. Подводная лодка уходит в воду — Ищи ее неизвестно где. В одну одежду мы все одеты, Не помним ни матери, ни жены. Мы обтекаемы, как ракеты, И, как ракеты, устремлены. Ну кто там хочет спасти природу И детский смех, и весенний день? Подводная лодка уходит в воду — Ищи ее неизвестно где. 1966Освенцим (песня)
Над проселками листья – как дорожные знаки, К югу тянутся птицы, и хлеб недожат. И лежат под камнями москали и поляки, А евреи – так вовсе нигде не лежат. А евреи по небу серым облачком реют. Их могил не отыщешь, кусая губу: Ведь евреи мудрее, ведь евреи хитрее, — Ближе к Богу пролезли в дымовую трубу. И ни камня, ни песни от жидов не осталось, Только ботиков детских игрушечный ряд. Что бы с ними ни сталось, не испытывай жалость, Ты послушай-ка лучше, что про них говорят. А над шляхами листья – как дорожные знаки, К югу тянутся птицы, и хлеб недожат. И лежат под камнями москали и поляки, А евреи – так вовсе нигде не лежат. 1966, ПольшаПо Освенциму ветер гуляет (песня)
По Освенциму ветер гуляет, И ромашки растут меж печей, И экскурсия нас ожидает, Москвичей, москвичей, москвичей. Вам покажут сожженные кости, — Сколько хочешь на пепел глазей. Приезжайте, пожалуйста, в гости В тот музей, в тот музей, в тот музей. Разбирайтесь по двое, по трое — Каждый день, каждый час, каждый час. Кто из вас лагеря эти строит, Кто из вас, кто из вас, кто из вас? Лучше мне докатиться до вышки, В землю лечь, в землю лечь, в землю лечь, Чем однажды подбросить дровишки В эту печь, в эту печь, в эту печь. Где музеи такие же встанут? Ни намека о том, ни слезы, — На бескрайних степях Казахстана Или в желтой долине Янцзы? По Освенциму ветер гуляет, И ромашки растут меж печей… Кто нам скажет, что нас ожидает, Москвичей, москвичей, москвичей? 1966, ОсвенцимТреблинка (песня)
Треблинка, Треблинка, Чужая земля. Тропинкой неблизкой Устало пыля, Всхожу я, бледнея, На тот поворот, Где дымом развеян Мой бедный народ. Порою ночною Все снится мне сон: Дрожит подо мною Товарный вагон, И тонко, как дети, Кричат поезда, И желтая светит На небе звезда… Недолго иль длинно На свете мне жить, — Треблинка, Треблинка, Я твой пассажир. Вожусь с пустяками, Но все до поры: Я камень, я камень На склоне горы. Плечом прижимаюсь К сожженным плечам, Чтоб в марте и в мае Не спать палачам, Чтоб помнили каты — Не выигран бой: Я камень, я камень Над их головой. О память, воскресни, — Не кончился бой: Я песня, я песня Над их головой. 1966, ВаршаваЭлегия
Евгению Клячкину
Сентябрь сколачивает стаи, И первый лист звенит у ног. Извечна истина простая: Свободен – значит, одинок. Мечтая о свободе годы, Не замечаем мы того, Что нашей собственной свободы Боимся более всего. И на растерянные лица (Куда нам жизни деть свои?) Крылом спасительным ложится Власть государства и семьи. В углу за снятою иконой Вся в паутине пустота. Свободен – значит, вне закона. Как эта истина проста! Входная дверь гремит, как выстрел, В моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно листьям, А падать вниз по одному. 1967Владимиру
1. Галилей (песня)
Отрекись, Галилей, отрекись От науки ради науки! Нечем взять художнику кисть, Если каты отрубят руки, Нечем гладить бокал с вином И подруги бедро крутое. А заслугу признать виной Для тебя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бранят За невинную эту подлость, — Тяжелей не видеть закат, Чем под актом поставить подпись, Тяжелей не слышать реки, Чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, — Что изменится во Вселенной? Ах, поэты и мудрецы, Мы моральный несем убыток В час, когда святые отцы Волокут нас к станкам для пыток. Отрекись глупцам вопреки, — Кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись, Нам от этого легче будет.2. Антигалилей (песня)
Ну, кто в наши дни поет? — Ведь воздух от гари душен. И рвут мне железом рот, Окурками тычут в душу. Ломает меня палач На страх остальному люду. И мне говорят: «Заплачь!» А я говорю: «Не буду!» Пихнут меня в общий строй, Оденут меня солдатом, Навесят медаль – герой! — Покроют броней и матом. Мне водку дают, как чай, Чтоб храбрым я был повсюду. И мне говорят: «Стреляй!» А я говорю: «Не буду!» А мне говорят: «Ну что ж, Свою назови нам цену. Объявим, что ты хорош. Поставим тебя на сцену». Врачуют меня врачи, Кроят из меня Иуду. И мне говорят: «Молчи!» А я говорю: «Не буду!» 1967Монолог маршала (песня)
Я – маршал, посылающий на бой Своих ушастых стриженых мальчишек. Идут сейчас веселою гурьбой, А завтра станут памятников тише. В огонь полки гоню перед собой Я – маршал, посылающий на бой. Я славою отмечен с давних пор, Уже воспеты все мои деянья. Но снится мне зазубренный топор, И красное мне снится одеянье, И обелисков каменная твердь. Я – маршал, посылающий на смерть. Пока в гостях бахвалится жена, Один бреду я по своим хоромам, И звякают негромко ордена Неугомонным звоном похоронным, И заглушить его мне не суметь. Я – маршал, посылающий на смерть. Не знающему робости в боях, Немало раз пришлось мне нюхать порох. Но странный я испытываю страх В пустых соборах и на школьных сборах. И объяснить его мне не суметь. Я – маршал, посылающий на смерть. И победить его мне не суметь. Я – маршал, посылающий на смерть. И мне не крикнуть совести: «Не сметь!» Я – маршал, посылающий на смерть. 1967, ЛенинградЛюбовница Блока
Л. А. Андреевой-Дельмас
Без дерева высохшей веткой, При солнечном свете страшна, В салопе, затертом и ветхом Бредет тротуаром она. Плывет привиденье дневное По улицам мимо ворот, И шепот ползет за спиною: Любовница Блока идет. В могиле своей одинокой Лежит он – чужой и ничей. Ни прибыли нету, ни прока От тех позабытых ночей. С болонкою лысой и старой, Из года бессмертная в год, Пугая влюбленные пары, Любовница Блока идет. Летит над землею горбатой Военных угроз дребедень. Наш век беспокойный двадцатый Клонится к закату, как день. Разгул революций неистов, Ракеты уходят в полет. Под звонкое кваканье твиста Любовница Блока идет. Идет через воду людскую, Идет по любимым гробам, И серые губы тоскуют По мертвым и чистым губам. И, новых грехов отпущенье Даруя другим наперед, Навстречу земному вращенью Любовница Блока идет. 1968Друзья и враги (песня)
К спектаклю по повести Владимира Войновича «Два товарища»
Наших пыльных дворов мечтатели, Вспоминаю вас я, По игре в футбол – неприятели И по партам – друзья. Но не знаю я тем не менее, От каких же шагов Начинается разделение На друзей и врагов. Все мальчишками были близки мы — По плечу и на «ты». Под гранитными обелисками Догорают цветы… Что же ты, мое поколение, Не сносило голов? Опоздало ты с разделением На друзей и врагов! А зелененький шарик крутится, Молодым не до сна А на улице вновь распутицу Затевает весна. Обнажают реки весенние Рубежи берегов. Начинается разделение На друзей и врагов. 1968Поэты
Лежат поэты на холмах пустынных, И непонятно, в чем же корень зла, Что в поединке уцелел Мартынов, И что судьба Дантеса сберегла? Что, сколько раз ни приходилось биться, Как ни была рука его тверда, Не смог поэт ни разу стать убийцей, И оставался жертвою всегда? Неясно, почему? Не потому ли, Что был им непривычен пистолет? Но бил со смехом Пушкин пулю в пулю, Туза навскидку пробивал корнет. Причина здесь не в шансах перевеса, — Была вперед предрешена беда: Когда бы Пушкин застрелил Дантеса, Как жить ему и как писать тогда? 1969Сентябрь
Так зажигают в доме свет, Придя под утро, рано, Когда забрезживший рассвет Сентябрь вставляет в раму, И остается за плечом Полет автомобильный, И желтым комнатным лучом Бокал наполнен пыльный. Так зажигают в доме свет, Когда в саду снаружи Рябины тоненький скелет Ненастьем обнаружен. С плаща в передней натекло, И глина на ботинках. Ложится осень на стекло Переводной картинкой. Так зажигают в доме свет, Придя домой с работы. И знаешь: никого здесь нет, А все же ждешь кого-то. И канет в черное стекло Все то, что сердце кружит. И вновь покажется: светло Внутри, а не снаружи. 1969Новелле Матвеевой (песня)
А над Москвою небо невесомое, В снегу деревья с головы до пят, И у Ваганькова трамваи сонные, Как лошади усталые, стоят. Встречаемый сварливою соседкою, Вхожу к тебе, досаду затая. Мне не гнездом покажется, а клеткою Несолнечная комната твоя. А ты поешь беспомощно и тоненько, И, в мире проживающий ином, Я с твоего пытаюсь подоконника Дельфинию увидеть за окном. Слова, как листья, яркие и ломкие, Кружатся, опадая с высоты, А за окном твоим заводы громкие И тихие могильные кресты. Но суеты постылой переулочной Идешь ты мимо, царственно слепа. Далекий путь твой до ближайшей булочной Таинственен, как горная тропа. И музыкою полно воскресение, И голуби ворчат над головой, И поездов ночных ручьи весенние Струятся вдоль платформы Беговой. А над Москвою небо невесомое, В снегу деревья с головы до пят, И у Ваганькова трамваи сонные, Как лошади усталые, стоят. 1969Переделкино (песня)
Лидии Либединской
Позабудьте свои городские привычки, — В шуме улиц капель не слышна. Отложите дела – и скорей к электричке: В Переделкино входит весна. Там зеленые воды в канавах проснулись, Снег последний к оврагам приник. На фанерных дощечках названия улиц — Как заглавия давние книг. Здесь, тропинкой бредя, задеваешь щекою Паутины беззвучную нить. И лежит Пастернак над закатным покоем, И веселая церковь звонит. А в безлюдных садах и на улицах мглистых Над дыханием влажной земли Молча жгут сторожа прошлогодние листья — Миновавшей весны корабли. И на даче пустой, где не хочешь, а пей-ка Непонятные горькие сны, Заскрипит в темноте под ногами ступенька, И Светлов подмигнет со стены. И поверить нельзя невозможности Бога В ранний час, когда верба красна. И на заячьих лапках, как в сердце – тревога, В Переделкино входит весна. 1969«Две женщины, два дома, две судьбы…»
Две женщины, два дома, две судьбы, Два дела, незаконченные оба. Твержу себе, что не должно так быть, И знаю сам, что будет так до гроба. Две совести. Одна – лишает сна, Другая: «Брось, один такой ты разве?» Две истины, и только боль одна, Одна на это все многообразье. Как ненавистны мне в минуты встреч Моих друзей уверенные лица! Я каждый вечер, перед тем как лечь, Твержу себе, что завтра все решится. И, мукой безысходною томясь, Перед бедой, на злую радость прочим, Хватаю воздух ртом, как пленный князь, К двум согнутым березам приторочен. 1969Жена французского посла (1970–1976)
Остров Гваделупа (песня)
Игорю Белоусову
Такие, брат, дела… Такие, брат, дела — Давно уже вокруг смеются над тобою. Горька и весела, пора твоя прошла, И партию сдавать пора уже без боя. На палубе ночной постой и помолчи. Мечтать за сорок лет – по меньшей мере, глупо. Над темною водой огни горят в ночи — Там встретит поутру нас остров Гваделупа. Пусть годы с головы дерут за прядью прядь, Пусть грустно от того, что без толку влюбляться, — Не страшно потерять уменье удивлять, Страшнее – потерять уменье удивляться. И, возвратясь в края обыденной земли, Обыденной любви, обыденного супа, Страшнее – позабыть, что где-то есть вдали Наветренный пролив и остров Гваделупа. Так пусть же даст нам Бог, за все грехи грозя, До самой смерти быть солидными не слишком, Чтоб взрослым было нам завидовать нельзя, Чтоб можно было нам завидовать мальчишкам. И будут сниться сны нам в комнатной пыли Последние года, отмеренные скупо, И будут миновать ночные корабли Наветренный пролив и остров Гваделупа. 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев»Новодевичий монастырь (песня)
Снова рябь на воде и сентябрь на дворе. Я брожу в Новодевичьем монастыре, Где невесты-березы, склоняясь ко рву, Словно девичьи слезы роняют листву. Здесь все те, кто был признан в народе, лежат. Здесь меж смертью и жизнью проходит межа. И кричит одинокая птица, кружа, И влюбленных гоняют с могил сторожа. У нарядных могил обихоженный вид, — Здесь и тот, кто убил, рядом с тем, кто убит. Им легко в этом месте – ведь тот и другой Жизни отдали вместе идее одной. Дым плывет, невесом. Тишина, тишина… Осеняет их сон кружевная стена. И металлом на мраморе их имена, Чтобы знала, кого потеряла, страна. А в полях под Москвой, а в полях под Орлом, Порыжевшей травой, через лес напролом, Вдоль освоенных трасс на реке Колыме, Ходит ветер, пространство готовя к зиме. Зарастают окопы колючим кустом. Не поймешь, кто закопан на месте пустом: Без имен их земля спеленала, темна, И не знает, кого потеряла, страна. Я люблю по холодной осенней поре Побродить в Новодевичьем монастыре. День приходит, лилов, и уходит назад, Тусклый свет куполов повернув на закат… Не хочу под плитой именною лежать, — Мне б водою речной за стеною бежать, Мне б песчинкою лечь в монастырь, что вместил Территорию тех безымянных могил. 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Северная АтлантикаДонской монастырь (песня)
А в Донском монастыре Зимнее убранство. Спит в Донском монастыре Русское дворянство. Взяв метели под уздцы, За стеной, как близнецы, Встали новостройки. Снятся графам их дворцы, А графиням – бубенцы Забубенной тройки. А в Донском монастыре Время птичьих странствий. Спит в Донском монастыре Русское дворянство. Дремлют, шуму вопреки, И близки, и далеки От грачиных криков, Камергеры-старики, Кавалеры-моряки И поэт Языков. Ах, усопший век баллад, Век гусарской чести! Дамы пиковые спят С Германнами вместе. Под бессонною Москвой, Под зеленою травой Спит – и нас не судит Век, что век закончил свой Без войны без мировой, Без вселенских сует. Листопад в монастыре. Вот и осень, – здравствуй. Спит в Донском монастыре Русское дворянство. Век двадцатый на дворе, Теплый дождик в сентябре, Лист летит в пространство… А в Донском монастыре Сладко спится на заре Русскому дворянству. 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Северная АтлантикаНочная вахта
Ночная вахта в теплом океане. Дрожь палубы, звон колокола ранний, Апрельских звезд летящие тела, И темнота таинственная рубки, И штурмана светящиеся руки Над золотой поверхностью стола. Ночная вахта в теплом океане. Немыслимая дальность расстояний, Благословенье Южного Креста, Тяжелых рей мерцающие ноки. Мы здесь, как космонавты, одиноки, — Созвездия вокруг и пустота. Как этот миг торжественен и странен! Там, на Земле, трамвай грохочет ранний, Бесчинствует весенняя капель, А нас качает, как младенца в ванне, Ночная вахта в теплом океане — Соленая и сладкая купель. Напарник мой, в каюте крепко спит он. Весь воздух электричеством пропитан, Звезду от капли отличить нельзя. Стою на грани двух стихий великих, И волн фосфоресцирующих блики Мне опаляют зеленью глаза. Неблагодарный отпрыск мирозданья, Давно уж атеизму отдал дань я, То верой, то неверием горя, Но вот молчу, испуганно и строго, И верю в Бога, и не верю в Бога У этого большого алтаря. Да, я недолго видеть это буду, И за десятки тысяч миль отсюда Песчинкой лягу неизвестно где. Но будет жить поверившая в чудо Душа моя бессмертная, покуда Горит огонь на небе и в воде. 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Северная АтлантикаАтлантида (песня)
Атлантических волн паутина И страницы прочитанных книг. Под водою лежит Атлантида — Голубого огня материк. А над ней – пароходы и ветер, Стаи рыб проплывают над ней… Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Не найти и за тысячу лет нам — Объясняют ученые мне — Ту страну, что пропала бесследно В океанской ночной глубине. Мы напрасно прожектором светим В этом царстве подводных теней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Век двадцатый, войною палимый, — Смерть прикинется теплым дождем… Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы уйдем? Кто сегодня нам сможет ответить, Сколько жить нам столетий и дней?.. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. И хотя я скажу себе тихо: «Не бывало ее никогда», Если спросят: «Была Атлантида?» — Я отвечу уверенно: «Да!» Пусть поверят историям этим. Атлантида – ведь дело не в ней… Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев»Остров горе
Ах, черная Африка, остров Горе, Стена каземата на острой горе, Обрыв, оборвавшийся в море! Знакомого слова чужой оборот, Как будто на местный язык перевод Привычного русского «горе». Ах, черная Африка, остров Горе! Остатки фортов, продавцы сигарет, Акаций стремительный ливень! Акулы, приучены давней игрой, Где черное мясо и красная кровь Дежурят в зеленом заливе. Здесь ящериц шорох и шорох песка, Молчание скал и прибоя оскал, Звенящая галька на пляже. Здесь годы и годы, не ради идей, Со скал этих в воду бросали людей, Уже непригодных к продаже. Иду по песку мимо дома рабов, Прибрежных базальтов – обветренных лбов, Заросшего тиной причала. Века за веками у этих ворот Бортами о камень стучал галиот, И все повторялось сначала. Ах, черная Африка, остров Горе! В колодки одни, а другие – в гарем, Но каждый умрет неизвестным. Удары плетей, оборвавшийся крик, И древняя песня «Прощай, материк!» На чьем-то наречии местном. Прощай, – не прижмется к губам горячо Подруги моей смоляное плечо Ах, черная Африка, остров Горе! Ржавеющих пушек немое каре Над синим огнем океана. Мотором стуча, пароходный баркас Везет нас на берег, доступный для нас, Но в горле – непрошеным комом Останется остров, – песок и вода, Который нам не был знаком никогда, Но кажется странно знакомым. 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев»Жена французского посла (песня)
Мне не Тани снятся и не Гали, Не поля родные, не леса, — В Сенегале, братцы, в Сенегале Я такие видел чудеса! Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы Плеск волны, мерцание весла, Крокодилы, пальмы, баобабы И жена французского посла. Хоть французский я не понимаю И она по-русски – ни фига, Но как высока грудь ее нагая, Как нага высокая нога! Не нужны теперь другие бабы — Всю мне душу Африка свела: Крокодилы, пальмы, баобабы И жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, Что такое сделалось со мной? Все мне сон один и тот же снится, Широкоэкранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье Все сжигает он меня дотла, — В нем постель, распахнутая настежь, И жена французского посла! 1970, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев»Гамлет
Любезный принц, корабль вас ждет внизу — Знакомиться спешите с мирозданьем. Вам нет причин на камни лить слезу, Считая путешествие изгнаньем. Любезный принц, поэт и режиссер, Вы победили власть и раболепство, — Уже бродячие актеры сор Из Датского выносят королевства. Вас предали? Неужто в первый раз? Вам в душу окровавленную лезут? Оставьте меч, ведь есть слова у вас — Они куда острее, чем железо. Я вас, мой принц, предостеречь хочу От торопливой ярости и злобы: Ведь даже вам, мой друг, не по плечу Единоборство с миром узколобых. Оставьте же постылый серый Зунд, Где все вам горло перегрызть готовы. Скорей, мой мальчик, – ваш корабль внизу Натягивает звонкие швартовы! Но принц от ожидания устал: Зло для него – лишь венценосный Каин. Под дымным сводом сталь звенит о сталь, И яд с клинка тяжелого стекает. Еще уму не узаконен суд. И к катафалку, как это ни странно, Идеалиста мертвого несут, Как короля, четыре капитана. 1970Овидий
На гневных цезарей в обиде, Спеши, мечтательный Овидий, На край империи, в леса, Где, телом вспыхивая длинным, Крадется жадно по долинам Дунайской осени лиса. Не упрекай богов, Овидий, За одиночество при виде Равнин, от родины вдали. Скажи спасибо: в древнем мире Еще не знают о Сибири И Понт Эвксинский – край земли. Что может лучше быть, Овидий, Чем, на высокий берег выйдя, Где нет патрицианских вилл, Сидеть над водами Дуная И ждать строку, как ждет Даная Прикосновения любви? Твое ль занятие, Овидий, Твердить властям: неправы вы-де, Подставив грудь под град камней. Поэты, что вам ход историй? Для вас не место Капитолий, Вам ссылка дальняя родней. Где родина твоя, Овидий, Как говорилось в римском МИДе — «Огонь и воздух и вода»? Толп варваров не бойся злобных, Поскольку варвары способны Разрушить только города. Что проку в городе, в котором Речами обесчещен форум? Лишь в ссылке дышится легко. Не властны над тобою судьи, Покуда в глиняном сосуде Дымится козье молоко. Но, лет грядущих не предвидя, Глядит с надеждою Овидий На гор коричневую твердь, Не славя солнечное утро И цезарей, по-римски мудрых, Что ссылкой заменили смерть. 1971«В мои последние года / Разлуки не переживаю…»
В мои последние года Разлуки не переживаю: Взлетаю, еду, уплываю. Куда? – Мне все равно куда. Как радостен любой отъезд, Когда в затылок дышит старость. Так мало мне людей осталось! Так мало мне осталось мест! И я спешу, скорей, скорей! Я становлюсь здоров и весел Над строем самолетных кресел, Над ржавой сталью якорей. Из года в год быстрее кружит Меня вращение Земли. Мои друзья с другими дружат, Подруги семьи завели. Но не о том теперь заботы, — Мне жизнь, как в юности, легка, Пока суда и самолеты Способны двигаться, пока, В душе рождая постоянство, Даруя радость или боль, Гудит за окнами пространство — Моя последняя любовь. 1971, КрымДуэль (песня)
За дачную округу Поскачем весело, За Гатчину и Лугу, В далекое село, Там головы льняные Склоняя у огня, Друзья мои хмельные Скучают без меня. Там чаша с жженкой спелой Задышит, горяча, Там в баньке потемнелой Затеплится свеча, И ляжет – снится, что ли? — Снимая грусть-тоску, Рука крестьянки Оли На жесткую щеку. Спешим же в ночь и вьюгу, Пока не рассвело, За Гатчину и Лугу, В далекое село. Сгорая, гаснут свечки В час утренних теней. Возница к Черной речке Поворотил коней. Сбежим не от испуга — Противнику назло, За Гатчину и Лугу, В далекое село!.. Там, головы льняные Склоняя у огня, Друзья мои хмельные Скучают без меня. 1971Воздухоплавательный парк (песня)
Куда, петербургские жители, Толпою веселой бежите вы? Какое вас гонит событие В предместье за чахлый лесок? Там зонтики белою пеною, Мальчишки и люди степенные, Звенят палашами военные, Оркестр играет вальсок. Ах, летчик отчаянный Уточкин, Шоферские вам не идут очки. Ну что за нелепые шуточки — Скользить по воздушной струе? И так ли уж вам обязательно, Чтоб вставшие к празднику затемно, Глазели на вас обыватели, Роняя свои канотье? Коляскам тесно у обочины. Взволнованы и озабочены, Толпятся купцы и рабочие, И каждый без памяти рад Увидеть, как в небе над городом, В пространстве, наполненном холодом, Под звуки нестройного хора дам Нелепый парит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен! Как парусник, ветром влеком еще, Опору в пространстве винтом ища, Несется он над головой. Такая забава не кстати ли? За отпрысков радуйтесь, матери, Поскольку весьма занимателен Сей праздничный трюк цирковой. Куда, петербургские жители, Толпою веселой бежите вы? Не стелют свой след истребители У века на самой заре, Свод неба пустынен и свеж еще, Достигнут лишь первый рубеж еще… Не завтра ли бомбоубежище Отроют у вас во дворе? 1971Романс Чарноты (песня)
К спектаклю по пьесе М. А. Булгакова «Бег»
Как медь умела петь В монастыре далече! Ах, как пылала медь, Обняв крутые плечи! Звенели трензеля, Летели кони споро От белых стен Кремля До белых скал Босфора. Зачем во цвете лет, Познавший толк в уставе, Не в тот пошел я цвет, На масть не ту поставил? Могил полны поля, Витает синий порох От белых стен Кремля До белых скал Босфора. Не лучше ли с ЧеКой Мне было бы спознаться, К родной земле щекой В последний раз прижаться, Стать звоном ковыля Среди степного сора Меж белых стен Кремля И белых скал Босфора?.. 1971Херсонес
Предощущение беды У белых башен Херсонеса, По морю крейсер стелет дым, Клубится темная завеса. Театр пуст. У алтаря Трава. Необитаем форум. Вольнолюбивым разговорам Там впредь не раздаваться зря. Творцы гражданственных идей, Строители и стеклодувы, Сумели удержать Орду вы Со всею мудростью своей? Крепка у города стена, Устроены жилища умно, Но улицы его без шума, Его сосуды без вина. Здесь похоронена культура, И, словно памятник над ней, Военных серых кораблей Поджарая архитектура. 1971«Родившись на Васильевском давно…»
Родившись на Васильевском давно, Его считаю центром Ленинграда, Но дом мой уничтожила блокада, На этом месте – здание кино. Потом на Мойке жил я, в стороне Мерцал Исакий в золотой обновке, Как разнились убогость обстановки И золото, горевшее в окне. Но возникали новые места, И было обживаться тяжело мне На мутной Пряжке, в пушкинской Коломне, У старого Калинкина моста. Так, центробежной силою гоним, Все дальше я перемещался, робок, За кладбище, за поле, в серый дым Пятиэтажных купчинских коробок. А время незаметное ушло В моих часах, и сумерки пробило, Мне город мой родной теперь чужбина, Отечество мне – Царское Село. Об этом вспоминаю всякий раз, К вокзалу торопясь ночным трамваем, Не мы с годами город покидаем, А он с годами покидает нас. 1971Аэропорты девятнадцатого века (песня)
Когда закрыт аэропорт, Мне в шумном зале вспоминается иное: Во сне летя во весь опор, Негромко лошади вздыхают за стеною, Поля окрестные мокры, На сто губерний ни огня, ни человека… Ах, постоялые дворы, Аэропорты девятнадцатого века! Сидеть нам вместе до утра, — Давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра Куда, скажите, вы торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, Под брань начальства и под выстрелы абрека. Ах, постоялые дворы, Аэропорты девятнадцатого века! Куда ни ехать, ни идти, В любом столетии, в любое время года Разъединяют нас пути, Объединяет нас лихая непогода. О, как к друг другу мы добры, Когда бесчинствует распутица на реках!.. Ах, постоялые дворы, Аэропорты девятнадцатого века! Какая общность в этом есть? Какие зыбкие нас связывают нити? Привычно чокаются здесь Поэт с фельдъегерем – гонимый и гонитель. Оставим споры до поры, Вино заздравное – печали лучший лекарь. Ах, постоялые дворы, Аэропорты девятнадцатого века! Пора прощаться нам, друзья, — Окошко низкое в рассветной позолоте. Неся нас в разные края, Рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, Тоска дорожная да будочник-калека… Ах, постоялые дворы, Аэропорты девятнадцатого века! 1971Соловки (песня)
Осуждаем вас, монахи, осуждаем, — Не воюйте вы, монахи, с государем! Государь у нас – помазанник Божий, Никогда он быть неправым не может. Не губите вы обитель, монахи, В броневые не рядитесь рубахи, На чело не надвигайте шеломы, — Крестным знаменьем укроем чело мы. Соловки – невелика крепостица, Вам молиться бы пока да поститься, Бить поклоны Богородице-Деве, — Что шумите вы в железе и гневе? Не суда ли там плывут? Не сюда ли? Не воюйте вы, монахи, с государем! На заутрене отстойте последней, — Отслужить вам не придется обедни. Ветром южным паруса задышали, Рати дружные блестят бердышами, Бою выучены царские люди — Никому из вас пощады не будет! Плаха алым залита и поката. Море Белое красно от заката. Шелка алого рубаха у ката, И рукав ее по локоть закатан. Шелка алого рубаха у ката, И рукав ее по локоть закатан. Враз поднимется топор, враз ударит… Не воюйте вы, монахи, с государем! 1972«Пройдя полдневный перевал…»
Пройдя полдневный перевал, Сумел заметить я не сразу, Что всё, о чем бы ни писал, Случается, как по заказу. Не знаю, есть ли в мире Бог, Но что-то есть, и это «что-то» — Предощущенье поворота Еще не пройденных дорог. Иные улыбнутся, – пусть, Меня же время научило, Что если без причины грусть, — Недалека ее причина. Не в силах замолить грехи, Ведомый чувством странной боли, Порой боюсь писать стихи, И все ж пишу помимо воли. Так с поднятою головою В лесном бревенчатом дому Перед бедой собака воет, Сама не зная, почему. 1972Песня строителей петровского флота (песня)
К кинофильму о Петре I
Мы – народ артельный, Дружим с топором. В роще корабельной Сосны подберем. Православный, глянь-ка С берега, народ, Погляди, как Ванька По морю плывет. Осенюсь с зарею Знаменьем Христа, Высмолю смолою Крепкие борта. Православный, глянь-ка С берега, народ, Погляди, как Ванька По морю плывет. Девку с голой грудью Я изображу. Медную орудью Туго заряжу. Ты, мортира, грянь-ка Над пучиной вод, Расскажи, как Ванька По морю плывет. Тешилась над нами Барская лоза, Били нас кнутами, Брали в железа. Ты, боярин, глянь-ка От своих ворот, Как холоп твой Ванька По морю плывет. Море – наша сила, Море – наша жисть. Веселись, Россия, — Швеция, держись! Иноземный, глянь-ка С берега, народ, — Мимо русский Ванька По морю плывет! 1972Остров Вайгач (песня)
О доме не горюй, о женщинах не плачь И песню позабытую не пой. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач Меж старою и Новою Землей. Здесь в час, когда в полет уходят летуны И стелются упряжки по земле, Я медную руду копаю для страны, Чтоб жили все в уюте и тепле. То звезды надо мной, то солнца красный мяч, И жизнь моя как остров коротка. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, Где виден материк издалека. Забудь про полосу удач и неудач И письма бесполезные не шли. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, Где держит непогода корабли. О доме не горюй, о женщинах не плачь И песню позабытую не пой. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач Меж старою и Новою Землей. 1972, остров ВайгачТени тундры (песня)
Во мхах и травах тундры, где подспудно Уходят лета быстрые секунды, Где валуны – как каменные тумбы, Где с непривычки нелегко идти, Тень облака, плывущего над тундрой, Тень птицы, пролетающей над тундрой, И тень оленя, что бежит по тундре, Перегоняют пешего в пути. И если как-то раз, проснувшись утром, Забыв на час о зеркале и пудре, Ты попросила б рассказать о тундре И лист бумаги белой я нашел, — Тень облака, плывущего над тундрой, Тень птицы, пролетающей над тундрой, И тень оленя, что бежит по тундре, Изобразил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, Оставив место для ромашек белым, Весь прочий лист закрасил бы я смело Зеленой краской, радостной для глаз. А после, выбрав кисточку потоньше И осторожно краску взяв на кончик, Я синим бы раскрасил колокольчик И этим бы закончил свой рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, Что мир устроен празднично и мудро. Да, мир устроен празднично и мудро, Пока могу я видеть каждый день Тень облака, плывущего над тундрой, Тень птицы, пролетающей над тундрой, И тень оленя, что бежит по тундре, А рядом с ними – собственную тень. 1972, остров ВайгачОстров Тыртов
Ночная стоянка у острова Тыртов, На якоре, в бухточке, льдами затертой, Безветрие, белая ночь. Ни плеска, ни шороха, ни дуновенья. Часам не подвластное, длится мгновенье, Которое не превозмочь. Ночная стоянка у острова. Берег, И небо, которое выдумал Рерих, Горящее желтым огнем. И черная четкость очерченных линий, И пар изо рта, и на палубе иней, И стол, и бумага на нем. Ночная стоянка у острова Тыртов, И вяжущий вкус разведенного спирта, И лампа, и медленный лед. Молчание Карского моря, и память, Как в белую ночь в нее падать и падать, — Падением начат полет. Стоянка у острова. Мир под руками, И дух, обращенный то в чайку, то в камень, Века соблазняющий нас. И все так морозно, и звонко, и чисто, Что что-то должно непременно случиться, Немедленно, тут же, сейчас. 1972, Северный Ледовитый океанМоряки ледокольного флота (песня)
Экипажу ледокола «Капитан Белоусов»
Не зовут нас к себе города, Не рисует портреты художник. Тяжелы мы, как наши суда, И, как наши суда, мы надежны. И в шторма, и в полярную ночь Не кончается наша работа: Мы любому готовы помочь, Моряки ледокольного флота. Не для нас поцелуи подруг И березы на ласковой суше, Отдыхать нам душой недосуг — Всё чужие спасаем мы души. Невозможно, хоть век проживи, Встретить девушек в наших широтах, Оттого-то не знают любви Моряки ледокольного флота. Но когда закипает у рта Ледяная студеная ванна И трещат, как орехи, борта На зеленых зубах океана, — В этот день невеселый и час Никому умирать неохота, — И тогда вспоминают про нас, Моряков ледокольного флота. По полям многолетнего льда, Где рассветы туманные мглисты, На буксирах ведем мы суда, Словно в связке в горах альпинисты. И обратно уходим – туда, Где сигналит о помощи кто-то, Постоянные пахари льда, Моряки ледокольного флота. 1972, море ЛаптевыхНа восток (песня)
В. Смилге
Словно вороны, чайки каркают На пороге злой зимы. За Печорою – море Карское, После – устье Колымы. Мне бы кружечку в руки пенную Да тараньки тонкий бок… А птицы все – на юг, а люди все – на юг, Мы одни лишь – на восток. Льдина встречная глухо стукнется За железною стеной. Острова кругом, как преступники, Цепью скованы одной. Лучше с Машкою влез бы в сено я, Подобрав побольше стог… А птицы все – на юг, а люди все – на юг, Мы одни лишь – на восток. Ох, и дурни мы, ох, и лапти мы, И куда же это мы? Море Карское, море Лаптевых, После – устье Колымы. Не давайте мне всю вселенную, Дайте солнца на часок. А птицы все – на юг, а люди все – на юг, Мы одни лишь – на восток. 1972, Восточно-Сибирское мореБухта Наталья (песня)
В распадках крутых непротаявший лед — Зимы отпечатки. Над бухтой Наталии рыбозавод У края Камчатки. Как рыбы, плывут косяки облаков, Над бухтой клубятся. Четыреста женщин – и нет мужиков: Откуда им взяться? И жаркие зыблются сны до утра Над бабьей печалью, Что где-то с добычей идут сейнера На бухту Наталью. На склонах во мхах, как огни маяков, Костры задымятся… Ведь нету в поселке своих мужиков — Откуда им взяться? По судну волна океанская бьет Сильнее свинчатки. Над бухтой Наталии рыбозавод У края Камчатки. Там гор в океан золотые края Уходят, не тая. Прощай, дорогая подруга моя, Наталья, Наталья! 1972«Кому-то родина и здесь…»
Кому-то родина и здесь, Где дерево расти не может, Где и олени обезножат В пути. Должно быть, что-то есть Для глаза местного и уха В холодной, плоской и пустой Земле, бесплодной, как старуха. Не отвергай ее, постой. Быть может, попросту, мой друг, Хозяев угощая чаем, Чего-то мы не замечаем, Что очевидно всем вокруг. 1972Российский бунт
В России бунты пахнут черноземом, Крестьянским потом, запахом вожжей. Прислушайся, и загудит над домом Глухой набат мужицких мятежей. Серпы и косы заблестят на солнце, — Дай выпрямиться только от сохи! С пальбой и визгом конница несется, И красные танцуют петухи. Вставай, мужик, помазанник на царство! Рассчитываться с барами пора! Жги города! – И гибнет государство, Как роща от лихого топора. Трещат пожары, рушатся стропила, Братоубийцу проклинает мать. Свести бы лишь под корень то, что было! На то, что будет, трижды наплевать! И под ярмо опять, чтоб после снова Извергнуться железом и огнем: Кто сверху ни поставлен – бей любого, — Хоть пару лет авось передохнем! 1972Почему расстались (песня)
Сильный и бессильный, Винный и безвинный, Словно в кинофильме «Восемь с половиной», Забываю вещи, Забываю даты — Вспоминаю женщин, Что любил когда-то. Вспоминаю нежность Их объятий сонных В городах заснеженных, В горницах тесовых. В теплую Японию Улетали стаи… Помню все – не помню, Почему расстались. Вспоминаю зримо Декораций тени, Бледную от грима Девочку на сцене, Балаган запойный Песенных ристалищ. Помню все – не помню, Почему расстались. Тех домов обои, Где под воскресенье Я от ссор с собою Находил спасенье. Засыпали поздно, Поздно просыпались. Помню все – не помню, Почему расстались. Странно, очень странно Мы с любимой жили: Как чужие страны, Комнаты чужие. Обстановку комнат Помню до детали, Помню все – не помню, Почему расстались. Век устроен строго: Счастье до утра лишь. Ты меня в дорогу Снова собираешь. Не печалься, полно, Видишь – снег растаял… Одного не вспомню — Почему расстались. 1972, остров ВайгачВспоминая Фейхтвангера (песня)
По-весеннему солнышко греет На вокзалах больших городов. Из Германии едут евреи В середине тридцатых годов. Поезд звонко и весело мчится По стране безмятежной и чистой, В воды доброго старого Рейна Смотрят путники благоговейно. Соплеменники, кто помудрее, Удивляются шумно: «Куда вы? Процветали извечно евреи Под защитой разумной державы. Ах, старинная кельнская площадь! Ах, саксонские светлые рощи! Без земли мы не можем немецкой, — Нам в иных государствах – не место!» Жизнь людская – билет в лотерее, Предсказанья – не стоят трудов. Из Германии едут евреи В середине тридцатых годов. От Германии, родины милой, Покидая родные могилы, Уезжают евреи в печали. Их друзья – пожимают плечами. 1973Пролив Сангар (песня)
Анне Наль
Бьет волна – за ударом удар. Чайки крик одинокий несется. Мы уходим проливом Сангар За Страну Восходящего Солнца. Всходит солнце – зеленый кружок, Берег узкий на западе тает. …А у нас на Фонтанке снежок, А у нас на Арбате светает… За кормою кружится вода. В эту воду, как в память, глядим мы. И любимые мной города Превращаются в город единый. Тихий смех позабывшийся твой Снова слышу, как слышал когда-то, Белой ночью над темной Невой, Темной ночью над белым Арбатом. Бьет волна – за ударом удар. Чайки крик одинокий несется. Мы уходим проливом Сангар За Страну Восходящего Солнца. И в часы, когда ветер ночной Нас уносит по волнам горбатым, Все мне снится мой город родной, Где встречаются Невский с Арбатом. 1973, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Тихий океан«В переулки старого Арбата…»
В переулки старого Арбата Забредя, как в воду по колени, Высятся дома-акселераты Над домами прежних поколений. Не толпою дружною, а порознь, Монументами без пьедестала, Поднялась их негустая поросль Из стекла, бетона и металла. Сквозь завесу дождика и ветра Из окна их вижу каждый день я, Идеал скупого геометра, Современных стилей порожденье. Всё стоят они при ярком свете, Неподвижны в уличном потоке, Словно наши выросшие дети, Равнодушны к нам и одиноки. 1973Арбатские старушки (песня)
Ах, как у времени нашего норов суров! Дня не пройдет, чтоб какой-нибудь дом не разрушить. Скоро не будет арбатских зеленых дворов, Скоро не будет арбатских веселых старушек. Ах, как стремительно мы убегаем вперед, — Что нам теперь деревянных домишек обломки? Что доживает, само постепенно умрет. То, что само не умрет, доломают потомки. Годы уходят, состаримся скоро и мы, — Смена идет нам, асфальтом на смену брусчатке, — Дети скрипящей и снежной арбатской зимы, Дети исчезнувшей ныне Собачьей площадки. Буду некстати теперь вспоминать перед сном Солнечный мир тишины переулков, в которых Не уважают газету и свой гастроном И уважают соседей, собак и актеров. Будет глаза мои радовать липовый цвет, Будут кругом улыбаться забытые лица. Нет разрушенья в помине, и времени нет, Да и войны никакой, говорят, не случится. Ах, как у времени норов сегодня суров! Дня не пройдет, чтобы что-нибудь в нас не разрушить. Скоро не будет арбатских зеленых дворов, Скоро не будет арбатских веселых старушек. 1974«Не так уж трудно дом переменить…»
Не так уж трудно дом переменить — Нам в молодости кажется, и жадно Мы ждем, когда спасительную нить Вручит очередная Ариадна. И, радостно переступив порог, Спешим без сожалений и оглядки По лабиринту жизненных дорог, Свои жилища руша, как палатки. За окнами меняется пейзаж — Сегодня море, послезавтра горы. Забудешь ты друзей своих и город, Но прошлое, кому его отдашь? Билет на поезд, авиабилет. Людские связи, словно струны, рвутся, И ничего на целом свете нет Страшнее невозможности вернуться. Меняются созвездия огней, Проносятся окрестные деревни, И скорости противятся деревья, Калеча сухожилия корней. 1974Кратер Узон
Узона марсианские цвета, Где булькают таинственные глины, Где неподвижен свет, и тени длинны, И чаша неба алым налита. Косяк гусей, прижившихся в тепле, Стараюсь ненароком не спугнуть я. Здесь киноварь рождается во мгле, Кровавя почву смертоносной ртутью. Земли новорожденной вид суров: Здесь пузыри вскипают неустанно И гейзеры взлетают, как фонтаны, Над спинами коричневых китов. Здесь понимаешь: сроки коротки И ненадежна наша твердь земная, Где словно льды плывут материки И рушатся, друг друга подминая. И мы живем подобием игры, Ведя подсчет минутным нашим славам, На тоненькой пластиночке коры, Над медленно клубящимся расплавом. 1974, КамчаткаДворы-колодцы
Дворы-колодцы детства моего, Я вижу их из года в год все ближе. На них ложился отблеск солнца рыжий, Над ними выли голоса тревог. Слетал в них сверху нежный пух зимы, Осколки били проходящим градом. Здесь жили кошки, голуби и мы — Болезненные дети Ленинграда. Нас век делил на мертвых и живых. В сугробах у ворот лежала Мойка, И не было отходов пищевых В углу двора, где быть должна помойка. Но март звенел капелью дождевой, Дымилась у камней земля сырая. Мы прорастали бледною травой Меж лабиринтов дровяных сараев. И плесень зацветала на стене, И облака всходили желтой пеной, И патефон в распахнутом окне Хрипел словами песни довоенной. Дворы-колодцы, давнее жилье Мне в вас теперь до старости глядеться, Чтобы увидеть собственное детство — Былое отражение свое. 1974Годовщина прорыва блокады
Мне эта дата всех иных Важнее годовщин, Поминки всех моих родных — И женщин, и мужчин. Там снова тлеет, как больной, Коптилки фитилек, И репродуктор жестяной Отсчитывает срок. Я становлюсь, как в давний год, К дневному шуму глух, Когда из булочной плывет Парного хлеба дух. Сказать не смею ничего Про эти времена. Нет мира детства моего, — Тогда была война. 1974День Победы
Подобье черно-белого экрана Скупая ленинградская природа. По улице проходят ветераны, Становится их меньше год от года. Сияет медь. Открыты окна в доме. По мостовой идут они, едины, И сверху мне видны, как на ладони, Их ордена и сгорбленные спины. С годами все трудней их марш короткий, И слезы неожиданные душат От их нетвердой старческой походки, От песен их, что разрывают душу. И взвода не набрать им в каждой роте. Пусть снято затемненье в Ленинграде, — Они одни пожизненно – на фронте, Они одни пожизненно – в осаде. И в мае, раз в году, по крайней мере, Приходится им снова, как когда-то, Подсчитывать растущие потери, Держаться до последнего солдата. 1974Царское Село (песня)
Давай поедем в Царское Село, Где птичьих новоселий переклички. Нам в прошлое попасть не тяжело, — Всего лишь полчаса на электричке. Там статуи, почувствовав тепло, Очнулись вновь в любовном давнем бреде. Давай поедем в Царское Село, Давай поедем! Не крашенные за зиму дворцы, Не стриженные за зиму деревья. Какие мы с тобою молодцы, Что бросили ненужные кочевья! В каком краю тебе бы ни везло, Без детства своего ты всюду беден, — Давай поедем в Царское Село, Давай поедем! В зеленом и нетающем дыму От дел своих сегодняшних проснуться, К утраченному миру своему Руками осторожно прикоснуться… Ну, кто сказал: воспоминанья – зло? — Оставим эти глупости соседям! Давай поедем в Царское Село, Давай поедем! Орут грачи веселые вокруг, И станет неожиданно понятно, Что кончился недолгой жизни круг И время поворачивать обратно: Увидеть льда зеркальное стекло И небо над ветвями цвета меди, — Давай поедем в Царское Село, Давай поедем! 1974, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Тихий океанПамятник в Пятигорске (песня)
Продает фотограф снимки, О горах толкует гид. На Эльбрус, не видный в дымке, Молча Лермонтов глядит. Зеленеют склонов кручи, Уходя под облака. Как посмели вы, поручик, Не доехать до полка? Бронза греется на солнце. Спят равнины зыбким сном. Стриж стремительный несется Над пехотным галуном. Долг вам воинский поручен, — Проскакав полтыщи верст, Как посмели вы, поручик, Повернуть на Пятигорск? Пикники и пьянки в гроте, Женщин томные глаза… Ваше место – в вашей роте, Где военная гроза. Там от дыма небо серо, Скачут всадники, звеня. Недостойно офицера Уклоняться от огня. Ах, оставьте скуку тыла И картежную игру! Зря зовет вас друг Мартынов Завтра в гости ввечеру. На курорте вы не житель, — В деле было бы верней. Прикажите, прикажите Поутру седлать коней! 1974Ессентуки (песня)
Пока сухая осень Стоит в Ессентуках, Деревья гнезда носят На согнутых руках И лист в оконной раме В стекло стучится, пьян, И в парке вечерами Танцуют под баян. Пока сухая осень Не кончилась, пока Серебряная проседь На склоне Машука, Где вкус соленой влаги За век не стал новей, И листья, словно флаги, Приспущены с ветвей, — Спешите ж, отдыхая, Болтать о пустяках, — Пока пора сухая Стоит в Ессентуках. Потом дожди зарядят, Объявится река, Воды седые пряди Распустят облака. Пока же стук каштана Не слышен за плечом, И даже думать странно, Что мир наш обречен. И, звезд сжигая свечи, Торжественен и строг, Горит прощальный вечер, Как праздничный пирог. 1974Сидней
По улицам вечернего Сиднея Река машин струится и над нею Огни реклам разбрызгивают свет, И я любуюсь, человек прохожий, На рыжеватых женщин с бледной кожей, На ноги их, которым равных нет. Кинотеатры, клубы, кегельбаны, Призывно бьют буддисты в барабаны, Стараясь души слабые увлечь, Мясные лавки, праздник для утробы, Металлом стен мерцают небоскребы, Внезапен звук, разноязыка речь. Играют в гольф на стриженых площадках, Катаются на маленьких лошадках; Раскинув необъятные поля, Меж городов, не знавших затемнений, Лежит, как в кружевах, в прибойной пене Спокойная и сытая земля. Вдали от континентов беспокойных, Горящих в революциях и войнах, От тонущих и рушащихся стран, Под парусами гор, одетых снегом, Она зеленым Ноевым ковчегом Плывет из океана в океан. Как будто вовсе нет войны на свете, Нарядны парки, и нарядны дети, Найдешь здесь все, чего бы ни спросил, Как далеко от звезд чужого неба До мерзлой пайки карточного хлеба, До пискаревских горестных могил. Австралия, тепла и мира остров, Среди твоей толпы, цветной и пестрой, Не отыщу того, кого люблю, Я – космонавт, туманами одета, Покинутая ждет меня планета, И время возвращаться к кораблю. 1974Новая Зеландия (песня)
Джуди Холловей
Не повышает настроения Лесистых склонов красота. У нас теперь капель весенняя, А здесь осенние цвета. Веселый марш играет радио, Вода запела под винтом. Прощай же, Новая Зеландия, Прощай же, город Веллингтон. Здесь мной не пахано, не сеяно, Не для меня тепла вода. В краю, где солнце светит с севера, Не знать мне женщин никогда. Грущу сейчас чего же ради я И вспоминаю не о том?.. Прощай же, Новая Зеландия, Прощай же, город Веллингтон. В московском утреннем автобусе, От берегов твоих вдали, Я вспомню вдруг, что есть на глобусе Полоска узкая земли. Не потерять того, что найдено На берегу твоем крутом. Прощай же, Новая Зеландия, Прощай же, город Веллингтон. 1974, Веллингтон Александру Кушнеру«Шалея от отчаянного страха…»
Шалея от отчаянного страха, Непримиримой правдою горя, Юродивый на шее рвал рубаху И обличал на площади царя. В стране, живущей среди войн и сыска, Где кто берет на горло, тот и нов, Так родилась в поэзии российской Преславная плеяда крикунов. Но слуховое впечатленье ложно. Поэзия не факел, а свеча, И слишком долго верить невозможно Поэтам, поучающим, крича. Извечно время – слушатель великий. Столетие проходит или два, И в памяти людской стихают крики И оживают тихие слова. 1974Декабристы
Над площадью Сенатской серебристой Морозное дыхание зимы, Любовь и совесть наша – декабристы, О вас все чаще вспоминаем мы. О чем мечтать, за что вам было биться? Вам подарили железа оков Горячечные речи якобинцев, Глухие стоны ваших мужиков. Мальчишки, вас тревожили гитары, Вы бредили стихами до зари, Полковник Пестель был из самых старых, А Пестелю от силы тридцать три. Но, жизнь свою отдавшие задаром, Свободу объявившие на час, Вы шли на смерть, расчетливым жандармам И на допросах лгать не научась. Остановитесь, вот вино и карты, Все подвиги и жертвы ваши зря, Трудней, чем целый мир от Бонапарта, Освободить Россию от царя. 1975Остров Маккуори
В пространстве ледяном Огонь мерцает в море, — Взгляни же перед сном На остров Маккуори, Плывущий из сегодня во вчера. Сейчас там дождь и мрак, Туссок двуостролистый, И синезвездный флаг, И двадцать австралийцев, Исследующих сушу и ветра. Ты слышишь трубный звук, — Слоны трубят в тумане, Зовя своих подруг. Их водоросли манят В холодные подводные леса. Литые их тела Покрыты горькой пылью, И вторит им скала, Где пахнущая гнилью Прибойная вскипает полоса. Густеет темнота. Мне не вернуть теперь их, — Безлюдные места, Где падает на берег Тяжеловесный занавес дождя. Там утром над водой, Настоянной, как вина, Над пеною седой Беседуют пингвины, Руками по-одесски разводя. Покинут материк, Текут морские мили. Покажется на миг, Что нету и в помине Земли той, где родился ты и рос, — На острове крутом Твои остались корни, Где быстрый, как «Фантом», Пикирует поморник, И над гнездом танцует альбатрос. Смотри же на залив, Где дышит Антарктида. Так, ужас затаив, В преддверии Аида Цеплялись греки глазом за края Покинутой земли, И с середины Стикса Назад, пока могли, Смотрели, зубы стиснув: Недобрая, а все-таки своя. Очерчен контур гор Путем неярким Млечным, И остров, как линкор, Уходит курсом встречным, — Был близок он и сразу стал далек. Там мечется трава В прибойном гулком плеске, И все – лишь острова, Короткие отрезки, Как ты, как я, как наших жизней срок. 1976Тихий океан (песня)
Лист последний на окне С тонкой ветки сброшен. Утро летное вполне, А в глазах туман. Не дари, прощаясь, мне Ни цветов, ни брошек, — Подари мне на прощанье Тихий океан. Там волна стирает камень, Закипая в пене, Там сырую соль комками Смахивают с губ, Там внизу под облаками Шторм гудит осенний, Там стоит над облаками Остров Итуруп. И когда зальет вода Круглое окошко И покатится тайфун, Тучи теребя, Я ревущий океан Полюблю немножко И немножко научусь Понимать тебя. Будет осень зажигать Медленное пламя На крутом и на горячем Краешке земли. Ах, зачем боимся мы Так своих желаний, От штормов за остров прячась, Словно корабли? Не спеши переживать, Милый мой, хороший, Что вина не наливать Нам в один стакан. Не дари, прощаясь, мне Ни цветов, ни брошек, — Подари мне на прощанье Тихий океан. 1976«Доверяя себя кораблю…»
Доверяя себя кораблю, На чужую любуясь природу, Только плоскую сушу люблю, Только серую финскую воду. И ни явь, ни цветное кино, У меня не сумеют отнять их, Потому что изжить не дано Неизменности детских понятий. Потому что, еще не видна За поющей трубой водостока, Начинается площадь с окна, Начинается улица с Блока. И пролет разводного моста Возвращает нас в прошлое снова, И до смерти любить нам места, Где впервые увидено слово. 1976Острова в океане (песня)
И вблизи, и вдали – всё вода да вода. Плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то. Ах, питомцы Земли, как мы рады, когда На локаторе вспыхнет мерцающий контур! Над крутыми волнами в ненастные дни, И в тропический штиль, и в полярном тумане Нас своими огнями всё манят они, Острова в океане, острова в океане. К ночи сменится ветер, наступит прилив. Мы вернемся на судно для вахт и авралов, Пару сломанных веток с собой прихватив И стеклянный рисунок погибших кораллов. И забудем мы их, как случайный музей, Как цветное кино на вчерашнем экране, — Те места, где своих мы теряем друзей, — Острова в океане, острова в океане. А за бортом темно. Только россыпь огней На далеких хребтах, проплывающих мимо. Так ведется давно – с незапамятных дней. И останется так до скончания мира. Не спеши же мне вдруг говорить про любовь, — Между нами нельзя сократить расстояний, Потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой Острова в океане, острова в океане. 1976, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Тихий океанМеж Москвой и Ленинградом (1977–1983)
Петербург
Кем вписан он в гранит и мох, Рисунок улиц ленинградских, На перепутье двух эпох, Бессмысленных и азиатских? Насильно Русь привел сюда Разочарованный в Востоке Самодержавный государь, Сентиментальный и жестокий. Здесь, первый выплавив металл, Одев гранитом бастионы, Он об Италии мечтал, О звонкой славе Альбиона. Не зря судьба переплела Над хмурой невскою протокой Соборов римских купола, Лепное золото барокко. И меж аллей, где тишина Порхает легкокрылым Фебом, Античных статуй белизна Сливается с полночным небом. Прости же, Англия, прости И ты, Италия седая! Не там Владимир нас крестил — Был прав безумный Чаадаев. Но, утомленные Москвой, Купив билет на поезд скорый, С какой-то странною тоской Мы приезжаем в этот город. И там, где скользкие торцы Одела влажная завеса, В молчанье смотрим на дворцы, Как скиф на храмы Херсонеса. Шумит Москва, Четвертый Рим, Грядущей Азии мессия, А Петербург – неповторим, Как Европейская Россия. 1977Время потерь
Неприкрытая хлопает дверь, Под деревьями мечутся тени. Вслед за возрастом приобретений Начинается возраст потерь. Начинается время потерь. Выбирай себе ношу полегче. Перед тем, как подставить ей плечи, Восемь раз ее прежде измерь. Ненадежна истлевшая нить Отношений, которыми жили. Дети выросли, стали чужими. Новых поздно уже заводить. Начинается время потерь, Время неизлечимых болезней. Во влюбленных девчонок не верь, — Для тебя это будет полезней. Начинается время потерь, Старых истин и старых понятий. Опасайся нечаянных пятен: Не успеешь свести их теперь. 1977Утки летят с Итурупа
Черт окаянный загнал нас сюда. Небо краями закрыла вода. Пляшут, как пьяные, в бухте суда Однообразно и тупо. Пляшет пространство за круглым окном. В рубке бесстрастно стучит метроном. Южною трассой – звено за звеном — Утки летят с Итурупа. Мир однократен, как тени в углу. Кратер на кратер, скала на скалу, Камень истратив себе в похвалу, Бог понаставил не скупо. Видишь, циклона растет полоса. Осень со склона стирает леса. Что предрекло нам два этих часа? Утки летят с Итурупа. Серые тучи и облака мех. Полон горючим, как танкер, стармех. С помощью ручек уйти от помех Пробует радиогруппа. Иней морозный, вершины в снегу, Враг неопознанный на берегу. Поздно – тебя удержать не могу. Утки летят с Итурупа. Прянула стая и скрылась во мгле. Капли, не тая, дрожат на стекле. Тесно нам станет теперь на Земле. Выпьем, – надеяться глупо. Вряд ли надеждой тебя удивлю. Якорь не держит – беда кораблю, Голосом тем же не скажешь «Люблю», — Утки летят с Итурупа. Молодость наша летит над тобой, Крыльями машет над бездной рябой. Траурным маршем гремит нам отбой Ветра неистовый рупор. Празднуем тризну – уходит тепло, Губы капризной улыбкой свело. Кончено – время мое истекло: Утки летят с Итурупа. 1977Меж Москвой и Ленинградом (песня)
Меж Москвой и Ленинградом Над осенним желтым чадом Провода летят в окне. Меж Москвой и Ленинградом Мой сосед, сидящий рядом, Улыбается во сне. Взлет, падение и снова Взлет, паденье – и опять Мне судьба велит сурово Всё сначала начинать. Меж Москвой и Ленинградом Я смотрю спокойным взглядом Вслед несущимся полям. Все события и люди, Всё, что было, всё, что будет, Поделилось пополам. Меж Москвой и Ленинградом Шесть часов – тебе награда, В кресло сядь и не дыши. И снует игла экспресса, Сшить стараясь ниткой рельса Две разрозненных души. Меж Москвой и Ленинградом Теплый дождь сменился градом, Лист родился и опал. Повторяют ту же пьесу Под колесами экспресса Ксилофоны черных шпал. Белит ветер снегопадом Темь оконного стекла. Меж Москвой и Ленинградом — Вот и жизнь моя прошла… 1977Предательство (песня)
Предательство, предательство, Предательство, предательство — Души незаживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, Рыдать устал, рыдать устал, Рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за тридевять земель Трубы серебряная трель, И лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, Когда пробитая шинель От выстрела дымится на спине? Вина твоя, вина твоя, Что надвое, что надвое Судьбу твою сломали, ротозей, Жена твоя, жена твоя, Жена твоя, жена твоя, Жена твоя и лучший из друзей. А все вокруг – как будто «за», И смотрят ласково в глаза, И громко воздают тебе хвалу, А ты – добыча для ворон, И дом твой пуст и разорен, И гривенник пылится на полу. Учитесь вы, учитесь вы, Учитесь вы, учитесь вы, Учитесь вы друзьям не доверять. Мучительно? – Мучительно! Мучительно? – Мучительно. — Мучительнее после их терять. И в горло нож вонзает Брут, А под Тезеем берег крут, И хочется довериться врагу! Земля в закате и в дыму — Я умираю потому, Что жить без этой веры не могу. Предательство, предательство, Предательство, предательство — Души незаживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, Рыдать устал, рыдать устал, Рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за тридевять земель Трубы серебряная трель, И лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, Когда пробитая шинель От выстрела дымится на спине! 1977След в океане
В ночи Венера надо мной Горит, как дальнее окошко. Смотрю назад, где за кормой Кружится водяная крошка. Там пенный след вскипает, крут, На дне бездонного колодца, А через несколько минут Волна волной перечеркнется. С водою сдвинется вода, Сотрет затейливый рисунок, — Как будто вовсе никогда Ее не вспарывало судно. Ученые немало лет Гадают за закрытой дверью, Как обнаружить этот след, Чтоб лодку выследить, как зверя. Среди безбрежной синевы Их ожидают неудачи, Поскольку нет следа, увы, И нет решения задачи. И ты, плывущий меж светил, Недолог на своей орбите, Как этот путь, что прочертил По небосводу истребитель, Как облаков холодный дым, Что завивается, как вата, Как струйка пенная воды, Что называется «кильватер». События недолгих лет Мелькнут, как лента на экране, И ты пройдешь, как этот след В невозмутимом океане. 1977Понта-Дельгада (песня)
В городе Понта-Дельгада Нет магазинов роскошных, Гор синеватые глыбы Тают в окрестном тумане. В городе Понта-Дельгада Девочка смотрит в окошко, — Красной огромною рыбой Солнце плывет в океане. В городе Понта-Дельгада, Там, где сегодня пишу я, Плющ донжуаном зеленым Одолевает балконы. Трели выводит цикада, Улицы лезут по склонам, Явственен в уличном шуме Цокот медлительный конный. Спят под лесами вулканы, Как беспокойные дети. Подняли жесткие канны Красные свечи соцветий. Ах, это все существует Вот уже восемь столетий — Юбки метут мостовую, Трогает жалюзи ветер. Если опять я устану От ежедневной погони, Сон мне приснится знакомый — Ночи короткой награда: Хлопают черные ставни, Цокают звонкие кони В городе Понта-Дельгада, В городе Понта-Дельгада. 1977, научно-исследовательское судно «Академик Курчатов», Атлантический океанПетр Третий («Немецкий принц, доставленный в Россию…»)
Немецкий принц, доставленный в Россию, Где груб народ, напитки и закуски, В солдатики играл, читал Расина, И не учился говорить по-русски. Все делавший без толку и некстати, Казался слабоумным он и хилым. В своем дворце убогом в Петерштадте, В алькове под тяжелым балдахином, Он пробуждался, страхами измучен, И слушал, как часы негромко били, И озирался на окно, где тучи На родину неторопливо плыли. Холодный ветер приносил с востока Рассветных красок розовые перья. Вздыхая о Германии далекой, Дежурный офицер дремал за дверью. Болезненный, худой, одутловатый, Под барабаны, что играли зорю, Принц одевался, плечики из ваты Топорщились на набивном камзоле. И в зеркало балтийской светлой ночью Смотрелся над шандалом трехсвечевым. Мечтал ли он, голштинец худосочный, Об облике ужасном Пугачева? 1977Батюшков
Не пошли, Господь, грозу мне Тридцать лет прожить в тоске, Словно Батюшков безумный, Поселившийся в Москве. Объявлять при всем народе, Не страшась уже, как встарь, Что убийца Нессельроде, Что преступник – государь. Стать обидчивым, как дети, Принимать под ветхий кров Италийский синий ветер, Лед Аландских островов. Тридцать лет не знать ни строчки, Позабыть про календарь, И кричать в одной сорочке: «Я и сам на Пинде царь!» И сидеть часами тихо, Подойти боясь к окну, И скончаться вдруг от тифа, Как в Гражданскую войну. 1977Матюшкин
Вольховский, первый ученик, Князь Горчаков и гений Пушкин… Всех дальновиднее из них Был мореплаватель Матюшкин, Что, поручив себя волнам, Сумел познать все страны света, И жаль, что он известен нам Лишь как лицейский друг поэта. Не дал он (не его вина) Законов мудрых для державы, За стол багряного сукна Не приглашал его Державин, Но вне покинутой земли Такие видел он пейзажи, Каких представить не могли Ни Горчаков, ни Пушкин даже. Жил долго этот человек И много видел, слава Богу, Поскольку в свой жестокий век Всему он предпочел дорогу. И, к новым нас зовя местам, От всех сомнений панацея, Зеленый бронзовый секстан Пылится в комнатах Лицея. 1977«Физически нельзя / Быть в курсе всех событий…»
Физически нельзя Быть в курсе всех событий. Как Батюшков сказал — Талант нелюбопытен. Он прочим – не чета. Рождающему слово Не надо все читать, — Возьмите хоть Крылова. Не могут наших дум Постигнуть иноверцы. Ученость сушит ум, Рассеяние – сердце. Иных времен тоска, Морей нездешних бури, — Себя не отыскать В чужой литературе. Все ведать – нужды нет Тому, кто сердцем точен: Действительный поэт Всегда сосредоточен. 1977Два Гоголя
Два Гоголя соседствуют в Москве. Один над облаками дымной гари Стоит победоносно на бульваре, И план романов новых в голове. Другой неподалеку за углом, Набросив шаль старушечью на плечи, Сутулится, душою искалечен, Больною птицей прячась под крылом. Переселен он с площади за дом, Где в тяжких муках уходил от мира, И гость столицы, пробегая мимо, Его заметит, видимо, с трудом. Два Гоголя соседствуют в Москве, Похожи и как будто не похожи. От одного – мороз дерет по коже, Другой – сияет бронзой в синеве. Толпой народ выходит из кино, А эти две несхожие скульптуры — Два облика одной литературы, Которым вместе слиться не дано. 1977Пасынки России
…Глаз разрез восточный узкий, Тонкий локон на виске. Хан Темир, посланник русский, Переводит Монтескье. От полей вдали ледовых Обласкал его Людовик, Но, читая Монтескье, Он вздыхает о Москве. …Громко всхрапывают кони, Дым костра и звон оков. Жизнь и честь свою полковник Отдает за мужиков. Что ему до их лишений? На его немецкой шее, Любопытных веселя, Пляшет русская петля. …Зодчий Карл Иваныч Росси, И художник Левитан, Как ответить, если спросят, Кто вы были меж славян? Кто вы, пасынки России, Неродные имена, Что и кровь свою, и силы Отдавали ей сполна? Тюрки, немцы или греки? Из каких вы родом стран? Имена теряют реки, Образуя океан. 1977Карамзин
Вот доска вниманью граждан: Много лет и много зим В этом доме двухэтажном Жил писатель Карамзин. Отказавшийся от славы Для упорного труда, Изучал он жизнь державы В стародавние года. Крест мерцает на мундире. Не придумать, хоть умри, Чтобы жили в общем мире Хлебопашцы и цари. Но покуда были силы, В размышлениях о том, Он историю России Составлял за томом том. Время дни на нитку нижет. Над виском седеет прядь. Чем века подходят ближе, Тем трудней о них писать. Шесть томов, потом двенадцать… «Все, – сказал он, – не могу». Били пушки на Сенатской. Кровь чернела на снегу. Терся нищий возле дома, Словно что-то потерял. Для тринадцатого тома Начинался матерьял. 1977Старый Пушкин
И Пушкин, возможно, состарившись, стал бы таким, Как Тютчев и Вяземский, или приятель Языков. Всплывала бы к небу поэм величавых музыка, Как царских салютов торжественный медленный дым. И Пушкин, возможно, писал бы с течением дней О славе державы, о тени великой Петровой, — Наставник наследника, гордость народа и трона, В короне российской один из ценнейших камней. Спокойно и мудро он жил бы, не зная тревог. Настал бы конец многолетней и горькой опале. И люди при встрече шептали бы имя его, И, кланяясь в пояс, поспешно бы шапки снимали, Когда оставляя карету свою у крыльца, По роскоши выезда первым сановникам равен, Ступал он степенно под светлые своды дворца, С ключом камергера, мерцая звездой, как Державин. Царем и придворными был бы обласкан поэт. Его вольнодумство с годами бы тихо угасло. Писалась бы проза. Стихи бы сходили на нет, Как пламя лампады, в которой кончается масло. А мы вспоминаем крылатку над хмурой Невой, Мальчишеский профиль, решетку Лицейского сада, А старого Пушкина с грузной седой головой Представить не можем; да этого нам и не надо. 1978Могила декабристов
Над ними нет ни камня, ни креста, Могила их – весь остров Декабристов, Где новую сооружают пристань, Преображая топкие места. А за моим окном который год Горит прожектор возле обелиска. Там далеко от снов моих и близко Их облик неопознанный живет. То меркнет он, то светится опять. Запомнятся мне, видимо, до смерти Чугун решетки, шпаги рукоять И цепи на гранитном постаменте. И где б теперь я ни был, все равно В потустороннем сумеречном дыме Я вижу заснеженное окно И церковь, вознесенную над ними, Где в синеве заоблачных высот Сияет шпиль, хлопочут птичьи стаи И ангел крест над городом несет, Не ведая, куда его поставить. 1978Кюхельбекер
Когда б я вздумал сеять хлеб И поучать других при этом, Я был бы, видимо, нелеп, Как Кюхельбекер с пистолетом. Ах, эти ночи над Невой И к рифме сладкое влеченье, Азарт атаки штыковой И безысходность заточенья! Превозмогая боль и страх, Сырой овчиной руки грея, В чужом тулупе, в кандалах, Был так похож он на еврея, Когда оброс и исхудал, Что Пушкин в темном помещенье Его при встрече не узнал И отвернулся с отвращеньем. Судьба сказала: «Выбирай!» И поменял любовник пылкий Прибалтики цветущий край На тяготы Сибирской ссылки, Чтобы среди чужих степей, Свой быт уподобляя плачу, Былых оплакивать друзей И Якубовича в придачу. Когда, касаясь сложных тем, Я обращаюсь к прошлым летам, О нем я думаю, затем Что стал он истинным поэтом. Что, жизнь окончив на щите, Душою по-немецки странен, Он принял смерть – как россиянин: В глуши, в неволе, в нищете. 1978Веневитинов
Рожденный посреди созвездий С талантом редким и умом, Был Веневитинов с письмом В столице схвачен по приезде. «Как ведал жизнь! Как жил он мало!», Когда, бестрепетно легка, Его на гибель обрекала Любимой женщины рука. Недолго длилось заключенье — Дней пять от силы или шесть, Но, видимо, причина есть Тому, что впрок не шло леченье, Что умер он от странной боли, Которой и названья нет… Поэт не может жить в неволе, А кто живет, тот не поэт. 1978Ах, зачем вы убили Александра Второго (песня)
Ах, зачем вы убили Александра Второго? Пали снежные крылья на булыжник багровый. В полном трауре свита спешит к изголовью. Кровь народа открыта государевой кровью. Ненавистники знати, вы хотели того ли? Не сумели понять вы Народа и Воли. Он в подобной заботе нуждался едва ли, — Вас и на эшафоте мужики проклинали. Бросьте браунинг ржавый, было б знать до поры вам: Не разрушить державы неожиданным взрывом. Может снег этот сонный лишь медленно таять. Не спешите же, Соня, метальщиков ставить. Как пошло, так и вышло: неустройства и войны, пулеметные вышки и крики конвойных, Туча черная пыли над колонной суровой… Ах, зачем вы убили Александра Второго? 1978Города
Великие когда-то города Не вспоминают о своем величье. Владимиру не воротить обличья, Которое разрушила Орда. Ростов Великий вовсе не велик — Собор да полустершиеся плиты. И Новгород, когда-то знаменитый, Совсем не тот, что знали мы из книг. Не сетует на Зевса Херсонес, В чужом краю покинутый ребенок, И Самарканд, песками погребенный, Давно уже не чудо из чудес. Великие когда-то города Не помышляют об ушедшей славе. Молчат колокола в Переяславле, Над Суздалем восходит лебеда. Они меж новых городов и сел — Как наши одноклассники-ребята, Что были в школе первыми когда-то, А жизнь у них не вышла. Вот и все. 1978«Любимцы и избранники народа…»
Любимцы и избранники народа, Мне чужда ваша пылкая природа И пламень ваших дерзостных речей. Не впрок вам государственные дачи, В семейной жизни вам не знать удачи, Поскольку общий – стало быть – ничей. За вами города лежат во прахе, И вы летите, заломив папахи, Стараясь бомбой сделать каждый стих. В довольстве ваш народ или во страхе — Равно трибуны временны и плахи, И сходство есть в архитектуре их. Взгляните – пьедесталы ваши пусты, На новые нахмуренные бюсты Переливают прежних статуй медь. Гремит война, а толпы все несметны. Строители и пахари бессмертны, — Бессмертен тот, чья незаметна смерть. В чести вы, но придет пора иная. На стол вы карты мечете, не зная, Что ставка – жизнь в копеечной игре. А за окном клубится запах хлеба, Закатом осень поджигает небо, И звонкий лист блуждает во дворе. Недолго утешаться вам речами, Бьет кровь над опустевшими плечами, — Палач, рубаху новую готовь! Пускай нас минет пуще всех печалей И рабский гнев, и рабская любовь! 1978Гамлет (песня)
Владимиру Высоцкому в роли Гамлета
Нищета по всей земле И тщета, — Почему при короле Нет шута? В небе птиц кружится стая, Но вакансия пустая В штате датского двора, Как вчера. Шут бы Гамлета отвлек, Рассмешил, — Тот бы браться за клинок Не спешил, Не лежал бы Гамлет в яме, А смеялся бы с друзьями, И забыли бы про тень В тот же день. Окрик стражника во мгле, Звон щита… Почему при короле нет шута? Меж камней ржавеют латы, Спотыкаются солдаты И качаются вдали Корабли. Был король совсем иной Старый Лир, Что себя своей землей Обделил: В полновластии, в беде ли Был король он в самом деле, — Шут и вечером, и днем Был при нем. …Каркнул ворон на скале: Власть не та, — Почему при короле Нет шута? В стороне, где нету смеха, Только крик разносит эхо, Только лязганье мечей Палачей. Нищета по всей земле И тщета, — Почему при короле Нет шута? Нищета по всей земле И тщета… 1978Блудный сын. Якопо Пальма Младший
Не увязать причин и следствий, Не став голодным и босым. Еще отцовское наследство Проматывает блудный сын. Еще сидит меж женщин грубых, Чья кожа юная свежа, Одну из них целуя в губы, Другую – за руку держа. Сияет день во всей округе. Не оскудел вином сосуд, И виноград лиловый слуги На серебре ему несут. Играет кровь в румяном теле, Зовут далекие места. Еще его не одолели Раскаянье и нищета. Он юн и глуп еще, и все же Он интересен мне таким, Пока грехов любовных ложе Его возносит словно дым, Пока он не припал, увечен, К отцовской высохшей ноге, И тонкие пылают свечи На непочатом пироге. 1978Горчаков
В ночь на 15 декабря 1825 года Горчаков пытался спасти Пущина от ареста
Из исторических документов Город ноет, как свежая рана. У рогаток двойная охрана. Гулкий окрик и цокот подков. Посреди часовых и бурана Он куда так торопится рано, Осторожнейший князь Горчаков? Государю он предан – нет нужды, Мятежи ему странны и чужды. Отчего же, понять мудрено, Этой ночью, морозной и серой, Он рискует судьбой и карьерой, От жандармов спасая Жанно? Не вчера ли, в чулках и при шпаге, Торопился он в Зимний к присяге, Слыша пушек медлительный гром? Завтра в Лондон он едет, приказный, Чтоб Тургенева вызвать для казни Или силою или добром. Но пока не проснулась столица, Он, в тревоге, что медлит возница, Напряженно глядит из окна, И пылает меж снежного чада Безмятежных пирушек лампада, Что в Лицее была зажжена. 1978Ахматова
Разжигать по утрам керосинки мерцающий свет, Жить на горькой Земле равнодушно, спокойно и долго И всегда обращаться к тому лишь, кого уже нет, С царскосельской дорожки, из Фонтанного мертвого дома. Пить без сахара чай, слушать шум заоконной листвы В коммунальных квартирах, где свары кухонные грубы, И смотреть на живущих – как будто поверх головы, Обращаясь к ушедшим, целуя холодные губы. Взгляды в спину косые, по-нищенски скудный обед. Непрозрачная бездна гудит за дверною цепочкой. И берет бандероль, и письма не приносит в ответ Чернокрылого ангела странная авиапочта. 1978Ностальгия
Белой ночи колодец бездонный И Васильевский в красном дыму. Ностальгия – тоска не по дому, А тоска по себе самому. Этой странной болезнью встревожен, Сквозь кордоны границ и таможен Не спеши к разведенным мостам: Век твой юный единожды прожит, Не поможет тебе, не поможет Возвращение к прежним местам. На столе институтские снимки, Где Исаакий в оранжевой дымке И канала цветное стекло. Не откроются эти скрижали. Мы недавно сюда приезжали, После выпили, – не помогло. Этот контур, знакомый и четкий, Эти мальчики возле решетки, Неподвижная эта вода. Никогда не стоять тебе с ними, Не вернуться на старенький снимок Никогда, никогда, никогда. 1979Самозванец
Два пальца, вознесенных для креста, Топор и кнут. В огне не сыщешь броду. О, самозванство – странная мечта, Приснившаяся русскому народу. Отыскивая этому причину, Я вижу вновь недолгую личину, Народную беду и торжество, Лжедмитрия бесславную кончину И новое рождение его. Что проку пеплом пушку заряжать, Кричать с амвона, чуя смертный запах? Сегодня ты им выстрелишь на запад — Назавтра он воротится опять. Под Тушино хмельную двинет рать, Объявится с Болотниковым в Туле, Чугунным кляпом в орудийном дуле Застрянет, чтобы снова угрожать. Не красоваться у Москвы-реки Боярским, соболями крытым шубам, К палатам опустевшим мужики Идут толпой с «невежеством и шумом». И за веревку дергает звонарь. И вызревает вновь нарыв на теле. Дрожи, Москва, – грядет мужицкий царь! Ликуй, Москва, – он царь на самом деле! Его казнят, и захлебнется медь, Но будут век по деревням мужчины Младенцам песни дедовские петь При свете догорающей лучины И, на душу чужих не взяв грехов, Все выносить – и барщину, и плети, Чтоб о Петре неубиенном Третьем Шептались вновь до первых петухов. 1979«Стою, куда глаза не зная деть…»
Стою, куда глаза не зная деть, И думаю, потупясь виновато, Что к городу, любимому когда-то, Как к женщине, возможно охладеть. И полюбить какой-нибудь другой, А после третий – было бы желанье. Но что поделать мне с воспоминаньем Об утреннем асфальте под ногой? Мне в доме старом нынче – не житье. Сюда надолго не приеду вновь я. Но что поделать с первою любовью, С пожизненным проклятием ее? Обратно позовет, и все отдашь, И улыбнешься горестно и просто, Чтобы опять смотреть с Тучкова моста На алый остывающий витраж. Горит полнеба в медленном дыму, Как в дни, когда спешил на полюс «Красин», И снова мир печален и прекрасен, — Как прожил без него я, не пойму. 1979Памяти Владимира Высоцкого
1. «Погиб поэт..»
Погиб поэт. Так умирает Гамлет, Опробованный ядом и клинком. Погиб поэт, а мы вот живы, – нам ли Судить о нем как встарь – обиняком? Его словами мелкими не троньте, — Что ваши сплетни суетные все! Судьба поэта – умирать на фронте, Вздыхая о нейтральной полосе. Где нынче вы, его единоверцы, Любимые и верные друзья? Погиб поэт, не выдержало сердце, — Ему и было выдержать нельзя. Толкуют громко плуты и невежды Над лопнувшей гитарною струной. Погиб поэт, и нет уже надежды, Что это просто слух очередной. Теперь от популярности дурацкой Ушел он за иные рубежи: Тревожным сном он спит в могиле братской, Где русская поэзия лежит. Своей былинной не растратив силы, Умолк певец, набравши в рот воды, И голос потерявшая Россия Не замечает собственной беды. А на дворе – осенние капели, И наших судеб тлеющая нить. Но сколько песен все бы мы ни пели, Его нам одного – не заменить.2. «На Ваганьковом горят сухие листья…»(песня)
На Ваганьковом горят сухие листья. Купола блестят на солнце – больно глазу. Приходи сюда и молча помолись ты, Даже если не молился ты ни разу. Облаков плывет небесная отара Над сторожкой милицейскою унылой, И застыла одинокая гитара, Как собака над хозяйскою могилой. Ветви черные раскачивают ветры Над прозрачной неподвижною водою, И ушедшие безвременно поэты Улыбаются улыбкой молодою. Их земля теперь связала воедино, Опоила их, как водкою, дурманом. Запах вянущих цветов и запах дыма — Все проходит в этом мире безымянном. На Ваганьковом горят сухие листья. За стеной звенит трамвай из дальней дали. Приходи сюда и молча помолись ты — Это осень наступает не твоя ли? 1980Гвардейский вальсок (песня)
Задушили Петра, Задушили по делу. Не с того ли с утра Так листва поредела? Всюду крики «Ура!» — И опущен шлагбаум. Пыль уносят ветра На Ораниенбаум. От Фелицы, увы, Мало нам перепало, — Воспитайте же вы Цесаревича Павла. Сколько все это раз Пересказано за ночь! Вся надежда на вас, Граф Никита Иваныч. Произволу конец, — Мост опустит охрана, Мы войдем во дворец И прикончим тирана. Пусть, бедою грозя, Нам вещает Кассандра, — За свободу, друзья, За царя Александра! Лейб-гусар удалой, Испытаем судьбину: Николая долой, И виват Константину! …На булыжниках кровь, Алый туз на одежде. На наследников вновь Пребываем в надежде. 1980Песни к спектаклю по повести Юрия Давыдова «На скаковом поле возле бойни»
1. Если иначе нельзя (Первая песня Дмитрия Лизогуба)
Если иначе нельзя И грядут неизбежные битвы, Дав путеводную нить И врагов беспощадно разя, Боже, не дай мне убить — Избери меня прежде убитым, Если иначе нельзя, Если иначе нельзя. Боже всевидящий мой, Ты нам шлешь испытания плоти. Пусть же к вершинам твоим Приведет нас крутая стезя, Чтобы пророк над толпой Возвышался бы на эшафоте, Если иначе нельзя, Если иначе нельзя. Если иначе нельзя Слышать птиц несмолкающий гомон, Видеть, как чайка летит, На крыле неподвижном скользя, Пусть возражают друзья — Не отдай эту чашу другому, Если иначе нельзя. Если иначе нельзя… 19802. И вслед иди за мной (Вторая песня Дмитрия Лизогуба)
Ты сладко ел и сладко пил, И бархат примерял, Но если ты душевных сил Еще не потерял И можешь ты расстаться С рабами и казной, Раздай свое богатство И вслед иди за мной. Когда не жаль тебе своих Баранов и коней, Когда не жаль тебе босых Израненных ступней, — Оставь свой дом и сад свой, И свой надел земной, Раздай свое богатство И вслед иди за мной. Пройти Господень строгий суд Богатым нелегко — Так не протиснется верблюд В игольное ушко. В святое наше братство Дороги нет иной, — Раздай свое богатство И вслед иди за мной. Тебе я истинно скажу, Как ближнего любить, Как, не притронувшись к ножу, В сраженье победить, Как смерти не бояться. Не стой же за ценой — Раздай свое богатство И вслед иди за мной. Но если жизнь твоя легка, И, словно дом – гостей, Полна душа твоя пока Сомнений и страстей, Коль стать моею паствой Захочешь в день иной, — Раздай свое богатство И вслед иди за мной.3. Губернаторская власть (Третья песня Дмитрия Лизогуба)
Выделяться не старайся из черни, Усмиряй свою гордыню и плоть: Ты живешь среди российских губерний, — Хуже места не придумал господь. Бесполезно возражать государству, Понапрасну тратить ум свой и дар свой, Государю и властям благодарствуй, — Обкорнают тебе крылья, сокол. Губернаторская власть хуже царской, Губернаторская власть хуже царской, Губернаторская власть хуже царской, — До царя далеко, до Бога высоко. Ах, наивные твои убежденья! — Им в базарный день полушка – цена. Бесполезно призывать к пробужденью Не желающих очнуться от сна. Не отыщешь от недуга лекарства, Хоть христосуйся со всеми на Пасху, Не проймешь народ ни лаской, ни таской, Вековечный не порушишь закон: Губернаторская власть хуже царской, Губернаторская власть хуже царской, Губернаторская власть хуже царской, — До царя далеко, до Бога высоко. Заливай тоску вином, Ваша милость. Молодую жизнь губить не спеши: Если где-то и искать справедливость, То уж точно, что не в этой глуши. Нелегко расстаться с жизнию барской, Со богатством да родительской лаской. Воздадут тебе за нрав твой бунтарский — Дом построят без дверей и окон. Губернаторская власть хуже царской, Губернаторская власть хуже царской, Губернаторская власть хуже царской, — До царя далеко, до Бога высоко. 1981Дорога (песня)
К спектаклю по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день»
Небеса ли виной или местная власть, — От какой, непонятно, причины, Мы – куда бы ни шли – нам туда не попасть Ни при жизни, ни после кончины. Для чего ты пришел в этот мир, человек, Если горек твой хлеб и недолог твой век Между дел ежедневных и тягот? Бесконечна колючками крытая степь, Пересечь ее всю никому не успеть Ни за день, ни за месяц, ни за год. Горстку пыли оставят сухие поля На подошвах, от странствий истертых. Отчего нас, скажите, родная земля Ни живых не приемлет, ни мертвых? Ведь земля остается все той же землей, Станут звезды, сгорев, на рассвете золой, — Только дыма останется запах. Неизменно составы идут на восток, И верблюда качает горячий песок, И вращается небо на запад. И куда мы свои ни направим шаги, И о чем ни заводим беседу, — Всюду коршун над нами снижает круги И лисица крадется по следу. Для чего ты пришел в этот мир, человек, Если горек твой хлеб и недолог твой век, И дано тебе сделать немного? Что ты нажил своим непосильным трудом? Ненадежен твой мир и непрочен твой дом — Всё дорога, дорога, дорога! 1981Пушкин и декабристы
Слух обо мне… Александр Пушкин
В Завод Петровский пятого числа Глухая весть о Пушкине пришла. Дыханье горна судорожно билось, Ночная вьюга пела и клубилась, Три каторжника сели у огня, Чугунными браслетами звеня. Дымились, просыхая, полушубки, Сырые не раскуривались трубки. За низким зарешеченным окном Стонали ели от метели лютой, И очень долго, более минуты, Никто не заговаривал о нем. «Еще одно на нас свалилось горе, — Сказал Волконский, общим думам вторя, — Несчастный, мы могли ему помочь. Хотя он не был даже арестован, Его казнили в качестве шестого, Как пятерых на кронверке в ту ночь. Когда б стоял на площади он с нами, Он стал бы наше истинное знамя И, много лет отечеству служив, Пусть в кандалах, но все же был бы жив. Когда бы принят был он в наше братство, Открыто посягнувшее на рабство, То, обретя свободу для души И черпая в страданьях вдохновенье, Он мог бы создавать свои творенья, Как Кюхельбекер – в ссылке и глуши». «Нет, – произнес угрюмо Горбачевский, — Уж если строго говорить по чести, Не по пути всегда нам было с ним: Его поступки и дурные связи! Все погубить в одной случайной фразе Он мог бы легкомыслием своим. Что нам поэты, что их дар Господень, Когда заходит дело о свободе И пушечный не умолкает гул, Когда не уступает сила силе, И миг решает судьбы всей России!» («И наши», – он подумал и вздохнул). Так говорил, своею дерзкой речью Заслуженному воину переча, Хотя и был он не в больших чинах, Неистовый питомец Тульчина. Кругом в бесчинстве бушевали пурги: В Чите, Нерчинске, Екатеринбурге, Сшивая саван общих похорон. В Святых Горах над свежею могилой Звал колокол к заутрене унылой, И странен был пустынный этот звон. И молвил Пущин: «Все мы в воле Божьей. Певец в темнице песен петь не может. Он вольным жил и умер как поэт. От собственной судьбы дороги нет». Мела поземка по округе дикой. Не слышал стражник собственного крика. Ни голоса, ни дыма, ни саней, Ни звездочки, ни ангельского лика. Мела метель по всей Руси великой, И горький слух как странник брел за ней. 1981Ленинградская песня (песня)
Мне трудно, вернувшись назад, С твоим населением слиться, Отчизна моя, Ленинград, Российских провинций столица. Как серы твои этажи, Как света на улицах мало! Подобна цветенью канала Твоя нетекучая жизнь. На Невском реклама кино, А в Зимнем по-прежнему Винчи. Но пылью закрыто окно В Европу, ненужную нынче. Десятки различных примет Приносят тревожные вести: Дворцы и каналы на месте, А прежнего города нет. Но в плеске твоих мостовых Милы мне и слякоть, и темень, Пока на гранитах твоих Любимые чудятся тени И тянется хрупкая нить Вдоль времени зыбких обочин, И теплятся белые ночи, Которые не погасить. И в рюмочной на Моховой Среди алкашей утомленных Мы выпьем за дым над Невой Из стопок простых и граненых — За шпилей твоих окоем, За облик немеркнущий прошлый, За то, что покуда живешь ты, И мы как-нибудь проживем. 1981«С момента сотворенья / Уж так заведено…»
С момента сотворенья Уж так заведено, — Нам в детях повторенья Добиться не дано. Какой корысти ради В глухих своих ночах Молился Богу прадед При гаснущих свечах? И тень его металась, Закрыв дверной косяк, И колыхался талес, Как полосатый флаг. Приняв земные муки, С другими наравне, Забыли Бога внуки В отверженной стране. Распавшиеся звенья, Разлитое вино… Нам в детях повторенья Добиться не дано. Жить не начну сначала, Усталый и седой. Мой сын оброс курчавой И рыжей бородой. Листает он упорно Страницы древних книг, И видеть мне прискорбно Библейский этот лик. Как видно, неумело Любил я весь свой век И сумрак ночи белой, И новогодний снег, И пушкинские строки, И город Ленинград… Забытые пророки В лицо мое глядят, Холодный дождь дымится Над зеленью травы. Нам в детях повториться Не суждено, – увы. 1982Кавказ
Великий и загадочный Кавказ, Что декабристам виделся в Сибири, Напев зурны, и Лермонтов в мундире — Все нам привычным сделалось сейчас. Привет тебе, опальная страна Для вольнодумцев, списанных в солдаты, — Как Индия для Англии когда-то, Была ты недоступна и грозна. Что думал, вспоминая отчий кров, О матушке вздыхающий поручик, Увидев эти гибельные кручи И мерное кружение орлов? Снегами отороченный Казбек И светлый шпиль над летнею Невою Обручены теперь уже навек, Как Грибоедов с юною вдовою. Нерасторжимым связаны кольцом Сырых ущелий ноздреватый камень, И вождь усатый, с липкими руками И оспою испаханным лицом. Прошедшего назад не воротить, — Немыслима Россия без Кавказа. И длится недосказанная фраза, И тянется извилистая нить. 1982В батискафе
За зеленым стеклом батискафа, От высокого солнца вдали, Проплывают огромные скалы На подводных просторах Земли. И в луче напряженного света Я взираю, прижавшись к стеклу, На обширную эту планету, Погруженную в холод и мглу. Там на фоне клубящейся хмари Нас локатором отыскав, Молча смотрят подводные твари На светящийся батискаф. Смотрят рыбы большими глазами, Что приучены к жизни ночной. Так смотрели бы, верно, мы сами На посланцев планеты иной. Хорошо, если души могли бы, Нас покинув в назначенный час, Воплотиться в подобие рыбы С фонарями светящихся глаз; Чтобы плавать им вместе со всеми В этой горько-соленой среде, Где не властно всесильное время В недоступной теченью воде. 1982Шотландская песенка (песня)
К радиоспектаклю по роману Жюль Верна «Дети капитана Г ранта»
Пока в печи горят дрова И робок свет дневной, И мерзнет желтая трава Под снежной пеленой, Пока в печи горят дрова, — Собравшись за столом, Раскурим трубки, но сперва Мы друга помянем. Плывет он в этот час ночной Неведомо куда, Над непрозрачной глубиной Ведет его звезда. Пока в печи горят дрова И ждет его жена, Пусть будет нынче голова И цель его ясна. Пусть над холодной зыбью вод, Где женщин рядом нет, Его от стужи сбережет Шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час Среди ночных дорог Его согреет, как и нас, Шотландский теплый грог. Там ветры злобные свистят И пенная вода, И льда повисла на снастях Седая борода. Пока в печи горят дрова, Собравшись за столом, Про всех мы вспомним, но сперва Подумаем о нем. Пока свирепствует норд-ост И стынет бересклет, Провозгласим свой первый тост За тех, кого здесь нет. За тех, кого в чужих морях, От милых мест вдали, Вселяя в сердце боль и страх, Качают корабли. Пусть сократится долгий срок, Что им разлукой дан. Пусть возвратит на свой порог Их грозный океан. Пока в печи горят дрова И вьюга за окном, Запьем заздравные слова Мерцающим вином. 1982Минувший век
Минувший век притягивает нас — Сегодняшнего давнее начало! Его огонь далекий не погас, Мелодия его не отзвучала. Далекий век, где синий воздух чист, Где стук копыт и дребезжанье дрожек, И кружится неторопливый лист Над гравием ухоженных дорожек! А между тем то был жестокий век, Кровавых войн и сумрачных метелей. Мы вряд ли бы вернуться захотели К лучине и скрипению телег. Минувшее. Не так ли древний грек, О прошлом сожалея бесполезно, Бранил с тоскою бронзовый свой век, Еще не помышляя о железном. 1982Николай Гумилев
От неправедных гонений Уберечь не может слово. Вам помочь не в силах небо, Провозвестники культуры. Восемь книг стихотворений Николая Гумилева Не спасли его от гнева Пролетарской диктатуры. Полушепот этой темы, Полуправда этой драмы, Где во мраке светят слабо Жизни порванные звенья — Петропавловский застенок, И легенда с телеграммой, И прижизненная слава, И посмертное забвенье. Конвоир не знает сонный Государственных секретов, — В чем была, да и была ли Казни грозная причина. Революция способна Убивать своих поэтов, И поэтому едва ли От погрома отличима. Царскосельские уроки Знаменитейшего мэтра, Абиссинские пустыни И окопы на Германской… И твердят мальчишки строки, Что соленым пахнут ветром, И туманный облик стынет За лица бесстрастной маской. И летят сквозь наше время Горькой памятью былого, Для изданий неуместны, Не предмет для кандидатских, Восемь книг стихотворений Николая Гумилева, И как две отдельных песни — Два Георгия солдатских. 1982Рембрандт
В доме холодно, пусто и сыро. Дождь и вечер стучат о порог. «Возвращение блудного сына» Пишет Рембрандт. Кончается срок. Сын стоит на коленях, калека, Изможденных не чувствуя ног, Голова – как у бритого зэка, — Ты откуда вернулся, сынок? Затерялись дороги во мраке. За спиною не видно ни зги. Что оставил ты сзади – бараки? Непролазные дебри тайги? Кто глаза твои сделал пустыми, — Развратители или война? Или зной Иудейской пустыни Все лицо твое сжег дочерна? Не слышны приглушенные звуки. На холсте и в округе темно, — Лишь отца освещенные руки Да лица световое пятно. Не вернуться. Живем по-другому. Не округла, как прежде, Земля. Разрушение отчего дома — Как сожжение корабля. Запустение, тьма, паутина, Шорох капель и чаячий крик, И предсмертную пишет картину Одинокий и скорбный старик. 1982Питер Брейгель. Шествие на Голгофу
О чем он думал, Питер Брейгель, Какими образами бредил, Когда изобразил Христа На фоне северной равнины, Сгибающим худую спину Под перекладиной креста? Фламандские вокруг пейзажи, — Взгляните на одежды стражи, На эти мельницы вдали! Еще один виток дороги, И он, взойдя на холм пологий, Увидит в море корабли. Еще не бог он. На мольберте Он человек еще, и смертен, И явно выглядит чужим В долине этой, в этом веке, Где стужа сковывает реки И над домами вьется дым. Светало. Около отлива Кричала чайка хлопотливо. Тяжелый дождь стучал в окно. О чем он думал, Младший Питер, Когда лицо устало вытер, Закончив это полотно? О чем он думал, старый мастер? В ночном порту скрипели снасти, Холодный ветер гнал волну. Об одиночестве пророка, Явившегося позже срока, Попавшего не в ту страну? Толпа в предчувствии потехи. Мерцают золотом доспехи, Ладони тянет нищета. Окрестность – в ожиданье снега, И туча провисает с неба, И над Голгофой – пустота. 1982Около площади (песня)
К спектаклю по пьесе Бориса Голлера «Вокруг площади»
Ветер неласковый, время ненастное, хмурь ленинградская. Площадь Сенатская, площадь Сенатская, площадь Сенатская. Цокали, цокали, цокали, цокали, цокали лошади Около, около, около, около, около площади. Мысли горячие, мысли отважные, мысли преступные. Вот она – рядом, доступная каждому и – недоступная. Днями-неделями выйти не смели мы, – время нас не щадит. Вот и остались мы, вот и состарились около площади. Так и проходят меж пьяной беседою, домом и службою Судьбы пропавшие, песни неспетые, жизни ненужные… Цокали, цокали, цокали, цокали, цокали лошади Около, около, около, около, около площади. 1982Иван Пущин и Матвей Муравьев (песня)
За окнами темно, Закрыты ставни на ночь. Ущербная луна Струит холодный свет. Раскупорим вино, Мой друг Иван Иваныч, Воспомним имена Иных, которых нет. Сырые рудники Хребты нам не согнули. И барабанный бой Над нашею судьбой. Острогам вопреки, Штрафной чеченской пуле, Мы выжили с тобой, Мы выжили с тобой. Кругом колючий снег, Пустыня без предела. За праздничным столом Остались мы вдвоем. Идет на убыль век, И никому нет дела, Что мы еще живем, Что мы еще живем, Свечей ложится медь На белые затылки. Страшней стальных цепей Забвения печать. Лишь прятать нам под клеть С записками бутылки Да грамоте детей Сибирских обучать. Не ставит ни во что Нас грозное начальство, Уверено вполне, Что завтра мы умрем. Так выпьем же за то, Чтоб календарь кончался Четырнадцатым незабвенным декабрем! 1983Иосиф Флавий
В бесславье или славе Среди чужих людей Живет Иосиф Флавий, Плененный иудей? Глаза его печальны, И волосы – как медь. Он был военачальник, Но медлил умереть. Рать воинов суровых Ушла навеки в ночь, Всесильный Иегова Не в силах ей помочь. Ему лишь для мученья Недоставало сил, — Ценою отреченья Он жизнь свою купил. Живет Иосиф в Риме, И римлянам претит, Что ласковей, чем с ними, Беседует с ним Тит. Не знает Цезарь тучный, За ум его ценя, Что ввез он в Рим могучий Троянского коня. Твердят про иудея, Что «Флавий» наречен, Что он пером владеет Искусней, чем мечом. Невольник этот дерзкий Латынь уже постиг Сильней, чем иудейский Свой варварский язык. Отравленною спорой Упав на жесткий склон, Начало диаспоры Положит первым он. Прилипчив по натуре, Приникнет он, изгой, К чужой литературе, К истории чужой. Живет он не затем ли, Чтоб, уцелев в бою, Врасти в чужую землю Надежней, чем в свою? 1983Мифы Древней Греции
Я перечитываю Куна Весенней школьною порой. Мне так понятен этот юный Неунывающий герой, За миловидной Андромахой Плывущий к дальним берегам — Легко судьбу свою без страха Вручить всеведущим богам! Я перечитываю Куна. Июль безоблачный высок, И ветер, взбадривая шхуны, Листает воду и песок. Сбежим вослед за Одиссеем От неурядиц и семьи! В далеких странствиях рассеем Земные горести свои! Я перечитываю Куна. В квартире пусто и темно. Фонарный свет струится скудно Через закрытое окно. Ужасна смерть царя Эдипа, Язона горестен финал. Как этот мир устроен дико! Как век наш суетен и мал! Когда листва плывет по рекам, У осени на рубеже, Читайте мифы древних греков. — Там все написано уже. Судьба души твоей и тела — Лишь повторенное кино, Лишь вариация на тему, Уже известную давно. 1983Дух времени
Кто за грядущее в ответе, Монгол, усатый ли грузин? Дух времени не есть ли ветер, Как утверждает Карамзин? Орошено какою тучей, Из чьих краев принесено, Взошло на почве нашей тучной Холопства горькое зерно? Страшнее нет господней кары, Не отмолить ее в ночах, Опричнина или татары В нас воспитали этот страх? Стране, где рабство выше нормы Укоренилось за года, Вредны внезапные реформы, Как голодающим еда. Земля в вечернем освещенье, И понимается не вдруг, Что не способно просвещенье Сей тяжкий вылечить недуг. Откуда брать исток надежде, Где корень нынешних потерь? Как мы вперед смотрели прежде, Так смотрим в прошлое теперь! 1983Ниобея
В Павловске ветер свистит меж хвои, не робея, Где же прекрасные дети твои, Ниобея, — Сильные юноши, пышноволосые девы, — Где вы? В доме, вчера многолюдном, не слышно ни звука. Кто на руках подержать принесет тебе внука? Кто тебе ноги омоет, снимая усталость, В старость? Злобна Диана, и бог Аполлон бессердечен. Тяжкая рана под сердцем – лечить ее нечем. Много ли в мире ниобия или тантала? — Мало. Темная полночь луну меднощекую плавит. Траурный ветер терзает окрестные чащи. Не похваляйтесь детьми, что в довольстве и славе, — Всё преходяще. 1983«Эта тяга к обычаям в малых кавказских народах…»
Фазилю Искандеру
Эта тяга к обычаям в малых кавказских народах — Почитание предков, и родичей, и языка. Золотыми крупицами в серых гранитных породах Существуют они и еще не исчезли пока. Есть звериное что-то в инстинкте самосохраненья, В сбереженье упорном слабеющих уз родовых. Если люди приедут к тебе из родного селенья, Все, что можешь ты сделать, – ты сделать обязан для них. Это выглядит странно в двадцатом стремительном веке, Где потоком машин неумолчно шумят города. Разрушаются скалы. Уносится золото в реки. Говорят, и его растворяет морская вода. И безлик этот город, где мы появились и жили, Где летит самолет с золотою звездой на крыле, И завидую я уроженцу Чегема Фазилю: Он вернется в Мухус и к родной прикоснется земле. 1983Лейтенант С
Мне нравится, признаюсь честно, Смотреть в редеющий туман, Плывя, как некогда Случевский, Через Индийский океан. Пусть манят дымкой голубою Покинутые города, — Твое имущество с тобою: Стихи и пенная вода. Меняются цветные кадры, Поет заливисто свисток, Плывет Балтийская эскадра Навстречу солнцу на восток. Во тьме бездонного колодца Горит звезда в зеленой мгле. Плыви, мой друг, пока плывется, Не вспоминая о земле. Еще над сумеречной реей, Где угольный клубится дым, Флаг Первозванного Андрея Крестом сияет голубым. Шуршит вода неторопливо, И в рубке дышится легко, И до Цусимского пролива Еще как будто далеко. 1983, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Бискайский заливРодословная
И мы когда-то были рыбы И населяли тонкий слой В расселинах горячей глыбы, Что именуется Землей. И нас питала эта влага, Вскипающая под винтом, Лишь постепенно, шаг за шагом, На сушу вышли мы потом. Об этом помню постоянно Над крутизной морских глубин. Милее мне, чем обезьяна, Сообразительный дельфин. И я, не знаю, как другие, Испытываю близ морей Подобье странной ностальгии По давней родине моей. Когда циклон гудит за шторой, Всмотритесь в утренний туман: Зовет назад, в свои просторы, Наш прародитель Океан. И, словно часть его здоровья, Дарованная навсегда, Стучится в жилах наших кровью Его соленая вода. 1983Родина
Забытые ударят годы, Как одноклассник по плечу. Воспитанник сырой погоды, Я о другой не хлопочу. Закутанный в дожди и холод Фасад петровского дворца Стал для меня еще со школы Привычным, как лицо отца. Над городом, войной разбитым, Светлело небо по ночам. Он был мне каждодневным бытом, И я его не замечал. Атланты, каменные братья, И кони черного литья — Без них не мог существовать я, Как без еды или питья Не существуют. Мне казалось, Что всадник с поднятой рукой, Музеев чопорные залы, Мост, разведенный над рекой, И шпиль, мерцающий за шторой — Домашней обстановки часть, — Простые вещи, без которых Прожить немыслимо и час. 1977Для чего тебе нужно (песня)
Для чего тебе нужно в любовь настоящую верить? Все равно на судах не узнаешь о ней ничего. Для чего вспоминать про далекий покинутый берег, Если ты собираешься снова покинуть его? Бесполезно борта эти суриком красить-стараться, — Все равно в океане они проржавеют насквозь. Бесполезно просить эту женщину ждать и дождаться, Если с нею прожить суждено тебе все-таки врозь. Для чего тебе город, который увиден впервые, Если мимо него в океане проходит твой путь? Как назад и вперед ни крутите часы судовые, Уходящей минуты обратно уже не вернуть. Все мы смотрим вперед, – нам назад посмотреть не пора ли, Где горит за кормой над водою пустынной заря? Ах, как мы легкомысленно в юности путь свой избрали, Соблазнившись на ленточки эти и на якоря! Снова чайка кричит и кружится в багровом тумане. Снова судно идет, за собой не оставив следа. А земля вечерами мелькает на киноэкране, — Нам уже наяву не увидеть ее никогда. Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? — Океан одинаков повсюду – вода и вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, Если в доме безлюдном хозяина нет никогда? 1983, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Атлантический океанКолокол Ллойда (1984–1990)
«Причин потусторонних не ищите…»
Причин потусторонних не ищите. Уже Сальери держит яд в горсти. И если Рим нуждается в защите Гусей, – его, как видно, не спасти. Все наперед записано в анналы, И лунный диск уменьшился на треть. Но Моцарт жив, и отступают галлы, И не сегодня Риму умереть. Любой полет – лишь элемент паденья. Когда кругом обложит вас беда, Не стоит покоряться Провиденью. Исчезнет все, но вот вопрос – когда? Не надо рвать в отчаянье одежду — Искусство в том, чтоб не терять лица. Благословим случайность и надежду И защищаться будем до конца! 1984Улисс
Скажи, Улисс, о чем поют сирены? Чем песня их пьянящая манит, Когда штормит, и струи белой пены Секут волну, как кварц сечет гранит? Когда над мачтой, наклоненной низко, Несется тучи сумеречный дым И снова Понт становится Эвксинский И негостеприимным, и седым? В чем этих песен тягостная мука? Когда гремит норд-ост, начав с низов, Я слышу их неодолимый зов, Подобный колебаньям инфразвука. Не потому ль мы покидаем быт свой, В желаниях и чувствах не вольны, И гонит нас слепое любопытство Навстречу пенью утренней волны? Не потому ли, озарив окрестность, В неведомую веру обратив, Морочит душу этот неизвестный, В тысячелетья канувший мотив? Так, изогнувшись хищно и горбато, Фарфор атоллов, акварель лагун Крушит волна, рожденная когда-то На противоположном берегу. Глухая ночь. Предельный угол крена. Куда плывем погоде вопреки? Скажи, Улисс, о чем поют сирены? Хотя бы смысл, хотя бы часть строки! 1984Сон (песня)
Сон привиделся мне наяву, наяву: Я на судне во сне в океане плыву. На корме, где от досок ступням горячо, Ветер северный тронул меня за плечо. И спросил я у ветра: «Послушай-ка, брат, Почему так тебе я особенно рад? Почему все смотрю я на след за кормой? Почему так хочу я вернуться домой? Я родительский дом вижу в той стороне, Там ни ночью, ни днем свет не гасят в окне. Утомясь от забот и не ведая сна, Меня матушка ждет у окна, у окна». Шепчет ветер: «Ты слов понапрасну не трать: Где родительский кров, там не ждет тебя мать. В стороне от жилья серый камень стоит, — Мать родная твоя под тем камнем лежит». «Ты не бей меня влет, – эта рана сильна. На земле меня ждет молодая жена. Тяжело ей в разлуке, но к ней я приду, — Отведут ее руки любую беду». Шепчет ветер, и вторит седая волна: «Не приветит тебя молодая жена. Уж давно не глядит она вслед кораблю. Все равно, – говорит, – я его не люблю». «Кто же тянет ко мне золотые лучи? Кто негромко во сне окликает в ночи? Кто назад меня манит в родные края?» «Это песня твоя, это песня твоя…» Сон привиделся мне наяву, наяву: Я на судне во сне в океане плыву. Судно набок креня, окликая: «Постой!» Нагоняет меня звук пустой, звук пустой… 1984Я иду по Уругваю (песня)
«Я иду по Уругваю, Ночь – хоть выколи глаза. Слышны крики попугаев И мартышек голоса». Над цветущею долиной, Где не меркнет синева, Этой песенки старинной Мне припомнились слова. Я иду по Уругваю, Где так жарко в январе, Про бомбежки вспоминаю, Про сугробы на дворе. Мне над мутною Ла-Платой Вспоминаются дрова, Год далекий сорок пятый, Наш отважный пятый «А». Малолетки и верзилы Пели песню наравне. Побывать нам не светило В этой сказочной стране. Я иду по Уругваю, В субтропическом раю, Головой седой киваю, Сам с собою говорю. Попугаев пестрых перья, Океана мерный гул… Но линкор немецкий «Шпее» Здесь на рейде затонул. И напомнит, так же страшен, Бывшей мачты черный крест, Что на шарике на нашем Не бывает дальних мест. Я иду по Уругваю В годы прошлые, назад, Вспоминаю, вспоминаю, Вспоминаю Ленинград… «Я иду по Уругваю, Ночь – хоть выколи глаза. Слышны крики попугаев И мартышек голоса». 1984, МонтевидеоВозвращение
Зимний ветер на пирсе жесток, Бухта грязная рябью измята. Возвращение. Владивосток. Безысходность российского мата. Уроженцы великой страны, Как привычно мы держим в рассудке, Что отсюда до невской волны Долететь невозможно за сутки. Но, вернувшийся издалека, Всякий раз я смотрю удивленно, Как отчизна моя велика После Дании или Цейлона. Накорми ее всю и одень, Обойди от конца до начала, — Эти толпы усталых людей, Эти сотни судов у причала! Посиди в электричке хоть час, Слух склоняя к случайной беседе, И подумаешь с грустью, что нас Не напрасно боятся соседи. Почему только выпало мне Неразрывною связью утробной Быть привязанным к этой стране — Необъятной, голодной и злобной? 1984Индийский океан (песня)
Тучи светлый листок у луны на мерцающем диске. Вдоль по лунной дорожке неспешно кораблик плывет. Мы плывем на восток голубым океаном Индийским Вдоль тропических бархатных благословенных широт. Пусть, напомнив про дом, догоняют меня телеграммы, Пусть за дальним столом обо мне вспоминают друзья, — Если в доме моем разыграется новая драма, В этой драме, наверно, не буду участвовать я. Луч локатора сонный кружится на темном экране. От тебя в стороне и от собственной жизни вдали Я плыву, невесомый, в Индийском ночном океане, Навсегда оторвавшись от скованной стужей земли. Завтра в сумраке алом поднимется солнце на осте, До тебя донося обо мне запоздалую весть. Здесь жемчужин – навалом, как в песне Индийского гостя, И алмазов в пещерах – конечно же, тоже не счесть. Пусть в последний мой час не гремит надо мной канонада, Пусть потом новоселы мое обживают жилье, Я живу только раз – мне бессмертия даром не надо, Потому что бессмертие – то же, что небытие. Жаль, подруга моя, что тебе я не сделался близким. Слез напрасно не трать, – позабудешь меня без труда. Ты представь, будто я голубым океаном Индийским Уплываю опять в никуда, в никуда, в никуда. 1984, научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», Индийский океанЭгейское море (песня)
Остров Хиос, остров Самос, остров Родос, — Я немало поскитался по волнам. Отчего же я испытываю робость, Прикасаясь к вашим древним именам? Возвращая позабывшиеся годы, От Невы моей за тридевять земель Нас качают ваши ласковые воды — Человечества цветная колыбель. Пусть на суше, где призывно пахнут травы, Ждут опасности по десять раз на дню, — Черный парус, что означить должен траур, Белым парусом на мачте заменю. Трудно веровать в единственного бога: Прогневится и тебя прогонит прочь, На Олимпе же богов бессмертных много, Кто-нибудь да согласится нам помочь. Что нам Азия, что тесная Европа — Мало проку в коммунальных теремах. Успокоится с другими Пенелопа, Позабудет про папашу Телемах. И плывем мы, беззаботны как герои, Не жалеющие в жизни ничего, Мимо Сциллы и Харибды, мимо Трои, — Мимо детства моего и твоего. 1984, научно-исследовательское судно «Витязь»На Маяковской площади в Москве (песня)
На Маяковской площади в Москве Живет моя далекая подруга. В ее окне гнездо свивает вьюга, Звезда горит в вечерней синеве. Судьбы моей извилистая нить Оборвана у этого порога. Но сколько ни упрашивай я Бога, Нам наши жизни не соединить. На Маяковской площади в Москве, Стремительностью близкая к полету, Спешит она утрами на работу, Морозный снег блестит на рукаве. Наш странный затянувшийся роман Подобен многодневной катастрофе. Другим по вечерам варить ей кофе, Смотреть с другими в утренний туман. Но в час, когда подводный аппарат Качается у бездны на ладони, Ее печаль меня во тьме нагонит И из пучины выведет назад. Но в час, когда, в затылок мне дыша, Беда ложится тяжестью на плечи, Меня от одиночества излечит Ее непостоянная душа. На Маяковской площади в Москве, За темною опущенною шторой Настольной лампы свет горит, который Мерцает мне, как путеводный свет. Пусть седина змеится на виске, Забудем про безрадостные были, Пока еще про нас не позабыли На Маяковской площади в Москве. 1984Прощание с каютой
Осенний норд-ост виноградную клонит лозу. Уходит таможня, довольная сделанным сыском. Цементное небо клубится над Новороссийском. Прощаюсь с каютой, земля ожидает внизу. Прощаюсь с каютой. Домой сувениры везу. Земная усталость в моем ошвартованном теле. Окончены сборы. Стенные шкафы опустели. Получены деньги. Земля ожидает внизу. Прощаюсь с каютой. Внезапной соринкой в глазу Царапает веки пустяшная эта утрата. Уложены вещи. Машина чернеет у трапа. Прощаюсь с каютой, земля ожидает внизу. Какие пейзажи мне виделись в этом окне! — Мосты над Килем, золотые огни Лиссабона, Гавайские пальмы, Коломбо причальные боны, Снега Антарктиды в негаснущем желтом огне. Прощаюсь с каютой, где помню я штиль и грозу, Мужские беседы и шепот опасливый женский, Где ждал телеграммы и мучился скорбью вселенской. Уходят минуты, земля ожидает внизу. Прощаюсь с каютой. Лежалый сухарик грызу. Закон о питье напоследок еще раз нарушу. Я вещи собрал, но свою оставляю здесь душу. Прощаюсь с каютой, земля ожидает внизу. Прощаюсь с каютой. Скупую стираю слезу. Не ради валюты, не ради казенного хлеба Поднялся и я в океана соленое небо. Полет завершился, земля ожидает внизу. 1984«Из Ленинграда трудно видеть мир…»
Из Ленинграда трудно видеть мир Устроенным не так же, а иначе, За Гатчиной, за Комендантской дачей, Вне улиц этих серых и квартир. Когда на Мойке смотришь из окна, И видишь шпиль, мерцающий над крышей, И грохот пушки полудневный слышишь, Тебе другая местность не нужна. Когда сырые ветры в феврале Парадное распахивают настежь, Покажется, что и на всей Земле Такие же простуда и ненастье. Из Ленинграда трудно видеть мир, Живущий в примирениях и ссорах, Смятениях и войнах, о которых Кричит с утра навязчивый эфир. Здесь нереален жизни быт иной В Днепропетровске или Антарктиде. Так человек из комнаты не видит Того, что происходит за стеной. Из Ленинграда трудно видеть мир — Он ограничен ближних станций кругом. За Сестрорецком, Вырицей и Лугой Кривые превращаются в пунктир. Но все же хуже, что ни говори, Реальности жестокой вопреки нам, Жить вдалеке, давно его покинув, А видеть мир – как будто изнутри. 1985Комарово
Время, на час возврати меня в молодость снова, После вернешь мою душу на круги свои! Дачная местность, бетонный перрон, Комарово, — Низкое солнце и запах нагретой хвои. Снова сосна неподвижна над рыжею горкой, Снова с залива, как в юности, дуют ветра. Память, как зрение, делается дальнозоркой, — Помню войну – и не помню, что было вчера. Пахнет трава земляникой и детством дошкольным: Бодрые марши, предчувствие близких утрат, Дядька в буденовке и полушубке нагольном, В тридцать девятом заехавший к нам в Ленинград. Он подарил мне, из сумки коричневой вынув, Банку трески и пахучего мыла кусок. Все же неплохо, что мы отобрали у финнов Озеро это и этот прозрачный лесок. Дачная местность, курортный район Ленинграда. Тени скользят по песчаному чистому дну. Кто теперь вспомнит за дымом войны и блокады Эту неравную и небольшую войну? Горн пионерский сигналит у бывшей границы. Вянут венки на надгробиях поздних могил. Что теперь делать тому, кто успел здесь родиться, Кто стариков своих в этой земле схоронил? 1985Двадцать девятое ноября
С утра горит свеча в моем пустом дому В честь матери моей печальной годовщины. Я, где бы ни бывал, неясно почему, Обычай этот чту – на то свои причины. Кончается ноябрь. Нет хуже этих дней — Тень снега и дождя летит на подоконник. Я вспоминаю мать, я думаю о ней, На огонек свечи смотрю, огнепоклонник. Он желт и синеват. Смотри и не дыши, Как льет неяркий свет в горенье беззаветном Прозрачная модель витающей души, Горячая струя, колеблемая ветром. Свечою тает день. В густеющем дыму Уходит город в ночь, как в шапке-невидимке. Недолгая свеча горит в моем дому, Как юное лицо на выгоревшем снимке. Беззвучный огонек дрожит передо мной, Веля припоминать полузабытый род свой И сердце бередить унылою виной Незнания корней и горечью сиротства. И в комнате сидеть понуро одному, Укрывшись от друзей, веселых и беспечных. До полночи свеча горит в моем дому И застывает воск, стекая на подсвечник. 1985Душа
В безвременье ночном покой души глубок — Ни мыслей о судьбе, ни тени сновиденья. Быть может, небеса на темный этот срок Берут ее к себе, как в камеру храненья. Когда же новый день затеплится в окне И зяблик за стеклом усядется на ветку, Ее вернут опять при пробужденье мне, Почистив и помыв, – не перепутать метку! Душа опять с тобой, и завтрак на столе, А прожитая ночь – ее совсем не жаль нам. Мороз нарисовал узоры на стекле. Безветрие, и дым восходит вертикально. Но горько понимать, что ты летишь, как дым, Что весь окрестный мир – подобие картинки И все, что ты считал с рождения своим, Лишь взято напрокат, как лыжные ботинки. Что сам ты – неживой – кассетник без кассет, И грош цена твоей привязанности к дому. Что ошибутся там, устав за много лет, И жизнь твою возьмут, и отдадут другому. 1985На даче
Натану Эйдельману
Мы снова на даче. Шиповник растет на опушке, Где прячутся в травах грибы, что зовутся свинушки. Прогулки вечерние и разговор перед сном О первенстве мира по шахматам или погоде, Опилки в канаве, кудрявый салат в огороде И шум электрички за настежь раскрытым окном. Сосед мой – историк. Прижав свое чуткое ухо К минувшей эпохе, он пишет бесстрастно и сухо Про быт декабристов и вольную в прошлом печать. Дрожание рельса о поезде дальнем расскажет И может его предсказать наперед, но нельзя же, Под поезд попав, эту раннюю дрожь изучать! Сосед не согласен – он ищет в минувшем ошибки, Читает весь день и ночами стучит на машинке, И, переместившись на пару столетий назад, Он пишет о сложности левых влияний и правых, О князе Щербатове, гневно бичующем нравы, О Павле, которого свой же убил аппарат. Уставший от фондов и дружеских частых застолий, Из русской истории сотню он знает историй Не только печальных, но даже порою смешных. Кончается лето. Идет самолет на посадку. Хозяйка кладет огурцы в деревянную кадку. Сигнал пионерский за дальнею рощей затих. Историк упорен. Он скрытые ищет истоки Деяний царей и народных смятений жестоких. Мы позднею ночью сидим за бутылкой вина. Над домом и садом вращается звездная сфера, И, встав из-за леса, мерцает в тумане Венера, Как орденский знак на портрете у Карамзина. 1985Памяти Юрия Визбора (песня)
Нам с годами ближе Станут эти песни, Каждая их строчка Будет дорога. Снова чьи-то лыжи Греются у печки, На плато полночном Снежная пурга. Что же, неужели Прожит век недлинный? С этим примириться Все же не могу. Как мы песни пели В доме на Неглинной И на летнем чистом Волжском берегу! Мы болезни лечим, Мы не верим в бредни, В суматохе буден Тянем день за днем. Но тому не легче, Кто уйдет последним, — Ведь заплакать будет Некому о нем. Нас не вспомнят в избранном — Мы писали плохо. Нет печальней участи Первых петухов. Вместе с Юрой Визбором Кончилась эпоха — Время нашей юности, Песен и стихов. Нам с годами ближе Станут эти песни, Каждая их строчка Будет дорога. Снова чьи-то лыжи Греются у печки, На плато полночном Снежная пурга. 1985Санчо Панса
Низкий лоб платком замотан. Небо в утреннем дыму. Почему за Дон Кихотом Едет Санчо? Почему? Что влечет его – нажива, Скудной жизни вопреки? Не до жиру – быть бы живу, Вся нажива – тумаки. Плачет пашня по работам. Пусто в брошенном дому. Почему за Дон Кихотом Едет Санчо? Почему? Волоча худые ноги, Мимо рощ и мимо сел Конь плетется по дороге, И трусит за ним осел. Гаснет вечер над болотом, Солнце кануло во тьму. Почему за Дон Кихотом Едет Санчо? Почему? Что сулит ему удачи За туманным рубежом? Что отыскивает зрячий В ослеплении чужом? Пыль и дождь чеканят лица. В океан бежит вода. Рыцарь может исцелиться, Санчо Панса – никогда. И когда за ближней далью Тихий грянет благовест И уляжется идальго Под простой тесовый крест, На осла он влезет грузно, По-крестьянски, не спеша, И заноет странной грустью Беспечальная душа. 1985Рим
Над Колизеем в небе дремлет Заката праздничная медь. Как говорил один из древних: «Увидеть Рим – и умереть». Припоминать ты будешь снова, На свете сколько ни живи, И замок Ангела Святого, И солнечный фонтан Треви, И храмов золотые свечи, И женщин редкой красоты, — Но города, который вечен, В том Риме не увидишь ты. Великий город, это ты ли Последний испускаешь вздох? Его навеки заслонили Строения иных эпох. Но у руин былого дома, У полустершейся плиты Тебе покажутся знакомы Его забытые черты. На Капитолии, и в парках, И там, где дремлет акведук, — Империя времен упадка Везде присутствует вокруг. Еще идут войска по тропам, Достойны цезари хвалы, Еще простерты над Европой Литые римские орлы, И лишь пророками услышан Недуг неизлечимый тот, Который Тацит не опишет, И современник не поймет. 1985Герой и автор
Учебники нас приучают с детства, Что несовместны гений и злодейство, Но приглядитесь к пушкинским стихам: Кто автор – Моцарт или же Сальери? И Моцарт и Сальери – в равной мере, А может быть, в неравной, – знать не нам. Определить не просто нам порою Соотношенье автора с героем, — С самим собой возможен диалог. И Медный Всадник скачет, и Евгений По улице бежит, и грустный гений Мицкевича все видит между строк. Из тьмы полночной возникают лица. Изображенье зыбкое двоится. Коптит лампада, и перо дрожит. Кто больше прав перед судьбою хитрой — Угрюмый царь Борис или Димитрий, Что мнением народным дорожит? Не просто все в подлунном этом мире. В нем мало знать, что дважды два – четыре, В нем спутаны коварство и любовь. Немного проку в вырванной цитате, — Внимательно поэта прочитайте И, жизнь прожив, перечитайте вновь. 1985Город
Семнадцатый век, девятнадцатый век — Труха, пепелища, осколки. Трудом и молитвой здесь жил человек, И трудными будут раскопки. Не спросишь у серых бесформенных плит Про их стародавние были. Здесь дом на развалинах дома стоит, Могила стоит на могиле. Был город сожжен и отстроен опять. Какая печаль, неизвестно, Сумела людей навсегда приковать К унылому этому месту. На что им безвкусная эта еда, Домов неопрятные соты, Река, обведенная камнем, куда Сливаются все нечистоты? Чем улочка узкая им дорога? Какие к ней тянутся нити? За дымом окраин такие луга — Взгляните, взгляните, взгляните! Пусть крепок ты телом, но духом ты слаб. Мечты твои – прихоть пустая. Умом ты свободен, но сердцем ты раб, — Удел твой – пшено, а не стая. На теплые волны спокойных морей Не сменишь ты, сколько ни сетуй, Ни дня из истории горькой своей, Ни камня от улочки этой. 1985Блок
Черный вечер.
Белый снег…
Александр Блок Колодец двора и беззвездье над срубом колодца. Окраины справа и порт замерзающий слева. Сжигаются книги, и все, что пока остается, — Поверхность стола и кусок зачерствелого хлеба. Не слышно за окнами звонкого шума трамваев — Лишь выстрелов дальних упругие катятся волны. В нетопленой комнате, горло платком закрывая, Он пишет поэму, – в названии слышится полночь. Не здесь ли когда-то искал свою музу Некрасов? В соседнем подъезде гармошка пиликает пьяно, И мир обреченный внезапно лишается красок, — Он белый и черный, и нет в нем цветного тумана. Ночной темнотой заполняются Пряжка и Невки, Кружится метель над двухцветною этой картиной, И ломятся в строчки похабной частушки припевки, Как пьяный матрос, разбивающий двери гостиной. 1985Комаровское кладбище
На Комаровском кладбище лесном, Где дальний гром аукается с эхом, Спят узники июльским легким сном, Тень облака скользит по барельефам. Густая ель склоняет ветки вниз Над молотком меж строчек золоченых. Спят рядом два геолога ученых — Наливкины – Димитрий и Борис. Мне вдруг Нева привидится вдали За окнами и краны на причале. Когда-то братья в Горном нам читали Курс лекций по истории Земли: «Бесследно литосферная плита Уходит вниз, хребты и скалы сгрудив. Все временно – рептилии и люди. Что раньше них и после? – Пустота». Переполняясь этой пустотой, Минуя веток осторожный шорох, Остановлюсь я молча над плитой Владимира Ефимовича Шора. И вспомню я, над тишиной могил Услышав звон весеннего трамвая, Как Шор в аудиторию входил, Локтем протеза папку прижимая. Он кафедрой заведовал тогда, А я был первокурсником. Не в этом, Однако, дело: в давние года Он для меня был мэтром и поэтом. Ему, превозмогая легкий страх, Сдавал я переводы для зачета. Мы говорили битый час о чем-то, Да не о чем-то, помню – о стихах. Везде, куда ни взглянешь невзначай, Свидетели былых моих историй. Вот Клещенко отважный Анатолий, — Мы в тундре с ним заваривали чай. Что снится Толе – шмоны в лагерях? С Ахматовой неспешная беседа? В недолгой жизни много он изведал, — Лишь не изведал, что такое страх. На поединок вызвавший судьбу, С Камчатки, где искал он воздух чистый, Метельной ночью, пасмурной и мглистой, Сюда он прибыл в цинковом гробу. Здесь жизнь моя под каждою плитой, И не случайна эта встреча наша. Привет тебе, Долинина Наташа, — Давненько мы не виделись с тобой! То книгу вспоминаю, то статью, То мелкие житейские детали — У города ночного на краю Когда-то с нею мы стихи читали. Где прежние ее ученики? Вошла ли в них ее уроков сила? Живут ли так, как их она учила, Неискренней эпохе вопреки? На этом месте солнечном, лесном, В ахматовском зеленом пантеоне, Меж валунов, на каменистом склоне, Я вспоминаю о себе самом. Блестит вдали озерная вода. Своих питомцев окликает стая. Еще я жив, но «часть меня большая» Уже перемещается сюда. И давний вспоминается мне стих На Комаровском кладбище зеленом: «Что делать мне? – Уже за Флегетоном Три четверти читателей моих». 1985Тридцатые годы
Тридцатых годов неуют, Уклад коммунальной квартиры, И жесткие ориентиры, — Теперь уже так не живут. Футболка с каймой голубой, И вкус довоенного чая. Шум примуса – словно прибой, Которого не замечаешь. В стремительном времени том, Всем уличным ветрам открытом, Мы были легки на подъем, Поскольку не связаны бытом. Мы верили в правду и труд, Дошкольники и пионеры. Эпоха мальчишеской веры, — Теперь уже так не живут. Хозяева миру всему, Поборники общей удачи, Мы были бедны – потому Себе мы казались богаче. Сожжен «зажигалками» дом. Все делится памятью поздней На полуреальное «до» И это реальное «после». Война, солона и горька, То черной водою, то красной Разрезала, словно река, Два сумрачных полупространства. На той стороне рубежа Просматривается все реже Туманное левобережье — Подобие миража. 1985«В старинном соборе играет орган…»
В старинном соборе играет орган Среди суеты Лиссабона. Тяжелое солнце, садясь в океан, Горит за оградой собора. Романского стиля скупые черты, Тепло уходящего лета. О чем, чужеземец, задумался ты В потоке вечернего света? О чем загрустила недолгая плоть Под каменной этой стеною, — О счастье, которого не дал Господь? О жизни, что вся за спиною? Скопление чаек кружит, как пурга, Над берега пестрою лентой. В пустынном соборе играет орган На самом краю континента, Где нищий, в лиловой таящийся мгле, Согнулся у входа убого. Не вечно присутствие нас на Земле, Но вечно присутствие Бога. Звенит под ногами коричневый лист, Зеленый и юный вчера лишь. Я так сожалею, что я атеист, — Уже ничего не исправишь. 1986, ЛиссабонГробница Камоэнса
У края католической земли, Под арками затейливого свода, Спят герцоги и вице-короли, Да Гама и Камоэнс – спят у входа. Луч в витраже зажегся и погас. Течение реки неумолимо. Спит Мануэль, оставивший для нас Неповторимый стиль мануэлино. Король, он в крепостях своей страны Об Индии далекой думал страстно, Его гробницу черные слоны Несут сквозь время, как через пространство. Рожденные для чести и войны, Подняв гербы исчезнувшего рода, Спят рыцари у каменной стены, Да Гама и Камоэнс – спят у входа. Придав убранству корабельный вид, Сплетаются орнаменты, как тросы. Спят под скупыми надписями плит Торговцы, конкистадоры, матросы. Неведомой доверившись судьбе, Чужих морей пригубив злые вина, Полмира отвели они себе, Испании – другая половина. Художников не брали в океан, Но нет предела дерзостному глазу: Сплетения бамбука и лиан, Зверей и птиц, не виданных ни разу, Они ваяли, на руку легки, Все в камень воплотив благоговейно, О чем им толковали моряки За кружкой лисбоанского портвейна. Встает и снова падает заря. Меняются правители и мода. Священники лежат у алтаря, Да Гама и Камоэнс – спят у входа. Окно полуоткрыто. Рядом с ним Плывут суда за стенами собора. Их бережет святой Иероним, Высокий покровитель Лиссабона. Сверкает океанская вода, Серебряные вспыхивают пятна. И мы по ней отправимся туда, Откуда не воротишься обратно. Но долго, пробуждаясь по утрам И глядя в рассветающую темень, Я буду помнить странный этот храм Со стеблями таинственных растений, Где каждому по истинной цене Места посмертно отвела природа: Властитель и епископ – в глубине, Поэт и мореплаватель – у входа. 1986, ЛиссабонЛиссабон
Над берегом – распятие Христа И мост ажурный через реку Тежу. Воспоминаньем давним душу тешу, Взирая на далекие места, Которые не видел никогда, Но о которых помнил постоянно, Где смешана с рассолом океана Гор Пиренейских светлая вода. Жизнь, в сущности, подобие лото: Все клеточки успеть закрыть бочонком И, закрывая, вспоминать о чем-то — О стареньком заплатанном пальто, О времени мальчишеских тревог, Об утренней Неве, несущей льдины. Нам список кораблей до середины Дано прочесть – не более того. Прекрасно оказаться черт-те где, Откуда путь свой начинал Да Гама, Где красок перламутровая гамма Танцует на проснувшейся воде. Конец Европы, край материка, Наивная эпоха юной прыти! Весь прочий мир неведом нам пока, Он ждет к себе и требует открытий. И сердце пробуждается в груди, И светит солнце несмотря на дождик, И ожиданье счастья впереди Заманчиво, хотя и ненадежно. 1986Мыс Рока
У края Португалии любезной, Где ветра атлантического вой, Завис маяк над пенящейся бездной, Последней суши столбик вестовой. По склону козьи убегают тропы, У волн прилива обрывая след. Здесь в океан кидается Европа «С коротким всплеском» – как сказал поэт. Тяжеловесней жидкого металла Мерцает здесь, не молод и не стар, Предел Земли, куда дойти мечтала Неистовая конница татар. Вблизи границы шума и молчанья, Над дряхлой Европейскою плитой, Поймешь и ты, что вовсе не случайно Потомков одурачивал Платон, Что ветер, опустивший ногу в стремя Крутой волны, и влажных чаек крик — Суть не пространство мокрое, а время, Что поглотит и этот материк. 1986«В поэзии определяет случай / Что принимать за образцовый стих…
Памяти Б. А. Слуцкого
В поэзии определяет случай, Что принимать за образцовый стих. Мне в юности запоминался Слуцкий: Прямолинейность слов его простых, Его одежда бывшего солдата, И строгий ус, и бритая щека. Был мир его сколочен грубовато, Но, мне тогда казалось, на века. Суровых строк неистовая вера Была жестка, и жестким был он сам. Удачнее не знаю я примера Такого соответствия стихам. И ученик в его огромном цехе, В нем отыскав начало всех начал, Я ждал его безжалостной оценки (А больше тройки я не получал). Куда теперь от веры этой деться? Кто нас ободрит? Кто укажет путь? Оплакиваю собственное детство, Которое обратно не вернуть. 1986Маяковский
Этот маузер дамский в огромной руке! Этот выстрел, что связан с секретом, От которого эхо гудит вдалеке, В назидание прочим поэтам! Отчего, агитатор, трибун и герой, В самого себя выстрелил вдруг ты, Так брезгливо воды избегавший сырой И не евший немытые фрукты? Может, женщины этому были виной, Что сожгли твою душу и тело, Оплатившие самой высокой ценой Неудачи своих адьюльтеров? Суть не в этом, а в том, что врагами друзья С каждым новым становятся часом, Что всю звонкую силу поэта нельзя Отдавать атакующим классам. Потому что стихи воспевают террор В оголтелой и воющей прессе, Потому что к штыку приравняли перо И включили в систему репрессий. Свой последний гражданский ты выполнил долг, Злодеяний иных не содеяв. Ты привел приговор в исполнение – до, А не задним числом, как Фадеев. Продолжается век, обрывается день На высокой пронзительной ноте, И ложится на дом Маяковского тень От огромного дома напротив. 1986Старые песни
Что пели мы в студенчестве своем, В мальчишеском послевоенном мире? Тех песен нет давно уже в помине, И сами мы их тоже не поем. Мы мыслили масштабами страны, Не взрослые еще, но и не дети, Таскали книги в полевом планшете — Портфели были странны и смешны. Что пели мы в студенчестве своем, Когда, собрав нехитрые складчины, По праздникам, а чаще без причины К кому-нибудь заваливались в дом? Питомцы коммуналок городских, В отцовской щеголяли мы одежде, И песни пели те, что пелись прежде, Не ведая потребности в иных. Мы пели, собираясь в тесный круг, О сердце, не желающем покоя, О юноше, погибшем за рекою, О Сталине, который «лучший друг». «Гаудеамус» пели и «Жену», И иногда, вина хвативши лишку, Куплеты про штабного писаришку И грозную прошедшую войну. Как пелось нам бездумно и легко, — Не возвратить обратно этих лет нам. Высоцкий в школу бегал на Каретном, До Окуджавы было далеко. Свирепствовали вьюги в феврале, Эпохи старой истекали сроки, И темный бог, рябой и невысокий, Последний месяц доживал в Кремле. 1987Сад
Памяти Г. С. Семенова
«Прощанье с садом» – так назвал поэт Последнюю неизданную книгу. Вся жизнь его была подобна мигу. Издали книгу, а поэта нет. Была на откуп книга отдана Редактору с неумолимым взглядом, И вот – «Прощание с осенним садом» В итоге называется она. Серьезна ли причина для досад? — Различия особенного нету. В том разница, однако, что при этом Не мы уходим, видимо, а сад. Все это вновь на ум приходит мне На Петроградской, у подъезда дома, Где сад стоит, безлюдный и бездонный, На противоположной стороне. Его дорожка снежная пуста. Шесть лет минуло с гибели поэта. Шесть раз в свои права вступало лето, Сад нарядив в защитные цвета. Стихи его в столе погребены, Ученики не преуспели в деле. Всю жизнь он прожил, на весну надеясь, И все-таки не дожил до весны. Поэт угас в метельном январе, И дух его уплыл необратимо, Как струйка нерастаявшего дыма Над ветками в морозном серебре. 1987«Несчастливы те, кто упорно / Старается, роясь в пыли…»
Несчастливы те, кто упорно Старается, роясь в пыли, Чужие повыдергать зерна Из горькой Российской земли. За что им, убогим, бороться? Какую испытывать боль? — Империя без инородцев Уже не империя – ноль. Из нынешней тьмы басурманской Вернуться назад не проси В век киевской, дохристианской И незамутненной Руси. Скрипели арбы и телеги За сумрачным тем рубежом, Где гнали в полон печенеги Славянских медлительных жен. Где, в бога Перуна не веря, Укрывшая шкурами грудь, Мешалась с древлянами жмеря, И с чудью немытая жмудь. Где хлеб истребляли пожары, Где, вновь набегая и вновь, Мешали с славянской хазары Степную дремучую кровь. Была к своим детям жестока Земля, для любого ничья. Здесь общего нету истока, Единого нету ручья. Здесь врозь разбегаются реки, И, замкнутый вычертив круг, Морями варяги и греки Отрезали север и юг. 1987Инородец
Не ощущай себя уродцем, Напрасно душу не трави, Оставлена за инородцем Свобода в выборе любви. Судьба возможная иная Ему рождением дана, И для него земля родная Не мать, скорее, а жена. Лишь обрусевший чужеземец, Прошедший множество дорог, Мог полюбить ее, как немец С фамилией короткой «Блок». Преодолев свою натуру, Хранили верность ей по гроб Полушотландец, полутурок, И даже – полуэфиоп. Когда ревнитель чистых генов Зубами рвет тебя, как зверь, Когда толпа аборигенов Твою выламывает дверь, Тебя утешит убежденье, Что этот дом, и этот дым Ты выбрал сам, не от рожденья, А сердцем собственным своим. 1987«Боюсь запоздалой любви…»
Боюсь запоздалой любви, Беспомощной и бесполезной. Так детских боятся болезней, Сокрытых у взрослых в крови. Боюсь запоздалой любви, Щемящей ее ностальгии. Уже мы не станем другими, Как годы назад ни зови. Был потом посолен мой хлеб. И все же, уставший молиться, Боюсь я теперь убедиться, Что был я наивен и слеп. Когда на пороге зима, Высаживать поздно коренья. Милее мне прежняя тьма, Чем позднее это прозренье. Боюсь непрочитанных книг, Грозящих моим убежденьям, — Так кости боится старик Сломать неудачным паденьем. 1987Петр Третий (песня)
Виктору Сосноре
Шорох волн набегающих слышен И далекое пенье трубы. Над дворцовою острою крышей Золоченые светят гербы. Пол паркетный в покоях не скрипнет, Бой часов раздается не вдруг. Император играет на скрипке, — Государство уходит из рук. Держит строй у ограды пехота — Государева верная рать. Надо срочно приказывать что-то, — Что-то можно еще предпринять… Спят в пруду золоченые рыбки, Режут в кухне петрушку и лук. Император играет на скрипке, — Государство уходит из рук. Приближенные в страшной тревоге, Приближается пьеса к концу, Приближаясь по пыльной дороге, Кавалерия скачет к дворцу. В голос скрипки, тревожный и зыбкий, Посторонний вплетается звук. Император играет на скрипке, — Государство уходит из рук. Блеском сабель и пламенем алым Ненавистных пугая вельмож, Он вернется огнем и металлом, На себя самого не похож. А пока – одинокий и хлипкий, — Завершая свой жизненный круг, Император играет на скрипке, — Государство уходит из рук. 1987Ермаково
Паровозы, как мамонты, тонут в болоте. Потускневшее солнце уже на излете. Машет крыльями грустно, на юг улетая, Туруханского гнуса пора золотая. Край поры молодой, я там с юности не был, Где горит над водой незакатное небо, И светлеют, обнявшись, спокойные реки, — Белый плес Енисея и синий Курейки, Где стоят, высоки, приполярные ели, Где вождя мужики утопить не сумели. Паровозы, как мамонты, тонут в болоте. Вы подобное место навряд ли найдете, Где гниют у низины пустынного леса Силачи-исполины, четыре «ИэСа», Словно памятник грозной минувшей эпохи. Ржавых труб паровозных невеселы вздохи. Сорок лет, как сюда завезли их баржою, И стоят они здесь, поедаемы ржою. Волк голодный, обманутый рыжею кровью, Пробирается, крадучись, к их изголовью. Эти призраки все я запомнил толково На краю Енисея вблизи Ермаково, Где осинник пылал светофором над нами, Где пути вместо шпал замостили телами. Но истлели тела – и дорога насмарку, Что связать не смогла Салехард и Игарку. Сколько лет пробивался по тундре упрямо Этот путь, что заложен задолго до БАМа? Половодье в начале недолгого лета До сих пор вымывает из кручи скелеты. Нынче норы лисиц и берлоги медвежьи Заселяют туманное левобережье, Да остатки бараков чернеют, убоги, У покинутой насыпи мертвой дороги. Паровозы, как мамонты, тонут в болоте. И когда эти строки вы в книге прочтете, Помяните людей, что не встретили старость, От которых нигде ничего не осталось. 1987Юрий Левитан
Как канонады отголоски, С блокадных питерских времен Я помню голос этот жесткий, Военного металла звон. В дни отступленья и отмщенья, В дни поражений и тревог, Он был звучащим воплощеньем, Небесным голосом того, Кого от центра до окраин Любили, страху вопреки, И звали шепотом: «Хозяин», — Как будто были батраки. Того, кто их в беде покинул, Кто гением казался всем, Кто наводил им дула в спину Приказом двести двадцать семь. Я помню грозный этот голос В те исторические дни. Он был подобьем правды голой И дымной танковой брони. Он говорил о Высшей каре, Он ободрял и призывал. Владелец голоса, очкарик, Был худощав и ростом мал. В семейной жизни не был счастлив, Здоровье не сумел сберечь, И умер как-то в одночасье, Не дочитав чужую речь. Но в дни, когда в подлунном мире Грядет иная полоса, Когда на сердце и в эфире Звучат другие голоса, Когда порой готов я сдаться И рядом нету никого, Во мне рокочет Государство Железным голосом его. 1987Дом Пушкина
Бездомность Пушкина извечна и горька, Жилья родного с детства он не помнит — Лицейский дортуар без потолка, Сырые потолки наемных комнат, Угар вина и карточной игры. Летит кибитка меж полей и леса. Дома – как постоялые дворы, Коломна, Кишинев или Одесса. Весь скарб нехитрый возит он с собой: Дорожный плащ, перо и пистолеты, — Имущество опального поэта, Гонимого стремительной судьбой. Пристанищам случайным нет конца, Покоя нет от чужаков суровых. Михайловское? – Но надзор отца. Москва, Арбат? – Но скупость Гончаровых. Убожество снимаемых квартир: Все не свое, все временно, все плохо. Чужой, не по летам его, мундир, Чужая неприютная эпоха. Последний дом, потравленный врагом, Где тонкие горят у гроба свечи, Он тоже снят ненадолго, внаем, Который и оплачивать-то нечем. Дрожащие огни по сторонам. Февральский снег восходит, словно тесто. Несется гроб, привязанный к саням, — И мертвому ему не сыщут места! Как призрачен любой его приют! — Их уберечь потомкам – не под силу, — Дом мужики в Михайловском сожгут, А немцы заминируют могилу. Мучение застыло на челе — Ни света, ни пристанища, ни крыши. Нет для поэта места на Земле, Но вероятно, «нет его и выше». 1987Чаадаев
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Александр Пушкин. «К Чаадаеву» Потомок Чаадаева, сгинувший в сороковом, На русский язык перевел большинство его «Писем». Из бывших князей, он характером был независим, На Зубовской площади жил и в Бутырках потом. Уверенный духом, корысти и страха лишен, Он в семьдесят девять держался, пожалуй, неплохо, И если записке Вернадского верить, то он Собою украсить сумел бы любую эпоху. Он был арестован и, видимо, после избит И в камере умер над тощей тюремной котомкой. А предок его, что с портрета бесстрастно глядит, Что может он сделать в защиту себя и потомков? В глухом сюртуке, без гусарских своих галунов, Он в сторону смотрит из дальней эпохи туманной. Объявлен безумцем, лишенный высоких чинов, Кому он опасен, затворник на Ново-Басманной? Но трудно не думать, почувствовав холод внутри, О силе, сокрытой в таинственном том человеке, Которого более века боятся цари. Сначала цари, а позднее – вожди и генсеки. И в тайном архиве, его открывая тетрадь, Вослед за стихами друг другу мы скажем негромко, Что имя его мы должны написать на обломках, Но нету обломков, и не на чем имя писать. 1987Март
Смерть Цезаря всегда граничит с тайной. И все-таки, реальность или миф, Она звенит – победой без восстаний, Народную судьбу переломив. Еще февраль в своих правах, пожалуй, И в спячке беспокойные умы, Но родники таятся, как кинжалы, Под голубыми тогами зимы. Преступный сон, навязчивый и дерзкий, Стучит в мозгу и разрывает грудь, — Как по виску ударить табакеркой, А после шарф на шее затянуть. В окне за черной виселицей рамы Метельный снег кружится и дымит. Он бел, как лик убитого тирана, Он пахнет чесноком, как динамит. Закон молчит. Общественность не ропщет. Свидетели и летописи врут. Все заговором связаны всеобщим: Перовская, и Беннигсен, и Брут. Пусть зимние в лесах окрестных виды, Где вьюга голос пробует «на бис», Пою вам славу, мартовские иды, — Пора поэтов и цареубийств! Пусть будет счастлив тот из нас, кто дожил До майских дней, где тихо и тепло! В окне светает. Снег идет, как дождик. Начало марта – первое число. 1987Памяти Бориса Слуцкого
На войне Мировой не убит, Переживший большие сраженья, Умер Слуцкий и молча лежит, Не страшась нищеты и забвенья. За оградою снежная ширь, Новостроек унылые стены. Что ж, на ветке сидящий снегирь, Не заводишь ты песни военны? На газетной скупой полосе Пару строк удивленно прочтете: «Что-то лирики вымерли все, — То-то физики снова в почете». Были годы его сочтены, — Слишком душу тиранили долго Неотвязное чувство вины И вериги партийного долга. Громовержец и архистратиг, Грозный ментор поэтов безусых, Десять лет он молчал взаперти, Словно Батюшков, впавший в безумство. Завершается траурный круг, Ни свеченья над гробом, ни нимба, Умер Слуцкий, и поняли вдруг: Бог последний спустился с Олимпа. Для покинутых им на Земле Завершил он последнее дело. То, чем сердце годами болело, Под ключом он оставил в столе. Он лежит, неподвижен и нем, Посреди необъятной России, Никому не подвластен впервые И не уполномочен никем. 1987Живопись
С годами живопись становится понятней, Мы к ней все чаще обращаемся опять. Московских пригородов солнечные пятна, Головки грезовской светящаяся прядь, Вакханки Рубенса, и Тауэр в тумане Припоминаются все ярче и ясней. Изображенья, раз увиденные, манят, Вдруг проступившие из юношеских дней. С годами живопись становится нужнее, — Все остальное ускользает и течет. Стареет сцена и театры с нею, Кино и музыка иные, что ни год. Одна лишь живопись внушает нам надежду, Что неизменными останутся всегда И эти складки у пророка на одежде, И эта серая в промоинах вода. И мироздания распавшиеся звенья Соединяются в музейной тишине, Где продлеваются летящие мгновенья, Запечатленные на сером полотне. 1987Дворец Трезини (песня)
Рудольфу Яхнину
В краю, где суровые зимы И зелень болотной травы, Дворец архитектор Трезини Поставил у края Невы. Плывет смолокуренный запах, Кружится дубовый листок. Полдюжины окон – на запад, Полдюжины – на восток. Земные кончаются тропы У серых морей на краю. То Азия здесь, то Европа Диктуют погоду свою: То ливень балтийский внезапен, То ветер сибирский жесток. Полдюжины окон – на запад, Полдюжины – на восток. Не в этой ли самой связи мы Вот так с той поры и живем, Как нам архитектор Трезини Поставил сей каменный дом? — То вновь орудийные залпы, То новый зеленый росток… Полдюжины окон – на запад, Полдюжины – на восток. Покуда мы не позабыли, Как был архитектор толков, Пока золоченые шпили Несут паруса облаков, — Плывет наш кораблик пузатый, Попутный поймав ветерок, — Полдюжины окон – на запад, Полдюжины – на восток. 1987«Этот город, неровный, как пламя…»
Этот город, неровный, как пламя, Город-кладбище, город-герой, Где за контуром первого плана Возникает внезапно второй! Этих храмов свеченье ночное, Этих северных мест Вавилон, Что покинут был расой одною И другою теперь заселен! Где каналов скрещенные сабли Прячет в белые ножны зима, И дворцовых построек ансамбли Приезжающих сводят с ума! Лишь порою июньскою летней, Прежний облик ему возвратив, В проявителе ночи бесцветной Проступает его негатив. И не вяжется с тем Петроградом Новостроек убогих кольцо, Как не вяжется с женским нарядом Джиоконды мужское лицо. 1987Петровская галерея
Эпоха Просвещения в России, — На белом фоне крест небесно-синий, Балтийским ветром полны паруса. Еще просторны гавани для флота, На острове Васильевском – болота, За Волгою не тронуты леса. Начало просвещения в России. Ученый немец, тощий и спесивый, Спешит в Москву, наживою влеком. Надел камзол боярин краснорожий. Художник Аргунов – портрет вельможи, — Медвежья шерсть торчит под париком. Начало просвещения в России, — Реформы, о которых не просили, Наследника по-детски пухлый рот, Безумие фантазии петровской, Восточная неряшливая роскошь, Боровиковский, Рокотов, Гроот. Встал на дыбы чугунный конь рысистый. История империи Российской Пока еще брошюра, а не том, Все осмотреть готовые сначала, Мы выйти не торопимся из зала, — Мы знаем, что последует потом. 1988Неверие
В раннем детстве, что помнится шумом дождя, Мироздание я познавал через нянек. На Васильевском жили мы. Мать спозаранок Нас гулять отправляла, на службу идя. Помню няньку свою из глухого села, Что крестилась всегда, и в процессе гулянья Иногда меня в церковь с собою брала, — Больше прочего нравились ей отпеванья. Я от пенья молитв непонятных скучал, И старался на солнце удрать поскорее Из старинного храма Святого Андрея, Где недвижно над гробом горела свеча. Мне не нравился этот чертог темноты, Но причастность мне нравилась к нянькиной тайне. В тридцать пятом с собора сорвали кресты, И закончилось этим мое воспитанье. Мир горел в столкновеньи безбожных идей. Осажденных пургой отпевала блокада, И кресты, вознесенные над облаками, Приносили свистящую смерть для людей. Помню после холодный нетопленный класс, Красный галстук, что был мне на шею повязан, И салют отдавал я под бдительным глазом «Трех вождей» – так тогда говорили у нас. Мир горел в столкновеньи безбожных идей. В мирозданьи открылась мне самая малость. Времена изменялись, но жизнь не менялась, — Лишь на стенах менялись портреты вождей. Я о няньке своей вспоминаю опять, — Кто порядок вещей объяснит мне толково? Раз неверье на веру приходится брать, — То различия с верой и нет никакого. 1988Шинель
На выставке российского мундира, Среди гусарских ментиков, кирас, Мундиров конной гвардии, уланских, И егерских, и сюртуков Сената, Утяжеленных золотым шитьем, Среди накидок, киверов и касок, Нагрудных знаков и других отличий Полков, и департаментов, и ведомств, Я заприметил странную шинель, Которую уже однажды видел. Тот шкаф стеклянный, где она висела, Стоял почти у выхода, в торце, У самой дальней стенки галереи. Не вдоль нее, как все другие стенды, А поперек. История России, Которая кончалась этим стендом, Неумолимо двигалась к нему. И, подойдя, увидел я вблизи Огромную двубортную шинель Начальника Охранных отделений, Как поясняла надпись на табличке, И год под нею – девятьсот десятый. Была шинель внушительная та Голубовато-серого оттенка, С двумя рядами пуговиц блестящих, Увенчанных орлами золотыми, Немного расходящимися кверху, И окаймлялась нежным алым цветом На отворотах и на обшлагах. А на плечах, из-под мерлушки серой Спускаясь вниз к раскрыльям рукавов, Над ней погоны плоские блестели, Как два полуопущенных крыла. И тут я неожиданно узнал Шинель доисторическую эту: Ее я видел много раз в кино И на журнальных ярких фотоснимках Мальчишеских послевоенных лет, Где мудрый Вождь свой любящий народ Приветствует с вершины Мавзолея. И вспомнил я, как кто-то говорил, Что сам Генералиссимус тогда Чертил эскиз своей роскошной формы — Мундира, и шинели, и фуражки. Возможно, подсознательно ему Пришел на память облик той шинели Начальника Охранных отделений, Который показался полубогом, Наглядно воплотившим символ власти, Голодному тому семинаристу, Мечтателю с нечистыми руками, Тому осведомителю, который Изобличен был в мелком воровстве. Теперь, когда о нем я вспоминаю, Мне видятся не черный френч и трубка Тридцатых достопамятных годов — Воспетая поэтами одежда Сурового партийного аскета, Не мягкие кавказские сапожки, А эти вот, надетые под старость, Мерцающие тусклые погоны И серая мышиная шинель. 1988Баллада о спасенной тюрьме
Я это видел в шестьдесят втором — Горела деревянная Игарка. Пакеты досок вспыхивали жарко — Сухой июль не кончился добром. Дымились порт, и склады, и больница, — Валюта погибала на корню, И было никому не подступиться К ревущему и рыжему огню. И, отданы милиции на откуп, У Интерклуба, около реки, Давили трактора коньяк и водку, И смахивали слезы мужики. В огне кипело что-то и взрывалось, Как карточные – рушились дома, И лишь одна пожару не сдавалась Большая пересыльная тюрьма. Горели рядом таможня и почта, И только зэки, медленно, с трудом, Передавая ведра по цепочке, Казенный свой отстаивали дом. Как ни старалась золотая рота, На две минуты пошатнулась власть: Обугленные рухнули ворота, Сторожевая вышка занялась, И с вышки вниз спустившийся охранник, Распространяя перегар и мат, Рукав пожарный поправлял на кране, Беспечно отложивши автомат. За рухнувшей стеною – лес и поле, Шагни туда и растворись в дыму. Но в этот миг решительный на волю Бежать не захотелось никому. Куда бежать? И этот лес зеленый, И Енисей, мерцавший вдалеке, Им виделись одной огромной зоной, Граница у которой – на замке. Ревел огонь, перемещаясь ближе, Пылали балки, яростно треща, Дотла сгорели горсовет и биржа, — Тюрьму же отстояли сообща. Когда я с оппонентами моими Спор завожу о будущих веках, Я вижу небо в сумеречном дыме И заключенных с ведрами в руках. 1988Есенин читает стихи Кирову
А Персия, хотя теперь и близко, Но недоступна все-таки, увы! Вздыхает море, словно одалиска Под шелковым покровом синевы. Балкон лоза опутала витая, В восточном стиле убран кабинет. Хозяину стихи свои читает Ненадолго приехавший поэт. Печаль в глазах сменяется весельем. Он весь в кудрях – как в золотом венце. Следы свои оставило похмелье На пухлом по-мальчишески лице. За окнами в пространстве бледно-синем Неярко разгорается звезда. Мимоза распускается. В России Такого не увидишь никогда. И влагою солоновато-горькой Пропитана густеющая мгла, И слушатель в суконной гимнастерке Не шелохнется в кресле у стола. Крутоголов, широкоплеч и грузен, Вселившийся в роскошный этот дом, Он по нутру – не слишком близок к музе, Но должен знать, конечно, обо всем. Растопят ли лукавые южане Его зрачков зеленоватый лед? Он – Первый секретарь в Азербайджане, Но это не падение – а взлет. Кричит павлин вослед строке звучащей, Плывет за садом сумеречный дым, И моря лазуритовая чаша Накрыта небосводом голубым. Но для судьбы дороги нет окольной На рубеже прозрачных полусфер, И одного – уже заждался Смольный, Другому – время ехать в «Англетер». 1988Вальс тридцать девятого года (песня)
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!
Припев из предвоенной песни «Если завтра война» Полыхает кремлевское золото. Дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов Принимает берлинских друзей. Карта мира верстается наново, Челядь пышный готовит банкет. Риббентроп преподносит Улановой Белых роз необъятный букет. И не знает закройщик из Люблина, Что сукна не кроить ему впредь, Что семья его будет загублена, Что в печи ему завтра гореть. И не знают студенты из Таллина И литовский седой садовод, Что сгниют они волею Сталина Посреди туруханских болот. Пакт подписан о ненападении — Можно вина в бокалы разлить. Вся Европа сегодня поделена — Завтра Азию будем делить! Смотрят гости на Кобу с опаскою. За стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское За немецкого фюрера пьет. 1988Поминальная польскому войску
Там, где зелень трав росистых, Там, где дым скупого быта, Посреди земель российских Войско польское побито. Не в окопе, не в атаке, Среди сабельного блеска — В старобельском буераке, И в катынских перелесках. Подполковник и хорунжий — Посреди березок стылых, Их стреляли, безоружных, Ближним выстрелом в затылок. Резервисты из Варшавы, Доктора и профессура — Их в земле болотной ржавой Схоронила пуля-дура. Серебро на их фуражках Поистлело, поистлело Возле города Осташков, В месте общего расстрела. Их зарыли неумело, Закопали ненадежно: «Еще Польска не сгинела, Але Польска сгинуть должна». Подполковник и хорунжий Стали почвой для бурьяна. Но выходят рвы наружу, Как гноящаяся рана. Над планетой спутник кружит, Вся на пенсии охрана, Но выходят рвы наружу, Как гноящаяся рана. Там, где мы бы не хотели, Там, где сеем мы и пашем. Не на польском рана теле — А на нашем, а на нашем. И поют ветра сурово Над землей, густой и вязкой, О весне сорокового, О содружестве славянском. 1988Песни к спектаклю по повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» в инсценировке Семена Лунгина
1. Марш серых гномов
Там, где лес грустит о лете, Где качает сосны ветер, Где в зеленом лунном свете Спит озерная вода, Мы идем в минуты эти На людей расставить сети. Все – и взрослые, и дети, — Разбегайтесь кто куда! Гномы, гномы, гномы, гномы, Не дадим житья чужому! Уведем его от дому И возьмем на абордаж! Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не нашей веры. Если с виду ты не серый, Это значит – ты не наш! Наших глаз сверкают точки. Мы слабы поодиночке, Но, собравшись вместе ночью, Не боимся никого. Нету сил у инородца Против нашего народца. Грудью, ежели придется, Встанем все на одного. Гномы, гномы, гномы, гномы, Не дадим житья чужому! Уведем его от дому И возьмем на абордаж! Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не нашей веры. Если с виду ты не серый, Это значит, ты не наш! Мы – борцы-энтузиасты. Человек – наш враг, и – баста! Словно волки мы зубасты, Ядовиты, как оса. За отечество радея, Изведем его, злодея. Наша главная идея: Бей людей – спасай леса! Гномы, гномы, гномы, гномы, Не дадим житья чужому! Уведем его от дому И возьмем на абордаж! Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не нашей веры. Если с виду ты не серый, Это значит, ты не наш!2. Волчья песня
В реке, омывающей берег, В зеленом лесу над рекой И рыбе, и всякому зверю Для отдыха нужен покой. Спешит перелетная птица Родные найти берега, И путник усталый стремится На свет своего очага, И теплое логово волчье Мохнатую манит родню. И мы собираемся молча И тянем ладони к огню. С утра приключений мы ищем, Но вечером этого дня Нам теплое нужно жилище, Одетое светом огня. Пустеет вечернее поле, Холодные ночи близки. И сердце сожмется от боли, И выбелит иней виски, И осень звенит в колокольчик, Сжигая траву на корню. И мы собираемся молча И тянем ладони к огню. Спеши же, охотник усталый, В тобою покинутый дом: Цветок распускается алый Под черным кипящим котлом, Забыты недавние муки, Близка долгожданная цель, Где женские легкие руки Тебе застилают постель, И месяц является ночью На смену сгоревшему дню. И мы собираемся молча И тянем ладони к огню. 1988Плавание
Невозможно на сфере движение по прямой. Отвыкаешь со временем ост отличать от веста, Ведь куда бы ни плыл ты – в итоге придешь домой, Постарев на полгода, а значит – в другое место. Любопытства хватает на первые десять лет, А потом понимаешь – нельзя любопытствовать вечно. На вопросы твои не пространство дает ответ, А бегущее время, – уже не тебе, конечно. Океан не земля – он меняется и течет, Пересечь его трудно и лайнеру, и пироге. Капитаны безумны – один Одиссей не в счет, Он домой торопился и просто не знал дороги. Покидающий гавань уже не вернется сюда, Без него продолжается шумная жизнь городская. От намеченных курсов вода отклоняет суда, Из минуты в минуту стремительно перетекая. 1988Цусима
Цусимы погребальные дымы Из памяти изгладились едва ли. Почти что век все бередит умы Легенда о бездарном адмирале, Отдавшем наш Балтийский грозный флот На истребленье азиату Того. Что знали мы до этого? – Немного. Архив японский новый свет прольет На давний полюбившийся нам миф О глупости. Вводя эскадру в дело, В кильватер флагман выстроил умело Свои суда, врага опередив. И правые борта окутал дым, И грянули басы наводки дальней, Но не было заметных попаданий, — Ответ же оказался роковым. Напрасны обвинения молвы В стрельбе неточной. Дело было вот как: Без промаха сработала наводка, Снаряды же не взорвались, увы. Из побежденных кто об этом знал, Когда, лишенный флота и охраны, Рожественский, злосчастный адмирал, Сдавался в плен? – Хлестала кровь из раны. Кто клевету бы после опроверг, Припомнив запоздалый этот довод? Империя, как взорванный дредноут, Пошла крениться ржавым брюхом вверх. И двинулся беды девятый вал, Сметая государства и народы. Рожественский, конфузный адмирал, Не ты виновник нынешней свободы. Не флагманы, разбитые поврозь, И не раскосый желтолицый ворог, — Виной пироксилин – бездымный порох И русское извечное «авось». 1988Русская словесность
Святой угодник Мирликийский Со свитком в высохшей руке. Исток словесности российской В церковном древнем языке. Духовный, греческо-славянский, Его надежда и оплот, Неповоротливый и вязкий, Как в сотах затвердевший мед. Не куртуазные баллады, Не серенады струнный звон, А тусклый свет и едкий ладан, И Богу истовый поклон. В нее вложила голос веский Небес торжественная синь. Язык церковный здесь и светский Не разводила врозь латынь. Из бывших риз ее знамена. Есть в музыке ее речей Суровость Ветхого канона И жар оплавленных свечей. Не легкость музы, что незримо Определяет лад стихов, А покаяние и схима, И искупление грехов. Не современные манеры, Газетный шумный разнобой, А правота жестокой веры, Враждебность к ереси любой. 1988Дорога («Солнце в холодную село воду…»)
В небе лучом полыхнув зеленым. Человечество делится на скотоводов И земледельцев. В делении оном, Неприменимом в двадцатом веке, Осталась верной первооснова, Коренящаяся в самом человеке, А не в способе добывания съестного. Ты это все вспоминаешь в душной Комнате тусклой порой вечерней. В теле твоем законопослушном Неопрятный ворочается кочевник, Не отличающий оста от веста, Но ненавидящий прочные стены, Надеющийся переменой места Произвести в себе перемены. Прочь же поскачем, в пыли и гаме, Не доверяя земле вчерашней! Пастбище, вытоптанное ногами Сотен животных, не станет пашней. Где остановимся? Что засеем? Чем успокоим хмельные души? Вслед за Колумбом и Моисеем, Вплавь и пешком, по воде и по суше. Женщины этой ночное ложе, Дом твой, вместилище скучных бедствий, — Что бы ни выбрал ты, выбор ложен, — Первопричина открытий – в бегстве. 1988Колокол Ллойда
Между реклам, магазинов и бронзовых статуй, Грузных омнибусов и суеты многолюдной, В лондонском Сити, от времени зеленоватый, Колокол Ллойда звонит по погибшему судну. Зрелище это для жителей обыкновенно. В дымное небо антенны уводят, как ванты. Мерно звенит колокольная песня Биг-Бена, Вторят ему погребальные эти куранты. Стало быть, где-то обшивку изранили рифы, Вспыхнул пожар, или волны пробили кингстоны. Жирные чайки кружатся, снижаясь, как грифы. Рокот воды заглушает проклятья и стоны. Кто был виною – хозяин ли, старая пройда, Штурман беспечный, что спит под водой непробудно? В лондонском Сити, у двери всесильного Ллойда Колокол медный звонит по погибшему судну. Где ты, мое ленинградское давнее детство? Тоненький Киплинг, затерянный между томами? Тусклая Темза мерцает со мной по соседству, Тауэр тонет в томительно темном тумане. Как же я прожил, ни в Бога, ни в черта не веря, Вместо молитвы запомнивший с детства «Каховку»? Кто возместит мне утраты мои и потери? Кто мне оплатит печальную эту страховку? Сходство с судами любому заметить нетрудно В утлом гробу или в детской тугой колыбели. Колокол Ллойда звонит по погибшему судну, — Не по тебе ли, любезнейший, не по тебе ли? В час, когда спим и когда просыпаемся смутно, В час, когда время сжигаем свое безрассудно, В лондонском Сити, практически ежеминутно, Колокол Ллойда звонит по погибшему судну. 1988«Как прежде незлопамятен народ…»
История злопамятнее народа!
Карамзин об Иване Грозном Как прежде незлопамятен народ, История – куда его суровей. Он как стрелец, устало хмуря брови, На плаху со свечой в руках идет. Еще он вспомнит взятие Казани, Азовское сражение в дыму, Меж тем как высшей меры наказанье Ему уже готовят самому. Всегероизм и всепрощенье рядом. Привыкли так: три пишем, пять в уме, — И памятник стоит под Сталинградом, И памятника нет на Колыме. Шумит толпа. Кричать недолго всласть ей И палачей умерших обличать, В то время как тоска по сильной власти Уже по кругу нас уводит вспять. Бесцелен этот путь, несметны беды, Чему и улыбается слегка Злодей усатый с орденом Победы На ветровом стекле грузовика. 1988Камиль Коро
Разрушение Содома На картине у Коро, — Угол каменного дома, Дуб с обугленной корой. Красный дым на небосводе, Сжаты ужасом сердца, Дочь из города уводит Престарелого отца. На лету сгорает птица Меж разрядов грозовых, И темны от страха лица Прародителей моих. Разрушение Содома На картине у Коро. Нет людей в долине Дона, Нет на Темзе никого. Обгорят у лавров кроны, В реках выкипит вода, — Нет гражданской обороны От Господнего Суда. Разрушение Содома На картине у Коро. Возле ног, как ад, бездонно Разверзается метро. Долго после вернисажа Будит в полночи меня Жаркий воздух в дымной саже, Пляска темного огня. И до самого рассвета Сотрясает блочный дом Небо Ветхого Завета С черным атомным грибом. 1988Песни западных славян
Песни западных славян Не поют сегодня боле. В них тоска сиротской доли И в мужья нелюбый дан. В них ведется бедам счет, Словно яхонтам в шкатулке. Мать-старушку режут турки, По березе кровь течет. Песни западных славян — Ни надежды, ни просвета. Иссушит колосья лето, И юнак умрет от ран. Молодой душе пропасть В поле боя опустелом. Волк наелся белым телом, Ворон крови попил всласть. Песни западных славян Нетипичны для Европы, — В них голодный слышен ропот, Черный стелется туман. Их лесной дремучий бог Христианством лишь затронут. Так речной не скроет омут Тонкий временный ледок. В песнях западных славян Нет струны любовной тонкой, — Рубят надвое ребенка, Полонянок гонит хан, Убивает сын отца, Манит глупых небылица… Не поют, а песня длится, И не видно ей конца. 1988Русская церковь
Не от стен Вифлеемского хлева Начинается этот ручей, А от братьев Бориса и Глеба, Что погибли, не вынув мечей. В землю скудную вросшая цепко, Только духом единым сильна, Страстотерпием Русская церковь Отличалась во все времена. Не кичились седые прелаты Ватиканскою пышностью зал. На коленях стальных император Перед ними в слезах не стоял. Не блестел золотыми дарами Деревенский скупой аналой. Пахло дымом в бревенчатом храме И прозрачной сосновой смолой. И младенец смотрел из купели На печальные лики святых. От татар и от турок терпели, Только более всех – от своих. И в таежном скиту нелюдимом, Веру старую в сердце храня, Возносились к Всевышнему с дымом, Два перста протянув из огня. А ручей, набухающий кровью, Все бежит от черты до черты, А Россия ломает и строит, И с соборов срывает кресты. И летят над лесами густыми От днепровских степей до Оби, Голоса вопиющих в пустыне: «Не убий, не убий, не убий!» Не с того ли на досках суровых Все пылает с тех памятных лет Свет пожара и пролитой крови, Этот алый пронзительный свет? 1988Избиение младенцев. Питер Брейгель
Избиение младенцев в Вифлееме. В синих сумерках мерцает свет из окон. Где оливковые рощи? Снег и темень В этой местности, от Библии далекой. Избиение младенцев в Вифлееме. Но заметить я, по-видимому, должен: От влияния позднейших наслоений Неспособен был избавиться художник. Перепутав географию и даты, Аркебузы ухватив, как автоматы, Скачут грузные испанские солдаты, Шуба жаркая напялена на латы. И стою у полотна, не зная – где я? Вифлеем ли это, право, в самом деле? Снег кружится в этой странной Иудее, И окрестные свирепствуют метели. Прячут головы несмелые мужчины, Плачет женщина пронзительно и тонко, — Двое стражников, одетых в меховщину, Вырывают у нее из рук ребенка. Вьюга темная младенцев пеленает. Снег дымится, от горячей крови тая… То не ты ли, Белоруссия родная? То не ты ли, Украина золотая? 1988Пизанская башня
Падение Пизанской башни, Замедленное на века, День нынешний и день вчерашний, Неразличимые пока. Ах, этот столб из белых кружев, Ценителей берущий в плен, Где очевиден лишь снаружи Внутри неощутимый крен! На лестнице, крутой и затхлой, Ты убедишь себя не раз, Что упадет она не завтра, Еще не завтра, не сейчас. На лестнице, крутой и затхлой, Где все гуськом идти должны, Тебе припомнятся внезапно Просторы собственной страны. На лестнице, крутой и затхлой, Ты убедишь себя не раз, Что упадет она не завтра, Еще не завтра, не сейчас. 1988«Как случилось, что я – это я?…»
Как случилось, что я – это я? Не в варяги попал и не в греки? Что достался мне в нынешнем веке Лотерейный билет бытия? Что я этот разучивал гимн, И болезнями этими болен, Что судьбою своею не волен Поменяться я с кем-то другим? Как случилось, что я – это я? Ни Христу не молюсь, ни Аллаху, И ношу я цветную рубаху, А не плащ золотого шитья? Неуклонно движение вниз. Сны цветные ночами не снятся. Я снижаюсь, как парашютист, Что обратно не может подняться. Мой недолгий сегодняшний срок Не продлят валидол или грелка. Годовая вращается стрелка, И бесшумный струится песок. Что же все-таки будет потом? Мне не верится, честное слово, Что бесследно исчезну, и снова Не возникну в обличьи другом. Скоро стропы обрежут ножом, И закончится век мой короткий. И, в последний свой рейс снаряжен, В деревянной безвесельной лодке К берегам неизвестных морей Поплыву я сквозь низкие двери, До последней минуты не веря Однократности жизни моей. 1988«Из всех поэтов Кушнера люблю…»
Из всех поэтов Кушнера люблю, Он более других мне интересен, Хотя гитарных не выносит песен, Которые поем мы во хмелю. Мне нравится традиционный строй Его стихов, гармония неброских Полутонов, которые порой Милее мне, чем гениальный Бродский. Быть может, переехавший в Москву, Я оттого люблю их, что другие Во мне не вызывают ностальгии Туманную и вязкую тоску. Из всех поэтов Кушнера люблю, За старенький звонок у старой двери, За то, что с детства он остался верен Плывущему над шпилем кораблю. За то, что не меняет он друзей, Что и живет он там как раз, где надо — На берегу Таврического сада, Близ дома, где Суворовский музей. И я опять стремлюсь, как пилигрим, Туда, где он колдует над тетрадкой, И кажется не горькою, а сладкой Вся жизнь моя, написанная им. 1988Лагерные поэты
Вас позабыть могу ли, Дети земли болотной, — Здравствующий Жигулин, Умерший Заболоцкий, Клещенко и Шаламов, Выжившие в аду? Да не приимут срама Вынесшие беду! Там, где рычат собаки, Следуя по пятам, Где не дождался пайки Мерзнущий Мандельштам, Их запирали в карцер, — Высохни и умри, Ставили их на карту Пьяные блатари. Не дотянул до завтра, Не пережил свой страх Нам неизвестный автор, Певший о сухарях. В вечность ушел без даты, В памяти общей стерт, Тот, кто воспел когда-то Ванинский гиблый порт. Кто нам об этих войнах Может поведать быль? Из-под сапог конвойных Снежная вьется пыль. Мучает свежей раной Нынешние срока Ставшая безымянной Горестная строка. 1989Падение Рима
Если вправду разрушен Рим И от этого над горою Пахнет ветер соленой кровью И багровый клубится дым, Если варвар и вправду смог, Набирая сил понемногу, Апеннинский тугой сапог Натянуть на босую ногу, И дворцовое пьют вино Эти воры с большой дороги, На портянки пустив сукно Императорской алой тоги, И не врет этот рыжий галл, Неотвязчивый и лукавый, Поднимая рукою правой Золоченый чужой бокал (На щеке его – след клейма, Пляшет тело его от зуда. Он оскалил гнилые зубы, И внимает ему корчма), Если рухнули те столбы, Что веками держали своды, — Это значит, что мы, рабы, Дождались наконец свободы. Что не станет нас жечь, как встарь, Ежедневное чувство страха. Каждый будет отныне – царь, — Вот неясно, кто будет пахарь. Это значит – плыви, плотва, Безопасной от щук рекою! Это значит – гуляй, братва, — Начинается Средневековье! И задумался пилигрим, На мгновенье забыв о Боге: «Если вправду разрушен Рим, То куда же ведут дороги?» 1989Петр Первый судит сына Алексея. Николай Ге
Прогрессу мешает духовность. Не ведая истины сей, Умрет от подушки пуховой Царевич святой Алексей. В немецком постылом мундире, С родителем встрече не рад, Он на пол глядит в Монплезире, Ступая на черный квадрат. Ах, шахматной партии этой Недолог печальный конец! Внизу ожидает карета, И в сторону смотрит отец. Боярин предерзостный Пушкин Казнен за лихие дела. Молчат перелитые в пушки Чугунные колокола. Волны опьяняющий запах Пером описать не берусь. Россия стремится на Запад, — В скиты удаляется Русь. Хмельных капитанов орава Уводит на Балтику флот. Держава уходит направо, Духовность – налево идет. 1989Памяти Татьяны Галушко
Все не верится глазу, – неужто Там, где листья легли на гранит, Поэтесса Татьяна Галушко Под плитой запыленной лежит? Разоряет осинники осень, И становятся дали ясней. Двадцать лет уж, как в общем доносе Упомянуты были мы с ней. И заложены в памяти прочно В те поры поражавшие всех Ее звонкие юные строчки, Ее звонкий девчоночий смех. Только рак в наше время не лечат, И не стало Татьяны, увы. Этих нет, а иные далече От крутящейся мокрой листвы. Сблизив даты разлук и свиданий, Дышит стужею гиперборей С перевалов Армении дальней, От арктических ближних морей. Не затем ли друзей мы хороним На пороге грядущей зимы, Чтобы в мире том потустороннем Одинокими не были мы? 1989Дон-Кихот
Дон-Кихот благороден. И все же – смертельно опасен В постоянном стремлении зло корчевать на Земле. Он стремительно скачет, за ним не поспеть Санчо Пансе На домашнем приземистом, коротконогом осле. У дороги в садах наливаются соком маслины, Глаз ласкает вокруг незатейливый сельский уют. Мир навстречу плывет меж ушей треугольных ослиных. В нем леса зеленеют, и яркие птицы поют. Но в багровую тучу окрестности мирные канут, Если волю дадим подозрительным чувствам своим. Встанут мельницы в ряд – угрожающий ряд великанов, Атакующим змеем летящий окажется дым. Дон-Кихот старомоден, и все же сегодня опасен. Нам доспехи его и заржавленный меч – ни к чему. Все он ищет врагов меж полей, перелесков и пасек, Черный дым подозрений глаза застилает ему. Стали нравы другими, и время сегодня иное, Нет волшебников больше, и время драконов прошло, Но, копьем потрясая, вторгается в мир паранойя, Сея страх и вражду, и добро обращая во зло. 1989Последний летописец
Памяти Натана Эйдельмана
Скончался Натан Эйдельман, Последний российский историк. Пустует промятый диван, Завален бумагами столик. В квартире, где мертвая тишь, Раскатистый голос не слышен. Вчерашние скрыты афиши Полотнами новых афиш. Скончался Натан Эйдельман, Последний российский историк. Его сочинений тома Отныне немалого стоят. При жизни он не был богат, Теперь же – богат он несметно, — Истории ангельский сад Ему остается посмертно. Для веком любимых детей Господняя явлена милость: Эпоха их жизней сменилась Эпохой великих смертей. Скончался Натан Эйдельман, Последний российский историк. В густеющий глядя туман, В своих убеждениях стоек, Твердил он опять и опять, Борясь со скептическим мненьем, Что можно Россию поднять Реформами и просвещеньем. Свой мерный замедлили бег Над черною траурной датой Его девятнадцатый век, Его беспокойный двадцатый. От бремени горестных пут Теперь он на волю отпущен. Его для беседы зовут Рылеев, и Пестель, и Пущин. И снова метель в декабре — Предмет изысканий ученых. Пополнив отряд обреченных, Безмолвное стынет каре. Скончался Натан Эйдельман, Последний российский историк, И весь черносотенный стан Гуляет у праздничных стоек. За что их звериная злость И ненависть эта? За то ли, Что сердце его порвалось, Всеобщей не выдержав боли? Что, славу презрев и почет, России служа безвозмездно, Он, им вопреки, предпочел Единственный способ отъезда? Скончался Натан Эйдельман. Случайно ли это? – Едва ли: Оборван истории план, Стремящийся вверх по спирали. Захлопнулась времени дверь, В полете застыла минута, — Безвременье, голод и смута Страну ожидают теперь. И нам завещает он впредь Познание тайны несложной, Что жить здесь, увы, невозможно, Но можно лишь здесь умереть. 1989«Покуда солнце длит свой бег…»
Покуда солнце длит свой бег, Распространяя отблеск меди, С соседями из века в век Враждуют ближние соседи. Земли медлительный ковчег Поскрипывает от нагрузки. Эстонцы проклинают русских, Словака презирает чех. Не одолел двадцатый век Людей звериную натуру, — Армяне ненавидят турок, С киргизом ссорится узбек. За все им предъявляют счет: За облик, с собственным несхожий, За цвет волос, и глаз, и кожи, — Да мало ли, за что еще! За ежегодный недород, За жизнь, которая убога. И каждый нож вострит, и Бога К себе в сообщники зовет. И в доме собственном несмело Я стороною прохожу, Свое отверженное тело Подставив этому ножу. Я слышу чей-то выкрик злой, Я вижу толп оскал крысиный, И нестерпимо пахнет псиной Над первобытною землей. 1989Песня о полевой почте (песня)
Памяти погибших в Афганистане
С чем там почта к тебе полевая В дом стучится? И на грязной войне убивают, Как на чистой. Днем и ночью зовут замполиты Там в герои. Да на грязной войне быть убитым — Хуже втрое. Видно, годы минувшие эти Все проспал ты, Что сегодня пошли твои дети В оккупанты. Отшумит над горами ненастье, Снег растает. А стоять им приказано насмерть — Где поставят. С чем там почта к тебе полевая В дом стучится? И на грязной войне убивают, Как на чистой. Кружит смерч над ущельем проклятым, Бог всевышний, Там, где брат разбирается с братом, — Третий лишний. Под огнем он стремительным сгинет, Под фугаской, На бесплодной на этой чужбине На афганской. Писаря сосчитают потери, И негромко Постучится в закрытые двери Похоронка. 1989«Мне говорят, что нужно уезжать…»
Мне говорят, что нужно уезжать.
Иосиф Бродский «Мне говорят, что нужно уезжать». За окнами, хлебнув хмельной отравы, Шумит чернорубашечная рать И неотложной требует расправы. Меня усердно за собой маня, Предчувствуя неотвратимость бедствий, В дорогу собирается родня, — Уже не эмиграция, а бегство. А я вослед им говорю: «Пока, — Я опасаюсь временных пристанищ В безмолвии чужого языка, Который мне родным уже не станет». Меня пугают: «Худшей из смертей Умрешь ты здесь, растерзанный и голый». Мне говорят: «Пора спасать детей, — Теперь не время думать про глаголы. Недолгий срок тебе судьбою дан Для нового открытия америк. Когда вскипает штормом океан, Не время выбирать удобный берег». Уже последний отзвенел звонок, Но медлю я, приникнув, как Овидий, К родной земле, где я не одинок, — Где есть кого любить и ненавидеть. 1990«Меня приучали, что здесь я чужой…»
Меня приучали, что здесь я чужой, Что жить как и все – не мое это дело В российских негостеприимных пределах, Где места мне нет за любою межой. Меня приучали стыдиться лица И предков, себя ощущая уродцем, — В стране, где доносит и сын на отца, Не дай тебе, господи, быть инородцем! «Здесь все не твое – и земля, и вода!» — Сто раз повторяли мне голосом зычным. Не русский поэт я, а русскоязычный, — Мне русским поэтом не быть никогда. И все-таки с детства люблю я, хоть плачь, Проселки и серое небо над ними, И эту любовь у меня не отнимет Ни пьяный погромщик, ни Бог, ни палач. 1990Полукровка
Полукровка, полукровка, Как живешь, свой грех тая? Не помогут маскировка И фамилия твоя. Спросит строго пережиток, Кто ты родом, чей ты сын, — Полутурок, полужидок Или полуармянин. Полукровка, полукровка, Неудачливый изгой, Где проходит эта кромка — Пол одной и пол другой? Чьи в тебе сокрыты вины? Чьи платить тебе долги? Две твоих же половины — Неизменные враги. Полукровка, полукровка, Песню общую не пой. Ненадежным будет кров твой На земле всегда чужой. Одинок ты будешь вечно. Всюду встретишь ты врага. Ты везде – ни богу свечка И ни черту кочерга. Спрос идет с любой из наций, — Ты в ответе за двоих. Все к своим бегут спасаться, — У тебя же нет своих. Позабыли, видно, род свой То ль отец твой, то ли мать. Если кровь твоя прольется, Где какая – не понять. 1990Гражданская война (песня)
Клубится за окном пожара едкий чад, Не жаворонки в нем, а вороны кричат. Голодная страна огнем обожжена, — Гражданская война, гражданская война. Гражданская война, гражданская война, Где богу грош цена, и жизни грош цена. Пылает за межой неубранная рожь, Где свой и где чужой, никак не разберешь. Гражданская война, гражданская война, Где сыты от пшена и пьяны без вина, Где ждать напрасный труд счастливых перемен, Где пленных не берут и не сдаются в плен. Гражданская война, гражданская война, Земля у всех одна, и жизнь у всех одна. А пулю, что летит, не повернуть назад: Ты думал – враг убит, а оказалось – брат. И кровь не смоешь впредь с дрожащих рук своих, И легче умереть, чем убивать других. Гражданская война, гражданская война, Будь проклята она, будь проклята она! 1990Беженцы
Курчавая женщина сахар ссыпает в мешок И хлеб со столов собирает в пустынной столовой Для худенькой девочки, смуглой и черноголовой, И грустного мальчика с именем звучным Ашот. Им месяц назад предоставили временный кров, Под зимнею Рузой в пустом санатории этом На сто километров ни близких, ни родичей нету. В ушах их проклятья, в глазах отражается кровь. Крикливых и шумных, голодных и полубольных, Куда их девать? Ни жилья им здесь нет, ни работы. Уборщица Нина презрительно смотрит на них, И окна в квартире им бьют по ночам «патриоты». А я вспоминаю войною отмеченный год, Где с матерью вместе, покинув разрушенный дом свой, По улице шли мы и, встав у тесовых ворот, Смотрели нам в спину угрюмые жители Омска. Беспечные люди, чьи мысли пока далеки, Поскольку подобное с ними стрястись не могло бы, Не завтра ли утром завязывать вам узелки И, в путь отправляясь, бежать от стремительной злобы? Еще за столом собирается к чаю семья, И вечер спокоен, и в кухне плита не остыла, Но дымное пламя уже задевает края Недолгих границ ненадежного вашего тыла. 1990Трофейные фильмы
Трофейные фильмы поры позабытой, Окошко наружу из нищего быта Эпохи мальчишеской послевоенной, Жестокой, опасливой, неоткровенной. Мы так вас любили, трофейные фильмы, Где вина рекой, и закуски обильны, Где брат расправляется с царственным братом, И воля в морях королевским пиратам. В краю не бывая заморском далеком, Мы мир познавали из призрачных окон. Не зная с младенчества Божьего храма, Мы чувствам высоким учились с экрана. Мы вам благодарны, трофейные фильмы, Где счастье даровано смелым и сильным, И движутся черных слонов вереницы Под мраморным сводом Индийской гробницы. Мы вас вспоминаем, трофейные фильмы, Печальные дети погибших и ссыльных, Мы шли, чтоб увидеть пространство иное, В нетопленый зал с малолетней шпаною. Мы вас не забудем, трофейные фильмы, Тропический зной над колонною пыльной, Шпионские нерасторжимые сети, Рыдание саксов в неоновом свете. Трофейные фильмы, трофейные фильмы, Ваш давний навеки усвоили стиль мы. До смерти от вас никуда нам не деться, Трофеи голодного нашего детства. 1990«Горько соплеменнику скажу я…»
Горько соплеменнику скажу я, Гнева и печали не тая: Не влезай в историю чужую, — Не твоя ведь это, не твоя! Отшумят в местечке спозаранку Конский топот и собачий лай. Черную не надевай кожанку, Маузер к бедру не прицепляй! Не считай, что всем голодным равен В мировом решительном бою, Жизнь чужую отнимать ты вправе, Если не жалеешь и свою. Ну куда ты лезешь? Ну куда ты, — Жидок, узкоплеч, сутуловат? Все они не будут виноваты, — Ты один лишь будешь виноват. Не садись в чужие эти сани, Жизнь свою не отдавай зазря, — Пусть они приканчивают сами Своего кровавого царя! 1990Спарта
Время шлемов золоченых, Что оставило для нас ты? В Спарте не было ученых, — Лишь солдаты и гимнасты. У Афин все ныли раны, — Спарта ширилась и крепла. От Афин остались храмы, А от Спарты – кучка пепла. Не поведают секретов Полустершиеся плиты. В Спарте не было поэтов, — Были воины-гоплиты. Где Пилаты и Оресты, Эврипиды и Солоны? От Афин остались фрески, А от Спарты – пук соломы. От Афин остался Фидий, Разойдясь в десятках копий, А от Спарты только фига — Наконечники для копий. Наступает век суровый, Солнце в понт ныряет рыбой, И умы морочит снова Невеселый этот выбор. 1990Николаевский мост
А мне вспоминается снова Ненастной порой дождевой Часовня Николы Морского Над хмурой осенней Невой. Живущие рядом едва ли Припомнят сегодня о том, Как эту часовню взрывали В забывшемся тридцать шестом. Ее византийские своды На глыбы разбил аммонал. В ту пору мне было три года, И мало я что понимал. О взорванной церкви жалея, Рукою касаясь перил, Я: «Папа, когда ее склеят?» — С наивностью глупой спросил. А солнце, за облаком рея, Смотрело на нас с высоты, Над храмом Святого Андрея, Где сорваны были кресты. И странная взрослая шалость Все длилась, соборам грозя, И то, что кругом разрушалось, Уже было склеить нельзя. 1990Старики
Мне жалко больных стариков, Кончающих век в коммуналках, Скупых ветеранских пайков, Венков их общественных жалких. В тайге зажигая огни, Свой скарб умещая в котомке, Горбатили спины они, Чтоб счастливы были потомки. Мне жалко больных стариков, — Что в жизни они повидали? — Лоснящихся их пиджаков, Где звякают дружно медали. Они умирали в бою, Черняшку глотали на завтрак, И жизнь оставляли свою На завтра, на завтра, на завтра. Мне жалко больных стариков, Наивных и непримиримых, За то, что удел их таков, — Дожить до падения Рима. Свои переживших года, Упасть не успевших в атаке, Которым уже никогда Родной не увидеть Итаки. Мне жалко больных стариков, За то, что не короток век их, Что сгинуть им не от штыков, Осколков и ложных наветов. Что рухнули их образа, А время несется по кругу, И нам уже с ними в глаза Смотреть невозможно друг другу. 1990«Мой друг писал историю Кремля…»
Памяти Натана Эйдельмана
Мой друг писал историю Кремля, Точнее, – обитателей кремлевских. Его зашили в гробовые доски И сделали щепоткою угля. Кирпичных стен кровавое пятно. Сквозь сито факты тайные просеяв, Нам открывать сегодня их дано От Калиты не ближе Алексея. Здесь кажется зловещим скрип дверей, Здесь все источник гибельной заразы, — Царь-колокол, не знавший звонарей, Царь-пушка, не стрелявшая ни разу. В какой необнаруженной пещере, В какой из стен скрывается тайник Того неубиенного Кащея, Что сотни лет здесь правит, многолик? Здесь ночью раздается крик совы, А ввечеру, едва начнет смеркаться, Крадется тень, минуя часовых Бесшумною походкою кавказца. И сохнут, не поднявшись, тополя, И мостовые ненавистью дышат. Мой друг писал историю Кремля, — Теперь ее никто уже не пишет. 1990Голодай
Евгению Рейну
«Поболтать и выпить не с кем», А сознаться в этом больно. За Ростральные колонны Прогуляюсь я туда, Где за кладбищем Смоленским Зеленеет остров Вольный, И становится соленой Несъедобная вода. На границу топкой суши Прихожу опять сюда я, Где гниет пустая пристань Возле серых валунов, Где витают чьи-то души Над песками Голодая, И могилу декабристов Отыскал поэт Чернов. Царство сырости и стужи, Черно-белые эстампы. В берег бьет неутомимо Грязноватая волна. Над Маркизовою лужей Проступает контур дамбы, Нас отрезавшей от мира, Как Берлинская стена. Ничего не бережем мы Из того, что есть на свете. Не далось нам счастье в руки, Откровенно говоря. Нас покинувшие жены, Нас покинувшие дети, Нас покинувшие внуки Улетели за моря. Только ты живешь бездарно В неуюте темных комнат, На Васильевском унылом, Озираясь, словно тать. Из потомков благодарных Кто тебя сумеет вспомнить? Кто потом твою могилу Захотел бы отыскать? Что ж в места приходишь эти, Убежав от срочных дел ты, Где за каменною грудой, Не застынув в холода, Уподобясь дымной Лете, Две протоки Невской дельты Вытекают ниоткуда И впадают в никуда? 1990Памяти Давида Самойлова
Его везли от собственных столиц…
Давид Самойлов Его везли от собственных столиц, Где был он лишь ненадолго – проститься, И вслед ему веселой вереницей Тянулись стаи прилетевших птиц. Его везли от площади Борьбы («С самим собой», – так он шутил когда-то), Где лет минувших памятные даты Как верстовые видятся столбы. От подмосковных домиков и круч, Заснеженных опушек невозвратных, Где высветил его армейский ватник Неугасимый моцартовский луч. Его везли от собственных столиц. Так увозили некогда другого, И были так же сдержанно суровы Измученные лица у возниц. Шумела у обочины вода. Зажегся день, недолгий, словно спичка. Быть вне столиц – вернейшая привычка, При жизни и по смерти – навсегда. Среди несчастий тяготиться счастьем, Не слышать шума и дышать в дыму, Быть ко всему, как Пушкин, непричастным И все-таки причастным ко всему. Не все ль равно лежать в земле какой, Опалихе, Москве или Пернове, Когда возможно воплотиться в слове, Которое витает над Землей? И устремясь к ему лишь видной цели, Живущим дав несбыточный пример, В конце строки вдруг умереть на сцене, Как Сирано, как Гамлет, как Мольер. 1990Монолог Моисея
Прегрешенья наши, Господи, прости нам. Пусть никто не обвинит меня в тиранстве. Сорок лет вожу народ я по пустыне, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Про жестокий им назначенный экзамен Знают путники бредущие едва ли, Эти женщины с бездонными глазами И мужчины, что оковы разбивали. Тот, в ком с детства кровь от страха в жилах стынет, Неспособен жить при равенстве и братстве. Сорок лет вожу народ я по пустыне, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Вот идут они, словам моим поверя, Позабыв об униженьях и напастях, Но нельзя войти в сияющие двери С синяками от колодок на запястьях. Все возможно только средствами простыми, — Мы в самих себе не в силах разобраться. Сорок лет вожу народ я по пустыне, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве. След причудливый за нами вьется гибко. Звон бубенчиков и топот караванный. Тем, кто вышел вслед за мною из Египта, Не добраться до Земли Обетованной. Схоронив своих мужей в песке постылом, Плачут вдовы в белом траурном убранстве. Сорок лет вожу народ я по пустыне, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Треплет ветер их убогую одежду. Солнце гневное восходит на Востоке. Я внушаю им покорность и надежду И считаю им отпущенные сроки. Бурдюки с водой становятся пустыми. Серый коршун растворяется в пространстве. Сорок лет вожу народ я по пустыне, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Скоро смерть в свои холодные объятья И мое возьмет измученное тело, Но не должен прежде срока умирать я, Не закончив мне порученное дело. И покуда не скончается последний, Буду я водить народ мой по барханам. В царство светлое войдет его наследник, Лишь родителя увидев бездыханным. Мне на посох все труднее опираться. Бог всевидящий, меня не слышишь разве? …Чтобы вымерли родившиеся в рабстве, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве! 1988Памятник
Я обошел все континенты света, А город мой все тот же с давних пор, Там девочка, склонясь у парапета, Рисует мост, решетку и собор. Звенят трамваи, чаек заглушая, Качает отражения вода. А я умру, и «часть меня большая» Не убежит от тлена никуда. Моих стихов недолговечен срок. Бессмертия мне не дали глаголы. Негромкий, незначительный мой голос Сотрут с кассет, предпочитая рок. Прошу другого у грядущих дней, Иная мне нужна Господня милость, — Чтобы одна из песен сохранилась, Став общей, безымянной, не моей. Чтобы в лесной далекой стороне, У дымного костра или под крышей, Ее бы пели, голос мой не слыша, И ничего не зная обо мне. 1988Когда судьба поставлена на карту (1991–1994)
Терпандр (песня)
Зевс-громовержец, людей покарай недостойных, Век свой проведших в покорном и рабском молчанье! На площадях, перекрестках и даже в застольях Все друг на друга кидаются нынче с мечами. Полные прежде, театры пусты и бассейны. Нету спасенья от мести враждующих партий. Град покидая, бегут со стенаньями семьи, — Все разбегутся, и кто же останется в Спарте? Зевс-громовержец, людей покарай недостойных, Путь позабывших в твои белоснежные храмы! Всюду проклятия, крики и хриплые стоны, Снадобий скоро не хватит, чтоб вылечить раны. Жадно Афины следят за кровавою дракой, — Не избежать поражения нам и полона… Что же нам делать? Ответствуй, дельфийский оракул! – Надо Терпандра позвать и почтить Аполлона. Четверострунную лиру сменив семиструнной, Чуткими пальцами тронет он струны тугие. Песня начнется – окончатся споры и ругань. Братья вчера – мы сегодня друг другу враги ли? Кончим раздоры, воспомним о собственном доме, Брань заглушат музыкальной гармонии звуки. Бросим мечи, от железа очистим ладони, Для хоровода сплетем дружелюбные руки! Кубки наполните пеннокипящею влагой, Мрачные речи заменим напевом веселым. Пусть состязаются силой своей и отвагой Лучники, копьеметатели и дискоболы. Предотвращая разящие грозно удары, Не иссякает мелодия струн этих тонких. Слава Терпандру, певцу Аполлонова дара! Жаль его песен – о них позабудут потомки. 1991«С детства идолопоклонник…»
С детства идолопоклонник, Никогда не знавший Бога, В общей маршевой колонне Как и все шагавший в ногу, Я запомнил ритуалы Пионерского парада, — Галстук шелковый и алый, И плечо соседа рядом. Я не слышал пенья скрипки, А привык внимать покорно Крику яростно и хрипло Указующего горна. Я любил не пенье птичье Из окрестного тумана, А надутое величье Призывного барабана. Где вы, символы отваги, Те учебные тревоги, Наши крашеные флаги, Наши гипсовые боги? Ах, костров забытый запах, Детский хор над общим горем: «Дан приказ: ему – на запад», «По долинам и по взгорьям»! Длится песенка лихая, И стучится в сердце долго, Постепенно затихая От таблетки валидола. 1991Памяти Леонида Агеева
Снова провожаем мы друг друга, Словно в институтские года, В те края, где не стихает вьюга, Реки несвободны ото льда. В этот дом старинный на Покровке, Помнится, в такой же вот мороз Синий тортик вместо поллитровки Кушнер по наивности принес. За начало новых экспедиций Стопку поминальную налей, Трудновато будет возвратиться Из далеких нынешних полей. В том краю, где не бывает хлеба, Как и встарь, без вилки и ножа, Все мы соберемся возле Глеба, Рюмки невесомые держа. А пока что молча, без улыбки, Вспоминаем посреди зимы Тот квартал болотистый и зыбкий, Где живали некогда и мы. Где, гордясь горняцкою фуражкой, По асфальту шел я, молодой, И мерцала медленная Пряжка Черной непрозрачною водой. 1991Эмиграция
Потомки далекие вспомнят без смеха, О тех, кто сегодня отсюда уехал, Но вряд ли напишут когда-нибудь стансы О тех, кто остался. Не так ли папируса свиток не гибкий Молчит, вспоминая исход из Египта, О тех, кто остался в столетие оно В земле Фараона? Припомнят лишь тех, кто упорен и стоек, Прошел лабиринт шереметьевских стоек. Вовек вам желаю не знать ностальгии, Мои дорогие! Вот так по дороге к чужому причалу Себя человек возвращает к началу, Конец своей жизни – мол, будет иная — С нуля начиная. Их грабит в порту напоследок таможня, Воруя подряд, что нельзя и что можно, Последнюю сумку в предверии рая Из рук отбирая. Не так ли когда-то их гнали пинками В сырые предбанники газовых камер, Следя, чтобы все они в общей могиле Лежали нагие? Но нету у них ни обиды, ни боли, — Есть только язык, что забрали с собою, Который не хлеб им, не завтрак, не ужин, — Который не нужен. Не так ли, родную покинув природу, Уходит ныряльщик в холодную воду, Туда, где нужны обитателям жадным Лишь плоские жабры? Не так ли зародыши будущих распрей Уносит на волю родившийся в рабстве, Наивно надеясь в желанье удачи, — Все будет иначе? Не так ли в финале, где гибель актера, Звучит декламация древнего хора, Кровавой развязкой кончая спектакли? Не так ли? Не так ли, рукою махнув Подмосковью, Летишь ты и сам над планетой с тоскою, Под потной рубашкой неся свое бремя, — Пространство и время? 1991«А мы из мест, где жили деды…»
А мы из мест, где жили деды, Где будут внуки жить опять, Летим делить чужие беды, Чужою жизнью доживать. В края, где газовую печь нам Уже готовят, может быть, Мы возвращаемся беспечно, Спасительную бросив нить. Но голос ночью мне раздастся, Вдруг пробуждая ото сна: «Я Бог твой. Я народ из рабства Однажды вывел». Тишина. И в царстве холода и снега, Душою немощен и слаб, О вероятности побега Подумает усталый раб. Постой и задержи дыханье, Мгновение останови, И смутное воспоминанье В твоей затеплится крови. И жизни собственной дорога, Разматываясь на лету, Забрезжит, как явленье Бога, И снова канет в темноту. 1991Иерусалим
Этот город, который известен из книг Что велением Божьим когда-то возник Над пустыни морщинистой кожей, От момента творения бывший всегда На другие совсем не похож города, — И они на него не похожи. Этот город, стоящий две тысячи лет У подножия храма, которого нет, Над могилою этого храма, Уничтожен, и проклят, и снова воспет, Переживший и Ветхий и Новый завет, И отстраиваемый упрямо. Достоянье любого, и все же ничей, Он сияет в скрещенье закатных лучей Белизною библейской нетленной, Трех религий великих начало и цель Воплотивший сегодняшнюю модель Расширяющейся вселенной. Над Голгофой – крестов золоченая медь, На которую больно при солнце смотреть, А за ними встает из тумана Над разрушенным Котелем – скорбной стеной, Призывая молящихся к вере иной, Золотая гробница Омара. Этот порт у границы небесных морей Не поделят вовек ни араб, ни еврей Меж собою и христианином. И вникая в молитв непонятный язык, Понимаешь – Господь всемогущ и велик В многоличье своем триедином. 1991«Под утро просыпался я в ознобе…»
Александру Радовскому
Под утро просыпался я в ознобе. Белели стены в сумерках. Сквозило. За окнами маячило надгробье Библейского пророка Самуила. И постепенно вспоминая, где я, Балконную приоткрывал я дверцу, И чуждая мне ранее идея Стучалась вдруг в поношенное сердце. Ход этих мыслей был мне неприятен Меж размышлений, ранее любимых. «Ты был на дне, – мне говорил приятель, — Изведай же и большие глубины». С ним осушив бутылку водки «Стопка», Себя наутро чувствовал я скверно, Быть может, оттого, что выпил столько, Быть может, оттого, что жил неверно. Согретое дыханием пустыни, Седое небо становилось красным. Почто, Господь, покинув на чужбине, Ты жизнь мою истратил понапрасну? 1991Бахайский храм (песня)
У вершины Кармель, где стоит монастырь кармелитов, У подножья ее, где могила пророка Ильи, Где, склоняясь, католики к небу возносят молитвы И евреи, качаясь, возносят молитвы свои, Позолоченным куполом в синих лучах полыхая, У приехавших морем и сушей всегда на виду, Возвышается храм новоявленной веры Бахаи Возле сада, цветущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду, Где все люди вокруг меж собой в постоянном ладу. Одинаково чтут там Христа, Магомета и Будду, И не молятся там, а сажают деревья в саду. Здесь вошедших, любя, обнимают прохладные тени, Здесь на клумбах цветов изваянья животных и птиц. Окружают тебя сочетания странных растений, Что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посреди непогод и морозов Лабиринты дорожек, по склону сбегающих вниз, Где над синью морской распускается чайная роза И над жаркою розой недвижный парит кипарис. Мы с тобою войдем в этот сад, наклоненный полого, Пенье тихое птиц над цветами закружится вновь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога, Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. 1991«Когда я в разлуке про Питер родной вспоминаю…»
Когда я в разлуке про Питер родной вспоминаю, Взирая на облик его многочисленных карт, Все время мне кажется область его островная Похожей на сердце, которое гложет инфаркт. Еще под крестом александровым благословенным, Как швы, острова ненадежные держат мосты, Еще помогают проток истлевающим венам Гранитных каналов пульсирующие шунты. Но сквозь оболочку как будто живущего тела Уже проступает его неживое нутро. Исходит на нет кровеносная эта система, Изъедено сердце стальными червями метро. Живущие ныне – лимитчики и полукровки, — От них этот город уходит теперь навсегда, — Он с теми, кто канул в бездонные рвы Пискаревки, Кто возле Песочной лежит без креста и следа. Взгляни на него, ностальгией последнею позван, На серое взморье в балтийской закатной крови, И сам убедишься, что реанимировать поздно, Как Санкт-Петербургом вдогонку его ни зови. 1991Петербург
Провода, что на серое небо накинуты сетью, Провисают под бременем туч, постепенно старея. Город тонет в болотах не год и не два, а столетье, — Человек утонул бы, конечно, гораздо быстрее. У Кронштадтского створа, грозя наводненьем жестоким, Воду вспять повернули балтийские хмурые ветры. Погружается город в бездонные финские топи Неизменно и медленно – за год на полсантиметра. Вдоль решеток узорных спешите, проворные гиды, — Гложет дерево свай ледяная болотная влага. Вместо плена позорного выбрал он честную гибель, Не желая спускать с голубым перекрестием флага. Современники наши увидят конец его вряд ли, Но потомкам когда-нибудь станет от этого жутко: На волне закачается адмиралтейский кораблик, Петропавловский ангел крылом заполощет, как утка. Позабудут с веками, смешав отдаленные даты, О дворцах и каналах, о славе и подвигах ратных. От орды сбережет его, так же, как Китеж когда-то, Праотец его крестный, высокого рая привратник. Он уходит в пучину без залпов прощальных и стонов, Чуть заметно кренясь у Подъяческих средних и малых, Где землей захлебнулись, распахнутые как кингстоны, Потаенные окна сырых петербургских подвалов. 1991Гемофилия
Фазилю Искандеру
Злополучный царевич из угличских смутных времен, Что в припадке падучей упал на подставленный ножик, Был убит или нет он? – Никто нам ответить не может, Но легенда злодейства московский разрушила трон. А в уральском лесу, под колючей январской пургой, В шурфе брошенной шахты, с убитыми сестрами рядом, Безымянно лежит убиенный царевич другой, — Детский череп расколот армейским тяжелым прикладом. По голодному Питеру странствуют полчища крыс. На шрапнельном ветру догорает донская станица. Полысевшему гению мальчик кровавый не снится В полуночных видениях, так как Ильич – не Борис. Но поросшие щеткой обильной и рыжей травы, Под ковшом экскаватора, шрамами старых ранений, Открываются вдруг неизвестные ранее рвы, Потаенные рвы неопознанных захоронений. И почти уже век, появляясь негаданно вновь, На просторах империи, – что Магадан, что Фили ей, — Проступает сквозь снег убиенного мальчика кровь, Неспособная высохнуть вследствие гемофилии. 1991Молитва Аввакума (песня)
Боже, помоги, сильный, Боже, помоги, правый, Пастырям своим ссыльным, Алчущим твоей правды. Стужа свирепей к ночи, Тьмы на берега пали. Выела вьюга очи — Ино побредем дале. Боже, помоги, крепкий, Боже, помоги, святый. Глохнут подо льдом реки. Ужасом сердца сжаты. Плоть мою недуг точит, Грудь мою тоска давит, Нет уже в ногах мочи — Ино побредем дале. Господи, твой мир вечен — Сбереги от соблазна; Льстивые манят речи, Царская манит ласка: «Много ли в цепях чести? Покаянье беда ли? Три перста сложи вместе!» — Ино побредем дале. Впору наложить руки. Воют за плечом черти. Долго ли сии муки? Аж до самыя смерти. Жизнь, моя душа, где ты? Дышишь ли ты, жива ли? Голос мой услышь с ветром! — Ино побредем дале. Тлеет ли свеча в храме, Ангел ли в ночи трубит, В мерзлой ли гнием яме, В черном ли горим срубе, Душу упокой, Боже, — Долго мы тебя ждали. Век наш на Земле прожит — Ино побредем дале. 1991Баррикада на Пресне
Не чаял я с седою головой Впервые в жизни строить баррикаду, Вытаскивая зябкими руками Булыжники из мокрой мостовой. Я два часа сооружал ее Старательно, как все, и неумело, Военного значенья не имело Непрочное строение мое. Но знал я, что дороги нет иной, Что станут, пусть недолгою стеною, И этот камень, переданный мною, И песенка, придуманная мной. Я праздновал над грудою камней В тревожном и веселом этом гаме Победу не над внешними врагами, — Над внутренней покорностью своей. И танковый перемещался гром Под тучами сгущающейся ночи, И было страшновато, но не очень, Скорее любопытно, а кругом, Не уточняя «против» или «за», Клубилась жизнь обычная чужая, Гудел привычно Киевский вокзал, Мешочников в дорогу провожая. Сновали обыватели Москвы, От встреченных глаза пустые пряча, И женщины с воззванием горячим В метро к ним обращались, но – увы. И исказив кривой ухмылкой рот, По-воровски подмигивая глазом, Топтун, переодетый под народ, Срывал листовку с ельцинским указом. А в высоте светился надувной Аэростат, и, как в блокадном детстве, Я понимал, что никуда не деться, Что мы в кольце за этою стеной. И надо мною всматривались в ночь Защитники той баррикады гордой Ноль пятого забывшегося года Не в силах ни себе, ни нам помочь. Но недоступен ярости атак, Нацелив курс на будущие годы, Вздувался на ветру российский флаг, Как парус непривычной мне свободы. 21 августа 1991, МоскваНе разбирай баррикады у Белого дома
Александру Хочинскому
Белого дома защитник, коллега мой славный, Где ты сегодня? Тебя повстречаю едва ли. Время меняется – нынче февраль, а не август. Смолкли оркестры, цветы на могилах увяли. Снег обметал ненадежной свободы побеги, В темном краю появляется свет ненадолго. Не обольщайся бескровной и легкой победой, Не разбирай баррикады у Белого дома. Вязнут в ушах о недавнем геройстве былины. Всем наплевать на смешную твою оборону. Вслед за игрушечным заговором Катилины Цезарь идет, открывая дорогу Нерону. Снова в провинции кровь потекла, как водица, — Дым на Днестре и ненастье в излучине Дона. Памятник этот еще нам, дружок, пригодится — Не разбирай баррикады у Белого дома. Пусть говорят, что рубеж этот больше не нужен, — Скорбь о погибших, обманутых злая досада. Всюду измена – противник внутри и снаружи, — Нас одолела ползучая эта осада. «Вечно добро» – объясняли тебе не вчера ли? Пообветшала наивная детская догма. Бывший стукач обучает сегодня морали — Не разбирай баррикады у Белого дома. Скоро ли снова мы танковый грохот услышим, Ранней весной или поздним засушливым летом? В небе московском у края заснеженной крыши Дымный закат полыхает коричневым светом. Старых врагов незаметно сменили другие, Сколько ни пей, эта чаша черна и бездонна. Не изживай о победной поре ностальгии, Не разбирай баррикады у Белого дома! 1992«Снова слово старинное «давеча»…»
Снова слово старинное «давеча» Мне на память приходит непрошено. Говорят: «Возвращение Галича», Будто можно вернуться из прошлого. Эти песни, когда-то запретные, — Ни анафемы нынче, ни сбыта им, В те поры политически вредные, А теперь невозвратно забытые! Рассчитали неплохо опричники, Убежденные ленинцы-сталинцы: Кто оторван от дома привычного, Навсегда без него и останется. Слышен звон опустевшего стремени Над сегодняшним полным изданием. Кто отторгнут от места и времени, Тот обратно придет с опозданием. Над крестами кружение галочье. Я смотрю в магазине «Мелодия» На портреты печальные Галича, На лихие портреты Володины. Там пылится, не зная вращения, Их пластинок безмолвная груда… Никому не дано возвращения, Никому, никуда, ниоткуда. 1992Горный институт
Владимиру Британишскому
Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе, В допотопной котельной, согласно решенью парткома. Стал наш блин стихотворный золы неоформленным комом В год венгерских событий, на хмурой осенней заре. Возле топкого края василеостровской земли, Где готовились вместе в геологи мы и в поэты, У гранитных причалов поскрипывали корабли, И шуршала Нева – неопрятная мутная Лета. Понимали не сразу мы, кто нам друзья и враги, Но все явственней слышался птиц прилетающих гомон, И редели потемки, и нам говорили: «Не ЛГИ» Три латунные буквы, приклепанные к погонам. Ветер Балтики свежей нам рифмы нашептывал, груб. Нас манили руда и холодный арктический пояс. Не с того ли и в шифрах учебных студенческих групп Содержалось тогда это слово щемящее «поиск»? Воронихинских портиков временный экипаж, Мы держались друг друга, но каждый не знал себе равных. Не учили нас стилю, и стиль был единственный наш: «Ничего кроме правды, клянусь, – ничего кроме правды!» Не забыть, как, сбежав от занятий унылых и жен, У подножия сфинкса, над невскою черною льдиной, Пили водку из яблока, вырезанного ножом, И напиток нехитрый занюхивали сердцевиной. Что еще я припомню об этой далекой поре, Где портреты вождей и дотла разоренные церкви? Наши ранние строки сожгли в институтском дворе И развеяли пепел – я выше не знаю оценки. И когда вспоминаю о времени первых потерь, Где сознание наше себя обретало и крепло, Не костры экспедиций стучатся мне в сердце теперь, А прилипчивый запах холодного этого пепла. 1992Матфей
«Поднявшие мечи Погибнут от меча», — Не князь сказал в ночи, Доспехами бренча. Так говорил Матфей, Уже немолодой, В предчувствии гвоздей, Пронзающих ладонь. Его тащил на смерть Подвыпивший эскорт. Небес синела твердь, И был он духом тверд. Твердили: «Замолчи», — А он все шел, ворча: «Поднявшие мечи Погибнут от меча». Три облака вдали Клубились над водой: Конь черный – прах Земли, Конь бледный и гнедой. И намечалась связь Разрядов грозовых, Которые, светясь, Пришпоривали их. «Поднявшие мечи Погибнут от меча», — Смеялись палачи И крест сползал с плеча. 1992Памяти Якова Виньковецкого
Его я снова вижу четко, Хотя немало лет прошло, — Слегка похожий на галчонка, Задорным видом или челкой, Напоминающей крыло, Он затевал неосторожно Диковинные виражи. Он говорил, что он художник, — Ему твердили: «Докажи». Казались странными предметы Его рисунков и поэм. В его теории планеты Реальной не найти приметы Среди полуабстрактных схем. Как было жить ему непросто В кругу обыденных людей, В стране неисправимых ГОСТов И общепринятых идей! Пусть говорят, что ни при чем тут Его печальная звезда, — Он был похожим на галчонка, Что рано выпал из гнезда. Никто из нас с ним рядом не был, Когда при помощи петли Рванулся он в чужое небо И оторвался от Земли. К ее неразрешимым тайнам Добавил он еще одну, Полетом ледяным летальным Одолевая вышину. 1992Самодостаточность еврейства
Самодостаточность еврейства Меня пугает всякий раз: Взгляд немигающий и резкий В пространство обращенных глаз, Где неподвижные в подвижном Они живут не первый век. Их прежний дом пожаром выжжен, Переменились русла рек. На что им полосатый талес, Когда они обречены? От всех реликвий им осталось Лишь основание стены. Какой мечтой, какой надеждой, В их судьбах горьких виноват, Их Бог жестокосердный держит, Им на земле устроив ад? В эпоху межпланетных рейсов И трансконтинентальных трасс Самодостаточность еврейства Меня смущает всякий раз. Мне так несовременных жаль их За беспощадные посты. Утерянные их скрижали Заметены песком пустынь. Им не отмыть мазутных пятен Того, что вслед им говорят. Смешон другим и непонятен Синагогальный их наряд. Всегда за все они в ответе. Их казней бесконечен срок. Не сорок лет – тысячелетья В пустыне водит их пророк. Порой погромов и арестов, Пустопорожних громких фраз, Самодостаточность еврейства Меня пленяет всякий раз. В долине гнилостного Нила Какой найдя себе родник, Они одну читают Книгу, Других не признавая книг? Что им дает общенье с Богом, Среди враждебных им держав, Когда в быту своем убогом, Неукоснительно сдержав Ветхозаветные обеты, Они вступают с ним в контакт, Раскачиваясь, как поэты, Словам, произнесенным в такт? 1992«Мне будет сниться странный сон…»
Мне будет сниться странный сон: Кричащий за окошком кочет, Самумом поднятый песок, Что ноздри сфинксовы щекочет. Разъединение культур, Их позднее соединенье, — Всеволод, храбрый багатур, И князя Игоря плененье. Египетский позорный плен, И избавление от рабства. Среди двенадцати колен Поди попробуй разобраться! Мне будет сниться до утра Земли коричневое лоно, Арап Великого Петра, — Фалаш из рода Соломона, И петербургская пурга Среди окрестностей дубравных, Где в ожидании врага Стоял его курчавый правнук. Мне будет сниться странный фильм: Пустыня сумрачного вида И шестикрылый серафим, Слетевший со щита Давида. 1992Мертвое море
Мертвое море, Мертвое море, Горько-соленое, словно горе. Бездна литая небо качает. Здесь не летают скопища чаек, Здесь не синеют мокрые сети — Нет солонее моря на свете. Мертвое море, Мертвое море, — Плачь по Содому и по Гоморре. Рябь свою гонит море без рыбы Над полигоном ядерных взрывов. Кадиш хамсина кружит во мраке Над Хиросимой и Нагасаки. Мертвое море, Мертвое море, — К рифам Эйлата, к склонам Хермона. Трещиной в недрах, Господом данной, Через Кинерет вдоль Иордана, Вьется тугая светлая лента, Разъединяя два континента. Мертвое море, Мертвое море, — Белые флаги с синей каймою, Горечь осады, мертвое братство, Место присяги для новобранцев. Грозного Рима гнев и досада, — Непокорима крепость Масада. Зыблется сонно Мертвое море. Жидкою солью руки омою. Память о Боге, память о доме, Дай опустить мне в воду ладони. Может, не струшу перед бедою, Вылечив душу мертвой водою. 1992«Опять разворочены мостовые…»
Опять разворочены мостовые, И завтрашний день обещает беду. Оркестры гремят у метро духовые, Как перед войною в воскресном саду. Опять добрались мы до самого края. Грохочет и пенится круговорот, И все же, покуда оркестр играет, Надежда живет, и корабль плывет. С асфальтовой палубы некуда деться, Все ближе соленый клубящийся мрак. Восторг и отчаянье те же, что в детстве: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Пусть бездна, врываясь в кингстоны и люки, Покинутый трюм заливает, кружась, — Покуда слышны эти медные звуки, Меж нами еще сохраняется связь. Помедли, прохожий, старушки, не плачьте, Замри, эскалатор, минута, постой! …И кренится в небе высокая мачта, Где ангел крылатый и крест золотой. 1992Античный век
Античный век – эпоха атеизма, Не потому ли так и дорог он? Венера златокудрая капризна, И мстителен коварный Аполлон, Которого опережает смертный, Не разглядев над головою нимб. Дары природы юные несметны. Полузаросший невысок Олимп, Где соком наливаются оливы. Жив Прометей, прикованный к скале. Поводит бык рогами похотливо, Наложниц похищая на земле. Клонятся лозы, побуждая к пьянству, И мрамор бел, и зелен кипарис. Не избежать ли нам войны Троянской, — Не разделить ли яблоко, Парис? Еще невнятны иудеев речи, И летний сон спокоен и глубок. Еще для всех покуда засекречен Невидимый, неумолимый Бог. 1992Ахилл
На афинском базаре я эту картинку купил, Под старинную фреску подделанный грубый лубок. Вспоминаю тебя, быстроногий красавец Ахилл, Полукровка ахейский, что был полугрек-полубог. Понимаю тебя, неподвижно сидящий Ахилл. Отражает твой профиль щита потускневшая медь. Шлемоблещущий Гектор с тобою в сравнении хил: Победил он Патрокла – тебя ему не одолеть. На него регулярно садится ночами жена, В нарастающем ритме сгибая раскрылия ног. У троянца жена, у тебя же, увы, ни хрена, — Вот убили Патрокла, и сделался ты одинок. Вот убили Патрокла, и сразу не нужен успех, Понапрасну связался ты с этой Троянской войной. Почерневшая кровь его твой покрывает доспех С золоченой насечкой коринфской работы ручной. На троянские стены сырой опускается мрак, Только крик часовых и собак несмолкающий лай. Что тебе Агамемнон, надутый и старый дурак, Хитроумный Улисс, рогоносец тупой Менелай? Вот убили Патрокла, и жизнь тебе недорога. Жадной грудью вдыхая рассола эгейского йод, Ничего ты не видишь – лишь сильное горло врага, Что, обняв Андромаху, из кубка тяжелого пьет. 1992Меншиков (песня)
Лошади каурые, крепка снасть, Лишь мосток некрашеный трещит. С перепою хмурый он князь, князь, Государя нашего денщик. Лошади по городу тук-тук, Лошади по городу топ-топ. А за ними ворона круг, круг, На четыре стороны топь, топь. Лошади по городу цок-цок, А перед каретою цуг, цуг, Жалован Ижорою герцог, Государю Петеру друг, друг. Государю Петеру камрад, С голубою лентою камзол. Если хама плетию – хам рад, Ежели молебеном – хам зол. Меж фасадов розовых вскачь, вскачь, По снегу морозному вжик, вжик. Кулинар березовых каш, каш, Будешь ты в Березове жить, жить. Скор за занавесками шаг, шаг, Иноходи-поступи в лад, в лад. Королевству Свейскому шах, шах, Королевству Польскому мат, мат. Сбруи позолочены, бренчат, Колесо накатано, скрип, скрип, А возле обочины – чад, чад, Крепостных да каторжных хрип, хрип. Им по свае молотом бить, бить, Не сменив исподнее, пропасть, Петербургу-городу быть, быть, И на то Господняя власть, власть. Колокол на Троице дон-дон, Белая холодная пыль, пыль, Скоро здесь достроится дом, дом, А под ним болотная гниль, гниль. По Неве над ребрами льдин, льдин Крест могильный, веха ли – топ, топ. Бубенец серебряный динь-динь, Вот мы и приехали – стоп, стоп. Ветер, словно леший, во лесах – лют, Конские загубники, зима, стынь. Седоку светлейшему салют, Душам позагубленным – аминь. Вьюгой завивается снег, снег, По-над их могилами синь-наст. Новый начинается век, век — Господи, помилуй и спаси нас! 1992Вспоминая Лермонтова
Перелистывать газету Не спеши, мой друг. Перечти стихи поэта, Посмотри на юг. Там на юге мутный Терек, Быстрая река, Злой чечен ползет на берег, Держит свой «АК». Там на юге злые вести, Горькое вино. Все мы прежде жили вместе, Нынче – не дано. Все мы прежде жили вровень, — Корка да ватин. Отчего же нашей крови Жаждет осетин? Оттого ль, что всем на горе В их краю расцвел Ближний родич их из Гори, Горный наш орел? Оттого ль, что не жалея Времени для дел, Истреблял нас, зверя злее, Брат его мингрел? Ходит целую эпоху По аулам быль, Что врагам своим неплохо Отомстил Шамиль. Столько в Тереке смешалось Крови и песка, Что одна у всех усталость И одна тоска. Породнила боль людская Разные края, — Ты чужую кровь пускаешь, А течет твоя. 1992Памяти Давида Самойлова
Поэт похоронен в Эстонии, В прозрачном и стройном лесу. Сосна над могилою стонет, Качая янтарь на весу. От шторма спеша схорониться, Гудят из тумана суда. Теперь он попал за границу, — Надолго попал, навсегда. Вокруг подмосковные вьюги, И Родина вроде близка, Но вот не услышать в округе Родного его языка. И некому слово замолвить, Его протерев, как стекло, В краю, где и имя «Самойлов» Латынью на камень легло. У берега Балтики синей Не ждет запоздалых наград От все позабывшей России Посмертный ее эмигрант. 1992В Михайловском
Мчится тройка – ближе, ближе, И проносится в ночи. Одинок и неподвижен Огонек твоей свечи. Не уснуть подобно прочим, — Воет ветер над стрехой. Это бес тебя морочит Темной полночью глухой. То коснется половицы, То застонет у крыльца. Воротили бы в столицу, Чтоб не спиться до конца! Подопри рукой затылок. Черный сон, – бессилен он Перед ящиком бутылок, Что из Пскова привезен. Истопить прикажем баньку, И раскупорим вино, Кликнем Зинку или Маньку Или Дуньку – все равно. Утешайся женской лаской, Сердце к горестям готовь. Скоро, скоро на Сенатской Грянет гром, прольется кровь. Сесть бы нам с тобою вместе, Телевизор засветить, Посмотреть ночные вести И спокойно обсудить. Страшновато нынче, Пушкин, Посреди родных полей. Выпьем с горя, – где же кружки? Сердцу будет веселей. 1992Старочеркасск
Борису Алмазову
Мерцание талого воска, Высокий резной аналой И герб Всевеликого войска — Олень, пораженный стрелой. Стервятника родич побочный, С хвостатым сойдясь бунчуком, Он станет сидящим на бочке Похмельным крутым мужиком, Которого шлепнут у стенки В двадцатом, среди этих мест, Где цепи казненного Стеньки В пасхальный вплелись благовест. Где нынче вы, рыцари веры, Что были на подвиг легки, Ковыльных степей тамплиеры, Суровые дончаки? Женившиеся на турчанках, Неистовых, как суховей, Стремившиеся на тачанках К погибели скорой своей? Дождавшись заветного часа, Чужие надев ордена, Нашив на штанины лампасы, Блатная гуляет шпана. Но смотрят из дали туманной Со стен, как со снежных вершин, Портреты былых атаманов И крутоголовых старшин. И длится их странная каста, Покуда заметный окрест, Над городом Старочеркасском Мерцает полуночный крест. 1992Безбожный переулок
Над развилком дорожным Прочту эту надпись со вздохом, — Переулок Безбожный, Безбожная наша эпоха. Время строек невиданных, И разрушений, и гари. Понаставили идолов, После их сами свергали. Снова в моде посты, И молитвы читаются строго, Люди ставят кресты На жилье возвращенного Бога. И такая в них прыть, Словно вровень они с небесами, — Могут вдруг отменить И обратно вернуть его сами. И кружатся грачи Над деревьями парка устало, Где чернеют в ночи Обезлюдевшие пьедесталы. Их не вынуть как репку, Кресты на минувшем поставив. Их сработали крепко Из камня, бетона и стали. Значит снова наивная Недолговечна надежда: Кто воспитан на идолах, Бога в себе не удержит. Ведь недаром известно, Как это в итоге ни грустно, Что нечистое место Недолго останется пусто. 1992«Глаза закрываю и вижу…»
Глаза закрываю и вижу: Во мраке невидимых вод, Как прежде, подвижный в подвижном, Подводный кораблик плывет. Он будит, светящийся атом, Глубин непрозрачный покой. И я там когда-то, и я там К стеклу прижимался щекой. Меж скал ноздреватой породы Придонное время текло. Смотрела чужая природа На нас через это стекло. Там в облаке взвешенной пыли Крутой кипяток закипал, Лиловые гейзеры били, Неся растворенный металл. В расплавленном этом металле, Где красная встала трава, Коричневой серой питались Таинственные существа. Пьянея от этих открытий, Поднявшись, мы пили вино, Чтоб было число наших всплытий Числу погружений равно. И в медленном солнечном дыме, Над темной вися глубиной, Мы делались сами иными, Соседствуя с жизнью иной. 1992«Детство мое богато чужой позолотой…»
Детство мое богато чужой позолотой, Которую я полагал своей. Кованный лев на чугунных воротах, Золототканые шапки церквей, Мрамором связанное пространство, Летнего неба серебряный дым, Все, что себе я присваивал страстно Будучи молодым. Все, что щекочет усталые нервы, Все, что с младенчества взглядом впитал Таинством первым, любовию первой, Неистребимый дает капитал. Вот изначальное виденье мира, Где уживаются ночью и днем Бедный уклад коммунальной квартиры И янтари куполов за окном. Старых дворцов ежедневное чудо, Вязкая от отражений вода. Брошенным буду, безденежным буду, — Нищим не буду уже никогда. 1992«Будет снова оплачен ценою двойной / Обгорелый кусок каравая…»
Будет снова оплачен ценою двойной Обгорелый кусок каравая. Нету продыха между войной и войной, — То Гражданская, то Мировая. Бесконечно бездарное это кино, Где прожектор дымится во мраке. Ни одежды, ни дома нам знать не дано, — Только ватники всё да бараки. И сегодня, и присно на все времена, Поразмыслишь – становится жутко: Снова кровь и война, снова кровь и война, Безопасного нет промежутка. И под грохот салютов недолгих побед Будут новые дети рождаться, Чтобы сгинуть, как это пророчит поэт, На единственной той, на Гражданской. 1992Авангард
От Кантемира и до Окуджавы Дорога оказалась коротка. Предшествуют крушению державы Распад и разрушенье языка. От мутного дыхания пустыни Река преображается в ручей. Что остается нынче от латыни, Прибежища беспомощных врачей? Верша тысячелетьями обман свой, В который раз уже, в который раз, Нас привлекает темный дух шаманства Изверившихся в правильности фраз. Распались нерифмованные строки, Обрывки нитей спутаны в клубок. Не так ли ход ветхозаветной стройки Остановил разгневавшийся Бог? Мы к звукам возвращаемся разъятым, Их смысловую связь разъединив, Слово на части расщепив, как атом, И долгожданный ударяет взрыв. И дым грибообразный в небе снова Встает, остатки воздуха вобрав. Для варваров предмет захвата – слово, — Им не нужны вокзал и телеграф. Но все же что-то держит, что-то держит, Огонь свечи стараясь уберечь, И слушает опять толпа с надеждой Невнятную юродивого речь. И значит все в небытие не канет, Ночные ливни смоют кровь и грязь, И кто-то, обернувшийся на камни, Начнет их собирать, не торопясь. 1992Север
Не отыщу свои следы В земле холодной и бесстрастной, В разливах сумрачной воды, Не отражающей пространства. Среди арктических широт, Где дождь сменяется бураном, К зырянам Тютчев не придет, Да и не нужен он зырянам. В краю снегов бумаги нет, — Да и не нужно ей бумаги, А нужен неба алый свет И под ногами мягкий ягель. Да чума серебристый мех, Что останавливает вьюгу, И песенка одна на всех, — Как трубка общая по кругу. 1993«Десанты крылатых семян…»
Десанты крылатых семян Кидают на землю березы, И юности горький обман В облатке тургеневской прозы Меня возвращает назад В похожую дачную местность, Где каждый цветной палисад Цветную таит неизвестность. Там зеленью пахнет вода, И медом сосновые смолы, И мама еще молода, Как точно заметил Самойлов. Земля завершит оборот, И сладкою вспомнится болью Девчоночий смех у ворот И звонкий шлепок волейбольный. И первой любовью дыша, Рванувшись к угасшему свету, Внезапно заноет душа, Которой, казалось, и нету. Как мне говорил инвалид, Чей танк подорвался на мине, Нога его ночью болит, Которой уж нет и в помине. 1993Соборность
Праматерь лагерей, Любезная соборность, — От горькой чаши сей Пускай избавит Бог нас. Ясна из века в век Мечта ее простая: Забудь, что человек, Прими законы стаи. Спасаясь на крови, Как все, клыки ощерив, Любому горло рви, Кто подойдет к пещере. Соборность общей лжи, Казармы и барака. С подонками дружи, Не рвись на свет из мрака. Соборность паханов И початой бутылки, Тех безымянных рвов, Где дыркою в затылке Нас соборует смерть, Дотла стирая лица, Приученных не сметь, Не в хоре – не молиться. И крест, и пустота, И в небе над прохожим На ветке два листа, — Соседних, непохожих. 1993Фельдфебель Шимон Черкасский (песня)
Кавалер Святого Георгия, фельдфебель Шимон Черкасский, Что лежит на Казанском кладбище в Царском Селе осеннем, Представитель моей отверженной в этой державе касты, Свой последний бивак наладивший здесь, под дубовой сенью. Гренадер императорской гвардии, выходец из кантонистов — Нелюбимых российских пасынков выпала с ним судьба нам. Неродного отечества ради был он в бою неистов, Управляясь в часы опасности с саблей и барабаном. Давний предок единокровный мой фельдфебель Шимон Черкасский, За отвагу на поле брани орден свой получивший, Обладатель ружья огромного и медной блестящей каски, В девяносто четвертом раненый, в девяносто шестом – почивший. Ах, земля, где всегда не хватало нам места под облаками, Но которую любим искренне, что там ни говорите! Ощущаю зависть тайную, видя надгробный камень, Где заслуги его записаны по-русски и на иврите. И когда о последнем старте я думаю без опаски И стараюсь представить мысленно путь недалекий сей свой, Вспоминается мне лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, Что лежит под опавшими листьями на окраине царскосельской. 1993Северная Двина
Мы плыли вниз по Северной Двине На белом пассажирском теплоходе, Который прежде назывался «Неман», Но был позднее переименован В честь Федора Абрамова. Писатель Был местным уроженцем. Вспоминаю Публичное признание его И яростное самобичеванье За то, что в бытность в университете На своего профессора донес, В чем каялся потом, возненавидев Партийных искусителей своих. Не в этом ли особенность души Исконно русской? – Прежде нагрешить, Дотла пропиться, грабить на дорогах, Быть душегубом, татем полуночным, Детоубийцей или стукачом, А после под иконой жечь свечу, Лоб кровянить поклонами земными, Покаявшись в лихих своих поступках, У Господа вымаливать прощенье, И схиму принимать. Не потому ли Веками здесь поют о Кудеяре, А отроки святые не в чести? Мы плыли вниз по Северной Двине С фольклорными ансамблями из Тойвы, Сольвычегодска, Котласа и прочих Окрестных городов и деревень На фестиваль в Архангельск. Вечерами Мы приставали к берегу, и вновь На пыльных сценах поселковых клубов, На площадях прибрежных леспромхозов, Под северными злыми комарами, Плясали вилегодские старухи В узорных полушалках расписных И праздничных багряных сарафанах С подгрудною высокой подпояской И необъятным клетчатым подолом, Рассчитанным на деревенских женщин, Беременевших снова, что ни год. Их песни, позабытые сегодня, И танца неподдельное веселье, Что недоступно профессионалам, Крестьянские морщинистые лица, Согбенные, но крепкие тела, И темные беззубые улыбки, Собравшимся иллюзию внушали, Что в старину жилось повеселей. Механики, завхозы, речники, Надев льняные светлые рубахи, Подхваченные пестрым кушаком С устюжскою затейливою вязью, И волосы забрав под ремешок, Преображались в древних берендеев, Гудошников и гусляров, а ночью На теплоходе рявкали гармони, И бешено гремела дискотека, В сегодняшний перемещая век. Я вспоминаю поселковый клуб, Плакат «Добро пожаловать» над входом, Крест-накрест заколоченные двери Под надписью, и лужу у крыльца, Вокруг которой зрители стоят, А на крыльце кружится хоровод, Платочками помахивая дружно. Я вспоминаю контуры церквей Преображенья или Воскресенья, Плывущие над белою водой Под берестою северного неба. И таинство полночной тишины Под неизбывным половодьем света, Где сосны не отбрасывают тени, И красок нет – лишь чернь и серебро. Лесное царство пересыльных тюрем, Владения зловещего ГУЛАГа, Места захоронений безымянных, И вышки зон, и постоянный день, Как в камере, где свет не гасят ночью, Бессонница, что многодневной пыткой Пытает обескровленный народ. Как непохожа эта белизна На петербургско-пушкинские ночи С графическою оторочкой шпилей И золотом неярким куполов! А впереди, и сзади, и вокруг, Струилась неподвижная Двина, С обманчиво прозрачною водой, Пропитанная аммиачным ядом Бумажно-целлюлозных комбинатов Коряжмы и Архангелогородья. Свободная российская река. С ее широких плоских берегов Татарские не пили кони воду, Увязнув безнадежно на пути В болотах вологодских или ситских. Исконная российская река, — Не Дон, который к туркам уходил В Азовщину; не Волга, что течет Меж берегов мордовских и болгарских, Татарских, и чувашских, и калмыцких, В Хвалынское впадающая море, Где полумесяц пляшет на волне, Подернутой азербайджанской нефтью; Не Енисей тунгусский; не Иртыш, Отобранный насильно у Кучума; Не Днепр, что от постылых москалей К родному убегает Запорожью, Чернобыльской отравой пораженный; Не Терек, что несется по камням, Песком и кровью яростно плюясь, И задыхаясь от бессильной злобы. В течении Двины отобразилась Неторопливость спутников моих, Невозмутимых и русоволосых, Архангелогородский говорок С распевной гласной на исходе фразы. Спокойная российская река С болотистым многорукавным устьем. Здесь Петр когда-то вздумал строить флот, Да после передумал, спохватившись, Что не доплыть отсюда никуда, — Ни в близкую, казалось бы, Европу, Ни к прочим зарубежным берегам. Пробить пути на Запад и Восток Отсюда не сумели мореходы: Ни Пахтусов, в Соломбале лежащий, Усопший тридцати с немногим лет, Ни к полюсу стремившийся Седов, Себя велевший к нартам привязать, И где-то от него невдалеке Матросами задушенный своими. Единственная русская река, В российское впадающая море, Откуда путь уходит в никуда — Навстречу льду, безмолвию и мраку. 1993Остров Израиль
Эта трещина тянется мимо вершины Хермона, Через воды Кинерета, вдоль Иордана-реки, Где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут, Рассекая насквозь неуклюжие материки. Через Негев безводный, к расселине Красного моря, Мимо пыльных руин, под которыми спят праотцы, Через Мертвое море, где дремлют Содом и Гоморра, Словно в банке стеклянной соленые огурцы. Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем, Между древних гробниц проводя ножевую черту. В Мировой океан отправляется остров Израиль, Покидая навек Аравийскую микроплиту. От пустынь азиатских – к туманам желанной Европы, От судьбы своей горькой – к неведомой жизни иной, Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы Оборвутся внезапно над темной крутою волной. Капитан Моисей уведет свой народ, неприкаян, По поверхности зыбкой, от белых барашков седой. Через этот пролив не достанет булыжником Каин, Фараоново войско не справится с этой водой. Городам беззаботным грозить перестанет осада, И над пеной прибоя, воюя с окрестною тьмой, Загорится маяк на скале неприступной Масады, В океане времен созывая плывущих домой. 1993Переименование
Твой переулок переименован, И улица Мещанской стала снова, Какой она когда-то и была, А ты родился на Второй Советской, И нет тебе иного в мире места И улицы, – такие вот дела. О, бывшая одна шестая суши, Где не умеют строить, не разрушив! В краю всеразрушающих идей От торопливой удержусь оценки: Вчера еще доламывали церкви, Теперь ломают статуи вождей. Истории людской досадный выброс, — Но я как раз родился в нем и вырос, — Вся жизнь моя в десятках этих лет, И сколько бы ни жил под облаками, Я помню ленинградскую блокаду, А петербургской не припомню, нет. Давно уже забыты песни эти, Становятся чужими наши дети, Исчезли с карты наши города. Нас как бы вовсе не было на свете, И ни один историк не ответит, Зачем мы жили, где или когда. В краю, где снова пусты пьедесталы, Мы доживаем жизнь свою устало, И оборвется наш недолгий след На улице, что имя поменяла, В том городе, которого не стало, И в той стране, которой больше нет. 1993«Под оком у Всевидящего Спаса…»
Под оком у Всевидящего Спаса Не ведаем мы сами, что творим. Империя не может не распасться На составные части, словно Рим. Ей не дано, как и в былое время, На нужном удержаться рубеже, Чтоб сохранить, как некогда Аврелий, Все то, что завоевано уже. Не отыскать к вчерашнему пути нам. Трещит Гондваны вековечный лед, И Индия, покинув Антарктиду, В объятия Евразии плывет. Так ставшая критическою масса Взрывает раскаленное ядро. Столкнутся снова нации и классы, — Не жди, царица, писем от Дидро! Над горизонтом зарево витает, И всадники летят во весь опор, И физику опять гуманитарий Безграмотный навязывает спор. 1993Беженцы-листья (песня)
Беженцы-листья, гонимые ветром. В сером окне догорает звезда. Киевской линии синяя ветка Гонит в дождливую ночь поезда. Снова торопит кого-то дорога, Даль расцветив желтизною монет, В поисках родины, в поисках бога, В поисках счастья, которого нет. К югу летят перелетные птицы, Тянутся листья за ними вослед. В дальние страны легко им летится… Мне только ветра попутного нет, — Сколько бы ни сокрушался, растерян: Время не то и отчизна не та, — Я не из птиц, а скорей из растений — Недолговечен полет у листа. Поздно бежать уже. И неохота. Капли, не тая, дрожат на стекле. Словно подруга печального Лота Камнем останусь на этой земле. Теплится утро за темною шторой, И наступает пора холодов… Слышу, как сердце тревожное вторит Дальнему стуку ночных поездов. 1993Павел
Курчавый и седой, похожий на грузина, На шутки моряков упрямо сжав уста, В Афины прибыл он. Распятье не грозило На эллинской земле апостолу Христа. Он выслушан был здесь внимательно и строго, Изгнаннику не причинили зла, Но проповедь единственного Бога Меж мраморных богов поддержки не нашла. Уверенных в себе ревнителей культуры Не смог он убедить, как говорит Лука. Кривили рот, смеясь, питомцы Эпикура И стоики ему внимали свысока. Лишь логике сухой вверяющий идеи Дремал ареопаг, не покидая мест. Чем мог их удивить посланец Иудеи, Твердивший про спасение и крест? Не выигравший спор, в плаще дорожном рваном, Он шел, босой ступней нащупывая путь. Как сказано в посланье к коринфянам: «Младенцем будь во зле, в добре же взрослым будь». Внизу сияли воды голубые. Смирение с трудом одолевало злость. Его позднее римляне убили, — Философов меж ними не нашлось. 1993Славяне
Не для чужих славянские миры, Заросшие дремучие дороги. Как счастливы мы были в те поры, Когда в Днепре всплывали наши боги! Мы веру принимали без любви, Мы каялись, но, видимо, без толка, И каиново семя Святополка Всходило в отатаренной крови. Живущие в объятиях зимы, Свои мечты о вольности развеяв, Сперва варягов править звали мы, Потом татар, и немцев, и евреев. Здесь пахла дымом каждая заря, Топтался кат на воздухе морозном, И самого кровавого царя Подобострастно называли Грозным. Манили степи запахом травы, Туда бежали, кандалов избегнув, — Так началась от небольшой Москвы Огромная империя из беглых. Здесь для креста слагали два перста Себя огнем спасавшие схоласты, И непохож на южного Христа Спаситель узкоглазый и скуластый. 1993Провинция
Насколько мы честно себя ощущаем провидцами? Согласно Ключевскому, центр России – провинция. Не Питер надутый, не матушка Первопрестольная, Откуда лишь смуты и нравы идут непристойные. Здесь мысли неспешны, и топкие версты немеряны, Фельдъегерь с депешей блуждает, в пространстве затерянный. В начальстве изверясь, не примут здесь, семечки лузгая, Ни Никона ересь, ни немца одежду кургузую. Иные здесь лица, иные заботы и праздники, В столице царица а здесь Пугачевы да Разины. Здесь дали туманны, а люди дотошны и въедливы, — Так глубь океана и стынет и греется медленно. Столичные взрывы не тронут их быта сутулого, — Известно, что рыба гниет с головы, а не с тулова. Истлеет во рву, кто задумал с ней мериться силою, Кто, взявши Москву, возомнит, что владеет Россиею. Сто раз оплошает, но снова, болезная, вытянет, Поскольку решает сама – не цари и правители, Не боги столицы, которых возносят и чествуют. Устав им молиться, согласен с идеей Ключевского. 1993Землетрясение
Ненадежно приходящее веселье, Наша жизнь – подобье шахматного блица. Невозможно предсказать землетрясенье, — Ни одно из объяснений не годится. Геофизики апофиз тупиковый, Я твоим соображениям не верю. Распадается жилище, и подкова Отскочила от рассыпавшейся двери. Разрушается и гибнет в одночасье Все, что глаз своею прочностью ласкало, Распадается империя на части, Как, казалось бы, незыблемые скалы. И бегут, свои дома покинув, семьи, Что внезапно оказались за границей. Невозможно предсказать землетрясенье, — Ни одно из объяснений не годится. Ненадежна приходящая минута. Все модели и гипотезы – случайны. Захлебнется информацией компьютер, Но никто, увы, не знает этой тайны. Ни сейсмолог в тишине обсерваторий, Ни астролог, загадавший на планеты, — Знает Бог один всеведущий, который Не откроет никому свои секреты. Ах, земля моя, мать-мачеха Расея, — Темным страхом перекошенные лица! Невозможно предсказать землетрясенье, — Никакое предсказанье не годится. 1993Четвертое октября
На очередь потративший полдня, Я проявил нечаянную резвость, И взяли кровь в итоге у меня, — Хотя старик, но дефицитный резус. С усилием открыв входную дверь, Я размышлял, покуда брел обратно: Кому она достанется теперь? — Фашисту, коммунисту, демократу? Знобило, и кружилась голова, Но думал я при этом мимоходом, Что не одни лишь звонкие слова За жизнь свою я этим людям отдал. Они безумны – это их дела, Но раненые все благословенны, И хорошо, что кровь моя вошла В их пулями распоротые вены. Вдоль улицы сирены стлался вой, Багряный лист планировал не быстро. Над солнечной осеннею Москвой Стоял погожий день братоубийства. 1993«Имперский дух в себе я не осилю…»
Имперский дух в себе я не осилю, Когда, проснувшись в утренней Москве, На карту неохватную России Взираю в ностальгической тоске. И, разглядев, со страхом понимаю, Увидевши ее издалека, Как велика страна моя родная, Или точнее – слишком велика. Не удержать соединений ржавых, Спасительным рецептам вопреки. Трещит по швам великая держава, Готова развалиться на куски. Скрипят суставы в одряхлевшем теле Империи, – пора ее пришла, — Не зря веками в стороны смотрели Две головы двуглавого орла. Осыпались колосья, серп и молот Не давят на долины и хребты. Евразиатский материк расколот, — Байкал зияет посреди плиты. Так неподвижность зимнюю взрывая, Ломает льдины черная вода, Так, волноломы разнеся и сваи, Прибрежные ночные города Крушит удар внезапного цунами, И в штормовом кипении зыбей Огромный танкер, поднятый волнами, Ломается от тяжести своей. 1993Подполковник Трубятчинский (песня)
Подполковник Трубятчинский, бывший сосед по каюте, С кем делили сухарь и крутые встречали шторма, Не качаться нам впредь в корабельном суровом уюте, Где скрипят переборки и к небу взлетает корма. Опрокинем стакан, чтобы сердце зазря не болело. Не кляните судьбу, обо всем не судите сплеча! В зазеркалье у вас все читается справа налево, — В иудейской пустыне нашли вы последний причал. Подполковник Трубятчинский – в прошлом надежда России — Он сидит у окна, и в глазах его черных – тоска. Позади океан, ядовитой пропитанный синью, Впереди океан обожженного солнцем песка. Подполковник Трубятчинский, что вам мои утешенья! — Где бы не жили мы и какое б не пили вино, Мы – один экипаж, все мы жертвы кораблекрушенья, Наше старое судно ушло невозвратно на дно. Подполковник Трубятчинский, моря соленого житель, Как попасть вы смогли в этот город безводный Арад? Надевайте погоны, цепляйте медали на китель И – равненье на флаг, – наступает последний парад!.. Возвращение в рай, а скорее – изгнанье из рая, Где ночные метели и вышки покинутых зон… Подтянувши ремень, обживает он остров Израиль — Наших новых времен, наших новых морей Робинзон. 1993«На Маяковской площади в Москве…»
Нам в веках стоять почти что рядом.
Владимир Маяковский На Маяковской площади в Москве, Что как и прежде Триумфальной стала, Поверх голов поэт глядит устало, От гибели своей на волоске. Предсказана металлом звонких строк Самоубийства траурная дата, — На горло песне собственной когда-то Он наступил, и тем себя обрек. Четыре остановки в век длиной. Отмеченный падением и славой, На Пушкинской, точнее на Страстной, Безмолвствует сосед его курчавый. Стоял Страстной когда-то монастырь На площади, – его там больше нету, И на образовавшийся пустырь Переместили памятник поэту. Не обхватить им пальцами перо, Невидящим не обменяться взглядом, Поставленным «в веках почти что рядом», — На двух соседних станциях метро, В пространстве и во времени одном. И дело, разумеется, не в датах: Один застрелен был в тридцать седьмом, Другой погиб на рубеже тридцатых. И думают прохожие с тоской Об участи, их схожей и опальной, Когда идут по улице Тверской От площади Страстной до Триумфальной. 1993«Стать властителем дум в деспотии…»
Иосифу Бродскому
Стать властителем дум в деспотии Не зазорно, совсем не зазорно, Где врагов обличают витии, И скучает по узникам зона. Стать властителем дум в деспотии, Неизменно бывает опасно, Где гонения слабых сплотили, И безрадостна нищая паства. Быть властителем дум в деспотии, — Ободрять постоянно дрожащих, Здесь, где дух вольнодумства противен Вездесущим властям предержащим, Чтобы раб, существуя убого В коммуналке, пропитанной дымом, Одного только Господа Бога Признавал бы своим господином. Там с народом всегда по пути нам, Где тепла не хватает и света. Быть властителем дум в деспотии, — Вот достойная должность поэта. Не в Европе, где залы пустые, Не в нью-йоркском пресыщенном клубе, — Быть властителем дум в деспотии, Где жестоких властителей любят. Где горька в подворотне настойка, Непролазны кривые дороги, И где голову ценят настолько, Что ее отрубают в итоге. 1993Поэты военного поколения
Я говорил от имени России.
Борис Слуцкий Поэты военного поколения, Которых ставили на колени, Сознавали это в какой-то мере, Поэтому предпочитали верить Тому, во имя чего их ставили, Например – за Родину и за Сталина. Они снисхождения не просили, На рубежах обреченных стоя. Себя считали частью России, Ее заражаясь неправотою. И радовались, стихи свои склеив Из приказов расстрельного материала. Россия же не любила евреев И им свой голос не доверяла. Она доверяла тогда грузину В полуопущенных эполетах, С которым перезимовала зиму, С которым перебедовала лето. Среди неопрятных московских сугробов, В кителях полувоенных суконных, Они стояли у этого гроба, Они молились на эту икону, Вдыхая жадно морозный воздух Отчизны неправедной и увечной. И тусклые пятиконечные звезды Над ними мерцали, как семисвечник. 1994Дом творчества
Хрустальная люстра в большой и безлюдной столовой, Раскрытая книга над аляповатым карнизом. Дом творчества был здесь – какое нелепое слово, — Оно постепенно становится анахронизмом. Не пишет никто здесь теперь ни романы, ни стансы, За нас перед вечностью слово пытаясь замолвить. Из пишущей братии в доме сегодня остался Лишь с орденом Ленина гипсовый Серафимович. Мне жалко советской распавшейся литературы, Окошек пустых обветшалого этого дома, Своих сочинений, что в школе написаны сдуру, Героев Фадеева или же «Тихого Дона». Печальные боги минувшей поры исполинской, Которые голову с юных морочили лет нам! «Титло литератора, – сказывал как-то Белинский, Важней, чем мундиры и блеск мишуры эполетной». Никто их сегодня не знает уже и не ценит. Умолкли машинки, стучавшие здесь вечерами. И стол заседаний темнеет на брошенной сцене, Как пыльное капище в древнем языческом храме. 1994Вдова
Если ты раздражен неустройством семейного дома, О подруге недолгой судить не старайся поспешно, — Из нелюбящих жен получаются лучшие вдовы, А от любящих – только беспомощность и неутешность. Дважды входит жена в отшумевшую некогда Лету. Будет прежняя жизнь переписана набело снова, И на все времена сохраняется версия эта. Вновь полюбит вдова, поменяв в мемуарах оттенки. Об изменах и ссорах не будет, конечно, и речи. И к чему здесь слова, если муж с фотографий на стенке Улыбается сонно, ни в чем никогда не переча! И, оставшись одна, до последнего самого часа, Проходя через день, для него недоступный и дальний, Будет долго она в равнодушные двери стучаться, Одержима идеей дополненных переизданий. 1994Созвездие Рыбы
Смотрят звезды с высоты неотрывно, Новорожденным желая удачи. Я родился под созвездием Рыбы, Это что-нибудь, наверное, значит. В непроглядной черноте небосклона, Все во власти первобытных утопий, Их открыли жрецы Вавилона, Размышляя о новом потопе. Атлантиды припомнили гибель, К небу руки воздевали сухие. И назвали созвездие «Рыбы», Чтобы грозную задобрить стихию. И, соленым обдавая дыханьем Хрупкой суши каменеющий остов, Волны пенились за зыбким барханом, Аравийский охватив полуостров, Где не спали пастухи до рассвета, Наблюдая недвижно и немо, Как смещается в созвездие это Золотая звезда Вифлеема. В черных тучах голубые разрывы Над нахмуренным Финским заливом. Я рожден под созвездием Рыбы, И себя ощущаю счастливым. Беспределен океан серебристый, Породивший земную природу. И крещенье, по-латыни – «баптиста», Означает «погружение в воду». 1994Евангелисты
Ученики не дождались Христа, Но верили в пришествие второе И не касались позднею порою Пергаментного желтого листа. Апостолы Христа не дождались, Но верили в пришествие второе. Могилы над Масличною горою Умножились. Ушли деревья ввысь. Сгущался фиолетовый туман На иудейских обмелевших реках. Отправился на север Иоанн, Иаков проповедовал у греков. Дышал гееной огненной хамсин, И пожилые поняли мужчины, Что не вернется человечий сын До их уже означенной кончины. Разобщены пространствами дорог, Свой скудный отдых сокращая ночью, Они писать взялись поодиночке, Между собою не сверяя строк. И появлялась, множа имена, Вослед помарке новая помарка, И то, о чем Матфей упоминал, Не совпадало с описаньем Марка, Бесстрастные свидетельства Луки Отличны от поэмы Иоанна, Но в главном, друг от друга далеки, Они совпали, как это ни странно. И кончился отпущенный им срок Недолгого служения земного, И к нам вернулось сказанное слово, Которое обозначало – Бог. 1994Карское море
Море, хмурое спросонья, По-английски «Kara Sea», Обжигает жидкой солью Необжитый край Руси. И Сибирь, в снега одета, Словно мерин голубой, Припадает к соли этой Жадной Обскою губой. Повернув на север дышло, Рвется плоть ее громад В океан, где смертью дышит Неприветливый Грумант. Не бывает здесь путины, — Бухты плоские пусты. Здесь одни ориентиры — Безымянные кресты. И кружит в тумане чайка, И кричит издалека, Что зазря Чрезвычайка Разменяла Колчака. Не с того ли имя «Кара» Не один десяток лет Угрожает Божьей карой, Красит воду в черный цвет, Океан лишает жизни Силой ядерною злой, Закрутившись черным джинном Над базальтовой скалой? 1994Вестиментиферы
В глубинах ночных океана, Куда не дотянемся мы, Из черного дна неустанно Крутые восходят дымы. Среди закипающей черни, Рождающей множество руд, Огромные плоские черви В горячих рассолах живут. Едят они серу на ужин, Вкушая от этих щедрот. Здоровью их даром не нужен Полезный для нас кислород. И в час, когда вспыхнет пожаром Земная недолгая плоть, И ядерным смертным ударом Людей покарает Господь, И солнце погаснет, и реки Покроются пепельным льдом, Они лишь освоят навеки В наследство доставшийся дом. И ступят на цепкую лапу, Что станет позднее ногой, — Начало другого этапа, И будущей жизни другой. 1994Филармония
Верни мне юность, баховская фуга Студенческих необратимых лет. Добро и зло не могут друг без друга, И неразлучны, словно тень и свет. Верни мне юность, хота Арагона, — Вечерний город в розовом луче, И крылышко горняцкого погона, Мерцающего тускло на плече. Неизлечимость ревности той первой Морозной ленинградскою зимой, В часы, когда удачливый соперник Ее с концерта провожал домой. Я понапрасну зябнул на канале, — В любви мне постоянно не везло. Ах, только у симфонии в финале Добро обычно побеждает зло! Верни мне, Брамс, нарядных платьев шорох, Хрустальной люстры зыблющийся свет, То место в филармонии на хорах, Куда входной я покупал билет. Там музыка мне сердце бередила И в выси недоступные вела, Где только Бог господствует единый, Не ведающий ни добра, ни зла. 1994Памяти Евгения Клячкина (песня)
Сигаретой опиши колечко. Снова расставаться нам пора. Ты теперь в земле остался вечной, Где стоит июльская жара. О тебе поплачет хмурый Питер И родной израильский народ. Только эти песни на иврите Кто-нибудь навряд ли запоет. Со ступеней набережной старой На воду пускаю я цветы. Слышу я знакомую гитару. Может, это вовсе и не ты, Может, и не ты совсем, а некто Улетел за тридевять земель, Старый дом у Малого проспекта Поменяв на город Ариэль. Сигаретой опиши колечко, Пусть дымок растает голубой. Все равно на станции конечной Скоро мы увидимся с тобой. Пусть тебе приснится ночью синей, Возвратив душе твоей покой, Дождик василеостровских линий Над холодной цинковой рекой. 1994Сентябрь
Осень устилает небосвод Золотою лиственною тканью, Ощущенье вольности дает Легкое холодное дыханье. Наступает время тишины. Мрачным предсказаниям не верьте, — Каждому каникулы даны Между жизнью собственной и смертью. Этих дней спокойна череда, — Так болезни грозное теченье Накануне кризиса всегда Странное приносит облегченье. Время завершения трудов, Урожая, солнечных безветрий. Яблоня, избавясь от плодов, Распрямляет согнутые ветви. И смотря поверх людских голов, Вечную благословив природу, Старый клен, как старый птицелов, Отпускает листья на свободу. 1994«Сожалею об отроках, тихих, святых и убогих…»
Сожалею об отроках, тихих, святых и убогих, Отношусь с недоверием к тем, кто себя заточал, Ни любви, ни беседы застольной не знав по ночам, О спасенье души размышляя всю жизнь и о Боге. Пел каноны нам в уши арктический птичий базар, Громыхали о борт океанов свинцовые волны. Мы попутчицам нашим нахально смотрели в глаза, Неразбавленным спиртом тяжелые кружки наполнив. Неспособен покаяться тот, кто не ведал греха. Неспособный покаяться вряд ли заслужит спасенье. Мы сплавлялись по рекам, медвежьи доев потроха, Уходили к любимым, бросая постылые семьи. Напрягающий парус, не прячь перед ветром лица, И не слушай святош, что грозят чернотой преисподней, Лишь для блудного сына закалывают тельца, Лишь грешивший при жизни к ноге припадает Господней. 1994Гаданье
Пахнул уксусом мангала Городок Джалалабад, Где цыганка мне гадала Сорок лет тому назад. Нагадала мне цыганка Певчих птиц держать в руке. Нагадала мне цыганка Жить от дома вдалеке. На базаре, у вокзала, Где кирпичная стена, Мне вдобавок предсказала Смерть недобрую она. Мне казалась та цыганка, Обратившаяся в пыль, Чернокрылою, как галка, И седой, как Изергиль. То гаданье слово в слово Я запомнил наизусть, Но его сегодня снова Пересказывать боюсь. Чтобы бледным звездным светом Обозначивший финал, Вездесущий Бог об этом Лишний раз не вспоминал. Мир плывет-кружится мимо, Колыхаясь на волне. Как замедленная мина, Слово тикает во мне. Но покуда день мой длится, В небе теплится огонь, И доверчивая птица Греет правую ладонь. 1994Смутное время
Ничего не надо кроме Развеселого питья. Помнишь, друже, город Кромы, Полный девок и шмотья? От рождения до плахи Нет покоя голове. Говорят, сегодня ляхи Разгулялись по Москве. Учиним мы им побудку, Встретим с кольями зарю, Плясовую всунем дудку В руку мертвому царю. Мы его ударом в спину Повалили на крыльцо И напялили личину На разбитое лицо. Пусть над собственной кончиной Посмеется государь. Мы его разоблачили: Он расстрига, как и встарь. Голытьба и оборванцы, Наш заветный пробил час, — Все мы нынче самозванцы, Разодетые в атлас. Все цари мы ненадолго, Свой ограбившие дом. А потом бежать на Волгу, За Урал или на Дон. Затеряться в сизой дали, Не оставивши концов, Чтобы ноздри не спознали Бело-розовых щипцов. Не гляди, приятель, косо, — Хочешь – пей, а хочешь – плачь. Будет снова царь Московский Скоморох или палач. Будет вновь он, зубы скаля, Выдавать за правду ложь. Мы б другого отыскали, Только где его возьмешь? 1994Кремлевская стена
В этих смертью пахнущих аллеях Не дожить до ста. Караул ушел от Мавзолея, — Караул устал. Лишь дождя натянутые лески Ходят над стеной, — То ли бунт кончается стрелецкий, То ли соляной. Там, где кленов сумрачное пламя Тлеет над землей, Дышит ночь заплечными делами, Дыбой и петлей. Дышит ночь предсмертным криком Стеньки. Кто теперь в цене? — Те ли, кто поставлен был у стенки, Те ли, кто в стене? Здесь знамена двигались, алея, Громыхала сталь. Караул ушел от Мавзолея, — Караул устал. Но кружит, готовый к обороне, Застя горизонт, Черных стай монашеских вороньих Шумный гарнизон. Сложенная дьяволу в угоду, Красная стена, Здесь всегда безрадостна погода, Смутны времена. Где река блестит с зубцами вровень Синью ножевой, Вечен цвет кирпичной этой крови, Темной, неживой. 1994«То вождь на бронзовом коне…»
То вождь на бронзовом коне, То старец в кресле золоченом. Как много в маленькой стране И полководцев, и ученых. Любой вам лекцию прочтет О них, и кажется порою, — Чем малочисленней народ, Тем многочисленней герои. Припомню вновь, когда взгляну На этот город, мне не близкий, Свою бескрайнюю страну, Где безымянны обелиски, Где, монументы не щадя, Под негодующие крики Бурлит толпа на площадях, Стирая память, как улики. 1994Беломорские церкви
Нелегко представить нам, Над крыльцом увидев дату, Что сосновый этот храм Белоснежным был когда-то. Свежеструганой доской Меж лесов, не знавших ночи, Он светился день-деньской, Словно дева, непорочен. Свежеструганой доской, Бересты молочной пеной. Ежедневною тоской Наполнялись эти стены. Сладким ладаном дыша, Забывали здесь невзгоды, — Чем светлей уйдет душа, Тем темнее станут своды. И стоят среди полей, Исцелив людские раны, Срубы черные церквей, — Негативы белых храмов. 1994«Почему так агрессивны горцы…»
Почему так агрессивны горцы, И спокойны жители равнин? Все держа в своей огромной горсти, Это Бог лишь ведает один. Непокорны горские народы, Крепкие нужны им удила. Местная коварная природа Им жестокий нрав передала. На границе зноя и мороза, Где ландшафт безрадостен и дик, Полон неожиданной угрозы Их гортанный яростный язык. Между круч, беременных лавиной, Где скала висит над головой, Дорожат традицией старинной И гордятся связью родовой. Сумрачно здесь шумное веселье. Горек вкус вина и шашлыка. Может, это страх землетрясений, В генах существующий века, Их держаться заставляет вместе В том краю, где вечные снега, Где живуч обычай кровной мести, И людская жизнь недорога? 1994Галилея
Путем окольным шла семья Марии, Чтобы возможной избежать беды, — Галилеянам в строгой Самарии Ни хлеба не давали, ни воды. Среди других паломников от Храма С трехлетним сыном шли они назад, И горного ландшафта панорама Усталый завораживала взгляд. Себя Господним объявивший чудом, Ночной злодей и возмутитель сел, Галилеянин дерзостный Иуда В тот год войной на Кесаря пошел. Но показал им Публий Вар Квинтилий, Что римские мечи еще остры, И вдоль дорог безлюдных засветили У ног распятий дымные костры. Стервятники кричали над добычей. На много стадий в воздухе подряд Распространялись громкий клекот птичий И трупный сладковатый аромат. Цветную ткань на голову набросив, В обход крестов, чернеющих вдали, Его Мария и отец Иосиф Попеременно за руку вели. И шла дороги частая гребенка В родные галилейские места, И множились в больших глазах ребенка Навязчивые контуры креста. 1994«Отыскать пытаясь родной народ свой…»
Отыскать пытаясь родной народ свой, Ощущаю смутное беспокойство, Сознаю двойное свое сиротство, Сознаю двойное свое изгойство. Мне бы выпросить у всемогущего Бога Для рождения время себе иное. Но безбожное детство мое убого. Очевидно, сам я тому виною, Что не в том меня прокрутили кадре, И не в той крестили меня купели, Что не дом и не улица был мой адрес, А Советский Союз, как когда-то пели. В коммуналке родившийся ленинградской, Как в блокаду, чувствую я усталость, — Обелиски могил безымянных братских, — Это все, что от братства живым осталось. В переулках московских, кривых и узких, Где теперь, одинокие, мы стареем, Не могу я впредь называться русским, Никогда не сделаюсь я евреем, Не хочу под старость чужого хлеба, Не хочу под старость чужих напраслин. Я смотрю в окно на пустое небо, Где кремлевские звезды давно погасли. Где в окрестном пространстве необозримом Спит орда стоязыкая сном усталым, Заплутав в пути между Третьим Римом И Четвертым Интернационалом. 1994Физики и лирики
Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне.
Борис Слуцкий Вот и физики тоже сегодня уже не в чести, Прозябают в тоске, позабыв о деньгах и почете. Их одна эмиграция может сегодня спасти, — Кто остался в Москве, вы по пальцам их всех перечтете. Нету нынче в соседстве и лириков, как ни зови. Не судите их строго, – они виноваты едва ли. Раньше не было секса, – теперь не хватает любви, Прежде не было Бога, – теперь не хватает морали. Не отыщешь пути во вчерашний распавшийся мир, — Где мы были вчера, там сегодня давно уже нет нас. И, явясь во плоти, Гумилевым придуманный этнос На обломках империи правит неправедный пир. Не жалейте о них, – им сегодня полушка – цена В городах этих черных, где смотрят старухи сурово, Где один полукровка стремится зарезать другого, И разборки ночные вершит в кабаках крутизна. Мы немногого стоили, судя по нынешним дням, Где свободы короткой народ не удержит, беспутен. От российской истории скоро останется нам Лишь немецкая водка с двойною наклейкой «Распутин». 1994«Выросший в культуре европейской…»
Выросший в культуре европейской У песков горючих Голодая, Ни кипу я не носил, ни пейсы, Истинному Богу угождая. Сумрачными питерскими днями, Не познавший Родину и род свой, Я вбирал религию от нянек, Набожных крестьянок новгородских. Церковь Чудотворного Николы В жизни моей стала изначальной, Где Христос с коричневой иконы На меня поглядывал печально. Няньки обожали литургии И меня креститься приучали, Но настали времена другие, Суетные светские печали. И земные гипсовые боги, Алый галстук затянув у шеи, Требовали преданности, строги, И кровавых жертвоприношений. Радио кричало в уши зычно, Целились ракеты по Вселенной, Позабыл надолго я, язычник, О Христе эпохи довоенной. И стою я под Стеною Плача В позднем покаянии жестоком, Сознавая, так или иначе, Возвращенье к истинным истокам, Чтоб в конце означенного действа, Над моей кончиною помешкав, Усмехнулся Бог мой иудейский Темной азиатскою усмешкой. 1994Старые негативы
Страсть к фотографии – верное средство Перемещения в давнее детство. Сонное царство. Ночной разговор. Гидрохинона багряный раствор. Гладя рукою пластмассу кюветы, Всмотримся в жидкое зеркало это. В черных глубинах бездонных пучин, Под красноватым источником света, Лики проступят, туманом одеты, Женщин, любимых тобой, и мужчин. На старомодном стекле негативов Прожитых лет возникают картины Под непроточною темной водой: Мама в тридцатых со стрижкой короткой, Папа в студенческой косоворотке, Набожный дед с бородою седой. Белые ветки и черные лица. Значит, мгновение все-таки длится. Связь между жизнью и смертью проста. Души нетленны и необратимы. Мы воплотимся, уйдя, в негативы, — Тени и свет поменяют места. 1994«Россию надо подморозить…»
«Россию надо подморозить, Чтобы Россия не гнила». В леонтьевской предсмертной прозе Любая фраза тяжела. На койке монастырской узкой, В последний собираясь рейс, Он утверждает: «Надо русским Сорваться с европейских рельс». Он пишет, скорбный и увечный, Смиряя боль в суставах рук, Что кроме гибели конечной Недостоверно все вокруг. «Нам конституция опасней, Чем пугачевщина, – увы». В окне – листва березы красной На фоне бледной синевы. Над белокаменною Лаврой Витает колокольный звон. Ах, неужели мы неправы, И правым оказался он, В краю, где над морями бедствий Горят кресты церковных вех, И близким связаны соседством Слова «успенье» и «успех»? 1994Язык Екатерининского века
Язык Екатерининского века, Музейных невостребованных книг, Не для простого создан человека, — Он этим, вероятно, и велик. В провинции, нечесаной и грязной, Его навряд ли кто-нибудь поймет. Он для приемов годен куртуазных, Рескриптов государственных и од, Радищевских эпистолярных жанров, Нацеленных в грядущие века. Державинскою кажется, державной Его тяжеловесная строка. Две сотни лет на нем не говорим мы, И все же привлекает этот быт, Где испытатель петербургский Риман Громокипящей молнией убит. Где солнечная стрелка над верстою Подвыпивших торопит ямщиков, И языка гранитные устои Не тронули ни Пушкин, ни Барков. 1994«Санкт-Петербурга каменный порог…»
Санкт-Петербурга каменный порог Славянские не одолеют тропы. Так близок он и все-таки далек От видимой, казалось бы, Европы! Отделена границей узких вод, От острова с Ростральною колонной, Здесь Азия упорная живет За Лиговской, Расстанной и Коломной. В нем тонут итальянские дворцы, — Их местный грунт болотистый не держит. И бронзовую лошадь под уздцы Не удержать – напрасные надежды. И царь в полузатопленном гробу Себе прошепчет горестно: «Финита. Империи татарскую судьбу Не выстроишь из финского гранита». Не первый век и не последний год Среди пастушек мраморных и граций Здесь русская трагедия идет На фоне европейских декораций. 1994Юлию Крелину
И в январские пурги, и в мае, где градом беременна, Налетает гроза с атлантических дальних морей, Вспоминаю хирурга, прозаика Юлия Крелина, Что друзей провожает из морга больницы своей. Не завидую другу, целителю Крелину Юлику, — Медицина его непроворна, темна и убога. В ухищреньях своих он подобен наивному жулику, Что стремится надуть всемогущего Господа Бога. Почесав в бороде, раскурив неизменную трубку, Над наполненной рюмкой что видит он, глядя на нас? Сине-желтую кожу лежащего в леднике трупа? Заострившийся нос и лиловые впадины глаз? Не завидую другу, писателю Юлию Крелину, — Он надежно усвоил, что вечность не стоит и цента. Сколько раз с ним по пьянке шутили мы, молодо-зелено, Что бояться не следует, – смертность, увы, стопроцентна. Пропадает в больнице он ночи и дни тем не менее, И смертельный диагноз нехитрым скрывая лукавством, Безнадежных больных принимает в свое отделение, Где давно на исходе и медперсонал, и лекарства. Не завидую другу, врачу безотказному Крелину, — В неизбежных смертях он всегда без вины виноватый. С незапамятных лет так судьбою жестокою велено: Тот в Хароны идет, кто когда-то пошел в Гиппократы. Не завидую я его горькой бессмысленной должности, Но когда на меня смерть накинет прозрачную сетку, На него одного понадеюсь и я в безнадежности, Для него одного за щекою припрячу монетку. 1994«Над клевером зависшая пчела…»
Над клевером зависшая пчела, Мохнатая, в тигриной позолоте, Как уголек негаснущий светла, И тяжела, как пуля на излете. Короткий век свой жить какой ей толк С соцветиями липкими в обнимку? Что значат для нее любовь и долг, И Родина? Согласно Метерлинку, Неизмеримо больше, чем для нас. Мы чужаки в рассветном этом дыме. Мерцающий в тумане Волопас Не нас пасет под звездами своими. Нам не вписаться в гармоничный ряд Земных зверей, растений и мелодий, Где о свободе вслух не говорят, А просто умирают в несвободе. И сколько к мирозданью ни вяжись, Любые рассуждения напрасны О смысле бытия, поскольку жизнь Бессмысленна, недолга и прекрасна. 1994«Когда судьба поставлена на карту…»
Когда судьба поставлена на карту, И темнота сгущается, грозя, Припомним изречение Декарта: Источник страха избегать нельзя. Ведь убежав, уносишь страх с собою. Не лучше ли без ноши, налегке, Навстречу нежелательному бою Идти вперед со шпагою в руке? Испуг свой кушаком стяни потуже. Назад не поворачивай коней. Быть может, то, что породило ужас, Лишь воздух и движение теней. Когда душа от горечи и боли Сжимается, на суше и морях, Проявим любознательность и волю, Преодолев незнание и страх! 1994На пороге третьего тысячелетья (1995–1997)
Очередь
Я детство простоял в очередях, За спичками, овсянкою и хлебом, В том обществе, угрюмом и нелепом, Где жил и я, испытывая страх. Мне до сих пор мучительно знаком Неистребимый запах керосина, Очередей неправедный закон, Где уважали наглость или силу. Мне часто вспоминаются во сне Следы осколков на соседнем доме, И номера, записанные мне Карандашом чернильным на ладони, Тот магазин, что был невдалеке, В Фонарном полутемном переулке, Где карточки сжимал я в кулаке, Чтоб на лету не выхватили урки. Очередей унылая страда. В дожди и холода, назябнув за день, Запоминать старался я всегда Того, кто впереди меня и сзади. Голодный быт послевоенных лет Под неуютным ленинградским небом, Где мы писали на листах анкет: «Не состоял, не привлекался, не был». Но состоял я, числился и был, Среди голодных, скорбных и усталых Аборигенов шумных коммуналок, Что стали новоселами могил. И знаю я – какая ни беда Разделит нас, народ сбивая с толка, Что вместе с ними я стоял всегда И никуда не отходил надолго. 1995Шестидесятники
Некрасов, Добролюбов, Чернышевский, Дорогу в революцию нашедший, Что делать знавший и с чего начать, О вас все чаще думаем сегодня, — На вас благословение Господне И каинова вечная печать. Те приступы историобоязни, Что после привели к гражданской казни, Уже не могут кончиться добром. Царей и царств нарушена отрада. Ах, Николай Гаврилович, не надо Заигрывать с крестьянским топором! Еще откушав утреннего чая, Торопится в гимназию Нечаев. Глядит Желябов в узкое окно. Готовит динамит Спарафучиле. Фабричных маловато. Как учили, Восстание, увы, обречено. В двадцатом веке, где иные нравы, Где битвы посерьезнее Полтавы, И не сдержать взбесившихся коней, Не сладко от соленой вашей каши. К сороковым вернуться бы, но наши Сороковые ваших пострашней. Мы идеалом движимы единым, Но пахнут разложением и дымом Обочины проторенных дорог. Мы связаны одною светлой целью, Через века протянутою цепью, И наше место – Нерчинский острог. 1995«Не убежишь от Господня гнева…»
Не убежишь от Господня гнева, Топкая тундра, Москва ли, Киев. Через какие ворота в небо? — Так ли уж важно – через какие? Молча кончину свою приемлю, Не возражая и не тоскуя. Через какую траншею в Землю? — Так ли уж важно – через какую? От долголетия мало толку. Черные ветер разносит метки. Листьям последним дрожать недолго На опустевшей холодной ветке. Ступим ногой в ледяное стремя В робкой надежде достичь покоя. Через какое забудут время? — Так ли уж важно – через какое? 1995Содом
Из Содома трудно убежать, — Бегство не приносит утешенья. Падший род не возродить опять Горькою ценой кровосмешенья. От тоски не вылечить земной Ностальгией тронутые души. В океан отправившийся Ной К недалекой возвратится суше. Из Содома некуда бежать, — На Синай пойдешь или в Двуречье, Всюду за чертою рубежа Навыки иные и наречья. Всюду лихоимство и беда, Жизнь недолговечна и убога. Просто на другие города Не хватает времени у Бога. Из Содома убежать нельзя На потребу собственной утробе. Здесь лежат безмолвные друзья Под седыми плитами надгробий. Он молчит, по-утреннему тих, Город, где свое узнал я имя, Где грехи ровесников моих Незаметно сделались моими. Мне приятен свет его огня, Дым его, губительный и сладкий. Если бросить вздумаешь меня, Уходи, но только без оглядки. Он горит под сердцем, как ожог, В каждом слове и во вздохе каждом. Видимо, придется нам, дружок, Разделить судьбу его сограждан. 1995Колымская весна (песня)
Памяти жертв сталинских репрессий
Потянуло теплом от распадков соседних, И каймой голубой обведен горизонт. Значит, стуже назло, мой седой собеседник, Мы холодный с тобой разменяли сезон. Нам подарит заря лебединые трели, Перестанет нас мучить подтаявший наст. Пусть болтают зазря о весеннем расстреле, — Эта горькая участь, авось, не про нас. Станут ночи светлы, и откроются реки, В океан устремится, спотыкаясь, вода. Нам уже не уплыть ни в варяги, ни в греки. Только сердце, как птица, забьется, когда Туча белой отарой на сопке пасется, И туда, где не знают ни шмона, ни драк, Уплывает устало колымское солнце, Луч последний роняя на темный барак. Нас не встретят друзья, не обнимут подружки, Схоронила нас мать, позабыла семья. Мы хлебнем чифиря из задымленной кружки И в родные опять возвратимся края, Где подушка бела и дома без охраны, Где зеленое поле и пение птиц, И блестят купола обезлюдевших храмов Золотой скорлупою пасхальных яиц. 1995Чеченская война
Умирать, не дождавшись света, не хочется никому, — Даже, если необходимо, все-таки неохота. Над обрубками черных веток птицы кричат в дыму, Неуместные среди дыма, как в горах морская пехота. Начинается вновь экскурсия по лермонтовским местам, — Валерик, огнем опаленный, снежный отрог Казбека. Депутаты горланят бурсою, хотя караул устал. Танковой бронеколонне город не взять с разбега. Значит надо вновь эскадрильям и сухопутным полкам Отправлять к мусульманскому Богу наших недавних братьев. Это прежде звалось «герилья». Нельзя покорить вулкан, Даже поставив ногу в засыпанный пеплом кратер. Иностранные корреспонденты кричат в телефонную сеть. Продолжается наступление. Дудаев не арестован. Неубитым некуда деться, убитых некуда деть. По аулам кавказские пленники бродят, как у Толстого. И пылают стальные уродины на перекрестке дорог, И стоят часовые у знамени возле комендатуры, А урок повторения пройденного снова идет не впрок, Не укрепляя знания русской литературы. 1995«Я не люблю железных дровосеков…»
Я не люблю железных дровосеков. Становится мне зябко всякий раз, Когда на мне задержатся фасетки Их синеватых литиевых глаз. Ссылаемые и невыездные, Врагов непримиримые враги, Мы все за их старания должны им, — Я, вероятно, более других. Поскольку не был жертвою гонений, Не обличал неправого суда. Куда мне до не знающих сомнений, Не ведающих страха и стыда? Я не герой, я из другого теста. И все-таки не сетую на то, Что не дарован мне судьбою вместо Больного сердца пламенный мотор. Что пережил и штормы и грозу я, Благих деяний не умножив том, Дорогу никому не указуя Негнущимся заржавленным перстом. 1995«Проснешься за полночь, – так жить невозможно и страшно!…»
Проснешься за полночь, – так жить невозможно и страшно! Глухою порою, на стук неожиданный выйдя, Трясешься у двери в халате ночном нараспашку, Нелепый и жалкий, и всем ненавистникам виден. Чем меньше осталось, тем каждый мучительней повод Ухода бояться от жизни своей окаянной, — Тугой телефонный на шее почувствовать провод, — Страшнее всего быть утопленным в собственной ванной. И пот на глаза наплывает, холодный и липкий, Мерещится шорох, и сердце опять прихватило. Не соколу в небе завидуешь ты, а улитке, Что спит незаметно в качании вязкого ила. Зачем так усердно, намылив поклонами холку, Пугаясь разбоя и слухов про новые войны, Настырная старость все клянчит у Бога страховку, Стараясь добиться гарантии смерти спокойной? Так в воду холодную нехотя входит купальщик, Не прыгнув с разбега, а шагом, как некогда сам я, Всей зябкою кожей – от носа до кончиков пальцев, Предчувствуя в страхе ее ледяное касанье. А жизнь на рассвете лучами осенними брезжит, И капли на стеклах – подобье цветных инкрустаций. Как не было силы достойно прожить ее прежде, Так нету и мужества вовремя с нею расстаться. 1995«В краю, где одиннадцать месяцев стужа…»
В краю, где одиннадцать месяцев стужа, И буднично прикосновенье беды, Вхождение в реку одну и ту же Зависит от температуры воды И ее экологии. Ностальгия — Тоска по юности. Это бред По раю, в котором живут другие. А ты туда не вернешься, нет. Куда возвратишься – в сороковые? В голодный вымерший Ленинград, Где дом снарядом пробит навылет, И трупы заснеженные лежат? Или в начало пятидесятых, Пору поцелуев и белых ночей? Там в окнах маячит портрет усатый, Кричат газеты о «Деле врачей». Земному послушное ускоренью, Стремительно падая с высоты, Ревущим потоком несется время, Обрушивая за собой мосты. С рожденья и до скончания века Не сыщешь спокойные времена, Вторично не сунешься в эту реку, — Опасна река, и вода черна. 1995«Всем домам на Неве возвратили теперь имена…»
Всем домам на Неве возвратили теперь имена Обитателей прежних, повесив табличку на каждом, Чтобы в нынешний век про своих знаменитых сограждан Вспоминала с надеждой печальная наша страна. Здесь отважный Кутузов в Двенадцатом грозном году Ночевал перед тем, как пути перекрыть Бонапарту, Баснописец вальяжно посиживал в Летнем саду, Каракозов летел, поспешая к смертельному старту. Покоритель Кавказа свои ордена надевал На прием к Государю, позавтракав в собственном доме, И курчавый проказник влезал под австрийский диван, Рандеву дожидаясь с графиней лукавою Долли. А про нас, безымянных, никто и не вспомнит потом, — Наши скромны деянья, чины или звания низки. Имена наши канут в архивы жилищных контор По местам проживанья, согласно забытой прописке. Да и правда ли, полно, что в городе этом и ты Появился и рос, над Невою бродил до рассвета? К небу, светлому в полночь, ладони воздели мосты, Задавая вопрос, на который не будет ответа. 1995Эхо
Поиски рифмы, поэтов пустая потеха, Первооснова общения раннего с миром, Поиски нимфы с причудливым именем «Эхо», Пану лесному не раз изменявшей с сатиром. Поиски женщин – проблема не слишком большая: Черных и белых их оптом бери и поштучно. Поиски женщины – сна и покоя лишают, Чтобы тебе навсегда оказалась созвучна. Леса щетина, решетка осеннего сада, Горные кручи с поверхностью каменной голой, — Чем ощутимее ждущая рядом преграда, Тем полнозвучней тебя окликающий голос. Крикнешь: «Тоскливо!», а эхо откликнется: «Слива». Крикнешь: «Не любит!» и «Люди» – услышишь в ответе. Теннисным мячиком взад и вперед прихотливо Носятся, тая, созвучия близкие эти. Нет одиночества в мире, покуда пространство Нам откликается в древней спасительной роли Друга и спутницы, голосом тихим и страстным, Отзывом точным всегда отвечая паролю. 1995Снятие блокады
Уцелевшие чудом на свете Обживали весною дворы Ленинградские нищие дети, Иждивенцы блокадной поры. По-зверушечьи радуясь жизни, Что случайно была продлена, Мы о бедах своих не тужили, Из немытого глядя окна. Там пузатые аэростаты, Как слонов, по асфальту вели, Свежий мрамор закопанных статуй Доставали из вязкой земли. И белея плечами нагими, На спасителей глядя с тоской, Из песка возникали богини, Как когда-то из пены морской. Там в листве маскировочной сетки, Переживший пилу и пожар, Расправлял поредевшие ветки Как и мы, уцелевший бульвар. На безлюдные глядя аллеи На залива сырой окоем, Я о прожитых днях не жалею, О безрадостном детстве своем, Где не сдох под косой дистрофии, Пополняя безмолвную рать, Персонажем в прокрученном фильме, Ничего не успевшим сказать. Лучше в тесной ютиться коробке И поленья таскать в холода, Чем в болотной грязи Пискаревки Догнивать без креста и следа, С половиною города рядом, Возле бабы с осанкой мужской, Под ее немигающим взглядом, Под ее равнодушной рукой. 1995Прощай, оружие
Избежавший по случаю в детстве блокадных могил, Собиравший патроны под Вырицей каждое лето, Разбирать я винтовку на школьных уроках любил И во влажной ладошке сжимать рукоять пистолета. В экспедициях долгих, в колючей полярной пурге, В заболоченной тундре, в глуши комариной таежной, Я привык на ходу ощущать самодельные ножны, И ружейный приклад, ударявший меня по ноге. Нам давали оружие в поле с собой, что ни год, Положение наше в краях необжитых упрочив, — «Парабеллум» немецкий, российский наган-самовзвод, Карабин трехлинейный мне нравился более прочих. Я его на привале к сухим прислонял рюкзакам, Засыпал по ночам с вороненою сталью в обнимку. Из него я палил по напившимся в дым мужикам, Что явились насиловать нашу коллекторшу Нинку. Я патроны казенные в каждом сезоне копил, — Мне давала завод эта сила холодная злая, Но отец мой однажды сложил их в авоську, гуляя, И подсумки с патронами в ближнем пруду утопил. И распродал я ружья, доставшиеся с трудом, А наборные финки друзьям раздарил я по пьяни, Поручая себя уготованной свыше охране, От ненужных предметов очистив пустеющий дом. И когда засыпаю, усталых не чувствуя ног, Доживающий старость в пору крутизны оголтелой, Не дрожит от испуга защиты лишенное тело, Не колотится сердце, и сон мой спокойный глубок. 1995«Полагаться нельзя на всесильным казавшийся разум…»
Полагаться нельзя на всесильным казавшийся разум В час, когда холода засыпают листвою аллею. Я летящего ангела в небе не видел ни разу И об этом немного на старости лет сожалею. Видел лишь неподвижных – на шпилях и на колоннадах Петербургских соборов и фресках Сикстинской капеллы, Но с надеждой наивной слежу я слабеющим взглядом За вскипающим краем светящейся облачной пены. Я ловлю под ногами теней их скользящие пятна, Кверху голову вскинешь – кружит одинокая птица. В реактивный наш век тихоходны они вероятно, Но не знающим времени некуда торопиться. В вечереющей Лавре, безлюдной юдоли печали, Оставляя венок у подножия мраморной глыбы, Вверх взмывают они белоснежным подобием чаек, Унося с собой души, трепещущие, как рыбы. Не с того ли все явственней брезжат из памяти смутно В довоенном окне куполов золоченые соты, И как в детстве далеком меня пробуждает под утро Страх падения вниз и счастливое чувство полета? 1995«Когда на тебя сурово / то птицы глядят, то рыбы…»
Когда на тебя сурово то птицы глядят, то рыбы, А бездна или вершина торопит тебя вперед, Тебе не вернуться снова в исходную точку, ибо Земля уже совершила положенный оборот. Ты замолкаешь смущенно, о брошенном вспомнив доме. При ветре скорость горения увеличивается – пусть. Биение учащенное твоей загустелой крови Опережает времени невозмутимый пульс. Разрыв этот тем ощутимей, чем меньше тебе осталось В туман чужих побережий смотреться, глаза слезя. Заросший седой щетиной, узнаешь уже под старость, Что дважды в одни и те же двери войти нельзя. В плывущем по кругу круге не отыскать начала, Дня не догнать вчерашнего, странствия возлюбя. Не доверяй подруге, которая ждать обещала, И никогда не спрашивай, будут ли ждать тебя. Каждые проводы в чем-то подобны гражданской казни: Стоишь, провожающих мучая, для них уже не жилец, С улыбкою обреченной летчика-камикадзе, Которому дали горючее только в один конец. 1995Тригорское
Опять опаздывает почта, Трещит замерзший водоем. Но путешествие в Опочку! Но речи в уголку вдвоем! Зизи, Анета и Алина, Короткий день и вечер длинный, В альбоме звонкая строка. Ликуй, уездный Мефистофель, — Холодный ждет тебя картофель С утра и кружка молока. Безлюдный дом убог, как хата, Сенная девушка брюхата, Печурка не дает тепла, Окошко снег бинтует липкий, Старуха, клюкнувши наливки, Уныло песню завела. Воюя с собственною тенью, Как разобщить тугие звенья Паденья вниз, полета ввысь? Запомнить чудное мгновенье И повелеть ему: «Продлись»? Недолгий срок тебе отпущен. Да будет жизнь твоя легка, Покуда заплутавший Пущин В ночи торопит ямщика. Пока тебя оберегает Союз бутылок и сердец, Пока нутро не прожигает Дантесом посланный свинец. 1995«Была ли Атлантида или нет?…
Была ли Атлантида или нет? Профессор греческий внимает мне серьезно. Ночное небо летнее беззвездно. Струится в комнату холодноватый свет С залива Финского. Отвечу, что была, И положу на стол морскую карту, И подчиняясь детскому азарту, Подводный опишу архипелаг, Который наблюдал через стекло Иллюминатора в подводном аппарате, Где, помнится, дышалось тяжело, И фотопленку попусту потратя, Я рисовал старательно затем Все то, что в полутьме доступно глазу, — Руины башни, лестницы и стен, — И сам поверю своему рассказу. Ведь этот старый выдумщик Платон, Сократом уличенный в фантазерстве, Не мог с Солоном разделить позор свой, Воспоминаний завершая том. За окнами становится темней. Нас осеняет общая идея Легенды допотопной. Перед ней Ни эллина уж нет, ни иудея. И проявив научное чутье, Из фляги греческой некрепкое питье, Мерцающее в сумерках, как пламя, Мы разольем, поднявшись над столами, И выпьем, чокнувшись, за гордый флаг ее, За детство, что у каждого свое, За прошлое, утраченное нами. 1995Банковский мостик
Непросто пролог отличить от финала, — Все так же звенит под ногою булыжник, И можно, склонившись над краем канала, Подумать, что время стоит неподвижно, Баюкая темных домов отраженья, И снова мы мальчики, а не мужчины, Над мутной водою, лишенной движенья, В которой свои не увидишь морщины. Над гаванью близкой кричат альбатросы, И ветер приходит на прежние круги. Грифоны, зубами зажавшие тросы, Недвижно сидят, отражаясь друг в друге. И вновь под рукою, как в школьные годы, Крыла золотого поверхность литая. Не все улетели от хмурой погоды, — Вот звери крылатые не улетают. Неправда, что входим мы лишь однократно В бегущую воду, – не дважды, не трижды, — Всего-то и дела – вернуться обратно В число отражений ее неподвижных. Всего-то и дела – вглядеться получше В глубины зеркал, где над золотом шпицей В мохеровом облаке солнечный лучик Мерцает забытой в вязании спицей. 1995Эксодус
Время европейского еврейства Миновало. После Холокоста В Англии не занимать им место, Не торчать у Польши в горле костью. В Гамбурге не хвастаться товаром, В Кордове не строить синагогу, Никому – ни молодым, ни старым, — Все они исчезнут, слава Богу! Вдаль плетется скорбная колонна, Бормоча под нос себе молитвы. Так когда-то шли из Вавилона, А потом бежали из Египта. Снова их сгоняет с места некто, Кто испачкал пальцы в этом тесте, — Так приходит время континентам Расходиться и сходиться вместе. Друг у друга спрашивают люди, Глядя им в затылки безучастно: «С кем теперь советоваться будем? На кого валить свои несчастья?» А в музейных залах слышен ропот, — Там картины покидают рамы, И стоят на площадях Европы Без крестов оставшиеся храмы, Словно человек, лишенный платья, На ветру осеннем холодея. И Христос, покинувший распятье, В пыльную уходит Иудею. 1995«Над простреленною каской…»
Над простреленною каской Плачет мать в тоске вселенской От Германской до Афганской, От Афганской до Чеченской. Пепел кружится, рассеян, Над размытыми путями. Злая мачеха Расея, Что ты делаешь с дитями? Для того ли их кормили Сбереженными кусками, Чтобы к братской их могиле Мы тропиночку искали? Нет житья с добром и лаской, Нету счастья доле женской, От Германской до Афганской, От Афганской до Чеченской. Опечаленные лица, Звуки сдержанного мата, Пыль дорожная клубится Возле райвоенкомата. Для солдатской службы честной Будут мальчики рождаться От Афганской до Чеченской, От Чеченской до Гражданской. 1995«Не удержать клешнею пятипалой…»
Не удержать клешнею пятипалой Урус-Мартан мятежный и Самашки. Империи, которая распалась, Не по плечу имперские замашки. И сонная не ведает страна, Что не в Чечне главнейшая потеря, А в армии побитой, что страшна, — Куда страшней подраненного зверя. И покидая Терек или Вахш, Вооруженной уступая силе, Она реализует свой реванш На безоружных жителях России. 1995«Покинув дом и проклиная век свой…»
Покинув дом и проклиная век свой, Из Питера сбежишь или из Польши, Недалеко уйдешь от места бегства, — Сто восемьдесят градусов – не больше. Земля мала. Ее узнав поближе, Не различишь, где тропики, где вьюга. В Нью-Йорке, Тель-Авиве и Париже, Ты всюду на дуге большого круга. Земля кругла. Среди другого быта, Страну приобретенную любя, Не убежишь от песни позабытой, От Родины и самого себя. Земля кругла. И все перемещенья, По теореме Эйлера бесстрастной, Вращения. И тема возвращенья Заложена в условие пространства. 1995Бостон
И. и С. Кашиным
Мы узники географии. В талом Снегу припортовым бредем кварталом, Стараясь вырулить в Чайна-таун К ресторанчикам с надписями «Си Фуд». Европы сторожевым форпостом, В чередовании улиц пестром, Вокруг поворачивается Бостон, Перемещаясь за футом фут. Это еще не Америка. Старый Свет здесь представлен пустою тарой Из-под таможни, сырой отарой Облаков, бегущих издалека Над океана сияющей лентой, Разобщившей некогда континенты, Как утверждал это Вегенер некто, Чье имя переживет века. Переселенцы, оставим пренья, — В мире всеобщего ускоренья, Затуманенным ностальгией зреньем Не то увидишь, на что глядел. Если Европу с Америкой сдвинуть, Соединив, как две половины Яблока, – в самую середину Бостона угодит раздел. Не потому ли в раздумьях над тостом, Соусом поперхнувшись острым, В контурах зданий Васильевский остров Видишь за окнами вдруг, В зале, где саксы, евреи, непальцы, Вышитые на разных пяльцах, Переплетаются, словно пальцы Соединившихся рук? Там – за знакомыми с детства домами, Словно за сдвинутыми томами, В сеющейся атлантической манне, Твой обрывается след. Так грозовое дыханье озона Снова напомнить могло Робинзону Остров его – каменистую зону, Столько унесшую лет. Слово «юнайтед» рюмахой уважив, В небе с потеками дыма и сажи, Разные мы созерцаем пейзажи Из одного окна, Объединенные общей тоскою, Жизнью единою городскою, И гробовой недалекой доскою, Где будут разные письмена. 1995«Художник, склонясь над гравюрой…»
Рудольфу Яхнину
Художник, склонясь над гравюрой, Старинные режет суда. Под ними поверхностью бурой Мятежная дышит вода. Их реи мелькают, как спицы, Сшибая звезду на лету. Над ними безумная птица Несется, крича, в темноту. Художник на черной картине Старинные строит суда. Растет стапелей паутина, Кипит трудовая страда. Над Новоголландскою верфью, Где гости гуляют и пьют, Роняя цветы фейерверка, Взлетает победный салют. И сам я стою, как привязан, От автора невдалеке, Завидуя точному глазу, Уверенной этой руке. Мне слышится ветра музыка, И чаек прерывистый плач, А ночью приснится Языков И море, лишенное мачт. 1995Дельвиг
Мечтатель, неудачник и бездельник, Я обращаюсь памятью к тебе, Стеснительный и неумелый Дельвиг, Мой старший брат по музам и судьбе. В асессоры ты вышел еле-еле, Несчастлив был в любви и небогат, Прообразом для Гоголя в «Шинели» Ты послужил, сегодня говорят. Но в мелкий дождь и в зимние морозы, Народ застольный распевает, пьян, О молодце, что проливает слезы На свой расшитый бархатный кафтан. Себе навек твои присвоив строчки, Отца не вспоминающий и мать, Тебя он тоже позабудет прочно. Ему, народу, в общем наплевать, Что пить, что петь. Он выпьет что придется, Добавит снова и хлебнет кваску, И горестная песня инородца Разбередит российскую тоску. 1995«Все города, стоящие у моря…»
Все города, стоящие у моря На плоской суше, в сущности, похожи — Сырою и промозглою зимою, Зонтами неулыбчивых прохожих, Вечерним отражением в каналах, Где ароматы гнилостные стойки, И без труда отыщется аналог Канала Грибоедова и Мойки. И все яснее видится с годами Родного дома сумеречный абрис, Хотя в Нью-Йорке или Роттердаме Искать нелепо ленинградский адрес. Возможно дело не во внешнем виде, Когда, начав от смога задыхаться, Не понимаешь, к набережной выйдя, Нева перед тобою или Хадсон. На Пятой линии, на Пятой авеню ли, Где в темноте неразличимы лица, Где зябко в марте, тягостно в июле, Стоишь, и время безразмерно длится. К местам далеким стоило ль стремиться, Чтобы они назад тебя вернули? Все города, стоящие у моря, Неразделимо молоды и стары. Прямая отрезается прямою, И торжествуют перпендикуляры. Здесь новоселам заблудиться трудно, А здания, дворцы и монументы Стоят, как бы высматривая судно, — Лицом к воде, спиною к континенту. Поскольку набегающие воды И крики чаек в самолетном гуде Рождают ощущение свободы, Которой нет и, видимо, не будет. 1995«По-русски воля – дикое пространство…»
По-русски воля – дикое пространство, Где время неподвижное – не в счет. Как Волга – незаметно и бесстрастно Течет пространство – время не течет. Все можно отобрать, но языка Отнять нельзя. Он не сродни латыни. Он растворить сумеет за века Немецкий сленг, каракули Батыя, И греческих монахов письмена, Церковный слог смешав с татарским матом. Словесности российской каждый атом Звенит во мне, как медная струна. Словам здесь вольно дышится любым. Угрюмым ненавистникам переча, Я их не переспорю, но и им Меня не отлучить от этой речи. Мне говорят: «Спасайся и беги С чужой земли, с ее дороги торной». Словесность же российская просторна, — Ее не в силах заселить враги. На юге пыль, на севере снега, Моря налево и тайга направо, И сколько бы ни хапнула держава, Всегда найдешь, куда уйти в бега. 1995«Относителен возраст. «Старик Геккерен», – говорим…»
Относителен возраст. «Старик Геккерен», – говорим. Старику Геккерену тогда было сорок четыре. Продолжительность жизни в античном безъядерном мире В сорок лет устанавливал грозный дотошливый Рим. Мы с начальницей в поле в одном ночевали мешке. Мне семнадцать, ей тридцать, – чего было надобно, дуре? Продавщица вчера в овощном мне сказала ларьке, Подавая авоську: «Возьмите картошку, дедуля». Относителен возраст. Заздравную рюмку налей. Помнишь, пили мы в юности за окончанье семестра? В современном спектакле не знать нам заглавных ролей, Для отцов благородных у нас не хватает семейства. Мы уходим со сцены, и зрители любят не нас, А других персонажей. Мы все незаметней с годами. «За добавленный месяц, добавленный день или час, — Говорил мне отец, – должен Богу ты быть благодарен». Я ему благодарен и роли не требую впредь, — Пусть уже из кулисы, – другого желания нету, Мне позволит дослушать, дочувствовать и досмотреть Этот акт, этот выход, последнюю реплику эту. 1995«Этот край, навек запавший в сердце…»
Этот край, навек запавший в сердце, Где метели буйствуют, метя, Что здесь привлекало иноверцев, Иноземцев, инопланетян? Капища с лесными Перунами? Черная задымленная клеть? «Приходите и владейте нами», — Не дай, Боже, вами володеть! Ремешком перепоясать лоб свой, Тощие выпрашивать куски, И вкусить от вашего уродства, Злобы неоглядной и тоски. Разговоров о Четвертом Риме, Утвари соборов и палат. Всё, что есть хорошего, отринут, Прогуляют, выкинут, спалят. А потом, смирив на время норов, Будут снова в поисках идей Приглашать заморских гувернеров, Пастырей, строителей, вождей. Так злодей, глаза потупив чинно, Топоры упрятав под рядно, В дом зовет заезжего купчину, Где уже отравлено вино. И храпит от ярости и боли Седоком не укрощенный конь, И кружится над Москвою «Боинг» Бабочкой, летящей на огонь. 1995«Российской поэзии век золотой…»
Российской поэзии век золотой, — Безумного Терека берег крутой, Метель над Святыми Горами. Смертями великими он знаменит, И колокол заупокойный звонит В пустом обезлюдевшем храме. Поэзии Русской серебряный век, — Саней по заливу стремительный бег, Рассвет на Ивановской башне. Расстрельною пулей пробитый висок И лагерной пайки голодный кусок Тот день обозначат вчерашний. А бронзовый век наступает теперь. Каких от него ожидаем потерь В сравнении с теми веками? У музы про эти спроси времена, И молча в тоске отвернется она, Лицо закрывая руками. 1995Песня о подземных музыкантах (песня)
В теснинах метро, где неясно, зима или лето, Над пеной людской, в электрической тусклой ночи Звенит болеро, и поют под гитару поэты, Усталой рукой обнимают металл трубачи. Их лица землисты, а их имена неизвестны. Что кажется внове, возможно, назавтра умрет. Но эти артисты относятся к публике честно, Поскольку за номер не требуют денег вперед. Покинув уют, по поверхности каменной голой, Толпою влеком, я плыву меж подземных морей, Где скрипка поет и вещает простуженный голос О детстве моем и о жизни пропащей моей. Аккорд как постскриптум, – и я, улыбаясь неловко, Делящий позор с обнищалой отчизной моей, В футляр из-под скрипки стыдливо роняю рублевку, Где, что ни сезон, прибавляется больше нулей. Пусть правит нажива, дороже еда и одежда, Правители лживы, и рядом бушует война, — Покуда мы живы, еще существует надежда, Покуда мы живы, и музыка эта слышна. И люди в надежде бегут по сырым переходам, Тому, кто поет, не давая взамен ничего. И снова, как прежде, искусство едино с народом, Поскольку живет на скупые подачки его. 1995«У защищенных марлей окон…»
У защищенных марлей окон, На подмосковной старой даче (Две комнатушки и терраса, На лето взятые внаем), Себе признаюсь ненароком, Что мог бы жизнь прожить иначе, — Жаль лет, потраченных напрасно, С тобой не прожитых вдвоем. Недугом медленным затронут, Но им пока еще не сломлен, Припомнив о сыновнем долге У края каменной плиты, Я проследить пытаюсь хроны Своей безвестной родословной, Мой путь наметившей недолгий От темноты до темноты. Здесь третьим не был я к поллитре, А был всегда я третьим-лишним, На землях, глинистых и вязких, Которых не было родней. Я краска из другой палитры, — Так уготовано Всевышним, И нет в крови моей славянских Болотных северных корней. Сохой не вспарывал я землю, Не рыскал с кистенем по чаще, И коршун, над Каялой рея, Не трогал моего лица. Я мутного хмельного зелья Из белой и округлой чаши Не пил, поскольку у евреев Не пьют из черепа отца. Что проку мне в степной полове, В речонках узеньких тарусских, В напеве песни однозвучной, Что с детства в памяти жива? Мой дед в губернском Могилеве Писал с ошибками по-русски, Мои израильские внучки Забудут русские слова. Я вывих древа родового, Продукт диаспоры печальной, Петля запутанной дороги, Где вьюга заметает след, Но Бог, что был вначале Словом, Дал здесь мне воздух изначальный, И сочетанье звуков в слове, Которому замены нет. Не быть мне Родиной любимым, Страны не знать Обетованной, Но станут в час, когда я сгину, Замучен мачехою злой, Строка моя, смешавшись с дымом, Российской песней безымянной, А плоть моя, смешавшись с глиной, Российской горькою землей. 1995Приглашение к плаванию (песня)
Владимиру Туриянскому
Соленой метлой заметает вода Концы и начала историй. Но в голову мне не придет никогда Назвать переборку стеной. Компания «Ллойд» не страхует суда, Выходящие в пятницу в море, — Мы выйдем в субботу навстречу годам, Бегущим волна за волной. Дырявая память – надежный компас — Ведет нас по картам затертым. Растерян в тавернах былой экипаж, Утрачен журнал судовой. Барометру падать. Не вздумай хоть раз Подставиться прошлому бортом! — Иначе, наверно, концы ты отдашь, Нырнувши в него с головой. И все-таки вспомним про юную прыть, — Былые свои увлеченья. От суши ногой оттолкнешься разок — И станешь опять молодой. Пускай далеко не сумеют уплыть, Гребущие против теченья, — Плывущие только ему поперек Не сносятся темной водой. Не верю советам других стариков, С кем соли не связывал пуд нас. За день в океане я месяц отдам Обыденной жизни земной. Для судна, что встало на вечный прикол, Ветров не бывает попутных. Мы выйдем в субботу, навстречу годам, Бегущим волна за волной. 1995«Античные года / наивная страна…»
Античные года, наивная страна, Где парки режут нить над погребальным хором. Там алгебра всегда с гармонией дружна, И трудно разлучить Софокла с Пифагором. Струится тихий звон от параллельных струн. Строкою ставший звук – теории источник. Еще не разделен окрестный мир и юн, И нету в нем наук ни точных, ни неточных. Незыблем их союз, – неточно все пока. Представить я могу июньский полдень жаркий, Где все двенадцать муз плывут в руке рука, Как в бронзовом кругу на павловской лужайке. 1995Крест
Юлию Киму
Минувшие даты разбавленным спиртом запей В Норильске далеком, что стал недоступен и лаком, И вспомнишь тогда ты про крест из чугунных цепей, Что смотрится сбоку большим вопросительным знаком. Он в местном музее стоит, неприметный на взгляд, Безмолвный вопрос к уходящему нашему веку. Его ротозеи скорей обойти норовят, — Не требует слез монумент неизвестному зэку. Экстаз экспедиций. Мечтателей юных орда. Рюкзак за спиною. Со спиртом тяжелая фляга. Не знали мы в лица погибших в былые года Расстрельной весною в кромешных потемках ГУЛАГа. Мы молоды были, а молодость к бедам слепа. Изловленный хариус был после выпивки сладок, И мы позабыли, как плыли весной черепа По речке Сухарихе около наших палаток. Среди этих мест поминальных не ставят церквей, — Лишь вьюги слепящей холодное сеется просо. Здесь памятный крест из заржавленных склепан цепей, Что сбоку смотрящему видится знаком вопроса. Кто может ответить на этот железный вопрос? Какой нам синоптик предскажет на завтра погоду? Крепчающий ветер и цепкий таймырский мороз Царапают ногтем в базальт обращенную воду. И с чувством любви, вспоминая об этих местах, Я вижу во мгле, на рядне снегового экрана, То храм на крови, то бревенчатый храм на костях, То храм на золе. Да на чем еще русские храмы? 1995Памятник Петру I
Михаил Шемякин
Взирает ангел свысока На пятигранный камень. Там лысый царь без парика, С костлявыми руками, Сидит, расставив башмаки, С убитым сыном рядом, Уставив в подданных зрачки Полубезумным взглядом. Его глаза вгоняют в дрожь, — Куда от них податься? Он худобою черной схож С блокадным ленинградцем, Тянувшим из последних сил И прятавшимся в щели, Что, как и он, не выносил Просторных помещений. Без парика и без венка, Что Фальконетом выдан, Бритоголового зэка Напоминая видом, Сидит он, подлокотник сжав, Над хмурою Невою, — Судьбы печальной горожан Пророчество живое. 1995Кремль
Этих звуков не переведет толмач, Живописец не подберет мазков сих. Здесь кресты церквей, как верхушки мачт Кораблей, застрявших в снегах московских На зимовку. Весною растает лед, И они разойдутся, роняя блики. Храм Архангельский к северу поплывет, Устремится к югу Иван Великий. В океане пустом – среди гиблых мест, Где тайфуны воду вкрутую месят, Оглянись вокруг и увидишь крест, — Не натянешь парус на полумесяц. А пока под метелями борт о борт Всё стоят, своего ожидая часа, Корабли, населившие зимний порт С маяком на башне Святого Спаса. Если жизнь сухопутная тяжела, И тоска земная тебе обрыдла, Приходи сюда, где колокола Отбивают часы судовою рындой. К небу голову запрокинь слегка, И над храмами поплывут, качаясь, Парусами ставшие облака И кричащие негативы чаек. 1995«Понятия начала и конца / Неприменимы к Северу…»
Понятия начала и конца Неприменимы к Северу, – не вдруг Здесь гаснет свет, а меркнет постепенно. Здесь два бревна из одного венца Определяют квадратурой круг, Как край воды определяет пена, И, оставляя в поднебесье звук, Стай треугольники смещаются на юг, Спускаясь по невидимым ступеням. Распад горения, – о нем не позабудь; Прерывность времени, – возможно, в этом суть, — Она сложней, чем в школьной теореме. Конец пути еще, конечно, путь, А времени конец – уже не время. В Земле библейской все совсем не так. Там не бывает сумерек, и мрак Приходит сразу, так, что сердце стынет, Когда ныряет огненный пятак В копилку раскаленную пустыни. И, завершив очередной лубок, От света тьму, чтоб точно различать их, Односекундно отрубает Бог, Нашаривший рукою выключатель. 1996«Фотографии старые блекнут с годами…»
Фотографии старые блекнут с годами. Я бы рад показать их, – да только кому? Это бухта Нагаевская в Магадане, Это практика летняя в южном Крыму. В проявителе времени тонут, нестойки, Миловидные лица далеких подруг. Вот наш класс выпускной перед школой на Мойке, Вот я сам, в батискафе откинувший люк. Для чего, покоряясь навязчивой моде, В объектив я ловил уходящую даль? Фотоснимки и слайды дымятся в комоде. Их бы выбросить надо, а все-таки жаль. Проржавели суда, и закаты потухли, Поразбрелся и вымер смеющийся люд. Это выкинут все, как ненужную рухлядь, Новоселы, что в комнату после придут. Но пока еще лампы медовые нити Сохраняют накал, занавесив окно, Я листаю альбомы, единственный зритель, И смотрю своей жизни немое кино. 1996Тымера
Когда разгораются темным подобьем костра На вянущем склоне рябины багряные кисти, Мне вновь вспоминается злая река Тымера, Что значит дословно «опасная» по-эвенкийски. Сегодня и дня не дано мне вернуться в года Хмельного веселья, похмельного вязкого горя. О камни звеня, убежала в Тунгуску вода, Потом к Енисею, и далее в Карское море. Но явственно, словно все это случилось вчера, В базальтовых скалах поток изогнувшая туго, В ушах моих снова грохочет река Тымера, Где тело искал я пропавшего без вести друга. Когда одинокий, всю жизнь неизменно греша, Явлюсь без гитары в тот край невеселый безлунный, На вечные сроки моя там пребудет душа Больною и старой, – его же – останется юной. Асфальт у ворот запорошило ранним снежком, Серебряный шелк затянул туруханские реки. Кто старым умрет, – так и будет всегда стариком, Кто юным ушел, – молодым остается навеки. 1996Набатея (песня)
Юлию Киму
О, Набатея, ушедшая в небытиё, Камни поют, – ударяясь о гулкие стены. Вспомню во сне я лиловое небо твое В дальнем краю, где снега и дожди неизменны. Искры и гром высекает табун на скаку. Соты гробниц в полыхании жаркого ветра. Тот на своем ничего не увидел веку, Кто не бродил у подножия города Петра. Город зари, предваряющий небытиё. Грифы прилежно над красною кручей кружатся. Мне подари снаряженное ядом питье, Злую надежду в пещере твоей задержаться. Теми местами, где деды и прадеды шли, Общей тропою уйдешь ты и сам, незаметен, Если не станешь сверкающей солью Земли, Темной скалою, багровым песчаником этим. Гавань морей, омывающих небытиё, Горький подсчет, приходящий на смену веселью. Лишь умерев, мы свое обретаем жилье, Жизнь же течет, как течет караван по ущелью. Не потому ли верблюды от пыли белы, Мерно шагая вослед за исчезнувшим Лотом, Входят, сутулясь, в игольное ухо скалы И исчезают навек за крутым поворотом. 1996«Ноют под вечер усталые кости…»
Ноют под вечер усталые кости. Смотришь назад, и не видно ни зги. Мы начинали не с кухонь московских, — С тундры скорее и чахлой тайги, Где на заснеженной лесосеке, Горькую брагу пригубив едва, Песни гнусавили бывшие зэки, Переиначивая слова. Всякий поющий из разного теста, — Возраст иной, и кликуха, и срок, Значит, строку изначального текста Каждый исправить по-своему мог. Там не бывало подзвучки гитарной, — Климат не тот, и закуска не та, Но подпевали припев благодарно Матом измученные уста. И возвращаясь к навязчивой теме Тех позабытых и проклятых лет, Должен делить я соавторство с теми, Кто еще есть и кого уже нет. 1996«Бог не имеет облика земного…»
Бог не имеет облика земного, И не имел в иные времена. Он лишь вначале воплотился в Слово (Неясно только – он или она). Бог не имеет имени, и в этом Секрет любви к столь разным именам. Вавилонянам, иудеям, хеттам Казался он доступнее, чем нам. Невидимо присутствуя за кадром Энергией лучистой световой, Он может солнцем сделаться закатным, И человеком с волчьей головой. То старец в размышлении глубоком Полусекретный сообщит приказ, То треугольным воспаленным оком Засветится нерукотворный Спас. Среди песков и в синем царстве снега Ему модели точной не найти, — Он свет и тьма, он альфа и омега, А мы – лишь часть великого пути. 1996Уроки немецкого
Под покрывалом бархатным подушка, С литою крышечкой фаянсовая кружка, Пенсне старинного серебряная дужка, Мне вспоминаются по долгим вечерам, Агата Юльевна, опрятная старушка, Меня немецким обучавшая словам. Тогда все это называлось «группа». Теперь и вспоминать, конечно, глупо Спектакли детские, цветную канитель. Потом война, заснеженные трупы, Из клейстера похлебка вместо супа, На Невском непроглядная метель. Ах, песенки о солнечной форели, Мы по-немецки их нестройно пели. В окошке шпиль светился над Невой. …Коптилки огонек, что тлеет еле-еле, Соседний сквер, опасный при обстреле, Ночной сирены сумеречный вой. Не знаю, где теперь ее могила, — В степях Караганды, на Колыме унылой, У пискаревских каменных оград. Агата Юльевна, – оставим все, как было, Агата Юльевна, язык не виноват. Спасибо за урок. Пускай вернется снова Немецкий четкий слог, рокочущее слово, Из детства, из-за тридевять земель, Где голоса мальчишеского хора, Фигурки из саксонского фарфора И Шуберта хрустальная капель. 1996«На планете, где нас соблазняют Венера и Бахус…»
На планете, где нас соблазняют Венера и Бахус, Где сменяется лето морозной и вьюжной зимой, Никогда Ахиллес не сумеет догнать черепаху, Никогда Одиссей не сумеет вернуться домой. Не надейся, прощаясь, что снова обнимешь подругу, — Познается несложно разлуки печальный итог. Неотступно вращаясь, Земля улетает по кругу, — Разогнуть невозможно закрученный туго виток. Покидающим дом не дано возвратиться обратно, Волю рока слепого лишь тем от себя отдалив, Что Столбы Геркулеса зовутся сегодня – Гибралтар, А Харибда и Сцилла – Второй Сицилийский пролив. И опять, как в года, где стихий необуздана ярость, Бесконечно пространство, а боги – темны и хитры, Уплывающий вдаль распускает доверчиво парус, Обещает: «Вернусь», и выходит навек из игры. 1996«Сайгон»
Виталию Пурто
За хмурью атлантических морей, Где дом твой новый, и пиджак из твида, И вид на жительство, что заменяет виды, Всплывающие в памяти твоей, Мы над бутылкой желтого питья Вздыхали о поре своей лицейской. За окнами маячил полицейский Добротного каслинского литья, Надвинувший фуражку до бровей, Невозмутимый и молодцеватый. Струился мимо будничный Бродвей, Пересекаясь бурно с Двадцать Пятой. Тот бар, продолговатый, как вагон, И шумное роенье городское, Напоминали питерский «Сайгон» (Его мы называли «Подмосковье», Поскольку выше ресторан «Москва» Был в доме меж Владимирским и Невским). Далекие забытые слова, — Которые сегодня вспомнить не с кем, И ностальгии мутная тоска Сбивает факты, как коктейли миксер, И можно собеседника сыскать За океаном только и за Стиксом. Но если снова соберемся вдруг, То над возможным размышляя спичем, Припоминать мы будем не подруг, Теперь израильтянок и москвичек, Не сумрачные питерские дни В убогом заведении питейном, А зыбкие дрожащие огни, Мерцавшие над Невским и Литейным. 1996Бавария
В Баварии летней, близ города славного Мюних, Мы в доме немецком гостили в начале июня. Там сад колыхался в оконном, до пола, стекле, Дразня сочетанием красок, пронзительно светлых, И фогельхен утром кричали приветливо с веток: «Вставайте, бездельники, – завтрак уже на столе». Плыл благовест тихий от мачты недальнего шпица. Алела нарядно на крышах крутых черепица, Над сбитыми сливками белых по-южному стен. Хозяин в войну был десантником, но, слава Богу, Под Лугой сломал при ночном приземлении ногу, А после во Франции сдался союзникам в плен. Он строил потом водосбросы, туннели, плотины, — Его окружают знакомые с детства картины У жизни в конце, понемногу сходящей на нет. Австрийские Альпы парят вдалеке невесомо, По радио внук исполняет концерт Мендельсона, Упругими пальцами нежно сжимая кларнет. И хмель обретает брожение солнца на склонах Над быстрым Изаром, у вод его светло-зеленых, Вокруг навевая счастливый и медленный сон. И можно ли думать о грянувшей здесь катастрофе Под дивные запахи этого свежего кофе И тихую музыку? Слава тебе, Мендельсон! 1996Рифмы
Рифмованных строчек не будет в поэзии больше. Растаяли рифмы, как тают сугробы весной. Их сотня осталась в России и, может быть, в Польше, А больше не сыщешь на целой Земле ни одной. В Германии нет их, где песни орали ваганты, Во Франции томной, стране куртуазных баллад, В Италии пыльной, где дремлет задумчиво Данте, Покинувший вовремя этот безрифменный ад. На Западе нет, где умел их придумывать каждый, Им в странах Востока уже не звенеть никогда. Так в реках гниет, изводя современников жаждой, Промышленным стоком отравленная вода. Так гибнет Земля, истощив небогатые недра, Подземные клады исчерпав до самого дна. Напрасно поет твой унылый герой, Сааведра, — Его Дульцинее канцона уже не нужна. Поэзия кончилась. Далее следует прочерк, Заржавленный хлам меж собою не связанных строк, И муза гармонии, юбку надев покороче, Уходит на дансинг тяжелый отплясывать рок. 1996«Предназначенный для счастья / Словно страус для полета…»
Предназначенный для счастья, Словно страус для полета, Я взираю безучастно На коричневое фото. Тает город в серой дымке Над помятым документом. Дед на выгоревшем снимке Шарит шорным инструментом. Облачен в очки и фартук, Спину гнет, не зная грусти, Отпрыск горестных сифардов В могилевском захолустье. Там сырою пахнет кожей, Век иной и жизнь другая, И отец трехлетний тоже Что-то держит, помогая. Вот и все, что соберу я Из забытой родословной. Та немыслимая сбруя Развалилась, безусловно. Мне не нужен дедов опыт, — Ремесла его не жаль мне. …А ночами снится топот И заливистое ржанье. 1996«Повернуть к истокам не старайтесь реки…»
Повернуть к истокам не старайтесь реки, С прошлым не проститься нам, громко хлопнув дверью. Общим кровотоком связаны навеки Сталинград с Царицыным и Калинин с Тверью. Запахи квартирные, храмы обезглавленные, Лозунги плакатные, блочные коробки, Петербуржцы мирные почивают в Лавре, Узники блокадные спят на Пискаревке. Кто в своей могиле первым должен сдаться, Поделив обильные горести и славу, Как их поделили Гданьск и прежний Данциг, Вильнюс с прежним Вильно, Вроцлав и Бреслау? Не мечите слово в разговорах страстных, — Нет пути хорошего в этой теореме, — Если можно снова отобрать пространство, То отнять у прошлого невозможно время. Долгая там будет путаница с письмами, Длительные прения в песнях и трудах, Где посмертно люди навсегда прописаны В разных измерениях, в разных городах. 1996«В царство призрачных видений…»
В царство призрачных видений Мы уходим налегке. В мир является младенец, Жизнь сжимая в кулачке. Лишь у края ледяного, В ожидании конца, Разомкнутся пальцы снова, Став ладонью мертвеца. Так написано в Талмуде, Неизменной книге книг. Зимний ветер щеки студит. Нерадивый ученик, Чтобы сердце не болело От похмельного питья, Книгу справа и налево Перелистываю я. Ждут кладбищенские травы. Жизни близится финал, Той, что слева и направо Я бездумно проживал. Спи, дружок, не просыпайся, — В небе месяц молодой. Онемев, слабеют пальцы, Разжимается ладонь. 1996Воробей
Было трудно мне первое время Пережить свой позор и испуг, Став евреем среди неевреев, Не таким, как другие вокруг, Отлученным капризом природы От мальчишеской шумной среды. Помню, в Омске в военные годы Воробьев называли «жиды». Позабыты великие битвы, Неприкаянных беженцев быт, — Ничего до сих пор не забыто Из мальчишеских первых обид. И когда вспоминаю со страхом Невеселое это житье, С бесприютною рыжею птахой Я родство ощущаю свое, Под чужую забившейся кровлю, В ожидании новых угроз. Не орел, что питается кровью, Не владыка морей альбатрос, Не павлин, что устал от ужимок И не филин, полуночный тать, Не гусак, заплывающий жиром, Потерявший способность летать. Только он мне по прежнему дорог, Представитель пернатых жидов, Что, чирикая, пляшет «семь сорок» На асфальте чужих городов. 1996Предсказания
Предсказания все же сбываются, Но не сразу, а только потом. Авиаторы в штопор срываются, Пустоту ощутив под винтом. И поэт, чья судьба уготована, Отомстить не сумевший врагу, От противника белоголового Умирает на красном снегу. Справедливы всегда предсказания. Научитесь читать между строк, Если знать захотите заранее Ваших бед ожидаемый срок. Неизменно за тайной вечерею Наступает похмелье опять, И змея выползает из черепа, Но не скоро, а лет через пять. От Кассандры и до Нострадамуса Все предсказано в завтрашнем дне. Лишь под старость, когда настрадаемся, Понимаем мы это вполне. 1996«Минуту третьей стражи обозначив…»
Минуту третьей стражи обозначив, Кричит впотьмах, полупроснувшись, кочет, И облаков густеющая накипь Скрывает утра бронзовую даль. Двадцатый век в поэзии, что начат Рождением Ахматовой, окончен Внезапной смертью Бродского, лет на пять Опередив привычный календарь. Так полюс отклоняется магнитный От полюса вращения земного, (Все штурмана поправки вводят эти, Когда плывут от берега вдали), Глубинные отображая ритмы, Чтобы потом назад вернуться снова, Биеньем электрическим наметив Смещение вращения Земли. К началу неизвестной новой эры В ином тысячелетии суровом, Куда уводит дымная дорога, Серебряный не продолжая след, Где нет уже наивной нашей веры, И если Бог не остается Словом, То значит, и не будет больше Бога, И нам с тобою тоже места нет. И горькие опережая вести, Балтийских туч непрочные сплетенья Торопятся от Запада к Востоку, Лиловую разматывая прядь, Над сумерками купчинских предместий, Над полуобезлюдевшим Литейным, И василеостровскою протокой, Куда мы не вернемся умирать. 1996«Актер Никулин жаловался мне…»
Актер Никулин жаловался мне Среди холмов Израиля отвесных: Ему, артисту, нестерпимо тесно В библейской этой маленькой стране, Где наизусть изучены давно Одни и те же улицы и лица, И скорость превышать запрещено, Чтобы не оказаться за границей. «Бывало, прилетаешь из Читы, — В Москве – спектакль, назавтра в Минске – проба, Народу – тьма и расстояний – прорва, А здесь все глухо, как под крышкой гроба, — С ума сойдешь от этой тесноты. Здесь тягостно и душно, как в метро, И хочется повеситься порою». Вокруг дышало каменной жарою Вселенной обнаженное нутро. И я смотрел на край лиловых гор Под небом, остывающим и красным, И времени немеренный простор Мне дул в лицо из узкого пространства. 1996«Синдром Хемингуэя»
Популярна давно невеселая эта затея, Что теперь называют «синдромом Хемингуэя», — Только дуло винчестера сунь понадежнее в рот И вперед. Смит и Вессон, и Браунинг, – в этой навязчивой теме, Как потом выясняется, дело отнюдь не в системе, — И веревка годится, особенно если спьяна. Можно также использовать в случае интереса Пистолеты системы Мартынова или Дантеса (Есть и менее, впрочем, известные имена). …Он охоту любил, на кулак и на выпивку скорый, Мичиган переплыл и азартно выкрикивал: «Торо!», Карандаш лишь ценя и дешевой бумаги клочок. Был везде он удачлив, – в любви, на войне и в футболе. Что его побудило, забыв о присутствии Бога, Укрепить аккуратно точеный приклад у порога И босою ногою нащупать холодный крючок? Где начало берет это чувство сосущее боли, Неподвластной наркозу, Неопознанный ген, неожиданно всплывший в крови? …И уже совершенно неважно – стихи или проза, Океан за окном или чахлая эта береза, — Важно лишь не остаться с собою самим визави. 1996На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа (песня)
На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа Забвения не вырастает трава, — Ее, разодет, как любовник, Стрижет регулярно садовник. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, Где статуи стынут в песцовых боа, Покой обрели эмигранты, — Свободы российской гаранты. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа Земля от февральского снега бела, И смотрят на черные кроны, Забыв про коней, эскадроны. Звенит у обители Сен-Женевьев Скворцов прилетевших двусложный напев, Связав ее пением птичьим С Донским или Новодевичьим. Опять в ожидании новой весны Покойникам снятся московские сны, Где вьюга кружится витая, Литые кресты облетая. Знакомые с детства родные места, И купол сияет над храмом Христа, Склоняя усопших к надежде, Что все возвратится, как прежде. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, Исчезнув с планеты, как птица моа, Лежит лебединая стая, В парижскую землю врастая. Меж мраморных ангелов и терпсихор Поет им каноны невидимый хор, И нету, понятно из пенья, Свободы помимо успенья. 1996Диаспора
Чужбина – необъятная страна, Чужбина – непонятная планета, Ты мне навеки в мачехи дана, — Другой отчизны не было и нету. Люблю твоих снегов голубизну, И песен неизбывную минорность, — Так человек, родившийся в войну, Войну считает жизненною нормой. Другой отчизны не было и нет, Другие песни не умею петь я. В родной земле не больше сотни лет Народ мой жил за три тысячелетья. Когда тарелку об пол шафер бьет На шумной свадьбе, в хохоте и дыме, Кто верит, что на следующий год Мы соберемся в Иерусалиме? Но, глядя из замерзшего окна На белые заснеженные ветки, Мы повторяем снова «Бет шана», Как это нам наказывали предки. Наверное, и вправду дело в том, Что пленники диаспоры убогой, Мы ближе всех народов к Богу, А Богу, говорят, не нужен дом. 1996Падение яблок
Наталии Аккуратовой
Пролились грозы. Слышу вполуха: За огородом Яблоко оземь стукнуло глухо, Как самородок, В мокрую землю, в темные недра Снова врастая. Тонкой газелью прянула в небо Ветка пустая. Падает плод золотого отлива, Сделав отвесным Этот полет, неторопливый И полновесный, В неводе сеток тени и света, Жизни и тленья, — Новой планеты и старой планеты Соударенье. Напоминают стук метронома Гулкие ритмы. Травы сминают около дома Метеориты. Сад от порога и до калитки Полон видений. Светятся строго желтые слитки, Словно в Эдеме. Древние гимны влажные струны Пели нам ночью. Снова наги мы, снова мы юны И непорочны. В зелени кружев разнообразных И неподдельных Голову кружит вязким соблазном Грехопаденье. В мире вращения заоконном Длится минута, — Там возвращенье к прежним законам Празднует Ньютон, Плещет в соседстве стай хлопотливых Рыжее знамя, Пахнет, как в детстве, белым наливом Древо познанья. 1996«Переменив местами явь и сон…»
Переменив местами явь и сон, Синайский холм под облаком дебелым Представится внезапно Коктебелем, Где суховей июльский невесом. Знакомые библейские места, Где камень бел, а вкус маслины горек, И трижды в день меняются цвета Над Мертвой бухтой, как над Мертвым морем. Там после литра кислого вина, Под наигрыш эоловой свирели, Нам открывалась древняя страна Волошинских туманных акварелей. Стремительному этому мазку Уподобясь, вчерашние студенты, Мы шли по возвращении в Москву В художники, пророки, диссиденты, Лазурь воды и киммерийский зной До самой смерти в памяти лелея, И на виски ложилась пеленой Седая пыль российской Галилеи. 1996«Невозможно сделаться другими…»
Невозможно сделаться другими, Даже не попавшись в невода. Родина – не то, что было в Риме, — Не земля, не воздух, не вода. Суффиксы, причастия, спряженья, — Что со школы ненавидел ты, — Держат, как земное притяженье, У заветной стартовой черты. По другую сторону таможен, На недостижимом рубеже, Говорить научишься, быть может, — Думать не научишься уже На английском и иврите, – поздно, — Никуда не денешься, мой друг: Родина – не тощая береза, — Родина – щемящий этот звук. Знать, народ не может быть не гений, При таком могучем языке, Как заметил некогда Тургенев От полей российских вдалеке, Где, в ночную вслушиваясь вьюгу, Вместе арестанты и конвой, Мы сидим, прикованы друг к другу Неразрывной цепью звуковой. 1996Верлибры
Верлибры недостойны почестей, — Там, как невеста без венчанья, Томится слово в одиночестве, Не слыша парного звучанья. Для человека старомодного Непостижимы и не близки Достоинства стиха свободного, Его лесбийские изыски. Пустое колыханье воздуха, Которое сегодня в моде. Недолговечен звук без отзвука В нас окружающей природе. Тому воды морской порукою Волнообразное движенье, И эхо, что в лесу аукает, И звезд речное отраженье. 1996«Прикоснись к пожелтевшему черновику…»
Памяти Иосифа Бродского
Прикоснись к пожелтевшему черновику, Чтобы ясно представить, как все это было. На гусином пере засыхали чернила, Торопя поскорее закончить строку. Оплывая в шандале, коптила свеча, Золотую слезу проливая на блюдце. То ли сразу рассказ дописать сгоряча, То ли бросить, чтобы никогда не вернуться. Вот разгадка для стиля, которого нет В наш компьютерный век и не будет, пожалуй. Так писал, на письмо отвечая, поэт За неделю до смерти, а время бежало. Подперевший рукой рыжеватый висок, Был он сбоку похож на присевшую птицу, И струился, шурша, старомодный песок На еще недописанную страницу. 1996Преображение Господне
Пока внезапная заря Обозначает Божье чудо, Тяжелый панцирь, – дар царя, Усугубляет месть Кучума На диком бреге Иртыша, Что изменили пятилетки. Большое яблоко, шурша, Срывается с шершавой ветки. На ослепительном песке Роение лучей несметных. В предсмертной мечется тоске, Предавший Родину Москве, Малороссийский грозный гетман. Его трясущуюся тень Пропишут нынче в преисподней, — Богат событиями день Преображения Господня. В нем скрежет танковой брони И смрад солярового чада. Храпят апостолы, – они Горазды спать, когда не надо. Им человеческую плоть Преображенной видеть рано. Кого из них будить, Господь, Матфея или Иоанна? Увял листок календаря, — Но дальним отсветом горя Того, что сбудется нескоро, В багряных кронах сентября Мерцает, в воздухе паря, Ночное золото Фавора. 1996Москва
Этот город без каналов, Без залива, – без воды, Где поблескивают вяло Патриаршие пруды, Запорошен снежным просом, Солью вьюг неосолим, На семи холмах разбросан, Словно Иерусалим, Непохож неоспоримо На другие города, Он не станет Третьим Римом И Четвертым никогда. Он останется Москвою, — Полудикою страной, Где часы длиннее вдвое, — Оттого и век иной. И круги обозначают Дуба возраст вековой, — От Бульварного вначале До дороги Кольцевой. Он останется Москвою, Окрещенный так рекой, Что бежит, свой путь освоив Между Волгой и Окой, Вдаль от Иерусалима, От Царьграда и от Рима, Через веси и года, Не впадая никуда. 1996«И в наши дни, как прежде при свечах…»
И в наши дни, как прежде при свечах, Недолговечны стансы и эклоги. Стихи живут, пока они звучат, И умирают на последнем слоге. Их музыка доступна не для глаз, А лишь при чтеньи вслух. Не оттого ли, Скользя по строчкам взглядом, всякий раз Мы шевелим губами поневоле? Дискуссии бесплодны и пусты, — Стихов забытых незавидна участь. Безмолвные, как нотные листы, Они мертвы, пока их не озвучат. Нечасто вспоминаем мы о тех, Кто ничего к ним больше не добавит. Тома стихов в шкафах библиотек Слегка напоминают колумбарий. Нам только иногда на полчаса Приносит снов ночное расписанье Их авторов глухие голоса И пальцев осторожное касанье. 1996«Мне непонятен современный стих…»
Мне непонятен современный стих. Пусть молодые судят молодых, Я никого из них судить не вправе, Причастных к обольстительной отраве Писательства, поскольку ни они, Ни я неинтересны для потомков. Поэзия – наркотику сродни: Чем дольше кайф, тем яростнее ломка. Когда уходит солнце на закат, Ежеминутно удлиняя тени, Чужого не освою языка, Чужих не оценю изобретений. Бери перо смелее, ученик, Смертельного не убоявшись яда, Чтобы счастливым сделаться на миг Или на сутки, – большего не надо. Не в результате дело – сам процесс Сближает ощущением полета И ястреба под золотом небес, И ржавый лист, слетающий в болото. 1996«Дорогой тернистою…»
Дорогой тернистою шла, как известно, Духовность российская от духовенства, — От тихого пенья и вязкого звона, От полоцкой кельи отца Симеона. От злой симеотики семинарий, Что в робкую оттепель семенами В подзолистом слое всходили упрямо, Питаясь золою сожженного храма. Поймешь только под вечер, путая даты: Мы все из поповичей вышли когда-то. Не нас ли гурьбой за соблазном предерзким Манили с собой Чернышевский с Введенским? Не вы ли, аскеты, пошли в разночинцы, Готовя пакеты с гремучей начинкой? Забывшие требы, спешили не вы ли Дорогой Отрепьева и Джугашвили, Чтоб снова потом, вспоминая обеты, Наперсным крестом заменить партбилеты? От ветхих заветов до «Краткого курса» Нас школила эта кровавая бурса, И мучило долго, неся по теченью, Стремление к догме и нравоученью. Воздастся ли каждому полною мерой, Кто ереси жаждал как истинной веры? 1996Азбука
Вначале было Слово, нет – не слово, — Согласно иудейскому ученью, Вначале были буквы алфавита И цифры – от нуля до десяти. Их создавал творец всего живого, Придумав двадцать два обозначенья, Задолго до эпохи мезолита, До губ, что их могли произнести. Не потому ль подобием решетки, Еще людскому недоступной глазу, За миллионы лет до нашей эры, В далекие от жизни времена, Слюдою черной врезанные четко В литую белизну плагиоклаза, На жиле пегматита светло-серой Запечатлелись эти письмена? Им Бог придал магическую силу, Помешивая, словно камни в груде, Звучанье разделил на чет и нечет, И, сотворив из этого слова, Уже из них он создал все, что было, Что есть теперь и что в грядущем будет. А если акт творенья бесконечен, Должна быть вечно азбука жива. В ней скрыты ненаписанные тексты. Так в мраморной или гранитной глыбе Невидимые статуи в дремоте Томятся в ожидании резца, Пока на Землю не приходят те, кто Их вызвать к жизни, видимо, могли бы. Недаром столько схожего в работе Ваятеля и древнего писца. Когда на камне буквенные знаки Он высекал, склонившись на колено, То левою рукой держал зубило, А правою рукою молоток. Все это в Лету кануло, однако Правописанье справа и налево, Которое евреи не забыли, Труда его сегодняшний итог. А на планете множатся осколки, Печальные преумножая даты. Материки меняют очертанья, Империи уничтожает смута, Рождаются и гибнут города. Бессмертна только азбука, поскольку И сам ее невидимый создатель, — Четырехбуквенное сочетанье, Которое не вычислит компьютер И не узнает смертный никогда. 1996В больнице
Я арктический снег с обмороженных слизывал губ, Спал в продымленном чуме на рыжих продымленных шкурах, На Гиссарском хребте, оступившись, ронял ледоруб, И качался на джонках у набережной Сингапура. На реке Сигапурке, медленной, как слеза, Осуществляя свой ежедневный трейдинг, Их владельцы рисуют им на носу глаза, Чтобы не заблудиться на необъятном рейде. Кружевная дорожка струилась вослед кораблю, И с годами я понял, избегнув кораблекрушенья, — Дивергенция ротора всюду стремится к нулю, И пространство, дразня, никогда не дает утешенья. Никому из живущих его не дано удержать В час, когда, распадаясь, оно повернет на попятный. Мой пейзаж современный – казенная эта кровать И больничные простыни в желтых застиранных пятнах. Но над болью тупой, над окрестной унылой толпой, Мы осколки его в нашей памяти прячем. Так глаза к небесам поднимает слепой, Замечая там что-то, не видное зрячим. 1996Старый друг
Многолетняя дружба – всегда многолетняя ссора, И поэтому часто напоминает браки, Там с годами делается предметом спора То, что в школе было предметом драки. Многолетняя дружба сродни многолетнему браку, Кто еще так умеет смотреть на тебя спесиво? Понапрасну стараешься – ты для него не оракул, Убедивший других, ты его убедить не в силах. Он с улыбкой оттачивает очередную фразу, Безошибочно больно тебе нанося уколы. Ну и что, что тебя он не заложил ни разу? Это просто кодекс послевоенной школы. Только он сознает, что победы твои – пораженья, Только он тебя помнит без титулов и залысин. Подавляя внезапно вспыхнувшее раздраженье, Понимаешь с тоскою – что ты от него зависим. Вас навеки друг с другом сковало общее детство, Отдаленно мерцающее, словно руно Колхиды. Никуда не деться тебе, никуда не деться До твоей или, может быть, до его панихиды, Где в толпе почитателей и устроителей бодрых, Голоса сливающих в неразличимом хоре, Онемеет внезапно от горькой своей свободы Тот, за кем остается последнее слово в споре. 1996«На пороге третьего тысячелетья…»
На пороге третьего тысячелетья Ощущаю то же, что ощущает Человек, увидавший в вечернем свете Океанский берег и вспышки чаек, Где гонимое, словно парус алый, Растворяется солнце в металле жидком, Освещая через поток металла Ту стихию, в которой уже не жить нам. На пороге третьего тысячелетья Я как раб, по вязким пескам бредущий, Что овец травяной подгоняя плетью, Замечает на горизонте кущи. Их зеленые ветви горе воздеты Предположительно там, где север. «Лишь увидеть дано тебе землю эту, Но не жить в ней», – сказано Моисею. На исходе второго тысячелетья Заглушают ревом пророков толпы, На привычные круги приходит ветер, Заливает устья морским потопом. И все дальше, через самум и вьюгу, От Рождественской уходя звезды, Человечество снова спешит по кругу, Наступая на собственные следы. 1996«Солнце по кругу несется, за буднями будни…»
Солнце по кругу несется, за буднями будни. В доме ни фартинга. Зеркало смотрит ехидно. Пятна на солнце рождают магнитные бури, Дохнут инфарктники, – завтра опять панихида. Похороны означают свиданье с Хароном. Берег неведомый снова – причина волнений. Помнишь, как в рейсах начальных, в порту отдаленном, Юны и ветрены, ждали с тобой увольнений? Где вы, друзья, на кого возлагались надежды? Как позабуду того, кто уходит, и прочих? Книжка моя записная, столь людная прежде, Буква за буквой в сплошной превращается прочерк. Время мне выпало вслед собираться за всеми, К темным глубинам, на Север, по-прежнему дикий. Помнишь у Киплинга сказано было в поэме, Прежде любимой: «Учись, как уходим мы, Дикки»? Ангел иль черт подберет мою грешную душу? Кару готов понести за любые грехи я, Тем только горд, что покину родную мне сушу В скрипе бортов и во влажном дыханьи стихии. 1996Отражение
Приснится внезапно забытая пьянка, В палатке, обтянутой тонкой перкалью. Так шарит, ища двойника, обезьянка Ладошкой морщинистой по зазеркалью. Свой путь от нее недалекий итожа, И я, как она, перед зеркалом замер, С тоской созерцая унылую рожу, — Морщины и плешь, синяки под глазами. А помнишь, – заброшенные на Север, Еще не привыкшие к пораженьям, Смотрелись с тобой в зеркала Енисея, Довольные собственным отраженьем? А помнишь, в пространство соленое канув, Где зыби колышутся плоские волны, Смотрелись с тобой в зеркала океанов И были своим отраженьем довольны? Не верь этим стеклам, белесым от пыли, — Безвременно старят домашние стены. Мы те же, что были, мы те же, что были, А зеркало требует срочной замены. Ну что же, дружок, сокрушаться не нужно, — Потерь опасаться не стоит осенних: Уходит любовь, но останется дружба, — Так часто бывает в стареющих семьях. 1996«В Вашингтоне, в музее истории мира…»
В Вашингтоне, в музее истории мира (Не пройдите, когда там окажетесь, мимо), В допотопных долинах рычат диплодоки, Неподвижные, словно дредноуты в доке. Там зубастые птицы застыли в полете, — Вы сегодня таких на Земле не найдете. Это слева от вас происходит, а справа Из вулкана, светясь, извергается лава, В океане плывут кистеперые рыбы, Оставляя в воде голубые разрывы. Птеродактили в тучах, внизу – стегозавры, Входят легкие в моду уже, а не жабры, И леса, на ветру колыхаясь упруго, Превратятся нескоро в сегодняшний уголь. И любуется сверху морями и сушей Всемогущий, Всеведущий и Вездесущий, Отдыхая в начале рабочей недели, Не спеша перейти к неудачной модели. 1996«Январь многозвездный, морозный…»
Январь многозвездный, морозный, — Сплошная пора похорон. Уходят как-будто бы розно, Но есть в этом общий резон. Кого еще легкою костью Сухая коснется рука? Не кончился год високосный, А только лишь начат пока. На рамку в газете покорно Смотрю в наступающей мгле. Последние вымерзли корни В звенящей от стужи земле. Ушли Левитанский и Бродский, И зябко от этого мне В моей неизменно сиротской, Детдому подобной стране. Последние вымерзнут корни, И в этом решительный знак, Что все пропитает исконный, Дремучий и цепкий сорняк. Дурные являет приметы Январских смертей полоса, — Когда умолкают поэты, Иные слышны голоса. 1996«Я в юности раз заблудился в горящей тайге…»
Я в юности раз заблудился в горящей тайге, Где странствовал час, заплутавший в горячей пурге. Тлел ягель сырой, поминутно хватая за пятки. Сгибались стволы, словно в вольтовой жаркой дуге, И больно приклад на ходу ударял по ноге, Меня понукая скорее бежать без оглядки. Бежать, – но куда? Непроглядная серая мгла, Глаза разъедая, на них пеленою легла, — Лишь тени и света мелькали лиловые пятна. Когда задыхаясь, сжигая подметки дотла, Я брел, торопясь, от ствола до другого ствола, Чтоб снова потом поворачивать в страхе обратно. Зачем же сегодня, – когда и в помине уж нет Свидетелей тех, из забвения вызванных лет, Которые толком уже и не помню, пожалуй, Приносит мне снова ночной неожиданный бред Горящего ельника темно-малиновый свет И едкую горечь таежного злого пожара? Не надо меня утешать, – понапрасну не лги. Я чувствую ясно дыхание черной пурги, Опять за спиною деревья трещат, как поленья, Танцуют багровые перед глазами круги, И жар раскаляет худые мои сапоги, А серый туман отрезает пути отступленья. 1996Амстердам
Возврати, Амстердам, ненадолго свой облик вчерашний, Где ветшающий храм, наклонившись Пизанскою башней Над сплетеньем каналов, его осеняет крестом, Укрепляя надежность отсюда невидимой дамбы. Покажи мне опять акварели твои и эстампы, — Позабытого детства рассыпанный том. Проведи меня снова по Розовому кварталу, Где за тонким стеклом отдыхают устало Разноцветные жрицы любви, Колыхаясь в луче, как аквариумные рыбки. Их движения плавны, молочные контуры зыбки. Сотню гульденов дай – и останешься с ней визави. На каналах подтаявших, в однообразном порядке — На окне занавески, на палубе садик и грядки — Неподвижные баржи крутые качают бока. В этой местности, где с океаном схлестнулась Европа, Все живут на воде, словно Ной в ожиданье потопа, Пуповиною кабеля связаны с сушей пока. Так и мне бы прожить в корабельном уюте убогом, Там, где птица кружит над теряющим разум Ван Гогом, Где шприцы и бутылки швыряет в канал наркота, В интерьере домов, как и в Новой Голландии строгом, Между чертом реальным и полумифическим Богом, Вспоминая василеостровского неба цвета. Так и мне бы прожить, не страшась наводнений и ливней, Возле зыбкой межи, в окруженьи пейзажей наивных, На краю континента, у северных хмурых морей, Где в цене из одежды лишь то, что надежней и проще, И тюльпанами нежными летом расцвечена площадь, И горит над мостами рубиновый свет фонарей. 1997Не пойте без меня (песня)
Памяти российских бардов
Дрожат, не просыхая, Дождинки на стекле. Пора глухонемая Настала на Земле. Я думал ли когда-то, Что выживу хоть год Без песенки Булата, Без Юриных острот? Сияет мир окрестный, По-прежнему хорош. Сегодняшние песни Горланит молодежь, Но нету мне мелодий В полях родной страны Без голоса Володи, Без Жениной струны. Идет к закату лето, Покачивая рожь. Не чокнешься с портретом И песню не споешь. И мы грустим под вечер С приятелем вдвоем. Нам выпить бы за встречу, Да только мы не пьем. В падении живу я, Как лист на вираже. Еще я существую, Но нет меня уже. Звучит мой голос глуше И не окрепнет впредь, И некого послушать, И некому попеть. А значит без сомненья Пора и мне туда, В другие измеренья, В другие города, Где вместе вы сидите, Гитарами звеня. Постойте, подождите, — Не пойте без меня. 1997Пальмира
Какие видения ждут за туманной завесой, Когда, изогнувшись волною упругой и гибкой, Шумит Адриатика юною догарессой, Лицо свое спрятавшей под кружевною накидкой? Ты завтра войдешь в этот город великий и странный, Где море и небо строкою и кистью согреты, Там солнце купается в мраморной ванной И возле причалов поскрипывают вапоретто. Не лги понапрасну четырежды на день, Что эти каналы, палаццо синьоров и дожей, Похожи на виды, к которым привык в Ленинграде, Не верь ностальгии – ничто ни на что не похоже. Еще ты успеешь открытие сделать любое, Не зная о том, как опасно натянуты нервы. Но то, что, возможно, последнею станет любовью, Всегда почему-то смыкается с первой. Долой осторожную мудрость, – пусть глупое детство До самой кончины бездумно командует нами, Покуда способны мы в мир удивленно вглядеться Лишенными зоркости старческими глазами. 1997«Всё вокруг заметается вьюгой…»
Всё вокруг заметается вьюгой, Постепенно пустеет, как зал. Просыпаешься утром с испугом, Что куда-то уже опоздал, Отставая от всех понемногу На минуту, на месяц, на год. Поначалу ударишь тревогу, А потом понемногу пройдет. И неспешно готовя свой завтрак (А у всех в эту пору обед), Ты поймешь, что с бегущими в завтра Состязаться возможности нет. И совсем оказалось не страшно Снова с теми налаживать связь, Кто остался в эпохе вчерашней, Никуда уже не торопясь. 1997Аристотель
О, Аристотель, седой ученик Платона, Все, что вокруг, ты поставить сумел на место. Челюсть ежа описал и хребет тритона, Птиц отделил от рептилий и ост от веста. Новые после идеи придут – не верь им, — Разум бедней человеческий век за веком, — Рыба, плывущая в море, не станет зверем, И обезьяне не сделаться человеком. Наша душа, энтелехия или форма, Суть бытия – принадлежность живого тела. С ним, как жена, существует она покорно, И улететь неспособна, куда хотела. Ей не скитаться по солнечным райским кущам, Не воплотиться ни в коршуна, ни в собаку. — Раб пожилой, что хозяином вдруг отпущен, Вольным не станет под знаками зодиака. Только одно не дает ей сгореть как свечка, Прахом рассеяться в почвенном жирном слое, — Шанс, от рождения выданный ей на вечность, — Осуществление в звуке, мазке и слове. 1997«Не надо монументы разрушать…»
Не надо монументы разрушать, Стыдясь своей истории, поскольку В забвение ушедшие осколки Соединятся в будущем опять. Из книги бытия минувших бед Не вычеркнуть, ее не сделать лучше, Какие для вымарыванья силы Ни прилагай. История России Сплошная уголовщина, как Тютчев Заметил горько на исходе лет. Мне мил Шемякин: лысина Петра Без парика и сфинкс с лицом скелета Неразделимы с бронзой Фальконета, С удавками и криками «Ура». И Волго-Дон, что сделан на века, Или Норильск в арктической метели Не смотрятся без Сталина в шинели, Как эта площадь без броневика. От прошлого не отмахнуться нам, Каких расцветок ни меняй на флаге. В республику не переделать лагерь Без памятников бывшим паханам. 1997Урок физики
Мне снится год пятидесятый И коммунальная квартира. В России царствует усатый — Его ударом не хватило. Десятый класс, любовь, разлука, Туристский лагерь в Териоках, И я, испытывая муку, Стишки кропаю на уроках. Колени сдвинули до хруста Атланты довоенной лепки. Вокруг шпана шныряет густо, До самых глаз надвинув кепки. Но это все не важно вовсе: Медаль – желанная награда. Еще не арестован Вовси, И Этингер, и Виноградов. И небо в облачных заплатах Не предвещает ненароком, Что тяжкий рок пятидесятых Заменится тяжелым роком Восьмидесятых. День погожий. Внизу на Мойке шум моторки. А я по всем предметам должен Тянуть на круглые пятерки. И далека пора ревизий В теперь распавшемся Союзе. Мне говорит с усмешкой физик: «Таким как ты не место в вузе». Горька мне давняя опала, Как и тогда в десятом классе. «Как это было, как совпало!» — Позднее удивится классик. Но это мелочи, поскольку Любовь поставлена на карту, И мандариновая долька Луны склоняет время к марту. 1997Зеленый луч
Зеленый луч стараясь углядеть, На палубе стоял я многократно. Кружились чаек розовые пятна, И солнце, погруженное на треть В густеющий вечерний океан, Проваливалось, как пятак в копилку, Где отражений алые опилки Передний образовывали план. Меня учили, – линия воды Должна быть ровной, и тогда, конечно, Зеленый луч над вспышкою конечной Увидишь ты в награду за труды, — Примету счастья. Юные зеваки, Поверившие в сказочный обман, Торчали мы на юте и на баке И всматривались пристально в туман В Атлантике, на Тихом, на Босфоре, У края антарктического льда. Возможно он и существует в море, Но я его не видел никогда. Мне это вспоминается нечасто. Сегодняшний загад мой небогат, Да и нелепо дожидаться счастья От солнца, что уходит на закат. Пускай меня болезнями скрутило, И мне, как говорится, «не светило», — Безумными глазами игрока Я провожаю рыжее светило, Которое ныряет в облака. 1997Выбор
Видно так и умру, различать не научен Незаметную грань между злом и добром. Семисвечником «Боинг» врезается в тучу, Оставляя кренящийся аэродром. Исчезает земля, перешедшая в ветер. Разрываясь, пространство свистит у окон. По какому завету живу я на свете? Внуки – в Ветхом завете, а я – ни в каком. Пролетели года, – мне нисколько не жаль их. Лишь недавно я понял, лишенный волос: Мой закон оставался на третьей скрижали, Что с Синайской горы Моисей не донес. Я с ладони кормил заполярных оленей. На спине моей шрамы от ран ножевых. Блудный сын, я припал бы к отцовским коленям, Только папы давно уже нету в живых. В справедливость земную поверивший прочно, О молитвах забыв, что читал ему дед, Он лежит в ленинградской болотистой почве, Сохранивший до смерти партийный билет. Не связать воедино разбитые звенья. Очевидно причина тому не проста, Что не может рука совершить омовенье, И не может подняться она для креста. Но покуда судьба не стучится у двери, Я неправедной жизни своей не стыжусь. Бог послал мне тебя, чтобы я в него верил, — За соломинку эту пока и держусь. И боюсь я, потомок печального Лота, На покинутый дом обернуться назад, Где мерцает звезда под крылом самолета, Возвещая о том, что приходит шабат. 1997Долина Муса-Вади
В долине, что называют Муса-Вади, Я жду Моисея – вместе со мной народ. Запасы еды иссякли и нет воды. Пророк нас покинул снова – сказал придет. Ослепли глаза от неистовой синевы. В повозку со скинией грустный впряжен осел, — Нигде ни колючки, ни кустика, ни травы, — Лишь Мертвого моря едкий крутой рассол. То страх управляет нами, то медный змий, Мы Господа молим избавить нас от невзгод. Одни со слезами стонут: «Ах, Боже мий!» Другие же повторяют: «Mein lieber Gott!» В долине, что называют «Муса-Вади», Я жду Моисея – вместе со мной народ. Четыре пустыни оставлены позади, Четыре моря пройдены нами вброд. По вязким пескам бредя из последних сил Сквозь дождь ледяной и самума свистящий ад, Мы вновь утыкаемся в холмики тех могил, Которые вырыли несколько лет назад. Бог ордер на землю выдал нам смотровой. Последний хребет перевалим еще, а там Долины рек полны голубой травой, И нету гиен, крадущихся по пятам. В долине, что называют «Муса-Вади», Я жду Моисея – вместе со мной народ. Больное сердце гулко стучит в груди, И сороковой истекает сегодня год. Последний в дороге не сгинувший ветеран, Былинкой седою кренящийся на ветру, От этих скитаний бесплодных и старых ран, Всего вероятней, скончаюсь и я к утру. А ночь над нами хрустальнее всех ночей. Мерцает тускло месяца желтый жгут. Хамсин пустыни – дыхание тех печей, В которых завтра внуков моих сожгут. И вспоминая рабства позорный плен, В долине, что называют Муса-Вади, В последний раз я силюсь привстать с колен, В последний раз шепчу я: «Господь, веди». 1997Художник Жутовский
Художник Жутовский рисует портреты друзей. Друзья умирают. Охваченный чувством сиротства, В его мастерской, приходящий сюда как в музей, Гляжу я на них, и никак мне не выявить сходства. Я помню их лица иными в недавние дни, Неужто лишь в скорби их жизней действительный корень? Портрет неулыбчив любой – на какой ни взгляни, Суров не по правде и обликом горестным черен. Зачем мне на эти унылые лики смотреть? Могу рассказать я о каждом немало смешного, Да вот улыбнуться навряд ли заставлю их снова, — Печальны они и такими останутся впредь. Художник Жутовский, лицо мое запечатлей В свободной ячейке угрюмого иконостаса, Где рядом с другими и я бы таким же остался, Забыв понемногу, что был иногда веселей. Художник Жутовский, налей нам обоим вина. Смахнем со стола на закуску не годные краски И выпьем с тобой за улыбку, поскольку она Зеркальный двойник театральной трагической маски. 1997Родословная Петра
Глядя на монумент петровский Скульптора славного Церетели, Что над Москвою-рекой вознесся С храмом Христа Спасителя вровень, Вспомнил я старинную байку, Мне поведанную в Тбилиси, Что император Великий Петр Якобы был по отцу грузином. Версию эту в конце тридцатых Группа историков раскопала По материалам архивов местных, Сохранившихся от Багратионов. Дескать, в году для грузин тяжелом, Тыща шестьсот семьдесят первом, Прибыло на Москву посольство С главным царевичем Багратионом У государя просить защиты От персиян и кровавых турок, Наших меньших истреблявших братьев, Аки алчные сыроядцы. Жгли окаянные басурмане Церкви святые и поселенья, Жен же грузинских и дев невинных, Прежде подвергнув поруганью И животы вспоров ножами, После кидали на корм собакам. А государь Алексей Тишайший Не был в ту пору в Первоперстольной, — То ли ногайцев смирял нагайкой, То ль города учинял на Волге, Опустошенной злодеем Стенькой. До возвращения государя Прибывшее с юга посольство Вместе с дарами разместили Рядом с царицыным подворьем. Был, говорят, грузин-царевич Ликом румян и осанкой статен: Кудри – как черная ночь, а зубы — Снега белее с вершин Кавказа. В щелку в заборе своем высоком Раз увидала его царица, И покорил он женское сердце, Не утомленное мужней лаской. Что у них было – никто не знает. Ведомо только, что государя Лето прождавшие терпеливо За день до его возвращенья, Вдруг подхватились внезапно гости И укатили обратно в горы. Мальчик же, после того рожденный И нареченный Петром, отличен Был от сестры и родного брата, Русоволосого Ивана, Скорбного душой и телом. Нравом упрям, волосами черен, Буен в ярости и веселье, Больше он смахивал на кавказца. И, по свидетельству очевидцев, Царские знаки имел подмышкой, Как и другие Багратионы. Подлинность данных сто раз проверив, Жен и детей обняв напоследок, Перекрестясь на икону тайно И партбилет заколов булавкой, Стали историки собираться В ту же Москву к «самому» с докладом: Мол, исторически так сложилось, Что у России цари – грузины. Над куполами кремлевских храмов С криком кружились вороньи стаи. За потемневшим окном куранты Пробили раз, и другой, и третий. Сталин слушал, не перебивая, — Только за спинами у сидящих Взад и вперед ходил бесшумно, Трубку сжимая сухою ручкой. Был невысок он, как оказалось, С узеньким лбом и заметной плешью. Только глаза его поражали Нечеловеческой красотою И гипнотической силой: кто бы Выстоять мог перед этим взглядом? Им показалось на миг – сейчас он Френч распахнет и слева подмышкой Родинку черную обнаружит, Схожую с той, что видна на шее, — Он же разглядывал молча трубку. Это безмолвие их сломало. Съежились они и поникли: Вот он кликнет сейчас мингрела С жирным лицом и совиным глазом, Да и прикажет их уничтожить, Как кунака своего Лакобу. Сталин нажал на звонок и, вызвав Секретаря, произнес: «Представить К сталинским премиям и наградам Без публикаций в газетах. Что же До материалов, то материалы Сдать и немедленно уничтожить. Ибо, – сказал он, – необходимо Русским хотя бы Петра оставить». Эту историю услышав, Я неожиданно припомнил, Как в Бухаре в шестьдесят четвертом Старый еврей, который позднее Выехал с семьей в Израиль, Мне доказать пытался, что Сталин Родом еврей, потому что «Джуга» — Жид по-грузински, а суффикс «швили» Не у грузин, а у инородцев. Ну а сапожники в Закавказье Традиционно всегда евреи. Кто же, выходит, Россией правил? — Рюрик-варяжин, Борис-татарин, Петр-грузинец да немка Софья, После евреи с кавказцами вместе, — Русских там только и не бывало. Глянь за окно на Москву: какое Здание здесь ни построй, назавтра В землю оно врастает прочно, Будто веками здесь стояло, — Храм лютеранский, мечеть ли, церковь, Американские небоскребы Или творение Церетели, Представившее Петра-грузина. Все здесь смешалось – уклады, стили, Кровь, языки, племена и боги, Все нарекает себя Россией, Нерасторжимой теперь и присно. Что до Петра, то, вполне возможно, Был он действительно грузином. Я, например, сомневаюсь в этом, Ибо известно: Багратионы Родом евреи, однако это — Тема отдельного разговора. 1997Эгмонт
Перелистываю жизнь бегло, На старинные смотря шпили. Это площадь, где казнен Эгмонт, — Про него я прочитал в «Тиле». В узком доме, где пекут тесто, Он, оставшись до конца гордым, Ночь последнюю провел вместе Со сподвижником своим Горном. Вижу профиль я его дерзкий И фламандских кружевов завязь. Почему-то этот граф с детства Вызывает у меня зависть. Не услышишь голосов хриплых, К позабытым воротясь темам. Вот рванется в вышину скрипка, И расстанется душа с телом. Но назавтра победят люди, — Корабелы, плясуны, г ёзы. Ах, спасибо тебе, ван Людвиг, За мальчишеские те грезы. Не отыщешь своего эго, — Тот морщинистый старик ты ли? Здесь на площади казнен Эгмонт, — Про него я прочитал в «Тиле». На торжественной его тризне Эту доблесть по себе мерьте. Не завидую чужой жизни, А завидую чужой смерти. 1997Казанское кладбище
Здесь не трава забвенья, а вода, Твердеющая только в холода, Могилы заливает в половодье, Под проблесками мартовских ночей И криком воротившихся грачей, Преображая скудные угодья Владельцев их. Потешный этот флот Над облачной прорехою плывет Неспешною походною колонной. Надгробия как рубки высоки, Мерцают заржавевшие венки Листвой неопадающей зеленой. Оставшийся пока на берегу, Что пожелать вдогонку им могу В их плаваньи, не ведающем срока, Покуда, строй кильватерный храня, Уносит их все дальше от меня Притоком Стикса ставшая протока? 1997Прощание с Окуджавой
В перекроенном сердце Арбата Я стоял возле гроба Булата, Возле самых булатовых ног, С нарукавным жгутом красно-черным, В карауле недолгом почетном, Что еще никого не сберег. Под негромкие всхлипы и вздохи Я стоял возле гроба эпохи В середине российской земли. Две прозрачных арбатских старушки, Ковылять помогая друг дружке, По гвоздичке неспешно несли. И под сводом витающий голос, Что отличен всегда от другого, Возникал, повторяясь в конце. Над цветами заваленной рампой, Над портрет освещающей лампой Нескончаемый длился концерт. Изгибаясь в пространстве упруго, Песни шли, словно солнце по кругу, И опять свой полет начинали, После паузы небольшой, Демонстрируя в этим в финале Разобщение тела с душой. И косой, как арбатский художник, Неожиданно хлынувший дождик За толпою усердно стирал Все приметы двадцатого века, Где в начале фонарь и аптека, А в конце этот сумрачный зал. И как слезы глотая слова, Нескончаема и необъятна, Проходила у гроба Москва, Чтоб уже не вернуться обратно. 1997Эллада
Развалины обугленные Трои, Титаны, бунтовавшие зазря. Снижается стервятник над горою, Над Прометеем скованным паря. И дальше на Земле не будет лада. Под старость разучившийся читать, Я припадаю бережно, Эллада, К твоим первоисточникам опять. О, двуединство времени и места, Ночных сирен сладкоголосый плач! Как человек, пытающийся в детстве Найти причины поздних неудач, Во времени живущий несчастливом, Куда нас мутной Летой унесло, Плыву я снова по твоим проливам, Пифагореец, верящий в число, Испытывая яростный катарсис От позабытых слез твоих и бед. С годами мы не делаемся старше — В двадцатом веке всё нам двадцать лет. И словно зритель, позабывший где я, Кричу я вдаль под вспышками комет: «Не убивай детей своих, Медея! Не подходи к Тезею, Ликомед!» 1997Германия
Этот вид, из вагонных открывшийся окон, Этот зелени пышной насыщенный цвет! Что Германия больше понравилась Блоку Чем Италия, в том непонятного нет. Школьных лет предваряя былые вопросы, Заготовил ответы любой поворот. Здесь когда-то поход начинал Барбаросса, Карл Великий на Майне отыскивал брод. Меж руинами замков, у ног Лорелеи, Безмятежного Рейна струится вода. Почему ее так обожали евреи И себе на беду приезжали сюда? Вслед за этим в золу обратившимся хором Восславляю и я то пространство, в котором То гравюра мелькает, то яркий лубок, Где над Кельнским растаявшим в небе собором Обитает в тумане невидимый Бог. Меж Висбаденом, Марбургом и Хайдельбергом, Всем блокадным сомненьям моим вопреки, Возникают великие тени и меркнут Под навязчивый шепот знакомой строки. Триста лет состояли мы в брачном союзе, То враждуя, то снова друг друга любя. Не напрасно немецкой медлительной музе Ломоносов и Тютчев вверяли себя, Белокурых невест подводя к аналою, И в итоге недавней войны Мировой Стали русские парни немецкой землею, А солдаты немецкие – русской землей. Никогда не изжить этот горестный опыт, Императоров наших остзейскую кровь, То окно, что когда-то пробито в Европу, Неизбывную эту любовь. 1997Встреча на Эльбе
Снова чаек тревожный над гаванью крик, И ненастная нынче погода. «Immer regnet»[1], – сказал мне печально старик, Ожидавший со мной перехода. Я сначала расслышал его не вполне В мокром сквере над хмурой рекою. «Immer regnet», – опять улыбнулся он мне, И, махнув на прощанье рукою, Растворился бесследно во мгле дождевой, И невольно подумалось, – он-то, Уж, конечно, из тех, кто вернулся живой Из окопов Восточного фронта. Век двадцатый стремительно тает, как год, И не так уж и много осталось Дней погожих в запасе, а глянешь вперед, — Одиночество, холод и старость. Вот и встретились снова мы, два старика, Под шуршание ливней обильных, И мерцает угрюмая Эльба-река, Словно кадры забытого фильма. 1997, ГамбургБронзовый Гейне
Бронзовый Гейне на Ратушной площади Гамбурга, Сумрачный гений германский, похожий на Гамлета, Стынущий молча у края холодных морей. Видят туристы глазами, до слез умиленными, Что не сгорел с остальными шестью миллионами Этот случайно избегнувший казни еврей. Бронзовый Гейне над облаком гари ли, смога ли, Напоминающий обликом скорбного Гоголя В скверике пыльном напротив Арбатских ворот. Благоговейно субботами и воскресеньями Бюргеры здесь собираются целыми семьями, — Непредсказуем грядущего дня поворот. Бронзовый Гейне, из ямы с отбросами вынутый, Сброшенный раз с пьедестала и снова воздвигнутый, Пахнущий дымом своих уничтоженных книг, Пусть отличаются наши родные наречия, Радуюсь этой, такой неожиданной встрече я, Единокровный поклонник твой и ученик. Бронзовый Гейне на площади шумного Гамбурга. Рюмка рейнвейна над узкой портовою дамбою, Голод блокады, ушедших друзей имена, Контур Европы над желтою школьной указкою, Черный сугроб под пробитой немецкою каскою, «Traurigen Monat November»[2], родная страна. Бронзовый Гейне, грустящий на площади Гамбурга, — Томик стихов в переводах, мне помнится, Вайнберга, Послевоенный лежащий в руинах Большой. Малая Невка, лесистый ли Гарц, Лорелея ли, — Что за мечты мы в мальчишеском сердце лелеяли, К странам чужим прирастая незрелой душой? Бронзовый Гейне, что зябко под ветром сутулится, Не переменишь рождением данную улицу, Город и век, ни в Германии, ни на Руси. Так повелось со времен Перуна или Одина. Что же поделаешь, если свобода и Родина — Две несовместные вещи – проси не проси? 1997«Два народа сроднились в великой беде…»
Два народа сроднились в великой беде, Возмечтав о приходе мессии, — Коммунизм зародился в еврейской среде, Сионизм появился в России. Две религии близких – одна из другой Родилась, – но веками не свыклись. Кто из них перед Богом единым изгой, Кто сегодня действительно выкрест? Не порвать никогда этих родственных уз, Не идти нам иными путями. Существует незыблемо братский союз, Раздираемый вечно страстями. Не с того ли в наречиях русской земли Иорданские корни звенели, И сошли на московскую землю Кремли С галилейской вершины Кармеля? Но, не взявший родства двуединого в толк, Исповедуя ненависть слепо, Все следит окаянный злодей Святополк За челнами Бориса и Глеба. 1997Наследники Дантеса
Заупокойная рыдает месса На зимнем воздухе, морозном и пустом. В далеком Сульце правнуки Дантеса Гордятся с Пушкиным нечаянным родством. Гордиться так могли бы в равной мере, Свое родство считая с ним за честь, Наследники угрюмого Сальери, Когда они и впрямь на свете есть. Не поминая ни свинца, ни яда, Смиримся с их незавидной судьбой, Поскольку смертным радоваться надо Причастности к бессмертию любой. И следует признательными вроде Им быть почившим в Бозе палачам, Онегина читая в переводе, Над Реквиемом плача по ночам. 1997«Меня спасли немецкие врачи…»
Меня спасли немецкие врачи В одной из клиник Гамбурга сырого, Мой позвоночник разобрав и снова Соединив его, как кирпичи. Я перед этим твердо осознал: За двадцать дней бессонницы и боли Подпишешь ты признание любое. Как вы – не знаю, – я бы подписал. Меня спасли немецкие друзья, Снабдивши визой, авиабилетом, И объяснив жене моей при этом, Что часа медлить более нельзя. И сколько бы ни дал мне Бог здоровья, Я буду помнить на своем веку Красавицу Наташу Касперович, Погромы пережившую в Баку, И Вас, профессор Ульрика Байзигель, С кем были незнакомы мы почти, Которая чиновникам грозила, Чтоб не застрял я где-нибудь в пути. В дождливой атлантической ночи, Пропитанной настоем листопада, Меня спасли немецкие врачи, Блокадного питомца Ленинграда. И город, что похож на Ленинград, Я полюбил порой осенней поздней, — Где громкие слова не говорят, Поскольку делом заняты серьезным, Чугун мостов на медленной реке, Где наводнений грозные отметки, И пусть не слишком знаю я немецкий, — Мы говорим на общем языке. 1997«Узнать невозможно заранее / Где рай ожидает, где ад…»
Узнать невозможно заранее, Где рай ожидает, где ад. Евреи, приехав в Германию, Евреями быть не хотят. Среди Иоганнов и Фрицев Во всю эмигрантскую прыть Стремятся они раствориться И чада свои растворить. Зачем, помышляя о чуде, Качая цветы в хрустале, Опять поселяются люди На выжженной прежде земле, У края потухших вулканов Свои прилепив города, Себя уверяя лукаво, Что больше уже никогда? Так просто на этом причале Укрыться с течением дней От глаз своих в вечной печали, От русскоязычных корней. В других раствориться незримо И стать европейцами вновь, Как будто и впрямь растворима Густая еврейская кровь. 1997Имена Вокзалов (песня)
Ирине Муравьевой
Чтобы сердце зазря не вязала Ностальгии настырная боль, Имена ленинградских вокзалов Повторяю себе, как пароль. Пахнет свежестью снежной Финляндский, Невозвратною школьной порой, Неумелой девчоночьей лаской, Комаровской янтарной сосной. Ах, Балтийский вокзал и Варшавский, Где когда-то стоял молодой, Чтобы вдоволь потом надышаться Океанской соленой водой! Отзвенели гудков отголоски, Убежала в каналах вода, Я однажды пришел на Московский И уехал в Москву навсегда. Но у сердца дурные привычки: Все мне кажется, будто зимой Я на Витебском жду электричку, Чтобы в Пушкин вернуться домой. Очень жалко, что самую малость Я при этом, увы, позабыл, — Никого там теперь не осталось, Только пыльные камни могил. Дым отечества, сладкий и горький, Открывает дыхание мне. Ленинградских вокзалов пятерку Удержать не могу в пятерне. Но когда осыпаются кроны На исходе холодного дня, Все мне снятся пустые перроны, Где никто не встречает меня. 1997Венеция
Не ступить уже, видно, на старости лет На омытый соленой волной парапет У собора Сан-Марко. Не услышать ночной баркаролы слова, Не увидеть над книгой сидящего льва, — Разве только на марках. Этот город, что кажется явленным сном, Постоянно нам грезился в мире лесном. Ах, снегурочки, бросьте, — К неизвестным морям убегает ручей, Нету слаще на свете медовых речей Веденецкого гостя. Бесполезно с далеких мальчишеских пор Продолжать этот ставший бессмысленным спор, Если крыть уже нечем. Ленинградской голодной поры детвора, Мы привыкли в каналы глядеться с утра, А теперь уже вечер. Полистай календарь и взгляни на число, — Азиатским бурьяном былье поросло, И состарились мифы. Ты куда уносила нас Волга-река? — Не в варяги и греки плывем мы века, А в татары и скифы. Но под осень, заблудших ловя в невода, Заполняет каналы морская вода, Вынуждая к попойке, И мечтою наивной пугая юнцов, Все дрожат отражения странных дворцов На Фонтанке и Мойке. 1997Кратил
Всё, что незыблемым прежде считали мы с вами, Перед закатом меняется неотвратимо. Выразить это почти невозможно словами, — Только рукой шевелить, уподобясь Кратилу. Это же понял позднее Кратила Державин: Перед доскою, что стала посмертною книгой, Глянул на пальцы, которые грифель держали, И замолчал, только пальцами все еще двигал. Славный Кратил, оппонент Гераклита отважный, В наши сердца поселивший тревогу и смуту, В реку времен не войти нам не то, чтобы дважды, Но и однажды, – изменится все за минуту. Были мы смолоду тоже глупы и наивны, — Твердой казалась нам зыбкая наша планета, — Белыми были снега и обильными ливни, Долгой зима, продолжительным жаркое лето. Нынче же не остается предметов надежных. Завтрашний день, ускользая, сквозит во вчерашний, И на лету высыхает пролившийся дождик, Не достигая его ожидающей пашни. 1997Евгению Рейну
Люблю стихи знакомого поэта: «Графитный дождь под половодьем света» — С фамилией классическою «Рейн». Сутулый он теперь, одутловатый. Своим вождем считал его когда-то Распавшийся со временем ферейн. О нем всегда легенд ходила масса. Он описал, как люди ели мясо, С Камчатки воротившийся едва, Курчавый и неистовый, как гений. А это имя звучное – «Евгений», Как будто слез он только что со льва! Он не учитель Бродского, – напротив, Навряд ли вы у Бродского найдете Хоть пару на него похожих строк. Жуковский, Пушкин, надпись на портрете, — Пора уже оспорить притчи эти: Учителем бывает только Бог. Он получил свою земную славу: Напитки и закуски на халяву, Венецию, Флоренцию и Рим. А Иннокентий Анненский устало Почил у Царскосельского вокзала, — Об этом мы сейчас не говорим. Он получил свою земную славу, Отяжелевший, лысый, седоглавый, Мясистый нос и толстогубый рот. Он неразборчив, алчен, плотояден. Его бранят повсюду трижды на день, А он не унывает и живет. Наперсник и сотрапезник великих, Чьи им приватизированы лики, Нацеливаясь в тот же пантеон, Застольный враль и баечник шутейный, Он вызывает в памяти Литейный Невозвратимых питерских времен. Графитный дождь под половодьем света — Подобие его автопортрета. Пусть жизнь его продлится, горяча, Как строк громокипящая палитра, Как им опустошенная поллитра, Как зыбкая пасхальная свеча! 1997Сизиф
Слава тебе, благородный Сизиф, слава, Крестный отец и предтеча людей слова. Ломкая под ногами трещит лава. В небе палящем – круженье орла злого. Солнце латунное смотрит на нас косо. Круче с годами становится склон. Душно. Что разглядим мы, его бороздя носом? — Выжженный стебель, сучок, паучка, мушку. Снова скользим, оступаясь в сырой глине. Нету усилия больше в руках слабых… Сгинул от камня, на гору взойдя, Плиний. Слава тебе, благородный Сизиф, слава. Тщетно стараемся мы избежать бедствий, Тысячный раз безуспешно в успех веря, — Словно во сне коридором бежишь в детстве, Дверь распахнешь, а за нею опять двери. Скоро ли примет Земля нас в свое лоно? Ноги босые изрезали в кровь травы. Не суждено нам, увы, одолеть склона. Слава тебе, благородный Сизиф, слава. Камень на сотню шагов закатив в гору, Мы и тому на коротком веку рады. Книгу ли пишем, возводим ли вновь город, — Не избегают паденья зиккураты. Тяжкой работой усталый хребет сломан. Осыпи слева и скальный обрыв справа. Катится камень, пыля, под уклон снова. Слава тебе, благородный Сизиф, слава. 1997«Монархии в России не бывать…»
Монархии в России не бывать. А если повторится, повторятся Кровосмешенья и детоубийства, Иван, Борис и Петр Алексеич, Художник Репин: «Грозный убивает Царевича», или художник Ге: «Царь Петр судит сына Алексея». Монархии в России не бывать. А если повторится, повторятся Варяги, ляхи, немцы и татары, Что русский перехватывали трон: «Придите к нам и володейте нами». Монархии в России не бывать. А если повторится, повторятся Любезные народу самозванцы: Лжедмитрии, Петры и Александры, Святые подозрительные старцы, Сбежавшие в Сибирь из Таганрога, Отрепьев и свирепый Пугачев. Монархии в России не бывать. А если повторится, повторятся Цареубийцы, заговоры, Пален С шарфом в руках, продрогший Гриневицкий Со взрывпакетом, смертники, бомбисты, В подвале окровавленном Юровский С расстрельною командой. «Мы пойдем Другим путем», – говаривал Ульянов. Монархии в России не бывать. Поскольку раб не создан быть царем, Как сказано у Киплинга, а прочих В России нет. Они лежат во рвах, Что «от Москвы до самых до окраин». Уже никто не даст нам избавленья, — «Ни Бог, ни царь и не герой», как пели, Благоговейно поднимаясь с места, В том гимне, что пришел к нам вместо: «Боже, Царя храни». Увы, не сохранил. Монархии в России не бывать. История не воротится в русло, Размытое однажды половодьем, Хотя и мало, в сущности, надежды, Что мы освобождения добьемся «Своею собственной рукой», привыкшей Не к мастерку, лопате или кисти, И не к компьютерной клавиатуре, А к топору, гранате и ножу. 1997«Постарел этот город у края гранитной плиты…»
Постарел этот город у края гранитной плиты, — Молодой Ленинград допотопным глядит Петербургом. Разгибают устало сутулые спины мосты, С отсыревших фасадов осыпалась вниз штукатурка. Пролегает все реже в последние годы маршрут К неподвижным каналам, заросшим мазутною тиной, Словно в комнату мамы, в которой уже не живут, А заходят лишь изредка, пыль вытирая с картинок. Почерневшие ангелы грустно глядят с высоты, Незарытые ямы зияют на линии Третьей, — Так на улице вдруг одноклассника бывшего встретив, Полагаешь наивно, что с виду он старше, чем ты. Одряхлел этот город, который ты в юности знал. Потускнел его лик, изменивший свое выраженье. Ты моложе его, когда в темный глядишься канал, Где холодная рябь размывает твое отраженье. Но когда ты внезапно поймешь, что тебя уже нет, Напоследок вдохнув его дым, что и сладок, и горек, Снова станет он юным, как тот знаменитый портрет, Что придумал однажды британский блистательный гомик. 1997«Душою стал сильней, хотя и телом слаб…»
Душою стал сильней, хотя и телом слаб, То нынче полюбя, что прежде было скрыто. Тебе я впредь не раб, бог похоти Приап, Далек я от тебя, богиня Афродита. В пуховиках травы, под зарослями роз, Мне не ласкать колен и ароматных губок. Прощай навек, увы, бог юности Эрос, Налей мне, бог Силен, пеннокипящий кубок. В минувшие года назад дороги нет. Мне байку затрави, веселый пустомеля. Недаром, как всегда, обмолвился поэт, За возрастом любви приходит возраст хмеля. Пригублю через край и дух переведу, Общение мужчин – первоисточник пьянства. Не будь неурожай на фрукты в том году, И не было б причин трагедии троянской. Пусть, солнечным теплом с утра заполнив сад, Плоды готовит зной для дружественной пьянки И, становясь вином, вскипает виноград Под узкою ступней прекрасной афинянки. 1997Ивы
Над берегом танцующие ивы, Застывшие, как пляшущие Шивы, В разлете извивающихся рук. Еще лишенных лиственной окраски, Из многолетней судорожной пляски Дневною вспышкой выхвачены вдруг. Нам не увидеть этого движенья, Когда изменят ветви положенье, — Одна пойдет наверх, другая вниз. Так плясуны, несущиеся в танце, Не могут неподвижными остаться, Какими их изобразил Матисс. Вокруг наброски майских акварелей, И соловей осваивает трели, Неслыханные пробуя лады. Лишь к осени с седых лаокоонов Скользнет листва Офелией зеленой В кружение стремительной воды. Припомни, как в «замри» играли в детстве. Мы все живем в пространственном соседстве, Где от мгновенья век неотличим, Обнявшиеся в общем хороводе, И нету неподвижности в природе, — Есть только такты разных величин. 1997«Начинается все и кончается речкой…»
Начинается все и кончается речкой, — Это вечно. Не бывает другого пути. Так лосось, голубые глубины качавший в сетчатке, Прорывается снова в речные ущелья Камчатки, Чтобы вверх по камням на израненном брюхе ползти. Так мерцающий угорь балтийский, себе же на горе, Покидает плавучий цветник Сарагассова моря И плывет на восток, затевая с волнами игру, Чтобы вновь отыскав им когда-то покинутый Неман, В омутах его сгинуть покорно и немо, Перед смертью молокой обрызгав икру. Да и сам я, рожденный под знаком созвездия Рыбы, Ощущаю в себе неизвестные прежде порывы Умирать возвратиться к истокам покинутых рек, Где икринкой качался за тонкой квартирною стенкой Между Невской протокой и мутною речкой Смоленкой, Где с моим заодно и двадцатый кончается век. И когда, уступая беде, Я на дно погружусь, в неизвестность последнюю канув, То увижу на миг не просторы пяти океанов, — Надо мной проплывет на исходе финала Неопрятный пейзаж городского канала, Отраженный в холодной воде. 1997«Не сгибался угодливо вроде бы…»
Не сгибался угодливо вроде бы, Всемогущим хвала небесам, И стихи про любимую Родину По заявке властей не писал, Про величие красного знамени И высоких партийных идей. Было радостно мне от сознания, Что уран я ищу для людей. Лишь к тебе обращался в работе я, Бог распада, – подземный Плутон, И нисколько меня не заботило, Что из этого выйдет потом. Оснащенный приборами ловкими, В океанской мерцающей мгле, Я следил за подводными лодками, Чтобы мир укрепить на Земле. Самолюбие теплила гордое Очевидная польза труда, А поэмы начальству в угоду я Никогда не писал, никогда. 1996Система Декарта (песня)
Наташе Касперович
Давайте отложим вчерашние планы до нового марта, — Дожди, бездорожье и рыжее пламя в системе Декарта. И в небе над бором срываются звезды с привычного круга. «В осеннюю пору любить уже поздно», – вздыхает подруга. Забудем про бремя мальчишеской прыти, в леса эти канув. Кончается время веселых открытий и новых романов. Поймешь в холода, поразмысливши мудро, что крыть уже нечем, И даже когда начинается утро, то все-таки вечер. Храните от боли усталые нервы, не слушайте бредни Об этой любови, что кажется первой, а стала последней. Сырой и тревожной для леса и поля порой облетанья Менять невозможно по собственной воле среду обитанья. Но жизнь и такая мила и желанна, замечу я робко, Пока привлекают пустая поляна и полная стопка. Пока мы под сердцем любовь эту носим, все ставя на карту, И тихое скерцо пиликает осень в системе Декарта. 1997Поэмы
Прощание с отцом
1
Купаю в ванной старого отца. Как реставратор чуткий и художник, Я губкой вытираю осторожно Черты его усталого лица. Он жмурится, глаза ладонью трет, И смутно я припоминаю: Витебск. Отец мой молод. Мне, примерно, год. Меня купают в цинковом корыте. Я жмурюсь, отбиваясь, как слепец. Скатив меня водою напоследок, Мать держит полотенце, и отец В руках меня вращает так и эдак. Я набираю мыло на ладонь И тру суставов желтые сплетенья. Я скатываю теплою водой Младенческое розовое темя. Отец молчит, его сейчас здесь нет, — Заполненное паром помещенье В нем тоже вызывает ощущенье Его далеких, самых первых лет. Начало жизни и ее конец Обручены с беспомощностью детства, С теплом воды, и никуда не деться От этого. Прости меня, отец!2
Услышав, что отец мой обречен, Что сколько путь к светилам ни тропи я, Бессмысленна любая терапия, А знахари и травы – ни при чем, Ему купил я общую тетрадь, И тепля в нем судьбы его незнанье, Просил его начать воспоминанья, — О юности и детстве написать. Отец, переживавший свой недуг И не привыкший к долгому безделью, Поставил столик рядышком с постелью И стал писать, не покладая рук. День изо дня он вспоминал с трудом, То позабыв, то вдруг припомнив снова, Старогубернский облик Могилева, И дедовский сгоревший позже дом. Жизнь возвращал он близким и родным, Их имена записывал в тетрадку, Как человек, приученный к порядку, И делом озабоченный своим. Отец слабел и таял с каждым днем. Его писанья приближались к цели, И легкие внутри него горели Неугасимым тлеющим огнем. Тупою болью наполнялись сны. Мгновение бедою нам грозило. С трудом переходила осень в зиму, И радости не ждал я от весны. А он писал, невидимо горя, Не славы и не заработка ради, Хотя, увы, листы календаря Мелькали чаще, чем листы тетради. Он годы жизни гнал наоборот, Неугасимым пламенем объятый. Воспоминанья двигались вперед: Семнадцатый, двадцатый, двадцать пятый. И видел я, его успехам рад, Осенний сад с крутящейся листвою, Мерцающие шпили над Невою, — Таким отцу открылся Ленинград. Там над колонной вспыхивал кумач, Литые трубы полыхали медью. Недолго продолжался этот матч, — Соревнованье между ним и Смертью. Когда в гробу лежал он, недвижим, В парадной, непривычной мне, одежде, И родичи, не умершие прежде, Склонялись опечаленно над ним, Он светел был и был далек от нас, Заплаканных, угрюмых, мешковатых, Как будто находился в этот час В начале вспоминаемых тридцатых, Где оборвал последние слова Внезапной смерти цепенящий холод, Где мать была покойная жива, И я был мал, и он еще был молод.3
Я вижу на холсте снегами убеленный Васильевский. Возок торопится по льду. Дворцовый мост вдали, Ростральные колонны, — Так выглядело все в пятнадцатом году. Пустынен невский лед. Еще трехтрубный крейсер Из моря не спешит на помощь Ильичу. Мой дед среди болот над черствой коркой пресной Все молится и жжет до полночи свечу. Вот угловой наш дом, в котором и в помине Меня пока что нет. Вот Соловьевский сад, Гуляющие в нем, и краски на картине Пока еще не мне, а им принадлежат. Над площадью Труда – мерцанье колоколен, — От них уже давно не сыщешь и следа. Семь лет пока отцу, и учится он в школе, — Лишь через десять лет приедет он сюда. Я верить бы хотел, что мой потомок дальний В каком-то для меня недостижимом дне Увидит этот холст, и зыбкий контур зданий Покажется ему знакомым, как и мне. Пусть будет мир снегами запорошен, Пусть те же за окном клубятся облака, Покуда он глядит, задумавшись о прошлом, На улицу и дом, где нет его пока.4
Мой дед утверждал, что радио придумали большевики, (И он, и его старуха их жаловали не очень), Не смеха придумали ради – думать уже не с руки, Когда тебе что-то в ухо с утра кричат и до ночи. Усердно молившийся Богу он пережил трех царей, И в восемьдесят четыре себя ощущал не старым, Всегда соблюдал субботу как верующий еврей, Из радостей бренных мира русскую баню с паром Предпочитая другому. Он умер в тридцать шестом, Не зная хмельного зелья, на пороге эпохи гиблой, А бабку в военные годы немцы уже потом Живьем закопали в землю, – где теперь их могилы? Мой дед невелик был ростом, лыс и седобород. Когда его вспоминаю, видится мне иное: Лугов белорусских росы и вязкая ткань дорог, Которую приминаю пыльной своей ступнею. В вечернюю тихую пору куда-то мы с ним идем Сквозь теплый и синий воздух, и небосвод над нами Как бархатный свиток Торы вращается, и на нем Высвечиваются звезды желтыми письменами.5
Отец мой умер на моих руках. Не верую в переселенье душ я. Сценарий смерти я, себе на страх, Знал наперед: кровь горлом и удушье. Его лицо я не могу забыть С улыбкой виноватою и странной, Когда отца успел я обхватить Руками, – он упал, дойдя до ванной. Об этом часто вспоминать не смею. Любовь – не подвиг, жизнь – не самоцель. Что сыну написать могу в письме я, Отправленном за тридевять земель? В его последних, так сказать, строках? Сижу один, не зажигая света. Отец мой умер на моих руках, — Не каждому дается счастье это.6
Я разбирал отцовское жилье, К нему боясь притронуться вначале. Пускай вас минет, пуще всех печалей, Унылое занятие мое. И позднее отчаяние жгло Меня, когда, медлительный и робкий, Я книги упаковывал в коробки И в тряпки заворачивал стекло. Мне вспомнились блокада и война, Пора бомбежек и поспешных сборов, Закрашенные купола собора, Что виден был из нашего окна. Осколки бомб царапали фасад, Но, связывая узел из одежды, Вернуться я надеялся назад, — Теперь на это не было надежды. Я разрушал отцовское жилье, Дом детства моего, мою защиту. Пусть этот подвиг будет мне засчитан, Когда земное кончу бытие. Был интерьер его неповторим В пространстве тесном с мебелью не новой. В той комнате, что спальней и столовой Немало лет служила нам троим. Сюда сентябрь зашвыривал листву, Июньский свет в окне полночном брезжил. Женившись, переехал я в Москву, И навещал родителей все реже. Я вспоминаю поздние года, Когда, работой суетной измучен, Здесь ночевал наездом иногда На стареньком диванчике скрипучем. За занавеской лунный свет в окне Тяжелая раздваивала рама, Часы негромко били в тишине, — Все хорошо, мол, спите, еще рано. Крахмальная хрустела простыня, Родители дремали по соседству, И взрослого баюкало меня Пушистое прикосновенье детства. Был кораблю подобен этот дом, Куда я заезжал всего на сутки. Раскачивались ветки за окном, И пол скрипел, как палуба на судне. Мне все казалось неизменным в нем, И сам я, возвратившийся из странствий, Не замечал, что вместе мы плывем Во времени, увы, а не в пространстве. Летучим снегом сделавшись, вода Легла на Землю черную устало, И ранние настали холода, Когда внезапно матери не стало. Отцу здесь горько было одному, — Он сгорбился и высох от страданий, Но был он педантичен, и в дому Поддерживал порядок стародавний. Сияла так же люстра над столом, Смотрел с портрета на вошедших Пушкин, Сияли статуэтки за стеклом, — (Мать с юности любила безделушки). Пора спешить – машина ждет внизу. Воспоминаньем сердца не утешу. Я вещи в новый дом перевезу, И люстру над столом своим повешу. Пускай они врастают в новый быт, И новое приобретают имя. Пусть будет факт потомками моими, Столь очевидный для меня, забыт, Что этот рог смешной из хрусталя, Резной орел из дерева и кресло, — Не вещи, а обломки корабля, Которому не суждено воскреснуть.7
Меняет время цвет лица. Различны старики, и все же, Они на моего отца Теперь становятся похожи. Где их теперь ни встречу я, Мне в каждом видится родное, — Как будто летние края Зима сровняла белизною. Любви цветочная пыльца, Загар дорог и копоть боя, — А время грим сотрет с лица, И каждый станет сам собою. Мне всех талантов и ума Дороже право первородства: Пусть и во мне найдут с ним сходство, Когда придет моя зима!8
Покинут сыном, схоронив отца, Сижу один, невесел и немолод. Из двух дверей смертельный дует холод, Попахивая близостью конца. Перед закатом пасмурного дня Я собираю прошлого осколки, Старательно и бережно, поскольку Нет будущего больше у меня. Пытаюсь лица близких различить На пожелтевших выгоревших снимках. Как увязать оборванную нить? Как прошлое увидеть через дымку, Что пахнет дымом детства моего, Отсвечивает вспышками пожара? Лет восемьдесят разберешь, пожалуй, А дальше не отыщешь никого. Смотрю я понапрасну в черноту Стеклянных довоенных негативов: Мой род сгорел, как листья на ветру, Ушел в песок, не сохранив архивов. Шумит на ветках новая листва, Плод современный зелен до оскомин, И как Иван, не помнящий родства, Я одинок, беспомощен и темен.9
И все же есть моя земля, — Теперь я знаю это точно. Там за канавою проточной, Где царскосельские поля Глухой обрезаны стеной, Увенчанной вороньим криком, В аэропорте невеликом, Где отлетают в мир иной. Там меж деревьев вековых Кружат окрестные метели, Там у подножья старой ели Приют родителей моих. Среди безлюдных этих мест, От стен Софии за две мили, Где могендовиды и крест Сосуществуют в вечном мире, В земле болотистой и грустной, Чухонской, шведской или русской, На склоне сумрачного дня, Под рощей чахлой и нечастой, В конце еврейского участка Осталось место для меня.10
За чертою оседлости горькой, Посреди белорусских болот, В том местечке на лысом пригорке, Где ютился когда-то мой род, Где нужду и лишенья терпели, — Хуже не было их на Руси, Иерархии жесткой ступени Разделяли отверженных сих. И в конце этой черни и пыли, На последнем ее рубеже, Музыканты и нищие были, — Дальше нету ступени уже. Не ищу себе предка дороже, А хочу, чтобы в прошлых веках Затесался в родню мою тоже Оборванец со скрипкой в руках. Я их вижу, худых и носатых, Размышляющих о медяках, В долгополых кафтанах, в заплатах, На высоких смешных каблуках, В тех шинках моего воеводства, Где играли они до зари, И смотрели на них с превосходством Водовозы и золотари. Помню с детства отцовскую фразу: «Кем угодно, но не скрипачом!» Как мне жаль, что я в жизни ни разу Никогда не играл ни на чем! Стану я одиноким и старым, И судьба приплетется за мной, Как Бетховен, в четыре удара, Постучавши у двери входной. В этот час, когда дверь моя скрипнет, Я хочу умереть налегке, Ощущая потертую скрипку В потерявшей подвижность руке. 1987, Царское Село – МоскваОкна
1
Припоминаются неточно Минувшей жизни времена. Припоминается лишь то, что Когда-то видел из окна. Где все, что мне принадлежало, Принадлежит уже не мне, — Витраж осеннего канала На Петроградской стороне, И ангел в облаке высоком Над Петропавловской стеной. Ландшафт, зажатый в рамках окон, Переменился. Под Луной Все в мире видится иначе, Когда снаружи из окна Пустырь окраины маячит И дома блочного стена. Проснувшийся в пучине комнат, Ночным послушен голосам, Ты все никак не можешь вспомнить, Где ты живешь и кто ты сам. Но приступом гипертонии Тебя затронувший циклон Пейзажи высветит иные За остывающим стеклом. Их фотоснимков отпечатки Возникнут в этот поздний час, Запечатленные сетчаткой Не улыбающихся глаз.2
Василеостровского роддома За зиму не мытое окно, Где вблизи владений Посейдона Было свет увидеть мне дано, Я не помню. Помнятся другие Окна, выходящие во двор. Рецидивом странной ностальгии Мне они мерцают до сих пор. В них лучились бриллианты влаги, Солнце отражалось, а потом Узкие полоски из бумаги Их косым заклеили крестом. Белые кресты меня закрыли От грозящей смертью высоты, Где над домом на ревущих крыльях Пролетали черные кресты. Там в полнеба темного, огромны, Осеняли наш убогий кров Белые светящиеся ромбы Скрещенных в ночи прожекторов. И бомбежки дымное кадило Сыпало осколки на жилье, Где под лай зениток проходило Первое крещение мое.3
Стена, как Ванька-встанька, От двери до угла. Поет мне песню нянька Про солнце и орла, Крестецкою растяжкой Коверкая слова. Садится солнце тяжко В окне за острова. Орел, избегнув сети, Летит к себе домой. Струится теплый ветер По Линии Седьмой. Июньское бесцветье, И тридцать пятый год. Струится пыльный ветер Вдоль запертых ворот, У близкого причала Качая корабли. Вот здесь мое начало, И край моей земли, Где то, что в коммуналке, И то, что за стеной, Покачивает валко Единою волной, Та песня, что надолго Мне на душу легла, Как ощущенье дома, И света, и тепла.4
В чужую коммуналку попроситься, Где музыка веселая слышна, И отодвинув занавес из ситца, Во двор забытый глянув из окна, Дошкольные нестриженые кудри Почувствовав на плеши надо лбом. Здесь жил дантист с фамилиею Курдик, В конце блокады умерший потом. Он был военврачом – четыре шпалы И маленькая чаша со змеей В петлице. Приходил домой усталый, И мне играть давал на выходной Большую трость. На ней, как на лошадке, Скакал я, покоряя коридор. Старинную резную рукоятку Отчетливо я вижу до сих пор, Увенчанную головой собаки С зелеными глазами из стекла. Все остальное – словно бы во мраке. Все остальное Лета унесла. В ней теплятся лишь абажуры комнат, Что виделись напротив из окна, Их яркий свет. А дальше мне не вспомнить, А дальше – затемнение, война.5
Летит окрестная листва На мокрый парапет. На Мойке, восемьдесят два Я прожил много лет. Несолнечная сторона На северо-восток, Налево – ангел у окна, Направо – водосток. Свистели бомбы за окном, Был зимний ветер лют, Ах, ночи белые потом, И праздничный салют! Прожектор бело-голубой И разноцветный снег! Ах, эта первая любовь, Что помнится навек! На Мойке, восемьдесят два Я числился, жилец. На Кировские острова Возил меня отец. Отстукивал мне время днем Привычный метроном, Солдаты пели перед сном, Шагая под окном. Стоял на Мойке старый дом, И с самого утра Скрипели весла за окном, Пыхтели катера. О ветер странствий у виска, И перекличка стай! О, эта сладкая тоска, — Фокстрот «Цветущий май»! На Мойке, восемьдесят два Я прожил много лет. Соседи сникли, как трава, Иных – в помине нет. Зажгитесь давние огни, Пластиночка, играй! Верни мне прошлое, верни Тот коммунальный рай, Когда блокада и война Стучали в нашу дверь, Но мир из этого окна Был лучше, чем теперь.6
Синий снег от фонарных огней Загорается солнечным спектром, Мимо клодтовских черных коней Пролетая над Невским проспектом. Трубачи за стеною трубят, Плясунам выступления снятся. В комнатушке – двенадцать ребят, Мне – четырнадцать, им – по пятнадцать. А учитель раскладывал книжки, Их из сумки достав полевой, Ожидал, когда стихнут мальчишки, И курчавой качал головой. За незнание нас не коря, Вне Земли существующий где-то, Словно образ Христа дикарям, Открывал он Вийона и Фета. Нам сердца он глаголами жег, Обращая в опасную веру, И молчали, собравшись в кружок, Литкружковцы Дворца пионеров. И струился, губя новичков, Яд поэзии, сладкий и горький, От его беззащитных очков, От защитной его гимнастерки. Нас родители ждали домой, Не ложились до позднего часа, Год опасливый сорок седьмой В коммунальные двери стучался. Ненадежна была тишина, — Только в видимость мира одета, За стеной продолжалась война, Гибли люди и рядом, и где-то. Не упомню ни бед, ни грехов, — Только строки певучие эти, И потертые книжки стихов В офицерском скрипучем планшете.7
В редеющих сумерках раннего часа Прикрою глаза и увижу украдкой Просторные окна холодного класса, Пропахшего мелом и кислою тряпкой, Где, перемещаясь в пространство иное, Следил я, глаза отведя от тетрадки, За чайкой, кружившей над красной стеною Петровской, надежной, незыблемой кладки. Там утро вставало над городом мглистым. Мерцала вдали куполов позолота. Качались на Мойке багряные листья, — Резные суда лилипутского флота. И в сумерках серых полоской неяркой, Забитый мазутом и водочной тарой, Напротив канал колыхался под аркой, — Дорога от Новой Голландии к старой. И здание школы, как судно, кренилось Под яростным криком стремительной чайки, И солнце нездешнее, вспыхнув в чернилах, Грозило пролиться из невыливайки. В шторма океанов звала эта ярость, Навстречу мальчишеским книгам заветным, И облако в небе светилось, как парус, Балтийским сырым напрягаемый ветром.8
За серыми окнами Горного, — Забыть их до смерти нельзя, Где лекции слушал покорно я, Азы теормеха грызя, Над линией узкой причальною Маячили верфи вдали, Гудками глухими печальными Прощались с землей корабли. За серыми окнами Горного, Дневной застилая нам свет, Желтея большими погонами, Огромный качался портрет. Мы шли с первомайскими флагами, Усталых не чувствуя ног, Под статуей Сталина плакали, Купив со стипендий венок. За серыми окнами Горного Рассвет загорался и гас. Желание славы упорное Сжигало неопытных нас. Направо вели экспедиции, Налево блестела вода, — Присевшими на воду птицами Качались у пирса суда. За серыми окнами Горного Клубился туман над Невой, И небо, от копоти черное, Вдруг вспыхивало синевой. И плыли в воде отражения, И вензель мерцал у плеча, Как солнечное продолжение Рожденного в небе луча.9
Был недоступен видевшийся рядом Гиссарских гор багряный окоем. С Григорьевой, начальницей отряда, Полмесяца мы прожили вдвоем. Уран мы там искали или медь, Не помню. По ночам на перевале В одном мешке мы с ней в обнимку спали, Чтобы друг друга в холод отогреть. Свет гаснул постепенно, как в кино. Во тьме шакалы выли, то и дело, И, не мигая, нам в глаза глядело Ночного неба звездное окно. Мне было девятнадцать, тридцать ей, И для меня она было старуха. Ее дыхание щекотало ухо, Могучий жар струился от грудей. Мне было девятнадцать, тридцать ей, — Я был как первоклассник целомудрен. Нам на рассвете ветер лица пудрил, Окутывая снегом до бровей. У каменистых склонов на груди Рисунок гор обозначался слабо. Кончался май. Все было впереди, — «И женщины, и подвиги, и слава».10
Окошечко на полюс В палатке меховой, Где проводили поиск, Рискуя головой, На дышащей на ладан Пластинке изо льда. Высокие оклады Платили нам тогда! Открыточки с «бикини» Отрады не дают. Куда здесь глаз ни кинешь, Увидишь только юг. Вода под нами плещет, И горек сукрозит. Пучок ледовых трещин Угробить нас грозит. Над глубью океана, От Питера вдали, Сошлись меридианы На лысине Земли. Грустить, приятель, брось-ка, Щетину теребя, — Земля, как мяч в авоське, Под пяткой у тебя. Гляди, приятель, зорко, Чтоб колыхаться мог Над газовой конфоркой Сиреневый цветок. Окошечко не полюс В палатке меховой, Где голые по пояс Водою снеговой Мы растирались дружно, С планетою «на ты», И день сиял снаружи, Не зная темноты. Над зыблющейся бездной Мы жили, муравьи, Раскрывшей нам любезно Объятия свои. Окошечко на полюс, Верни мне этот свет, Где спал, не беспокоясь, Не ожидая бед, Под белым снежным ливнем Арктических высот, Уверенный наивно, Что Родина спасет.11
Отворотившись от соседей, В окно оконное взгляни. В какую сторону ни едешь, Всегда назад бегут огни. Всегда обратно. И бесстрастно, Как транссибирская река, Необратимое пространство Качает путников слегка. Мир – смена снимков моментальных, Не замедляющих свой бег. Взгляни, – вот ближний план, вот дальний. Взглянул? – Прощайся с ним навек. Не обещай вернуться скоро, Не жди напрасно, – это ложь, Что ты приедешь в тот же город, И к той же женщине придешь, Что возвратят свиданье с нею Земли округлые бока. Не жди, – твой путь прямолинеен, Как нить, упавшая с клубка.12
Земным заботам вопреки, Мне вспомнятся некстати Иллюминаторов очки В подводном аппарате, В котором, глядя вслед лучу, Следя за эхолотом, Лежал и я, плечом к плечу С нахмуренным пилотом. Кальмары, в темной глубине Подлодку обнаружив, В лицо заглядывали мне Через стекло снаружи. И оторвавшийся от дел, Которыми был занят, На мир, как рыба, я глядел Округлыми глазами. Росла в нем красная трава, Дышали массой серой Таинственные существа, Питавшиеся серой. Там, потревоженный винтом, Снежинкой по карнизу, В луче прожектора планктон Перемещался книзу. И глядя в черное стекло, Мы ввинчивались в воду, Чтобы вернуть себе тепло, И солнце, и свободу.13
Те окна города ночного, Что нынче стали далеки, Внезапно возникают снова Над изголовием строки. Припоминаются нежданно Те легкомысленные дни. От Купчино и до Гражданки Мигали зыбкие огни. И я спешил навстречу свету В неосторожный поздний час, Лишь двухкопеечной монетой Вооруженный про запас. Сбежав от тягостной попойки И опостылевшей жены, Вдоль по Литейному и Мойке, Вдоль Петропавловской стены, Ведомый страстью безрассудной, Тоскою пьяною гоним, В ночи я двигался, как судно, Ориентируясь по ним. Сулило счастье и забвенье Их ненадежное тепло. Листвы коричневые звенья В окно стучали тяжело. Ломило голову наутро, В тумане гасли фонари, И я припоминаю смутно Увиденное изнутри. Ах, окна Северной столицы, Светившие когда-то мне! Мелькают в них чужие лица, Другие шторы на окне. Но интерьер забытых комнат Припоминаю всякий раз, Когда по улице знакомой Я проезжаю в поздний час. Сдержи, водитель безучастный, Коней бензиновый разбег, — Хоть раз украденное счастье Приобретается навек. И вспыхнет вновь в проеме окон, Ударив в сердце горячо, Покинутой подруги локон, Ее жемчужное плечо. Мигает лампочка в подъезде, Кругом дождливо и темно, Но возникает свет созвездий, Не существующих давно. На океане и на суше, В дни одиночества и бед, Под старость согревает душу Необратимый этот свет.14
Не понимаю почему Мне видится все чаще Окошко круглое в дому, Плывущем и летящем. Клубился в нем Девятый вал, И шевелилась вьюга, Его очерчивал овал Латунный, а не угол. Маяк над Бельтом нам вослед Мигал в тумане хмуро, Вставал в полнеба алый свет Закатов Сингапура. В нем возникали города, Как знаки Зодиака. Гремела пенная вода От юта и до бака, Качая снова вверх и вниз, Как бы во дни потопа, То Дежнева скалистый мыс, То плоский мыс Европа. Крепчайший обещали ром Прибрежные таверны. Мерцал багряным фонарем Разгульный порт Антверпен. Огонь то вспыхивал, то гас, Перемещались краны, И отвести не мог я глаз От зыбкого экрана, Где опознать мечтали мы, Соскучившись жестоко, Новороссийские холмы, Хребты Владивостока. Там, словно тать в полночный час, Уверенно и споро, Глумясь, обыскивала нас Таможенная свора. Но горькой Родине своей Дарили мы прощенье За ожиданье этих дней, За праздник возвращенья.15
Дух города, он неизменно стоек, И в радости и в горести утрат. Проснуться меж безликих новостроек, Но твердо знать, что это Ленинград. Что облако, летящее крылато, И золото, горящее под ним, Такие же, как видел ты когда-то Над островом Васильевским своим. Что вновь тебе свою явила милость Земля обетованная твоя, Которая теперь распространилась До Муринского мутного ручья. Пусть с сердца не отмыть мне ржавых пятен, Лицо свое не сделать молодым, — Все те же мы: нам сладок и приятен Отечества канцерогенный дым. И бьется сердце юношеским ритмом, Его уже забывшее давно, Когда из кухни малогабаритной В Финляндию распахнуто окно. А за окном – желтеющие дюны, Июньский день, не знающий конца, И провода натянуты, как струны, Над декою трамвайного кольца.16
С кровати крашеной больничной, Последний покидая дом, Я буду взглядом безразличным Смотреть на то, что за окном. На город, некогда любимый, Который не увижу впредь, На кисть зеленую рябины, Которой больше не созреть. И снова ост сойдется с вестом В пространстве сжавшемся моем, Где день приезда и отъезда Считаются единым днем. Измучен трубкою дренажной, Поняв, что время истекло, Я вспомню, что смотрел однажды Вот в это пыльное стекло. Уже готова к воспаренью, Нездешним холодом дыша, Мне перевернутое зренье Вернет усталая душа. И надо мною вспыхнет снова Через десятки долгих лет Окошко на углу Большого, Где первый мне забрезжил свет. И небо синевою летней Блеснет среди балтийских туч, Где первый свет и свет последний В один соединятся луч. 1994, ПеределкиноПаруса «Крузенштерна»
Расправлены вымпелы гордо.
Не жди меня скоро, жена, —
Опять закипает у борта
Крутого посола волна.
Под северным солнцем неверным,
Под южных небес синевой —
Всегда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.
1963 От полюсов планеты До низких ее широт Парусников, как этот, Не знал человеческий род. Король океанских ветров, Сто моряков экипаж, Длина сто пятнадцать метров, Пять тысяч семьсот тоннаж. От тропиков до ледовых Полей простерт его бег. У женщины век недолог, У судна короче век. В электролите рассола Все разъедающих вод Лет тридцать, от силы сорок, — Он семьдесят лет живет. Пернатых флотилий гордость, Как прежде он юн на вид, Поскольку стальной его корпус Пробковым дубом обшит. На волне поднимаясь и падая, Плывет он через года, Построен в Германии. «Падуя» — Назвали его тогда, Парусник предназначая В Европу кофе везти, Поскольку кофе и чаю С соляркой не по пути. И кофе на нем возили Вдоль лошадиных широт Из солнечной Бразилии, О которой Киплинг поет. Полвека назад повстречал я Его на Неве моей, Сутулился он у причала, Захваченный, как трофей. Мог ли тогда догадаться, В сорок шестом году, Что на этом «Летучем Голландце» И я в океан пойду? Метельной порой суровой, В студеном кипении вод, В январе шестьдесят второго Я ушел на нем в первый поход, Где мы пятый угол искали, Получая волной под дых, В Северном море, в Бискае, В ревущих сороковых. Соленой пивною пеной Клубился девятый вал, Критический угол крена Из нижних отсеков звал. И борясь с налетевшим шквалом, Главстаршина Овчухов Из «АК» отстреливал фалы Рвущихся кливеров. Офицеры в шторма не однажды, Поминая Бога и мать, Ордена надевали, нам же Было нечего надевать. Позабуду ли безрассудно, Вспоминая те годы вновь, Мое первое в жизни судно, Первую любовь? Как, шторма одолев вначале, Убежав от плавучих льдов, Мы к Америке шли ночами Рядом с парусником «Седов». За кормою струя белела, И над палубой, как всегда, Южный Крест намечался слева. Справа маленькая звезда, Именуемая Полярной, Появлялась во тьме опять. Запрокинутый ковш янтарный Все старался ее поймать. Выпьем стоя за капитанов Незапамятных тех времен. Петр Сергеевич Митрофанов, — Самый первый ему поклон. Худощавый, словно Суворов, Он скучает в райских садах, Но его командирский норов На обоих знали судах. Капитан Пал Васильич Власов, Рыжеусый крутой моряк, Прикажите, как прежде, басом Замереть на гюйс и на флаг. Недоверчивый и внимательный, Оглушительный, словно гром, Строевым владевший, и матерным, И русским со словарем, Он чеканил норд-остом скулы, Был удачлив всегда и смел, Сердце выловленной акулы На пари, не поморщась, съел. Мой старпом разлюбезный, Шишин, И тебя поминает стих, Никогда уже не услышим Мы соленых баек твоих. Ты всему, чем живут на флоте, Обучал, не жалея сил, Посылая пить чай на клотик, Объявляя, что якорь всплыл. Ах, помощник, Володя Роев, Знавший парусное ремесло, Что хвалил меня перед строем И в вельботе мне дал весло! Что кричал в матюгальник ржавый Через дождь и соленый мрак: «Все наверх! На брасы, на правую! Реи правого галса бакштаг!» Особисты и замполиты, Угнетавшие нас тогда, Чьи вчерашние карты биты, Смею думать, что навсегда, Вас все те же шторма качали От родных берегов вдали, — Слава Богу, не настучали, Не списали, не донесли. Выпьем стоя за капитанов Позабытых сегодня лет, Что ушли, в неизвестность канув, — Те далече, а этих нет. Над эскадрою капитанской Сине-белый распустит флаг Михаил Михалыч Казанский, Что волне не подставит лаг. Будет снова в моей каюте Колыхаться зеленый мрак, Встанут ютовые на юте, Встанут баковые на бак. И опять через шквал и темень К проблесковым огням таверн Поплывет обрусевший немец, Нестареющий «Крузенштерн». Я и он – инородцы оба, Но хотя и на разный лад, Мы России верны до гроба, «До бушлата», – как говорят. От колючих ветров ослепнув, Начинивший пространством кровь, Объявляю своей последней Эту юношескую любовь. Мы увидимся снова скоро. Ничего, что на этот раз От моста Николы Морского Это судно уйдет без нас. В гуде ветра и птичьем писке, Свой земной завершая путь, Мы в последнем порту приписки Соберемся когда-нибудь, Чтобы вместе из этой гавани, По монетке зажав во рту, Выйти вновь в бессрочное плаванье На высоком его борту. 1996Старый патефон
Ю. Хаютину
Для чего храню на антресолях Патефон с затупленной иглою И пластинок довоенных пачку? Все равно я слушать их не буду. Все они, согласно этикеткам, Сделаны Апрелевским заводом. Тот завод давно уже закрылся, Но своим мне памятен названьем, Так же, как и Баковский, наверно. Я пытался как-то на досуге Оживить его стальную душу И крутил весьма усердно ручку, Чтобы завести его. Когда-то Заводили так автомобили. Но пружина, видимо, ослабла, А чинить никто и не берется. Впрочем, мне достаточно названий Песенок на выцветших конвертах, — Перечту – и снова зазвучали. Сорок пятый. Лето. Чернолучье — Пионерский лагерь возле Омска И песчаный пляж на диком бреге Иртыша. Не первая любовь, А, скорее, первая влюбленность. Мне двенадцать, ей – едва за десять, И зовут, конечно же, Татьяной. Поцелуи? Боже упаси! — Только разговоры или вздохи. Лето сорок пятого, а значит В Ленинград мне скоро возвращаться, Ей же – в Белоруссию. И письма Шли шесть лет из Бреста в Ленинград И обратно. Каждый адресат Уверял другого в вечной дружбе, Что с годами перейдет, быть может… Помню, классе, кажется, в девятом, Получил в письме я фотоснимок: На крыльце сидит она. Коса За плечо закинута, и грудь Проступает явственно под блузкой. Бешено заколотилось сердце, И во рту внезапно пересохло. Через пару лет она и вправду Прикатила в Питер и учиться Поступила в Университет На истфак. Вот тут бы и расцвесть Вновь эпистолярному роману! Но ее тогда я познакомил Со своим приятелем случайно. Был я – первокурсник желторотый, Он уже заканчивал второй И носил горняцкую фуражку С узким козырьком а ля Нахимов И высокой бархатной тульею, Черного же бархата погоны С золоченым вензелем литым И изящной синей окантовкой. Надевал он темные очки И, общественной согласно мерке, Приобрел мужской изрядный опыт, Так как регулярно посещал «Мраморный» – весьма известный зал Танцевальный в Кировском ДК, Где происходили то и дело Громкие разборки из-за женщин Между горняками (общежитье Наше было рядом – Малый, сорок) И курсантами морских училищ, Чаще с преимуществом последних, В те поры ходивших с палашами, Мой же опыт равен был нулю. В этом месте можно ставить точку, Потому что старая пластинка, С хрипотцой утесовской лукавой, Мне некстати вдруг напоминает, — У меня есть сердце, а у сердца — Песня, а у этой песни – тайна. Тайна же – достойна умолчанья, Да и патефон ведь неисправен. 1997Крестьянка Оля
Все это началось в семидесятом Или позднее на год. В том году Из-за развода мне закрыли визу И не пустили в океанский рейс. И мой дружок, доцент из МГУ (Сейчас он академик и профессор), Позвал меня преподавать на юг, На практику учебную, на судно «Московский университет». Оно В Крыму тогда базировалось. Прежде Кораблик этот, по проекту тральщик, Доставшийся от немцев как трофей, Был яхтою великого вождя, С названием «Рион». Согласно мифу, Усатый гений только раз всего Ступил на этот борт и пожелал Немедля выйти в море. Капитан, Хотя погода портилась, не смел Ему перечить. Судно в море вышло, И грянул шторм, осенний черноморский, Который здесь покруче океанских. Все укачались – экипаж, охрана, И только вождь один не укачался. Не раскуривший отсыревшей трубки, Невозмутимо он сидел в салоне И желтыми кошачьими глазами Смотрел на непокорную стихию. Когда же судно возвратилось в Ялту, Он Берию позвал и, дав ему Отмыться от блевотины, сказал, Что надо присмотреться к капитану, И капитан исчез. В каюте этой, Где Берия когда-то укачался, Я прожил две недели. И однажды, На палубу поднявшись, я увидел Ее впервые. С ножиком в руке Она сидела над большой кастрюлей И чистила картошку. В этот день Явилась смена новая студентов, И тут же их направили на камбуз. Когда я с нею встретился глазами, То моментально понял, что погиб, — Так чувствовал себя, наверно, Кай Под взглядом проезжавшей королевы. Она была мучительно красива Той редкою российской красотой, Которую словами не опишешь, А кистью удавалось передать Лишь Нестерову или Васнецову. И я узнал ее, поскольку в детстве Уже однажды видел на картине, Где в непроглядном ельнике сыром Иван-царевич, скачущий на волке, Везет царевну. На другое утро Я обнаружил у себя в каюте Букетик пыльных полевых цветов, И по тому, как на меня она Лукаво на занятии взглянула И сразу же потупилась смиренно, Я догадался, кто его принес. А после мы расстались. Я вернулся Обратно в Питер, а она в Москву, Но изменилось что-то. В сентябре Она ко мне примчалась на денек, И мы, шурша опавшею листвой, Бродили по ночному Ленинграду, Начав сначала – от дворца Трезини До Пряжки и Калинкина моста. Она мне представлялась в эту ночь Снегурочкой, что в Веденец сбежала От злых и недалеких берендеев. На следующий год я переехал В Москву и в рейс отправился в июле По ледовитым северным морям. Она же укатила в Казахстан На практику дипломную. И всюду, Во всех портах, куда мы заходили, На Диксоне, в Певеке, в Магадане, И далее в Хабаровске, – везде Я получал объемистые письма, Со штемпелем степного Казахстана, Пропахшие тяжелым пыльным солнцем И выжженной коричневой травой. До смерти никогда не позабуду, Как первый раз явился к ней в Москве На улицу Новаторов. Она Жила там на последнем этаже Пятиэтажки блочной. До сих пор Я помню адрес: дом сороковой, Четвертый корпус. Номер же квартиры Все с тою же четверкой – сорок пять. Дверь с лестницы была полуоткрыта. Она в передней домывала пол, На корточки присев и наклонившись Над тряпкой. На ее затылке русом, Где темечко меж лентами светлело, Как реки с одного водораздела Соломенные косы расходились, Сплетаясь вновь на загорелой шее. Сатиновый халатик, под которым Отчетливо обозначалась грудь, Был короток внизу и открывал Могучие янтарные колени, Чуть золотым покрытые пушком, Где наверху, над линией загара, Молочная мерцала белизна. Я не люблю худых изящных женщин, — Мне по душе гитарное барокко. Кустодиев и Рубенс мне милее Остроугольной Иды Рубинштейн. Углу предпочитаю я овал, И в Эрмитаже, школьником прыщавым, Стоять подолгу мог я, с вожделеньем Разглядывая статуи Майоля, Что назывались Фрина и Весна. Так вот, ни до, ни после этой встречи, Хотя немало самых разных женщин Встречалось в жизни путаной моей, Не испытал я и десятой доли Такой безумной жажды обладанья. Мы обнялись и опустились на пол, Ведро с водой при этом опрокинув. Я в эту ночь, осеннюю, глухую, Стал первым в жизни у нее мужчиной. Ах, лучше бы последним! Но тогда Мы не придали этому значенья. Где только с ней мы после не встречались, Раздобывая всякие ключи, В квартирах у друзей и их знакомых, В продымленных сварливых коммуналках, Где возле двери шастают соседи И выйти невозможно в туалет, В подвалах и мансардах, в мастерских Художников, в сараях, на пленэре, Где нас менты застукали однажды, В пустых апартаментах новостроек, Где мебелью служили нам газеты На скользком отциклеванном полу. Во всей Москве и ближнем Подмосковье Тогда, пожалуй, не было и дома, Где мы бы с нею днем не ночевали, А реже ночью. Получив диплом, На кафедре своей она осталась, Одновременно поступив ко мне В аспирантуру. В эти времена Я с Визбором ее и познакомил, Поскольку он, отправившись на съемки, Нам дал ключи от собственной квартиры На берегу Садового Кольца. Я песенку в ту пору написал О Пушкине – «Дуэль», и эта песня Ему, как видно, нравилась. Когда Представил я его своей подруге, Он руку протянул и произнес: «Привет, крестьянка Оля», – чем изрядный Мне сделал комплимент. И это имя Запало в душу ей и полюбилось. Туманный облик барышни-крестьянки Кружил ее головку золотую, И часто после этого себя Она с улыбкой Олей называла. Потом под осень, в семьдесят шестом, Мне удалось к себе ее оформить В морскую экспедицию, и месяц Мы штормовали около Курил На старом судне «Дмитрий Менделеев», Где дикости морского языка Она не уставала удивляться: «Что за команды странные – задраить Иллюминаторы на глухари. Сказать же можно попросту – закрыть На железяки круглые окошки». Забуду ли японские тайфуны У Итурупа? Носом на волну Стоял корабль более недели, Укрыться не успев за острова. И по ночам, когда безлюдно судно, Измученное многодневным штормом, По палубам кренящимся, по трапам, Из мокрых вырывающимся рук, По залитым водою коридорам, Тяжелые отдраивая двери, И закрывая бережно клинкеты, Она прокрадывалась снизу вверх, Стараясь, чтобы туфли не скрипели, Ко мне, в мою отдельную каюту. Там, занавесив узкое окно, Мы пили спирт, настоянный на зернах Лимонника – подарок Сахалина Японского, и горькое питье Закусывали ягодой клоповкой, С названием, обидным для нее, Поскольку никогда, да и нигде, Я ягоды не пробовал душистей. На узкой койке с синей занавеской Нас угнетала качка килевая, То выкинуть на палубу стараясь Через высокий деревянный бортик, Который больно ударялся в спину, То нас внезапно прижимая к стенке, Точнее – к переборке. За бортом, На метре от ее горячих ног И спутанных волос, кипела бездна Крутою пересоленной водой. Ревущая клубилась темнота, Подглядывая в мокрое окошко. Перемежая наши с нею стоны, Стонало судно от глухих ударов. Волна срывала шлюпки, через люки Тянула пальцы жадные к отсекам. Кок, обваривший руки, не готовил На камбузе обедов. О земле Вздыхали все, и только я один Мечтал о продолжении штормов. Потом мы с ней в Москву летели вместе Из снегом заметенного Артема. Я ей вино передавал в стакане, Мы пели песни, за руки держась, И с нею не могли уже расстаться, А не расстаться – тоже не могли. И оба понимали: все – конец. Примерно через месяц или два Она внезапно выскочила замуж, И с нею мы не виделись. По слухам, Она двоих девчонок родила И с мужем развелась внезапно, – так же Стремительно, как выходила замуж. А бывший муж, успевший прописаться В хрущевской их двухкомнатной квартире, Остался там же. Так они и жили, — Две дочери, она, ее мамаша И бывший муж, который ухитрялся Водить подруг в совковый этот рай. И все-таки осталась у нее Глухая тяга к Дальнему Востоку — К непроходимым зарослям бамбука, Крутым охотоморским побережьям И тихоокеанскому прибою, Качающему звезды на волне. На Сахалин отправилась она, Там завела роман и собиралась Переселиться в Южно-Сахалинск. Я сам туда ей, помнится, писал Тогда рекомендательные письма В морской дальневосточный институт, Но что-то не сложилось, и она Обратно возвратилась в МГУ На кафедру, на цокольный этаж, Где вечно дует. Нищая зарплата, Которой не хватает на троих, Старуха-мать, что вечно недовольна, И коммуналкой ставшая хрущоба. Мы с нею снова встретились зимой В пансионате Моженка, вблизи Звенигорода. Там тогда конгресс Научный проходил, – о чем, не помню. Все тот же цвет соломенный волос, Все та же стать царевны-несмеяны. Она под вечер постучалась в номер Ко мне, и мы до ночи пили кофе. Потом, уже собравшись уходить, Она сказала: «Если да – то да, А нет – так нет». И все пошло сначала. И вот совсем недавно, года два Тому назад, она опять умчалась, На этот раз на запад, выйдя замуж За немца. Он увез ее к себе В Германию, в провинцию Вестфален (А может быть, название другое), В свой крошечный опрятный городок, Где у него гостиница. При ней Кафе и бар. Ему нужна жена, Которая была бы в то же время Официанткой и посудомойкой, Поскольку нанимать – не по карману. В Европе жены русские в цене, Особенно в Германии, – они Неприхотливы и в работе споры, И красотою превосходят немок. Во Франкфурте-на-Майне год назад Я был с концертом, и она звонила По телефону: «Заезжай к нам в гости Попробовать рейнвейна». Я не мог Туда поехать. «Может быть, во Франкфурт Приедешь на концерт?» – «Да нет, – не выйдет. Работа от утра до поздней ночи Без выходных. Да и твои мне песни Не стоит слушать – обревусь потом». На станции метро, где парк культуры И Крымский мост, в подземном вестибюле, Я мраморную копию ее Недавно обнаружил – тот же профиль, Чуть вздернут нос, такой же лоб крутой Под гладкой винчианскою прической. Спокойные глаза, и белой шеи Лебяжий величавый поворот. А ноги, боже мой, какие ноги! Я всякий раз смотрю на них с тоской, За поездом пережидая поезд. Прощай, крестьянка Оля, ты теперь Уже не Оля, а скорее – Гретхен, Да только я не Фауст, и навряд ли Отыщется сегодня Мефистофель, Которому бы мог продать я душу За молодость и за твою любовь. 1997ГЕТ[3]
С первой женой разведен я дважды. Питерским ненастным летом В первый раз нас развел народный Суд Московского района В здании круглом, построенном в стиле Конструктивизма времен тридцатых. Позже жена, успевшая дважды Официально выскочить замуж, Стала внезапно религиозной И укатила себе в Израиль. Там в девяностом, приехав в гости К сыну, узнал я, что должен дать ей Религиозный развод, поскольку Брак, от которого были дети, Если муж и жена – евреи, Зарегистрирован небесами. Чтобы бывшей моей супруге Вновь попытать семейного счастья, Нас равванут развести обязан — Официальный наместник Бога. Что ж до второго и третьего мужа, Оба не в счет они, поскольку, Как выясняется, не евреи. В зале Верховного равванута Свечи горели, мерцая тускло, Из темноты вырывая лица Седобородых старцев, сидевших На возвышении, как на сцене, В черном торжественном облаченье. Перед Советом стоял я молча, Черной кипою накрыв затылок, Так, вероятно, стоял Спаситель Перед суровым синедрионом. Было главной задачей пьесы Установить достоверно – кто я, Кто мои мать, отец и предки, Сделавшие меня евреем. Это дознание шло неспешно Час или два, а возможно, больше. Сухо треща, чадили свечи На семисвечниках. Желтым воском Солнце сочилось из темной шторы, Остановившись, как при Навине. Глухо звучали слова раввинов, Мне непонятные. Представитель Мой перед Богом, писец конторы, Переводил мне их на английский. Он же потом на бумаге плотной, Непромокаемой, как пергамент, Изобразил документ конечный, Справа налево рисуя тушью Древние буквы, что Бог придумал До появления человека. Женщину к этому ритуалу Не допускают. Она за дверью Ждет окончательного решенья. Только в конце ее вызывают, И представитель мой перед Богом, Он же писец, ей вручает свиток, Схваченный шелковой белой лентой, С красной глиняною печатью, Оповещающий, что отныне Брак недействителен перед Богом. Ей говорят: «Ты теперь свободна. Можешь идти ты, куда захочешь, С этой минуты и всем мужчинам Принадлежать». И она уходит. С этим кончается представленье. В окна врывается ливень света. И председатель, собравший книги, Скинув тяжелое облаченье, Спрашивает у меня по-русски: «Ну, и когда же вы к нам вернетесь?» Дверь распахнув, я вышел в город, Полный разноязыким шумом, В первом же баре напротив почты Водку со льдом заказал двойную, Радуясь, что наконец завершился Этот фарс, и смешной, и грустный, Ветхозаветный спектакль, в котором И для меня отыскалось место. Чем же горжусь и над чем смеюсь я, Жалкий безумец, изгой безродный, Так и не выучивший иврита, Только затем приходивший к Богу, Чтобы помог мне стать одиноким? Кто мне омоет больные ноги, Чашку с водою подаст под старость? Кто надо мной зарыдает громко И, спеленавши холстиной туго, Продолговатый тяжелый сверток В белую землю потом опустит? Чем ни займись я и что ни делай, Жизнь моя не имеет смысла. Ибо свободным себя признавший От языка своего и предков, Родины, сына, жены и Бога, Жить недостоин на этом свете 1997Прощание с кинематографом
«Из всех искусств для нас наиважнейшим Является кино», – заметил Ленин. И не ошибся: в школьные года, Послевоенные, да и позднее тоже Оно сердца нам жгло на всю катушку. Катушки эти, помню, привозили В тяжелых несгораемых коробках, Защитною окраскою и формой Напоминавших цинки для патронов Или противотанковые мины, Которые в ту пору находили Под Сиверской и возле Сестрорецка… Ах, эти фильмы! Именно по ним Учились мы, как надо целоваться, Закуривать и открывать бутылку, Да и другим вещам, необходимым Для юношеской жизни, о которых Умалчивали школьные программы. Ах, эти фильмы старые! Бернес Молоденький в петлицах с кубарями: «Любимый город может спать спокойно»; Орлова в «Цирке», «Леди Гамильтон»! Потом пошли трофеи: «Башня смерти», Марика Рокк, «Восстание в пустыне». На сером полотне киноэкрана Вскипали вдруг коричневые пятна, Как пенки на топленом молоке, И вспыхивал внезапно в зале свет. Кричали дружно зрители: «Сапожник!», Свистели или топали ногами. Кино объединяло всех тогда. Все было общим здесь: любовь, И ненависть, и слезы, и веселье. Переполняла гордость нас, когда Под звуки марша в кадрах кинохроник Комбайны шли шеренгой, из ковша Расплавленная вытекала сталь И падали фашистские знамена У мраморных ступеней Мавзолея. А что за лица! Бабочкина помнишь? Или Чиркова в «Юности Максима»? Теперь уже и нет таких актеров. А Симонов, играющий Петра? Или вот этот – кажется, Филиппов, Ну, в общем, с бородою, – во, давал! А песни, что однажды прозвучав, Охватывали целую страну! Я до сих пор их помню: «Три танкиста» Или «Шаланды, полные кефали». Прощай, кино. Я больше не увижу Табачный дым, сияющий в луче. Не заскрипит, как прежде, подо мной Фанерное сиденье откидное… Прощай, эпоха кадров черно-белых, Окрестный мир делившая наивно На эти два несовместимых цвета. Увы, сложнее он, и многогранней, И не влезает более в экран. Прощай, кино. Ты и на самом деле Важнейшее искусство для народа. Ты умерло – и вот народа нет. Осталось население, частично Распавшееся на электораты, Грызущие друг друга. Твой экран, Необозримый, широкоформатный, Рассыпался на тысячи убогих Телеэкранов, запертых в квартирах. Так колокол огромный вечевой, Разбитый на осколки, никогда Не обретет первоначальный голос. Поэтому прощай, кинематограф. Твою неистребимую соборность Не заместит сегодняшняя церковь: Нельзя там ни смеяться, ни свистеть, Ни по бедру поглаживать соседку… Прощай, мой первобытный древний бог. В твоих безлюдных обветшалых храмах Теперь автомобильные салоны И распродажа мебели. «Природа Не терпит пустоты», – как заявил Помешанный на ртути итальянец. Прощай, кинематограф. Ты теперь Искусство ретро, как и оперетта, Что вытеснена шоу, или книга В суровую эпоху Интернета. Прощай, кино. Уже не будем мы Из темноты с надеждою на свет Смотреть, завороженные лучом Твоей трескучей кинопередвижки. Прощай, мое важнейшее искусство, Последняя и первая любовь. Ты – жизнь моя, которая прошла И более уже не повторится. 1997Об авторе
Имя Александра Городницкого хорошо известно любителям русской поэзии и авторской песни в России и во всем мире, а сам поэт по праву признан живым классиком и одним из основоположников жанра, наряду с Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой, Александром Галичем, Юрием Визбором.
Александр Городницкий не только известный поэт и бард, член Союза писателей Москвы (1972), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2013), первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (1999), вице-президент Русского ПЕН-центра (2015), но и ученый с мировым именем, один из ведущих российских исследователей в области геологии и геофизики океана, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (2004), главный научный сотрудник Института Океанологии Российской академии наук.
Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде, пережил первую блокадную зиму, окончил Ленинградский горный институт. Вся жизнь его связана с экспедициями. Семнадцать лет он работал в Заполярье. Стал одним из первооткрывателей Игарского медно-рудного поля (1962). Более тридцати лет принимал участие в океанологических экспедициях в различные районы Мирового океана на судах военной гидрографии (в том числе на паруснике «Крузенштерн») и Академии наук. Был на дрейфующей станции на Северном полюсе (1964) и в Антарктиде (1973). Многократно погружался на дно в подводных обитаемых аппаратах. В 1988 году в экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» в Северной Атлантике на глубоководном аппарате «Мир-1» совершил погружение на глубину 4,5 километра. С его именем связаны поиски легендарной Атлантиды.
Стихи и песни Александра Городницкого переведены на языки многих народов мира, включены в школьные программы, а песня «Атланты держат небо» стала неофициальным гимном Санкт-Петербурга.
Творчеству Александра Городницкого посвящены многочисленные научные статьи, кандидатские и докторские диссертации. Его именем названы малая планета Солнечной системы (астероид) № 5988 «Gorodnitskij» и перевал в Саянских горах.
Примечания
1
Immer regnet – Всегда дождь (нем.).
(обратно)2
«То было печальной ноябрьской порой» (нем.) – начало поэмы Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка»
(обратно)3
Гет – в иудаизме документ о расторжении брака.
(обратно)




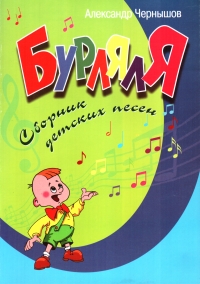
Комментарии к книге «Стихи и песни (сборник)», Александр Моисеевич Городницкий
Всего 0 комментариев