Виктор Шкловский Собрание сочинений Том 1 Революция
Новое литературное обозрение
Москва
2018
© В. Б. Шкловский (наследники), 2018
© И. А. Калинин, составление, вступ. статья, комментарии, 2018
© А. Ю. Галушкин (наследники), Л. В. Калгатина, В. В. Нехотин, V. Pozner, комментарии
© А. Бондарев, С. Рындин, перевод, 2018
© Д. Черногаев, обложка, макет, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
* * *
ПРЕДИСЛОВИЕ
Виктор Шкловский: «…под русской революцией есть и моя подпись»
Каждый человек по возможностям своим гениален, но он об этом не знает. Человек может пройти по канату, если бы он не знал, что может упасть. Революция — это освобождение человеческого таланта, человеческих возможностей.
В. Шкловский[1]Революция — это эпоха, когда все умеют ходить по проволоке. Когда мы забываем о невозможности.
В. Шкловский[2]Разговор о фигуре Виктора Шкловского в терминах революции подсказан им самим. Начало его творческой биографии совпадает с поворотными моментами истории XX века. В 1914-м выходит «Воскрешение слова». В 1917-м — «Искусство как прием». Оба эти текста пронизаны предчувствием революции, заявляя о ней как о необходимости возвращения человеку ощутимости мира. Короткая, но яркая политическая биография Шкловского также без остатка делится на революцию: в феврале 1917-го он выводит броневики на улицы Петрограда, летом в качестве помощника комиссара Временного правительства участвует в последнем наступлении русской армии на Юго-Западном фронте, осенью — в этом же качестве — выводит из Персии русский экспедиционный корпус. Пропустив октябрь, он становится членом Военной комиссии при ЦК партии правых эсеров, участвует в подготовке антибольшевистского восстания. Авантюрные подробности приключений молодого теоретика литературы подробно изложены в его «Сентиментальном путешествии» (1923)[3]. Позже, находясь в недолгой эмиграции в Берлине, Шкловский напишет Горькому: «Мой роман с революцией глубоко несчастен» (15.04.1922). Но дело не в разочаровании в революции, а в неразделенной любви, — в том, что Шкловский оказался революционней итогов победившей революции. Так что в дальнейшем способ его синхронизации с историческим временем состоял не в возгонке и имитации революционного пыла, а скорее в его сдерживании.
Так или иначе, противопоставлять Шкловского как «счастливого „делателя революции“ в искусстве и филологии» ему же как «жертве революции социальной»[4] вряд ли продуктивно. Освобождение «человеческих возможностей», которое приносит с собой революция, связано не только с тем, что человек забывает о том, что может упасть, но и с объективно существующей опасностью. Человек может ходить по проволоке, но это не значит, что он не может упасть. Без этой перспективы «полной гибели всерьез» (Б. Пастернак) искусство является лишь производным от искусственности. Так что без того социального, политического, культурного слома, который произвела революция, вряд ли возможной была бы и интенсивность того обновления в искусстве и гуманитарном знании, значимой частью которого была работа Шкловского. Об этом через шестьдесят лет после революции напишет и сам Шкловский: «Когда говорят про людей моего поколения, людей часто несчастливых, что мы жертвы революции, это неправда. Мы делатели революции, дети революции»[5]. И нам не надо верить ему на слово. Достаточно просто перечитать его тексты, встраивая в общий контекст его теоретические и историко-литературные работы, автобиографическую прозу и художественную критику, тексты о театре, кино и времени. Именно к возможности такого сквозного чтения, позволяющего взаимно контекстуализировать историю и биографию, литературу и революцию, политическое и поэтическое, мы и стремились, составляя первый том собрания сочинений Виктора Шкловского.
Заявленный Шкловским теоретический революционный проект выходил далеко за рамки призыва к обновлению филологического знания и даже обновления искусства как такового, разделяя в этом общий пафос исторического авангарда. Более того, в своей обращенности к повседневному миру вещей он не исчерпывался одним лишь стремлением к «тотальной эстетизации» быта[6] или к редукционистскому «изъятию вещи из привычного бытового контекста»[7] (перспектива, характерная скорее для итальянского футуризма и реализованная на практике в диагностированных Вальтером Беньямином фашистских стратегиях эстетизации политики[8]). Когда в своем первом манифесте «Воскрешение слова» (1914) Шкловский диагностирует повседневный контекст своего времени: «Сейчас старое искусство умерло… и вещи умерли, — мы потеряли ощущение мира; мы подобны скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем», — в качестве средства реанимации утраченной чувствительности к вещественной стороне мира он видит «создание новых форм искусства», которые способны «возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм» («Воскрешение слова»). Таким образом, «воскрешение слова» призывает к воскрешению вещи.
Отталкиваясь от обновляющего пафоса футуризма, Виктор Шкловский определял мир человеческого восприятия через столкновение двух тенденций. Поэтической речи, наделяющей мир смыслом и позволяющей увидеть за каждым словом образ его породивший. И рутинизированной повседневной коммуникации, которая превращает слова в понятия, лишенные своего изначального образного смысла. Проблема в том, что доминирующая в социальной практике тенденция к экономии психических усилий («автоматизации» в терминологии Шкловского) затрагивает не только слова, но и вещи. Репрезентируемый «мертвыми словами», словами со «стершимся значением» мир перестает «переживаться», лишаясь непосредственности первоначального восприятия. Горе уже не отсылает к тому, что горит. Печаль — к тому, что печет. Отрок — к тому, кто еще не способен к речи (примеры этимологического выветривания взяты из статьи Шкловского «Воскрешение слова»). Репрезентация превращается в условное соответствие вещи и слова (звуковой формы), ее обозначающего. Коммуникация — в обмен пустыми означающими. Рецепция — в узнавание за привычными словесными формами привычных вещей. Отчуждение — «стеклянная броня привычности» (Шкловский) — накрывает собой и отношения между человеком и миром, и отношения между человеком и человеком.
Выдвигая прием «остранения» как основной принцип, регулирующий отношения между искусством и жизнью, Шкловский отталкивался от господствующего в позитивистской эстетике закона экономии творческих сил. На отрицании универсальности этого закона экономии и отрабатывает Шкловский прием «остранения», расподобляющий сферу практического языка и «практического» восприятия («узнавания») вещественного мира, в которой действует закон экономии усилий, и сферу поэтического языка и обновленного восприятия («видения»), основанную на действии собственных «законов траты». Общая логика этого расподобления такова. Привычные действия — от мелкой моторики до прозаической бытовой речи — в силу своей повторяемости становятся автоматическими и бессознательными. Такая автоматизация, при которой восприятие слов и вещей не затрагивает их внешней, материальной, телесной основы, обеспечивает максимальную экономию усилий. Таким образом, повседневность — и бытовая и речевая — совпадает у Шкловского с областью бессознательного автоматизма, отвечающего за быстроту реакции и сокращение затрачиваемой энергии. Но в этом месте закон экономии сталкивается с неким пределом, препятствием, причем сталкивается с ними на своей собственной территории. Впадая в абсолютный автоматизм, повседневность ускользает не только из поля интерпретации, но и восприятия, становясь сферой бессознательных, отсутствующих для сознания, практик. «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену, страх войны» («Искусство как прием»). Автоматизированное восприятие разъедает не только вещи, но и отношения между людьми, и базовые экзистенциальные аффекты. Облегчая оперирование с предметами вещественного мира, автоматизация отнимает доступ к их предметности; ускоряя социальную коммуникацию, она отнимает чувство общности. Автоматизация распредмечивает вещь и овеществляет человека. Автоматизм (и восприятия, и действия) порождает своеобразные медиаторы в виде абстрактных категорий и бессознательной моторики привычных и повторяющихся движений, которые лишают человека непосредственного, чувственного, интимного восприятия мира.
Искусство, с точки зрения Шкловского, призвано сверхкомпенсировать вызванную инструментализацией восприятия утрату переживания жизни. Оно не только возвращает утраченное, но и производит некий чувственный и смысловой избыток. Этот избыток связан не с экономией усилий, а, наоборот, с необходимостью затрачивать дополнительные усилия на преодоление «затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия» («Искусство как прием»). Искусство реабилитирует восприятие, увеличивает его длительность и переносит акцент с его инструментальной функции на переживание интенсивности восприятия как такового. И если автоматизация лишь экономит усилия, но не вырабатывает энергии, то искусство, наоборот, требует дополнительных затрат на восприятие затрудненной формы, но высвобождает энергию, достаточную в том числе и для выведения обыденного восприятия из сферы бессознательного. Инициируемая искусством поэтическая мобилизация субъекта взывает к усилию, но запускает экономический обмен нового типа, в котором ответом на нехватку становится не экономия, но дополнительная трата, а эффектом последней оказывается не окончательное банкротство, но избыток, реализующийся в обретении нового видения и нового способа обращения с миром, в осознании персональной включенности в историческое движение и в образовании нового типа сообществ.
Парадоксальная специфика случая, который представляет собой Шкловский, состоит в том, что он пытался балансировать между позицией создателя нового языка описания (который претендовал на обладание не меньшим революционным потенциалом, чем предстоящий ему поэтический язык) и существованием в качестве агента этого языка. Он и описывал культурный опыт революции и являлся частью этого опыта, и, что самое главное, — пытался с помощью своего нового метаязыка еще больше революционизировать опыт революции[9]. Шкловский не только артикулировал уже воспринятый опыт революции, но и антиципировал его. Он переживал революцию как столкновение с силой, способной перехватить у искусства инициативу по остранению привычного рецептивного контекста. Если в пространстве литературы средством остранения было обнажение и обновление стершегося приема, то в пространстве истории и биографии остранение заявляло о себе через некое экзистенциальное потрясение, через некий эксцесс, отключающий сам режим повседневности, производя деавтоматизирующий слом[10]. При этом утверждение гомологичности механизмов формо- и смыслообразования, фундаментальных одновременно и для искусства, и для истории, не означало поэтизации истории и ее крайних форм, данных в революции и войне. Историческое движение и поэтическая речь отождествлялись не через эстетическую категорию прекрасного (как это делал Филиппо Маринетти), не через психологический фактор витальности и прикосновения к экзистенциальной основе бытия (Эрнст Юнгер), равно как и не через манифестацию этического аморализма (вынесенного из окопов Первой мировой рядом протофашистских поклонников Ницше). В случае Шкловского и русского формализма в целом основой для такого отождествления выступали сходные модели порождения и восприятия форм и смыслов, опирающиеся на механизмы сдвига, слома, разрыва, деформации.
В наиболее мягком варианте остраняющий механизм истории проявлял себя в различных формах странного, случайного, не мотивированного устоявшимся контекстом традиции и сформированным ею здравым смыслом. Описывая первые месяцы после Февральской революции, Шкловский увлеченно документирует охвативший Петроград хаос социального подъема в качестве серии случайностей, странностей, чей деконтекстуализирующий, деканонизирующий, трансформационный потенциал превышал, с его точки зрения, сознательные и организованные усилия пестрой революционной элиты. Начальная фаза революции, означающая отказ от нормативного социального порядка и преодоление легитимированного этим порядком индивидуального отчуждения, предъявляется Шкловским в образах раблезианской избыточности революционного праздника и сопутствующей ему коллективной растраты накопленного: «Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу. Я был счастлив с этими толпами. Эта была Пасха и веселый, масленичный, наивный и безалаберный рай» («Сентиментальное путешествие»). Праздник выступает здесь как коллективная сцена истории, экстатическое пространство которой освобождает от прежней нормативности, давая надежду на обновление. Через два десятилетия после русской революции и написанных по ее свежим следам мемуаров Шкловского, Роже Кайуа, опираясь на анализ архаических обществ, но видя в них аналитический горизонт для описания современности, наделит праздник теми же функциями и опишет его сценографию через те же мотивы деавтоматизации, что и Шкловский: «…на празднике он (индивид. — И. К.) исторгнут из домашнего уюта, из своей личной или семейной жизни и ввергнут в водоворот массового исступления, где толпа шумно утверждает свое единство и неделимость, разом растрачивая свои силы и богатства»[11]. О той же исступленной спонтанности, не имеющей цели и смысла вне себя самой, но концентрирующей в себе историческую энергию, пишет и Шкловский: «А по городу метались музы и эринии Февральской революции — грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу. Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы» («Сентиментальное путешествие»).
Деавтоматизирующий порыв, охватывающий все сферы жизни — от социального до интимного, — описывается Шкловским как имманентная логика истории, опыт которой противоположен опыту стабильности, являясь одновременно творческим и экстремальным. Бытовой или экзистенциальный эксцесс (а сама интенсивность эксцесса снимает границу между бытовым и экзистенциальным, что не раз показывает и даже тематизирует в своей прозе Шкловский[12]) выступает как творческий исторический импульс. Экстремальный опыт находится за пределами быта, но оказывается той точкой, откуда производится означивание повседневности, ее втягивание в поле перцепции и интерпретации. Эксцесс становится неким пределом затрудненной формы, взывающей к психосоматической и интерпретативной реакции. В силу своей историчности он с бóльшим трудом поддается структурной семиотизации, чем бытовая рутина. Эксцесс подключает к истории, но лишает чувства встроенности в устойчивый темпоральный континуум. Он выпадает из времени повседневности, но парадоксальным образом необходим для возвращения вкуса к ней. Эксцесс отнимает уверенность в естественности привычного контекста, но тем самым восстанавливает и воспитывает чувствительность к быту, к вещественной среде и к повседневным человеческим практикам. Эксцесс, катастрофа, революция временно прерывают ритуализованную воспроизводимость повседневности, но именно этот момент дает возможность различить ее конструкцию, прежде данную лишь в туманных очертаниях бессознательных и автоматизированных движений руки, взгляда, языка. Эксцесс проблематизирует границы между наслаждением и насилием, реализуясь в своих крайних точках, которыми являются праздник и война. Эксцесс одновременно и реализует тягу к обновлению и является платой за это стремление[13]. Остранение восприятия инициирует обновление зрения, не отменяя при этом самого факта ранения, травмы.
Уже через несколько месяцев после праздничного изобилия и экстатической растраты Февраля свершилась новая революция, еще более тотально введя эксцесс на сцену истории и еще более радикально поставив вопрос о «затрудненной форме» существования и «трате дополнительных усилий», необходимых для взаимодействия с деавтоматизированной реальностью. Теперь избыток творческой энергии должен был возникать не в результате растраты, разворачивающейся в ситуации изобилия, а в результате концентрации, возникающей в ситуации голода и тотального дефицита. Связанные с искусством надежды на остранение автоматизированной повседневной рутины были осуществлены с большей радикальностью, чем та, на которую Шкловский мог рассчитывать, но осуществлены другой инстанцией. Революция не только деавтоматизировала привычное восприятие повседневного контекста, но и смела саму привычную повседневность. «Мы собирались и сидели в пальто, у печи, в которой горели книги. На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме и о словесной форме, и изредка о весне, увидать которую казалось так трудно» («Петербург в блокаде»). Отделить в этом опыте революционного быта энтузиазм рождения новой литературной теории от болезненного переживания физических условий, сопутствующих этому рождению, вряд ли возможно. Ритм повысившегося от недостатка жиров кровяного давления синхронизируется здесь с ритмом поэтической речи, теория словесной формы возникает как сверхкомпенсация одновременно травматичного и вдохновляющего исторического опыта «веселой, жуткой» постреволюционной зимы, как определил ее Е. Замятин в своей «Автобиографии» (1928), повторив в своей парадоксальной формуле определение возвышенного, данное Э. Бёрком, — delightful horror.
Шкловского можно отнести к тому типу фигур, которых Д. Лукач определял через понятие «романтический антикапитализм». Правда, сам Лукач использует его как негативную характеристику правых интеллектуалов, вводя его в своей работе 1931 года о Достоевском[14]. Но это понятие может быть переосмыслено и вне тех партийно-политических коннотаций, которыми нагружает его Лукач. В его концептуальном ядре располагаются три базовые составляющие: критика отчуждения, характерного для буржуазного общества; неприятие рынка как модели функционирования культуры; стремление к производству сообществ, основанных на органической, дружеской и интеллектуальной, связи. Все эти три составляющие характерны для Шкловского, находя выражение в его преодолевающем отчуждение принципе остранения, в его критике рыночного искусства[15] и, наконец, в его стремлении к коллективной работе (будь то в рамках ОПОЯЗа, Московского лингвистического кружка или Лефа). Этот контекст «романтического антикапитализма» позволяет иначе увидеть теорию Шкловского (как раннего, так и лефовского периодов), сделав его звеном в цепочке иных фигур, непривычных для разговора о нем. Традиционно разговор о Шкловском шел через сопоставление его фигуры и работ с Б. Эйхенбаумом, Ю. Тыняновым, Р. Якобсоном, С. Третьяковым. Актуализация революционного, критического, политического потенциала его позиции делает его собеседником В. Беньямина и Б. Брехта, Г. Зиммеля и Э. Блоха, М. Вебера и Ф. Тённиса, Ж. Батая и Р. Кайуа, Т. Адорно, З. Кракауэра и других представителей Франкфуртской школы, равно как и самого Д. Лукача, который вряд ли отнес бы себя к представителям «романтического антикапитализма»[16]. И в этом отношении Шкловский, оставаясь центральной частью русского формализма, оказывается шире него.
Желание вписать Виктора Шкловского в этот глобальный горизонт, связанный с возникновением новой фигуры публичного интеллектуала, существующего по ту сторону академии, и с рождением нового режима критического письма, располагающегося по ту сторону жанровых границ, и побудило нас к составлению его собрания сочинений.
Илья КалининОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Настоящий том открывает собрание сочинений Виктора Борисовича Шкловского. Жанровое и предметное разнообразие его работы, растянувшейся на семьдесят лет, ставит перед составителем непростую задачу. Склонность самого Шкловского к постоянной переработке своих текстов и их неоднократному включению в собственные авторские сборники провоцирует публикатора на ответный ход. «Ход коня», «изломанная дорога смелых», в которых Шкловский видел единственно верный путь художника, ученого, интеллектуала, заставляет отказаться от хронологической линейности как единственного принципа организации материала.
Задачей этого принципиально нового собрания сочинений — помимо введения в оборот архивных текстов или текстов, никогда не републиковавшихся и рассеянных по разным труднодоступным изданиям, — является попытка перечтения как мало, так и хорошо известных работ Шкловского. Для этого мы стремились совместить два, казалось бы, противоречащих друг другу композиционных механизма: монтаж и сохранение целостности.
Первый состоит в том, что каждый том этого собрания группируется вокруг того или иного концептуального стержня, позволяющего по-новому контекстуализировать как отдельные работы Шкловского, так и его интеллектуальное наследие в целом. Автобиография и теория, история литературы и художественная критика, фронтовые заметки и манифесты о наступлении новой формы, письма и фельетоны монтируются между собой, производя новые смыслы и новые горизонты возможной интерпретации. Как кажется, именно такой конструктивный монтаж, рифмующий между собой образ мысли, интонацию речи, манеру поведения, и был для Шкловского тем генератором энергии, напряжение которой во «Вступлении» (январь 1983-го) к последнему прижизненному изданию «О теории прозы» ничуть не ниже, чем в прочитанном в декабре 1913-го докладе «Место футуризма в истории языка».
Второй механизм уравновешивает первый. Мы впервые с момента первых изданий публикуем авторские сборники Шкловского целиком — в том композиционном единстве, которое отвечало его первоначальному замыслу. В каком-то смысле все настоящее собрание сочинений следует принципу, найденному Шкловским в его сборниках и книгах 1920–1930-х годов: создавать сложносочиненное высказывание из сложноподчиненных друг другу текстов; осуществлять синтагматическое развертывание материала, опираясь на парадигматику связей, возникающих между его отдельными элементами. В результате некоторые тексты Шкловского войдут в настоящее собрание дважды, в составе различных томов, оказываясь то частью соответствующего тематического блока, то частью авторского сборника (обнажая таким образом зависимость толкования от окружения).
Стержнем первого тома является историческая фигура Революции, различные проекции которой организуют шесть тематических блоков.
Первый блок — «Революция (в) жизни» — задает личный и исторический фон революционных лет, на которые выпало литературное становление Шкловского. Его составляют автобиографическая книга «Революция и фронт», вышедшая отдельным изданием в 1921 году (в 1923-м она станет первой частью «Сентиментального путешествия»[17]), газетные публикации о политическом и культурном своеобразии фронтовой жизни 1917–1918 годов, несколько автобиографических притч и письма М. Горькому, 1917–1923 годов.
Второй блок — «Революция формы» — сочетает публикацию канонических манифестов раннего формализма и текстов, лишь однажды опубликованных в периодике конца 1910-х годов. Завершает его статья, — в которой Шкловский вновь возвращается к зауми футуристов, — написанная в начале 1980-х для одного итальянского издания и никогда не публиковавшаяся в России.
Третий блок — «Революция времени» — составляют авторский сборник 1923 года «Ход коня» и работы, собранные из различных газет и журналов 1910–1920-х годов, большая часть которых никогда не переиздавалась. Ветер революции пронизывает эти тексты, заставляя быт и искусство, как льдины, наползать друг на друга краями.
Четвертый блок — «Революция факта» — связан с лефовским периодом Шкловского, его участием в той версии культурной революции, которую выносил на повестку дня советский авангард. Публикуемый без изъятий авторский сборник «Гамбургский счет» (1928) дополняют прежде не переизданные статьи и очерки из журналов «Леф» и «Новый Леф».
Пятый блок — «Революция медиа» (мы намеренно используем именно это, анахроничное тому времени, понятие, подчеркивая стремление читать Шкловского не сквозь призму истории науки, а как часть нашей современности) — посвящен кинематографу, сделавшему революцию не только предметом изображения, но и формой репрезентации.
И наконец, шестой блок — «Памятник революции» — состоит из статей начала 1930-х годов, в которых прощание с формализмом и самим революционным культурным пафосом 1910–1920-х годов позволяет обнаружить за декларативной сдачей позиций попытку вновь использовать давление времени как возможность продуктивного сдвига, как творческий вызов и необходимое сопротивление материала.
Этот том не мог бы состояться без уже проделанной работы по комментированию текстов Шкловского. Комментаторских усилий А. Ю. Галушкина (1960–2014) хватило не только на значительную часть этого тома (блоки 1, 2, 3, 4 и 6[18]), результаты его труда (в том числе пока не опубликованные) войдут и в последующие тома этого собрания. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность за этот труд, по сути открывший новый период в исследовании русского формализма и его наиболее яркого представителя. Кроме того, в первом томе были использованы комментарии: Л. Калгатиной (блоки 4, 5[19]), В. Нехотина (блок 1[20]) и В. Познер (блоки 4, 5). Дорогие коллеги, огромное спасибо. Поскольку в данном томе публикуется более семидесяти текстов, не воспроизводившихся с 1910–1930-х годов, часть комментаторской работы была проделана автором этих строк.
В заключение — наиболее приятная часть, благодарности. Прежде всего — семье Виктора Борисовича Шкловского. Варваре Викторовне Шкловской-Корди и Никите Ефимовичу Шкловскому-Корди — за их энтузиазм, позволивший почувствовать энергию их отца и деда не только через тексты. Ирине Дмитриевне Прохоровой — за необходимость отвечать за взятые на себя обязательства. Ирине Гачечиладзе — за неоценимую техническую и эмоциональную поддержку. Сотрудникам издательства «Новое литературное обозрение» — за помощь в подготовке этого тома.
Илья КалининРЕВОЛЮЦИЯ (В) ЖИЗНИ
РЕВОЛЮЦИЯ И ФРОНТ
Перед революцией я работал как инструктор запасного броневого дивизиона — состоял на привилегированном солдатском положении.
Никогда не забуду ощущение того страшного гнета, которое испытывал я и мой брат, служивший штабным писарем.
Помню воровскую побежку по улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное — трамвай.
Город был обращен в военный лагерь. «Семишники» — так звали солдат военных патрулей за то, что они — говорилось — получали по две копейки за каждого арестованного, — ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд.
Начальство считало этот вопрос — вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим озлобленным саботажем.
Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились по улицам, — все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об «измене».
На трамвайные темы создавался специальный фольклор, жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и сестру; тогда она скидывает плащ и оказывается в мундире великой княгини; так и говорили: «в мундире». Генерал становится на колени и просит прощения, но она его не прощает. Как видите — фольклор еще совершенно монархический.
Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу.
Рассказывалось об убийстве казаком генерала, который хотел стащить казака с трамвая и срывал его кресты. Убийство из-за трамвая, кажется, действительно случилось в Питере, но генерала я отношу уже к эпической обработке; в ту пору на трамваях генералы еще не ездили, исключая отставных бедняков.
Агитации в частях не было; по крайней мере, я могу это сказать про свою часть, где я проводил с солдатами все время с пяти-шести утра до вечера. Я говорю про партийную агитацию; но и при ее отсутствии все же революция была как-то решена, — знали, что она будет, думали, что разразится после войны.
Агитировать в частях было некому, партийных людей было мало, если были, так среди рабочих, которые почти не имели с солдатами связи; интеллигенция — в самом примитивном смысле этого слова, то есть все, имеющие какое-нибудь образование, хоть два класса гимназии, — была произведена в офицеры и вела себя, по крайней мере в петербургском гарнизоне, не лучше, а может быть — хуже кадрового офицерства; прапорщик был не популярен, особенно тыловой, зубами вцепившийся в запасный батальон. О нем солдаты пели:
Прежде рылся в огороде, Теперь — ваше благородие.Из этих людей многие виноваты лишь в том, что слишком легко поддались великолепно поставленной муштровке военных училищ. Многие из них впоследствии искренно были преданы делу революции, правда так же легко поддавшись ее влиянию, как прежде легко одержимордились.
История с Распутиным была широко распространена. Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти «Гришки и его делишки» и успех этой литературы показали мне, что для очень широких масс Распутин явился своеобразным национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника.
Но вот в силу разнообразных причин, из которых одни прямо царапали нервы и создавали повод для вспышки, а другие действовали изнутри, медленно изменяя психику народа, ржавые, железные обручи, стягивающие массу России, — натянулись.
Продовольствие города все ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо. Ощущалась недостача хлеба, у хлебных лавок появились хвосты, на Обводном канале уже начали бить лавки, и те счастливцы, которые сумели получить хлеб, несли его домой, держа крепко в руках, глядя на него влюбленно.
Покупали хлеб у солдат, в казармах исчезли корки и куски, прежде представляющие вместе с кислым запахом неволи «местные знаки» казарм.
Крик «хлеба» раздавался под окнами и у ворот казарм, уже плохо охраняемых часовыми и дежурными, свободно пропускавшими на улицу своих товарищей.
Казарма, разуверившаяся в старом строе, прижатая жестокой, но уже неуверенной рукой начальства, забродила. К этому времени кадровый солдат, да и вообще солдат 22–25 лет, был редкостью. Он был зверски и бестолково перебит на войне.
Кадровые унтер-офицеры были влиты в качестве простых рядовых в первые же эшелоны и погибли в Пруссии, под Львовом и при знаменитом «великом» отступлении, когда русская армия вымостила всю землю своими трупами. Питерский солдат тех дней — это недовольный крестьянин или недовольный обыватель.
Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто наспех завернутые в них, были сведены в толпы, банды и шайки, называемые запасными батальонами.
В сущности говоря, казармы стали просто кирпичными загонами, куда все новыми и новыми, зелеными и красными бумажками о призывах загонялись стада человечины.
Численное отношение командного состава к солдатской массе было, по всей вероятности, не выше, чем надсмотрщиков к рабам на невольничьих кораблях.
А за стенами казармы ходили слухи, что «рабочие собираются выступить», что «колпинцы 18 февраля хотят идти к Государственной думе».
У полукрестьянской, полумещанской солдатской массы было мало связей с рабочими, но все обстоятельства складывались так, что создавали возможность некоторой детонации.
Помню дни накануне. Мечтательные разговоры инструкторов-шоферов, что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию, а потом бросить броневик где-нибудь за заставой и оставить на нем записку: «Доставить в Михайловский манеж». Очень характерная черта: забота о машине осталась. Очевидно, у людей еще не было уверенности в том, что можно опрокинуть старый строй, хотели только пошуметь. А на полицию сердились давно, главным образом за то, что она была освобождена от службы на фронте.
Помню, недели за две до революции мы, идя командой (приблизительно человек в двести), улюлюкали на отряд городовых и кричали: «Фараоны, фараоны!»
В последние дни февраля народ буквально рвался на полицию, отряды казаков, высланные на улицу, никого не трогая, ездили, добродушно посмеиваясь. Это очень поднимало бунтарское настроение толпы. На Невском стреляли, убили несколько человек, убитая лошадь долго лежала недалеко от угла Литейного. Я запомнил ее, тогда это было непривычно.
На Знаменской площади казак убил пристава, который ударил шашкой демонстрантку.
На улицах стояли нерешительные патрули. Помню сконфуженную пулеметную команду с маленькими пулеметами на колесиках (станок Соколова), с пулеметными лентами на вьюках лошадей; очевидно, какая-то вьючно-пулеметная команда. Она стояла на Бассейной, угол Басковой улицы; пулемет, как маленький звереныш, прижался к мостовой, тоже сконфуженный, его обступила толпа, не нападающая, но как-то напиравшая плечом, безрукая.
На Владимирском стояли патрули Семеновского полка — каиновой репутации.
Патрули стояли нерешительно: «Мы ничего, мы как другие». Громадный аппарат принуждения, приготовленный правительством, буксовал. В ночь не выдержали волынцы, сговорились, по команде «на молитву» бросились к винтовкам, разбили цейхгауз, взяли патроны, выбежали на улицу, присоединили к себе несколько маленьких команд, стоящих вокруг, и поставили патрули в районе своей казармы — в Литейной части. Между прочим, волынцы разбили нашу гауптвахту, находящуюся рядом с их казармой. Освобожденные арестованные явились в команду по начальству; офицерство наше заняло нейтралитет, оно было тоже в своеобразной оппозиции «Вечернего времени». Казарма шумела и ждала, когда придут выгонять ее на улицу. Наши офицеры говорили: «Делайте, что сами знаете».
На улицах, в моем районе, уже отбирали оружие у офицеров какие-то люди в штатском, кучками выскакивая из ворот.
У ворот, несмотря на одиночные выстрелы, стояло много народа, даже женщины и дети. Казалось, что ждали свадьбы или пышных похорон.
Еще за три-четыре дня до этого наши машины были приведены по приказанию начальства в негодность. В нашем гараже инженер-вольноопределяющийся Белинкин отдал снятые части на руки солдатам-рабочим своего гаража. Но броневые машины нашего гаража были переведены в Михайловский манеж. Я пошел в Манеж, он был уже полон людьми, угоняющими автомобили. На броневых машинах не хватало частей. Мне показалось необходимым поставить на ноги прежде всего пушечную машину «ланчестер». Запасные части были у нас в школе. Пошел в школу. Встревоженные дежурные и дневальные были на местах. Это меня тогда удивило. Впоследствии, когда в конце 1918 года я подымал в Киеве панцирный дивизион против гетмана, я увидел, что почти все солдаты называли себя дежурными и дневальными, и уже не удивился.
В школе меня очень любили; солдат, открывший мне двери, спросил меня: «Вы, Виктор Борисович, за народ?» — и на утвердительный ответ стал целоваться. Мы все много целовались тогда. Мне дали части и даже обещали, что не скажут, кто взял. Я пошел в команду. До сих пор не знаю: пришли снимать ее или она снялась и разошлась сама? Люди бродили вокруг казармы. Взял двух бригадиров гаража: Гнутова и Близнякова, инструменты и пошел с ними ремонтировать машину. Все это было днем, через два-три часа после выступления волынцев — день первый.
Не понимаю, как утеснилось столько событий в этот день.
Броневик мы взяли и буксиром приволокли в гараж на Ковенский, где и начали ремонтировать, заняв помещение и порвав телефоны; возились до вечера. Оказалось, что в бензиновый бак была налита вода. Вода замерзла, пришлось выкалывать лед и высушивать бак концами.
В перерыве работы забежал к одному знакомому литератору.
У него в комнатах было тесно и жарко, стол был заставлен едой, табачный дым стоял стеной, все играли в «тетку», и играли еще невылазно два дня.
Этот человек потом очень скоро и очень искренне стал партийным, большевиком; коммунистами стали и почти все сидевшие тогда за столом.
А я так четко и сейчас помню еще их высокомерную иронию к «беспорядку на улице»!
Еще раньше всего этого в городе была объявлена забастовка. Трамваи не ходили. Останавливали тех извозчиков, которые не присоединились к забастовке. На углу Садовой и Невского встретил знакомого доцента, талантливейшего и сумбурнейшего человека, который прежде стоял близко к академистам, кажется, по пьяному делу. Он кричал и командовал группой, останавливающей экипажи. Этот человек был трезв, но совершенно вне себя.
Район вокруг Государственной думы уже охватило восстание. Близость Волынских казарм к Таврическому дворцу, который вообще находился в районе казарм — Волынская, Преображенская, Литовская, Саперная казармы (на Шпалерной), — и память о думских речах (в последнюю очередь) делали Думу центром восстания.
Кажется, первый отряд был приведен в Думу товарищем Линде, впоследствии убитым солдатами Особой армии, где он был комиссаром. Это тот Линде, который вывел Финляндский полк в апреле и пытался арестовать Временное правительство после знаменитой ноты Милюкова.
Наш броневик вышел и начал метаться по городу. Темные улицы были оживлены негустыми группами людей. Говорили, что стреляют городовые, то тут, то там.
Были на Сампсоньевском мосту, видали городовых, но стрелять по ним не успели, все они разбежались. Кое-где уже разбивали винные погреба, товарищи мои хотели взять вино, которое раздавали, но, когда я сказал, что этого делать не надо, они не стали спорить.
В это же время броневики с Дворянской улицы тоже вышли с товарищем Анардовичем и Огоньнцом во главе, они сразу заняли Петербургскую сторону и пошли к Думе. Не знаю, кто сказал нам, чтобы мы ехали тоже к Думе.
У подъезда ее стоял уже, кажется, броневик «гарфорд».
В дверях Думы встретил старого товарища по военной службе, вольноопределяющегося, тогда уже прапорщика-артиллериста, Л. Поцеловались друг с другом. Было хорошо. Река несла всех, и вся мудрость состояла в том, чтобы отдаваться течению.
Наступила ночь. В Таврическом дворце был полный хаос. Привозили оружие, приходили люди, пока еще одиночные, тащили провизию, реквизированную где-то; в комнате у подъезда были сложены мешки. Уже приводили арестованных. В Думе какая-то барышня утвердила меня в должности командира машины и даже дала какую-то боевую задачу. Снаряды для пушки у меня были, не знаю, где я их достал, кажется еще в Манеже. Боевых задач я, конечно, не выполнил, да их и никто не выполнял.
Спал час или два на шубе за колонной. В Думе встретил Суханова. Я знал его по редакции «Летописи», в литературном отделе которой я сотрудничал (помещал библиографические заметки). Но я читал в редакции доклад по поэтике, где рассматривал искусство как чистую форму и ожесточенно спорил с марксистами. Вот, по всей вероятности, почему Суханов удивился мне; я и вооруженное восстание не вязались в его сознании. А я удивился ему по своей политической наивности; я и не знал, что уже собрались и сорганизовались политические центры. Конечно, они в тот момент еще не влияли на события. Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуясь инстинкту.
Ночью же привезли арестованного поручика Д., командира броневых мастерских.
Конвойные чувствовали себя не очень уверенно, арестованный же обратился ко мне с упреками: «Что, вам было плохо у капитана Соколихина, что вы пошли против него?» Я ответил ему, что ничего не имею против капитана Соколихина.
Через полчаса поручик вышел веселый. Военная комиссия при Государственной думе поручила ему как одному из первых «прибывших» автомобильных офицеров организовать все автомобильное дело в Петербурге.
Этот человек, хитрый и по-своему умный, с аппетитом если не к власти, то к месту, впоследствии ходил в анархистах-коммунистах. Я остановился на нем потому, что он был первым жокеем на скачках за местами, которого я увидел. Впоследствии я видал толпы таких людей.
Ранним утром выехали опять в город. Кто-то дал мне какую-то боевую задачу и даже артиллериста-руководителя; я потерял этого руководителя, или он меня потерял, и влился в веселый ералаш восставшего народа. Подъехал к Преображенским казармам, что на Миллионной. Кто-то сказал, что преображенцы сопротивляются.
Подъехали. Было дивное синее солнечное утро. С веселой стрельбой выбегали из казарм восставшие преображенцы в новых шинелях с очень яркими красными петлицами.
По местам пытались сопротивляться. Отстреливались, кажется, учебные команды 6-го саперного батальона и Московского полка. Самокатчики в Лесном держались довольно долго. Я думаю, что это произошло оттого, что к ним пришли одни рабочие, без солдат, и они боялись присоединиться.
На них послали броневые «фиаты» и отбили угол деревянной казармы вместе с людьми.
Ночью погиб один из наших броневиков, Федор Богданов. Он на машине с открытой броней въехал в засаду городовых (единственную правильно поставившую пулемет в окне подвала, а не на крыше, откуда пулемет только такает, так [что] его огонь не имеет тогда никакой настильности).
Тело Богданова не лежит на Марсовом поле, родные взяли труп и увезли куда-то за город.
Теперь о пулеметах на крышах. Меня вызывали сбивать их в продолжение чуть ли не двух недель. Обычно, когда казалось, что стреляют из окна, начинали беспорядочно стрелять по дому из винтовок, и пыль от штукатурки, подымающуюся в местах попаданий, принимали за ответный огонь. Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, прямо падающими на нас сверху.
Команда моя обыскала почти весь район Владимирский, Кузнечный, Ямской и Николаевский, и я не имею ни одного положительного заявления о находке пулемета на крыше.
А вот в воздух мы стреляли очень много, даже из пушек. У меня на машине перебывало очень много пушкарей. Помню особенно первого, раненного в руку и оставшегося у пушки. Это был жандарм из казарм на Кирочной. Он говорил, что жандармы перешли на сторону восставших одними из первых. И все пушкари просом просили у меня позволения выстрелить, чтобы показать, что у нас даже пушки есть, и стреляли на Невском в воздух.
В этот день я пробыл почти все время в дежурстве у Николаевского вокзала. Вокзал не охранялся никем, я предлагал (в воздух — предлагать было некому) занять верхний этаж Северной и Знаменской гостиниц, чтобы держать весь вокзал под обстрелом, но у нас не было никаких сил. Если ставили из забежавших солдат караул, то караул или уходил, или стоял до обморока и все же не дожидался смены. Комендантами были — или я принимал их за комендантов — безрукий студент и очень старый флотский офицер в форме, кажется мичмана. Он был страшно утомлен. Приходили поезда с какими-то эшелонами, они куда-то, откуда-то ехали; мы подъезжали к ним с броневой машиной и четырьмя или пятью пехотинцами, и усталый мичман говорил офицерам эшелонов:
«Город находится в руках восставшего народа, желаете ли вы присоединиться к восставшему народу?»
Из вагонов таращились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они — «ничего», они едут мимо; солдаты смотрели на нас, и мы не знали: слезут или не слезут они из высокого вагона.
Приходили на помощь броневые машины со знакомыми шоферами. Стояли, потом уходили.
А по городу метались музы и эринии Февральской революции — грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу.
Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы.
Это было иродово избиение машин. Бесчисленные автомобильные школы навыпускали для заполнения автомобильных рот целые тучи шоферов с получасовой практикой. И вот теперь радовались эти полушоферские души, дорвавшись до машины.
Хряск шел по городу. Я не знаю, сколько случаев столкновения видал я за эти дни в городе. Одним словом, все мои ученики в два дня научились ездить.
Потом город наполнился брошенными на произвол судьбы автомобилями.
Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу.
Я был счастлив вместе с этими толпами. Это была Пасха и веселый масленичный наивный безалаберный рай.
К этому времени почти все вооружились отобранным у офицеров, а главным образом арсенальным оружием. Оружия было много, оно ходило по рукам, не продавалось, а передавалось свободно. Было много прекрасных «кольтов».
Боевой силы мы не представляли никакой, но мы как-то не думали над этим. Были ночи паники, ночи, когда ждали нападения каких-то эшелонов. А петербургский гарнизон все увеличивался и увеличивался. Пришли, ведя за собой на веревочках пулеметы, везя пулеметы без станков, наваленные, как дрова, на грузовик, пришли обвитые пулеметными лентами солдаты пулеметных полков и школ Стрельни и Ораниенбаума.
Около Стрельни передовая группа идущих встретила какого-то полковника, едущего на автомобиле. Полковник слегка был похож на Николая. Он был встречен бурным, исступленным восторгом, пока ошибка не выяснилась.
Пулеметы прибыли в Питер негодными к действию, главная масса их была, например, без сальников, и в них нельзя было налить воды. Их было слишком много, но число нашу боевую силу не увеличивало. Помню, как вокруг Балтийского и Варшавского вокзалов расставили пулеметы буквально через шаг. Конечно, при таком расположении стрелять было бы страшно неудобно. Но боевая сила была не важна. Начинало выясняться, что сейчас у восставшего Питера нет противника. На стороне восставших появились офицеры, пришло строем Михайловское артиллерийское училище. Немного позже присоединился 1-й запасный полк вместе с офицерами. Наших офицеров собрал по квартирам один очень энергичный еврей-инженер, вольноопределяющийся, фактически уже года полтора управляющий школой. Офицеры собрались. Достали командира дивизиона; временных командиров за это время перебывало у нас уже штуки три, но они, получив бумажку от Государственной думы, куда-то исчезали.
Собрались. Нерешительно решили присоединиться к восставшим, даже оказывать сопротивление правительственным войскам. Временное правительство уже существовало. Решили также, в отличие от невосставших, надеть красные — сначала хотели малиновые — повязки на рукав. Фактически воинские части в это время не существовали. Даже не варился обед. Команды были распылены. Михайловский манеж занят. Машины разъехались неизвестно куда.
В несколько лучшем положении была наша команда. Взводы поочередно несли дежурство и являлись на вызовы, даже ночные.
Были поставлены патрули, которые начали ловить без дела бегающие по городу автомобили и собирать их во двор части. Таким образом было спасено много машин. Но с брошенных и замороженных машин уже были сняты магнето, которые сильно подешевели после революции.
Команда приобрела благодаря странному, разнокалиберному вооружению пестрый вид вооружения гимназистов.
От того времени сохранились две кинематографических фильмы. На одной изображено кормление голубей на дворе команды, на другой — боевой выход команды с броневым «остином» во главе и с солдатами, идущими сзади с офицерскими шашками наголо.
С офицерами у нас дело обстояло не очень остро. Нашего начальника капитана Соколихина все любили за то, что он не тянул команду и исправно хлопотал о ботинках для нее. Ему в первый день революции дали шоферскую шубу без погон и вооруженную охрану из пяти человек, чтобы чужие не обидели. У другого офицера не отобрали на улице оружия, потому что оно было георгиевское. Начались перевыборы офицеров, команда мастерских заявила отвод против старого командира дивизиона. Начались интриги и добывание места при помощи солдат.
А к Таврическому дворцу все шли и шли войска, от топота ног чуть не проваливались мостовые, и от красного цвета шло непрерывное сверкание.
Совет уже заседал, но еще не было приказа № 1, и Родзянко был популярен в частях. А Совет заседал в вооружении, с криком и с наступом.
Для многих частей, пришедших в Таврический дворец, речи Чхеидзе и др. были первые революционные речи, ими услышанные.
Что думали про войну? Мне кажется, верили в то, что она сама кончится; вера эта была всеобщей ко времени воззвания к народам всего мира. Помню, что приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами: ни мы, ни они стрелять не будут. В общем, преобладало пасхальное настроение, было хорошо, и верилось, что это только начало всего хорошего.
Приказ № 1 был привезен и разбросан по рядам в Манеже во время парада. Стали отвечать: «Здравствуйте, господин полковник!» — и отвечали очень удачно, умело, дружно. Я думаю, что приказ № 1 — хотя он, казалось, и предупреждал события — комитетов в частях еще не было — был своевременным и необходимым. Нельзя было держать части с одними офицерами, только что вернувшимися из долговременной отлучки. Хотя комитеты совершенно невозможны в армии — даже менее, чем выборное начальство, — но они были единственным, на чем хоть как-нибудь держалась армия.
Самое плохое в комитетах было то, что они страшно скоро отрывались от своих выборщиков. Да и делегаты Совета не являлись в свои части чуть ли не месяцами. Солдаты были совершенно не осведомлены о том, что делается в Советах. Помогало делу только то громадное доверие, еще не растраченное, которое имело «свое» солдатское представительство. В первый Совет в большом количестве прошли вольноопределяющиеся и интеллигентные солдаты; конечно, это способствовало отрыву.
С другой стороны, по казармам почти никто не работал, интеллигенция оказалась в бегах, людей, пожелавших работать в области просвещения, почти не оказывалось. В Саперном — кажется, шестом — батальоне из нескольких сотен вольноопределяющихся менее десяти подписали лист о согласии работать в школах грамотности. Большинство же пользовалось революцией как неожиданным отпуском. В нашей части в комитет прошли взводные и старшие мастеровые — он имел деловой характер.
А полки́ за полка́ми все шли через Екатерининский зал Таврического дворца. На плакатах было еще «Доверие Временному правительству» и даже «Война до полной победы». Но воевать мы уже не могли. Пока пишу только о Петербургском гарнизоне. Громадные — до нескольких десятков тысяч — запасные части, которые уже не отсылали эшелонов на фронт и в то же время не имели никакого дела в городе, так как они не могли защищать революцию за неимением оружия, — прели и разлагались в своих казармах. Еще никто не говорил слов: «Мир во что бы то ни стало». Еще не приехал Ленин, еще большевики говорили, что винтовку нужно держать наизготове, но гарнизона уже не было, был только склад солдат. Массы еще сверкали пламенем революции, но это не было жаркое пламя кокса, а жидкий огонь разлитого спирта, сгорающего, не успевая зажечь дерево, которое он облил.
Таким огнем был Керенский. Я увидел в первый раз Керенского на его генеральной истерике; когда он после статьи в «Известиях», направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать — «доверяют ли ему». Он бросал мятые фразы и, действительно, казался сверкающим сухими, длинными, трещащими искрами.
С измученным лицом человека, дни которого уже кончаются, кричал он и в изнеможении наконец упал в кресло. Это произвело страшное впечатление.
В другой раз я увидел Керенского, когда уже был назначен комиссаром. Ловил его для переговоров и изловил у Морского корпуса. Нашел его серый «локомобиль» и стал ждать, разговаривая с шофером.
«Сейчас вынесут», — сказал шофер. И действительно, через несколько минут из дверей корпуса вынесли Керенского. Он сидел в обычной усталой позе на стуле, высоко поднятом над толпой. Я сел к нему в автомобиль и начал говорить. С сухими, бескровными губами, с худым и отекшим лицом и с охрипшим голосом, он сказал, слабо сжав руки: «Главное — воля и настойчивость». Мне он показался человеком, уже сорвавшим свои силы, человеком, который знает, что он обречен уже.
Тороплюсь закончить писать о том, что известно всем, и спешу перейти к фронту.
Как я попал на фронт? Приехал Ленин. В мастерских дивизиона были партийные большевики; они предоставили Ленину броневик для проезда с вокзала во дворец Кшесинской, который был занят нашей частью под квартиру. Определенная часть дивизиона была резко за большевиков. Я находился тогда в дивизионном комитете и со своей школой представлял оборонческое крыло дивизиона.
Здесь я должен ввести новое лицо — Максимилиана Филоненко. Когда-то он был начальником броневых мастерских и вел себя широко, по-своему гуманно, потом с охотой поехал на фронт. Там успеха не имел, был как-то затерт, озлобился и рвался оттуда.
Он приехал уже после революции и застрял. То, что совершалось в Питере, гораздо более интересовало его, чем скромное место на фронте.
Это был маленький человек в кителе, с волосами, коротко остриженными, с головой, довольно большой и круглой, что делало его слегка похожим на котенка. Инженер по образованию, он знал четыре или пять иностранных языков, но более всего был доволен своим французским произношением. Сын крупного инженера, он неоднократно занимал ответственные места на крупных судостроительных заводах и неизменно уходил, испортив положение. Это был человек хороших умственных способностей, но не обладающий ароматом талантливости.
Первый ученик, желающий стать гением. Я не знаю его сердца, меня он любил и был хорошим товарищем. Но целью для него была — его цель, его звезда — он сам. Звезды же в его небе не было, и он ее тщетно искал.
Сперва он начал приходить в дивизионный комитет в качестве гостя и на русском безлюдье среди уже апатичных, как рыбы, комитетчиков, конечно, казался совершенно блестящим. Потом он стал брать работы по увещеванию какой-нибудь команды, чаще всего броневых мастерских, где его ценили по прежней службе и сносили от него многое, что не стерпели бы ни от кого другого. В мрачной сборочной мастерской, где стояли чудовищные машины, а на машинах в угарном воздухе отработанных газов громоздились люди, которые после 3-го — 5-го бросили свои машины при первом признаке неудачи, Филоненко ткал свои диалектические плетенки, умные и осторожные, со всякими крючками и закорючками. Потом Максимилиан Максимилианович сумел сделаться старшим офицером по технической части. На фронт, несмотря на вызовы, он не хотел возвращаться. На фронте у него была история, как потом я узнал, — высеченный солдат; там он был мертвый человек. Здесь же он поставил правильный «угол атаки» и собирался взлететь аэропланом.
В дивизионном комитете он получил фантастический мандат — в Совдеп, не от части, а от комитета. Это был, конечно, не самый странный мандат в Совете. Я там раз встретил одного довольно талантливого еврея, виолончелиста Ч., служившего раньше в музыкальной команде Преображенского полка в качестве представителя донских казаков.
В Совете Филоненко имел несколько удачных выступлений как оппонент Зиновьева, а на гарнизонном собрании, после апрельского выступления Финляндского полка, защищал коалиционное министерство.
У него было одно большое достоинство — он имел контур, был четок, имел волю. И ясно было, что он сыграет роль. В это время он занимал относительно Совета в высшей степени лояльную позицию. Но ему нужна была новелла, патент; таким патентом было предложение послать в армию комиссаров, которые лично принимали бы участие в бою. С предложением этим он обратился ко мне и к товарищу Анардовичу. Я согласился. Я тосковал и жаждал определенного дела, а Филоненко представлялся мне человеком толковым и к революции корректным.
Теперь об Анардовиче. Товарищ Анардович, впоследствии комиссар Особой армии, был сормовским рабочим, раненным на баррикадах 1905 года. Правоверный эсер, он имел влияние на команду мастерских и вывел 16–17 броневых машин в бой в то время, когда товарищи, бывшие впоследствии левее его, еще вообще не раскачались на какие-либо поступки. Этот горбоносый человек с энергичным лицом был трогательно прост и элементарен. Писал стихи под Надсона, верил в дорогу первого Совета, как сельский священник в требник, и революции был предан без страха и колебания. Любимое выражение его было: «Просто и ясно». Говорить он мог не переставая три и четыре часа, и ничто не сбивало его. С массою, как я впоследствии убедился, он справлялся превосходно, совершенно не боялся толпы и уверенно противопоставлял ее напору свое решение.
Я останавливаюсь на нем, между прочим, потому, что среди компании военных комиссаров Анардович был действительно единственным коренным рабочим, рабочим, взятым от станка.
Предложение послать в армию людей, обязанных лично принимать участие в войне, как живых свидетелей оборончества русской демократии, было внесено в дивизионный комитет и принято им. Ехать вызвались все дивизионные небольшевики. Помню, как стоял я с опущенной головой и упавшим сердцем. Ощущение у меня было, как у рабочего, который чувствует, что его захватило ремнем за края платья и потащило; он еще сопротивляется, но сердце уже сдалось неизбежности смерти. Я был послан на фронт по списку третьим: Филоненко, Анардович, Шкловский.
Дивизион все время, до последних дней октября, считал нас своими посланными, имеющими от него мандат. Так же считал и я. Филоненко же быстро оторвался от дивизиона, помогшего ему выдвинуться.
Началась сложная канитель проведения нашего посланничества через на все согласное Временное правительство и через несогласный, но не знающий вообще, что ему надо, Исполнительный комитет первого созыва — почтенную Академию имени Фабия Кунктатора.
А Исполнительный комитет совершенно не знал, что ему делать с армией. Противопоставить себя Временному правительству или — вернее, выдумав Временное правительство и противопоставив его себе — он не мог ни распоряжаться, ни не распоряжаться, вся фактическая власть была в его руках, но неизвестно, что было в голове его. Армия же не могла понимать этого сложного и глубоко научно-социалистического положения; она требовала власти, приказания.
В Исполнительный комитет Чхеидзе прибегали толпы людей из разных частей и требовали, чтобы им приказывали. Поэтому Исполком был уже приготовлен к восприятию идеи о двухмандатном комиссариате.
Когда я вспоминаю это положение, то Филоненко представляется мне организатором Военного комиссариата. Очень быстро перешел он от мысли о людях, показывающих пример, к мысли о людях приказывающих — к мысли комиссара.
Почему Военная секция Исполкома пошла на кандидатуру Филоненко? Я думаю, из-за полного безлюдия ей пришлось прищуриться и пропустить его мимо себя; кажется, он был когда-то эсером, но до революции связи с партией не сохранил. Кандидатура его была принята, Анардович поехал его помощником, другим помощником поехал инженер Ципкевич, когда-то бывший в п. с. — р., а теперь, в сущности говоря, человек «вне политики». О Ципкевиче я еще не говорил. Буду говорить после. Я впоследствии убедился в громадном организационном таланте Ципкевича.
Это был инженер — организатор производства. Революция беспокоила его, путая все схемы и расписания, и он думал отрегулировать ее, как мотор или железную дорогу. Я же был послан как ответственный агитатор.
Теперь отвечу на вопрос, из-за чего я поехал на фронт, зачем мне нужно было наступление и зачем я наступал.
Я был за выступление потому, что считал самую революцию за наступление. Наступать, по моему тогдашнему убеждению, было можно. Нужно было или наступать, или воткнуть штыки в землю и пойти, посвистывая, домой. В братание я не верил и был прав.
Ошибка моя была в том, что нельзя было наступать, имея за собой сирену — демократическое правительство с буржуазным хвостом. Нельзя драться, имея драку в тылу. Наступление, по-моему, было необходимо потому, что победа войск республики быстро создала бы революцию в Германии. Более веселую, чем революция под прессом реванша. Нужно было наступать, пока была еще армия, но нужно было однородное правительство с быстрым проведением программы-минимума.
И еще одно — союзники, будь они прокляты, не давали согласия на наше определение мира «без аннексий и контрибуций», а эти в газетах затрепанные слова — я знаю, как священны они были в душе каждого окопника, которому вода траншеи глодала ноги, а вши грызли шею. Эти слова были поистине священны среди босых солдат.
Те, кто отверг их, виновны в крови, грязи и ожесточении. О, если бы перед июньскими полками мы смогли развернуть священное знамя правой войны, — мне не хотелось бы плакать сейчас над вашими могилами, бедные мои товарищи!
Но я изменил себе, — я не хочу быть критиком событий, я хочу дать только немного материала для критика.
Я рассказываю о событиях и приготовляю из себя для потомства препарат.
Итак — мы поехали.
Мне жалко было расставаться со своей командой, с нашей школой, которую мы довели до невиданного в России совершенства. Команда моя осталась, подгнивая вместе со всем революционным гарнизоном. Чуть медленнее остальных частей. Цейхгауза она не разделила.
Теперь еще одно воспоминание о Петербурге.
Малый Совет солдатской секции, борясь своей весьма благонравной газетой с приехавшим Лениным, поместил в ней свою резолюцию, что он считает ленинскую пропаганду столь же вредной, как всякую контрреволюционную пропаганду. Ленин приехал объясняться в Совет. Это был день смятения. Зал заполнился комитетчиками. Председательствовал вольноопределяющийся Завадье. Ленин говорил речь с элементарной стремительностью, катя свою мысль, как громадный булыжник; когда он говорил о том, как просто устроить социальную революцию, он сминал перед собою сомнения, точно кабан тростник.
Зал во время его напора был согласен с ним, и в нем водворилось что-то похожее на отчаяние. Помню бородатого солдата, кричавшего по адресу малого Совета — «буржуйчики», «маменькины сынки» и требующего «Чхеидзу председателем, Чхеидзу!».
Представляю себе, какой заворот мозгов был в голове у этого солдата.
Ленину возражал Либер. Говорил прекрасно и одушевленно. Но слова его летели, как отруби, а не падали, как семена. С этим ощущением стремительной, слепой, всех топчущей силы я и уехал на фронт. Это было в первых числах июня. Мы уже отпраздновали Первое мая своей революции. Город весь жил ею. Улицы кипели летучими митингами. Личная жизнь казалась бледной. И вот я уехал и попал в другой мир.
Поехали мы впятером: Филоненко, Ципкевич, Анардович, я и в качестве секретаря один веселый и очень дельный одессит, тов. Вонский.
Приехали в Киев. В Киеве Совет солдатских депутатов воевал с дезертирами и украинцами. Совета рабочих депутатов среди живых не значилось, так как в Киеве, кроме арсенала и завода Гретера, крупных фабрик нет.
Над городом развевался желто-блакитный флаг, Думу охраняли солдаты-украинцы, а на улицах были митинги: русские спорили с украинцами, евреи дулись и ждали, когда их будут бить.
Положение было скверное, эшелоны, направляемые через Киев, в Киеве обращались в украинцев и оседали плотно.
Проехали дальше. За Киевом дорога приняла уже фронтовой характер. Люди, как фрукты в декоративных корзинах, горами громоздились на крыши вагонов. Все места на буферах были заняты. Наш маленький вагон-микст, отчаянно болтающийся в хвосте поезда, был переполнен.
Приехали в Каменец-Подольск, там в здании гимназии стоял Искомитюз, то есть Исполнительный комитет Юго-Западного фронта. Здесь мы встретили раньше назначенного комиссаром Моисеенко… Старшим помощником его был Линде. Это были уже усталые люди. Революция сильно посмылила их.
Рассказывали про Савинкова. Савинков в армии распоряжался как власть имеющий. Завел дни приема и брал на себя инициативу действия. Моисеенко считал себя только консультантом комитета и думал, что, едва комитеты окрепнут, комиссар станет ненужным. Непохоже было, что когда-нибудь комиссар будет не нужен Искомитюзу. Вольноопределяющиеся, довольно робкие, преподаватели, случайно попавшие в строй, врачи — все это были люди, не думавшие ни о каких своих выгодах, но очень мало приспособленные для овладения бурей революции.
Состав их был случаен. Массы послали тех людей, которые были не скомпрометированы и в то же время могли что-нибудь сказать, что-нибудь сделать. Всякий хорошо грамотный человек и в то же время не офицер, почти автоматически переходя из комитета в комитет, попадал в комитет фронта.
Отсюда большое количество евреев в комитетах, так как изо всей интеллигенции именно интеллигенты-евреи были к моменту революции солдатами.
В общем комитетчики были людьми без решений, людьми, сознающими невозможность строительства своими силами, поэтому они были настроены охранительно. Тыла они боялись. Не связанный по рукам и ногам немцами, от которых некуда было уйти на фронте, как нельзя уйти от атмосферного давления, тыл в то время раскачивал фронт, раскалывал его и расстреливал грандиозную фабрику, называемую армией.
На такой фабрике каждый обыкновенно делает очень мало, но если он перестанет делать это малое, то результат становится ужасным.
В это время шли разговоры про наступление. Наступление казалось столь неизбежным, как наступление вечера после дня, и не потому, что этого хотел Керенский, хотя Керенский и был воплощением для солдат энтузиазма революции, а потому — это чувствовалось всеми, — что нельзя собрать всех мужчин под ружье, оторвать от дела и так стоять, замахнувшись. Армия должна была или воевать, или разбежаться — пока она решила воевать.
Все знали, что наступление как будто будет даже тогда, если все скажут: «А я не хочу!»
Среди комитетчиков попадались и партийные люди, бундисты, эсеры и меньшевики. Последние главным образом плехановского толка. Комитетчик-большевик еще не появился, изредка в комитет проникал какой-нибудь солдат, находящийся вне круга интеллигентско-социалистической мысли, и этот «зверь из бездны» говорил мрачные слова, запутанные, но понятные. Эти люди называли себя большевиками, масса их состояла главным образом из шкурников, то есть людей, настроенных не жертвенно, а поэтому людей, невозможных на фронте, — где все были жертвами. Если бы попытаться определить их настоящую сущность, то точнее всего их можно было бы назвать штирнеровцами. В солдатской массе они уже имели влияние, но уважаемы не были. Большевизм масс явился позже как результат отчаянья, как словесная мотивировка отказа даже от обороны. Я говорю про большевизм военный.
Но пока полки еще держались на наивно-революционной идеологии, на «Марсельезе», красном знамени и, главное, на великой инерции столь огромного скопления людей, как армия, на остатках и навыках армейского быта.
Выразителями этой компромиссной основы революционной армии были комитеты, особенно высшие. Задачей комитетчиков было прежде всего сохранение армии. Как ее сохранить, они не знали и ждали бури, и боялись ее, и не знали, нужно ли с ней бороться; они не умели сами выразить то, что лежит в этой буре, поэтому они были робки и старались сохранить хотя бы основанную на компромиссе, но все же обороноспособную армию.
Наступление висело в воздухе, как позже ожидание большевистского переворота. Мы торопились на фронт.
Мимо старой турецкой крепости выкатил наш автомобиль на шоссе и оставил за собой Каменец, окруженный красивым кольцом воды. Дорога металась извивами, взбираясь на крутые холмы. Высокий и узкий мост висел над рекой. Я знал эту дорогу. Когда-то я вел и разбил на ней автомобиль, а сейчас заснул на дне автомобиля.
Ехали смертоубийственно быстро, к утру были у Черновиц. Белый город у гор на холмах, слегка похожий на Киев, но сильно польский, бойко торгующий, был местом нахождения штаба и комитета 8-й армии. Командующим армией был генерал Корнилов.
Нам отвели хорошую, совершенно неограбленную квартиру. Я с интересом взял местный военный листок. Выглядел он очень забавно. Из него можно было понять, что главный вопрос сейчас — это борьба гарнизонного комитета Черновиц с аркомом (армейским комитетом) на почве требования подкрепления на фронт. Политическая группировка была домашняя и упрощенная: кадеты, стоящие на платформе Петербургского Совета, то есть кадеты-циммервальдовцы, большевики-оборонцы, меньшевики с эсеровской земельной программой и — как венец — даже социалисты-индивидуалисты.
Впоследствии я узнал, что в армии ничего не значили все эти кустарные группы, так же как и некустарные. Моральным авторитетом пользовались не партии, а Петербургский Совет. Его признавали все, в него верили, за ним шли.
Правда — он стоял, поэтому все, кто за ним шел, ушли от него.
В Черновицах мы остановились не надолго. Филоненко имел здесь первое свое выступление, и у нас произошла первая размолвка. Явившись в арком, он произнес информационную речь, в которой главным образом коснулся внешней политики и в восторженных красках выяснил характер отношений между союзниками и революционной Россией. Это было так недобросовестно и так даже практически невыгодно, — потому что нельзя обмануть человека навсегда, — что я послал ему записку, указывая на невозможность таких выступлений. Тогда он резко повернул в своей речи и бешено обрушился на буржуазию и на мысль о невозможности работать без нее. Все это было сделано очень ярко и четко и на комитет произвело впечатление откровения и полного выяснения вопроса. Но в комитете в этот момент главным вопросом был вопрос не об информации.
Все знали, что наступление будет, и шел опрос представителей частей: пойдут ли их части в бой? Ответы были неуверенные; особенно помню один: «Я не знаю, пойдут ли в бой ротные комитеты, а полковой комитет драться будет!» Но главное — не это. Жаловались на «некомплект» в частях, на то, что в ротах по сорок штыков и эти сорок людей босы и больны. Только представитель так называемой «Дикой дивизии», набранной из горцев, убежденно ответил: «Пойдем когда угодно и на кого угодно». Разъяснение давал Корнилов. Его слова сводились к тому, что, несмотря на «некомплект» в частях, мы имели в месте предполагаемого удара пятерное превосходство над противником и что боевые задачи будут даваться из расчета на фактические силы частей. А были дивизии в девятьсот человек!
Опасения солдат, что им будут давать боевые задачи, считаясь не с числом штыков, а с названием части, были небезосновательны. Я при старом режиме знал случаи, когда на позиции пехотный (Семеновский) полк сменили спешенным кавалерийским полком, который по численности был раз в пять меньше.
Еще одна общая жалоба раздавалась во всех выступлениях делегатов, и на эту жалобу, конечно, Корнилов ответить ничего не мог — это жалоба на полную заброшенность полков, на оторванность. Я немного знал уже фронт и представлял себе эту тоску окопника в траншее, из которой не видно даже противника, а только зимой — снег, летом — стебли травы.
На заседании был сделан доклад, очень подробный, о силе армии и ее вооружении. Не был указан только пункт прорыва, но все знали, что дело идет о Станиславове.
Странно было слушать, как подробно обсуждался план наступления: говорили о дорогах, о количестве вооружения на собрании более чем в сто человек. Демократический принцип обсуждения был доведен здесь до абсурда, но нам удалось впоследствии углубить и обработать этот абсурд. В Станиславове перед самым наступлением были собраны все члены ротных комитетов ударной группы, то есть 12-го корпуса, и на этом собрании тоже обсуждался вопрос: наступать или не наступать? Я не говорю уже о митингах в самих окопах, иногда в нескольких десятках шагов от противника. Но тогда это не казалось мне странным. Не думаю, чтобы отчетливо понимал безнадежность положения и Корнилов. Он был прежде всего военный. Генерал, ходящий в атаки, пробивающийся с револьвером. К армии он относился так же, как хороший шофер к автомобилю. Шоферу важно прежде всего, чтобы машина шла, а не кто на ней едет. Корнилову нужно было, чтобы армия дралась. Он удивлялся на странный революционный способ подготовлять наступление. Он хотел еще верить, что так драться можно. Так шофер, недоверчиво пробуя новую смесь, очень желает, чтобы на ней можно было ездить, как на бензине, и способен увлекаться мыслью о езде на карбите или скипидаре.
Корнилова в армии я встретил не в первый раз. Я видел его еще в апрельские дни, когда петербургские полки выступили против Милюкова. Тогда он по телефону потребовал от дивизиона броневые машины; у нас же было единогласно постановлено, что мы подчиняемся непосредственно Совету. Поэтому резолюция была: «Не принять к сведению». Я ездил ее передавать. Корнилов говорил очень тихо, очевидно сильно недоумевая, как это он, командующий, без войск и кому нужно, чтобы он командовал. Видеть меня в армии ему было неприятно; потом он примирился со мной, но стал считать меня за сумасшедшего.
Армейский комитет в тот момент очень верил в Корнилова, и, когда тот явился после доклада, сделанного офицерам штаба, его выступление было встречено восторженно. Но корниловцев не любил никто. Корниловцами назывались люди первого «батальона смерти», который формировался в Черновицах из добровольцев — главным образом солдат технических частей и военных чиновников, решившихся идти в строй.
Я могу засвидетельствовать, что батальон дрался не хуже лучших старых полков. Но эти ударные батальоны, уже нашивающие на рукава черепа и кости, дробили армию и вызвали в чутко-недоверчивом солдате опасения, что создаются в прежде единой армии какие-то особенные части с полицейскими обязанностями. Лояльнейшие комитетчики были против ударников. Ударники раздражали, про них рассказывали, что они получают какое-то большое жалованье и живут на привилегированном положении. Я был безусловно против ударных батальонов, потому что для создания их обычно отрывались из полка люди с подъемом и энтузиазмом, люди сравнительно высокой интеллигентности. Их гнала из полков тоска видеть уже начавшееся гниение армии. Но они нужнее были именно в полках, как соль в солонине.
На корниловцев нападали в комитете яростно, они же оправдывались довольно жалобно.
Кстати, вспоминаю о женских батальонах; несомненно, что это было высиженное в тылу и сознательно придуманное оскорбление для фронта.
Походил по Черновицам. Чистенький, похожий на Киев город. Ели в нем очень хорошо, по-европейски, чище, чем у нас. Солдаты не разорили город; в квартире, где я квартировал, на местах были даже серебряные вещи, подушки и ковры. Квартира была обычного, довольно богатого старопомещического типа. По городу ходили трамваи, на которых не висели и за проезд на которых платили. Подкрепления из города на фронт шли, хотя из тыла почти не прибывали, а когда прибывали, то сильно портили полки. В общем город, с точки зрения состояния гарнизона, был почти хорош. Но все это висело не на сознательной воле, которой не могло быть у людей, еще и не переживших по-настоящему революции; значит, все висело на добрых намерениях, непрочно.
Филоненко со своим секретарем Вонским, веселым, крепким и по-своему очень хорошим, чрезвычайно энергичным и находчивым мальчиком, остался в Черновицах. Я с Анардовичем поехал на фронт, где должно было с часу на час начаться наступление. И вот опять навстречу моему автомобилю побежали трижды знакомые поля Галиции с польскими кладбищами, на которых кресты по-польски мелодраматически огромны, с еврейскими крашеными могильными камнями, заросшими сухой травой, с мраморными статуями, ошершавленными дождем и ветром. На перекрестках милые синие православные галицийские распятия, на них по диагоналям креста стоят святые. Круто поворачиваясь, дорога идет все тем же нешироким, но ровным шоссе.
Иногда проезжаем мимо рощ, и тогда мерный стук машины отдается в деревьях звуком, похожим на звук удара хлыста по листьям. Приехали в маленькое темное местечко. Здесь стоял штаб корпуса, который был назначен делать прорыв.
Это 12-й корпус. Нас принял — дело было ночью — безумно усталый начальник штаба. Казалось, что он занимался неделю, неделю не спал и что у него болят зубы. У него не болели зубы, но он чувствовал себя как человек, которому велят прыгать, а ноги парализованы, или велят замерзшими пальцами собирать серебряные пятачки с каменного пола. Он начал безнадежно говорить о том, что полки отказываются копать параллели — параллелью называется траншея, которую копают впереди основного окопа, с ним она соединена ходом и, в общем, назначение ее — приблизиться к противнику, чтобы уменьшить потери при атаке. В армии появился какой-то бродячий полк без офицеров и обоза, с одной только кухней, который затесался из соседней армии и идет куда-то домой, а наступление через несколько дней. Он говорил, а в соседней комнате, тоже тускло освещенной керосином, синели и слабо стукали «юзы» и «морзе», тонкие бумажные ленты медленно выползали из аппаратов.
Из штаба по темной, глубокой грязи прошли к командиру корпуса генералу Черемисову. Черемисов похож на Корнилова, тоже маленький, с желтым монгольским лицом, с косыми глазами, но как-то глаже его, менее сухой. Он казался умней и талантливей Корнилова. Как наштакор (начальник штаба корпуса), он уже был при прошлом наступлении в этих местах и действительно превосходно знал Галицию и Буковину. Революция и война инстинктивно нравились ему теми широкими возможностями, которые они ему давали. Солдат Черемисов не боялся: я знаю как факт, что, когда какая-то команда решила убить его и поставила миномет против дома, он, выйдя на шум, очень спокойно доказал солдатам, что миномет здесь применен неправильно, так как фугасным действием снаряда будут разрушены соседние дома. Солдаты согласились и миномет убрали. Черемисов был настроен не очень плохо, но указал вещь действительно верную: больше всего раздражала солдат газетная шумиха. Тыловые крики: «В наступление, в наступление!» В данный же момент дело обстояло так: в районе Станиславова у нас было сосредоточено до 700 орудий и начиналось сгущение фронта. Полкам уменьшались участки позиции, отведенные им, а в освободившиеся места вливали новые части. С этим и была первая заминка. Одиннадцатая дивизия, находившаяся в хорошем состоянии, идти на фронт не хотела не потому, что была против наступления — прямых отказов от войны я почти не встречал, — а потому, что была снята с другого участка фронта, причем ей был обещан отдых. 61-я дивизия, кажется (не помню точно номера, знаю, что в состав ее входил Кинбургский пехотный полк), не хотела копать параллели, еще какая-то дивизия тоже чего-то не хотела и чего-то хотела. А у противника перед нами почти ничего не было, то есть были проволоки, пулеметы и почти пустые окопы. Мы решили ехать немедленно в Станиславов. Поехали ночью. Еще было далеко до города, который находился непосредственно в линии окопов. Но фронт уже наметился беспрерывными взлетами ракет, которые жгли немцы, боясь ночного наступления. Пушки не стреляли, или выстрелы были не слышны, автомобиль бесшумно гнал дорогу, отгоняя ее за себя, и несся прямо на эти голубые огни. Мы обгоняли тихо едущие тяжелые повозки артиллерийских парков, везших снаряды. Поток повозок все густел, становясь непрерывным по мере приближения к городу. Возницы, молчаливые от ночной усталости, сидели безмолвно на тряских тяжелых двуколках, лошади безмолвно натягивали постромки.
Приехали в город. Остановились в гостинице, кажется «Астория». Город Станиславов переходил из рук в руки. Русские и австрийцы брали его то с правой, то с левой стороны, то спереди, то сбоку. Я въезжал в него уже третий раз за время войны, и каждый раз по другой дороге. Город был богат, дома сохранились, обстрел очень мало разрушил их. Сильнее всего пострадали окраины и газовый завод. Но это неудивительно, некоторые домики окраины отстояли от окопов на несколько шагов. В этих домиках жили. Наша линия шла сейчас же, как перейдешь реку Быстрицу-Надворнянскую. Такое расположение позиции было неудобно, так говорили все. Сделано же это было для донесения, чтобы написать: «Наши войска перешли Быстрицу-Надворнянскую». Войска переполняли город.
Штабы чуть ли не всех дивизий 12-го корпуса, который в это время представлял из себя едва ли не армию, теснились в городе. В гостинице, в которой я стоял, жили чины оперативного отделения штаба; на дворе стояла батарея, на крыше находился артиллерийский наблюдательный пункт, внизу, в бойко торгующем польском кафе, сидели офицеры, а в воздухе висели двухцветные, в два дымка — коричневый и синеватый — разрывы австрийской шрапнели. Ночью особенно гулко были слышны выстрелы наших орудий, они раздавались буквально под ухом, гулко отражаясь от стен двора. Звук такой, как будто с размаху бросают на каменный пол большой мяч.
Станиславов — единственное место на фронте, где мне пришлось спать на кровати и даже с постельным бельем. В этот раз в Станиславове я прожил недолго. Меня вызвали в Александропольский полк. Полк этот занимал позиции довольно необыкновенные.
Перед ним стояли неприятельские силы на кругловерхой лесистой горе Космачке. Полк тоже стоял на горах, между нашими и немецкими окопами было расстояние верст не менее трех. Здесь фактически и войны не было. Через окопы были перекинуты доски, сами окопы полузасыпались. Братались долго и старательно; в деревнях, расположенных между позициями, сходились солдаты, и здесь был устроен вольный и нейтральный публичный дом. В братании принимали участие и некоторые офицеры, из них выделялся талантливый и боевой человек, георгиевский кавалер и, кажется, бывший студент, некий капитан Чинаров. Я думаю, что Чинаров был человек субъективно честный, но в голове его вихрился такой сумбур, что, как нам это сказали потом жители занятой нами деревни Рассульны, Чинаров неоднократно ездил в австрийский штаб, где кутил с офицерами и катался с ними куда-то на автомобиле в тыл.
В помещении австрийского штаба в деревне Рассульне мы нашли — заняв ее — немецкое руководство к братанию, изданное германским штабом на очень хорошей бумаге и, кажется, в Лейпциге.
Чинаров был арестован Корниловым и сидел вместе с неким прапорщиком К., который потом оказался казанским провокатором.
Я старался освободить Чинарова, потому что наши понятия о свободе слова и действий каждого отдельного гражданина были тогда анекдотически широки. Чинарова я не освободил, полк его требовал, я поехал его успокаивать.
Ехал долго, кажется, через местечко Надворное; уже начали чувствоваться Карпаты. Дорога была выложена поперечными бревнами. Над ней было устроено нечто вроде триумфальных арок, декорированных зеленью елки — способ маскировать дороги, перенятый у австрийцев. Заехали сперва в штаб корпуса (16-го), здесь нас встретил растерянный генерал Стогов. Этот уже ничего не понимал. «Какие-то большевики, меньшевики, — жаловался он мне, — я же вас всех привык считать, простите меня, изменниками». Я на него не обиделся. Ему было очень тяжело. Корпус его целиком состоял из третьеочередных дивизий, из всяких 600-х и 700-х номеров, сведенных из нескольких полков при переформировании, когда полки переходили от четырехбатальонного состава к трехбатальонному. Эти наспех составленные части, без традиций, с враждующими между собою группами командного состава, конечно, были очень плохи. Генерал же Стогов любил «свои войска», и ему просто обидно было, что его солдаты так плохо дерутся. Влияния на солдат он не имел, хотя они знали его и ценили.
От Стогова поехал в штаб дивизии. Там тоже полная растерянность. Хотя все знали, что на корпус и не возложена боевая задача, но все же было странно видеть войска в таком состоянии, на них нельзя было рассчитывать даже для простого занимания гарнизонами оставленных противником деревень.
Поехал в полк. Собрал солдат, митинга не устроил, чтобы не накалять атмосферы, поговорил с ними обычным голосом, сказал, что Чинарова будут судить и что я его отдать им не могу. Солдаты, очевидно, относились к нему очень хорошо и торопились подсунуть мне ложные показания о нем.
Но полк все же немного успокоился, просто от того, что отвел душу с новым человеком. С полком этим долго потом возился Филоненко и армейский комитет. Наконец он был расформирован.
От александропольцев вернулся в Станиславов. Меня попросили ехать к кинбуржцам. В Кинбургском полку, который стоял в верстах в двух от Станиславова, тоже было сильно неладно. Он стоял на боевом участке и отказывался рыть параллели, следовательно, не готовился к наступлению. Поехал опять. Это была уже не поездка, а полет на автомобиле по шоссе, вдоль позиции. Шоссе было видно немцам, они держали его под обстрелом. Немцы били по автомобилю влет, но проскочить оказалось возможно, мы проскочили.
Приехали. Перешли речку Быстрицу-Надворнянскую и скоро попали в расположение полка. Собрали солдат, эстрадой была землянка. Один солдат сказал мне: «Не хочу умирать». Я говорил с отчаянной энергией о праве революции на наши жизни. Тогда я еще не презирал, как сейчас, слова. Товарищ Анардович сказал мне, что от моей стремительной речи у него поднялись волосы на голове. Аудитория, решающая вопрос о своей смерти, смерти немедленной, необходимость требовать от людей отречения от себя, тишина печальной тысячной толпы и смутная тревога от близости неприятеля натягивали нервы до обрыва.
После меня говорил маленький, очень грязный солдатик. Весь в казенном. Он говорил наставительно и просто и самые элементарные вещи. Из слов его я понял, что он был в числе пяти или восьми человек, решившихся прошлой ночью работать впереди наших окопов.
Потом, после митинга, я подошел к нему и заговорил. Он оказался евреем — заграничным художником, который, вернувшись из-за границы, пошел в строй. Это была почти святость. Ни солдат технический, ни пехотный офицер, ни комиссар, ни один человек, который имеет запасную пару сапог и белья, не может понять всей солдатской тоски, всей тяжести солдатской ноши.
Этот еврей-интеллигент на своих сапогах нес тягу земли.
После меня говорил Анардович. Он говорил убежденно, он был проспиртован духом Совета насквозь, счастливый, не знал всей тяжести и сложности нашего положения. Его убеждения делали его простым и убедительным. В его часовой речи были собраны все общие места всех советских речей. Революция в его душе образовала свои нормы. Он был похож на ортодоксального христианина.
Потом пошли по каким-то темным уличкам и опять говорили, обращаясь к темной, невидимой нам толпе людей с лопатами, которые не знали — идти или не идти.
Кинбуржцев мы убедили.
Ночевали где-то в штабе полка. Ночью, заспанные и смятые, как солдатская шинель, поехали дальше, говорить с Малмыжским полком.
Опять разговоры. Здесь меня ожидала новость. Группа солдат объявила мне со счастливой улыбкой: «Вы нам не говорите, мы ничего не понимаем, мы мордва». Потом поехали, кажется, к уржумцам. Самое тяжелое было то, что приходилось всюду являться в виде последнего довода и все время действовать в самых тяжелых местах.
Уржумцы, или не помню, как звали этот полк, стояли в окопах. Обходили узкую щель траншеи. Среди двух близко друг к другу прижавшихся земляных серых обрывов траншеи скучали посаженные в яму люди. Полк был растянут чуть ли не на версту. Окопники жили по-домашнему. Кто в маленьком походном котелочке варил себе на обед рисовую кашу, кто подрывал в стене себе норку на ночь.
Высунешься из узкой траншеи, увидишь только стебли травы да услышишь редкое, неторопливое посвистывание пуль.
Обходя, говорил с солдатами, они как-то жались.
По дну траншеи под поперечными досками помоста тек узкий ручеек.
Мы шли по его течению. Чем ниже становилась местность, чем больше сырели стены, тем сумрачнее были солдаты.
Наконец траншея оборвалась. Мы вышли на болотце. От неприятеля нас отделяла только невысокая, из мешков с землей и из дерна сложенная стенка.
Рота, состоящая почти исключительно из украинцев, собралась и сидела. Стоять было нельзя — опасно. Стенка слишком низка.
Полная растерянность чувствовалась среди этих людей. Мне показалось, что они сидят так всю войну.
Я заговорил с ними об Украине. Я думал, что это большой и важный вопрос. По крайней мере, в Киеве вокруг него шумели чрезвычайно. Они остановили меня:
«Нам это не нужно!»
Для этих солдат вопрос о самостийной или несамостийной Украине не существовал. Они сразу же сообщили мне, что они за общину. Не знаю, что они под ней подразумевали. Может быть, только общий выгон. Солдаты были словоохотливы, очевидно, они очень радовались свежему человеку, но не знали, что именно нужно спросить, чтобы ответ сразу разрешил их сомнения. Умение задать вопрос — большое умение. Унтер-офицер, очевидно популярный среди своей роты и стоящий среди сидящих солдат как председатель, спросил меня:
«А вот наши ребята беспокоятся, правда ли Керенский не социал-революционер, а социал-демократ, так что они беспокоятся?»
Я ответил на его вопрос. Хотя ответ, казалось, и рассеял его сомнения, но все же он не был удовлетворен краткостью его.
Казалось мне, что вот солдаты будут слушать такого унтера, который и сам не понимает, и говорит непонятно, а потом скажут: «А ну тебя» — и пойдут в разные стороны.
Прошел в офицерское собрание. «Плох наш полк, — говорили офицеры, — плох, ненадежен».
И мне так казалось. Но что сделать?
Смотрят тебе в руки, ждут чуда. А я, не сделав чуда, поехал в Станиславов.
Опять тот же город. Польский, скрытно враждебный. Чистый, разоренный. Мне сказали, что нужно ехать в 11-ю дивизию. Там дело было еще хуже. Свежая, недавно пополненная дивизия не хотела садиться в окопы. Вообще сажать в окопы дело трудное, но здесь было хуже обычного. Поехал. В дороге все не ладилось, лопались шины, слетали съемные обода, в автомобиле чувствовался упадок, хотя шофер явно старался довезти нас во что бы то ни стало. Приехали. Сперва в штаб, кажется, Якутского 41-го полка. Маленькая галицийская избушка, довольно чистая, внутри пестрая. Командир полка сообщает, что его полк категорически не хочет идти. Собираем митинг. Среди поля ставят двуколку, обставляют ее срубленными березками или кленами, рядом держат еще не линялое красное с золотом знамя. Жара. Солнце давит. В воздухе высоко немецкий аэроплан приглядывается, как русские готовят наступление. Говорил сперва Анардович. Обычная речь, по «Известиям», говорит без шапки, солнце сверкает на бритой голове. Кто-то из толпы сказал: «Правильно!», его ткнули соседи, и он замолк. Полки не знали свободы слова, они рассматривали себя как одну голосующую единицу. За противоречие били. В Малмыжском полку за оборонческую речь так избили телеграфиста, что он ушел на четвереньках.
После Анардовича говорил я. У меня странная привычка — говоря, всегда улыбаться. Это дразнит толпу, особенно если она угрожает. «Смеется, беззубый!» После нас говорил солдат-коновод, говорил плохо, но недемагогично; его доводы были таковы: во-первых, не надо трогать немца, растревожим его, а потом не справимся; во-вторых, не надо трогать 11-ю дивизию, которая только что снята из окопов, причем ей был обещан отдых, а генерал перед посадкой сказал: «Поздравляю, товарищи, с отдыхом». Говорили и не договорились ни до чего. Поехали в следующий полк — то же: полки стоят на своем, говорят, что никуда не пойдут. Заехали в штаб дивизии. Там на мызе, довольно чистой, сидит компания — начальник дивизии, который чувствует себя виноватым, хотя и не знает в чем, священник, несколько штабных и несколько членов, кажется, Симферопольского Совдепа, которые приехали на фронт с подарками и сильно удивляются, как все это не похоже на то, что они ожидали. Говорили и они о наступлении, но их чуть ли не избили. Мы присоединились к этому блоку и печально пообедали.
Шел дождь, шинели мы забыли в полку. Но дивизию нужно было двинуть во что бы то ни стало. Слова «во что бы то ни стало» так вертелись в моем мозгу, что впоследствии в Персии мне казалось, что «Вочтобытонистало» — это одно слово, а «Вочтобытонистало» — город в Курдистане. Поехали двигать дивизию. Вызвали Филоненко. Еще до его приезда узнали, что пулеметные команды, роты гренадер и инженерные — за исполнение приказания, что они стоят даже отдельным лагерем и держат свое сторожевое охранение от прочей пехоты. Должен сказать, что все квалифицированные части армии были за наступление, а главное — за сохранение порядка и организованности. Люди городской культуры — более самоотверженные, у них в голове больше воображения, и они не могут представить себе «11-ю дивизию» или «5-ю роту» как нечто автономное. Но нам нужна была дивизия, а не отдельные команды. Собрали через полковой комитет всех главарей, не согласных с нами. Сказали им, что стоять и гнить нельзя, нужно или воевать, или разбегаться. Вопрос шел о жизни каждого из говоривших. Обещали произвести следствие, отчего обманули 11-ю дивизию, подманивая к окопам обещанием отдыха. Расстались все с изорванным сердцем, сильно недовольные друг другом. А 11-я дивизия все же «пошла». Первыми снялись и ушли пулеметчики, ведя пулеметы в тылу и готовясь к нападению, потом ночью сбежала от полка пулеметная рота, за ней пришли к Станиславову остальные, где и стали, держа друг против друга караул. Но все же дивизия была передвинута. Привожу столь подробно эту историю для того, чтобы показать, как решались задачи средней трудности.
Мы приехали в Станиславов еще раньше 11-й дивизии.
Здесь Филоненко устроил в кинематографе грандиозное собрание делегатов всех полковых и ротных комитетов 12-го корпуса, то есть ударной группы. Единогласно решили наступать. Из комитетов были выделены боевые комитеты для помощи командирам, а остальным комитетчикам — идти в цепь. Все голосовавшие за это люди, быть может, и ошибались, но они ошибались жертвенно, честно, решаясь на смерть, только бы разорвать на шее революции петлю, затянутую войной. Пока мы возились с 12-м корпусом, в соседних корпусах было неважно. Пришло известие, что Глуховский полк 79-й дивизии — забыл его номер, но никогда не забуду его имя — находится в состоянии полного разложения. Офицеры разбежались, полковой комитет переизбирался три раза и сейчас тоже не имеет доверия солдат; они запретили комитетчикам разговаривать в комнате, так что комитет мог собираться только на улице среди митинга. В соседнем полку той же дивизии избили председателя полкового комитета, доктора Шура, старого бундиста; предполагалась провокация присланных на фронт городовых. Избитый доктор был посажен под арест, поехал выручать его Филоненко, ему это удалось сделать без артиллерии и кавалерии. К глуховцам поехали втроем: Филоненко, Анардович и я, оставив Ципкевича организовывать корпус к наступлению. Ципкевич был превосходным организатором некогда в боевой дружине, потом в Николаевских судостроительных заводах и, наконец, в 8-й армии, где комитетчики перед ним благоговели.
Схема его работы была такова. Вечером командующий корпусом сообщал ему задания армии на завтрашний день. Ночью Ципкевич раздавал участки комитетчикам и рассылал их, днем они телеграфировали результаты. Особенное внимание было обращено на переброску войск и проталкивание грузов. А мы — пока Ципкевич разгрызал революционными методами железнодорожные пробки — поехали к глуховцам.
Глуховцы стояли у нас на левом фланге в Карпатах, недалеко от Кирли-Бабы. Еще при Николае этот полк два или три раза бегал с позиции — по крайней мере, так хвастался он. Место, где он стоял, глухое, бездорожное, дождливое, унылое. Дорога шла, все повышаясь и повышаясь, временами открывался вид вниз на деревни, на холмы, ступенями опускающиеся в долину.
Наконец подъехали к двум маленьким горелым городкам, разделенным мелкой, но быстрой горной рекой. На железнодорожном мосту узкоколейки, начинающейся отсюда, висел крохотный паровозик с одним буфером на груди. Когда-то, отступая, сбросили его, он повис и висел. Городки эти зовут Кута и Выжница, они стоят уже в воротах Карпат. Дальше дорога пошла, как вообще в Карпатах, вдоль реки. По противоположной стороне тихонько катился поезд узкоколейки. Дорога мучительная. Крутые подъемы, бревенчатая мостовая, одна выдерживающая дожди Карпат, — все это вместе делало путь страшно трудным. По бокам склоны с темным мехом мрачных елей, иногда почти вертикальная пашня, казалось, что лошадь и пахарь могли влезть и пахать на такой круче только на четвереньках, да еще держась за камни зубами. По дороге изредка встречаются старые гуцулы в цветных коротких полушубках, с черными зонтиками в руках. Артели подростков-женщин чинили дорогу и с готовностью улыбались автомобилю. Шел дождь; минутами не то что светало, а как-то серело, и дождь переставал. На полпути автомобиль не выдержал, изорвал шины и стал. Была ночь. Перешли речку вброд. Ночевали в гуцульской избушке. Выглядит — как жилище Пер Гюнта. Утром на шинах, кое-как заплатанных, на одной покрышке, набитой мохом, поехали. Приехали в полк. Штаб пустует. Встретил нас прапорщик. Вид подозрительный, очевидно, что он в свое время вел кампанию против офицеров и комитетов и лез в «Муравьевы», как я бы теперь сказал; но, когда все раскачалось и разошлось, убоялся, и сейчас все его честолюбие исчерпывалось мечтой поехать в отпуск. Полк был невыносим. Унтер-офицеры из него почти все сбежали в ударные батальоны. У него не было уже ни дна ни покрышки.
Комитет отговаривал нас от митинга, но мы решили митинг собрать. Среди луга стоял помост. Собрались солдаты, пришел оркестр. Когда оркестр играл «Марсельезу», то все держали руки под козырек. Получалось впечатление, что у этих людей еще что-то есть и полк не обратился в сукровицу. Долгая окопная жизнь измучила полк, многие ходили с палочками, с повадкой слепых, у них была куриная слепота. Измученные, оторванные от России, они сложились в свою республику. Исключение представляла опять-таки пулеметная команда. Повели митинг. Слушали неспокойно. Прерывали криками: «Бей его, он буржуй, у него карманы на гимнастерке», или: «Сколько с буржуев получаете?» Мою речь мне удалось договорить, но в то время, когда говорил Филоненко, толпа под предводительством некоего Ломакина вбежала на помост и схватила нас. Нас не били, но напирали на нас с криками: «Мутить нас приехали!» Один солдат снял сапог и все вертелся, показывая ногу и крича: «У нас от окопов ноги, ноги попрели». Нас уже решили вешать, так просто — вешать за шею, но тут всех выручил Анардович. Он начал со страшной матерной брани. Опешили и осели. Для него, революционера уже 15 лет, эта толпа казалась стадом безумных свиней; он не жалел их и не боялся. Мне трудно передать эту речь; знаю только, что он, между прочим, сказал: «Я и из петли скажу вам — сволочь вы». Подействовало. Нас начали качать и на руках донесли до автомобиля. А когда мы поехали, бросили нам вслед несколько камней.
С полком в конце концов Анардович справился. Приехал один, велел отдать винтовки, построил поротно, семьдесят человек отделил и послал под конвоем одного казака в корниловский батальон, где эти люди сказали, что они «подкрепление» и дрались не хуже прочих, а остальных привел с собою на место. Полк оказался не хуже других. Конечно, все это в результате было бесполезным, мы боролись с разложением в отдельных полках, а это разложение — процесс разумный, как все существующее, и происходил во всей России.
От глуховцев поехали обратно через Куту в Станиславов. Там уже шла артиллерийская подготовка наступления. 700 пушек не торопясь, с прицелом разбивали немецкие окопы. Это для артиллеристов не тяжелая, а веселая работа. Можно обедать, пить чай, а потом стрелять снова. Не то что неприятная стрельба при отбитии атак противника. Несмотря на то что авиация немцев превосходила нашу совершенно безмерно, наши артиллеристы, не пользуясь воздушной разведкой, все же стреляли прекрасно. Я смотрел на обстрел с чердака через приподнятые черепицы крыши высокого дома, так как специальный наблюдательный пункт был переполнен: их было сперва два, но один был разбит неприятельским снарядом, наблюдатели погибли, для похорон собрали только клочья мяса.
В картине обстрела чужих позиций поразило меня то, что шуму очень мало, как-то мало гремели пушки или гремели не все сразу. Из окопов противника били фонтаны земли, по высоте фонтана можно было догадаться о калибре снаряда. А в воздухе над Станиславовом висели двухцветные облачка разрывов австрийских шрапнелей. Около часу дня 23 июня 1917 года штаб на наблюдательном пункте получил известие, что кинбуржцы устали ждать и идут в атаку, не дожидаясь полного разрушения неприятельских проволочных заграждений.
Наш огонь, все тот же, спокойный и неторопливый, был перенесен на резервы противника. С крыши было видно в бинокль, как выбегали из наших окопов маленькие серые люди и бежали через поле. Сперва наши появлялись на отдельных участках, потом извилистая цепь наступающих опоясала весь наш фронт. Я плакал на крыше.
Уже сообщали, что первая атака прошла через три ряда неприятельских укреплений; атака была превосходная, успех развивался. Я слез с крыши и отправился на фронт. Шел пешком по шоссе, через наши окопы к австрийским. Перешел Быстрицу. По бокам дороги там и сям виднелись ямки, в которых окапывалась наша наступающая пехота. Австрийские окопы были разбиты очень сильно. Они поражали своим благоустроенным видом. Сейчас в них копошились изредка солдаты, ища сахару. Комитетчикам удалось уничтожить вино, иначе солдаты перепились бы. Через поле, устало шагая, шла вторая и третья русская наступающая цепь. Везде валялось австрийское оружие, шинели, каски. Удар был неожидан для неприятеля, несмотря на наши долгие о нем разговоры. Начальник австрийской артиллерии был убит у 40-сантиметрового орудия. Но продвинулся еще не весь фронт; где-то влево от шоссе как будто стучали палками о палки: то шел ружейный и пулеметный огонь. Я дошел до штаба 11-й дивизии, меня узнали, но всем было не до меня; палки стучали все чаще и чаще, бой занимался. Пошел смотреть австрийские окопы. Хороши окопы! Даже с броневыми башнями для наблюдателей.
Пришло известие: австрийцы сломлены по всей линии; перестрелка утихла. Пошел дальше. Из Станиславова пришли броневики, посланные для погони за противником. Они стояли перед небольшим, разрушенным австрийцами мостом и засыпали канаву. Встретил здесь одного товарища, его потом убили в боях этого же дня. Пошел дальше, убитых видно мало, раненые идут и идут, пока больше наши; значит, противник еще нигде не отрезан. А вот под кустом лежит у самой дороги убитый, лежит тихий, рядом с ним завтракают австрийскими консервами спокойные солдаты и ставят жестянки на труп.
На автомобиле меня догнал довольный Филоненко. Поехали вместе, немецкие аэропланы летали низко-низко, совершенно не боясь нашей стрельбы; я думаю, что они были бронированы, временами они опускались так низко, как будто хотели сбить хвостом наш автомобиль. Или бросали в небо красную ленту, вертикально повисающую над нашей цепью, для того чтобы корректировать стрельбу своей артиллерии.
Снаряд упал перед радиатором нашего автомобиля; думаю, что выстрелили по облаку пыли. Мы вкатили в вихрь песку и камней, поднятых взрывом, успели только закричать и уже проскочили.
В первый день войска достигли линии реки Повельчи, где и закрепились. Приехали туда, все в превосходном настроении, хотя полк при наступлении налез на полк и все спуталось и перемешалось. К вечеру стали известны первые результаты наступления: фронт противника был разорван, мы прошли верст десять, взяли две немецкие дивизии в вагонах и более трех тысяч пулеметов.
Я пишу все это почти через два года. Наше наступление было 23 июня 1917 года по старому стилю, а я пишу в Троицын день 1919 года. От глухих и далеких выстрелов пушек слегка подрагивают окна дачи, в которой я живу (Лахта). Где-то, кто-то, не то финны, не то какие-то анонимные бельгийцы, бьют каких-то мне неведомых «наших».
На другой день опять поехал на фронт. Повельча пройдена. Наши потери были ничтожны. Знаю, что Камчатский полк, который я встретил, потерял 40–50 человек.
Проехали через фронт, отпустили автомобиль и пошли пешком с разведчиками.
В продолжение двух или трех дней мы часто выходили с разведчиками за нашу линию. Наступление шло порядком необычным. Впереди всех шла наша легкая артиллерия, даже без прикрытия; она едва успевала становиться на позицию и сделать несколько выстрелов, как уже приходилось идти дальше. Австрийцы потом переняли эту манеру у нас, и при встречных боях в Долинском направлении нам приходилось убеждаться, что у них артиллерия вышла непосредственно в цепь. Но в те дни артиллерия гуляла и вне цепи. За артиллерией шла пехота, за пехотой кавалерия. «Дикую дивизию» не удалось использовать, кажется, из-за пересеченной местности. Вообще же она была много хуже нашей регулярной кавалерии, которая очень хороша. Кавалеристы впоследствии одни прикрывали наше отступление. Это были еще кадровые солдаты. В то время настроение у них было почти шовинистическое. Они говорили: «Мы за мир без аннексий и контрибуций, но за войну до полной победы». Пока же преследованием противника занималась артиллерия.
А в нашем тылу двигались и сшибались огромные, тяжелые, с непрерывным грохотом идущие обозы наступающей армии.
Так ясна была разница между тонкой-тонкой, не цепью, не линией, а ниткой русского фронта и огромным перегруженным тылом.
Помню один наш переход. Вышли вечером. Со мною милый Вонский, энергичнейший одессит, который умел пропихивать через Станиславов неопределенно большое количество раненых. Справа перед нами горящая деревня. Зажгли австрийцы. От пожара еще темней. Издали стреляет по пламени уходящий противник.
Солдаты черпают воду из колодца котелками, привязывая их на телефонный провод.
Идем дальше во тьму.
Нагоняют броневики. Окликают. Узнает ученик-шофер. Решаем ехать дальше. Узкий однобашенный «ланчестер». Душно и жарко внутри. Оклеенные толстым войлоком стены украшены портретами Керенского и кусками кумача.
Едем, въезжаем в лес, в котором, говорят, водятся австрийские части. Никто не стреляет.
Останавливаемся. Опять горящая деревня сбоку, за лесом. Неприятель стреляет по лесу. Значит, он уже очистил его. Случайный осколок ложится у ног. Все начинают говорить шепотом. Весь лес, вся дорога усеяны тяжелыми германскими боевыми шлемами с низко опускающимися назатыльниками и козырьками, винтовками… лопатами… проволокой в мотках.
Утром нагоняет нас автомобиль с корреспондентами. Один из них Лембич из «Русского слова». Помню, как он рвался в Станиславове к телеграфу. Значит, едет писать корреспонденцию из третьих рук, похожую на правду, как облака на цимбалы.
На другой день поехали дальше. По дороге встретили офицера-артиллериста с картой в руках; он искал высоту 255 и спрашивал о ней чуть ли не у прохожих. Карты читать он не умел. Не знаю, откуда он взялся.
Так, катясь совершенно незаметно, мы доехали до Галича. Галич был только что занят отрядом разведчиков, кажется, Заамурской дивизии — зеленые канты — и взводом броневиков, кажется, 7-й армии. Крохотный городишко, которого никто бы и не заметил, если бы не его крупное стратегическое значение — предместное, очень сильное укрепление, — был пуст. Немцы ушли, взорванный мост был так пустынен, как будто это и не мост, а сфинкс в пустыне. На противоположном берегу видны два наших разведчика, переплывшие реку или перешедшие вброд. Глубоко под мостом быстро и невнимательно пробегали волны Днестра мимо опостылевшей им войны.
В городе домов десять. В одном люди, наших войск с комиссарами вместе (я и Ципкевич) человек тридцать. На высокой горе торчат развалившиеся черные стены замка Даниила Галицкого. Все то же, что я видел еще в 1915 году, когда вел в снежную вьюгу автомобиль из Брод через Галич на Львов, Станиславов и Коломею. А сейчас я заехал в Галич из Станиславова и думал, что еду по дороге в Львов. Мы так изменили свои фронты, что, когда находили свои старые окопы, они были нам против шерсти.
Но в Галиче было и кое-что новое. Это прекрасные немецкие укрепления.
Были вырыты норы, укрепленные двойной обшивкой из толстых бревен и подрытые под самое основание высокой галицкой горы. Были построены громадные погреба для артиллерийских снарядов, а вокруг всего этого кегельбаны, души и беседки из белых, с неободранной корой стволиков березы.
Обычно немцы, оставляя позиции, очищают их «под бритву», даже метут пол, чтобы в мусоре не оставить какие-нибудь бумаги — например, конверты от писем, по которым можно было бы догадаться о составе занимающей части.
На этот раз они поторопились и оставили и снаряды, и кое-какие неважные бумажки. Артиллерия была увезена ими вся. Солдаты развлекались в занятом городе, как обычно. Пускали ракеты, пробовали гранаты, брали снаряжение, чтобы бросить его через несколько шагов. Было солнечно и очень мирно. И тихо, тихо, как в курорте осенью после разъезда.
Поехали обратно, и мимо разбитых, догоревших деревень, мимо лесов, уже больше не шепотных, мимо часовен, в которых днем желтым пламенем горели кем-то зажженные свечи, я въехал в Станиславов.
Здесь мне сказали, что я должен ехать в 16-й корпус, то есть в район деревни Надворной. Неприятеля там почти не было; может быть, в окопах остались одни сторожевые охранения, а может быть, только сторожевые собаки. Противник уходил, но третьеочередные дивизии не решались наступать, хотя перед ними была пустота торричеллиева, которая их всасывала. Меня послали передвинуть части. Поехал, снова увидел генерала Стогова, который старался скрыть позорное состояние своих частей, но, конечно, не мог. Корнилов писал ему: «Занять деревню Рассульну»; он отвечал: «В деревне Рассульне противник», — на что Корнилов очень вразумительно телеграфировал: «Если есть противник, его надо выбить», — а войска не бились и не выбивали.
Приехал. На Космачке, той самой круглолесой горе, которую я видел уже из Александропольского полка, стоит одинокая австрийская пушка и пугает. Стреляет то вправо, то влево, то по дорогам, то по тем местам, где можно было предположить стоянку штаба и где он, конечно, стоял. Наша артиллерия молчала, не могла не молчать. Знали, что перед нами неприятельского фронта нет. Бить по деревне — жаль людей, бить по лесу — жаль снарядов, и били так, для очистки совести, по одной Космачке. В поле стоит пламя — это местная неопалимая купина: нефть, зажженная еще два года тому назад в буровой скважине, все еще горела.
Проехали по фронту. Австрийцы уже отступили и очистили свои старые окопы.
Окопы хорошие, сухие, хотя место болотистое, с редким ельником, совсем петербургское болото. Везде домики, везде те же беседки из неободранной березы.
Вышел на наш фронт. Иду лесом и все встречаю одиноких людей с винтовками, больше молодых. Спрашиваю: «Куда?» — «Болен». Значит, бежит с фронта. Что с ним делать? Хотя и знаешь, что это бесполезно, говоришь: «Иди обратно, стыдно». Он идет. Выполз на опушку. Какие-то обрывки. То здесь, то там кучки. Командир полка докладывает:
«Вчера такая-то рота убежала, вчера такая-то в панике открыла огонь по своим».
Собираешь комитет. Комитет весь в цепи, затыкает собою дыры. Прихожу к какой-то роте, объясняюсь почти одними междометиями: «Товарищи, что же вы…» — «Мы ничего, мы стоим…» — «Идите в Рассульну». Начинают объяснять, что в Рассульну нужно идти полем, а пока пойдем, нас перебьют с Космачки. Тоска.
Взял винтовку и гранату. «Кто со мной в Рассульну?» Вызвался один разведчик. Идем полем то в траве, то в каких-то редких колосьях, быть может ржи. Дошли до деревни, дорога пуста.
Идем в первую избу. Перепуганные бабы спрашивают нас шепотом: «Что, скоро придете?» Ничего не говорим. Мальчик лет семи или восьми, белокурый и тихий, на полупонятной мне галицийской мове зовет посмотреть на австрийцев. Идем уже ползком.
У моста в речке редкая цепь австрийцев ставит на переносных железных тонких кольях-прутьях наспех проволочные однорядные заграждения.
Одному или вдвоем выбить их невозможно. Тоска. Взял с оставленной батареи кое-какие брошенные бумажки и пошел прямиком через поле к нашим. Пришел, оставил разведчика и ушел. Думаю, пусть он расскажет.
Посоветовал обстрелять «фронт» артиллерийским огнем, пустить в Рассульну броневики, может быть, тогда сзади приплетется и наша пехота.
Так и сделали, и, чуть ли не подталкивая в спину коленом, втащили войска в Рассульну. В Рассульне они чуточку ободрились, страшную Космачку, при взятии которой чудилось пролитие моря крови (другая знаменитая гора, Кирли-Баба, была действительно мощена костями), обошли, но благодаря нашему промедлению австрийцами была увезена вся их артиллерия.
Именно в Рассульне нашли мы немецкое штабное руководство к братанию…
Стоило ли тащить такие войска? Почему мы не понимали, что нельзя воевать, имея такую слизь на фронте? Потому отчасти, что мы не имели иного выхода из войны, как крупная победа над Германией, которая одна — по нашему мнению — могла поднять революцию в ней. Все же ведь танки раздавили трон Вильгельма. И мы не смели видеть невозможности и шли через невозможность.
Кроме того, мы знали, что перед нами тоже не армия, а слякоть, которая была положительно хуже нашего 16-го корпуса, но много его трусливее; но, увы, она хоть приблизительно, но исполняла приказания.
И вот мы вошли в Рассульну.
Не помню, уезжал ли я из Рассульны или нет. Помню себя несколько дней перед ротой солдат, которая сбежала с позиции. Я ругательски ругаю ее. Она кается и потеет. Идет дождь. Я решаюсь сам вести эту роту обратно. Фронт уже в верстах 20–30 от Рассульны.
С палочками в руках мы идем через черный, высокий под дождем, мрачный лес. Мы идем в деревню Лодзяны.
Идем. Дорога временами перерезывается траншеей, засыпанной землей. Земля осела, и образовался глубокий ухаб, в котором мучаются застревающие обозы. И никто не слезет и не положит в выбитую яму хотя бы мешки с песком, которые лежат кругом тысячами, так как из них был сделан бруствер окопа.
Странная нация. Она не умеет даже дорогу починить. И так и пройдут тысячи телег, проваливаясь в одном и том же месте, и тысячу раз вспотеют тысячи лошадей и в три раза более тысячи людей.
В деревню Лодзяны пришли ночью. Опять жалобы. Жалуются несчастные командиры третьеочередных частей. Части были пополнены городовыми, кадровыми фельдфебелями, которые развивали противовоенную агитацию со всей силой своей сравнительной интеллигентности. Городовые были еще лучше «шкур», среди них попадались порядочные люди, которые хотели «заслужить» и «искупить». Разжаловал, не имея на то и тени права, нескольких фельдфебелей в рядовые за бегство.
Настроение войска неважное. При сравнительно легком переходе брошены солдатами шинели. Мерзнут, завертываясь в одеяла. Здесь мне сказали, что ударный батальон 74-й дивизии отказывается занять позицию.
Для ударного батальона даже мне, человеку уже привыкшему, это показалось слишком трусливым. Пошел выяснить и сразу попал в толпу измученных и изнервничавшихся людей. Пошли жалобы. Оказалось, что батальон состоял из кадровых солдат, унтер-офицеров, сбежавших от развала своих частей. Но и в своей части они нашли тот же развал, уже не от нежелания солдат, а от неумения организоваться. Батальон не имел повозок, не имел патронов к своим японским винтовкам, то есть был безоружен, если не считать гранат, подобранных в австрийских окопах. И ему было приказано занять позицию.
Достал откуда-то через приехавшего Вонского винтовки, патроны и послал их в бой. Почти весь батальон погиб в одной отчаянной атаке.
Я понимаю их. Это было самоубийство.
Лег спать. Ночью поднял меня с отчаянным воплем хозяин-русин, солдаты косили у него зеленый хлеб. Поднялся и ночью бегал по росе. Утром приехал Корнилов и приказал как можно скорей вывезти все снаряды, захваченные нами от австрийцев из деревни.
Фронт тянулся около последних изб, место было неспокойное. Днем солдаты убили двух евреев, про которых говорили, что они сигнализировали. Я уверен, что это было не так. Сочетание трусости с шпиономанией невыносимо. И все же кровь эта как-то легла и на меня. А фронту нужно было продвинуться дальше. Наша артиллерия стреляла все чаще и чаще, отгоняя австрийцев. Те держались некрепко; правее нас, в районе 42-й дивизии, где был в это время Анардович, они бежали от одного шрапнельного огня.
С высоты нашей деревни было видно, как австрийцы эвакуировали прифронтовую полосу, отправляя в Долинском направлении поезд за поездом почти без перерыва. Очевидно, эвакуация заканчивалась. Готовили сдачу.
На другой день разыгрался уже настоящий бой. Бой шел не то по Ломнице, не то по Повельче, сведения все время поступали самые разноречивые и неуверенные, какое-то военное бормотание. Пошел на фронт. В лесу попадаются отдельные люди. Нашел штаб полка, там тоже почти ничего не знают. Бой идет в лесу, части то отступают, то продвигаются вперед. Связи вдоль фронта нет. Пошел вперед, перешел речку, теплая вода которой сразу залилась в сапоги и стала пищать и хлюпать в них. Через ряд полянок попал в еловый лес, где уже свистели пули и тявкали деревья под рикошетами.
Иду лесом и сразу попадаю в нашу цепь. В мокрой от ночного дождя земле вырыты отдельные ямки и неуклюже вывернуты пни с перерубленными корнями. В ямках вода, в воде лежат люди, мокрые, усталые. Два-три офицера прячутся за деревьями, но стоят. Видно, не знают, что нужно делать. Беспрерывно стреляют пулеметы, и, кажется, зря. Нервно, нестройно раздаются выстрелы из винтовок. От отдельных солдат слышно ворчанье на офицеров:
«Разве они сзади должны быть, они должны на сто саженей вперед пойти».
Мне объяснили, что цепь не решается продвигаться. Перед ней венгры. Правый и левый полк уже почти на версту впереди. Обращаюсь к солдатам: «Идите вперед». Молчат… Так тоскливо было в этом лесу, в глухом углу революционного фронта. Я поднял лежащие рядом с головой какого-то солдата две русские жестяные бомбы, положил в карман и взял винтовку, перешагнул нашу цепь и пошел вперед. Выстрелы перед нами смолкли. Шел, кажется, шагов 60; канава, дорога, опять канава, и сейчас же за ней лежала цепь австрийцев. Я почти наступил на нее. Бросил бомбу вбок, вперед не мог, она попала уже за цепь. Желтое пламя вспыхнуло с глухим взрывом, меня слегка контузило… Время было неподвижно. Так неподвижны иногда в бурю тучи, когда их освещает молния…
И сразу с криком набежал, пробежал мимо меня в полном бешенстве наш полк.
Полк не выдержал и прибежал.
Помню атаку. Все кругом казалось мне редким, не густым, странным и неподвижным.
Помню желтые на сером мундире ремни немецкого лейтенанта. Лейтенант первый выскочил мне навстречу, после секундного остолбенения бросился, повернулся и упал, подгибая колено под грудь и как будто ища место, где бы лечь на землю. Желтый ремень пересекал его спину. Не я убил его.
Пробежавши окопы, я оглянулся: какой-то наш солдат, торопясь, стягивал с мертвого его офицерскую выкладку и вдруг сам упал рядом.
Мы шли атакой, в серый день, между мокрыми деревьями. Какой-то немец с криком: «Я ваш» — пал на колени и поднял руки. Наш солдат пробежал мимо, потом полуобернулся и, целясь в бок, выстрелил в него.
Цепь бежала скорее меня, я отстал. Я знал, что нельзя идти в атаку, стоя в полный рост, но мы обезумели. Ненависть к войне, к себе и усталость не позволяли думать о самосохранении.
Где-то влево в ольховых кустах заработал с редким стуком немецкий пулемет.
В тылу показалась группа австрийцев, спешащая к нам в плен.
Мы с разбегу вбежали в какую-то быстротекущую, почти опрокидывающую речку, сбили каких-то людей, которые хотели зацепиться и задержать нас, легши в завалы.
Потом пустая деревушка, с курами, бегающими по улицам. Кто-то стал ловить курицу. Нас осталось мало, большинство было выбито.
За деревней было еще проволочное заграждение, мы достигли его.
В этот момент оказалось, что у нас нет патронов. Полк расстрелял их, лежа в лесу. Я закричал: «Ложись окапываться». Мы были уже в глубоком прорыве.
В этот момент мне что-то согрело бок, и я почувствовал себя сбитым на землю. Вернее, даже почувствовал, что лежу на земле. Вскочил и опять закричал: «Окапывайтесь, сейчас будут патроны».
Я был ранен в живот навылет.
Казалось мне, что главное — уйти сейчас же отсюда. Хотя я знал, что раненному в живот нельзя шевелиться по крайней мере час-два, я пополз в тыл. Мне хотелось уйти из-под пулеметов.
Я мечтал не о Петербурге, не о деревне Лодзяны. Каждое место, хотя бы в трех шагах отсюда, казалось мне желанным.
Я полз и был счастлив. Пали ручьи в реки, пала в море река, я донес свою ношу.
Я снял пояс, бросил винтовку, хотя это и дурной тон для раненого.
Какой-то раненный в ногу солдат дал мне в шагах ста от боя бинт, снятый с убитого, и перевязал меня. Крови было мало. Так, пятнышко.
С ним мы ползли до речки и говорили друг другу все время ласковые слова.
До Лодзян было далеко-далеко.
За речкой уже были носильщики-санитары с палками от носилок на плечах.
Они сложили носилки, положили меня на них, покрыли и понесли вчетвером на плечах.
Мне было холодно, я вымок в речках. С трудом шли носильщики, вдавливая ноги в воду в быстро бегущей речке. Я ни о чем не думал. Было почти тепло. Только темно. Вечер.
Когда несут на плечах раненого, то он, лежа в обвиснувшей холстине, не видит почти ничего, кроме деревьев и неба. Мимо неба проносят всех.
Шли тропинками, потому что по шоссе австриец крыл артиллерией.
Принесли на перевязочный пункт.
Он был завален ранеными. Весь пол был занят. Меня положили у входа, но перенесли скоро, я считался раненным очень тяжело.
Подошел доктор. Я сказал ему, чтобы отправили телеграмму Вонскому о том, что я ранен. Он посмотрел рану и сказал, что пробита S-образная нисходящая кишка, и спросил:
— Курите?
— Нет.
— Закурите, ведь все равно. Икали?
— Нет.
— Ну, может быть, не умрете, но дайте адрес родных.
Кроме раны у меня был сильный шок, пульс слабый. Мне вспрыснули камфору.
Санитар снял с меня мокрые сапоги и куртку и попросил подарить: «Я от крови вымою, а вам больше не нужно…»
Перевязочный пункт был под обстрелом. Всех раненых торопились отправить в тыл. Меня с офицером, рука которого была размозжена от плеча до кисти, положили на дно патронной двуколки и отправили.
Везут. Все занято, все забито ранеными. Усталый возница ругается: «Куда вас сбросить?» Мы угрожаем ему: «Вези дальше, мы себя не дадим на дороге бросить». Не знаю, чем бы это кончилось. Уже светало небо. Наступало утро. По дороге нас встретил Вонский с автомобилем. Телеграмму передали ему случайно с мотоциклистом, и он приехал из 42-й дивизии на багажнике того же мотоциклета. Меня с товарищем положили в машину и повезли в Надворную.
Я спрашивал, что на фронте. В 42-й дивизии происходило приблизительно то же, что я уже видел. Австрийцы были слабы и бежали от одного шрапнельного огня, то есть из-за совершенных пустяков, но наши части шли апатично, вяло или совсем не шли.
Бывало и так, что австрийский полк выбивался одними нашими офицерами, телефонистами и полковыми саперами. Врачи ходили резать проволоку, а части не поддерживали. Вся неквалифицированная Россия буксовала.
Привезли в Надворную. Передали, положили на новые носилки (кровати не было) и велели ждать. Сказали, что если у меня не будет перитонита, то буду жив. Я лежал слабый, но уже убежденный, что буду жить.
Госпиталь был еще «здоровый», с популярным старшим врачом. Наши санитары не работали и не ухаживали за ранеными, так же как не чистили лошадей.
Лучшие санитары были из пленных австрийцев. Австрийцы прежде всего дорожили местом, где их кормили и где с ними хорошо обращались, а потом, были более культурны и не могли, не умели плохо работать — так же как хорошо квалифицированный шофер не может небрежно относиться к своему автомобилю. В госпитале получил телеграмму от своего дивизиона. Писали, что считают меня исполнившим свое поручение.
Потом отыскался и пришел ко мне старый товарищ по первым дням военной службы, вольноопределяющийся Долгополов. Он был тоже ранен. Когда броневик стоял, затыкая дыру на фронте версты в 1½ шириной, снаряд попал в башню машины и оглушил всех находящихся в ней.
У Долгополова были вдавлены барабанные перепонки. Он все жаловался — чешется там, внутри уха, а почесать нельзя. Все же не лежал, а ездил почти каждый день в бой. Это был крепыш с сильной шеей, но с уже надломанной душой.
Несколько недель тому назад он побывал в Петербурге. По случайности у него были знакомые «новожизненцы». Он сперва напал на них, потом они рассказали ему, почему именно война ведется в интересах империалистов всех стран, и разбили бедному мальчику с шеей в 46 сантиметров всю его психологию солдата из интеллигента, отказавшегося от офицерства и уже имеющего три Георгия.
Казалось, что все правы, в ушах чесались вогнутые туда и ущемленные между слуховыми косточками барабанные перепонки, сердце не горело и тоже как-то ныло.
Но я еще наслаждался фактом жизни.
На исходе 8 или 10 дней приехали ко мне Филоненко и Корнилов. Корнилов привез Георгиевский крест, которому я был рад, но как-то не мог суметь проделать весь ритуал приема с поцелуем. Корнилов немного огорчился. Филоненко был весел. Он распухал и взлетал. Сейчас он ехал уже комиссаром Румынского фронта. От него я узнал о тарнопольском разгроме, о том, что сделали наши войска в Калуше, о том, как 3-го и 5-го выступили и растерянно замялись большевики. О тяжести происходящих событий я не догадался сразу.
Но через несколько дней пришел старший врач, хромой, седобородый, немного сумасшедший кронштадтец, и сообщил, что мы спешно эвакуируемся.
Началась упаковка, все торопливее и торопливее, и вот эвакуация незаметно обращалась в бегство.
На нас не давил непосредственно неприятель, но в районе Тарнополя недели две тому назад ушло самовольно два полка, потом еще один, потом еще один не пошел куда нужно, и подмытый фронт рухнул. Немцы послали в дыру кавалерию, и ей нужно было только сторониться, чтобы ее не затоптали беглецы.
Есть такая детская игра: ставят дыбком друг за другом деревянные кирпичики спирально, с таким расчетом, чтобы, падая, они задевали друг друга, потом толкают один, и разгром спешно пробегает всю спираль. Нас толкнула 7-я армия. Наш правый фланг был обнажен.
Все торопливее и торопливее собирали вещи. Земские и городские госпитали, как более нервные, уже сбежали, бросив очень ценные и нужные на фронте большие шатры.
Старший врач свирепствовал и держал солдат. Он чуть ли не сам с костылем стоял в воротах, не давая улизнуть пустым двуколкам. Уже истекал третий день эвакуации.
Пришли ко мне и спросили, могу ли я встать. Я надел шинель на белье, туфли, поймал автомобиль, сел на него и поехал.
Наш госпиталь тронулся уже без меня. Самых тяжелораненых, перевозка которых была невозможна, оставили с одной старшей сестрой, которая плакала вслед повозкам, но осталась. Кто-нибудь должен был остаться. Уже горела выброшенная из окон солома, госпитальный обоз огибал здание лазарета и вытаптывал и выминал огород, чтобы он не достался неприятелю.
Австрийцы-санитары несли раненых на плечах, они тоже не хотели попасть в плен к своим. Выехал в Надворную. Где-то раздают сахар, сколько возьмешь.
Горят склады. Раненые чуть ли не оружием отбивают места в самом последнем поезде, который медленно отползает… Люди на крышах, буферах, люди подвязывают себя под вагоны… Крохотный паровозик, надрываясь, тащит, пятясь задом наперед, длинную нитку поезда и, кажется, вот-вот сам сейчас разорвется.
Идет пехота. Едет артиллерия. Место госпиталей занимают перевязочные пункты. Снова слышна артиллерийская стрельба, говорят, что снаряды ложатся недалеко…
Попробовал распутывать обозы и подавать порожняк, но не мог: стало дурно.
Положили в переполненную санитарку и гужом повезли в Коломею.
Коломея была переполнена. Пошел в штаб. Нашел Черемисова, который тогда был уже командующим армией. Он был спокоен, но возбужден. Меня он не узнал. Не увидал даже. Не до того было.
Нашел знакомого, сел в поезд командующего, поехал в Черновицы. В том же вагоне ехали телеграфисты штаба и мирно играли на гитарах, ведя свои телеграфные разговоры.
Не доехав до Черновиц, поезд стал. Вперед пропускали грузы. Слез с поезда, сел в обозную телегу и доехал до Черновиц. Там поехал в Кауфмановский лазарет. Чистый, тихий, дисциплинированный, уже совсем городского типа. Мне сказали, что у меня инфильтрат. Кажется — это значит внутреннее кровоизлияние. Сказали, что дело плохо. Лежу. Тихо в палате.
Молоденький офицерик с перебитым позвоночником лежит и вышивает гарусом, он никогда не сможет ни встать, ни даже сидеть.
Другие раненые офицеры упрекают меня, до чего мы довели Россию.
Приехал Вонский. Он ездил искать меня в Надворную, с ним комитетчик, тихий народный учитель-мордвин.
Рассказывают, как идет отступление. Фронт расклепан, немцев держат только броневики, зенитные пушки на автомобильных платформах. Броневики держались 16 часов. Халил Бек, мой старый товарищ, кавказец, подполковник, 26 лет, детски веривший тогда в Советы и даже переставший пить после воззвания о вреде пьянства, держался 5 часов во взорванной машине, потом был ранен в 12-й раз и вынесен из-под обломков на руках. Потом опять ходил в атаку, уже с пехотой.
Одиннадцатая кавалерийская дивизия держала немцев в конном и пешем строю; у ней не осталось целых солдат, она почти уничтожена.
Люди подхватывали рушащуюся армию на свои руки, подставляли под ее тяжесть свои головы. Это была такая печальная любовь.
Как-то менее тих стал госпиталь. Я чувствовал, что Черновицы эвакуируют.
Я просил, чтобы мне дали сопровождающего. И вот меня на носилках перенесли в санитарный поезд, в вагон тяжелораненых.
Медленно, по-фронтовому пополз поезд. Мы ехали 11 верст 24 часа. Это было мучительно скучно…
Я слез с носилок и вместе со своим солдатом улизнул с поезда, и мы поехали то с отступающей артиллерией, лежа на плохо сложенных снарядах, то в санитарных вагонах, то с эшелонами. И так по дивно красивой, идущей по верху скалистого берега Днестра дороге через Могилев я добрался в Киев. Оттуда на полу, в купе, в Питер. В милый, грозный город русской революции.
В Питере меня опять положили в лазарет, но, увидав, что я жив и, очевидно, не скоро умру, — отпустили.
Я был как солдат освобожден от службы.
Так кончился первый мой выезд на фронт. Первый за время революции. Теперь я бросаю на время говорить про себя и скажу о всем фронте.
Я не люблю книги Барбюса «Огонь» — это сделанная, построенная книга. Про войну написать очень трудно; я из всего, что читал, как правдоподобное ее описание могу вспомнить только Ватерлоо у Стендаля и картины боев у Толстого. Так же трудно, не прибегая к условным и ложным местам, описать настроение фронта. Никогда, никакой летчик, даже при планирующем спуске, не сможет услыхать слов, даже самых трогательных. Всякий, кто хоть раз летал, знает, что это невозможно. Никогда я не поверю, пока это мне не докажут статистики, что на Западном фронте так много дрались в штыки или что возможно разрушить руками немецкую лисью нору и затоптать дыру ногами. Никогда не поверю я в эту книгу, с окрошкой трупов, с концом, размытым наводнением и рассуждениями.
Но буду говорить. Попробую рассказать, как я понял все, что произошло.
Армия России имела грыжу еще до революции. Революция, русская революция с максимализмом демократизма Временного правительства, освободила армию от принуждения. В армии не осталось законов, не осталось даже правил. Но был состав квалифицированных людей, способных на жертву и на держание окопов. Возможна была война, короткая и молниеносная, без принуждения. Ведь на фронте враг — реальность, видно — пойдешь домой, и он пойдет сзади. Во всякой армии ¾ не сражаются; если бы появились в эту войну войска, которые сражались бы так, как работают люди на себя, они могли бы не только наступать на Германию, но идти через Германию на Францию. Когда Рогатинский полк, имевший около 400 штыков, увидал, как при нем закололи немцы его полкового командира, он освирепел и избил в бою до одного целый немецкий полк в полном составе. Некоторые предпосылки для такого одушевления были, но две вещи убили его. Первая — это преступная, трижды проклятая, подлая, безжалостная политика наших союзников. Они не пошли на нашу программу мира, и они, именно они, взорвали Россию. Это и резонировало и выделяло голос так называемых интернационалистов. Для выяснения их роли приведу параллель. Я не социалист, я фрейдовец.
Человек спит и слышит, как звонит звонок на парадной. Он знает, что нужно встать, но не хочет. И вот он придумывает сон и в него вставляет этот звонок, мотивируя его другим способом, — например, во сне он может увидать заутреню.
Россия придумала большевиков как сон, как мотивировку бегства и расхищения, большевики же не виновны в том, что они приснились.
А кто звонил?
Может быть, Всемирная Революция.
Но не все заснули или не все смогли увидеть тот же сон. К моему описанию армии необходимо внести следующую поправку. У меня было каторжное занятие: мне приходилось являться в худших частях и в худшие моменты. У нас были целые здоровые пехотные дивизии. Называю первую попавшую, ну, например, 19-ю. Поэтому большевикам пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожив аппарат командования и его суррогат — комитеты.
Почему армия наступала? Потому, что это была армия. Для армии наступать не тяжелее, психологически не тяжелее, чем стоять на месте. И наступление менее кровавое дело, чем отступление. Армия, чувствуя свое распадение, не могла не использовать шанса своей силы, своего веса, пытаясь ею кончить войну. Это все же была армия, и потому она наступала прежде, чем умереть, а не умерла, потому что наступала. Наступление могло удаться и не удалось по обстоятельствам политическим, а не военным, части уже «засыпали». Они уходили в «большевизм» так, как человек прячется от жизни в какой-нибудь психоз.
Я буду писать дальше; я опишу корниловщину, как я ее знаю, и свое персидское сидение, но то, что я написал сейчас, я считаю важным, я написал это, помня о трупах, которые я видел.
Еще одно слово. Когда будете судить русскую революцию, не забудьте бросить в чашу жертву, в чашу, слишком легкую, вес крови принявших смерть среди галицийских кукурузных полей, вес крови бедных моих товарищей.
КОРНИЛОВЩИНА
Я приехал в Петербург слабым, почти больным. Пошел в свою часть. Видно было, как она расшаталась. Там, где было 30 машин, — ходило 5.
Пошел в Таврический дворец. В саду дежурили броневики с буквами ВСРСД, написанными красной краской на зеленой броне. Меня просили сделать Петроградскому Совету доклад. Я сказал что-то. Не знаю, поняли ли меня. Я хотел сказать, что армия гибнет, и гибнет не только потому, что политика коснулась ее, но и потому, что, коснувшись, она не переделала все до конца.
Большевики были разбиты, разгромлены… Но это не значило ничего — они снова создавались.
В Питере встретил Савинкова и Филоненко. Главным их занятием было презирать Керенского.
После нашего бегства-отступления произошло заседание армейских комитетов Юго-Западного фронта, фронтового комитета и комиссаров в Каменец-Подольске. Оно проходило под гнетом сознания разгрома. И, несмотря на то что в середине заседания инициатор его Савинков ушел, оставив Филоненко одного, Корнилов был выбран главнокомандующим. Так вышло из отчаяния. Дальнейшая игра состояла — насколько я это понимаю сейчас — в том, что Филоненко, состоящий верховным комиссаром при Корнилове, должен был пугать Корниловым Временное правительство, а не Корнилова Временным правительством.
В это время и творились всякие государственные совещания, на которых Корнилов произносил речи, написанные ему Филоненко.
Характерно, что в содержании этих речей и точности описания развала железнодорожного транспорта так и чувствуется голос и знание инженера.
Всему этому способствовали разные корреспонденты, раздувая игру. Один из них сказал Филоненко:
«Я помогаю вам, но, если вас повесят, у меня выйдет из этого прекраснейшая корреспонденция».
Шло запугивание. Правое крыло Временного правительства запугивало левое. В то же время шли еще и другие интриги. Часть командного состава — часть, как я знаю, очень небольшая — имела гораздо более широкие планы, чем простое «поправение» правительства. Позднее мне пришлось увидеть маленькие записки, которыми переписывались между собою люди этого лагеря. Писал командующий одной армии непосредственно командиру кавалерийского полка из другой армии о том, что необходимо выделить надежных офицеров и отправить их в Ставку для обучения метанию бомб. Таких метальщиков, я думаю, стягивали к Могилеву отовсюду, понемногу и, думаю, неудачно. Таким образом, корниловщина представляла из себя, с одной стороны, реакцию против разложения старой армии, с другой же — суммирование двух не совпадающих, но переплетенных друг с другом и в одну сторону направленных интриг. Корнилов находился под влиянием просто черносотенцев, хотя они и не имели много своих людей в штабе. Группа Савинкова не хотела этого «мятежа», — но ей нужен был нажим, нужно было воплощение военной необходимости в лице Корнилова, но она просчиталась. Филоненко превысил полномочия, — говорю предположительно. Керенский устроил истерику, и Корнилов бросил на чашку весов свою храбрость и три сотни своих текинцев; на другой чашке лежала революционная инерция 180-миллионного народа.
Весы заколебались.
Подготовка корниловщины прошла мимо меня. Я ее не заметил. Самый горячий момент я пролежал в лазарете, а потом поехал на две недели в Кисловодск, где жил за городом и ночью смотрел вниз с крыши. И здесь чувствовалась русская революция, страшная и причудливая. В Пятигорске солдаты ходили в незашнурованных ботинках и с поясами, одетыми не вокруг талии, а через плечо, как портупея. Я понимал причины этого убого-странного костюма. Эти люди хотели, чтобы все было по-новому.
Мне не хотелось возвращаться на фронт, но нужно было возвращаться. Я оторвался от базара с виноградом, усеянного осами, от крутого переулка и мостовой из острокраевого известняка. Оторвался, вернулся в Питер, а там в Могилев-Подольский, обратно в свою армию. В этот момент все комиссары были собраны в Могилев на совещание к Корнилову. Из 8-й армии поехал Анардович, так как Ципкевич перешел с Черемисовым в 9-ю армию, а Филоненко был уже комиссарверхом.
Я приехал в Могилев. Меня узнали на вокзале и сказали: «По железнодорожному проводу пришли две телеграммы». Мне показали их: это была телеграмма Корнилова о том, что он не слагает с себя звания главнокомандующего и приказывает себе повиноваться; в конце телеграммы было обещание прибавки жалованья железнодорожникам и телеграфистам, и одновременно пришла телеграмма Керенского, объявляющая Корнилова мятежником.
В Могилеве были только хозяйственные части штаба; операционная часть штаба находилась в Липканах. Я представил себе, что сейчас делается или, вернее, сделается в армии, какой клин вбит в нее, и мне было страшно подумать о возможности выступления штаба.
Бросился к прямому проводу.
«Получена ли вами телеграмма Корнилова, как вы думаете, не провокация ли все это?» — мне отвечают: «Сейчас все возможно!» Наскоро поговорил с Могилевским Совдепом. Предложил поставить охрану на телеграф и станцию. Поговорили с армейским комитетом и решили ехать в Липканы. Сели в два санитарных автомобиля и поехали. Нас предупреждали, что возможен наш арест, но мы этому не верили и, конечно, были правы. Во главе армейского комитета стоял в то время тов. Ерофеев, мрачный с. — р., уже не молодой; он был товарищем председателя армейского комитета.
Ехали всю ночь по широким, как поле, подольским дорогам, накатанным чуть ли не в шесть Невских шириной. К утру остановились у деревни и в руках крестьянина нашли свежеотпечатанное воззвание Корнилова. Откуда оно взялось — не знаю. Искали, старались выяснить, но так и не добрались. Оно доказало мне, что корниловская вспышка или сама была организована кем-то, или была использована кем-то организованным.
Приехали в штаб. Там только что получена телеграмма Корнилова с приказанием снять все радиотелеграфы.
Отменил приказание, поставил охрану на телеграф, разослал по всем корпусам комитетчиков с правом корпусных командиров. Напечатали приказ, что приказы по армии временно должны быть подписанными мною и комитетом.
Нужно было торопиться, чтобы не произошло какое-нибудь выступление, спровоцированное этой историей. Приказ вышел аховым, хуже «номера первого». В нашей армии вопрос об отношении к командному составу был особенно болезнен: ведь это была армия сперва Каледина, потом Корнилова.
Послал телеграмму, что право арестов принадлежит мне, и предложил никому не заниматься этим на свой риск.
У армейского комитета был свой список ненадежных офицеров, который, думаю я, был правилен, но комитеты хотели еще заменить этих людей другими, более надежными. Вот в надежность этих я не верил.
Я предпочитал не трогать армию. Во всяком случае, мы настолько удачно предупредили момент выбора для командиров между исполнениями приказаний главнокомандующего и правительства, что за Корнилова не поднялся ни один человек.
Впоследствии, когда комитет был захвачен большевиками, то они, ругая комитет, признавали его заслуги в деле ликвидации корниловщины. Моя же заслуга состоит в том, что никто не был убит и армия, глубоко потрясенная, все же не произнесла страшного панического слова об измене офицерства.
Судьба нашего офицерства глубоко трагична. Это не были дети буржуазии и помещиков, по крайней мере в своей главной массе. Офицерство почти равнялось по своему качественному и количественному составу всему тому количеству хоть немного грамотных людей, которое было в России. Все, кого можно было произвести в офицеры, были произведены. Хороши или плохи были эти люди — других не было, и следовало беречь их. Грамотный человек не в офицерском костюме был редкость, писарь — драгоценность. Иногда приходил громадный эшелон, и в нем не было ни одного грамотного человека, так что некому было прочесть список.
Исключение составляли евреи. Евреев не производили. В свое время не произвели и меня, как сына еврея и полуеврея по крови. Поэтому в армии очень большая часть грамотных и более или менее развитых солдат оказалась именно евреями. Они и прошли в комитеты. Получилось такое положение: армия в своих выборных органах имеет процентов сорок евреев на самых ответственных местах и в то же время остается пропитанной самым внутренним, «заумным» антисемитизмом и устраивает погромы.
Теперь об офицерах. Эти отобранные по принципу грамотности люди, конечно, носили в себе отпечаток русского режима, они были обучены им. Но такой отпечаток носили мы все. Посмотрите, как легко переходят к старым навыкам даже представители пролетарской «власти на местах». Например, телесное наказание уцелело даже при диктатуре пролетариата. В Пермской губернии оно представляло из себя прямо повальное явление. Точно так же, когда армия побежала после тарнопольского прорыва, то для того, чтобы остановить бегущих, летучие комитеты, составленные самими солдатами неразбежавшихся частей, ловили беглецов и, взбешенные тем, что дело происходило уже на русской земле, где горят волынские села, пороли людей. Ни комитет, ни комиссар тут были ни при чем. Дезертиру предлагался или расстрел, или порка. Изобретена была какая-то чудовищная присяга, при которой он отрекался от гражданских прав и свидетельствовал, что то, что с ним делается, делается с его согласия…
У России скривлены кости. Кости были скривлены и у русского офицерства. Навыки России, походка ее мыслей были им понятны. Но революцию они приняли радостно. Война тоже измучила их. Империалистические планы не туманили в окопах и у окопов никого, даже генералов. Но армия, гибель ее застилали весь горизонт. Нужно было спасать, нужно было жертвовать, нужно было надрываться. Наилучшие жертвовали и надрывались; таких было много. Положение офицера было, конечно, тяжелее положения комитетчика: он должен был приказывать и не мог уйти. «Окопная правда» и просто «Правда» преследовали его и указывали на него как на лицо, непосредственно виновное в затягивании войны. А он должен был оставаться на месте. Лучшие оставались, именно они и пострадали больше всего после Октября. Мы сами не сумели привязать этих измученных войной людей, способных на веру в революцию, способных на жертву, как это они доказали не раз. Такова была судьба всех грамотных русских, имеющих несчастье попасть на ту черту, где кровавой пеной пенилось море — Россия.
В нашей армии никто не принял сторону главнокомандующего. Пришли представители «Дикой дивизии» от дагестанского и осетинского полков и сказали, что они за демократическую Россию и Керенского. А заодно попросили поставить их полки отдельно, так как кто-то из дагестанцев убил осетина, или наоборот, и сейчас они оказались кровниками и убивали друг друга поочередно. Мы исполнили их просьбу. Скоро они были отправлены на Кавказ отдыхать, к сожалению неразоруженными. Потом именно эти превосходно вооруженные люди — у них было по два револьвера, кроме винтовки, у каждого — грабили наши поезда и жгли казачьи станицы, добывая свои исконные земли.
Верхом приехал священник с крестом на георгиевской ленте, председатель комитета какой-то казачьей дивизии. Там было спокойно. Вскоре между мною и комитетом произошло некоторое охлаждение. Комитет хотел провести целую программу перемещений и отвода командного состава. У него были свои кандидаты. Я не был согласен с этой системой. Я думал, что заместители, из которых некоторые были мне известны, были не надежны, а только более услужливы, чем сменяемые люди.
Комитет сердился на меня, а может быть, только огорчался. Мне говорили очень ласково, что я не оправился еще от ран, что я работаю из последних силенок.
Из Могилева приехал Анардович. Мрачный, он разочаровался в Петроградском Совете, который был за войну, и в то же время приходил в ужас от смертной казни, разочаровался и в Филоненко, оказавшемся «пистолетом».
Он изменился. В непромокаемом пальто и брезентовой шапке, во френче, он уже не был тем, каким я его знал. И привычки у него были уже другие — привычки приказывать.
Анардович не принял дел, но пробыл несколько дней в ожидании своего назначения. Он был переведен в Особую армию на место убитого Линде, начальника первого отряда, пришедшего в Таврический дворец, предводителя Финляндского полка в дни первого выступления его против Милюкова, Линде, приколотого солдатами через шею к земле.
Не знаю, что стало с Анардовичем дальше. Больше я о нем ничего не слышал.
Я остался один. Дела было много. Но характер дел изменился. Наступили будни.
Со всех концов армии, а главным образом из тыловых частей, ползли ко мне толстые «дела» пальца в три толщиной, написанные чернилами или простым карандашом. Обычный тип — жалоба кого-нибудь на кого-нибудь о покраже упряжи, веревки. Дела ползли, распухали, через все комитеты и следственные комиссии взбираясь ко мне. Я мало понимал в них. Мне было тяжело. Вызовешь обвиняемого, обругаешь, а он уходит веселый. Может быть, его нужно было повесить?
Продовольствие и квартирный вопрос для армии стояли остро. А надвигалась зима. Крупные поместья — из них некоторые давали более миллиона пудов хлеба каждое — были подорваны.
Иные солдаты вели агитацию среди крестьян: «Не давайте нам хлеба, а не то мы еще пять лет будем воевать».
Собрали съезд крестьянских разнокалиберных комитетов, так как землеустроительные комитеты не были еще организованы. Хлеб достали.
Единственное воспоминание о нескольких свободных часах, во время которых я отогнал от себя заботу, по крайней мере, на длину руки, — это воспоминание о поездке на автомобиле в Яссы. Поехал я с генерал-квартирмейстером для того, чтобы выяснить положение в штабе фронта. Ехали через Батушаны, где стоял штаб 9-й армии. Здесь я в первый раз увидал румынские войска. Знал о них только по старой памяти, что они плохи, офицеры красятся, на позиции не бывают, солдаты бегут. Но тогда уже, переобученные французскими инструкторами, они производили очень хорошее впечатление. Помню их шаг. На меня, привыкшего к замедленному шагу нашей пехоты, их марш произвел впечатление полубега, сильного и уверенного.
С нашими войсками отношения у них были натянутые…
Девятой армией командовал Черемисов. Сейчас он торжествовал. В свое время Керенский, помимо Корнилова, назначил Черемисова командующим фронтом. Корнилов обиделся и предложил Черемисову по прямому проводу отказаться от незаконно принятого поста. Черемисов ответил, что «будет защищать свой пост с бомбой в руках». В результате оба отказались от командования. Их примирил Филоненко, и Черемисов занял место командующего 9-й армией. Армейский комитет был в него в тот момент положительно влюблен.
С Черемисовым переехал в 9-ю армию Ципкевич в качестве комиссара. Но властный характер Ципкевича, пережившего глубокое разочарование после Калуша, помешал ему поладить с аркомом. Он подал в отставку. Не знаю, куда поехал потом. Хотел ехать за границу, в Америку. Он говорил, что войну могут кончить только американцы как специалисты по налаживанию крупных предприятий.
Уже была ночь. Автомобиль втягивал в белый сноп лучей из прозрачных пылинок, в двойной белый сноп фонарей дорогу, покорно бегущую под колеса. Звеня чисто и тихо, сосал воздух карбюратор, машина стрекотала, когда одинокие дубы замахивались над дорогой, отраженный от них шум мотора острел — будто кто-то свистящими ударами хлыста стриг листья. Мы летели вперед, втягиваемые далью… Летели, сбившись с дороги, неслись степью, ровной, широкой степью…
Зайцы, внезапно вырванные из тьмы, остолбенело застывали, поднявшись бледной тенью. Но встал день. Встало утро сперва и загребло меня скучной лапой снова в дела.
Комиссара Румынского фронта не было, он тоже застрял в Ставке. Кстати, на Румынском фронте было два комиссара, один Временного правительства, другой Совета солдатских и рабочих депутатов. Это было материализированное двоевластие. Правда, эти люди старались работать дружно. Только ни одного из них не было на месте. Заведовал всеми делами какой-то растерянный офицер для поручения. От него я узнал, что Щербачев — командующий фронтом — сперва хотел присоединиться к Корнилову и даже дал соответствующую телеграмму, но его удержали и переубедили. Не знаю, насколько это было правильно. Положение с румынами было тоже острое. Король прислал Черемисову орден Михаила 1-й степени, величиной в ладонь, но кроме этого, он присылал в штаб фронта каждый день кипу жалоб толщиной в четверть аршина.
Наши войска хотели произвести в Румынии революцию, думая сделать ее самым простым способом, то есть «стащить короля сверху вниз». Но для революции в Румынии у нас не хватало самого главного: авторитета среди населения. Военного авторитета у нас тоже не было: румыны помнили наши прежние насмешки над ними и повадку почти победителей и не прощали нам сегодняшнего бессилия, а для авторитета революционного мы слишком плохо обращались с населением, — хотя не так плохо, как во многих других местах, в частности, не так, как с евреями или персами.
Поехал обратно.
Вернулся в Липканы. Анардович уехал. В качестве комиссара приехал бывший председатель армейского комитета той же армии тов. Вьенцегольский, поляк, называвший себя социалистом-индивидуалистом. Несмотря на такую причудливую фракцию, это был очень неглупый человек, умевший подчинять себе людей.
На 8-ю армию у него были свои взгляды. В частности, относительно целой кадрили перемещений. Может быть, здесь был и личный, скажем, бессознательно личный элемент. Мы встретились дружелюбно, так как я не сомневался, что я уйду. Я и ушел.
Для отчета о посещении Петербурга был собран армейский комитет. Вьенцегольский рассказывал, что на мир союзники не согласны, воевать мы не можем и мириться тоже не можем, остается «стучаться у дверей союзников и умолять».
Кстати, выбрали представителей на Демократическое заседание. Отправили всех оборонцев, хотя я и предлагал отправить пропорционально и большевиков. Большевики в армейском комитете были. Это были люди с психологией не классовой борьбы, а политического саботажа. Из практических предложений у них было одно: обратиться с воззванием к народам всего мира.
Я говорил что-то, сейчас не помню что; только помню, что, смертельно уставши, ушел с заседания, лег на чужую кровать и спал, долго, ожесточенно долго, как-то сознательно вцепившись в сон, чувствуя, что у кровати стоит отчаяние и что оно заговорит со мною, как только я открою глаза.
Я был выбран делегатом для посылки на совещание в числе других, послали еще товарища председателя комитета, Ерофеева, человека крепкого, но не знающего, что делать, одного учителя-мордвина, одного меньшевика-офицера и еще кого-то. Я выехал вместе с ними, решив искать себе нового ярма и обратно не возвращаться.
ПЕРСИЯ
Начинаю писать опять. Итак, я остановился на отчаянии. Иду дальше. Приехал в Петербург, началось совещание.
Победа большевиков выясняется. Правда, они на совещании в меньшинстве, но это благодаря тому, что созваны разные представители ученых и других обществ. Армейские комитеты не большевистские, но я знаю, как мало связаны эти комитеты с массой. А средний солдат устал и не видит цели войны; ему нужна перемена правительства, как пешеходу переобуться.
Усталый Чхеидзе, с видом старика купца, смотрящего на погром своего дела и пытающегося смеяться, — усталый Чхеидзе ведет заседание. Люди говорят, говорят. Представитель латгальского народа требует прав самоопределения, а мы не знаем, где живет этот народ. Оказывается, в Петербургской губернии.
Ярусы театра обвисают под тяжестью людей.
Приехал Керенский — волшебник, оставленный духами. Он бросает мятые, сухие слова, стараясь воспламениться и воспламенить. Наконец вспыхивает слабая истерика в партере. Кричат, кричат. Губы Керенского сухи и потрескались.
Потом было знаменитое собрание о коалиции.
Коалиция или не нужно коалиции? Какой-то хитрый человек предложил коалицию без кадетов. Он говорил длинную речь, от которой серело в воздухе.
Голосовали. Список воздержавшихся от голосования открыл хитрый, старый Чернов.
Я голосовал против коалиции. Я считал, что коалиционное правительство лопнет. Конечно, министры-капиталисты помогали выводить на улицу так неохотно идущие из казарм большевистские полки.
Но, конечно, не в этом дело.
Был на заседании дивизионного комитета своей части. На заседание приехал представитель Военного министерства и Чернов. Чернов говорил свои речи. С такими речами хорошо бабам пряники продавать или заговаривать женщину, раздевая ее.
Комиссаром дивизиона был изумительно тупой и панический человек М. (из фельдфебелей), он все добивался производства в прапорщики. И добился… перед Октябрем. Он тоже говорил что-то, иногда останавливаясь и обалдело соображая: что же он говорит?
Заседание происходило в нашей школе шоферов, в зале которой мы устроили для учеников амфитеатр. На верхних скамьях сидели, положивши головы на столы, солдаты одной команды. Их было шестеро, из них трое были пьяны так, что не могли поднять голову.
А Чернов пел, пел с присвистами и перекатами.
В конце заседания был скандал. Пьяных выводили. Я пошел в Военное министерство, в Совет и сказал, что я хочу ехать куда угодно, но только подальше. Мне казалось, что я нахожусь в комнате, в которой лампы коптят уже 48 часов.
В это время в Военном министерстве буксовал Верховский. Вы знаете, как буксует автомобиль? Происходит это так. Попадает автомобиль колесом в грязь или на лед и не может тронуться с места. Мотор дает полные обороты, машина ревет, цепи, намотанные на колеса, гремят и выбрасывают комья грязи, а автомобиль — ни с места.
Так буксовал генерал Верховский. Это был человек решительный, инициативный, с нервами, с напором.
Его идея сократить армию на 40 процентов была смелой мыслью. Но провести ее уже было нельзя. Ткани страны переродились.
Ах, кстати! Сколько раз я получал от Керенского телеграмму: «Немедленно ввести в армии железную дисциплину и об исполнении телеграфировать!»
В Военном министерстве я еще прежде встретил комиссара, отправляющегося в Персию; это был бывший председатель Киевского Совета, меньшевик Таск. О нем я буду писать много. В Персию меня отпустили, хотя и удерживали. Но тоска меня вела на окраины, как луна лунатика на крышу. Сел в поезд, поехал в Персию. Тогда это было очень просто. До Тифлиса 5 суток без пересадки и от Тифлиса до Тавриза двое суток, тоже без пересадки. Поехал. В районе Минеральных Вод чеченцы уже устраивали крушения. Ничего, проехали.
Под Баку увидал Каспийское море, холодно-зеленое, не похожее ни на одно море. И верблюдов, идущих мягкой походкой.
Со мной ехали офицеры на Кавказский фронт.
Один из них, раненный в живот разрывной пулей и полукастрированный ею, все время пел:
Цыпленки варены, Цыпленки жарены, Цып-лен-ки тоже Хочуть жить. Зачем ты вареный, Зачем ты жареный, —и так далее… Ему было лет восемнадцать. Он был совершенно не интеллигент и тосковал, как умел. Вот и все.
Да, кстати о кастрации. Когда я в Петербурге заходил в госпиталь (с меня снимали рентгеновский снимок, чтобы выяснить, каким образом рана не оказалась смертельной), там я увидал одного офицера. Он тоже был кастрирован ранением. К нему ходила невеста. Она ничего не знала. Он не решился сказать ей, когда она пришла в первый раз, а потом все становилось трудней и трудней. И кругом никто не решался сказать. Раненый просил доктора, чтобы сказал он, а доктор просил сестру, а сестра не говорила.
Да ведь и не в том дело было, чтобы сказать. Случай был слишком нелепо тяжел.
Приехал в Тифлис. Хороший город, «под Москву». На улицах стрельба, грузинские войска в восторге, палят в воздух, не могут не палить. Национальный характер. Одну ночь провел среди грузинских футуристов. Милые дети, тоскующие по Москве хуже «чеховских сестер».
Город спокоен, не разрушен, правда, хлеб кукурузный, но трамваи ходят, и люди еще не одичали.
Поехал в Тавриз. Поезд лез все выше.
Вцепились в горы деревья с темно-золотыми листьями. Внизу не то провожает нас, не то бежит навстречу речка. Поезд лезет наверх, извиваясь от усилий.
В Александрополе прицепили к другому поезду. Поехали до Джульфы. Приезжаем — одинокая станция. Бежит под горой мутный Аракс. На другой стороне — домики из глины с плоскими кровлями, мне они кажутся домиками без крыш. Ночь.
Пишу 22 июля 1919 года. Когда я 19-го этого месяца приехал из Москвы и привез одному близкому мне человеку хлеб (10 фунтов), то этот человек заплакал — хлеб был непривычен.
Так вот — домики были без крыш, люди немножко без голов, но это было для них издавна привычно.
Наш вагон опять отцепили. Потом составили новый поезд, всего из 4–5 вагонов с двумя паровозами, один спереди, другой сзади.
Перевезли через мост, поверхностно осмотрели на таможне (персидские таможенцы, которые нас боялись), и поезд, надрываясь и тужась, начал снова карабкаться ввысь.
Уже кругом не было рыже-золотого леса, а одни только красные горы и красные уступы, оттененные снегом, снег на вершинах совсем близко. Поезд, надрываясь, временами почти останавливался — казалось, что мы сейчас покатимся вниз.
Кругом пустынно. Только арык, проведенный на чьи-то поля с самого верха гор, стремительно бежал нам навстречу, стараясь выкатиться из дна и берегов.
Редкими оазисами внизу виднелись кое-где сады. Станции были пустынны. Влезли. Чувствуешь, что высоко, но ничего — плоско.
На станции Сафьян, в пункте Земского союза, пообедали; отсюда поезд шел в Тавриз, а мне было нужно ехать в Урмию, где был штаб армии. Или, вернее, штаб 7-го Отдельного Кавказского корпуса, так звали персидскую армию.
Пересел и очень скоро приехал в Шерифхане.
Здесь я увидел нечто невиданное. Пустыня-солончак. Лежит громадное, явно мертвое, гладкое озеро-море. В воду тянутся длинные молы на сваях. Несколько больших черных барж грузятся чем-то.
Но самое странное: на берегу нет жилых зданий, не видно людей.
Одна пустыня. И пустынные склады. Лежат товары. Лежат мотки колючей проволоки. Видно несколько амбаров. Десяток вагонов стоит на рельсах. Но порт — мертв. Это главный порт Урмийского озера, место с громадным, говорят, будущим. Противоположного берега не видно. А левее виден остров, зовут его Шахский, там была раньше шахская охота.
Переночевал в фанерном домике Земского союза. Вышел утром. То же море и те же внизу белые от соли сваи. Безлюдная тишина. Склады охраняются пленными турками. Так — вернее. Ездят через озеро двумя путями: или на барже, которая буксируется катером, или на катере просто, если дело спешно. Всего пароходиков на озере штук 7–10, из них один «Адмирал», довольно большой, вроде тех пароходов, что ходят между Кронштадтом и Петербургом, но с двигателем внутреннего сгорания. Пароходы привезены из Каспийского моря и здесь собраны.
Поехал в Урмию на маленьком катере. Ехать верст 60–70.
Над озером летают фламинго, розовеющие при взлете. У них розовые подкрылья. Машина стучит и режет еще не мятые волны.
В соленое озеро, всегда пустынное, пустынное при халдеях, при ассирийцах, всегда окрайное, затащили флот, воткнули сваи, распугали птиц — и все для войны.
Едущий со мной корпусный интендант рассказывает, как трудно кормить армию. «До озера — ничего, железная дорога, потом перегрузка на баржи, барки выручают, можно везти на некоторых сразу до 30 000 пудов до пристани, их на озере штук пять; потом перегрузка на конный или воловый транспорт, потом в горах перегрузка на верблюдов, мулов или ишаков — и так каждый фунт».
И вот в Персию оказались согнаны чуть ли не все верблюды, лошади, ослы, мулы и быки Кавказа и Туркестана. Нам их увезти оттуда не удалось.
Нас в Северной Персии тысяч до шестидесяти, на фронте тысяч пять, а остальные составляли команды транспорта и охраны путей; ведь нужно охранять четыреста верст пути от фронта до Шерифхане, и в результате армия голодает.
Катер подошел к пристани… Скалы уже не красные, а серые… Пустынно, виден только один маленький глиняный домик. Это Геленжик.
Вышли на берег. Глухо, как у глухого забора.
Бродят какие-то дети, почти голые, в лохмотьях, обращенных уже в бесформенные пряди.
Не стал ждать автомобиля, попросил лошадей, подобрал компанию, и загремели по камням в Урмию.
Дорога вырвалась из солончака и пошла полями, обнесенными глиняными стенами. Как фабричные трубы, торчат в поле пирамидальные тополя с ветвями, будто припеленутыми к стволу.
Ехали довольно долго вдоль глухой глиняной степи, мимо бедных кладбищ с памятниками из осколков камня, поставленных дыбом. Потом повернули в кирпичные ворота и въехали в город Урмию. За городской стеной виднелись красные горы, небо было высоко, на горах лежал сверкающий снег. Подъехали к серой стене, через двери и узкий коридорчик вошли во дворик. Громадные виноградные лозы со стволами изогнутыми, крепкими и толстыми подымались по стенам, образуя зеленую сетку над всем двором. В глубине двора стоял одноэтажный дом с громадными окнами, переплет которых оклеен коленкором. Я вошел через темные сени в комнату.
Белые стены. Потолок сделан из бревен, положенных на пол-аршина одно от другого. Между бревнами перекинуты тонкие дощечки, к дощечкам прикреплены плетеные маты.
Комната залита рассеянным светом, проникшим через коленкор.
Здесь встретил Таска и еще одного своего старого знакомого, некоего Л. Л. был в панике, он приехал на Восток и ждал Востока пестрого, как павлиний хвост, а увидел Восток глиняный, соломенный и войну совершенно обнаженную. Нигде не была так ясна подкладка войны, ее грабительская сущность, как в персидских щелях. Неприятеля не было. Где-то были турки, но они отделены от нас горами с непроходимыми перевалами, где верблюд проваливался в снегу по ноздри. Конечно, турки только с невероятными усилиями могли проникнуть к нам, как они и сделали в 1914 году.
Но дело было не в них. Дело было в Персии, занятой русскими войсками уже 10 лет.
Мы пришли в чужую страну, заняли ее, прибавили к ее мраку и насилию свое насилие, смеялись над ее законами, стесняли ее торговлю, не давали ей открывать фабрик, поддерживали шаха. И для этого нами держались войска, держались даже после революции. Это был империализм, и главное — это был русский империализм, то есть империализм глупый. Мы провели в Персию железную дорогу, создали в Урмийском озере флот, провели колоссальное количество дорог по долинам, проложили дороги через перевалы, в которых со времен Адама не было никаких дорог, кроме ишачьих троп, где курды только кострами выжигали самые тяжелые места и выковыривали потом раскрошенный камень чуть ли не ногтями.
Денег в Персию было убито много. И все это было бесполезно, все это был крепостной балет. Мы жали и душили, но не ели труп.
Февральская революция не улучшила положения в Персии. Прежде всего мы именно здесь были перепутаны с Англией всякими договорами: ведь Персия была одна из частей предполагаемой добычи, а, кроме того, революция, отведя в общем от Персии угрозу поглощения нами, заменила одного тупого, но организованного насильника-государства мелкими вспышками русской насильнической воли. Люди государства-насильника были сами насильниками. Если бы в Персии произошел потоп и мне бы пришлось стать Ноем, строить ковчег и в нем спасать чистых и честных, просто честных и активно честных людей, я не стал бы строить большой посудины.
Пошли мы с Л. смотреть город. Весь город вымощен. История этой мостовой такая.
Некий генерал приказал персам вымостить улицу. За неисполнение приказа домохозяина прибивали к косяку двери ножом за ухо.
Так вот, город вымощен. Кругом идут одни и те же глиняные, в два человеческих роста вышиной стены. В стенах низкие двери, ворот нигде нет. Несколько мечетей с невысокими минаретами и куполами в изразцах. На одном минарете свил гнездо аист. Священную птицу не трогают. Вдоль всех улиц быстро бежит вода по каналам-арыкам. На перекрестках кладбища — пыльные, бедные и маленькие. Памятники — просто куски камня, поставленные дыбом. Прохожих мало. Редко проходят закрытые черным покрывалом персиянки. Из-под покрывала видны концы грубых солдатских кальсон. Ходят персы. Попадаются ассирийцы. Маленькие ослики с грузом кирпича на спинах трусят на улице, погонщик кричит: «Хабарда!» — это везут материал для починки базара после погрома. Когда хотят заставить ослика немного свернуть, то соскакивают с него и упираются ему в бок. Идем к базару. Прохожих все больше и больше. Глиняные стены сменяются лавками, торгующими то пестро раскрашенными колыбелями, то вяленым, очень сладким виноградом и миндалем. Вот и вход в базар. Базар состоит из многих туннелей с острым сводом, в котором кое-где пробиты отверстия. По бокам лавки почти пустые. В красном мануфактурном ряду почти все двери, закрывающие магазины, из свежего, не успевшего потемнеть дерева. Здесь был главный погром. Хозяева посудных лавок сидят, сверлят черепки, оставшиеся после погрома, и скрепляют их между собой при помощи цемента и маленьких железных скобочек. Товара мало, нет привоза, да и боятся показывать, что есть. Тихо стучат копыта подвозящих кирпич осликов. Один ряд занят сапожниками. Они тут же шили сапоги. На окраинах базара, в больших и глубоких лавках вили из шерсти веревки и валяли круглым камнем на болванках шапки, расширяющиеся кверху, как митры. В другом проулке выбивали ударами молотка на грубой красной и синей ткани маленькой дубовой доской величиной в две ладони узор черной краской. Целый улей, но везде лежит еще не убранный глиняный мусор.
Посмотрели, как жарят над углями, раздуваемыми веером из плетенки, как пекут лаваш — тонкий, точно картон, хлеб, который делают, намазывая тесто на внутренние стенки печи, — и пошли домой.
В эту же ночь Л. уехал в Питер. Уехал на фронт и Таск. Я остался один. Наши войска были единственной силой в Персии, и я должен был ими руководить.
А сейчас пишу это 30 июля 1919 года, на карауле, с винтовкой, поставленной между ног. Она не мешает мне. Я думаю, что я сейчас так же бессилен, как и тогда, но на мне не тяготеет ответственность. Теперь расскажу, что это была за страна, в которую я попал.
Азербайджан и часть Курдистана — вот места, занятые нашими войсками. Население смешанное. Персы, армяне, татары, курды, айсоры-несториане, евреи — вот состав этого населения. Все эти племена жили испокон веку друг с другом довольно плохо. Потом пришли русские, стали жить по-новому. Еще хуже.
На другой день после приезда пошел знакомиться с армейским комитетом. Произвел он на меня впечатление очень тяжелое. Совершенно серые люди, которые сами не знают, что делать. Председателем был сперва товарищ Степаньянц — армянин; председателем он был плохим и дела комитета запутал чрезвычайно.
Вместо него был избран Геоббекиан, впоследствии товарищ председателя краевого Совета. Этот был хуже. С ним нельзя было знать, что будет через несколько минут; в одной и той же речи он кидался от кадетов до большевиков.
Забавна была его манера посреди речи останавливать оратора и говорить: «Я вам разъясню, товарищ», — а потом гнал речь на час. Так и говорил один. А дело шло к Учредительному собранию. Нужно было в невероятно разбросанной армии с маленькими командами провести выборы. Председателем выборной комиссии избрали одного солдата-толстовца, который внезапно оказался дельным человеком.
А остальной комитет — да простит он меня за плохую о нем память — занялся устройством любительских спектаклей.
Ведь это было понятно. Так тоскливо жить: без газет, без женщин, при замкнутости персидского населения; ну вот и образовалось что-то вроде дачной труппы с невероятно дачным репертуаром.
Играли в большом глиняном сарае, темном и обставленном бедно, беднее, чем театр каторжников в «Мертвом доме». Репертуар был водевильный. Солдат набиралось туча. По мысли устроителей, театр должен был быть передвижным.
А в тихом городе с глиняными стенами, с дверями, всегда закрытыми, было неладно.
Всю ночь гремели выстрелы. Стреляли в воздух. Были пьяные; вино находили у ассирийцев и у евреев, а может быть, и у мусульман.
В пограничном городе Ушнуэ произошел погром, все было разбито и растащено. Выехал Таск; ему удалось найти роту, случайно не принявшую участия в погроме, и при ее помощи отобрать награбленное, а полк в наказание оставить на позиции без смены.
Боев нигде не было.
Готовили выборы. Переизбрали армейские комитеты. Армия слабела и распадалась.
Персия привычно страдала.
Власть шаха ничтожна в Персии. Он раздает, правда, свои земли, и вся земля в стране — его земля, но это только слова. Скорее ханы соглашаются признавать себя его вассалами.
Я не берусь объяснить этот странный, давно себя переживший, но не разрушенный строй. Кажется, ханы отдают деревни в аренды. Или сильный и вооруженный человек, живущий в деревне, организованно грабит ее и уделяет часть ханам.
Крестьяне — крепостные в том смысле, что они в руках господина, пока живут на его земле. Им предоставляется проводить воду с высоких гор, чистить арыки, стоя по колени в быстро текущей воде, жариться на солнце. Эмиграция развита очень сильно: идут в Баку, в Туркестан, идут куда глаза глядят — всюду, где кормят.
В городах живет купечество, богатое, по-своему образованное; детей своих они учат в школах французской миссии. Они тоже имеют свои деревни. Появление буржуазии не разрушило крепостного права.
Кажется, однако, у ханов есть уже наследники. Персидскую революцию производили купцы и армяне. Это была революция меньшинства. Отряды в тридцать — сорок человек свободно проходили всю страну. Теперешний губернатор Урмии сам был в таком отряде вместе с здешними миллионерами братьями Манусурьянцами.
У персов была конституция, о которой они говорили, что она либеральнее швейцарской. Губернатор — революционер, то есть участник персидской революции. Он тоже имеет свои деревни и крепостных. Правда, в Персии были персидские казаки, части на службе шаха, рекрутируемые из персов под командой наших инструкторов.
Персидские казаки, вернее, люди, которые пользовались ими как своим оружием, встречали среди населения почти единодушную ненависть. Но они зависели не от губернатора, а прежде от русского правительства.
Сейчас же, кажется, ни от кого не зависели.
При нашем отходе они попытались на нас напасть.
Конечно, губернатора никто не слушался. Он просил у нас 10 кубанских казаков, «чтобы его слушались». Не слушались его ханы-курды, так как они были сильнее, каждый имел по нескольку десятков всадников, а один из них, Синко, имел большой отряд. Это одна из ошибок русской дипломатии. Великий князь Николай Николаевич в ту эпоху, когда строил себе дворец на Ленкоранской долине и замышлял создать в Армении казачество, решил привлечь на русскую сторону одного из курдских вождей. Выбор пал на Синко, хана племени, сидящего в районе Кущинского перевала, связывающего Хой-Дильманский район с Урмийским. Синко были даны винтовки и даже пулеметы, что и сделало его постоянной нашей угрозой. Он принимал участие в резне христиан и в конце концов смеялся над нами, говоря, что «мои сто сорок всадников разгонят ваш полк».
Не слушались армяне, хотя они были лояльны, но лояльны потому, что они представляли собою в Персии аристократию. У них была крепкая организация «Дашнакцутюн». Не знаю, был ли «Дашнакцутюн» где-нибудь на Кавказе социалистической партией типа наших эсеров, но в Персии это было могучее общество самообороны.
Айсоры, христиане-несториане, тоже представляли нечто вроде государства. Они считали себя прямыми потомками древних ассирийцев и говорили на арамейском языке. Одна часть их была старыми насельниками окрестностей Урмии. Когда-то они занимали весь край. Постепенно курды вырезали их. Сейчас число их пополнилось горными аширетными ассирийцами, людьми дикими, спокон веков живущими в самом центре Курдистана, в районе Джеламерка в Ванском вилайете; родственные им яковиты жили вокруг Мосула.
В горах жили они родами под предводительством меликов — князей, каждой деревней управлял священник, все же мелики были подчинены патриарху Востока и Индии, Мар-Шимуну, черноглазому румяному сирийцу с седой головой. Сан патриарха — наследственный, и переходит он от дяди к племяннику. Предание выводит род патриархов от Симона, брата Господня.
Несториане знали славное прошлое. Когда православные оттеснили в VII веке их из Сирии, они, перейдя через горы, пришли в Персию, и были здесь приняты радушно, как враги Византии. Здесь они развили литературную деятельность и распространили свое влияние на Сибирь, Индию и особенно на Туркестан. Бывали и в Китае, где осталось и сейчас несколько совершенно ассимилировавшихся несторианских семей.
Тимур оттеснил их в горы Курдистана, там они жили теперь, дичая. Они черноволосы, семитообразны и румяны.
Миссионеры несториан заходили в Индию, и там появились целые христианские колонии. На севере они прошли Сибирь, на востоке достигли Японии. Шрифт, изобретенный ими, лег в основу монгольского алфавита, а кажется, и корейского. Может быть, они были народом Иоанна Индийского, помощи которого ждали крестоносцы. Сейчас это было маленькое племя, загнанное в те горы, которые даже на подробнейших немецких картах показаны просто пятнами. Турки глодали племя, а оно все держалось. Главным селением их был Орамар. Но Орамар был занят курдами еще в 1914 году. Когда же русские войска, создав из ассирийцев дружины, ушли, бросив их на произвол судьбы, участь племени стала ужасной. Доктор Шед, глава американской миссии, говорил мне, что свыше 40 000 было вырезано, сложено кострами и сожжено. Оставшиеся сели в бест американской миссии. Но персы подсыпали в хлеб железных опилок, и мор прошел среди спасшихся. В 1916 году разведывательный отряд русских казаков с ассирийской дружиной Ага-Петроса Элова ходили на Орамар, то есть в расположение неприятеля более чем на триста верст. Дорога была трудна. Мулы не могли ввезти горных орудий. Их внесли айсоры на руках. Кавалерия ловчилась как могла, айсоры шли гребнем горы, потому что смысл горной войны в том, кто займет командующую высоту. Предлагаю сравнить с описанием способа ведения войны у кардухов (Ксенофонт, кн. 4).
Орамар был обойден, взят и ограблен. Лошадей кормили виноградом, ослов пшеном. Мар-Шимун и епископы — они носят чалмы, накрученные на красные фески, — ходили в атаку в штыки и дорезывали пленных. Наш урмийский консул Никитин участвовал в экспедиции и, между прочим, рассказывал мне, что в местности, некогда занятой ассирийцами, а ныне уже курдской, он нашел маленький каменный храм без окон и украшений. Его звали храм Марии-Мем. Этот храм не был разрушен курдами. Мало того, они оставили даже в живых родню христиан — священников храма. Объяснилось это тем, что, по преданию, под этим храмом был заключен Великий Змий, который вышел бы, если бы храм разрушили. Змий один раз в жизни каждого хранителя храма показывался ему, но теперешние хранители храма Змия еще не видели.
Жили изгнанные ассирийцы, голодали, грабили, возбуждая жгучую ненависть персов. Одетые в маленькие войлочные шапки, в штаны, широкие, как шаровары, сшитые из маленьких кусочков ситца и подвязанные выше щиколотки веревками, в цветном жилете, ходили они по базарам. Религия, которая связывала айсоров, уже давно ослабела и сохранилась только в форме противопоставления себя как христиан мусульманам.
В Урмии работали религиозные миссии: русская, немецкая, французская, американская — все они охотились за душами бедных несториан и, конечно, преследовали политические цели. Миссии вмешивались в гражданские дела и тяжбы, тоже представляя собою суррогат государства. Благодаря этому создалось такое положение, что миссия оказывала покровительство своим новым одноверцам. Из-за этого некоторые меняли веру по два-три раза. В одной семье бывали представлены чуть ли не все христианские вероисповедания.
Странно выглядела французская миссия в Урмии. Большой монастырь с колоннами, с людьми в черных сутанах и круглых шапках с помпонами. Это было самое крупное сооружение в городе.
Русская миссия, построенная, между прочим, на незаконно отнятой от частных владельцев земле, выглядела большим новым монастырем с кирпичными красными стенами. Во время моего пребывания миссия уже заглохла, епископ уехал, влияние пало.
Все эти организации работали среди урмийских айсоров, горные аширетные айсоры держались крепче.
В районе Урмии айсоры жили давно; они появились здесь не позднее VII века. Но в наше время отношение персов с ними резко обострилось. Главной причиной было участие айсоров в войне. Ассирийцы имели партизанскую дружину, которая дралась на нашей стороне. С нами их связывало христианство, а также и тяготение к нашим союзникам. Ассирийцы по-своему народ энергичный, многие из них ездили в Америку, где даже издавался ассирийский журнал. Я помню, мне показали айсора, который шел по улице в своем национальном костюме, в лоскутных штанах и башмаках из невыделанной шкуры, и сказали, что он доктор философии американского университета.
Вот эти фантастические люди и имели свою партизанскую дружину, дружину страшную по тысячелетней ненависти к курдам и персам. Предводителем дружины партизан был некий Ага-Петрос Элов, черноволосый человек с низким лбом, курчавыми волосами и широкой выпуклой грудью. Штаны из диагонали и форменная тужурка с красным кантом делали его похожим на телеграфиста. Элов имел шумное прошлое. Консул показал мне печатную характеристику его в секретном официальном издании министерства иностранных дел. Не помню ее наизусть и привожу по памяти довольно точно:
«Ага-Петрос Элов, тот самый, который был в таком-то году в Урмии турецким консулом, а в таком-то году управлял такой-то местностью в Турции и разорил население неслыханными поборами, в бытность в Америке сидел в Филадельфии на каторге. В настоящее время держит сторону России и состоит нашим нештатным драгоманом. Пользоваться его услугами с крайней осторожностью».
Ага-Петрос со своей дружиной оказал нам большие услуги при походе на Орамар. Случайно мне пришлось спасти ему жизнь через несколько дней после моего приезда в Урмию. Пьяные солдаты 3-го пограничного полка арестовали его на улице и грозили приколоть. Я отнял его от них, сказав, что арестовываю его, и привез на свою квартиру. Он хорошо говорил по-французски и английски и плохо по-русски.
Дружину его мы не кормили и ничего ей не давали, кроме винтовок и патронов. Да и винтовки отпускались неважные, трехзарядные французские «лебедь» без дульных накладок. Такой винтовкой можно сжечь руку, если взять ее неосторожно после стрельбы. Эта дружина испортила и без того, по существу, плохие отношения между персами и айсорами. Но, во всяком случае, Ага-Петрос был смелым и по-своему честным человеком. С ним случались такие вещи. Несколько лет тому назад он до вступления на русскую службу, будучи вызван персидским губернатором по какому-то обвинению, арестовал самого губернатора и заставил у ханов признать губернатором его — Агу. Шах вызвал Петроса к себе, но он не поехал, благоразумно полагая, что дома лучше, и сам вызвал шаха. Наконец, за уход с поста шах прислал ему звезду. Таков был этот нештатный драгоман. Да, я забыл еще сказать: он не был меликом — князем-старшиной, но на службе его состоял один мелик по имени Хаму. Партия Мар-Шимуна косилась на Петроса, считая его выскочкой.
Третьей, а по численности второй группой населения были курды. Они жили в мирное время на границе между Турцией и Персией. Вернее, Турция и Персия граничили с землями, в которых они жили. Часть их была в турецком подданстве, часть в персидском. Всего курдов около двух миллионов. В восьмидесятых годах они пытались создать свое государство. Почин шел от персидских курдов. Но культурный уровень курдов не дает им возможности создать крупную организацию. Живут они до сих пор кланами. Скотоводство, широко развитое у них, а отчасти и земледелие позволили им жить в мирное время богато. Наши солдаты говорили, что «курды богаче казаков».
Но сейчас они были совершенно разорены, страшно пострадав от войны. Прежде всего оттого, что война закрыла им пути кочевья.
Раньше они зимою гнали скот в Месопотамию, а летом переходили в горы от жары.
Война закрыла пути. Часть стад осталась в долинах и гибла от жары, часть — пропала в горах.
Кроме того, русские пришли в Курдистан с ненавистью к курдам, унаследованной от армян, ненавистью, у армян понятной.
Формула «курд — враг» лишала мирных курдов, и даже детей, покровительства законов войны.
Генерал, взявший Соложбулак (забыл его имя), гордо называл себя: «такой-то истребитель курдов».
При всей своей храбрости курды не могли оказывать сопротивления нам. Они все еще не живут племенами даже, а кланами, разобщенными между собой.
После Февральской революции среди курдов было большое движение в сторону соглашения между свободными курдами и свободной Россией. Происходили большие сходбища, и были посланы к нам люди для переговоров.
Посланные вернулись, говоря: «Русские свободны, но свободу они понимают по-русски».
Я знаю, как жестоки курды, но Восток вообще жесток. Лет 30 тому назад около Джеламерка айсоры сняли кожу с нескольких англичан, раздраживших их неосторожным списыванием надписей. А курдов я видел не в то время, когда они резали персов и засовывали отрубленные половые части в рот убитого врага, а в то время, когда их рассеянно — от скуки — убивали тоскующие русские. Курды умирали с голоду и ели уголь и глину вокруг Соложбулака, когда-то цветущего.
Так же бедствовали курды в долинах Мергевара и Тевгевара.
Впрочем, совсем не так, — из этой долины, в которой когда-то жило богатое племя, имевшее там 200 000 баранов и тысяч 40 крупного скота, жители были изгнаны. Здесь стояли забайкальские казаки. Назвали их в армейском комитете «желтой опасностью» не только за желтые лампасы. Широколицые, крепко-смуглые, на маленьких лошаденках, способных есть буквально корни, забайкальцы были храбры и жестоки, как гунны.
Впрочем, я думаю, не зная точно гуннов, что жестокость забайкальцев была более задумчивая.
Один перс говорил мне: «Когда они рубят, они, по всей вероятности, не думают, что рубят, а считают, что они хлещут».
В непоколебимости забайкальцев мне пришлось убедиться.
Я приезжал в Гердык, наш пост в Мергеваре.
Широкая долина. На пригорке — разрушенное курдское укрепление. Рядом пни, много пней. С горы падает водопад высоко-высоко, разбиваясь в пыль.
С другой стороны долины из горы бьет струя воды, толщиной в обхват. Безлюдье и тишина. Ночью лают шакалы. Лисицы, серые лисицы ловят с берега форелей в реке.
Я приехал просить забайкальцев, чтобы не мешали нам возвращать курдов в их родные места, где они могли бы питаться когда-то посеянным и еще не вполне осыпавшимся просом.
Я говорил им о детях, бродящих вокруг лагерей, о том, что мы все равно уходим. И не добился ничего.
В географическом единстве, называемом Россией, живут разные люди.
Кстати, вся эта долина принадлежала одному армянину Манусурьянцу, кажется; и хан ее ему принадлежал.
Так пропадали курды в Персии. Сами персы были к ним враждебны из-за религиозных разногласий. Персы были шииты, последователи Гусейна, курды были сунниты; друг к другу эти мусульманские секты относятся, как католики относились к протестантам (в эпоху гугенотов).
Немногим лучше было положение курдов в Турции. Турки пользовались ими как боевым материалом, причем держали их как нерегулярные части, не на пайке, а на подножном корму.
Все эти племена — персы, курды, айсоры, армяне — ненавидели друг друга. Временами у всех из чувства самосохранения появлялось желание примириться.
При мне был устроен даже праздник «примирения народов». Собрались знатнейшие представители каждой национальной группы и поклялись в прекращении междоусобной войны. Было даже трогательно, все целовались, а оружие было оставлено при входе.
Не знаю, откуда оно взялось, предполагалось, что мы разоружили население.
В честь этого события было решено учредить ношение особой зелено-белой розетки.
Все это было проделано очень серьезно, лукаво и наивно. Они не вводили в свои отношения еще иронии.
Меня на празднике поразили муллы с красными бородами своими неторопливыми, благородными движениями. Они двигаются красивее, чем европейцы.
Русские власти были представлены в Персии консулом, командующим армией, комиссаром и комитетами, а на местах — каждым комендантом этапа, из которых многие занимались вымогательством у населения, и каждым солдатом с винтовкой.
В городе было неспокойно, всю ночь слышалась стрельба — один из признаков, что гарнизон уже распустился. Со всех сторон тянулись серые, скучные жалобы. Армия тихо гнила. Я тосковал на Востоке, как тосковал в Палестине Гоголь, пережидая дождь на скучной станции Назарет. Главная жалоба была на фураж. Громадные транспорта голодали. Сено, заготовленное где-то в горах в районе Дизы Геверской, было заготовлено неумело или слишком хитро. Его не успели вывезти в свое время. Не хватало веревок, курд хан Синко не дал перевозочных средств. Началась осень. Забили ключи, и сено погибло. Таск долго расследовал эту историю, перессорился со всеми, но виновного не нашел. Резервом для поставки фуража оказался Хой-Дильманский район. Район этот богат, но расположение неудобно — на правом фланге нашего фронта. Самана — соломы, смятой и скрученной при молотьбе в особых персидских молотилках, — люцерны и сена было заготовлено довольно много, но его нужно было прессовать, а рабочая рота, которая стояла в Диламе, на прессовке саботировала, прессовала плохо и ломала прессы. Грузчики работали нехотя, голодные транспорта тоже.
На левом фланге в Бане лошади ели дубовый лист и кору, грызли изгороди и дохли табунами. А конные части в нашей армии преобладали. Упадок работоспособности сказывался во всем. Мы послали из аркома на все пристани своих людей в качестве наблюдателей — помогло мало. Положение осложнялось тем, что на многих пристанях погрузочные и этапные команды состояли из немцев-колонистов, и там было сильно германофильское отрицание войны.
Наемные команды персов могли бы выручить, но население уговаривало их бросать работу и не помогать русским. Падеж лошадей тяжко сказался на нашей кавалерии. Она состояла из казаков, то есть из людей на собственных лошадях — значит, особенно чувствительных.
Ко всему этому в армии возник вопрос о валюте, который скоро и стал центральным.
Для того чтобы было яснее дальнейшее, скажу несколько слов о персидских деньгах, «собачках», как их называли наши солдаты. «Собачками» персидские деньги звали потому, что на них вычеканено изображение льва.
Денежной единицей являлся кран — серебряная монета меньше нашего полтинника, стоила она раньше копеек 30.
Пятикранник назывался полутуманом, по величине он был больше рубля и чеканился раньше в Петербурге на Монетном дворе. Стоил пятикранник 1 р. 50 к. — 1 р. 80 к.
После того как мы перестали ввозить в Персию товары, наш кредитный рубль упал, было решено платить нашим войскам персидской валютой, считая полтумана за 1 р. 80 к.
Значит, уплата жалованья валютой была для войск очень выгодна. Но серебра, необходимого для этой уплаты, у нас не было. О валюте поговорили и забыли, а рубль все падал и падал. Я сам видел на перевале Кущинского ущелья осликов, хурджины — переметные сумки — которых были туго набиты кредитками. Это был не очень дорогой товар. Дело осложнялось тем, что некоторые тыловые части получали жалованье валютой.
Вопрос обострялся. В нем были заинтересованы все. Значит, задерживающие центры не работали.
Особенно требователен был третий пограничный полк. Громадный полк четырехбатальонного состава. Наконец с трудом достали серебра на одну оплату, на остальную сумму выдали, по предложению Таска, сберегательные книжки, в которых была записана недостающая сумма как вклад. Тогда появилось новое затруднение. Нельзя представить себе ничего причудливее курса денег в Персии. Мелкое серебро имело свой курс, рубли — свой. Даже золото имело курс не по весу, а по чеканке, так что один и тот же вес золота в турецких лирах стоил гораздо больше, чем тот же вес в русских золотых. Мелкие русские кредитки ходили по своему курсу. Сторублевки и пятисотрублевки имели опять другой курс, думская тысячерублевка — свой, только что вышедшие керенки — тоже свой. Кроме того, курс русского рубля изменялся буквально по два раза в день, в зависимости от последнего телеграфного сообщения из Тавриза. Кстати сказать, русский банк в Тавризе русских денег не принимал. Получалось такое положение, что каждый раз при размене солдат чувствовал себя обманутым, да и в действительности был обманут.
Как только жалованье серебром было выдано, все солдаты бросились менять серебро на бумажный рубль, чтобы везти деньги домой. Банкиры-сарафы моментально взвинтили рубль до 15 копеек (шай) и выше, и солдаты, считая себя обиженными, устроили ряд погромов — впрочем, погромы были перманентны.
Опишу один из них. Уже давно по городу шли слухи, что погром будет. Какой-то солдат-еврей предупредил об этом соотечественника на базаре. Однажды утром, зимой, когда на камнях лежал снег, я вышел в город. Арыки мерзли. Страшные персидские нищие, почти голые курды из разоренных мест жались, замерзая у стен. Прохожих почти не было. Знакомый перс, пробегая, закричал мне: «Грабят базар!»
Я жил напротив штаба, бросился к командиру, князю Вадбольскому. Он подтвердил мне известие. Вадбольский был смелым и честным человеком. Сейчас он растерялся. Кого отправить на погром? Нет дисциплинированных частей! Каждая сама будет грабить. Вызвали из пригорода забайкальцев, но все знали, что это рискованное забрасывание костра дровами. Можно было отправить еще кубанцев, кубанцы не грабили, по крайней мере в Персии, но они держались хитрого хохлацки-казацкого нейтралитета и грабежу не помешают. Больше же всего они боялись испортить отношения с пехотой. Их программа-максимум — попасть домой. Я метнулся в арком. Арком сидел в полном составе и совещался о мерах борьбы с погромами вообще. На погром, в частности, никто идти не хотел. Все боялись, и особенно страшила мысль о том, чтобы разогнать погромщиков оружием. А между тем армейский комитет вместе с полковым комитетом города составил бы группу человек в 150, то есть являлся уже силой. Я сказал комитетчикам, что пойду один. Таск был в отъезде.
Пошел на базар. У входа толпилось несколько человек. Два-три испуганных перса-полицейских да несколько французских офицеров, наблюдавших за всем с видом спокойного презрительного изумления. Мимо них, сгибаясь, пробегали солдаты, неся в охапках всякую рухлядь и теряя ее. В самом базаре было темно от пыли и стоял крик… гау, гау, гау… как в бане. Мною овладело слепое и тупое бешенство. Я взял доску и с криком побежал по темному туннелю, ударяя встречных. Разбитые ставни магазинов висели на петлях. Люди рылись во внутренностях темных лавок, выкидывая оттуда длинные полосы материй, как кишки. Нищие подхватывали куски и прятали.
Громили башмачников. Инструменты, колодки, куски кожи, разрозненные туфли из желтой кожи валялись на земле.
Несколько персов, сидя на корточках перед своими взламываемыми лавками, голосили высоким безумным голосом, царапая себе лицо. Базар гремел от ударов камнями по дверям, гулким, как барабаны. От пыли, поднятой взломщиками, хотелось кашлять и выплюнуть внутренности. Я гнал перед собою толпу, безумную и слепую, как сам я.
В ковровом ряду было всего больше народу. Один, в кожаной куртке, очень высокий и плотный, взламывал крепкие двери маленьким ломом. Я бросился к нему и ударил его неловко. Он отступил и не побежал от меня, а пустил в меня ломом. Я получил удар в плечо и сразу, автоматически, начал стрелять в него, не целясь, раз за разом не попадая. Этим я нарушил какой-то погромный неписаный закон.
Погромщики были не вооружены винтовками и поэтому считали, что с моей стороны допустимо бить их доской, но недопустимо стрелять.
На выстрел сбежались люди.
Дело было на перекрестке туннелей. Я побежал. Это не доказывает большой храбрости.
И все казалось сном. У меня еще раньше был такой кошмар, будто я бегу по узкому, низкому коридору с выбеленными стенами, переходящими в потолок. Похоже немножко на коридоры Александрийского театра, только раз в пять уже и ниже. Кругом двери и двери. Ровный белый свет, а сзади погоня. Бежишь и прячешься за двери.
Я вспомнил и вновь пережил уже наяву этот кошмар в серых туннелях урмийского базара.
За мною бежали с криком. На повороте с двух сторон стрелами сходящихся туннелей набежали две толпы. Я скинул короткую шубу, которая была надета на мне, и бросил ее назад.
Успел даже вынуть из кармана документы.
Две волны загнулись и встретились у шубы, вцепились в нее, полупозабыв меня.
Я выиграл несколько шагов и бросился в узкий проход. Три-четыре человека побежали за мною.
Я, не глядя, выстрелил назад. Они исчезли. Я выскочил из базара.
Было холодно. Падал снег и таял. Мостовая блестела, мокрый фонарь на кронштейне висел, совсем как в Петербурге.
Базар гудел.
Я обошел базар и опять вернулся к выходу.
Приехали широколицые забайкальцы. Плоскость висков почти не образовала угла с плоскостью лица. Не знаю, где начинали округляться их головы.
Они стояли и спокойно прятали в сумки разбросанные материи, жалкую, грубую персидскую набойку…
Я велел им выйти.
Пришли спешенные кубанцы. Вид спокойных людей в черных шубах, не принимающих участия в погромах, проходящих мимо погромщиков с полунасмешливой, полуснисходительной усмешкой, несколько рассасывал погром.
Персы не сопротивлялись; они знали, что если бы они убили или ранили хоть одного солдата, то погром перешел бы на город.
Пришел отряд айсоров, они услыхали, что меня убили.
Их пустить тоже нельзя, так же как и дашнаков, — нельзя ссорить их с нашими войсками.
Наконец пришли комитетчики. Конечно, без оружия.
Им тоже дали знать, что я убит.
Мы взяли доски и пошли по проходам разгонять людей. Громили уже часа четыре.
Мы бегали по галереям, вытаскивали из лавок солдат, выбрасывали их оттуда пинками. А местами громилы оказывались в большинстве.
Комитет держался чисто демократической программы.
Помню… В воздухе пыль. Гремят выбиваемые двери. Один милый, очень честный и смелый когда-то комитетчик стоит на широком и высоком карнизе, тянущемся вдоль всех лавок, и кричит: «Товарищи, что вы делаете! Разве так борются с капитализмом? С капитализмом нужно бороться организованно!»
А иногда три-четыре человека окружали одного, у которого рубашка раздулась от поднапиханных туда вещей, и лепетали взволнованно: «Брось, брось, куда тебе эта дрянь, брось».
Было странно. Бежит человек с кинжалом в руке и с обезумевшими глазами, поймаешь его, вытрясешь, и у него оказываются: две позолоченные рамочки, два сапога с левой ноги и несколько горстей кишмиша.
Князь Вадбольский однажды, между прочим, верно сказал мне: «Пассивно честных среди солдат — 75 %, но они нейтральны».
Одного такого «нейтрального», бьющегося в истерике, вели два солдата под руки, а он кричит: «Грабят. Позор… Я большевик… Позор… Я вам не верю».
Но большинство пассивных все же относилось к погрому как к озорной игре.
Мы забаррикадировали все входы, кроме одного, и вытеснили всех из базара.
Вечером обходили команды, отбирали награбленное. Настроение у всех озлобленное против нас: «Грабить нельзя. А нас мучить можно?»
Меня солдаты очень жалели. Как же, у человека из-за каких-то персов шуба пропала! Шуба дорога. А человек хороший. Усердно искали шубу.
Приблизительно так были ограблены Ушкуэ, Шерифхане, многие местности, и по два, по три раза.
Дильман грабили позднее, уже при отходе наших войск в Россию, но грабили не проходящие войска, а гарнизон города. Город был разделен на участки, каждая команда громила свой квартал. Для освещения город зажгли.
Город Хой был ограблен войсками, идущими через него в Джульфу при эвакуации из Персии.
Тавриз не грабили. Тавризский базар — мировой; это большой город, в котором товары лежат горами. Он так велик и запутан, что сами торговцы, попав в незнакомую часть, берут проводника из нищих.
Несколько раз погромщики входили в базар, но уже не выходили… Их там растаскивали и, по всей вероятности, расщипывали по кусочкам.
Тавриз не разгромили.
Но судьба курдского города, стоящего на турецкой территории, богатого Соложбулака, который когда-то был значительным торговым центром и лежал на караванной дороге, была печальна. Его разграбили до крыши, то есть дотла, так как глиняные стены никто не грабит, но без крыши они расплываются при дожде и от них остаются только валики. Крышу же сняли и продали.
Я не говорил еще о том, как информировали нас из Петербурга. Посылали нам все время сводку о Демократическом совещании.
Помню, позовут ночью. Идешь узким переулком, входишь через двор, покрытый уже почти обнаженными виноградными лозами, в помещение телеграфа. Одна стена, как вообще в Персии, из стекла (то есть она была из коленкора, ну а мы вставляли стекла без замазки), за окнами темно.
Подходишь к «бодо». Это — аппарат прямого провода с Тифлисом. Сверкая в темноте, кружится грузило регулятора, медленно опускается гиря механизма. Стучит что-то, ползет лента со словами.
Иногда аппарат сбивается, начинает печатать: т-т-т-т-ччччч-ввв…
Из аппарата ползет белой макароной какая-то болтовня. Перебиваешь: «Скажите, что у вас, как большевики?.. Пришлите белье войску, валюту…»
Аппарат тихо теркает: «Тер… тер… тер… Терещенко говорит… демократия…» Белая глиста ползет…
Терещенко полз через аппараты до Октября…
Потом смятение, сообщение о перевороте, о том, что фронт и Рада «стоят на точке зрения Временного правительства»… потом потрясающая телеграмма разгоняемых почтовиков… потом сообщение о взятии Керенским Петрограда… потом… лента из России оборвалась, как та телеграмма, что в романе Уэллса посылал бессмертный изобретатель каварита с Луны.
Мы остались одни…
Армейский комитет вынес о большевиках резкую резолюцию. Со стороны большевиков тогда говорил только один из аркома — заседание было общее, аркома и полковых комитетов, — некий товарищ, кажется Новомыский. Он сказал: «Товарищи, у нас нет ни мануфактуры, ни кожерни, как же воевать?» Это был хороший человек, который впоследствии много помог нам. Но веру в народ, я думаю, он оставил в Персии…
Таск и я повисли в армии комиссарами несуществующего правительства.
Теперь о Таске.
Ефрем Таск был старый партийный работник, меньшевик. Специальностью его в партии являлась установка подпольных типографий.
Такого рода предприятия требуют колоссальной выдержки, и выдержка у Таска была.
Много сидевший по тюрьмам, много раз бегавший, он пронес через всю жизнь одну мысль — он был типичный революционер-профессионал, в лучшем и самом чистом значении этого слова.
Мне — дилетанту — прямо страшно было смотреть на его упорство и преданность идее. Его недостатком являлась вспыльчивость много мученного человека, поэтому для непосредственной работы с массами он был не годен.
Но вся техника съезда, резолюций и весь тот организационный опыт, который лежит за этой техникой, были ему прекрасно известны.
После резкой резолюции, которую вынес армейский комитет, после телеграммы о перемирии, которую мы получили, при том положении, когда войска были русские и правительство Закавказское и солдаты хотели домой, вести дело было безумно тяжело. Проще всего было уехать. В соседней армии комиссара арестовали. Нас не трогали.
Таск собрал съезд, сумел возбудить к нему внимание и привлечь силы. Заседание было публичное, происходило оно в помещении театра.
На съезд уже приехали большевики; их было около трети, из них помню только одну фамилию — Бабуришвили.
Нужно было на чем-то сговориться.
В то время Учредительное собрание не было еще разогнано, мы и сговорились на Учредительном собрании и на признании Закавказского правительства с тем, однако, что мы считаем одной из его задач борьбу с Калединым как представителем русской реакции. Перемирие признали как факт — о нем уже была телеграмма из штаба фронта, но решили ждать конца переговоров. Во всяком случае, механизм армии был сохранен.
К этому времени меня вызвали в Соложбулак.
Мы получили телеграмму, что в Соложбулаке погром; кроме того, произошли беспорядки на почве формирования национальных войск; из одного стрелкового дивизиона вызвали грузин в тыл для формирования какого-то национального полка; оставшиеся русские тоже поехали в тыл. Одновременно из этого же района, но уже с фронта, пришла следующая телеграмма: афанская колонна Грозненского полка решила идти в тыл, о чем нас извещает, чтобы мы приняли соответствующие меры для охраны бросаемого имущества.
Выехал ночью. Промелькнули высокие стены американской миссии, дом русского полковника Штольдера, командира персидских казаков.
Дом Штольдера стоял за городом, окна были освещены изнутри ярким светом спиртовых ламп.
Мы на «тальботе» легко вошли в прекрасную лунную персидскую ночь. Луна висела высоко. Небо, персидское небо, легко возносилось. Это очень воздушное, просторное небо.
У канавы горела подожженная кем-то старая головастая ива, какими обсажены здесь все дороги. Горело драгоценное здесь дерево. Это ведь доброе дело мусульманина — выкопать колодезь и посадить дерево. Кто-то наш, прохожий, поджег.
Огонь выбегал чуть-чуть, тихо облизывая края старых трещин и нарушая покой голубого света и сине-голубых резких теней.
Кругом на десятки десятин в засохшей серой земле лежали лозы. Виноградники тянулись, как у нас поля. Мы ехали, объезжая бродами высокие своды полуразрушенных крутых персидских мостов.
Дорога поднималась. Земля кругом запестрела ребрами мелких камней, черно-белыми под луной обвалами.
Потом тени посерели, подул ветер, встало солнце. Мы опять спустились и поехали берегом Урмийского озера. К утру были в Гейдеробате.
Среди камней стоят юрты, наполовину вкопанные в землю, несколько землянок, длинные двухскатные крыши которых видны местах в десяти.
Серое здание европейско-тропического вида из серого необожженного кирпича. Громадная железная баржа разгружается у мола. На берегу лежат штабелями рельсы узкоколейки, скрепленные железными шпалами.
Отсюда должна была пойти конно-железная дорога на Равандузское ущелье в сторону Мосула. Я думаю, что рельсы пригодились туркам.
Вот и весь Гейдеробат.
Под одним маленьким навесом, совершенно открытым со всех сторон, у костра из сухой травы грелись нищие.
Мы тогда так втерлись в лямку войны, так приносились к своим сапогам, что могли смотреть на этих нищих спокойно, как на стенку, так, как мы смотрели на всю Персию, а сейчас на околевающую Россию.
Было очень холодно. Я во френче, надетом на гимнастерку и свитер, в бурке сверх непромокаемого пальто, — мерз. Курды были почти голы.
У некоторых вся одежда состояла из войлочного плаща странной формы, он был скроен так, что на плечах получались какие-то торчащие вверх, умоляющие культяпки.
Мы привыкли к нищим. Вокруг всех стоянок бродили дети лет пяти, в одной черной тряпочке вроде рубашки; глаза их гноились и были усеяны мухами.
Нагибаясь, они машинальным жестом усталого животного перебирали мусор, ища чего-нибудь съедобного. Ночью они собирались к кухням и грелись. Немногие из них, и преимущественно старшие, были приняты в команды в качестве подручных; прочие умирали тихо и медленно, так, как может умирать безмерно стойкое человеческое существо.
Выехали из Гейдеробата. Ехали то вновь проложенными дорогами, на которых все еще копошились персы и курды под наблюдением наших саперов, ехали и прямо солончаком. В одном месте автомобиль забуксовал, и мы с трудом, подкладывая под колеса сухую траву, выбрались из соленого болота.
По дороге попадались разрушенные деревни.
Я видал много разрушения. Видал сожженные галицийские села и дома, обращенные чуть ли [не] в непрерывную дробь, но вид персидских развалин был нов для меня.
Когда с дома, построенного из глины с соломой, снимают крышу, дом обращается просто в кучу глины.
А дорога все шла, бесконечная, как война, ведь все военные дороги — тупики.
В солончаках встретил табуны лошадей. У нас, как я писал, не хватало фуража; лошадей, выбившихся из сил, нечем было поддерживать. Кормить — не стоило, убить — не хватало жалости; их выгоняли в голую степь на подножный корм. Они медленно умирали. А я ехал мимо.
Кстати, о жалости. Мне описали следующую картину. Стоит казак. Перед ним лежит голый брошенный младенец-курденок. Казак хочет его убить, ударит раз и задумается, ударит второй и задумается.
Ему говорят: «Убей сразу», — а он: «Не могу — жалко».
Приехал в Соложбулак. Город небольшой, в котловине. Когда-то он славился своими шубами, тисненными золотом.
Погром кончился, все было выгромлено.
Пришел в армейский комитет. Собрал полковые. Начал говорить.
Мне раздраженно отвечали, что курды — враги. «Курд — враг» — это поговорка русского солдата в Персии. Тут же спохватываются и говорят, что они не за погром.
Узнал странные вещи. Громили, кроме кубанцев и одной санитарной команды, все… в общем и целом.
У нас в транспортах служили — на правах вольнонаемных, что ли, — молокане со своими троечными упряжками.
Ассоциации такие: молокане, духоборы, белая арапия, мистицизм, еще что-нибудь… Даже вот эти молокане тоже грабили. Грабили артиллеристы.
Командир дивизии во время погрома заперся в своем доме и не выходил.
Да, не пропадут в истории некоторые обычаи персидско-курдских погромов.
Когда начинали грабить, то курды — Соложбулак — курдский город — выходили с женами на крыши, не беря с собой вещей, и оставляли город на волю погромщиков. Этим они избегали насилий. Конечно, не всегда.
Скорбь и стыд пыли погромов легли на мою душу, и «печаль, как войско негров, окровавила мое сердце» (это вторая часть фразы из чьего-то перевода персидского лирика).
Я не хочу плакать одиноко и скажу еще нечто, слишком тяжелое, чтобы скрывать.
В армейском комитете один солдат энергично доказывал, что у голодающего населения ничего нельзя брать.
Нужно сказать, что армия наша, в противоположность некоторым корпусам Кавказской, не голодала; хлеба давали не менее 1½ фунта, баранины избыток. Исключения составляли сторожевые охранения на перевалах.
Этот солдат привез из продовольственной командировки образцы курдского голодного хлеба. Хлеб был сделан из угля и глины с прибавкой очень маленького количества желудей.
Его не хотели слушать.
Можно представить, как ненавидели курды наши реквизиционные отряды, тем более что многие дивизии заготовляли провизию хозяйственным способом, то есть контроля не было.
Один такой отряд курды окружили. У начальника, некоего Иванова, который долго защищался шашкой, оторвали голову и дали ею играть детям.
И дети играли ею три недели.
Так сделало курдское племя. А русское племя послало на курдов карательный отряд и взяло за головы убитых выкуп скотом, разграбило виновные и несколько невиновных деревень.
Мне рассказывали люди, которых я знаю, что когда наши ворвались в деревню, то женщины, спасаясь от насилья, мазали себе калом лицо, грудь и тело, от пояса до колен. Их вытирали тряпками и насиловали.
Я собрал гарнизон на митинг за городом и добивался от него принципиального осуждения погрома, но, по совести говоря, не добился.
Из толпы все время перебивали меня: «Здесь спокон века звери жили, нас привезли — и мы озверели. Зачем мы здесь?»
А я им говорил, что они здесь ненадолго; но кровь, пролитая ими, не пройдет даром и труден будет обратный путь на родину через эту кровь.
А кто виноват? Виноваты те, кто их привел туда, и уже позабытое, но не искупленное преступление войны.
Прошелся по городу. На углу несколько солдат играют, подкидывая пинками ног кошку с привязанной к ее хвосту жестянкой из-под керосина.
Длинная вереница курдов сидит на корточках, ожидая приема у нашего врача. Женщины изредка проходят по городу. Лица у них не закрыты. Проходят рослые и стройные красавцы курды в чалмах, навернутых на остроконечную шапку с черной кистью. Их рубашки подпоясаны широким поясом из длинного-длинного куска материи.
А кругом — разгром, какие-то сальные тряпки, которыми побрезговали громилы, валяются на полу. На улице сидит курденок и поет:
Ночка темная, боюся, Проводи меня, Маруся.При белом свете умирает человек, корчась и извиваясь; его обнаженная спина и лопатки ужасны. Прохожие переступают через него.
Ночью дал Таску паническую телеграмму:
«Осмотрел части Курдистана. Во имя революции и человеколюбия требую отвода войск».
Эта телеграмма не очень понравилась, ведь наивно и забавно требовать отвода войск во имя человеколюбия. А я был прав.
Мы ведь все равно уходили, и пребывание войск в Курдистане было бесполезно. Лучше выводить войска, чем сделать то, что сделали: заставить войска убежать, да еще бросив запасы.
Я не хочу сейчас быть умнее самого себя и скажу просто, что думаю.
Мы напрасно так умны и так дальновидны в политике. Если бы мы вместо того, чтобы пытаться делать историю, пытались просто считать себя ответственными за отдельные события, составляющие эту историю, то, может быть, это вышло бы и не смешно.
Не историю нужно стараться делать, а биографию.
Я выехал из Соложбулака и берегом ручья поехал в Афан.
По дороге увидал все то же: разрушенные деревни и убитых людей; сосчитал восемь трупов.
Я видел много трупов на своем веку, но эти поразили меня своим бытовым видом. Ведь не в войне убили их. Нет, как собак, убили, пробуя винтовку.
Шофер осторожно вел машину, временами восклицая: «Вот, кажется, ишак дохлый; нет, опять человек». Ему было тяжело, у него были шоферные нервы. Шоферы нервны.
Потом увидел еще три трупа, но уже положенные ногами вместе, по-курдскому, кем-то перенятому, обычаю делать из трупов придорожные украшения. На лице одного трупа сидела ощетинившаяся кошка и неумело рвала щеки своим маленьким ртом…
Но вот мы обогнали артиллерию — горную батарею, идущую из Соложбулака на смену. Сильные мулы несли ловко налаженную батарею. Из всех уголков этой укладки торчит курдская утварь и тряпки — добыча соложбулакского погрома.
Так проехал я вдоль батареи, сделав смотр вверенных мне войск.
Приехал в Афан.
Узкая горная щель чуть расширялась. Две юрты, два-три балагана, землянки, речка, стадо рыжих баранов. Голые горы кругом. Там, за горами, курды.
На краю горы наши сторожевые укрепления.
Поговорил с полковым командиром. Это был, насколько я помню, очень уважаемый солдатами человек. Он рассказал мне, что на почве обострения вражды с курдами солдаты, или часть солдат, сожгли, не помню, живыми или мертвыми трех курдов, мирных работников здешнего земского пункта. А теперь поэтому еще более боятся курдов.
Кстати, часть полка голосовала за с. — р., другая часть — за большевиков, не помню точного подсчета голосов.
Пошел к полку, сказал им: «Товарищи, я ехал к вам и видал по дороге восемь трупов. Зачем вы убиваете людей». Мне ответил кто-то: «Плохо считал, их там больше». Я сказал им: «Приказывать я не имею силы, просить не хочу: сообщаю вам — вы, несмотря ни на какие постановления, не уйдете отсюда, пока вам этого не позволят. Дорога далека; если хотите, идите на свой страх без барж, — попробуйте. Общий же отход начнется скоро». И уехал. Они, не знаю, из-за меня или сами по себе, дождались общего бегства.
И я поехал обратно, осматривая по пути части кубанцев. Лошади у них в таком состоянии, что можно было лишь мечтать о том, чтобы повести их на поводу. Им следовало идти в тыл в первую очередь, так как отход кавалерии облегчал нам отход фуража. Приехал в Урмию. Здесь мне сказали, что началась уже демобилизация, по приказанию Пржевальского (начальника штаба фронта) отпустили солдат до тридцати лет.
А между тем, как ни странно, некоторые отпущенные в отпуск все же возвращались, говоря, что в России плохо, очень плохо.
Приехал из Киева от Казачьей рады высокий, как жердь, казак с маленькой головой, стриженной под машинку. Он был комиссаром казачьих войск.
Россия начинала разлагаться на первоначальные множители. Мы казака приняли враждебно. Но он не смущался, ходил сидеть к нам, пил чай вприкуску и что-то обмозговывал по-своему.
Я думаю, что его миссией было ускорить отход кубанцев.
Кубанцы торопились домой. Я помню день отъезда одной части, стоявшей в городе. Пригласили музыкантов, достали кувшин вина и танцевали вприсядку часа два, не переставая.
Потом сели с трудом на лошадей и поехали уже, как трезвые.
На противоположной стороне стояли и смотрели ласково персы.
А впрочем, в дильманском погроме приняли участие и черноморцы.
Уже охрану штаба несли ассирийцы. К этому времени в корпусах Кавказской армии остались одни штабы.
В армейском комитете появились большевики — Бабуришвили, какой-то еще зубной врач и матрос Салтыков.
Флотилия была ненадежная в отношении работы, а она была необходима для отхода.
В ней завелись интриги. Один офицер, Хатчиков, привлек на свою сторону команду, предложив объединить все суда в одну флотилию, то есть присоединить к военным судам суда железной дороги и Земского союза, а потом остаться в Персии и возить частные грузы.
Покамест же он предложил начать возить кишмиш и сухие фрукты с берега на берег одновременно с казенными грузами.
А ведь шла эвакуация, значит, дело сводилось просто к захвату судов.
Конечно, история эта безмерно обогатила бы Хатчикова, так как золото в Персии есть.
В связи с этим намерением Хатчикову удалось добиться избрания себя на должность командира флотилии, хотя в нашей армии выборного начала еще не было.
Мы вели с этой затеей ожесточенную борьбу, назначали свои комиссии; но комитет флотилии заявлял о неподсудности его нашему сухопутному влиянию.
Мы обжаловали дело в Центрокаспий, который и отозвал Салтыкова и Хатчикова.
По сведениям, которые я получил от комиссар-балта Пенкайтиса, Хатчиков впоследствии принимал участие в передаче нашего Каспийского флота англичанам. Таким образом, его торгово-промышленные наклонности нашли свое применение.
А войска уходили. Предполагалось перенести штаб на другой берег озера и уже на линию железной дороги, но этого нельзя было сделать, чтобы не увеличить тяготения войск к отходу в тыл.
В связи с уходом опять обострился вопрос о размене валюты. Уходящие забайкальцы арестовали нового председателя армейского комитета, выбранного на армейском съезде, товарища Татиева, очень честного и набожно верующего в мировую революцию человека.
Они требовали, чтобы им разменяли валюту по курсу 9 шай — рубль. Бросились к губернатору, и он, угрожая купцам палками, добился такого размена. Татиев был освобожден.
* * *
На нашем фронте вопрос о перемирии не был очень остер. С противником соприкосновения мы почти не имели. Зима размела нас и турок с гор в долины. Только кое-где держались сторожевые охранения.
Состояние турецкой армии было плохое, питалась она одной жареной пшеницей и о наступлении не думала. Петроградское правительство уже заключило перемирие с турками.
Необходимо было оформить состояние, о чем мы получили приказ от краевого Совета.
Мы отправили к туркам аэроплан, который сбросил прокламации с предложением начать переговоры. Кроме того, отправили радиотелеграмму. Совещаться, в общем, нужно было больше всего о демаркационной линии.
Турки ответили нам радио на немецком языке с предложением приехать для переговоров в Мосул.
Отправились полковник Эрн, Таск и Салтыков, которого арком готов был отправить куда угодно, только подальше.
Я не любил Салтыкова с его самоуверенностью и щегольством.
Остался с Татиевым управлять армией. У меня было ощущение, которое я знал раньше по французской борьбе. Борешься с человеком во много раз сильнее себя. Еще сжимаешь ему руки, сопротивляешься, но сердце уже сдало. Сопротивляешься, но не дышишь.
А нужно было изображать тормоз.
Татиеву было легче. Получив случайно проскочившую к нам телеграмму, как была принята весть о мирном предложении России в Берлине, уже забытую теперь телеграмму о слезах на улицах с радости, он говорил мне тихим голосом с грузинским акцентом: «Вы увидите, наша революция спасет мир».
Я пишу сейчас в 12 часов ночи 9 августа.
Венгрия пала. Банкомет сгребает со стола нашу ставку.
У меня болит голова, весь день я хочу спать, у меня острое малокровие, если я сейчас быстро встану со стула, голова закружится, и я упаду.
Я могу писать только ночью. Я знаю, что это значит. Это масло сгорело, и к ночи, когда не работают задерживающие центры, горит фитиль…
Жил я так.
Проснешься утром в маленькой белой комнате. Мороз — это выдуло тепло через окно со стеклами, вставленными без замазки. Но солнце светит. Топят маленькую железную печку дровами из тополя, становится тепло, уютно, и пахнет смолой.
Это лучший момент дня.
Встаешь и получаешь кучу телеграмм, все об одном: о развале, требующем немедленного отхода и не дающем уйти.
Уже сбегают отдельные команды в Джульфу и стараются нахрапом проскочить в Россию.
Образуется пробка. Поезда, идущие к нам с провизией, захватываются; груз скидывается; вагоны гонятся обратно.
Сбежала Дильманская рабочая рота.
Проклял рельсы, по которым она поедет, и задержал ее.
Ведем разные переговоры со здешним персидским обществом.
Характерный случай хитроватой простоватости персидского человека:
Когда наши ехали в Мосул для переговоров, то персидский губернатор предлагал вместо этого устроить переговоры в Урмии и довольно нерешительно, но серьезно говорил, что со своей стороны Персия требует Багдада как когда-то ей принадлежащего города. К сожалению, Багдада дать мы ему не могли. Айсоры же были уверены, что Таска в Мосуле или убьют, или отправят в Константинополь заложником.
Пока же мы ждали Таска и ходили к персам в гости.
Однажды позвали меня к здешнему демократу Аршану-Дамаюну. Мы шли дворами долго. Слуга с фонарем, кланяясь, сопровождал нас. Вдоль стен последнего прохода стояли слуги в грубых башмаках и в бедной полувоенной персидской форме и бросали нам под ноги цветы.
Мы вошли в комнаты.
Ослепительный, уже отвычный для нас свет многих ламп с двойными фитилями (в Персии почти не видно горелок типа «луна») резал глаза. На стенах пестрели ковры.
Гости во фраках, с поразительно белым бельем, в маленьких черных персидских шапочках сидели и разговаривали с офицерами французской миссии в тугих серых мундирах из хорошего, чистого сукна.
Висела люстра со свечами, хрустальная люстра, а под ней садовые стеклянные, изнутри посеребренные шары.
Еще не стиранные белые скатерти из коленкора хрустели и показывали свои штемпеля и неснятые этикеты.
Мы, то есть комитетчики — все солдаты — и я, пришли грязные, трепанные, усталые, а главное — виноватые.
Начался обед. За стеклами зурнил громадный туземный оркестр «Тоску по родине».
На столе стоял хороший фарфор и хрусталь. В Персии много хорошего фарфора.
Коньяк Шустова или Сараджева, жидкое кислое молоко и без конца — кушаний.
Говорили речи… Сладко жмурился губернатор, говоря: «Чох, чох якши». Переводчик, армянин-дашнак, милый и почти сумасшедший (гордящийся тем, что он был в той группе, которая когда-то заняла с бомбами Оттоманский банк как залог автономии Армении и была выманена оттуда вместе со своими чемоданчиками и бомбами только обманным поручительством Франции), — переводчик давал вольный перевод речей, вставляя в них аршинами все свои мысли и надежды и захлебываясь от восторга.
Сосед переводил мне программу партии, которая называла себя социал-демократами.
Ее первым пунктом было — «крепостное право не отменяется». Я проверил перевод у одного товарища, оказалось, что это так.
Дальше шли пункты о борьбе с нищенством.
Я встал с поднятой в руке рюмкой. Я, глядя на рукав своего обтрепавшегося френча, начал говорить, прерывая речь длинными паузами, в которых журчал переводчик.
Говорил сперва о том, что нам ничего не надо от Персии, кроме ее счастья, и о том, что мы, вместе со своими погромами, все же больше всех уважаем страну.
В конце рассердился и пожелал Персии социальную революцию.
Музыка зурнила «Тоску по родине».
Другой вечер я провел у Ага-Петроса на званом обеде по случаю присылки Мар-Шимуну ордена Святого Владимира на шею.
Пройти в дом Петроса нужно было через длинные проходы, каждый проход замыкался глиняным зданием, в котором дорога доходила до двери и поворачивалась.
Такой дом не возьмешь внезапно.
На последнем дворе — стадо уток и гусей. Это можно найти в доме почти каждого перса.
Металлическое гаганье птиц сперва часто будило меня ночью.
Сада во дворе Петроса не было.
На верху стены сидел, сжавшись от холода — была ночь, — павлин. Тяжелый, пышный даже при луне хвост резко выделялся на беленой глине.
Приглашены были исключительно ассирийцы.
Слуги в цветных носках ходили без шума.
Ветер парусил коленкор окон.
Приехал Вадбольский. Вообще же он жил затворником и никуда не выходил.
Вадбольский провел церемонию возложения ордена «трепетными руками» с небрежной почтительностью.
По-своему он хорошо знал Восток, и его здесь уважали.
Взволнованный патриарх с румяным лицом блистал глазами, голова его странно седая, седина совершенно серебряная, а ему только 26 лет.
Впоследствии его обманом заманил к себе курд Синко и убил.
В зале стояли винтовки в козлах.
У дружинников отбирали оружие, когда они приходили домой.
Все были озабочены.
Я оттого так много пишу об айсорах, что считал возможным создать из них силу.
Вернее, я не видел других возможностей создать силу.
Кроме того, нужно было спасать людей, связавших свою судьбу с Россией.
Интересно, как создаются легенды.
Петрос или какой-то православный священник-айсор, тот, кажется, который на одном приеме у губернатора все время с манерой странствующего монашка говорил, что не нужно сердиться на айсорских «беднячков», сказал мне:
«Вы знаете, к Вадбольскому приходили наши женщины и сказали ему: „Наших мужей мы вам отдаем; но велите убить нас, только не оставляйте на убой персам“».
Конечно, к Вадбольскому никто с такими словами не приходил; но их все думали и слышали сказанными.
Армяне и айсоры предлагали нам следующее. Они просили, чтобы мы оставили два полка в качестве ядра, вокруг которого можно было бы формировать национальные дружины. Взять два полка было неоткуда.
А оружие и инструкторов дать было можно.
Оружия у нас были запасы, инструкторами оставались многие офицеры и унтер-офицеры, не ждущие от России для себя ничего хорошего.
Я был сторонником поспешного, панически поспешного формирования.
Русские войска оружие отдавали очень неохотно, но я знал способ.
Нужно было только давать отпуск всей команде, например команде ружейного парка, она уезжала, и оружие можно было брать.
Кстати, об оружии. Среди солдат твердо сложилось убеждение, что есть приказ уходить с ружьями. Говорили, что в Россию не пропускают солдат без винтовок.
Краевой же Совет на мои повторные запросы о разрешении отпускать солдат с оружием отвечал приказанием разоружить демобилизованных. А как их разоружить?
Я предлагал, считаясь с тем, что винтовки все равно будут увезены, разрешить этот увоз, но вписать каждому солдату в его документы, что при нем находится винтовка номер такой-то и столько-то патронов, которые он обязан зарегистрировать в своем волостном Совете.
Это я хотел сделать для того, чтобы ослабить продажу винтовок.
Винтовка, да еще русская, на Востоке — драгоценность. Вначале за винтовку давали 2000–3000 руб., за патрон на базаре платили 3 руб., на станции Камерлю за такой же патрон давали бутылку коньяка.
Для сравнения с этими ценами привожу цену на женщин, увезенных из Персии и с Кавказа нашими солдатами.
Женщина в Феодосии, например, стоила при покупке ее навсегда 15 руб. употребленная и 40 руб. неупотребленная.
Так уже как не продать винтовку!
Пушки продавали. Но кого, впрочем, сейчас этим удивишь?
Мне регистрировать увоз винтовок не дали, а велели ему противиться.
Во всяком случае, оружие для национальных дружин достать было можно.
Армянские части формировал товарищ Степаньянц, бывший председатель армейского комитета, а потом офицер для поручений при комиссаре.
Степаньянц при знакомстве с ним производил впечатление не очень развитого человека.
Родился он в России и, казалось, был мало связан с здешними армянами.
Но он вырос у меня на глазах, как только дело дошло до защиты своего народа. Я удивлялся, глядя на его решительность и авторитетность.
У армян есть то, что можно встретить, пожалуй, еще только у евреев, — национальная дисциплина.
Дашнаки располагались в доме Манусарьянца, как в своем собственном.
Хозяин держал повод коня Степаньянца.
Когда нужно было собрать армян-дезертиров, было вывешено следующее объявление: «Вам, дезертирам-армянам, приказываем явиться к такому-то числу; неявившиеся будут убиты к такому-то числу».
И конечно, ближайшие родственники убили бы неявившихся.
Из-за формирования происходили трения между Мар-Шимуном и Петросом.
Но в результате они примирились на том, что Петрос стал начальником штаба Мар-Шимуна.
Петрос волновался. «Это не война, стоять Урмия, когда Гердык нет!» А из Гердыка уже ушли войска. Он послал в Гердык десяток своих людей.
Люди уходили, запасы бросались, бросалось оружие, сахар — громадное количество сахара.
Мы возвращали Курдистану все награбленное.
Я хотел подарить наши склады из тех, которые нельзя было вывезти, формируемым войскам.
Они вывезли бы их как-нибудь. И имущество все же осталось бы в руках наших друзей.
Кстати, из-за формирования я в конце концов разошелся с вернувшимся Таском.
Он говорил, что формирование, да еще производимое так поспешно, приведет к авантюрам в стиле принца Вид. Я очень огорчился, так как не видел других путей.
Таск имел ориентацию на Россию, на отвод нашей армии, по возможности целой, домой. Моя ориентация была местная.
Если бы при мне был хоть один близкий человек, если бы я не стремился к тому же обратно к библиотекам, я никуда бы не поехал и стал бы отсиживаться на Востоке.
А на Востоке была еще черта, которая меня с ним примиряла: здесь не было антисемитизма.
В армии уже говорили, что Шкловский — жид, как об этом сообщил мне, с видом товарища по профессии, офицер из евреев, только что выпущенный из военного училища, с которым я встретился у казначея.
А в Персии евреи не под ударом, впрочем, так же, как и в Турции.
Говорят они здесь, кажется, на языке, происшедшем из арамейского, в то время как евреи русского Кавказа говорят на каком-то татарском наречии.
Когда англичане взяли Иерусалим, ко мне пришла депутация от ассирийцев, принесла 10 фунтов сахару и орамарского кишмиша и сказала так.
Да, еще два слова прежде. На столе стоял чай, потому что пришедших гостей нужно как-нибудь угостить.
«Наш народ и твой народ будут снова жить вместе, рядом. Правда, мы разрушили храм Соломона тогда-то, но после мы же восстановили его».
Так они говорили, считая себя потомками ассирийцев, а меня евреем.
В сущности говоря, они ошибались — я не совсем еврей, а они не потомки ассирийцев.
По крови они евреи-арамейцы.
Но в разговоре было характерно ощущение непрерывности традиции — отличительная черта здешних народов.
В городе было неспокойно. Пьяные солдаты ходили, стреляли ночью в воздух, носили в крови зародыши погромов.
Раз ко мне ночью просто на свет вбежал перс, за которым гнались два солдата с винтовками, — они были пьяны.
Мне пришлось самому взять револьвер и проводить перса до дома.
Бывали странные истории. Однажды утром пришли к нам — Таск был еще на переговорах в Мосуле — босые, очень грязно одетые люди — из них двое или трое с винтовками.
«Вы кто?» — «Мы арестованные с гауптвахты». — «Да кто же вас пустил?» — «Пришли сами». А часовые говорят: «Арестованные решили идти к вам, как же нам их держать». Среди арестованных были осужденные на каторжные работы.
Жаловаться им было на что. В гауптвахте было грязно, грязно так, что арестованные зимою разбивали стекла в окнах, а без стекол было холодно. Бани и белья не было. Держали без допроса очень долго, месяцами.
На другой день пришли проверять список арестованных. Оказывается, арестовывал кто хотел: и следователь, и контрразведка, и начальники частей, и комендант, и армейский комитет.
И, пожалуй, можно сказать, что людей, арестовав, забывали. Не по жестокости, а по беспорядку и небережливому отношению к людям.
Отдельно сидели курды. Держали их в подвале. Звался он Курдский подвал. Это была полутемная и серая комната с тяжелым запахом. В ней сидели курды, главным образом по обвинению в шпионстве.
У некоторых курдов были дети, очевидно, им некуда было их девать, и они сидели вместе с отцами в яме.
Больше всего меня удивляло, почему арестованные не разошлись.
Я наверно знаю, что конвойным не пришло бы в голову стрелять.
А они не расходились. Очевидно, остались еще какие-то правовые эмоции.
* * *
Результаты выборов в Учредительное собрание по Персидской армии были приблизительно такие. Две трети голосов получил список с. — р., треть — большевики; меньшевики же и кадеты получили по нескольку десятков.
Ничтожное количество голосов, полученное кадетами, объяснялось тем, что в небольших командах, в одну-две сотни человек, все знают друг друга, и если бы офицер проголосовал за кадетов, то можно было бы с точностью сказать, что офицеры — кадеты, а это по тем временам было небезопасно.
* * *
Вот, я описываю все бедность и бедность. И устал от нее.
Неужели не было тогда в нашей армии среди сотен тысяч человек ничего хорошего, светлого?
Было. Но положение нашей армии, отсутствие в ней всякой иллюзии, самозащиты, глубокий упадок духа, всеобщий саботаж как средство кончить войну — все это выделяло не лучшую, а худшую сторону людей.
Виноват, конечно, не русский народ, или народ виноват не в первую голову.
Я думаю, что каждая армия, поставленная в такие условия и в такой момент, вела бы себя так же.
Мы назначили особых комиссаров пристаней. Людей, наблюдающих за посадкой. Люди эти не разбегались, хотя им было и очень тяжело.
Неплохо работала санитарная часть.
Во всех частях были люди, которые делали какое-то дело, которое они считали общим.
Но армия, не поддерживаемая инстинктом самосохранения народа, болела, а больные редко выявляют лучшее, что в них есть.
Что можно отметить, так это хорошее отношение солдат друг к другу — друг для друга они не были волками.
Но самое главное, что люди хоть и плохо, но ждали очередей, терпели, фактически не сдерживаемые уже ничем.
Было еще терпение в дороге, большое, все переносящее во имя слова «домой».
Но я отвлекся.
Я велел уничтожить все вино в городе. Формальное право, которое меня очень мало интересовало, я имел потому, что в прошлом году нашими властями было запрещено выделывать вино…
Вино уничтожала особая комиссия из персов и наших комитетчиков.
Когда уничтожали вино в главном винном гнезде, у некоего Джапаридзе, то вода в канаве была розовая, и громадная толпа сосредоточенно смотрела на алую струю, бегущую из-под стены большого серого безобразного дома.
При уничтожении вина не обошлось без недоразумений.
Здесь слишком пахло вином и деньгами.
Пьянство сократилось, но не уничтожилось. Вино подвозили с левого берега озера.
Между тем голод в стране усиливался.
Уже заурядным стало видеть на улице умирающих.
Люди дрались из-за отбросов, выкидываемых из штабной кухни.
К обеду на нашем дворе собирались голодные дети.
Раз утром я встал и отворил дверь на улицу, что-то мягкое отвалилось в сторону. Я посмотрел, нагнувшись… Мне положили у двери мертвого младенца.
Я думаю, что это была жалоба.
К консулу приходили женщины депутацией чего-то просить. Но что он мог сделать, он, консул неизвестно какого государства, чуть ли не страны голубых антилоп.
Приговоренный смотреть, я смотрел, как персы подавали милостыню своим нищим: две изюминки или одну миндалинку.
Больше делала американская миссия — фактически только она и кормила население.
Часто к доктору Шеду, седому старику, главе миссии, приходили караваны верблюдов с серебром.
Я не знаю, насколько виновны были в голоде мы, русские.
По всей вероятности, мы были виновны тем, что войной создали беженство и помешали возделыванию полей как выселением жителей, так и, это главное, спутав систему орошения.
Все поля здесь дают урожай только при искусственном орошении.
Поле делят маленькими валиками на куски и затопляют по частям.
В пользовании водой соблюдается строгая очередь, установленная и строго разработанная местными обычаями.
Наши войска под влиянием отдельных землевладельцев, действующих в своих интересах, а иногда и сами, думая установить справедливость, вмешивались в это распределение.
Некоторая часть полей в результате осталась без воды.
Кроме того, год был, кажется, вообще неурожайным.
Мы же, со своей стороны, реквизировали ячмень — пшеницу мы ввозили из России — и ничего не сделали для снабжения населения.
Англичане поступили бы иначе, они достали бы хлеб и накормили голодных.
Впрочем, персы находили, что мы лучше англичан.
«Вы грабите, англичане — сосут».
К этому времени начали появляться на территории нашей армии некоторые места, не признающие нашего армейского Совета, а также и моей власти, происхождение которой мне самому было неясно.
Отделился Тавриз и пытался созвать свой армейский съезд. Потом отделился Хой и объявил о своем автономном существовании, но скоро передумал.
По крайней мере, я получил оттуда телеграмму о погромах.
Отход предполагалось вести так: часть войск должна была идти пешком на Джульфу, а часть из Соложбулака, например, по правому берегу озера, считая от Урмии на Тавриз. Прежде вышедшие части должны были останавливаться на условленных местах и охранять дорогу, пропуская задних.
Таким образом предполагалось охранять всю дорогу до Петровска что ли.
Такое движение называется «идти перекатами».
Конечно, ничего не вышло.
Уже первые отправленные полки стремились уйти как можно дальше от Персии.
Очень многие хотели идти в Ставропольскую губернию.
Сравнительно благополучно прошла одна дивизия — я забыл ее номер. Она шла походным порядком, имея вагоны посередине, и прошла, не потеряв ни одного человека.
Одиночные люди, уезжающие по приказам о демобилизации всех до 30-летнего возраста, конечно, стремились уехать как можно дальше. И угоняли у нас вагоны. Вагоны же у нас были со специальными тормозами, а их угоняли под Ростов.
На ветке Шерифхане — Сафьян осталось только четыре вагона.
А на Джульфу двигались еще части четвертого, кажется, корпуса Кавказской армии.
Захватывались вагоны, идущие к нам с провиантом.
Штаб еще работал, но неуверенно. Да и во что было верить?
В Урмию неожиданно для нас приехала жена Степаньянца с ребенком. Привезла с собой газеты. Это была русская, очень типичная курсистка. Она принесла с собой атмосферу довольно обывательского оптимистического большевизма. Но выходило у нее все как-то не очень убедительно.
Я не видел главного: революционного подъема; может быть, ошибался, может быть, ошибаюсь сейчас; я все время видел спад, понижение энергии.
Не в гору — под гору шла революция.
А как сформировался этот спад, то было почти безразлично.
Но, если бы нас спросили тогда: «За кого вы, за Каледина, Корнилова или за большевиков?» — мы с Таском выбрали бы большевиков.
Впрочем, в одной комедии арлекин на вопрос: «Предпочитаешь ли ты быть повешенным или четвертованным?» — ответил: «Я предпочитаю суп».
Таск все не ехал. Раз мы получили радио от Эрна, где приводились турецкие условия перемирия. Эрн спрашивал санкцию Вадбольского. Ему ответили — подписывайте!
Приехал Таск. Приехал, кажется, верхом. Распад армии сказался на автомобилях: ему не выслали машины.
От Шейхин-Герусин, куда его проводили турки, он шел пешком мимо телеграфной линии, столбы которой были спилены на дрова, и только четыре ряда проволоки тянулись в пыли.
Турки видали, что мы никого не послали за своими. Мы уже и не представлялись, что мы армия.
Передаю отрывки рассказа Таска.
Пережить мирные переговоры, говоря от лица бессильного, — тяжелое дело.
Когда они ехали к туркам, то те их встретили на перевале.
Туркам мир — счастье. Они целовали наших и смеялись от радости.
Турецкие солдаты, оборванные и худые, смотрели на них улыбаясь…
Ехали знаменитым Равандузским ущельем, предполагаемым путем нашего наступления на Мосул.
Это глубокое и равнокраее ущелье. В одном месте, с самого края стены гор, падает полотно водопада. Вода, разбиваясь о камни, гейзером летит вверх, облаками пены.
По дороге заезжали в Ардебиль, круглый город с высокой стеной. В городе одна улица — площадь посередине.
Выехали в Месопотамию. Стали встречаться табуны лошадей, тощих и со сбитыми спинами. Автомобилю приходилось лавировать между конскими трупами.
Въехали в Мосул. Немцы, тогдашние хозяева и наших, и турок, встретили парламентеров сухо и тут же предложили подписать договор о перемирии, содержащий, в числе прочих условий, немедленное очищение Персии.
Конечно, мы должны были очистить Персию и знали, что уйдем из нее, но не хотели сделать это по немецкому приказанию.
Я, к сожалению, не помню всех немецких условий.
Кое-что можно было бы восстановить по тифлисским газетам; архив нашего штаба, я думаю, пропал.
Все подробности можно узнать по немецким газетам или у Ефрема Таска.
Представителем турок, и очень любезным представителем, был Халил-паша.
Слава Халил-паши на Востоке — громкая. Это тот самый Халил-паша, который при отходе от Эрзерума закопал четыреста армянских младенцев в землю.
Я думаю, что это по-турецки значит «хлопнуть дверью».
И с этим человеком, очень милым по внешности, нужно было вести переговоры.
Турки радовались миру. Халил-паша с горечью говорил о том, что им приходилось воевать уже десять лет.
Между прочим, Таск был у него на приеме.
Доктор из евреев сидел на полу и, играя на чем-то вроде цитры, пел.
Халил-паша в самых патетических местах подпевал, щелкая пальцами, и подносил певцу рюмки водки.
Тот целовал руку господина.
Халил-паша с восторгом говорил об аннулировании долгов: «Это очень хорошо, это мне нравится; мы тоже не хотим платить».
В городе были русские пленные, запуганные и тянущиеся при виде немецкого солдата.
Наши пробовали говорить с ними. Одни из пленных были настроены монархически, другие — робко-республикански…
Когда парламентеры возвращались домой, то женщины, увезенные из Армении, прорвались к ним, схватили их лошадей за ноги и хвосты и кричали: «Возьмите нас с собой, убейте нас». А те молча уезжали…
Нашим пришлось испытать Брест до Бреста.
Я сказал Таску, что я уезжаю. Он не спорил.
Айсоры очень горевали, мне было самому тяжело уезжать, но мне казалось возможным сделать что-то в Питере, а остаться нужно было навсегда, так как с армией идти я не хотел. Уже был близок конец. И был конец декабря.
* * *
В тысяча семьсот котором-то году, кажется при Екатерине I, — для них это не важно, — пестрые крысы из среднеазиатских степей, собравшись в стаи, толпы, тучи, переселились в Европу.
Они шли плотной, ровной массой. Хищные птицы, собравшись со всего света, летали над ними; тысячи погибли, погибли миллионы — сотни миллионов шли вперед.
Они дошли до Волги, бросились и переплыли. Река сносила их, вся Волга до Астрахани пестрела трупами; но они переплыли ее и вступили в Европу.
Они заняли все, рассеиваясь и становясь невидимыми.
Я вместе с небольшой стайкой сел на барку в Геленжике.
Усталый солдат, комендант, узнал меня и начал рассказывать про то, как только что прошел полк.
Солдаты, заняв места на барже, хотели выбрасывать за борт ящики с патронами, говоря, что они им мешают и все равно не нужны. Их с трудом уговорили.
Железная баржа наполнилась. Люди лежали, почти молчали, ждали катера.
Пришел катер, зацепили нас и потащили.
Я сидел на палубе.
Геленжик уходил. Мотор стучал.
Зажгли фонарь, его отражение колебалось в воде.
Приехали в Шерифхане. Здесь уже собирались в одну кучу люди, едущие в Россию, со всех пристаней озера.
На путях стояло четыре вагона, набитых так, что рессоры прогнулись и повисли.
Влез не глядя. Вагон был классный, но ободранный.
До отхода поезда было еще неопределенно далеко.
Со мной заговорили. Ехали солдаты разведывательной команды одного полка. Я знал этих людей, они славились своей смелостью в поиске баранов.
Состояла эта команда из амнистированных уголовных; я знал, как они из огня вынесли своего тяжелораненого товарища.
Мы тихо говорили о курдах, и в последний раз я слыхал слова: курд — враг.
Рассветало. На крыше вагона возились тяжелые голуби, это влезали на нее все новые и новые пассажиры.
Стало светло. Слышен был голос заведующего посадкой: «Товарищи, вы едете на верную смерть, нельзя так перегружать вагона; слезьте, товарищи!»
Мы глухи, как мордва.
Наконец подали паровоз, и нас потащили.
Ехали до Сафьяна, покорно теснясь и терпя.
На Сафьяне была пересадка. Еще работал питательный пункт Земского союза.
Составили поезд из багажных платформ. Тормозные вагоны были давно угнаны.
Мы тронулись, и вагоны застучали все громче и громче, напирая друг на друга, все разгоняясь, толкаясь, как будто стараясь перескочить друг через друга.
Все сидели, повернувшись к своим мешкам.
Быстро мелькающие верстовые столбы рифмовали дорогу. Паровоз растерянно свистел.
На этом спуске, ужасном спуске в Джульфу, крушения были очень часты. Когда один поезд выскочил из закругления, то взгромоздившиеся друг на друга вагоны образовали гору в десять саженей высоты.
Дошли до Джульфы.
Здесь сливалась волна, идущая из 4-го корпуса, с нашей волной. Туча людей ждала поезда.
Поезд пришел. Мы не рвали друг друга зубами, нет. Мы брикетами спрессовывались в вагоны.
Нервное возбуждение, сопровождающее все такие переселения, делало всех выносливыми.
Под Александрополем не то туннель, не то проволока срезала ехавших на крыше.
Здесь сливалась наша волна с идущими из Саракамыша.
Немного может сказать крыса, прошедшая даже через всю Азию. Она не знает даже, та ли она самая крыса, которая вышла из дому.
В Александрополе многие солдаты садились в порожние вагоны, идущие в Саракамыш или Эрзерум, чтобы, сделав в них путь до фронта, потом ехать в Россию.
Вокзал был цел. Железные линии рельсов гипнотизировали, вокзал уже был вне внимания.
Встретил солдат, которые меня знали, с ними попал в поезд.
Доехал до Тифлиса или, вернее, до Нафтлуга (передаточный пункт). В Тифлис нас не пускали, боясь погрома.
Пешком пошел в город.
Тифлис переживал лихорадочные дни. Быстро обнажались границы, и сейчас он был город безоградный.
Нашествие турок становилось фактом завтрашнего дня, опасность от наших войск была фактом сегодняшнего.
Люди метались.
С одной стороны, специальные медицинские комиссии освобождали поголовно всех русских солдат гарнизона; с другой стороны, газеты, которые, конечно, до фронта и не доходили, просили солдат дождаться на фронте прихода национальных войск.
А фронт обнажался, обнажался от солдат, как Таврический сад от листьев в осенний ветреный день.
Национализм — армянский, грузинский, мусульманский и даже случайный здесь украинский — цвел пышными цветами ярких шапок и штанов на всех улицах, а в газетах — шовинистическими строками.
Не видно было только национализма великорусского, он проявился в форме озлобленного саботажа.
Помню русскую кухарку на улице; она смотрела на какие-то войска, или, вернее, отряд в пестрой форме, идущий по улице, и говорила:
«Что, посидели за русской шеей, теперь попробуйте сами».
Образование Закавказского правительства, как я это видал уже на фронте, очень усилило тягу солдат домой, дав ей новый мотив.
А образовано было правительство не от радости, а с отчаяния.
В обращении с большевиками местные люди старались перенять приемы большевиков.
Когда на фронтовом съезде оказалось, что большевики имеют свыше половины голосов, то съезд раскололся, а меньшая половина была признана национальными властями правомочной.
Но, конечно, фронтовой съезд армии, пробегающей мимо, не был авторитетен.
С организацией национальных войск дело обстояло так.
Офицерством город был переполнен.
Даже в Киеве, при Скоропадском, я не видел такого количества серебряных погон.
Солдатские же кадры создавались с трудом. Особенно туго шло дело у грузин.
Из грузинских войск вполне боеспособны были только части Красной гвардии, организуемой из партийных меньшевистских кадров.
Во всяком случае, и армянские войска — правда, наспех собранные дружины — поразительно быстро потеряли Эрзерумскую крепость.
Дело осложнилось тем, что между армянами и грузинами существовало много спорных вопросов.
Территориальное их разграничивание было почти невозможно.
В это же время образовались опасные для всех мусульманские части из превосходного в боевом отношении материала.
На них косились, но сделать ничего не могли.
Кавказ самоопределялся.
Спектакль «Россия» кончался, всякий торопился получить свою шапку и платье.
Военно-Грузинская дорога была занята ингушами и осетинами, которые ловили автомобили, составляя из них коллекцию.
Черкесы спустились с гор и напали на терских казаков, уже лет сто или больше сидевших на их земле.
Грозный был осажден.
С гор Дербента спускались люди на Петровск.
Татары посматривали на Бакинскую железную дорогу, пока еще охраняемую регулярными мусульманскими частями.
В Елизаветполе и других местах, где было можно, татары резали армян. Армяне резали татар.
Кто-то резал русских переселенцев в Муганской степи.
Русский центр в Тифлисе, маленький захудалый центрик, хотел послать в Мугань вагоны с оружием.
Но украинцы, которые имели в Тифлисе свой отряд, заявили, что 75 % поселенцев Мугани — украинцы и что посылка им оружия со стороны русских есть факт насильнической обрусительной политики, и задержали вагоны, арестовав их.
Муганские переселенцы были вырезаны беспрепятственно, так что теперь нельзя установить их национальности, даже путем плебисцита.
Отношение к русским проезжающим эшелонам было такое. Сперва их не трогали.
Мусульмане иногда останавливали поезда и требовали выдачи армян. На этой почве иногда происходили бои.
Потом слухи из Персии, с одной стороны, стрельба наших из вагонов и наша очевидная слабость раздразнили аппетиты, и начали уже устраивать крушения и русским эшелонам. Но сперва я докончу о том, как ушли наши войска из Персии.
В декабре или в конце ноября я был в Киеве, в гетманских войсках, что кончилось угоном мною броневика и грузовика с пулеметом в Красную армию. Но об этом и о странных перестрелках на Крещатике, и о другом многом странном когда-нибудь после.
Одним словом, здесь, в Киеве, я нашел Таска. Лежал он в нетопленой квартире и еле говорил: у него была чрезвычайно сильная ангина.
Петлюровцев и гетманцев он ненавидел одинаково сильно. Странно было видеть такого энергичного человека не в деле.
Вот что он мне рассказал.
Штаб перевели на линию железной дороги.
В то время когда наши войска отходили из Урмии, персидские казаки напали на нас. В бою приняла участие часть жителей. С нашей стороны дрались айсоры. Ага-Петрос поставил пушки на Еврейской горе и уничтожил часть города. Персидские казаки были вырезаны, причем погиб Штольдер — их командир — и его дочь; зять Штольдера застрелился.
В горах наши войска, уже демократизированные, с выборным началом и с полками, обратившимися в комки, были окружены курдами. Около Волчьих ворот горели вагоны. При свете их было видно, как нападающие, отняв от какого-нибудь нашего убитого солдата винтовку, дрались из-за нее между собой.
Когда взошло солнце, то вся местность вокруг оказалась покрытой трупами.
Нечем было топить костры, жгли белье и ковры, поливая их нефтью.
Несколько слов о белье. Мы просили в свое время, чуть ли не со слезами, у корпусного интенданта достать белье для армии. Нужда была очень острая. Нам отвечали — нет. Все вышло.
А потом, когда добрались до складов, белье оказалось. Спрашивали: что это? «Это неприкосновенный запас».
Это был неприкосновенный запас косности.
Его и жгли.
Мука и масло были. Срывали железо с крыш домов, пекли на этих листах блины.
Не было вагонов — сбросили с платформ цистерны.
Не было паровозов. Таск сам поехал за ними в Александрополь, взяв две роты солдат. Там дали что-то 8 или 10 штук.
Нужно было ехать обратно. Солдаты говорят: «Не хотим». — «Как не хотите, ведь товарищи ждут». — «Не хотим». Машинисты сказали, что они попытаются поехать и без охраны.
Паровозы засвистели, солдаты стояли мрачным строем. Паровозы тронулись, вдруг кто-то закричал: «Садись» — и сразу, во много голосов: «Садись!.. Садись!» — и вся толпа бросилась в медленно тронувшиеся локомотивы.
Паровозы были доставлены.
К этому времени произошло новое несчастье. Было сброшено в Аракс несколько вагонов с динамитом, а потом кто-то бросил туда же бомбу, желая глушить рыбу. Произошел страшный взрыв.
Взрыв уничтожил несколько сот человек, и то случайно так мало: высокие крутые берега реки отразили главный удар.
Через несколько дней Таск поехал на разведку пути в вагоне, прицепленном к паровозу.
Курды устроили крушение. Крушения они устраивали очень часто, несмотря на то что из соседних деревень были взяты заложники.
Купе Таска было раздавлено, а сам он контужен. Скоро он пришел в себя и был принесен на станцию, но оказалось, что он потерял возможность говорить.
Войска пошли без него.
Ехать под знаком Красного Креста он не решился, а нанял проводника, чтобы тот обвел его кругом через Горную Армению.
В горах уже ждали нападения курдов. Армяне под начальством унтер-офицеров, вернувшихся с фронта, держали правильное сторожевое охранение. Наших приняли очень недоверчиво и под конвоем провели в село.
Село состояло из саклей, полувкопанных в стену горы. Наших устроили ночевать в одной из этих саклей. Тут же грелись ягнята; в углу рожала женщина.
После ряда мытарств, пройдя около 300 верст горами, наши вышли опять на линию железной дороги, сделав, считая по воздушной линии, меньше 30 верст.
Здесь они были переняты татарами, но предводитель отряда, учитель, пропустил их вперед, и они вышли снова в армянское расположение.
Так проходил и так кончился русский «Анабазис», или, вернее, «Катабазис», отход нескольких десятков тысяч, идущих так же, как и товарищи Ксенофонта, по путям Курдистана, и к тому же идущих тоже с выборным начальством.
Произошли ли курды от кардухов Ксенофонта или нет, их нравы остались прежними.
Но дух пробивающихся на родину воинов изменяется. Может быть, все объясняется тем, что воины Ксенофонта были воины профессиональные, а наши — воины по несчастию.
Еще один рассказ, совсем небольшой.
Недели три тому назад я встретил в вагоне поезда, идущего из Петрограда в Москву, одного солдата персидской армии.
Он рассказал мне еще подробность про взрыв.
После взрыва солдаты, окруженные врагами, ждущие подвижного состава, занялись тем, что собирали и составляли из кусков разорванные тела товарищей.
Собирали долго.
Конечно, части тела у многих перемешали. Один офицер подошел к длинному ряду положенных трупов.
Крайний покойник был собран из оставшихся частей.
Это было туловище крупного человека. К нему была приставлена маленькая голова, и на груди лежали маленькие, неровные руки, обе левые.
Офицер смотрел довольно долго, потом сел на землю и стал хохотать… хохотать… хохотать…
В Тифлисе — я возвращаюсь к своему пути — было сделано одно преступление.
Послали броневой поезд куда-то разоружать солдат и убили пулеметным огнем несколько тысяч.
Броневой поезд ездил вообще по линии, как-то самоопределившись, и его обвиняли во многих убийствах.
Я всунулся в вагон и поехал на Баку.
Вся станция разнесена буквально вдребезги.
Били ее, очевидно, ожесточенно и долго.
Воды на станции не было.
Следы крушения попадались довольно часто.
Я вспоминаю сейчас другую дорогу: караванный путь через Кущинский перевал на Дильман.
Этот путь шел через земли курдского хана Синко…
Туда я ехал ночью на автомобиле. Дорога была усеяна с обеих сторон костями.
Два-три скелета еще имеют несколько кусков кровавого мяса.
Глаза волков блестели при свете фонарей совсем низко над землей. По три пары рядом. Одна пара повыше, другая ниже. Волки были довольны.
Обратно у меня сломался автомобиль под Дильманом, у той скалы, на которой есть барельеф, изображающий каких-то всадников, очевидно эпохи Селевкидов.
Я из упрямства пошел пешком. Было уже лунно. Караваны по ночам там не ходили, боясь грабежей.
Я прошел всю дорогу, слушая речку, то поднимаясь над ней, то идя по воде.
Шел, вспоминая рисунки детских книг, изображающих путь каравана.
И в самом деле, только лошадиными и верблюжьими костями отмечены эти пути.
Так же был отмечен путь наших эшелонов.
Перевернутые вагоны как-то правильно размеряли путь.
Едущие офицеры были уже без погон.
От Баку я поехал на крыше. Было холодно и неспокойно, хотя я и был привязан к отдушине.
Под станцией Хосав-Юрт нам сказали, что все водокачки уничтожены.
Мы наливали воду в паровоз котелками.
Начальник станции — усталый, затерянный в степи, ошеломленный всем этим потоком самих по себе идущих людей.
Он нам сказал: «Только что прошел в сторону Червонной (может, ошибаюсь в названии) поезд. Если хотите ехать, поезжайте; но я не советую».
Мы, конечно, поехали. Мне удалось попасть в вагон. Проехали верст двадцать. За окнами — снежная буря. В вагонах темно.
Вдруг удар.
Сундучки, сумки, все летит; но не на пол — весь пол покрыт мозаикой из людей, — а на головы.
Поезд остановился.
Почти все в вагоне сидят спокойно, боясь потерять свое место.
Я вылез из вагона, спрашиваю: «Что?» Говорят — крушение.
Оказалось, что впереди нас шел другой поезд.
У него чего-то не хватало, кажется дров. Машинист оставил состав и поехал на станцию.
Кондуктор забыл выставить фонарь.
Мы врезались в задние вагоны.
Перед нашим паровозом лежала какая-то куча досок и торчащих колес.
Слышно было лошадиное жалобное ржание, кто-то стонал.
Все бросились к локомотиву: «Цел ли паровоз?»
Из паровоза шел пар, он сипел.
Вторая мысль — очистить путь и ехать, ехать.
Разбитыми лежало перед нами штук пять двухосных вагонов.
Громадный, американский, с железным остовом товарный вагон не был разбит, а только стоял дыбом. Из него был виден свет.
Спрашиваем: «Живы?» — «Все живы, только одному голову размозжило».
Нужно расчищать путь.
А все люди, отдельные люди, — кому командовать?
Стоим, смотрим.
Выручил кондуктор. Начал приказывать.
Достали у казаков, едущих на переднем поезде, веревок и начали валить вагоны в стороны. Очищая путь, берегли только один путь из двух — путь домой.
Работали немногие, но усиленно. Станы колес одергивались одним рывком.
Раскачав, повалили набок стоящий дыбом вагон. Из-под обломков вынули раненых.
В это время к переднему поезду подошел паровоз, и он тронулся.
Попробовали наш. Он запищал, но тронулся.
Свисток. Идем по вагонам. В темноте сидят неподвижные люди. «Едем?» — «Едем».
К утру были у станции Червонная.
Это уже начинались казачьи станицы.
На платформе виден белый хлеб.
Кругом кудрявыми деревьями стоят кверху распущенные столбы дыма.
Горят аулы, станицы горят.
Седые казаки с берданками за плечами ходят по вагонам и просят патронов и винтовок.
Молодые еще не приехали, станицы почти безоружны.
Правда, недавно казаки разграбили какой-то аул и пригнали оттуда скот, но сейчас их ограбили.
Вызывают охотников остаться на защите. Предлагают двадцать пять рублей суточных.
Два-три человека остаются.
Когда несколько дней перед нами ехала горная артиллерия, в это время как раз нажимали чеченцы.
Население на коленях просило батарею задержаться и отогнать огнем неприятеля. Но она торопилась.
И мы проехали мимо. Оружия не было почти ни у кого.
Едем дальше. Днем дымные, ночью огненные столбы окружают нашу дорогу. Россия горит.
Петровск, Дербент, потом опять станицы.
Россия горит. Мы бежим.
Около Ростова, у Тихорецкой, наша группа раскололась: одни пошли на Царицын, обходя Дон, другие поехали прямо.
Через земли Войска Донского ехали тихо. Сжавшись, сидели на вокзале. Кадеты осматривали солдат. Продавали какую-то газету, где были напечатаны расписки в получении немецких миллионов, подпись — Зиновьев, Горький, Ленин.
Проехали. У Козлова услыхали стрельбу. Кто-то в кого-то стрелял. Не отошли от поезда. Мы бежали.
Много битый начальник станции не давал паровоза. Нашли и взяли дежурный. Из публики вызвался машинист. Все жаловался, что не знает профили пути.
Поехали — довез. Велик Бог бегущих.
Въехали в Москву. Москва ли это?..
Гора снега. Холод. Тишина. Черные дыры пробоин, мелкая оспа пулевых следов на стенах.
Я торопился в Петербург.
Был январь. Я вылез из поезда, прошел через знакомый вокзал.
Перед вокзалом возвышались горы снега, льда.
Было тихо, было грозно, глухо.
От судьбы не уйдешь, я приехал в Петербург.
Я кончаю писать. Сегодня 19 августа 1919 года.
Вчера на Кронштадтском рейде англичане потопили крейсер «Память Азова».
Еще ничего не кончилось.
ЗАМЕТКИ О КАЗАРМЕ
Теперь, когда я это пишу, общее положение уже изменилось; не знаю, скоро ли и как скажется эта перемена в казарме.
Первые дни революции та военная часть, одним из выборных которой я являюсь, прожила дружно. Волынцы разбили нашу гауптвахту; освобожденные арестованные прибежали в свою команду, и люди вышли и присоединились к восстанию, несмотря на то что на каждую сотню человек у нас не было и двух винтовок. К вечеру большинство людей было вооружено. Мы обыскивали чердаки, арестовали министров (двоих), ставили караулы. Не буду говорить о боевой работе части, очень важной (наша часть военно-техническая), все это кажется таким далеким. Скажу одно, караулы стояли крепко, и дневальные мерзли на постах, когда не хватало смены, но не уходили; команда была на местах и в любую минуту ее можно было поднять на ноги. Я не буду рассказывать, как изменялось положение, напишу прямо, как обстоит дело сейчас. Известно, что Петроградский гарнизон не признавал Временного правительства, а только терпел его существование; приказы Корнилова и Гучкова читались на собрании, выслушивались недружелюбно и «не принимались к сведению» (буквальная резолюция одной команды). Приказы Совета, конечно, выполнялись бы, но признавая Временное правительство, которое он поддерживал «постольку, поскольку», Совет руководил нами через Временное правительство, а мы не признавали Временного правительства. Мы приходили к Временному правительству и видели, что оно действительно временное, но править нами не может. Совет же считал себя не в праве управлять нами. И вот поскольку Временное правительство действовало в видах и целях Совета с. — р. и с. — д., постольку эти виды и цели не выполнялись нами, солдатами, верящими Совету как, может быть, никто еще никогда не был предан какому бы то ни было правительству.
Потом мы пережили дни 20 и 21 апреля, и не спали две ночи и целый день звонили во все команды и узнавали, могут ли еще выборные удерживать своих товарищей от выступления. Ночью 21 апреля на заседании дивизионного комитета мы единогласно, при одном воздержавшемся, похоронили формулу «постольку, поскольку», подтвердили свою верность одному Совету и вынесли резолюцию с просьбой к нему организовать власть в стране, с просьбой о создании коалиционного правительства[21]. В каком же положении находится сейчас, не скажу армия, скажу, что знаю, петроградский гарнизон? Гарнизон разболтан и расхлябан безначалием. Есть запасные батальоны, которые ввели 25-процентный отпуск. Дезертирства немного, но по своей команде я знаю, как плохо несут службу посты; я знаю случаи ухода дневальных, добросовестные люди команд сбиваются с ног, но многие петроградские казармы обращаются в ночлежные дома для днем расползающихся по городу товарищей солдат. Отказов ехать на позицию в такой части нет, люди едут, но это делается не точно. Вопросы обмундирования раздуваются в конфликты, и я знаю случай отказа ехать до выдачи кожаного обмундирования. И в то же время никнет интерес к общим вопросам, уже трудно собрать кворум для общего собрания. Настроение падает, а организация еще не сильна. Мы не оправдываем себя, мы знаем, и мы, выборные, сидящие в командах, виноваты, но нам не помогают. Мы не имеем опоры во всех своих частях, люди со стороны помогают нам слабо. Мы не имеем связи. Агитаторы, которых я видал в казармах, почти все работают неумело, или умело, но не хорошо. Я видал на митингах, как товарищи солдаты большевики и меньшевики, люди одного класса, забранные рабочие, уроженцы одного города улюлюкали друг на друга, и я два раза видал, как раскалывается на двое военный митинг. Агитаторы не рассказывают товарищам, что такое социализм. Они сразу делают их большевиками или меньшевиками. Между тем сейчас необходима не фракционная агитация, а пропаганда. Не возбуждение солдат потому, что возбуждение упадет и даст только усталость, а помощь им в создании сильной организации.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВАЛ ФРОНТА
Массовый самовольный уход солдат с фронта — это худшее, что может произойти с Россией. Помимо полного военного разгрома, это обозначало бы и голодный мор среди уходящей армии, так как армия может самовольно сняться с места, но дойти до дома не может, а погубит только себя, замкнув пробками дороги, умрет с голоду в разграбленной стране.
На том участке фронта, где я был две недели тому назад, дезертирство было минимально, — не выше, чем в дореволюционное время, боевые приказания выполнялись хорошо, устойчивость под огнем неприятеля была тоже хорошая, но и этот лучший из фронтов, про который можно сказать, что он боеспособен, нуждается в самых решительных мерах, проводимых из центра, и при продолжении старой политики должен потерять боеспособность, и последние вести оттуда очень не хороши[22].
Для армии необходима прежде всего энергичная политика правительства, направленная к достижению мира, чтобы солдаты знали, до каких пор они воюют и за что они воюют. Идея мира во что бы то ни стало еще не овладела ушами лучшей руководящей части армии, но она живет в солдатской среде. Я знаю много случаев, когда отдельные солдаты уговаривали прифронтовых крестьян прятать и не давать хлеб для армии, чтобы голод заставил прекратить войну. Мы знаем, насколько тяжело положение России и как слабо звучит ее голос в мировой политике, но нужно приучаться бояться не только того, что будет в случае ведения нами решительной политики мира, но бояться и того, что уже есть при теперешней политике. Престиж революции падает. На исходе доверие правительству, на исходе доверие к партиям. Падало доверие и к комитетам, сейчас поднятое немного их энергичной работой в корниловские дни. Энергичная политика должна вестись во что бы то ни стало, чтобы лозунгом массы не стало бы бегство с фронта. Долг всех партий пред лицом фронта, крушение которого будет не «гибелью», а фактическим уничтожением огромной части России, объяснить, что значит мир за счет России, объяснить, что среди нас нет пораженцев, что нельзя бросить фронт, что ни у кого из нас нет мира в кармане. Второй вопрос — вопрос снабжения. Сейчас фронт одет хуже тыла. Во что бы то ни стало весь фронт должен получить теплую одежду и сапоги, а не ботинки, годные для тыла. Бунтующиеся полки босы, полки, отказывающиеся исполнять боевые приказы, больны. Вопрос снабжения, вопрос — решающий: голые воевать не будут. Вопрос снабжения очень сильно облегчился бы при проведении плана Верховского об уменьшении численного состава армии. Командный состав должен быть обновлен, так как авторитет его подорван, эта смена должна производиться из центра во избежание широкого развития демагогии и заискивания перед массами. Выборное начало невозможно; в свою очередь центр должен занять в этом деле честную и демократическую позицию, т. е. действительно удалять виновных генералов, а не убирать их на время, чтобы они появлялись потом в другой армии, как это было прежде. Политические партии через свои газеты должны стараться улучшить положение младшего офицерского состава, который сейчас, измученный тяжелым положением, стиснутый недоверием масс, все-таки не пошел за Корниловым. Пора понять, что офицерство не контрреволюционно, но и не революционно, оно в массе вне политики. А между тем сейчас оно на пороге отчаяния; при наступлении многие офицера платили большие по их средствам деньги за место в ударном батальоне, посмотрите процентное отношение раненых солдат и офицеров, и вы увидите, что офицерство ищет смерти.
Армейские организации должны занять по праву принадлежащее им место, так как мы им обязаны сравнительным порядком в армии. И это было сделано тогда, когда половина энергии армейских комитетов уходила на отстаивание своего существования. В данный момент только с их помощью можно провести необходимую демобилизацию.
Положение об армейских организациях должно быть, наконец, издано, что особенно важно для полковых комитетов, сейчас часто делающих грубые ошибки из-за полного отсутствия всяких инструкций и весьма ощутимой бедности в людях.
Необходимо решительным образом реорганизовать тыл, — сейчас так скупо присылающий на фронт пополнение, так часто голое и почти всегда не обученное и нравственно больное.
Советы солдатских депутатов должны услышать голос фронта, измученного и даже озлобленного на своих же товарищей солдат.
Гарнизоны должны быть сокращены, все негодное для фронта отпущено, все годное по возможности отправлено на фронт, для чего караульная служба должна быть сокращена до минимума, так как мы все знаем, что это за караулы и чего они сейчас стоят. Необходимо уменьшить и в то же время укрепить армию. Советы солдатских депутатов должны сделать это или помочь это сделать другим.
Но прежде всего борьба за мир. Сделайте так, что если война неизбежна, пусть ясна будет эта неизбежность каждому окопнику. Фронт в опасности, в опасности вся Россия, но в массах есть еще возможность подъема; при подавлении мятежа Корнилова войска подобрались и воодушевились. Как это ни странно, один корпус самовольно перешел в довольно удачное наступление, требований же наступления было несколько. Если верить и делать то, во что мы верим, то еще можно ждать лучшей участи.
БОИ НА ДНЕПРЕ
Мы почти не знаем, что происходило и что происходит на бесчисленных фронтах России. Военная сводка дает только указание места, которое сейчас занимает какая-нибудь Энская армия, а что́ там, ка́к там, остается неизвестным.
Военному корреспонденту тоже редко удается схватить быт данного фронта и, что еще важнее, быт того края, через который проходит этот фронт.
Трудно будет писать историю русской революции, но не это важно: мы живем не для истории, важно то, что мы и сейчас не понимаем всей пестроты России, всей разнохарактерности фронтов, всего того, что предрешает то победу, то поражение.
Мне пришлось посетить Херсон летом этого года. Революционная история Херсона так запутана, что самые жители города сбиваются, рассказывая ее.
Приблизительно эта история такова. После Керенщины в городе недолго продержалась власть рады, единовременно заседали и дума и совет, в которых украинцев было мало.
А с фронта стекались демобилизовавшиеся солдаты, им дали работу — срывать старые крепостные валы. Работа шла слабо, все время происходили столкновения из-за вопроса о плате. Наконец, вспыхнуло восстание, и фронтовики захватили город. Образовался совет пяти, в котором, между прочим, участвовал какой-то румынский поп.
Совет фактически власти не имел. Политических партий в среде фронтовиков почти не существовало. Они стремились к солдатской «справедливости».
Трудно разобраться в этой путаной истории, но ясно одно, — буржуазии города «справедливость» не понравилась, и она вызвала немцев из Николаева.
Немцы приехали на автомобилях и заняли город по-своему.
Фронтовики собрались толпами и прогнали немцев. Началась фантастическая защита города.
Не было никакого командного состава, то есть кто-то командовал, но никто команды не слушал. Днем выходил кто хотел с винтовкой и садился, где хотел в окопе за городом. Ночью почти все расходились. Если наступали немцы, то по городу посылали людей с трубами, трубили сбор и люди выходили на валы. Немцы наступали большими силами, но бои все-таки продолжались более двух недель. Наступали и австрийские части и как всегда переходили массами.
Местность под Херсоном открытая и идет в гору — позиции были хорошие.
К концу боев подошли из деревень крестьяне и собирались принять участие в защите. Но пришли они нерешительно, постояли в городе со своими возами, а потом ушли, говоря: «Вам хорошо, вы можете уйти, а мы хозяева».
В конце концов, несмотря на поддержку подошедшего матросского отряда, город был взят. Фронтовики защищались в самом городе в старых валах, но были разбиты.
Немцы объявили, что дом, в котором будет найден хоть один патрон, они сожгут дотла.
«Справедливость» кончилась, начался немецкий «порядок».
Те, кто был на Украине во время конца гетмановщины, помнят, как внезапно истлела немецкая прочность.
Ушли немцы. Немцев в Херсоне сменила антантовская оккупация. Французы, греки и англичане. Больше всего в Херсоне стояло греков[23]. Они держались в центре города, так как на окраинах уже заезжали разъезды повстанцев и пользовались ненавистью и презрением всего города.
Рассказывают об их пехоте с походкой старцев и о кавалерии на ослах. Ненависть эта объясняется тем, что греки превысили даже ту меру притеснения, к которой привыкла все видевшая Украина.
Греками была собрана в амбарах на набережной целая толпа херсонцев, не то в качестве заложников, не то в качестве арестантов.
Амбары были деревянные. Во время боя греков с атаманом Григорьевым[24] амбары вспыхнули и сгорели вместе с людьми. Среди сгоревших были женщины. Греки мер к спасению не приняли.
Греков выбивал из Херсона атаман Григорьев. Вместе с ними ушли почти без боя и французы. Англичане еще раньше сели на суда.
К лазарету, в котором лежали раненые греки, подъехали с дровнями и сказали, что пришли убить и увезти греков. Но удалось уговорить не трогать раненых. Григорьев пришел еще, как сторонник советов. После него в городе держалась советская власть. К осени, к поре, когда поспела кукуруза, со стороны Крыма пришли белые. Белые на Украине — явление сезонное, они всегда являются к осени.
Пришли белые, заняли город и сразу обнаружили свое неумение что-нибудь наладить. Самым прочным воспоминанием о них осталась лезгинка со стрельбой в воздух. Херсон они почти не ограбили, не то что г. Елизаветград, который ободрали и выскребли.
По обвинению в заговоре против белой власти расстреляли несколько человек, в том числе одного мальчика, левого с. — р. Полякова, лет 17[25]. По официальному сообщению, Поляков умер с криком: «Да здравствует советская власть». Тело его, как и тела других расстрелянных, было повешено на фонарном столбе и так висело несколько дней.
Дети, идя в школы, собирались вокруг повешенного за шею трупа и стояли долго кучками.
Перед уходом белые мобилизовали гимназистов. При паническом бегстве они бросили этих детей, и потом родители разыскивали их на брошенных и замерзших на Днепре судах и привозили в город в женских платьях.
Масса беженцев и раненых погибла от морозов. Через два-три дня после ухода белых вошли советские войска.
Вот краткая история города Херсона, один из кусочков истории Украины, за время от керенщины до весны сего года.
НА ВРАНГЕЛЕВСКОМ ФРОНТЕ
На Врангелевском фронте я был в самом начале его появления — в июне, начале июля.
Самое характерное в нашем днепровском участке фронта было то, что он появился внезапно, среди поля.
И штаб, и обоз, и инженерные части — все это организовывалось в боях на скорую руку. Поэтому многое, что я напишу, относится не к Красной армии вообще, а к Красной армии на нашем участке фронта.
Часть, в которой я находился, была из войск внутренней охраны. Состав солдат — питерцы, псковичи, новгородцы. Несмотря на то что мы стояли в богатой деревне, где было много молока и сала, солдаты тосковали по северу и говорили: «В Питере лучше». Солдаты были все больше старослужащие, многие из военнопленных, почти те же солдаты, которых я видел в ту, прошлую войну.
Но люди изменились, — они как-то истолковывали все к лучшему, старались извинить недостатки положения, не винили никого, не озлоблялись на командиров.
Особенно это меня поразило во время разведки. Мы должны были ночью плыть через Днепр в составе приблизительно 30 человек. Для переправы в стороне от деревни, в которой мы стояли, были, как нам сказали, приготовлены лодки.
Приехали туда на подводах, сошли с высокого берега к тихой воде Днепра… Лодок нет.
Приехал какой-то кавалерист в черной бурке. Это ему было приказано приготовить все для переправы.
Сказал: «Сейчас все будет». Ускакал. Опять приехал и сказал с сильным кавказским акцентом: «Лодки есть близко». Пошли, приходим — есть три лодки, а весел нет. Достали какие-то обломки весел у изб рыбаков, по паре на лодку.
Нужно торопиться, нужно вернуться до рассвета.
Поехали.
На середине Днепра вода, бывшая в лодке, поднялась почти до скамеек, в то же время к нам подплыла другая лодка; в ней были мобилизованные коммунисты, пошедшие с нами на разведку. С этой лодки тихо говорят нам (неприятель на том берегу, а на воде слышно далеко): «Тонем». И действительно тонут. Поехали они обратно и еле доехали, отчерпались шапками и переправились на тот берег. Вылезли. Разведка наша кончилась тем, что мы заблудились.
Я оттого так длинно рассказываю про эту неудачную разведку, что в таких случаях, когда каждый чувствует, что нас путают, ничего не идет толком, происходит проверка доброй воли солдат.
Я видел сейчас только маленький кусок фронта и притом фронта, составленного из наспех развернутых частей, и не могу сказать, хорошая ли армия Красная армия, но знаю одно, что она очень хочет быть хорошей армией.
Вот почему она выдерживает ошибки и поражения.
Я не могу сказать, что отношение между нашими солдатами и крестьянами деревень, в которых мы стояли, были хорошие, но отношения красноармейцев к крестьянам были хорошие.
За время революции крестьянство Новороссии сильно поправилось и подравнялось. Бедняки разбогатели, кулаки превратились в помещиков. И если деревня и нуждалась в чем, так это в рабочем скоте.
Мы били деревню по больному месту. Передвигались войска, и нам приходилось брать подводы, а шла косовица — уборка хлеба.
Деревня давно ничего не видала от города и уже научилась обходиться без него. Мы были ей в тягость.
В деревне, в которой мы стояли, в первую же ночь прихода на нашу часть напали переправившиеся белые, которых, как мы узнали, местные жители подвезли с лодок на подводах. Мы случайно отбились, благодаря тому что вовремя подошла одна наша маленькая команда, которую белые приняли за подкрепление.
А у Врангеля в тылу шли тоже восстания крестьян. Крестьяне и мобилизованные бежали.
Десятки властей, прошедших через Украину, приучили крестьянина к недоверчивому отношению ко всякой власти. Когда мы переправились через Днепр в казачьи лагеря, оттуда по песчаным буграм наступали на Алешки[26], то навстречу к нам выходили из изб и спрашивали: «Когда же вы кончите?»
Это настроение значительной части крестьянства есть нечто гораздо более серьезное, чем выступления Врангеля.
Войска Врангеля очень хорошо вооружены, у них изобилие пулеметов и автоматических ружей, много броневиков, но как это ни странно, на нашем фронте не чувствовалось у них изобилия артиллерии, — скорее мы подавляли их количеством выпускаемых снарядов.
Войска его состояли из офицерских отрядов, приходили к нам перебежчики унтер-офицеры и говорили, что солдат у Врангеля мало. Есть кавалерия, мы видели кавалеристов с черными погонами, с белыми просветами — по всей вероятности, это были остатки дикой дивизии[27]. Эта дивизия когда-то была в составе 3-го кавалерийского корпуса, которым командовал генерал Врангель во время корниловщины. Эти отряды в высокой степени способны к маневренной войне и обладают тем качеством, которого так не хватает нам: умением поддерживать связь. О выдержке их можно составить себе представление по тому, что они допускают наши части к своим пулеметам на 2–3 десятка шагов, не открывая огня.
Но эта армия имеет все отрицательные стороны армии специалистов. Это наемники. Война их занятие, занятая земля для них земля завоевания, и они быстро приучают население жалеть об ушедших красных войсках.
Белые войска возят с собой залог своего поражения.
В ПУСТОТЕ…
Про Херсон скажу мало: «смотри Энциклопедический словарь». Продукты дешевые, но цены уже небось переменились. Молоко густое. Город жаркий. Днем никто не гуляет, ночью ходить запрещено. Гулять можно, значит, только часа два. Вываливает весь город на уже темную улицу. Мужчины одеты в платья из мешковины, женщины побелей, все почти в деревянных сандалиях! Тьма улицы увеличивается густыми тополями.
Женщины видны как смутные пятна. Ну, конечно, река в городе, за рекой плавни.
Врангель пришел внезапно[28]. Я был за рекой в Алешках… А за Алешками степь до Крыма… Городок никакой.
Раз утром увидел, что начали свертываться лазареты, потом появились стада, которые гнали красноармейцы… Гнали быстро. Пароход перестал ходить в Херсон… Начали грузить баржи… Никто не говорил ничего, но чувствовался отход… отход… и что вот начнется бегство.
На пристани комиссары ссорились из-за лодок и угрожали друг другу оружием… Жались к реке…
Я достал с трудом лодку, отчалил не от пристани, а из болота и поехал в Херсон. К вечеру Алешки были заняты разъездом.
Если бы кто-нибудь подумал о том, как развалился красный фронт на Перекопе и как внезапно врангелевцы растеклись по степи, то было бы ему трудно понять что-нибудь…
Никто ничего не думал.
Город был умерен во взятии, войск не было. Объявили мобилизацию профсоюзов. Меньшевики и эсеры объявили партийную мобилизацию. Я встретился со старыми товарищами по первому Петроградскому Совету и пошел по мобилизации меньшевиков. Собралось нас человек пятнадцать, из них ни одного рабочего. Эсеров было человек десять, из них рабочих человека два. Оставил я жену в больнице (она была сильно больна), и на телегах поехали мы куда-то, куда нас послали, верст за двадцать от города.
Ехали… Ехали… Степь… По дороге встречаем огромные телеги, полные евреями, уходящими от погрома в еврейскую земледельческую колонию «Львове».
Они шли от будущего погрома.
Нигде не чувствуется война… Войск не видно… Мосты не охраняются…
Приехали в деревню Течинку и стали здесь по халупам. Деревня большая, улица широкая. Вечером ротный командир катается на бричке тройкой…
Расскакавшись, лошади могут повернуть на улице некрутой дугой и снова скакать назад.
Перед нашей деревней развалины турецкой крепости, но полуострове стоит она, а за рекой другая большая, большая деревня «Казачий лагерь», белая деревня, т. е. белые в ней стоят. И церковь белая, и хаты. И у нас церковь белая и белые хаты.
Одним словом, ни по климату, ни по народонаселению правый берег не отличался от левого.
Пустота… Каменные бабы у церкви, распаханные курганы в степи… Зной… У реки прохладно…
Не чувствуется война… Тихо, пусто, пусто. В пустоте бьет наша пушка по белому берегу… Главные действия ожидаются правей, в Каховке…
Пустота, и в поле нет никого. Нет в поле людей, и не на чем им в поле работать: мы забрали всех лошадей…
С того берега ночью пришли белые: крестьяне переправили верстах в двух от деревни и подводы приготовили…
Белые вошли в деревню с двух сторон; наши (наши, наши) спали по халупам. Проснулись, стали стрелять, и те стреляли… Потом оказалось, что белые друг в друга стреляли: уж слишком хитро подошли… постреляли и ушли за реку. Одним словом, ни по климату, ни по народонаселению правый берег не отличается от левого.
Крестьяне перевозили с берега на берег белых, они нас не любили. Мы занимали их избы, ели их хлеб. И, вообще, зачем нужны крестьянину эти поиски, которые проходили через его деревню как ветер сквозь рожь.
Позже, из теплушки, когда ехал раненым, видел крестьянское восстание… Из деревни стреляли, кажется, по поезду, потому что звенели телеграфные провода там, где не были повалены столбы. Из вагона было видно, как наступают правильным полукольцом на деревню солдаты, прячась за снопы… Фронт редкий, поле широкое, и казалось, что идти им так через всю широкую Украину — редкой железной граблей по воде…
Нас было мало — «батальон», а в батальоне было человек полтораста и два пулемета, да винтовки не у всех… Пушки стреляли сами по себе.
Охраняли мы берег верст на 25–30. Ночью ходил в разведку… Тонули в реке в дырявой лодке… Потом попали на плавне в молчаливое стадо коров, которые белели во тьме, как платья херсонских дам вечером на главной улице.
Сапог нет, деревянные сандалии, ноги скользят в них от росы… Зашли далеко… у солдат Леменовские бомбы, с которыми они не умеют обращаться, да и терок нет.
Запутались, не нашли неприятеля. Потом потеряли друг друга… Темно… А кричать нельзя… Натыкаешься на теплых приятных коров. Земля сырая… Тростник, подрубленный прошлой зимой на топливо, остер, как битые бутылки.
Выбрались на берег. Всех нет… Считали — двух нет. Ждали до утра, искали… Уехали обратно по розовой воде… Дул ветер, уже теплый.
Двое оставленных приплыли на другой день на связках камыша.
Стояли мирно. Наша компания тосковала. Книг нет. Народ молодой попался, больше студенты-первокурсники. Один только был уже старый еврей-меньшевик, который все хотел уйти к коммунистам и решил все же мобилизацию отбыть с нами. Когда потом ему пришлось брать «Казачий лагерь», он шел и в окопе сидел, только нервничал ужасно и все бегал всех будить, казалось ему, что спят… Солдаты все больше петербургские… Разговор про Петербург… Вспоминают, обратно хотят… Вечером поют на мотив «Спаси господи» «Варяга». Многие были и в Венгрии, и в Германии, и в Сербии даже и все те же, и вечером поют «Варяга». Коммунистов почти нет, и мобилизованных почти не видать. Которые есть, те жмутся в кучку.
Меня вызвали в Херсон формировать подрывной отряд. Поехали вместе с арестованными. Ехало нас четверо: толстый, большой человек, начальник здешней милиции, арестованный за то, что у него при обыске нашли ковры, граммофон, 25 фунтов иголок, а обыскали его за то, что оказался он бывшим полицейским. Вообще его арестовали. Когда его увозили, плакали над ним отец и мать как над мертвым, и брат его приходил и говорил все что-то нашему командиру, стараясь отчетливо шевелить белыми губами. Второй арестованный был мальчик дезертир, вернее задержавшийся в отпуске. Конвойный один с винтовкой, и мне шомпол дали, чтобы и я охранял.
Одет я был в парусинное пальто сильно в талью, в парусиновую шляпу с полями, в деревне ее называли шляпкой, и вид мой запомнился кругом верст на двадцать, сам слыхал, как рассказывали, и еще больше увеличило мой вид тягостное недоумение деревни перед городом.
Конвойный утешал арестованного, а когда тот отворачивался, подмигивал мне на мушку винтовки, — расстреляют его там. Я думаю, что расстреляли. Сидел этот толстый человек (арестованный) на телеге и говорил благоразумные слова о том, что его напрасно арестовали, и обидеться старался, и был испуган, а не бежал.
А я не понимал, почему он не отнял от маленького конвойного ружья и не убежал от нас к белым или просто в степь…
Недоуменное дело.
Приехал в Херсон. Потолкался в штабе. Очевидно боялись отхода, и подрывники нужны были для отступления.
Приехал тоже вызванный с фронта эсер Минкевич, который прежде был саперным офицером, и мы вместе стали собирать отряд.
Стояли мы за городом, в старой крепости, ученье производили во рву.
Собрали мы маленькую горсточку солдат и начали их обучать.
Динамита нет, подрывных патронов нет, провода тоже нет и пироксилина нет. С трудом достали разный подрывной хлам и начали его подрывать на авось. Занятие подрывника странное. К взрыву можно привыкнуть, даже скучно, когда его нет.
Взрыв — приятное дело. Из земли выходит большое плотное дерево, туго побитое дыбом… стоит… потом вдруг просыпается на землю дождем камней. Если лежать недалеко от горна, то в глазах скачут красные мальчики.
Жили тихо. Раз только, взрывая деревянный мост, спалили его по ошибке; солдаты работали на пожаре отчаянно, на некоторых стлело платье, хотя они и окунались поминутно.
Было досадно, мы хотели сделать все аккуратно, а мост сгорел. Очень огорчились солдаты, они могли бы взорвать весь город, не огорчившись, а здесь ошибка техническая. Они страдали над нашим техническим преступлением…
Раз чуть не взорвались все.
Производили учебный взрыв, да за одно и уничтожили брошенные с белых аэропланов и не взорвавшиеся бомбы.
Бомбы бросали белые каждое утро…
Спишь… семь часов утра. Слышно жужжание и звонкий звук, похожий на удар мяча о паркет пустого зала.
Это была бомба.
Значит, уже нужно вставать и ставить самовар.
А иногда обстреливали город.
Как странно выглядит пустой солнечный город, когда по каменным мостовым его прыгают весело звеня обрывки снарядов. И звонким редким барабаном в нем самом слышны отвечающие батареи… Бабы за-балки (пригород) у себя поставить батарею не позволили.
Мы уничтожали бомбу. Решили обставить дело торжественно. Закопали ее рядом с пудом тротила (псевдоним какого-то норвежского взрывчатого вещества, которое мы нашли в складе), бикфордова шнура не было.
Вставили в тротил запал с немецкой бомбы, а к кольцу запала (в сущности говоря, не к кольцу, а к чеке) провели шнурок… Сели за гору, потянули шнурок… притянули весь запал к себе… Пошли, укрепили его камнями (ничего нет), опять потянули, вытянули чеку к себе… Прошло три секунды… Тихо… Провинциально… Небо над нами и белыми голубое… Нет взрыва.
Хоть это и не по уставу, пошли всем скопом смотреть, что произошло… Я и Миткевич впереди, солдаты сзади. Подошли довольно близко. Вдруг мне говорят… Шкловский! Дымок!
Действительно запал пускал легонький дым, как от папиросы.
Без ног прыгнул вперед, вырвал из тротила запал и отбросил его на несколько шагов.
Слабый взрыв… взорвался запал еще в воздухе.
Сел на землю.
Над чепухой России и нашей маленькой ротной чепухой, над нашим тротилом, из которого мы устроили сами себе западню, плыли и, должно быть, кувыркались от радости, что плывут мимо облака…
Взорвался я позже.
Достали мы какие-то цилиндрики, весом в полфунта.
Для запала много, для патрона мало.
Оставлены были эти штучки не то немцами, не то французами.
Решили испытать. Запалы нам были очень нужны… Пытались сделать сами, но было не из чего, а тут ждался отход.
Наши (правый берег) ходили отбивать Алешки…
Из города, который весь на горе, был виден бой… выглядел он странно…
Стоят среди плавень два парохода и дымят…
Входили к Алешкам, но были выбиты. Погибло много матросов из прибывшего отряда; спасшиеся прибежали обратно без сапог и бушлатов.
Маневрировать мы не умели совсем.
Нужно было готовиться к взрыву станции и мостов.
Я пошел один к оврагу пробовать: запалы ли эти цилиндрики или нет.
Пришел. Лошади невдалеке стоят в тени дома. Мальчик где-то виден вдали.
Взял кусочек бикфордова шнура, отрезал на три секунды (срок, обычный для ручной бомбы) и начал вводить его в отверстие на дне патрона.
Отверстие велико. И вообще странный вид, не похоже на патрон, совсем не похоже.
Обернул шнур бумагой, вставил.
Зажег папиросу и, думая о ней (не умею курить), поднес огонь к шнуру.
И сразу взрыв наполнил весь мир, меня опахнуло горячим, и я упал и услышал свой пронзительный крик, и последняя мысль о последних мыслях вырвалась и как будто была последней.
Воздух был туго наполнен взрывом, взрыв гремел еще, я лежал на траве и бился, и кровь блестела кругом на траве, разбрызганная кругом дождем маленькими каплями, сверкающими и делающими траву еще зеленей.
Я видел свои ноги, развороченные через ремни деревянных сандалий, и грудь всю в крови, лошади неслись куда-то в сторону.
Я лежал на траве и рвал руками траву.
Как-то очень быстро прибежали солдаты…
Они догадались, что «Шкловский взорвался».
Послали телегу. Громадный Матвеев, силой которого гордился весь отряд, поднял меня на руки и пошел; под голову мне положили мою шляпку.
Другой солдат Лебединский сел на телегу и все щупал мне ноги с испуганным лицом.
Я дрожал мелкой дрожью, как испуганная лошадь. Прибежал Миткевич, бледный и перепуганный. Я доложил ему, что предмет оказался запалом. Есть правила хорошего тона для раненых. Есть даже правила, как нужно вести себя, умирая.
II
Госпиталь хороший.
Я лежал и дрожал мелкой дрожью.
Дрожали не руки, не ноги… тело на костях трепетало.
Я лежал, замотанный в бинты до пояса с грудью, стянутой бинтами, с левой рукой, притянутой к алюминовой решетке. Правая нога плохо пахнет: чужим, не моим запахом порченного мяса.
Пришел старый хирург Горбенко[29], про которого раненые рассказывали чудеса; пришел, потрогал пальцы, висящие на коже, и не велел отрезать, говорит: «приживут».
Они и прижили.
Приходили товарищи солдаты, приносили солдатские лакомства: мелкие одичавшие вишни и зеленые яблоки.
Сады в окрестностях были реквизированы, ход в них через забор, никто не берег фруктов, но абрикосы уже сгнили, а яблоку было еще не время.
Солдаты любили меня. Я вечерами занимался с ними арифметикой; это помогает во время революции от головокружения. Сейчас они чувствовали ко мне благодарность за то, что я взорвался первый и был как будто искупительной жертвой. Пришел Миткевич. Это был учитель, из правоверных эсеров, очень хороший и честный и жаждущий дела человек. Дела не было… Война и партийная мобилизация, которую он сам провел, дала ему дело, и он был влюблен в свой отряд любовью Робинзона, нашедшего на 18-м году пребывания на острове белую женщину.
Он сказал мне, что в рапорте написал: «…и получил при взрыве ранения числом около двадцати». Я подтвердил эту цифру… Все было как в лучших домах. Приходили студенты меньшевики; они были в унынии; при отступлении от Казачьего лагеря перевернулась лодка, в которой был их лидер, Всеволод Венгеров, они искали его и не могли найти.
Да и сами они измучились от бестолочи командования и суровой жизни рядового без привилегий (они были у меня в отряде, и Миткевич прижимал их основательно).
Скоро у меня по палате оказался сосед. Сосед этот инвалид с ногою, уже давно отнятой по бедренный сустав. Сейчас он жестоко ранен в рот с повреждением языка, в грудь и в мошонку. Когда ему вспрыскивали камфару или вливали физиологический раствор соли, он мычал голосом сердитым и бессознательным. Было жалко видеть его громадное тело, красивые руки и красивое обнаженное плечо, и знать, что тело уже изуродовано ампутацией. Мне о нем рассказала его родственница, сейчас дежурящая над ним; она была старшей сестрой этого же лазарета…
Фамилия раненого была Горбань[30].
Он был прежде эсером, жил на каторге, его там много били, но убить не успели. После революции он вернулся в Херсон, где раньше был кузнецом.
Во время оккупации убил кого-то, стоявшего за немцев, схватив его на улице и унеся к своим (кто были ему свои в то время, не знаю) на расстрел.
Немцы арестовали его и везли на пароходе; он вырвался от них и уплыл, хотя его и ранили. Во время какого-то восстания его ранили в ногу; врача не было; когда достали, было поздно. Ампутировали, потом еще раз, потом еще раз.
Горбенко качал головой, когда смотрел на следы последней операции.
Одноногим Горбань принимал участие в защите Херсона от немцев.
Я тороплюсь к этой защите…
О ней рассказывали мне в лазарете почти все.
Но нужно сказать, как попал Горбань раненым в лазарет.
Он был большевиком, преданным и наивным, работал по землеустройству. Поехал по деревням с агрономом. Поссорились в байдарке (тележке). Я думаю, что у Горбаня был не легкий нрав. Агроном выстрелил в него в упор, но прострелил только челюсть и язык, да обжег щеку, потом выбросил раненого из байдарки и выстрелил еще два раза, попал в мошонку и грудь… Уехал.
Раненый лежал на дороге, мимо ехали крестьяне с возами по собственному делу, не подбирали.
Быть может, даже не из вражды, а так — «в хозяйстве не пригодится».
Лежал весь день на солнце…
Потом подобрала милиция.
Привезли в лазарет.
Мы (я и сосед) поправились как профессионалы быстро.
Горбань уже ругался.
Я вставал, хотя пальцы еще гноились, и тело было покрыто опухолями вокруг не вынутых осколков.
Приходили люди, рассказывали. Вспоминали. И вот краткая повесть о защите города Херсона от немцев безначальным войском в году 1917-м.
После того как солдаты ушли с войны, они вернулись по домам.
Вернулись и в Херсон.
Работы не было. Городская дума придумала что-то вроде «Национальных мастерских».
Срывать валы за городом.
Солдаты срывали плохо. Ссорились…
Угрожали захватом города.
Предводительствовали ими какие-то люди, про которых почтенные горожане говорили, что это были каторжники.
Кажется, это никем не оспаривалось. Один из каторжников был из беглых румынских попов. Дума была недовольна работой демобилизованных…
Решили просить немцев занять город. Немцы пришли и заняли город, но их пришло мало, и демобилизованные их прогнали, а потом пошли бить думу. И избили бы на смерть, но в думе кто-то догадался, достал ключи и вынес их на блюде к нападающим как «ключи города».
Нападающие растерялись.
Они про это что-то слышали, не знали, как ответить на этот «организованный шаг».
Никого не убили и взяли ключи.
Каторжники ездили по городу в количестве трех и преимущественно по тротуарам. Но о них скоро забыли.
Немцы обложили город.
Город стал защищаться.
Защищали и солдаты, и почти все горожане, даже те, может быть, которые сочувствовали в свое время думцам, вызвавшим немцев против каторжников. Сделали окопы и защищались.
Херсон стоит в степи. Не подойти украдкой к Херсону.
Ночью не было почти никого в окопах. Разве какой мальчишка стреляет. А если неприятель наступал, то пускали по улицам автомобили (кто их посылал, не знаю), а на автомобилях были люди с трубами.
А услышав трубы, жители бежали на окопы и защищали город.
Дрались так две недели.
Горбань, уже одноногий (впрочем, я путаю все; рассказ этот, который я слышал, относится к более позднему времени, например к эпохе Скоропадского), командовал отрядом конницы, а чтобы он сам не выпал из седла, его привязывали к лошади, о сбоку к седлу прикручивали палку, чтобы было ему за что держаться.
Держался Херсон две недели.
К концу защиты подошли из-за Днепра на возах крестьяне, думали помочь… Посмотрели, уехали, — «не положительно у вас все устроено, а нам нельзя так, с нас есть что взять, мы хозяева», и ушли за Днепр.
Наступали на Херсон сперва австрийцы, сдавались как умели.
Потом подошли немцы — дивизия.
Нажали… Еще раз нажали и взяли город.
Фронтовики заперлись в крепости… и крепость взяли…
Стало в городе спокойно.
Никто не ездил по тротуарам.
А если кто держал винтовку в доме, и найдут ту винтовку, то дом сжигали.
А вокруг города были повстанцы.
Вот и вся защита Херсона, как рассказали мне ее многие люди, солдаты и доктора, сестра милосердия и студенты… И сам Горбань, когда язык его поправился, даже раньше: ему очень хотелось со мной говорить.
И мне он нравился, знал я, что он резал поезда с беженцами и жену ругал, когда поправился.
И про себя говорил (мы долго еще с ним пробыли, и эвакуировали нас из города в город вместе).
Так он говорил… «И я кулачок… я с братом и отцом хутор имею, все хозяйство сам завел, сад у меня какой, хлеба у меня сколько, приезжай ко мне, приезжай, профессор, как кормить буду». Профессором он меня сделал от восторга.
Извиняюсь, что фамилия доктора — Горбенко похожа на фамилию раненого — Горбань, но ничего сделать не могу, так и было.
ЧТО ПОЮТ НА ФРОНТЕ
Всего лучше описывать со стороны. Описывать жизнь, которой не жил. Когда приносишься к своим сапогам и приспособишь ремень к своей винтовке, то уже ничего не видишь, не чувствуешь.
Отсюда в искусстве обычен прием описывания вещей не с точки зрения обычного этих вещей владельца, а с точки зрения пришедшего со стороны. У Толстого этот прием окроплен обычно морализированием, но дается и вне его.
Так, например, написав первоначальный вариант одной вещи (кажется, «Рубки леса»), он вносит в записную книжку: «необходимо ввести волонтера» (Эйхенбаум)[31] — и вводится волонтер как мотивировка свежего видения.
Я не был таким волонтером на фронте (Врангелевском), войну я видел, и вес винтовки возвращал меня в цепь привычных ассоциаций.
Вот почему я не могу написать об искусстве на фронте так, как пишут о нем, и вообще об искусстве в народе, люди, никогда войны и народа не видавшие.
Мы стояли на Днепре, по халупам, встречались в заставах, в разведках, в бою и иногда вечером на поверке.
Часть (отдельный батальон) была дружная, крепкая, очень здоровая в боевом смысле.
Когда собирались — пели, пели с увлечением, очевидно, сам собой организовался хор.
Но новые птицы, новая армия пела старые песни.
Пели Ермака и специально солдатские песни, которые были бы бесстыдны, если бы слова в них не были обессмыслены.
Пели «Варяга», но уже по-новому, на мотив «Спаси, Господи, люди твоя», — очевидно, была потребность использовать знакомый мотив, прежние слова которого перестали быть нужными.
Потом левее по берегу, у кавалеристов на стоянке, ночью, перед переправой, я услыхал «И тучки понависли», но измененные; в припев было вставлено «трещал наш пулемет»; у буденовцев, уже раненым, в лазарете, услыхал я старую песню «Марш вперед, смерть нас ждет, черные гусары», песню не солдатскую, а так же, как «Алла верды», типичную для офицерского собрания; эта песня была изменена, пели «красные гусары» вместо черные.
Солдатский фольклор типа «Заветных сказок» Афанасьева тоже не изменился. Хотя в нем есть следы участия в армии малолетних.
Вот и все, что я видел от искусства на фронте.
Правда, в канцелярии писаря готовили какую-то пьесу из эпохи Парижской коммуны и, лежа на диванах, говорили что-то не натуральными голосами, но до канцелярии было далеко, далеко, как до петербургской редакции.
Революция не ввела в кругозор солдата-красноармейца почти ничего в области искусства, хотя в то же время она необычайно расширила его кругозор и изменила психику.
Прежний темный солдат получил представление о мире, понимает такую, например, вещь, как значение Донского бассейна для него, уроженца Нижегородской губернии, получил громадную жажду к знанию, а песни не изменились.
Песню может изменить певец, во имя песни: во имя революции можно умереть, но нельзя творить.
Кто хочет создать революционное искусство, — пусть создаст искусство.
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН. ПЛАЦ
В память древонасаждения в Петербурге на Марсовом поле, 1 мая 1920 года.
В некотором царстве, в некотором государстве было Марсово поле.
В этой стране говорили: «Кошка, если ее долго ремнем драть, будет даже и огурцы лопать».
Так и решили устроить рай на земле в порядке принудительном.
Для рая же нужен сад.
И собрали весь народ к плацу.
Земля же на плацу была каменная, такая крепкая, что трава на ней не росла, несмотря на расстройство транспорта.
Насверлили в камне ямки, воткнули в ямки деревца и сказали: «Растите».
Смотреть же поставили Чрезвычайную комиссию.
Кошка, если ее долго драть, будет есть огурцы, но ее нельзя додрать до того, чтобы она научилась разбираться в таблицах логарифм[ов].
И ни правительство, ни правеж не помогут дереву расти на камне.
Деревья засохли.
Сохли и дохли, как в чуме, и засмердело поле.
Тогда объявили свободную торговлю.
И пошли продавать и поле, и все, что кругом поля.
Шел мимо всего этого один человек.
Шел, шел, а сзади пошла Чрезвычайная комиссия.
И ушел человек за границу и там напечатал и расклеил плакат:
НЕЗАЧЕМ БЫЛО И ОГОРОД ГОРОДИТЬ.
Мое же положение отчаянное, потому что, если даже эту историю петь на мотив «Интернационала», она все же не будет похожа на Всемирную революцию, а радоваться, глядя на все это, я не могу, так как под русской революцией есть и моя подпись.
СКАЗКА О СИНЕМ ШАКАЛЕ
В некотором царстве, в некотором государстве, около города «Во что бы то ни стало», а это, должно быть, в северной Индии, жил шакал.
Питался он очень плохо.
Как известно, шакалы питаются, по преимуществу, старыми сапогами.
Ходил раз этот шакал по дворам, искал себе пищи, ночь была такая темная, что даже луны не было видно. Оступился шакал и попал в горшок с синей краской индиго.
Видите, какой он стал теперь синий.
Испугался шакал и побежал. Бежал долго, пропотел синим потом, пошла у него синяя пена изо рта, а краска все-таки не слезла.
Добежал шакал до леса и спрятался там.
Утром первые проснулись обезьяны.
Они всегда просыпаются первыми и очень этим гордятся. Увидали они шакала и закричали: «Синий зверь, синий зверь».
Сбежались тигры, слоны, дикобразы, носороги и видят: действительно, сидит на зеленой траве синий зверь.
А синий цвет в Индии священный.
Шакал не растерялся.
Он научился многому, пока питался старыми сапогами.
«Великий дух неба, — сказал он, — помазал меня на царство соком небесных деревьев и отныне все, что ни делается в лесу, должно делаться по моему повелению».
Звери поклонились шакалу и сказали ему: «Слушаемся, ваше величество».
Хорошо жил синий шакал в лесу.
Слон бегал для него в лавку за спичками, а тигр стоял на карауле и отдавал ему честь лапой.
Только заметили шакалы в лесу, что их синий царь очень похож на своего брата шакала. И хвост, как у шакала и морда шакалья, только синий. Пробрались они ночью во дворец и сказали: «Послушай, Синий, ведь ты шакал. Раздели с нами власть, а мы согласны днем даже называть тебя „ваше императорское величество“».
Но синий шакал позвонил в звонок: прибежал слон, который был при нем камердинером, собрал всех шакалов в охапку и выбросил за дверь. Шакал решил оградить свой дворец от непрошеных гостей.
И так как в лесу не было проволоки для проволочных заграждений, то он велел носорогам день и ночь танцевать вокруг дворца. Я думаю, что вы понимаете, что между танцующими носорогами пройти также трудно, как между автомобилями. Шакалы не были довольны. Они разбежались по лесу, выли и кричали: «Синий царь — шакал. Самый обыкновенный шакал, но только синий». Но никто не верил им, кто поверит шакалу? Тогда они собрались ночью и самый старый из них, совершенно облезлый и мудрый до того, что у него выпали все зубы, сказал:
«Никто нам не верит, что царь — шакал. Но пойдем и окружим дворец и будем выть. И синий шакал завоет тоже. И все узнают, кто их царь».
Один, совсем молодой шакаленок, который еще еле-еле умел перебирать лапами, спросил:
«А почему завоет царь?»
Старый шакал ответил:
«Потому, что природа непобедима».
И они пошли.
Пошли всем шакальим народом, а их было много. Сели вокруг дворца и завыли.
Царь проснулся.
«Воют», — сказал он.
«Смешно было бы, если бы я, царь, не мог спать из-за этого».
Но спать он не мог.
«Воют, продолжал он, — смешно было бы, если бы я сел, как они, на задние лапы». И он так и сделал.
«Смешно было бы, если бы я закрыл глаза, вытянул голову кверху и завыл». Так сказал синий царь, и в горле его уже щекотало, и не успел он договорить, как уже выл, выл громче всех, потому что он не выл очень долго, а природа непобедима. Прибежал слон, который бегал для шакала за спичками, и тигр, который отдавал ему честь лапой. Прибежала вся кухонная звериная челядь и увидели, что сидит среди спальни и воет и ничего не видит шакал.
Бросились звери на шакала и разорвали его. А носорогов забыли предупредить. Они ничего не знали и танцевали вокруг пустого дворца еще двое суток.
ПИСЬМА М. ГОРЬКОМУ (1917–1923)
1
<6 декабря 1917 года>
Живу в Урмии[32]. Видал разоренную Персию и людей, умирающих от голода на улице. На наших глазах. Видал погромы и пережил Голгофу бессилья. И моя чаша будет скоро полна. Чувствую себя здесь ужасно. Топчем людей, как траву. Шкурничество цветет махровыми розами. Одни просьбы о золотниках сахара, об отводе. Транспорта бастуют. Кровь медленно стынет в жилах армии. Революция по ошибке вместо того, чтобы убить войну, убила армию. Переживаю ее агонию. Заключаем перемирие. Движется демобилизация. Господи, сохрани. Если увидимся, расскажу. О России ничего не знаю.
Виктор Шкловский.
Персия. Урмия. 6 декабря.
2
<Конец июня — начало июля 1920 года>
Дорогой Алексей Максимович.
Живу я (Виктор Шкловский) в Херсоне. На противоположном берегу белые, завтра уйдут[33]. Я поступил добровольцем в Красную армию, ходил в разведку, а сейчас помначальника подрывной роты. Делаем ошибки за ошибками, но правы в международном масштабе. Очень соскучился по Вас и по Великому Петербургу. Приветствую всех туземцев. Желаю Соловью, и Купчихе, и Марии Игнатьевне[34] всяких желаний. Читаю Диккенса[35] и учусь бросать бомбы Лемана. К сентябрю буду в Питере. Потолстел, хотя здесь все и вздорожало из-за фронта. Но питерцу много не надо.
Изучаю комцивилизацию в уездном переломлении. По Вашему письму ехал как с самым лучшим мандатом[36]. Привет Марии Федоровне[37]. Что здесь ставят в театрах, у гостиннодворцев[38] каменного периода вкус был лучше. Скучаю, хочу домой.
Виктор Шкловский.
Жак[39] как?
Жена на меня сердится.
3
Д<ействующая> Кр<асная> армия
16 июля 1920 года.
Дорогой Алексей Максимович.
Пишу Вам с койки хирургического лазарета в Херсоне. Я был начальником подрывного отряда Херсонской группы войск Красной армии. Вчера в моих руках разорвалась ручная граната. У меня перебиты пальцы на правой ноге и 25–30 ран на теле (неглубоких). Спокоен. Через три-четыре недели буду в Питере. Привет всем. Завтра буду оперироваться.
Виктор Шкловский.
4
<Октябрь — ноябрь 1921 года>
Алексей Максимович.
Я решаюсь говорить очень серьезно, как будто я не родился в стране, которая просмеяла себе все потроха.
Алексей Максимович, потоп в России кончается, т. е. начинается другой — грязевой[40].
Звери, спасенные Вами на ковчеге[41], могут быть выпущены. Встает вопрос о великом писателе Максиме Горьком.
Наши правители обыграли Вас, так как Вы писатель, а они сыграли в молчанку и лишили Самсона его волос[42].
Мой дорогой Алексей Максимович, любимый мой, бросайте нас и уезжайте туда, где писатель может писать[43].
Это не бегство, это возвращение к работе. Здесь, в России, в Вас использовали только Ваше имя.
Уезжайте. Соберите в Италии или в Праге союз из Вас, Уэльса, Ромэна Роллана, Барбюса и, может быть, Анатолия Франса[44]. И начинайте Новую жизнь[45]. Это будет настоящий Интернационал без Зиновьева[46].
Журнал, издаваемый вашим союзом, будет голосом человечества.
Все это совершенно необходимо для русской революции и для Вас.
Оставьте этих людей, из которых одни сделали из Вас жалобную книгу, а другие преступники — и эти, другие, лучше, но Вам необходимо быть не рядом с ними.
Виктор Шкловский.
5
<Ноябрь — декабрь 1921 года>
Дорогой Алексей Максимович.
Живем так себе. Дом искусств[47] дров не заготовил. Пока достал всем три куба, что дальше не знаю.
Издал свою книгу «Развертывание сюжета». Таким образом, цикл кончен[48].
Дал его перевести на немецкий язык[49].
Зарабатываю не плохо, но все время бегаю.
Слонимский написал в пять дней четыре рассказа на шесть листов.
Неплохие[50].
Всеволод Иванов пишет все лучше и лучше.
Последний его рассказ «Дите» привел бы Вас в восторг, такой «индейский» или киплинговский сюжет и такая глубокая ирония[51].
Лунц и Зильбер пишут и сдают экзамены[52]. Федину сделали удачную операцию. Очень сложную: пересадка каких-то кишек и повертывание желудка головой вниз[53].
Выздоравливает.
Зощенко[54] живет трудно.
Жизнь у нас тихая, провинциальная.
Газет не читаем. О Вас думаем часто.
Печатаю книгу Эйхенбаума «Мелодика русского стиха»[55].
Выйдет — пришлем. 13 листов.
Напишите о том, как живете и пишете ли? Меня затормошили здорово, все хлопочу по чужим делам, а сам не пишу. Зима у нас ранняя. Каналы уже замерзли. Петербург ловчится жить.
Происходит что-то непонятное. Пока книг выходит много, и если читатель найдется и мы выдержим новые ставки на типографские работы (набор — 8,5 рублей знак), то, может быть, писатели и не пропадут.
Я же до весны проживу.
Всеволод ходит в новых брюках.
Кланяюсь всем своим инфернальным друзьям, т. е. потусторонним.
Варваре Васильевне[56] отдельно.
Если имеете вести о Титке[57], то скажите ей, что я ее очень любил, а времени не было, так и не сказал.
Всего хорошего. Всего хорошего.
Пишите больше, не мне, а для себя.
Виктор Шкловский.
6
Дорогой Алексей Максимович.
Надо мною грянул гром.
Семенов напечатал в Берлине в своей брошюре мою фамилию[58].
Меня хотели арестовать, искали везде, я скрывался две недели и наконец убежал в Финляндию[59].
Сейчас сижу в карантине.
Собираюсь писать продолжение «Рев<олюции> и фронт<а>»[60].
«Серапионовы братья»[61] живут.
Всеволод Иванов цветет, как подсолнечник, и пишет все сочней. Он написал роман «Цветные ветра». Книга в наборе. Зощенко выпускает книгу «Рассказы Захара Ильича». Зильбер написал повесть «Пятый странник». Я издал книжку «Эпилог»[62].
Появился новый поэт Николай Тихонов[63]. Я привез с собой матрицы «Революции и фронта». Продаю.
Передайте Гржебину[64], что я предлагаю продолжение книги, 1918–1922 годы. У меня с собой рукописи «Ход коня»[65]. Сейчас мне нужны деньги, тысяч до 10 финских.
Хотел бы жить не далеко от Вас. Боюсь тоски по родине. Собираюсь в Германию. Можно ли достать визу?
Жена осталась в Питере, боюсь, что она на Шпалерной[66]. Союз писателей обещался о ней заботиться. Денег у меня с собой 200 марок и золотые часы еще на 1000. Мой адрес: Killomaki, karаnten.
Здесь я буду две недели.
Или на моего дядю:
Финляндия. Raivolo. Tyrsevo Pyhtale tee Aleksander Shklovsky.
Не знаю, как буду жить без родины.
Во всяком случае, я пока избежал судьбы Гумилева[67].
16 марта 1922 год.
Посылаю Вам свою книгу[68].
7
24 марта 1922 года
Дорогой Алексей Максимович.
Пишу Вам второе письмо.
Сообщаю на случай, если первое пропало. Я убежал из России 14 марта. Меня ловили по Петербургу с 4 [по] 14 марта.
Сейчас нахожусь в карантине в Финляндии.
Через четыре дня выйду и месяц проживу в
Finland.
Raivola. Jug. A. Shklovsky. } адрес
Fur Viktor Shklovsky
По ночам еще кричу.
Снится мне, что меня продал провокатор и меня убивают.
Не знаю, что делать дальше.
Все мои дела, книги, друзья в Петербурге.
Так как Семенов все равно напечатал многое из того, что я делал, то я хочу написать об этом книгу.
Я напишу лучше.
Сижу сейчас в полном непонимании, что писать, где писать, как писать.
Сижу без денег.
Носить доски мне не хочется.
Это скучная работа.
Серапионы остались в России в печали и тесноте.
Дорогой Алексей Максимович, жду Вашего ответа, что Вы мне посоветуете.
Я хочу работать в журналах.
Жить хотел бы в Праге или в Берлине, чтобы доучиться у европейцев.
Жду ответа.
В Финляндии жить скучно, как в передней, и все чужое.
На две-три недели зацеплюсь у одного своего дяди.
Жена в Петербурге, очень скучаю без нее.
Хочу увидеть Ваши глаза и усы и поговорить в Вами.
Неужели я потерял Россию навсегда.
Поговорите в Зи<новием> Исаевичем[69], не может ли он сделать что-нибудь для меня, т. е. купить рукопись.
Поклон Марии Федоровне и Варваре Васильевне[70].
Сижу в карантине в странной компании: 40 % карантина — старухи старше 70 лет, которые переехали границу нелегально.
Потом беглые офицера, жены, ищущие своих мужей, женщины, едущие в Италию, и два мальчика, которые убежали за границу так, как раньше убежали бы к индейцам.
Белья у них с собой нет, а есть учебник географии на немецком языке и логарифмы.
Привет всем.
Отвечайте мне.
Виктор Шкловский.
25 апреля[71].
Сейчас приехала баронесса Икскуль[72], передала мне, что жена моя арестована. Что делать?
8
<3 апреля 1922 года>
Адрес мой: Raivola. Finland. Schklovsky.
Сижу у моря и жду погоды.
Сильно одинок. Жена на Шпалерной. А я отрезан от России. Не знаю даже кому я нужен. Выживать же меня из России никому не нужно. Отдыхать не умею.
Живу без событий. Не пишется. Желание одно — попасть, если не в Россию, то хотя бы в русскую литературную среду.
Хлопочу о визе в Германию.
То, что написал Г. Семенов, не правда: все выглядело иначе.
Может быть, не лучше, хочу писать об этом книгу.
Русская эмиграция, краешек которой я видел… тоже ничего не понимает.
А на иронии не проживешь.
Если бы я верил в русский суд, я поехал в Москву.
Но я не хочу увеличивать вину Кремля. Я великодушен.
Пережил страх. Переживаю скуку. Жду ответа.
3 апреля.
Виктор Шкловский.
9
Дорогой Алексей Максимович.
Мой роман с революцией глубоко несчастен.
На конских заводах есть жеребцы, которых зовут «пробниками».
Ими пользуются, чтобы «разъярить» кобылу (если ее не разъярить, она может не даться производителю и даже лягнуть его), и вот спускают «пробника».
Пробник лезет на кобылу, она сперва кобенится и брыкается, потом начинает даваться.
Тогда пробника с нее стаскивают и подпускают настоящего заводского жеребца. Пробник же едет за границу заниматься онанизмом в эмигрантской печати[73].
Мы, правые социалисты, «ярили» Россию для большевиков.
Но, может быть, и большевики только «ярят» Россию, а воспользуется ею «мужик».
Вот я и написал фельетон вместо письма.
Но поймите же и мое положение.
Здесь в Райволо никто не понимает остроумия. Читают же только старое «Солнце России»[74].
Мы все условно-остроумны, мы все говорим друг с другом условно, как Володя (брат героя «Детства и отрочества») с мачехой[75].
Я одинок, как и все, конечно.
И ночью, когда я думаю о жене, я хочу встать на колени в постели и молиться, что ли.
Увы мне, нет Бога, а с ним бы я поговорил серьезно.
Я одинок здесь.
Дядя мой, у которого я живу, любит говорить об искусстве.
Это очень тяжело. Я боюсь, что он в результате напишет начало повести.
Он говорит, что в искусстве главное чувство.
Перед женой считаю себя виноватым.
Может быть, честнее было бы не бежать?
Ведь я занимался политикой. Это бронированные автомобили втаскивали меня в разные удивительные положения[76].
Скучаю по жене, по Тынянову, по Серапионам.
Ваше письмо получил, ему очень рад.
15 апреля 1922 года.
Виктор Шкловский.
Вчера получил 1000 + 390 марок.
Спасибо.
20 апреля 1922 года.
10
<20 апреля 1922 года>
Алексей Максимович! Дука[77]!
Я решил избрать Вас своим постоянным корреспондентом.
Отвечать можно в стиле телеграммы. Например:
«Otstante»
Как-то давно, когда я был молодой и красивый, я проводил ночь с одной (такой же, как и я) курсисткой. Чтобы не шуметь, мы целовались на коврике. Целуюсь я очень технично. Она не любила меня. И вот она мне сказала, почти под утро, почти в бреду: «Любви! Любви немножечко».
Я был здоровый, неутомимый и не понял. Я был увлечен техникой.
Любви сейчас я хочу от людей, не визы, не денег даже.
Прямо хоть не пиши дальше.
Живу я в доме беженца. Дом населен условными фразами, тоской и безденежной ненадежной сытостью.
Алексей Максимович! Дука!
Посмотрите, как я хочу любви: я даже пишу разборчиво.
Я умею (теперь) брать людей на ладони, и греть их дыханьем, и даже растить их.
И Вы умеете.
Вы ласковый, у Вас хорошие глаза.
У меня, очевидно, весеннее помешательство.
Я должен писать письма всему человечеству.
Я люблю это человечество.
Вас же я люблю отдельно и особо.
Жену я тоже очень люблю.
У нас весна. Сегодня 20 апреля. На дворе баран, похожий на Пяста[78], жует как беззубый и не скрывающий свою старость старик.
Я пополнел и погрустнел.
Привет Вам и всем, кого Вы любите.
Виктор из Raivola.
Придумал «фильму».
11
<Весна 1922 года>
Дорогой Алексей Максимович.
Я не умею говорить с Вами.
Чувствую себя просителем. А я не виноват.
Писать легче. А хочется быть близко к Вам.
Но замечали ли Вы, что когда целуешь женщину, то ее не видишь, а чтобы увидеть, нужно отдалиться.
Я расскажу Вам про роман, который я напишу, если оторвусь от преследования и буду иметь месяц-два свободных.
1) Идут передовицы «Правды» и передовицы буржуазных газет, прямоугольные до безмысленности.
Иногда это прямоугольность огненная. Идут списки расстрелов, цифры смертности.
Передовицы прямоугольно отрицают друг друга.
2) Между ними идут письма к Вам. Записки, письма, записки. Идут Ваши письма (дружеских нет), но больше записки «прошу выслушать такого-то», «прошу не расстреливать такого-то», «прошу вообще не расстреливать».
Потом между этим советские «анекдоты».
Моя маленькая (7 лет) племянница плакала в церкви. Мы знаем, что плачущего нельзя спрашивать. Потом спросили дома «почему». Она ответила: «Я не знаю, где могила папы» (Николай расстрелян), «где тети Женина могила знаю, а папиной нет»[79].
О, дорогой мой, о друг мой, как горек от слез воздух России.
О счастье наше, что мы заморожены и не знаем, как безнадежно несчастны.
Идут передовицы прямоугольные, декреты, и все они отражаются то в письмах, то в маленьких отрывках из маленьких человеческих жизней. Тюрьмы, вагоны, письма и декреты.
Вы в этой вещи не вы, а другой.
Я не знаю, как кончить. Кто-то, правозаступник и кто пишет всем отпускную, какой-то последний из раздавленных или Вы сами, на чьем сердце скрещены два меча, пишете миру письмо о прощении.
Прощаю себя за то, что смеюсь, за то, что бегу от креста, прощенье Ленину, прощенье Дзержинскому, красноармейцу, издевающемуся в вагоне над старухой, красноармейцу, взявшему Кронштадт, всему племени, продающему себя. Всем себе-иудам.
У меня нет никого. Я одинок. Я ничего не говорю никому. Я ушел в науку «об сюжете», как в манию, чтобы не выплакать глаз. Не будите меня.
Виктор Шкловский.
13
Вы помните, как писал Троцкий: «Необходимо разбить пространство на квадраты в шахматном порядке. Квадраты А оставить себе, а Б передать концессионерам»[80]?
Пространство это прежде звали Россией.
Генерал-немец говорил в «Войне и мире»: «Войну нужно перенести в пространство»[81].
Пространством этим была тоже Россия.
Ленин писал: «Я согласен жить в свином хлеву, только бы была (в нем) советская власть»[82].
Мы живем вместе с ним.
Люди политики мерят мерой пространства, а Вы знаете, что в этом пространстве живут люди и что вообще здесь режут по живому.
Ленин же и Троцкий представляют же себе людей толпами-брикетами из человечины, и над каждым брикетом в небе соответственная цифра, например:
20%
Гржебинское издательство, и Дом ученых, и «Всемирная литература» (настоящее название: вся всемирная)[83] — тоже пространственное восприятие.
В Вас есть коммунист. Настроить, нагородить, разделить пространство, а потом пусть все работают по плану.
Ваш пафос коммунистичен. Вы тоже тысяченожка.
А книги, как жизнь, должны расти сами.
Вы пропускаете ветер.
Ваше сложное отношение к власти объясняется тем, что Вы с ней сходны в методе осчастливливания людей.
Но Вы писатель (хорошее но: «но Максим Горький писатель») и обладаете уменьем не видеть леса за деревьями, то есть знанием, что «пространства» нет, а есть люди и поля, хорошо знакомые.
Это хуже Востока и Запада[84].
Эти два взгляда не совместимы.
Если бы комм<унисты> не убивали, они были бы все же не приемлемы.
20
Чувствую себя изолированным. Как революционер, потерявший все «связи».
Хоть начинай жизнь сначала.
Всего же ужасней потерять самоуверенность.
У нас нет никого кроме себя.
Виктор Шкловский.
Иногда можно оторваться от преследования.
Не нужно думать, куда идешь и откуда, можно забыть и идти вдоль улицы то к заре, то от зори.
Водосточные трубы, если об них ударять рукой, звучат приветливо. На деревьях распускаются листья, как первые мысли о стихах, более красивые, чем всякая книга.
Еще не густые деревья врастают в воздух.
Совсем не трудно и не страшно.
Черные тоненькие провода бегут с дерева на дерево, их оба конца закреплены в каких-то учреждениях. Это очень скучно, но они связаны с землей и входят в мир электричества. Какое дело току до маленького скучного куска, через который он пробегает.
Я лечу через маленький скучный кусок, но прекрасен мир моего исхода и моей цели.
Романа же я не напишу.
26. Вторник.
У меня был целый склад неотправленных к Вам писем.
Во время Кронштадта[85] уничтожил на всякий случай.
Советская же республика имеет (должна иметь) эмблемой вареного рака, животное красное, но никуда не могущее уже поспешать, даже обратно.
12
Дорогой Алексей Максимович.
По непроверенным слухам жена моя Василиса Корди освобождена. Пока эта загадочная женщина мне еще не писала.
Освободили ее за виру[86] в 200 рублей золотом. Вира оказалась «дикой», так как внесли ее литераторы купно. Главным образом Серапионы.
У Серапионов наблюдается следующее. Бытовики: Зощенко, Иванов и Никитин обижают сюжетников: Лунца, Каверина и Слонимского[87].
Бытовики немножко заелись в «Красной нови»[88], а сюжетники ходят пустые, как барабаны без фавора и ом[м]ажа[89].
Я написал уже об этом туда письмо, но этого мало[90].
Напишу в книге о современной русской прозе[91], что, мол, можно и без быта. Но и этого мало.
Дорогой Алексей Максимович, я Вас очень люблю и знаю, как Вас интересует все, имеющее отношение к нашему рукомеслу. Если будете писать в Россию, напишите им, чтобы они там жили дружно, но важно не это. Может быть, Вы напишете когда-нибудь, когда-нибудь статью о Серапионах с указанием, что Лунц и Каверин совсем не пустое место и что Никитину до них еще нужно попрыгать[92].
Вообще в Серапионовых делах наш отъезд нарушил небесную механику.
Хотел ехать к Вам на день, но все время почему-то не было денег. А я еду к Роману Якобсону[93].
Он присылает мне одну телеграмму утром и одну вечером. В понедельник еду к нему.
Я его люблю как любовница. Он выучил мадьярский язык в две недели на пари с Мостовенкой[94]. Узнал не от него.
Иван Павлович[95] поехал в Москву и в Питер, привезет серапиачии рукописи.
Вообще все обстоит благополучно. По слухам, предстоит зима. Еще кланяюсь Марии Игнатьевне Бенкендорф.
Уверяю ее клятвенно, что она большой человек.
Уверен вообще, что совершенно незачем быть несчастным.
Поэтому написал книжку о кинематографе в два листа[96]. Если я правильно указал в ней на одну вещь, то книжка хорошая.
Роман я все-таки напишу[97]. Не все же одному Алексею Толстому. Не знаю, чем только его тормозить.
Выпал ли в Херингсдорфе[98] снег, и поставил ли Соловей свою зимнюю юрту и проч. проч.
В Праге проживу около месяца. Я дальше месяца вперед ничего не думаю.
Прибыли из Питера с Еф<имом> Яковлевичем Белицким[99] 20 рисунков Владимира Лебедева, изображающих типы русской революции: солдаты, матросы, проститутки, танцулька (танцулька, конечно, не тип) и проч.[100]
Очень интересно и совсем не карикатурно.
Сижу, пишу книжку «Современная русская проза», заглавие переменю. Читаю Вашу книжку о Толстом[101]. Как хорошо! Какой изумительный писатель Максим Горький.
И как он мало знает об этом. Алексей Максимович, я думаю, что Вы получили мировую известность не благодаря идейному содержанию своих вещей и т. д., а вопреки ему.
Если бы Вы были рыбой, то жили бы в очень глубоких местах океана, но на сушу все же бы лазали из любопытства и икру метать[102].
Хожу по кино. Живу глупо. Ну, это судьба.
Сюда приехали Оцуп, Альтман, Артур Лурье[103] и проч. проч.
О моей жене заботились все время Жак, Шагинян[104] и Давид Выгодский.
Ваш
Виктор Шкловский.
18 сентября 1922 года.
13
Дорогой Алексей Максимович.
Положение отчаянное. Денег 200 марок.
Издатели думают, покупать ли сборник «Поэтика Пушкина»[105], а если и купят, там моего (подписанного моим именем) мало.
Денег нет, поэтому не обедаю.
Очень глупо. А нужно сидеть и писать «Роман тайн у Диккенса»[106]. Нужно писать для себя, для души, а нельзя.
Объявляю, что пролетариат (я) без журнала жить не может, писать негде и есть нечего.
Паники у меня нет, так как я купил в свои цветущие времена три мешка картошки, которую и смогу есть. Но скучно.
Писать хочется.
Алексей Максимович, я не знаю, для чего издают книги. Подозреваю, что это не очень выгодно. Ни Петру Петровичу[107], ни Ладыжникову, ни Гржебину из книги И<ш>лонского[108] (кажется) не нужен журнал. Но нам очень нужен.
Заставьте их его издавать.
Я буду в нем щебетать, как жаворонок, так как журнал моя родина.
Скучаю и хожу от отчаянья небритый.
Приехал Петр Богатырев[109] с немецкой походкой. Живем вместе, очень милый середняк.
К Вам приедет, если разрешите, в понедельник[110].
От жены писем нет.
Говорят, она похудела.
Не понимаю, зачем мучат бедных животных?
Какой сволочи надо, чтобы я был несчастлив.
Пока скучно. Привет всем всем.
Дука, дорогой, я хочу писать.
Найдите человека, который купил бы меня.
Мне нужен минимальный уход, как козе, я буду давать шерсть, молоко и м<е>кать даром.
Эх.
В баню, например, тоже нужно ходить. А для чего жить, невозможно понять.
А я напишу повесть «Шеповалый», это из гимназического бытования. Сценка: двое, еврей и русский (мальчики), подрались. На еврее (фамилия его Хаст) расстегнулась куртка, он снял ее. На рубашку его одета жилетка с цветочками, для тепла. А которые русские, те такой не носят, ни одному из них не придет в голову одеть такую жилетку, и они смотрят на него с осуждением, и он им чужой.
Не знаю, понятно ли?
Или как гимназист подложил под ножки кровати, на которой лежал с женщиной, учебники, чтобы не шуметь, и протер насквозь толстый латинский словарь.
Это легенда.
Целую Вас
Виктор.
Дано 10 ноября в Берлинове.
14
<Конец октября — ноябрь 1922 года>
Дорогой Алексей Максимович.
Получил письмо из России. Там сравнительно благополучно, за женой ухаживают все, даже чистильщики сапог. Может быть, она сможет приехать[111]. Брата моего Владимира[112] сослали в Архангельск. Изумительные сволочи.
Приеду к Вам на днях.
О журнале говорил с П. П. К.[113]
Нам все равно, кто издаст, только бы покрепче.
У меня к Вам просьба.
Меня разыскала в Берлине моя ученица, Эмилия Эмануиловна Летауер, 21 года, студентка Петр<оградского>университета и Института истории искусств. У нее были хорошие работы по Толстому. Сейчас ее здесь не принимают в Университет. Не можете ли Вы написать записку какому-нибудь министру Народ. Просвещения или какому иному Эйнштейну, что девочка талантливая и что ей работать очень нужно.
Я же хожу по Берлину небритым. Роман[114] кутит так, что даже жутко. Он запивает мыслью.
Вижу Маяковского[115]. В России, очевидно, здорово плохо. Ну что ныть.
Серапионы, кажется, опять повеселели. Это Ладыжников[116].
Виктор.
Мой адрес: Kleiststrasse, 11.
15
<14 февраля 1923 года>
Дорогой Алексей Максимович.
Через «Эпоху» и по Максиму увидал, что в Саарове меня хотят высечь[117].
Сообщаю следующее.
В истории с Рафаловичем[118] я, конечно, не прав.
Причина скандала следующая: у меня температура была 82,61 (номер одного телефона).
Одним словом, я влюблен, очень в любви несчастен, и как вылезу из этой истории, не знаю[119].
Прошу себе моратория на две недели.
Рафалович же бездарь ужасная, сверхъестественная, и я это знаю наверняка, и мораторий даже на два года ему не поможет.
Мне очень тяжело и больно ссориться с Вами, с Ходасевичем; хотя он в данном случае и прав, конечно, все<-таки> я поссорюсь.
Разная кровь.
Предположим, его лучше, а у меня больше.
Думаю, что журналу вся эта история не помешает, тем более, что на берлинском рынке я величина сравнительно незначительная и довольно легко ликвидируемая.
Если я компрометирую каких-либо профессоров, то я уйду к себе в ОПОЯЗ, где мне тепло, уютно, где я никого не компрометирую.
Посылаю Вам три своих отрывка для журнала[120].
Е<c>ли они плохи, это меня очень огорчит.
Жена едет[121].
Но хлопочет о ней Жак[122] по прозвищу «недостоверный».
Так отвык писать не любовные письма, что с трудом называю Вас не женским именем и не целую Вас через слово.
Приеду в воскресенье.
Был болен гриппом. Сейчас имею невроз сердца.
Не человек, а битый Чаплин.
Страна Европа вежлива, носят здесь брюки со складкой.
Ходасевич подходит для этого больше меня.
Мне же больше нравится дома.
Я учился вести себя не у Зайцева[123] и не у Зайцев<ых>, а у своих друзей.
Ну ладно, сговоримся, или не сговоримся.
Виктор Шкловский.
Очень прошу о моратории.
Я тону. Вода у меня в ушах.
14 февраля 1923 года.
16
<Конец января — начало марта 1923 года>
Дорогой Алексей Максимович.
Книжка Zoo подвигается довольно быстро. Сейчас еду в Гамбург с Криммером[124] и надеюсь там ее дописать. Живу душевно очень тяжело и не хорошо. Но надеюсь дописать и освободиться. Очень, очень трудно.
Я думаю, что сам все выдумал, но от этого мне не легче. Целую Ваш «Рассказ о безответной любви»[125]. У Вас за прозой песня, т. е. разорванные стихи, которые должны быть в основе рассказа. Жить и писать трудно.
Жена едет, слава Богу, а не то я убью кого-нибудь. Был в Дрездене, там хорошо. Сикстинская мадонна Вам кланяется. Кранах замечательный. Кроме того, Эльба.
Пишу не очень много, но думаю о книге целый день. Книга и жизнь переплелись.
Забавно очень.
Привет всем, всем, всем.
Виктор.
17
<Вторая половина февраля — начало марта 1923 года>
Алексей Максимович.
Я погибаю. Хожу по улицам и плачу.
Виновен сам.
Неумел в любви и чувствителен к жестокости.
Из России вестей нет.
Жена пишет на адрес Пуни, Пуни в Праге[126].
Хожу по улицам и плачу.
Виктор.
Книжку кончаю, часть в переписке, часть в переделке, в воскресенье приеду читать, или в понедельник[127].
18
<Вторая половина февраля — начало апреля 1923 года>
Еду завтра[128]. Посылаю к Вам десять новых стихотворений Елены Феррари[129].
Кажется, она пишет теперь лучше, чем раньше.
Посмотрите их.
Скучаю. Вчера был неприятнейшим образом пьян.
Очень не хорошо.
А. Белый издал «Петербург», сократив его на 1/3. Теперь больше похоже на роман[130].
Его воспоминания о Блоке[131] совсем не о Блоке и не воспоминания, но хороши.
Желаю Вам уйму счастья.
Вы для меня самый дорогой человек в Европе.
Виктор.
19
<Не позднее 10 апреля 1923 года>
Склонения Спряжения И. Чарль. Я Чарлю Р. Чарля. Ты Чарлишь Д. Чарлю. Он Чарлит В. Чарля. Мы Чарлим Т. Чарлем. Вы Чарлите П. О Чарле. Они ЧарлятОчень хорошо, и не понимаю, чего Вы сердитесь.
Ей Богу, больше не буду.
Завтра же напишу Дон Кихота.
Виктор.
20
16 июля 1923 года
Дорогой Алексей Максимович.
Посылаю Вам «Жареного принца»[132], а сам сегодня уезжаю на море. Жду Люсю в течение ближайших недель, незаконным способом. «Цоо» еще в машине[133]. Я почти ничего не делаю и бегаю с фильмами. Надеюсь только на то, что, если приедет Люся, то она возьмет меня за ухо и приведет в чувство. О Серапионах я написал статью, и книга уже переведена[134]. Переведены следующие вещи: «Дите» Всев. Иванова, «Сад» Федина, «Дикий» Слонимского, «В пустыне» Лунца и «Пес» Никитина. Очень прошу Вас через Марью Игнатьевну указать номер того журнала, в котором была Ваша статья о Серапионах[135], которую (два раза которой) Вы мне разрешили использовать. Лучше было бы иметь ее русский текст, так как перевод на немецкий язык с перевода на французский будет перевод довольно дальний. Адрес: Тауентциенштрассе, 7, «Руссторгфильм»[136], Виктору Шкловскому. Никитин немножко опильняковел[137]. Привожу его в чувство. Но он улетел в Лондон. Остается только молиться за него. На днях пришлю Вам «Цоо» и надеюсь сесть за какую-нибудь пристойную работу. Всего хорошего.
Виктор Шкловский.
21
<До 15 сентября 1923 года>
Дорогой Дука.
Хожу по улицам и пою. 15<-го> уезжаю в Россию[138]. Паспорта еще нет. Делаю все самым глупым образом. Знаю, что не так, и все-таки делаю.
Сейчас пишу Вам и пою: «Мой друг, о, дай мне руку». Слова песни установил с трудом.
Итак, я еду и остальное зависит от крепости моих костей. Сколько самоубийств было совершено для того, чтобы пожалели. Но мне не нужно ничего. Я не люблю никого. «Кончено», как говорят (предположим) матери, родившей мертвого ребенка.
«Как», «как», «как» я любил.
Я не люблю ее сейчас, Алексей Максимович. Но вот моя просьба.
Эльза Триоле[139] вся ранена мелкими ранами. Ее оскорбили незаслужено. Она одна, Дука, и я ее сейчас оставляю. Она не виновата передо мной.
Я вызвал ее к жизни и, клянусь своей честью и нюхом, который меня не обманул ни разу, она очень талантлива.
Я не сумел довести ее до конца работы.
Она слишком царапалась.
Алексей Максимович, это пишет не влюбленный.
Сейчас она доканчивает свою книгу[140].
Это решается ее жизнь: работа или джимми[141], уверенность в себе или рабский (сперва), а потом пренебрежительный взгляд на мужчину.
Если бы <Вы> смогли написать предисловие к ее книжке или взять ее в «Беседу», то Вы сделали бы ее этим писателем.
Я вижу, на веревке или проволоке качается и упадет сейчас человек, перед которым я ответственен. Я разбудил ее и дал ей пить соленой воды.
А я, как во сне, не могу протянуть ей руку.
Между тем эта женщина очень большой человек. И нужна в литературе.
Алексей Максимович, Вы судьбой поставлены быть консулом душ и пастырем стада.
Освободите меня от моей вины.
Книга же, как известно, хорошая, т. е. своя.
Дайте человеку зацепиться. Дайте ему удачу в жизни, и он будет жить.
И, честное слово, я ее не люблю.
Не видал месяц и не писал.
Я свободен, но это нужно сделать, так как мы ответственны за души.
А я уезжаю. Придется лгать, Алексей Максимович.
Я знаю, придется лгать.
Не жду хорошего.
Прощайте. «Пока», как говорят, когда говорят плохо. Прощайте, Дука, я очень люблю Вас.
Ответьте мне.
Берлин. Кайзер аллей, 207.
Pension Mahrzan.
РЕВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ
ВОСКРЕШЕНИЕ СЛОВА
Слово-образ и его окаменение. Эпитет как средство обновления слова. История эпитета — история поэтического стиля. Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова: они совершают путь от поэзии к прозе. Смерть вещей. Задача футуризма — воскрешение вещей — возвращение человеку переживания мира. Связь приемов поэзии футуризма с приемами общего языка мышления. Полупонятный язык древней поэзии. Язык футуристов.
Древнейшим поэтическим творчеством человека было творчество слов. Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу, но только что рожденное слово было живо, образно. Всякое слово в основе — троп. Например, месяц: первоначальное значение этого слова — «меритель»; горе и печаль — это то, что жжет и палит; слово «enfant» (так же, как и древне русское — «отрок») в подстрочном переводе значит «неговорящий». Таких примеров можно привести столько же, сколько слов в языке. И часто, когда добираешься до теперь уже потерянного, стертого образа, положенного некогда в основу слова, то поражаешься красотой его — красотой, которая была и которой уже нет.
Слова, употребляясь нашим мышлением вместо общих понятий, когда они служат, так сказать, алгебраическими знаками и должны быть безо́бразными, употребляясь в обыденной речи, когда они не договариваются и не дослушиваются, — стали привычными, и их внутренняя (образная) и внешняя (звуковая) формы перестали переживаться. Мы не переживаем привычное, не видим его, а узнаем. Мы не видим стен наших комнат, нам так трудно увидать опечатку в корректуре, особенно если она написана на хорошо знакомом языке, потому что мы не можем заставить себя увидать, прочесть, а не «узнать» привычное слово.
Если мы захотим создать определение «поэтического» и вообще «художественного» восприятия, то, несомненно, натолкнемся на определение: «художественное» восприятие — это такое восприятие, при котором переживается форма (может быть, и не только форма, но форма непременно). Справедливость этого «рабочего» определения легко доказать на тех случаях, когда какое-нибудь выражение из поэтического становится прозаическим. Например, ясно, что выражения «подошва» горы или «глава» книги при переходе из поэзии в прозу не изменили свой смысл, но только утратили свою форму (в данном случае — внутреннюю). Эксперимент, предложенный А. Горнфельдом в статье «Муки слова»: переставить слова в стихотворении —
Стих, как монету, чекань Строго, отчетливо, честно, Правилу следуй упорно: Чтобы словам было тесно, Мыслям — просторно, —чтобы убедиться в том, что с потерей формы (в данном случае — внешней) это стихотворение обращается в «заурядный дидактический афоризм»[142], — подтверждает правильность предложенного определения.
Итак: слово, теряя «форму», совершает непреложный путь от поэзии к прозе (Потебня, «Из записок по теории словесности»).
Эта потеря формы слова является большим облегчением для мышления и может быть необходимым условием существования науки, но искусство не могло удовольствоваться этим выветрившимся словом. Вряд ли можно сказать, что поэзия наверстала ущерб, понесенный ею при потере образности слов, тем, что заменила ее более высоким творчеством — например, творчеством типов, — потому что в таком случае она не держалась бы так жадно за образное слово даже на таких высоких ступенях своего развития, как в эпоху эпических сводов. В искусстве материал должен быть жив, драгоценен. И вот появился эпитет, который не вносит в слово ничего нового, но только подновляет его умершую образность; например: солнце ясное, удалой боец, белый свет, грязи топучие, дробен дождь… В самом слове «дождь» заключается понятие дробности, но образ умер, и жажда конкретности, составляющая душу искусства (Карлейль), потребовала его подновления. Слово, оживленное эпитетом, становилось снова поэтическим. Проходило время — и эпитет переставал переживаться — в силу опять-таки своей привычности. И эпитетом начали орудовать по привычке, в силу школьных преданий, а не живого поэтического чутья. При этом эпитет до того уже мало переживается, что довольно часто его применение идет вразрез с общим положением и колоритом картины; например:
Ты не жги свечу сальную, Свечу сальную, воску ярого, (Народная песня), —или «белые руки» у арапа (сербский эпос), «моя верная любовь» староанглийских баллад, которая применяется там без различия, — идет ли дело о верной или о неверной любви, или Нестор, подымающий среди белого дня руки к звездному небу, и т. д.
Постоянные эпитеты сгладились, не вызывают более образного впечатления и не удовлетворяют его требованиям. В их границах творятся новые, эпитеты накопляются, определения разнообразятся описаниями, заимствованными из материала саги или легенды (Александр Веселовский, «Из истории эпитета»). К позднейшему же времени относятся и сложные эпитеты.
«История эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном издании» (А. Веселовский. Собр. соч., СПб., 1913, т. 1, стр. 58). Она показывает нам, как уходят из жизни все вообще формы искусства, которые так же, как и эпитет, живут, окаменевают и наконец умирают.
Слишком мало обращают внимания на смерть форм искусства, слишком легкомысленно противопоставляют новому старое, не думая о том, живо оно или уже исчезло, как исчезает шум моря для тех, кто живет у берегов, как исчез для нас тысячеголосый рев города, как исчезает из нашего сознания все привычное, слишком знакомое.
Не только слова и эпитеты окаменевают, окаменевать могут целые положения. Так, например, в багдадском издании арабских сказок путешественник, которого грабители раздели донага, взошел на гору и в отчаянии «разорвал на себе одежды». В этом отрывке застыла до бессознательности целая картина.
Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова. Они совершают путь от поэзии к прозе. Их перестают видеть и начинают узнавать. Стеклянной броней привычности покрылись для нас произведения классиков, — мы слишком хорошо помним их, мы слышали их с детства, читали их в книгах, бросали отрывки из них в беглом разговоре, и теперь у нас мозоли на душе — мы их уже не переживаем. Я говорю о массах. Многим кажется, что они переживают старое искусство. Но как легки здесь ошибки! Гончаров недаром скептически сравнивал переживания классика при чтении греческой драмы с переживаниями гоголевского Петрушки[143]. Вжиться в старое искусство часто прямо невозможно. Поглядите на книги прославленных знатоков классицизма, — какие пошлые виньетки, снимки с каких упадочных скульптур помещают они на обложках. Роден, копируя годами греческие скульптуры, должен был прибегнуть к измерению, чтобы передать наконец их формы; оказалось, что он все время лепил их слишком тонкими. Так гений не мог просто повторить формы чужого века. И только легкомысленностью и нетребовательностью к своим вживаниям в старину объясняются музейные восторги профанов.
Иллюзия, что старое искусство переживается, поддерживается тем, что в нем часто присутствуют элементы искусству чуждые. Таких элементов больше всего именно в литературе; поэтому сейчас литературе принадлежит гегемония в искусстве и наибольшее количество ценителей. Для художественного восприятия типична наша материальная незаинтересованность в нем. Восхищение речью своего защитника на суде — не художественное переживание, и, если мы переживаем благородные, человечные мысли наших гуманнейших в мире поэтов, то эти переживания с искусством ничего общего не имеют. Они никогда не были поэзией, а потому и не совершили пути от поэзии к прозе. Существование людей, ставящих Надсона выше Тютчева, тоже показывает, что писатели часто ценятся с точки зрения количества благородных мыслей, в их произведениях заключенных, — мерка, очень распространенная, между прочим, среди русской молодежи. Апофеоз переживания «искусства» с точки зрения «благородства» — это два студента в «Старом профессоре» Чехова[144], которые в театре спрашивают один другого: «Что он там говорит? Благородно?» — «Благородно». — «Браво!»
Здесь дана схема отношения критики к новым течениям в искусстве.
Выйдите на улицу, посмотрите на дома: как применены в них формы старого искусства? Вы увидите прямо кошмарные вещи. Например (дом на Невском против Конюшенной, постройки арх. Лялевича), на столбах лежат полуциркульные арки, а между пятами их введены перемычки, рустованные как плоские арки. Вся эта система имеет распор на стороны, с боков же никаких опор нет; таким образом, получается полное впечатление, что дом рассыпается и падает.
Эта архитектурная нелепость (не замечаемая широкой публикой и критикой) не может быть в данном случае (таких случаев очень много) объяснена невежеством или бесталанностью архитектора.
Очевидно, дело в том, что форма и смысл арки (как и форма колонны, что тоже можно доказать) не переживается, и она применяется поэтому так же нелепо, как нелепо применение эпитета «сальная» к восковой свече.
Посмотрите теперь, как цитируют старых авторов.
К сожалению, никто еще не собирал неправильно и некстати примененные цитаты; а материал любопытный. На постановках драмы футуристов публика кричала «одиннадцатая верста», «сумасшедшие», «Палата № 6», и газеты перепечатывали эти вопли с удовольствием, — а между тем ведь в «Палате № 6» как раз и не было сумасшедших, а сидел по невежеству посаженный идиотами доктор и еще какой-то философ-страдалец. Таким образом, это произведение Чехова было притянуто (с точки зрения кричавших) совершенно некстати. Мы здесь наблюдаем, так сказать, окаменелую цитату, которая значит то же, что и окаменелый эпитет, — отсутствие переживания (в приведенном примере окаменело целое произведение).
Широкие массы довольствуются рыночным искусством, но рыночное искусство показывает смерть искусства. Когда-то говорили друг другу при встрече: «здравствуй» — теперь умерло слово — и мы говорим друг другу «асте». Ножки наших стульев, рисунок материй, орнамент домов, картины «Петербургского общества художников»[145], скульптуры Гинцбурга — все это говорит нам — «асте». Там орнамент не сделан, он «рассказан», рассчитан на то, что его не увидят, а узнают и скажут — «это то самое». Века расцвета искусства не знали, что значит «базарная мебель». В Ассирии — шест солдатской палатки, в Греции — статуя Гекубы, охранительницы помойной ямы, в Средние века — орнаменты, посаженные так высоко, что их и не видно хорошенько, — все это было сделано, все было рассчитано на любовное рассматривание. В эпохи, когда формы искусства были живы, никто бы не внес базарной мерзости в дом. Когда в XVII веке в России развелась ремесленная иконопись и «на иконах появились такие неистовства и нелепости, на которые не подобало даже смотреть христианину», — это означало, что старые формы уже изжиты. Сейчас старое искусство уже умерло, новое еще не родилось; и вещи умерли, — мы потеряли ощущение мира; мы подобны скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем. Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм.
Когда в припадке нежности или злобы мы хотим приласкать или оскорбить человека, то нам мало для этого изношенных, обглоданных слов, и мы тогда комкаем и ломаем слова, чтобы они задели ухо, чтобы их увидали, а не узнали. Мы говорим, например, мужчине — «дура», чтобы слово оцарапало; или в народе («Контора» Тургенева) употребляют женский род вместо мужского для выражения нежности. Сюда же относятся все бесчисленные просто изуродованные слова, которые мы все так много говорим в минуту аффекта и которые так трудно вспомнить.
И вот теперь, сегодня, когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не мертвым словом, он, желая дать ему лицо, разломал и исковеркал его. Родились «произвольные» и «производные» слова футуристов. Они или творят новое слово из старого корня (Хлебников, Гуро, Каменский, Гнедов), или раскалывают его рифмой, как Маяковский, или придают ему ритмом стиха неправильное ударение (Крученых). Созидаются новые, живые слова. Древним бриллиантам слов возвращается их былое сверкание. Этот новый язык непонятен, труден, его нельзя читать, как «Биржевку». Он не похож даже на русский, но мы слишком привыкли ставить понятность непременным требованием поэтическому языку. История искусства показывает нам, что (по крайней мере, часто) язык поэзии — это не язык понятный, а язык полупонятный. Так, дикари часто поют или на архаическом языке или на чужом, иногда настолько непонятном, что певцу (точнее — запевале) приходится переводить и объяснять хору и слушателям значение им тут же сложенной песни (А. Веселовский, «Три главы из исторической поэтики»; Э. Гроссе, «Происхождение искусства»).
Религиозная поэзия почти всех народов написана на таком полупонятном языке. Церковнославянский, латинский, сумерийский, умерший в XX веке до Рождества Христова и употреблявшийся как религиозный до третьего века, немецкий язык у русских штундистов (русские штундисты долгое время предпочитали не переводить немецкие религиозные гимны на русский язык, а учить немецкий. — Достоевский, «Дневник писателя»).
Я. Гримм, Гофман, Геббель отмечают, что народ часто поет не на диалекте, а на повышенном языке, близком к литературному; «песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного» (Короленко, «Ат-Даван»). Арно Даниель с его темным стилем, затрудненными формами искусства (Schwere Kunstmanier), жесткими (harten) формами, полагающими трудности при произнесении (Diez, «Leben und Werke der Troubadours». S. 285), dolce stil nuovo (XII век) у итальянцев — все это языки полупонятные, а Аристотель в «Поэтике» (гл. 23) советует придавать языку характер иноземного. Объяснение этих фактов в том, что такой полупонятный язык кажется читателю, в силу своей непривычности, более образным (отмечено, между прочим, Д. Н. Овсянико-Куликовским).
Слишком гладко, слишком сладко писали писатели вчерашнего дня. Их вещи напоминали ту полированную поверхность, про которую говорил Короленко: «По ней рубанок мысли бежит, не задевая ничего». Необходимо создание нового, «тугого» (слово Крученых)[146], на ви́дение, а не на узнавание рассчитанного языка. И эта необходимость бессознательно чувствуется многими.
Пути нового искусства только намечены. Не теоретики — художники пойдут по ним впереди всех. Будут ли те, которые создадут новые формы, футуристами, или другим суждено достижение, — но у поэтов-будетлян верный путь: они правильно оценили старые формы. Их поэтические приемы — приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию, как введена была в поэзию в первые века христианства рифма, которая, вероятно, существовала всегда в языке.
Осознание новых творческих приемов, которые встречались и у поэтов прошлого — например, у символистов, — но только случайно, — уже большое дело. И оно сделано будетлянами[147].
ПРЕДПОСЫЛКИ ФУТУРИЗМА
I
Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова. Они совершают путь от поэзии к прозе. Сейчас язык наш — кладбище слов, но когда-то слова жили, и жили поэтической жизнью. Каждое слово в основе — образ, например слово «горе» заключало в себе представление чего-то жгучего, горячего. Но постоянное употребление в обыденной речи сгладило внешнюю (звуковую) и внутреннюю (образную) форму слова.
Искусство, борясь за душу свою — конкретность (Карлейль[148]), подновило образную сторону слова эпитетом; появились выражения: «белый свет», «грязи топучие», «удалой боец»; но эпитет, становясь постоянным, переставал переживаться и, как потеря образной стороны слова сказывается в выражениях «красные чернила», «серая белка», «паровая конка», так окаменение эпитета сказалось в том, что его стали употреблять некстати, например в сербском эпосе к слову «руки» постоянный эпитет — «белые», и «белыми» руки оказываются даже у арапа; или в русской песне:
Ты гори, гори, свечка сальная, Свечка сальная, воску яраго.Здесь эпитет окаменел до бессознательности. Но ведь история эпитета — это история поэтического стиля в сокращенном издании (Александр Веселовский). Сейчас окаменели целые произведения. Стеклянной бронею привычности покрылись для нас произведения классиков, мы слишком хорошо помним, мы слышали с детства, бросали отрывки из них в беглой речи, и теперь для меня цитаты из Пушкина — то же, что возглас «me Hercule»[149] для римлянина-христианина. А когда мы узнали, как группа пушкинианцев (1912) искала в Евгении Онегине, тысячу раз прочитанном ими, фразу Карамзина «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно», то мы видим, что они дошли до того состояния, в котором бывают, по словам Станиславского, зазубрившиеся артисты: они одним духом говорят свою роль, но не могут пересказать ее содержания. Многие знают, как трудно найти «у Пушкина» опечатку или ошибку в цитировке его, ошибки проскальзывают в магистерские и докторские диссертации и часто их не замечают целые группы ученых специалистов. Пожалейте Пушкина. Дайте ему умереть на время, чтобы ожить. И не противопоставляйте так самонадеянно старое искусство, про которое мы не знаем, живо ли оно, — новому. И жаль, что никто не собирал еще неправильно и некстати приведенных цитат, а материал любопытный. На постановках драмы футуристов публика кричала: «Сумасшедшие», «Палата № 6»! — и газеты регистрировали эти вопли с наслаждением, а между тем весь замысел «Палаты № 6» в том, что туда посажен мещанами не сумасшедший доктор, здоровый более здоровых. Таким образом это произведение Чехова было притянуто с точки зрения кричавших совершенно некстати. Мы здесь наблюдаем окаменелую цитату, которая доказывает то же, что и окаменелый эпитет, — отсутствие переживания:
Ты гори, гори, свечка сальная, Свечка сальная, воску яраго.Вжиться в старое искусство часто прямо невозможно; поглядите на книги прославленных знатоков классицизма, какие пошлые виньетки, снимки с каких упадочных скульптур помещают они на обложках. Недаром так скептически отзывается творец исторической поэтики, проф<ессор> Александр Веселовский, о возможности при помощи изучения вернуть суггестивность (подсказывание) старому искусству. Роден, копируя годами греческих классиков, должен был прибегнуть к измерению, чтобы понять, что именно ускользает в его передаче: оказалось, что он все время лепил их слишком тонкими, он повторил ту ошибку, на которую в работах своих учеников жалуются преподаватели в художественных школах.
Выйдите на улицу, посмотрите на дома, как применены в них формы старого искусства, — вы увидите странные вещи (например, дом Мертенса на Невском, постройки архитектора Лелевича).
На столбах лежат полуциркульные арки, а между пятами их введены перемычки, рустованные как плоские арки; вся эта система сверху придавлена еще одним этажом и имеет распор на стороны, с боков же никаких опор нет; получается таким образом полное впечатление, что дом рассыпается и падает; эта архитектурная нелепость, незамечаемая ни широкой публикой, ни критикой, — про дом писали Александр Бенуа и Лукомский[150], — не может в данном случае быть объяснена невежеством или бездарностью архитектора. А между тем в ту пору, когда арка была еще искусством, ее выводили на глаз, по чутью, без вычисления, и теперь ее только проверяют расчетом и видят, что она сделана безупречно (Тэн, «Об уме и познании»). Очевидно, дело в том, что форма и смысл арки, как форма колонн, не переживается, что доказывается тем, что она применяется так же нелепо, как нелепо применение окаменелого эпитета «моя верная любовь» к тому случаю, когда дело именно идет о неверной любви в старой английской балладе. После таких наблюдений как-то странно выглядят бесчисленные воспроизведения памятников древней архитектуры, затемняющие стены наших выставок.
Широкие массы довольствуются рыночным искусством, но рыночное искусство показывает смерть искусства. Искусство заключено в выставки, в особенные, дорогие книги и сепарировано от жизни; оно обратилось в какую-то слишком нарядную игрушку, которой нельзя играть. Когда-то говорили друг другу при встрече «здравствуйте»; теперь умерло слово, и мы говорим друг другу «ассте». Ножки наших стульев, рисунки материй, орнаменты домов, скульптуры Гинцбурга и многих других, картины тысячи художников говорят нам «ассте»; так, орнамент не сделан, он рассказан, рассчитан на то, что его не увидят, а узнают и скажут, что это — «то самое». Все делается с расчетом на какую-то тупую невнимательность к вещам, к жизни. Века живого, а не ретроспективного пассеистического, искусства не знали, что значит базарная мебель. В Ассирии шест солдатской палатки, в Греции статуя Гекубы, охранительницы помойной ямы, в нашей деревне еще недавно гребень для чесания льна, в Средние века орнаменты, посаженные так высоко, что их не рассмотреть хорошенько, все это было «сделано», все рассчитано на влюбленное рассматривание. Рыночное искусство создала не фабрика, а смерть старых форм искусства. Когда в XVII веке в России развилась рыночная иконопись и «на иконах от неискусных иконописцев появились такие неистовства и нелепости, на которые даже смотреть не подобало доброму христианину»[151], это означало, что старые формы русской иконописи умерли. Сейчас искусство бежало даже из общественных зданий. Пропало чувство материала, мы живем в век цинкового листа, штампованной жести, гипса и олеографии. Вещи умерли, мы потеряли ощущение мира, мы подобны тому скрипачу, который не осязает струны смычком, мы не любим наших домов и платьев и легко расстаемся с жизнью, которой не ощущаем. Блестящее развитие музыки ничего не смогло внести в скудный напев улицы. Старые формы умерли, новые только рождаются, и наша жизнь пока выпала из искусства; в длинном университетском коридоре не найти ни искры искусства, на великой войне мы не находим слов, которые могли бы передать ее. И тщетно мечтал Ван Гог о картине «рыжего солнца», которую можно было бы повесить в трактире. Всем кажется даже естественным, что жизнь людей ушла из искусства.
II
Русский футуризм родился из страстной тоски и желания «вложить» нежное слово в зажиревшее ухо (Маяковский). Когда в припадке нежности или злобы мы хотим приласкать или оскорбить человека, то нам мало для этого изношенных, обглоданных слов, и мы тогда комкаем и ломаем слова, чтобы их нельзя было не «увидать». Мы говорим, например, мужчине «дура», чтобы слово царапало, или («Контора» Тургенева) употребляем женский род вместо мужского для выражения нежности. Сюда же относится явление переиначивания слов, так распространенное в народной речи, преимущественно в мещанстве, как попрекал футуристов Амфитеатров, обративший внимание на аналогию приемов в некоторых частушках с произведениями футуристов. Ведь рифма часто встречается в речи идиотов, но это совершенно не задевает имени Петрарки. Нельзя сравнительную психологию понимать как уравнительную. Сюда же относятся все те изуродованные слова, которые мы все говорим в минуты аффекта и которые так трудно вспомнить. В жажде нового, переживаемого во всей своей протяженности, и «в непреодолимой ненависти к существовавшему до них языку» (пощечина общественному вкусу) футуристы разломали слово, создали новое, разрубили старые рифмы, желая дать языку лицо; тоскуя, слыша в произведениях современников легкий, сладкий, мимо ушей идущий язык, они создали новый, «тугой» (Крученых), появилось новое требование, чтобы читать было трудно, чтобы внимание не скользило по строкам, как рубанок по полированной поверхности. Сейчас создаются новые живые слова.
Крылышкуя золото письмом тончайших жил Кузнечик в кузов пуза уложил много верхушек приречных вер тарара пипь пинькнул зинзивер о неждарь вечерней зари не ждал озари. (Хлебников)[152]Этот язык непонятен, труден; это нельзя читать, как читают газету, он непохож даже на русский, но мы слишком привыкли ставить понятность непременным требованием поэтическому языку. История искусства показывает нам, что — по крайней мере часто — язык поэзии — не понятный, а полупонятный; так, часто дикари поют или на архаическом языке, или на чужом, иногда настолько непонятном, что запевале приходится переводить и объяснять хору и слушателям значение им тут же сложенных песен. (Веселовский, три главы из «Исторической поэтики»; Гроссе, «Происхождение искусства».) Религиозная поэзия почти всех народов написана на таком полупонятном языке. Церковно-славянский [который никогда не был русским разговорным (Шахматов)], латинский, сумерийский, умерший в XX веке до Р. Х. и употреблявшийся, как религиозный, до III века. Я. Гримм, Гофман, Геббель отмечают, что народ часто поет не на диалекте, а на повышенном языке, близком к литературному; песенный якутский язык отличается от обиходного так же, как славянский от нынешнего разговорного (Короленко, «Ат-Даван»). Арно Даниель с его темным стилем, затрудненными формами искусства [ «schwere Kunstmanier»] и жесткими формами, полагающими трудности при произношении (Diez, «Leben und Werke der Troubadours»), — «dolce stil nuovo» (XIII век у итальянцев), все это полупонятные, часто искусственно затрудненные языки. Аристотель в «Поэтике» (гл. 23)[153] советует придавать языку характер чужестранного. Отсюда ясна связь приемов поэзии футуристов с приемами общего языкового мышления. Сейчас происходит, так сказать, канонизация уже прежде существовавшего приема, вводимого теперь в сферу «искусства» в узком смысле этого слова. Так, рифма, существование которой доказано теперь в самую древнюю эпоху, была введена в литературу только в начале Средних веков, когда появилась необходимость подновить слишком стершийся, уже непереживаемый размер.
Весьма интересным явлением в футуризме являются вещи, написанные на так называемом «заумном» языке. Это — не общий язык понятий, а язык, так сказать, личный, где слова не имеют определенного значения и должны действовать непосредственно на эмоцию, например:
Го, оснег койд дыр бур шил [Крученых],или несомненно более художественное стихотворение Гуро:
Это ли? Нет ли! Хвои шуят шуят Анна, Мария, Лиза, нет Это ли? Озеро ли Лулла лолла лалла лолла лу … Тере — дере ху Хвои шуят шуят.Публика приняла эти вещи как чистое издевательство, между тем такой язык существует. Мы знаем, что звуки вызывают каждый свои специфические эмоции (Grammont Maur., «Le vers français», 1913), что звуки «и» и «у» задумчивы и мрачны (Вячеслав Иванов) и что поэтому бессознательно в мрачных вещах особое их скопление, что звуки «ч» и «щ», преобладающие, например, в «Анчаре» Пушкина, придают ему особо мрачное настроение. Строго говоря, явление заумного языка лежит вне пределов языка как такового, но это не доказывает еще, что оно лежит вне пределов искусства. Веселовский и Овсянико-Куликовский отмечают, что лирическая поэзия, цель которой не создавать образы, а вызывать эмоции, появилась еще в «до-человеческой», до-язычной древности (Овсянико-Куликовский). Веселовский отмечает, что при первом появлении поэзии язык был на первых порах, так сказать, приемышем. «Заумный язык», как явление искусства, существует. Русские сектанты поют:
Савитраи само Капиласта гондря Даранта мандра Сункара пурута Майя диви луга.(Записано Мельниковым.)
Лопарские песни рассчитаны только на звуковой эффект.
Все знают детские песенки вроде:
Еники, беники, тинь-ти-ли-ля.Некоторые стихотворения, где слова использованы почти только со звуковой стороны, приближаются к заумному языку. Русские «матани»[154] написаны на таком языке, и он встречается в римских заклинаниях. Слово своей звуковой стороной может действовать непосредственно, безо́бразно. Московская купчиха боялась страшных слов: «металл» и «жупел», хотя не связывала с ними никакого образа. Эмоции, вызванные звуковой стороною слова, побеждают часто эмоции, вызванные образною. Слово «россинант» кажется пышным не только нам, но и Дон Кихоту, который знает, что оно значит «клячонка». «Заумный» язык существует и в современной жизни культурного человека. В прошлом году Париж пережил повальное увлечение совершенно бессмысленными песенками, рассчитанными на чисто звуковой эффект.
В «Голоде» Кнута Гамсуна автор в состоянии бреда изобретает слово «кубоа» и любуется тем, что оно — текучее, не имеющее определенного значения. «Я сам изобрел, — говорит он, — это слово и имею полное право придавать ему то значение, которое мне заблагорассудится; я еще сам не знаю, что оно значит». В этом ощущении игры есть искусство.
И появление в литературе «заумного языка» можно рассматривать как один из примеров выделения древним синкретическим искусством новой отрасли. Другой вопрос — совершенно ли это явление. Но слово уже сказано, явление осознано, и это осознание многих и многих явлений творчества — заслуга футуристов.
ВЫШЛА КНИГА МАЯКОВСКОГО «ОБЛАКО В ШТАНАХ»
У нас не умели писать про сегодня. Искусство, не спариваемое больше с жизнью, от постоянных браков между близкими родственниками — старыми поэтическими образами — мельчало и вымирало. Вымирал миф. Возьмем знаменитую переписку Валерия Брюсова с Вячеславом Ивановым[155].
Есть Зевс над твердью — и в Эребе. Отвес греха в пучину брось, — От Бога в сердце к Богу в небе Струной протянутая Ось Поет «да будет» отчей воле В кромешной тьме и в небеси: На отчем стебле — колос в поле, И солнца — на его оси[156].Здесь ясно видно, что образы этих поэтов — образы третьего поколения, скорее даже ссылки на образы — внуки первоначального ощущения жизни. В сотый, в тысячный раз восстановлялись образы, но ведь только первый вошедший по возмущению воды в Силоамскую купель получал исцеление. В погоне за новым образом ударялись в экзотику; писали и одновременно увлекались XVIII веком, таитянским искусством, Римом, кватроченто, искусством острова Пасхи, комедией dell’arte, русскими иконами и даже писали поэмы из быта третичных веков. Увлекались всем сразу и ни от чего не отказывались, ничего не смели разрушить, не замечая, что искусства разных веков противоречивы и взаимно отрицают друг друга и что не только средневековая хроника написана на пергаменте, с которого счищены стихи Овидия, но и даже для того, чтобы построить Биржу Томона, нужно было разрушить Биржу Гваренги. Примирение и одновременное сожитие всех художественных эпох в душе пассеиста вполне похоже на кладбище, где мертвые уже не враждуют. А жизнь была оставлена хронике и кинемо. Искусство ушло из жизни в тесный круг людей, где оно вело призрачное существование, подобное воспоминанию. А у нас пропало чувство материала, стали цементу придавать форму камня, железу — дерева. Наступил век цинкового литья, штампованной жести и олеографии. Морские свинки с перерезанными ножными нервами отгрызывают себе пальцы. Мир, потерявший вместе с искусством ощущение жизни, совершает сейчас над собою чудовищное самоубийство. Война в наше время мертвого искусства проходит мимо сознания, и этим объясняется ее жестокость, бо́льшая, чем жестокость религиозных войн. Германия не имела футуризма, зато имели его Россия, Италия, Франция и Англия.
Цензурными вырезками превращенная в отрывки, притушенная, но и в этом виде огненная, вышла книга Маяковского «Облако в штанах». Из книги вырезано почти все, что являлось политическим credo русского футуризма, остались любовь, гнев, прославленная улица и новое мастерство формы.
К форме поэмы Маяковского можно применить те слова, которые он говорит про себя:
У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней! Мир огро́мив мощью голоса, иду — красивый, двадцатидвухлетний.В поэме тоже нет ни седых волос — старых рифм и размеров, — ни старческой нежности прежней русской литературы — литературы бессильных людей. Поэма написана таким размером, свободным и закономерным, как ритм плача или брани. Рифмы Маяковского не дают полного совпадения звуков, но как бы отступают друг от друга на полшага, так же, как отступают, напоминая друг друга, но не совпадая, параллельные образы, которыми широко пользуется автор.
Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей за́гиб. Что же! И в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги!Это применение параллелизмов скорее роднит прием поэта Маяковского с героическим эпосом, чем со вчерашним искусством. Поэма производит впечатление какого-то большого единства; слова держатся друг за друга мертвой хваткой.
И кто-то, запутавшись в облачных путах, вытянул руки к кафе — и будто по-женски, и нежный как будто, и будто бы пушки лафет.В новом мастерстве Маяковского улица, прежде лишенная искусства, нашла свое слово, свою форму. Сегодня мы у истоков великой реки. Не из окна смотрел поэт на улицу. Он считает себя ее сыном, а мы по сыну узнаем красоту матери, в лицо которой раньше смотреть не умели и боялись.
Так, как саги оправдали разбой норвежцев; так, как навсегда сделал правыми в троянской войне Гомер греков; так, как Дант из междоусобной войны и городской свары буржуазного средневековья создал красоту его; так сегодня созидается новая красота.
Мы, каторжане города-лепрозория, где золото и грязь изъя́звили проказу, — мы чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу!Безголовая, безгласная и безглазая жизнь нашла сама свое слово.
Их ли смиренно просить: «Помоги мне!» Молить о гимне, об оратории! Мы сами творцы в горящем гимне — шуме фабрики и лаборатории.Посмотрите, как красив новый человек. Он не сгибается. Он кричит. Вы все так хорошо научились смеяться над собой, вы так очеховились и кричать разучились.
Вот война пришла, и кто из вас смог написать песню наступления. Вы ушли от жизни, хотели обратить искусство в комнатную собаку. И вот вы отлучены от искусства.
Новый уже пришел, а не обещан только, поэт; грозно его лицо, и он прекрасно болен «пожаром сердца». Он говорит:
…. Уже ничего простить нельзя. Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч Бастилий! …. вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая! — и окровавленную дам, как знамя. …. Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто.Кажется, наступает великое время. Рождается новая красота, родится новая драма, на площадях будут играть ее, и трамваи обогнут ее двойным разноидущим поясом цветных огней.
Мы стоим у ваших ворот, и кричим «разрушим, разрушим», и знаем, что выше скучных античных крыш взбежали в небо побеги готических зданий, подобных столбам пожара.
О ПОЭЗИИ И ЗАУМНОМ ЯЗЫКЕ
Случится ли тебе в заветный, чудный миг Открыть в душе давно безмолвной Еще неведомый и девственный родник, Простых и сладких звуков полный, — Не вслушивайся в них, не предавайся им. Набрось на них покров забвенья: Стихом размеренным и словом ледяным Не передашь ты их значенья. (Лермонтов)Какие-то мысли без слов томятся в душе поэта и не могут высветлиться ни в образ, ни в понятие.
О, если б без слова Сказаться душой было можно! (Фет)Без слов и в то же время в звуках, — ведь поэт говорит о них. И не в звуках музыки, не в том звуке, графическим изображением которого является нота, а в звуках речи, в тех звуках, из которых складываются не мелодии, а слова, так как перед нами признание и томление словотворцев перед созданием словесного произведения.
«4) МЫСЛЬ И РЕЧЬ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА ПЕРЕЖИВАНИЕМ ВДОХНОВЕННОГО, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (незастывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег Кайд и т. д.). 5) СЛОВА УМИРАЮТ, МИР ВЕЧНО ЮН. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово „лилия“, захватанное и „изнасилованное“. Поэтому я называю лилию „еуы“, — первоначальная чистота восстановлена, <…> 3) Стих дает (бессознательно) ряды гласных и согласных. ЭТИ РЯДЫ НЕПРИКОСНОВЕННЫ. Лучше заменять слово другим, близким не по мысли, а по звуку (лыки-мыки-кыка)»[157].
На этом заумном языке писали или хотели писать «стихотворения». Например:
Дыр бул щыл Убещур (Крученых)Или:
Это-ли? Нет-ли? Хвои шуят, — шуят Анна — Мария, Лиза, — нет? Это-ли? — Озеро-ли? Лулла, лолла, лалла-лу, Лиза, лолла, лулла-ли. Хвои шуят, шуят, ти-и-и, ти-и-у-у. Лес-ли, — озеро-ли? Это ли? Эх, Анна, Мария, Лиза, Хей-тара! Тере-дере-дере… Ху! Холе кулэ-нэээ. Озеро-ли? — Лес-ли? Тио-и ви-и…у. (Гуро — сб. «Трое». СПб., 1913, стр. 73)Эти стихи и вся теория заумного языка произвели большое впечатление и даже были очередным литературным скандалом. Публика, которая считает себя обязанной следить за тем, чтобы искусство не потерпело какого-нибудь ущерба от руки художников, встретила эти стихи проклятиями, а критика, рассмотрев их с точки зрения науки и демократии, отвергла, скорбя о той дыре, о том Nihil, к которому пришла русская словесность[158]. Говорили много и о шарлатанстве.
Шум прошел, лишние ушли, критики уже написали свои фельетоны, и теперь пора сделать попытку разобраться в этом явлении.
Итак, несколько человек утверждают, что их эмоции могут быть лучше всего выражены особой звукоречью, часто не имеющей определенного значения и действующей вне этого значения или помимо его непосредственно на эмоции окружающих. Представляется вопрос: оказывается ли этот способ проявлять свои эмоции особенностью только этой кучки людей или это — общее языковое явление, но еще не осознанное.
Прежде всего мы встречаем явление подбора определенных звуков в стихотворениях, написанных на «общем» языке понятий. Этим подбором поэт стремится увеличить суггестивность своих произведений, свидетельствуя тем самым, что сами звуки речи, как таковые, обладают особенной силой. Привожу мнение Вячеслава Иванова о звуковой стороне поэмы Пушкина «Цыганы»: «Фонетика мелодического стихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного звука у, то глухого и задумчивого, уходящего в былое и минувшее, то колоритно-дикого, то знойного и узывно-унылого; смуглая окраска этого звука или выдвигается в рифме, или усиливается оттенками окружающих его гласных сочетаний и аллитерациями согласных; и вся эта живопись звуков, смутно и бессознательно почувствованная уже современниками Пушкина, могущественно способствовала установлению их мнения об особенной магической напевности нового творения, изумившей даже тех, которые еще так недавно были упоены соловьиными трелями и фонтанными лепетами и всею влажною музыкой песни о садах Бахчисарая»[159].
О «мрачности» звука у и о радостности звука а писал Гринман в журнале «Голос и речь»[160].
Свидетельства о мрачности звука у очень определенны в общем почти у всех наблюдателей.
«Возможность такого эмоционального воздействия слова станет для нас более понятной, если мы вспомним тот факт, что одни звуки, например, гласные, вызывают у нас впечатление, представление чего-то мрачного, угрюмого — таковы гласные о и главным образом у, при которых резонирующие полости рта усиливают низкие обертоны, — другие звуки вызывают в нас ощущение противоположного характера — более светлого, ясного, открытого, таковы и и э, при которых резонирующими полостями усиливаются высокие обертоны» («Журнал Министерства народного просвещения», 1909, январь, стр. 166–167, ст. Б. Китермана «Эмоциональный смысл слова»).
Наблюдая такие же явления во французском языке, Grammont («Le vers français», 1913)[161] пришел к заключению, что звуки вызывают каждый свои специфические эмоции, или круг определенных специфических эмоций. В книге К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (М., 1916) указано много примеров такого подбора звуков, сделанного для достижения известных эмоций. Очевидно, этими эмоциями в высокой степени определяется ценность данных произведений. «Художественное произведение, — пишет Гёте, — приводит нас в восторг и в восхищение именно тою своею частью, которая неуловима для нашего сознательного понимания; от этого-то и зависит могущественное действие художественно-прекрасного, а не от частей, которые мы можем анализировать в совершенстве»[162].
Этим объясняется значение для поэта «ничтожных» речей.
Есть речи — значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно.«Микобер опять усладил свой слух набором слов, конечно смешным и ненужным, однако ж не ему одному свойственным. Я в продолжение моей жизни у многих примечал эту страсть к ненужным словам. Это род общего правила во всех торжественных случаях, и на нем основывается масса содержания всех формальных и судебных бумаг и тому подобных речей. Читая или произнося их, люди как будто особенно наслаждаются, когда попадут на ряд звучных слов, выражающих одно и то же понятие, как, например, „хочу, требую и желаю“ или „оставляю, завещаю и отказываю“ и так далее. Мы толкуем о трудностях языка, а сами подвергаем его пыткам <…>» (Диккенс, «Давид Копперфильд», гл. LII)[163].
В этом отрывке нас, конечно, интересует только наблюдение, сделанное Диккенсом, а не его отношение к нему. Романист был бы, вероятно, очень удивлен, узнав, что употребление ряда звучных слов, выражающих одно и то же понятие, было родом общего правила в ораторской речи не только в Англии, но и в античной Греции и Риме (см. статью Ф. Зелинского «Художественная проза и ее судьба»[164]).
На факт вызывания эмоций звуковой и произносительной стороной слова указывает существование тех слов, которые Вундт назвал Lautbilder — звуковыми образами. Под этим именем Вундт объединяет слова, выражающие не слуховое, а зрительное или иное какое представление, но так, что между этим представлением и подбором звуков звукообразного слова чувствуется какое-то соответствие; примерами на немецком языке могут служить: tummeln, torkeln; на русском хотя бы слово «каракули».
Прежде объясняли такие слова тем, что после исчезновения образного элемента в слове значение слова примыкает непосредственно к звукам слов и сообщает наконец им свой чувственный тон[165]. Вундт же объясняет это явление главным образом тем, что при произнесении этих слов органы речи делают уподобительные жесты. Эта точка зрения очень хорошо вяжется с общим воззрением Вундта на язык: очевидно, он здесь пытается сблизить это явление с языком жестов, анализу которого он посвятил главу в своей «Völkerpsychologie»[166], но вряд ли это толкование объясняет все явление. Быть может, ниже приведенные отрывки могут несколько иначе осветить и этот вопрос. У нас есть литературные свидетельства, которые дают нам не только примеры звуковых образов, но и позволяют нам как бы присутствовать при их возникновении. Нам кажется, что звукообразные слова имеют своими ближайшими соседями «слова» без образа и содержания, служащие для выражения чистых эмоций, то есть такие слова, где ни о каких подражательных артикуляциях говорить не приходится, так как подражать нечему, а можно только говорить о связи звука — движения, сочувственно воспроизводимого в виде каких-то немых спазм органов речи слушателями, с эмоциями. Привожу примеры: «Я стою и смотрю ей прямо в глаза, и в мозгу моем вдруг проносится имя, которое я никогда раньше не слыхал, имя, звучащее каким-то скользящим нервным звуком: „Илаяли“» («Голод» Кнута Гамсуна, изд. «Шиповник»)[167]. Интересное соответствие этому слову есть в русской поэзии.
Своенравное прозванье Дал я милой в ласку ей: Безотчетное созданье Детской нежности моей; Чуждо явного значенья, Для меня оно символ Чувств, которых выраженья В языках я не нашел. (Баратынский)Весьма характерное место есть и у В. Розанова («Уединенное». СПб., 1912, стр. 81): «Бранделяс» (на процессе Бутурлина) — это хорошо. Главное, какой звук… есть что-то такое в звуке. Мне все более и более кажется, что все литераторы суть «Бранделясы». В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литературе.
«После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов», — скажет будущий Иловайский. Я думаю, это будет хорошо.
Но слова нужны людям не только для того, чтобы ими выразить мысль, и не только даже для того, чтобы словом заменить слово или сделать его именем, приурочив его к какому бы то ни было предмету: людям нужны слова и вне смысла. Так Сатин («На дне» Макс. Горького, действие первое), которому надоели все человеческие слова, говорит: «Сикамбр», — и вспоминает, что, когда он был машинистом, он любил разные слова. В последнем своем произведении М. Горький («В людях» — «Летопись» 1916 года, март, стр. 11) снова возвращается к этому явлению:
«Сочиняют, ракалии… Как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гервасий! А на черта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул.
Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их — может быть, в звуках откроется смысл?»
Валентин в очерках Гончарова «Слуги старого века» (т. 12, изд. Маркса, стр. 169–177) наслаждается чтением непонятных для него стихов и любовно выписывает в тетрадь непонятные звучные слова, подбирая созвучные: «конституция и проституция», «тлетворный и нерукотворный», «нумизмат и кастрат», не желая даже узнать их значения, но подбирая их по созвучности, — так, как подбирают по цвету драгоценные камни или материи.
Гончаров сумел даже обобщить наблюдаемое им явление. «Я видел, — говорит он, — как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке, ничего не понимая или понимая только „иные слова“, как мой Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь, по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством» (Гончаров, т. 12, изд. Маркса, стр. 177).
«Еще показательнее — прямо патологический успех сочетаний слов, вырванных из забытого контекста, лишившихся первоначального, да и вообще какого-либо, значения, вроде пресловутого вопроса: Et ta soeur? Подобные эпидемические словесные навыки, созданные притягательными чарами совершенной бессмыслицы, носят название „des seies“».
Приведенный отрывок взят мной из газеты «Современное слово» (27 августа 1913, корреспонденция из Парижа о жанровом театре) и говорит о повальном увлечении бессмысленными песенками, пережитом Парижем в то лето. Преемником ему явилось увлечение «негритянскими» песенками, почти совершенно бессмысленными. В «Голоде» Кнута Гамсуна автор в состоянии бреда изобретает слово «кубоа» и любуется тем, что оно текучее, не имеющее определенного значения. «Я сам изобрел, — говорит он, — это слово, и я имею полное право придавать ему то значение, которое мне заблагорассудится. Я еще сам не знаю, что оно значит» («Голод»[168]).
Князь Вяземский пишет, что в детстве он любил читать каталоги винных погребов, любуясь звучными названиями. Особенно нравилось ему название одного сорта вина Lacryma-Christi; эти звуки ласкали его поэтическую душу. И вообще от многих прежних поэтов узнаем об их отзывчивости на звуковой состав слов, вызывающий в них известное настроение и даже известное понимание этих слов независимо от их объективного значения (И. Бодуэн де Куртенэ — «Отклики», приложение к газ. «День», № 7, 20 февраля 1914). Но эта особенность не является привилегией одних поэтов. Упиваться звуками вне смысла и даже пьянеть от них может и не-поэт. Вот, например, как описывал В. Короленко один из уроков немецкого языка в ровенской гимназии:
«Der gelb-rothe Papagaj, — сказал Лотоцкий врастяжку. — Итак! именительный! Der gelb-rothe Pa-pa-gaj… Родительный… Des gelb-rothen Pá-pa-gá-a-aj-én.
В голосе Лотоцкого появились какие-то особенные прыгающие нотки. Он начинал скандовать, видимо наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже к голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса:
— Dem… gelb… ro… then… Pá-pa-gá-a-aj-én…
В лице Лотоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно-квакающей лягушки.
Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали желто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, подымали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие… Голоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука с ослепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах… Класс бесновался, ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. <…>
И вдруг…
Едва, как отрезанный, затих последний слог последнего падежа, — в классе, точно по волшебству, новая перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели. <…>
И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого „порядка“, пока Лотоцкий не натыкался на желто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам» (Короленко, «История моего современника». — Полн. собр. соч., изд. Маркса, т. VII, стр. 155). Я не считаю приведенный пример чем-то исключительным. Предлагаю сопоставить его со знаменитыми стихами из латинских исключений, которые составляют уже много столетий достопримечательность классической школы. Вот что пишет о них Ф. Ф. Зелинский. Само собой, я не думаю провести здесь параллель между многоуважаемым профессором и учителем Лотоцким. Ф. Ф. Зелинский пишет: «Я сам ими пользовался, когда был преподавателем в первом классе: помню, как вычурные сочетания мудреных слов и потешные рифмы вызывали здоровый детский смех моих учеников, особенно когда я заставлял их, к концу урока, хором повторять рифмованные правила; а так как я признавал здоровый юмор очень полезным „вегикулом“ (как говорят врачи) при преподавании в младших классах, то эти финалы уроков обращались в своего рода веселую игру <…>» (Ф. Ф. Зелинский. «Из жизни идей». Стр. 31). К сожалению, Ф. Ф. Зелинский ничего не говорит нам о своих переживаниях при произнесении этих «вычурных сочетаний слов».
Слова «металл» и «жупел», помимо своего значения, по самому звуку казались страшными купчихе в комедии Островского. Бабы в рассказе Чехова «Мужики» плакали в церкви при произнесении священником слов «аще» и «дондеже»; в выборе именно этих слов как сигнала для начала плача могла сказаться только их звуковая сторона. Джемс Сёлли («Очерки по психологии детства», М., 1901) приводит много интересных примеров «заумных речей у детей». Из экономии места не привожу их, считая более интересными для русского читателя стихотворные — игровые присказки наших детей, — факт интересный по своему массовому характеру, а также потому, что присказки эти сохраняются в устной передаче, переходят из местности в местность и вообще представляют собою полную аналогию с литературными произведениями. Привожу примеры:
Перо Первинчики (название игры. — В. Ш.) Неро Другинчики Уго На Божьей Руси Теро На поповой полосе Пято Прело Сото Грело Иво Осиново Сиво Полено Дуб Чивиль доска Крест. Дара-шепёшка (Вятской губ.) Тонча-понча Пиневича Рус-кнес Вылез. (Вятской губ.) Бубикони Пера, ера Не чем гони Чуха, луха, Златом метом Пяти, соти, Под полетом Сиви, или, Черный палец Пень. Выйди за печь (Тульской губ.) Рус-квас Шишел, вышел Вон пошел. (Владимирской губ.)(Цитирую по книге: Е. А. Покровский. «Детские игры, преимущественно русские». Москва, 1887, стр. 55, 57.)
Обращаю внимание на отрывок из «Детства» М. Горького (длинный и поэтому неудобный для непосредственной цитировки), где показано, как в памяти мальчика стихотворение существовало одновременно в двух видах: в виде слов и в виде того, что я бы назвал звуковыми пятнами.
Стихи говорили:
Большая дорога, прямая дорога, Простора не мало берешь ты у Бога… Тебя не ровняли топор и лопата, Мягка ты копыту и пылью богата.Привожу его воспроизведение:
Дорога, двурога, творог, недотрога, Копыта, попы-то, корыто…При этом мальчику очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Бессознательно для себя он одновременно помнил и подлинные стихи («Детство»). Ср. статью Ф. Батюшкова «В борьбе со словом» («Журнал Министерства народного просвещения». 1900, февраль).
Заклинания всего мира часто пишутся на таких языках; так, например, известные у древних греков, в качестве могущественных филактериев, τα Εφεθια γραμματα (магические письмена на короне, поясе и пьедестале Дианы Эфесской) состояли из загадочных (αινιφματωδες) слов: αδχιου, χαταδχιον, λιζ, τετεας, δαμναμενευς, αιγα (цитата по: Д. Коновалов. «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве». Сергиев Посад, 1908. Стр. 191).
Приведенные факты заставляют думать, что «заумный язык» существует; и существует, конечно, не только в чистом своем виде, то есть как какие-то бессмысленные речения, но, главным образом, в скрытом состоянии, так, как существовала рифма в античном стихе, — живой, но не осознанной.
Многое мешает заумному языку появиться явно: «кубоа» родится редко. Но мне кажется, что часто и стихи являются в душе поэта в виде звуковых пятен, не вылившихся в слово. Пятно то приближается, то удаляется и, наконец, высветляется, совпадая с созвучным словом. Поэт не решается сказать «заумное слово», обыкновенно заумность прячется под личиной какого-то содержания, часто обманчивого, мнимого, заставляющего самих поэтов признаться, что они сами не понимают содержания своих стихов. Мы имеем такие признания от Кальдерона, Байрона, Блока. Мы должны верить Сюлли-Прюдому, что настоящих его стихов никто не читал. Жалобы поэтов на муки слова часто нужно понимать как показатель борьбы со словом: поэты жалуются не на невозможность передать словами понятия или образы, а на непередаваемость словами чувствований и душевных переживаний. И недаром поэты жалуются, что они не могут передать словами звуки: «словом ледяным» — «родник, простых и сладких звуков полный». По всей вероятности, дело происходит так же, как при подбирании рифм. У Салтыкова-Щедрина, человека в поэзии малокомпетентного, но вообще несомненно наблюдательного, молодой поэт, подбирая рифму к слову «образ», нашел только одно слово «нобраз».
«Нобраз» не подошел и стал навязчивой идеей поэта, но при малейшей же возможности дать ему какую-нибудь значимость он, несомненно, попал бы в стихи и выглядел бы не хуже многих других слов. Некоторое указание на то, что слова подбираются в стихотворении не по смыслу и не по ритму, а по звуку, могут дать японские танки. Там в стихотворение, обыкновенно в начало его, вставляется слово, отношения к содержанию не имеющее, но созвучное с «главным» словом стихотворения. Например, в начале русского стихотворения о луне можно было бы вставить по этому принципу слово «лоно». Это указывает на то, что в стихах слова подбираются так: омоним заменяется омонимом для выражения внутренней, до этого данной, звукоречи, а не синоним синонимом для выражения оттенков понятия. Так, может быть, можно понять и те признания поэтов, в которых они говорят о том, что стихи появляются (Шиллер) или зреют у них в душе в виде музыки. Я думаю, что поэты здесь сделались жертвами неимения точной терминологии. Сло́ва, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается слово «музыка» как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в данном случае еще не слова, так как они, в конце концов, выливаются словообразно. Из современных поэтов об этом писал О. Мандельштам:
Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись…Восприятия стихотворения обыкновенно тоже сводятся к восприятию его звукового праобраза. Всем известно, как глухо мы воспринимаем содержание самых, казалось бы, понятных стихов; на этой почве иногда происходят очень показательные случаи. Например, в одном из изданий Пушкина было напечатано вместо «Завещан был тенистый вход» — «Завещан брег тенистых вод» (причиной была неразборчивость рукописи), получилась полная бессмыслица, но она спокойно, неузнанная и непризнанная, переходила из издания в издание и была найдена только исследователем рукописей. Причина та, что в этом отрывке при искажении смысла не был искажен звук.
Как мы уже заметили, заумный язык редко является в своем чистом виде. Но есть и исключения. Таким исключением является заумный язык у мистических сектантов. Здесь делу способствовало то, что сектанты отождествили заумный язык с глоссолалией — с тем даром говорить на иностранных языках, который, по словам «Деяний св. апостолов», получили они в день Пятидесятницы[169]. Благодаря этому заумного языка не стыдились, им гордились и даже записывали его образцы. Таких образцов приведено очень много в прекрасной книге Д. Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (стр. 167–173), где вопрос о «глоссах» разработан в смысле сопоставления образцов таких проявлений религиозного экстаза исчерпывающим образом. Явление языкоговорения чрезвычайно распространено, и можно сказать, что для мистических сект оно всемирно. Привожу примеры (из книги Д. Г. Коновалова). Сергей Осипов, хлыст XVIII столетия, говорил:
Рентре фенте ренте финтрифунт Нодар лисентрант нохонтрофинт.Привожу первую строку записи языкоговорения его современника Варлаама Шишкова:
Насонтос лесонтос фурт лис натруфунтру натрисинфур.Интересно сопоставить эти звуки с записями языкоговорения секты ирвингиан, возникшей в Шотландии около 1830 года:
Hippo gerosto hippo boors senoote Foorime oorin hoopo tanto noostin Noorastin niparos hipanos bantos boorin О Pinitos eleiastino halimungitos dantitu Harapootine farimi aristos ekrampos. …Сектантка, произносившая эти слова, была убеждена в том, что это язык жителей одного острова на юге Тихого океана.
Такие же явления наблюдались в последнее время в Христиании.
Вот пример глоссолалии немца пастора Paul; y него дар языков явился как исполнение его горячего желания (он видел случаи говорения на языке и почувствовал непреодолимое желание овладеть этим даром).
В ночь с 15 на 16 сентября 1907 года в его голосовом и речевом аппарате появились непроизвольные движения, за которыми последовали звуки. Paul записал их; привожу одну из строчек:
Schua ea, schua ea О tschi biro ti pea Akki Iungo ta ri fungo, U Ii bara ti ra tungo Latschi bungo ti tu ta.В наслаждении ничего не значащим заумным словом несомненно важна произносительная сторона речи. Может быть, что даже вообще в произносительной стороне, в своеобразном танце органов речи и заключается бо́льшая часть наслаждения, приносимого поэзией (см. статью Б. Китермана, — «Жур. Мин. нар. просв.», 1909, январь). Юрий Озаровский в своей книге «Музыка живого слова» (СПб., 1914) отметил, что тембр речи зависит от мимики; и, идя несколько дальше его и применяя к его замечанию положение Джемса, что каждая эмоция является как результат какогонибудь телесного состояния (замирание сердца — причина страха, а слезы — причина эмоции печали), можно было бы сказать, что впечатление, которое производит на нас тембр речи, объясняется тем, что, слыша его, мы воспроизводим мимику говорящего и поэтому переживаем его эмоции. Ф. Зелинский в уже цитированном нами отрывке отметил значение воспроизведения мимики говорящего при восприятии Lautbilder (тилиснуть).
Известны факты, свидетельствующие о том, что при восприятии чужой речи или даже вообще при каких бы то ни было речевых представлениях мы беззвучно воспроизводим своими органами речи движения, необходимые для произнесения данного звука. Возможно, что эти движения и находятся в какой-то еще не исследованной, но тесной связи с эмоциями, вызываемыми звуками речи, в частности заумным языком. Интересно отметить, что у сектантов явление языкоговорения начинается с беззвучных непроизвольных движений речевого аппарата.
Я думаю, что можно удовольствоваться приведенными примерами. Но привожу еще один (отысканный мною в книге Мельникова-Печерского «На горах», ч. 3); этот пример глоссолалии интересен тем, что он доказывает близкое родство детских песенок с образцами языкоговорения сектантов. Начинается он детской песней и кончается «заумным распевцем»:
Тень, тень, потетень, Выше города плетень, Садись, галка, на плетень! Галки хохлуши — Спасенные души, Воробьи пророки — Шли по дороге, Нашли они книгу. Что в той книге? Текст сектантов: Текст продолжения песни у детей: А писано тамо Зюзюка, зюзюка, Савишра́и само Куда нам катиться? Капила́ста га́ндря Вдоль по дорожке… Дараната́ ша́нтра и пр. Сункара пуруша Моя дева, Луша.Во всех этих образцах общее одно: эти звуки хотят быть речью. Авторы их так и считают их каким-то чужим языком: полинезийским, индейским, латинским, французским и чаще всего — иерусалимским. Интересно, что и футуристы — авторы заумных стихотворений — уверяли, что они постигли все языки в одну минуту и даже пытались писать по-еврейски[170]. Мне кажется, что в этом была доля искренности и что они секундами сами верили, что из-под их пера выльются чудесно-познанные слова чужого языка.
Так или не так, но одно несомненно: заумная звукоречь хочет быть языком.
Но в какой степени этому явлению можно присвоить название языка? Это, конечно, зависит от определения, которое мы дадим понятию слова. Если мы впишем как требование для слова как такового то, что оно должно служить для обозначения понятия, вообще, быть значимым, то, конечно, заумный язык отпадает как что-то внешнее относительно языка. Но отпадает не он один; приведенные факты заставляют подумать, имеют ли не в явно заумной, а просто в поэтической речи слова всегда значение или это только мнение — фикция и результат нашей невнимательности. Во всяком случае, и изгнав заумный язык из речи, мы не изгоняем еще его, тем самым, и из поэзии. И сейчас поэзия создается и, главное, воспринимается не только в слове-понятии. Привожу любопытный отрывок из статьи К. Чуковского о русских футуристах, дело идет о стихотворении В. Хлебникова:
Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры…и т. д.
«Ведь оно написано размером „Гайаваты“, „Калевалы“. Если нам так сладко читать у Лонгфелло:
Шли Чоктосы и Команчи, Шли Шошоны и Омоги, Шли Гуроны и Мэндэны, Делавэры и Могоки (Пер. Ив. Бунина), —то почему мы смеемся над Бобэобами и Вээомами? Чем чоктосы лучше Бобэоби? Ведь и там и здесь гурманское смакование экзотических, чуждо звучащих слов. Для русского уха Бобэоби так же „заумны“, как и чоктосы, шошоны, — как и „гэи-гзи-гзэи́!“. И когда Пушкин писал:
От Рушука до старой Смирны, От Трапезунда до Тульчи, —разве он не услаждался той же чарующей инструментовкой заумно звучащих слов?» («Шиповник», кн. 22, стр. 144 — «Образцы футуристической литературы» К. Чуковского). Возможно даже, что слово является приемышем поэзии. Таково, например, мнение А. Н. Веселовского. И кажется уже ясным, что нельзя назвать ни поэзию явлением языка, ни язык — явлением поэзии.
Другой вопрос: будут ли когда-нибудь писаться на заумном языке истинно художественные произведения, будет ли это когда-нибудь особым, признанным всеми видом литературы? Кто знает. Тогда это будет продолжением дифференциации форм искусства. Можно сказать одно, многие явления литературы имели такую судьбу, многие из них появлялись впервые в творениях экстатиков; так, например, явно проявилась рифма в возвещениях Игнатия Богоносца:
Χωρις του επιδχοπου μηδευ ποιεττε, τηυ δαρχα υμωυ ως ναου Θεου τηρεττε, τηυ ενωδιυ αγαπατε, τους μεριδμους φευγετζ, μιμηται γινεδθε Ιηδου Χριδτου, ως χαι αυτος του Πατρος αυτου.Религиозный экстаз уже предвещал о появлении новых форм. История литературы состоит в том, что поэты канонизируют и вводят в нее те новые формы, которые уже давно были достоянием общего поэтического языкового мышления. Д. Г. Коновалов указывает на все возрастающее в последние годы количество проявлений глоссолалии (стр. 187). В это же время заумные песни владели Парижем. Но всего показательнее увлечение символистов звуковой стороной слова (работы Андрея Белого, Вячеслава Иванова, статьи Бальмонта), которое почти совпало по времени с выступлениями футуристов, еще более остро поставивших вопрос. И, может быть, когда-нибудь исполнится пророчество Ю. Словацкого, сказавшего: «Настанет время, когда поэтов в стихах будут интересовать только звуки».
ПОТЕБНЯ
Пятьдесят шесть лет прошло со дня появления первого печатного труда Потебни. Этот труд говорил о роли символов в словесном искусстве, название его было: «О некоторых символах в славянской народной поэзии». Недавно исполнилось двадцать пять лет со дня смерти Потебни, но только одиннадцать лет тому назад была обнародована его книга «Из записок по теории словесности», — книга черновиков, книга так и не подведшая итога тридцатичетырехлетней научной работе человека гениальных возможностей. Тридцать четыре года создавалась система научной поэтики, казалось, да и сейчас кажется многим, сполна данная в капитальном труде покойного «Мысль и язык». И четырнадцать лет популяризировали и вульгаризировали идеи А. Потебни, успели создать целую школу потебнианцев на устном предании о системе, которая казалась только случайно не записанной основателем. Ко дню юбилея достают новые биографические данные, составляют новую библиографию, но не говорят о самой системе, как будто о ней все уже сказано, и в ней самой все уже решено. И на вере в имя Потебни, на его системе основывают здание своей поэтики не только люди типа Харциева[171] и Овсянико-Куликовского, но и Андрей Белый. Несомненно, молчание о поэтике Потебни в очень сильной степени — молчание учеников, которым нечего прибавить к словам учителя.
А. Потебня, следуя за Гумбольдтом, прежде всего, выдвинул на первый план «значение слова для говорящего». Слово как средство развития мысли — необходимое условие создания понятия, которое возникает через замену многосторонней сущности многих вещей простой сущностью единого слова. В слове Потебня различал: 1) содержание, объективируемое при помощи звука; 2) внешнюю форму — членораздельный звук, и 3) внутреннюю форму — то, что связывает между собою форму и содержание. Способность одного и того же слова связываться через внутреннюю форму с разными вещами, принимать новое значение, Потебня назвал символичностью слова. Оставляя в стороне и сейчас мало разработанный вопрос о том, возможно ли существование таких слов, в которых с самого момента их появления внутренняя форма дана в виде непосредственной связи звука со значением, Потебня указал на то, что для обозначения какой-нибудь вещи берут слово, до этого существовавшее; содержание этого слова (значение его) должно иметь что-нибудь общее с одним из признаков называемой вещи. Слово, следовательно, расширяет свое значение при помощи образа; образ же, как это принимает Потебня, принадлежит исключительно поэзии; отсюда символичность слова равна его поэтичности. «Символизм языка, по-видимому, может быть назван его поэтичностью; наоборот, забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью слова. Если это сравнение верно, то вопрос об изменении внутренней формы слова оказывается тождественным с вопросом об отношении языка к поэзии и прозе, т. е. к литературной форме вообще. Поэзия есть одно из искусств, а потому связь ее со словом должна указывать на общие стороны языка и искусства. Чтобы найти эти стороны, начнем с отождествления моментов слова и произведения искусства. Может быть, само по себе это сходство моментов не говорит еще ничего, но оно, по крайней мере, облегчает дальнейшие выводы» (А. Потебня. Мысль и язык. 3-е изд. Стр. 145). По этой схеме были разобраны Потебней явления искусства.
По мнению Потебни, в каждом произведении искусства есть идея, то, что хотел сказать художник, внутренняя форма — образ, и внешняя форма — в поэзии слова. Чем же нам ценно искусство, в частности поэзия? Тем, что образы его символичны; тем, что они многозначимы. В них есть «совместное существование противоположных качеств, именно определенности и бесконечности очертаний»[172]. Таким образом, задача искусства — создавать символы, объединяющие своей формулой многообразие вещей.
В таком виде дана поэтика Потебни в его основном труде «Мысль и язык».
В основу этого построения положено уравнение: образность равна поэтичности. В действительности же такого равенства не существует. Для его существования было бы необходимо принять, что всякое символическое употребление слова непременно поэтично, хотя бы только в первый момент создания данного символа. Между тем мыслимо употребление слова в непрямом его значении, без возникновения при этом поэтического образа. С другой стороны, слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в предложения, не дающие никакого образа, могут составлять поэтическое произведение, как, например, стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может…» Носителями «поэтичности» могут быть и ритм, и звуки произведения, что элементарно понятно и даже признается некоторыми потебнианцами. (См. Овсянико-Куликовский «Лирика, как особый вид творчества»[173].)
Образность, символичность не есть отличие поэтического языка от прозаического. Язык поэтический отличается от языка прозаического ощутимостью своего построения. Ощущаться может или акустическая, или произносительная, или же семасиологическая сторона слова. Иногда же ощутимо не строение, а построение слов, расположение их. Одним из средств создать ощутимое, переживаемое в самой своей ткани, построение является поэтический образ, но только одним из средств.
Ошибочность построения поэтики Потебни может быть уяснена человеком и не знакомым с попытками построения других поэтик, по ошибочности тех выводов, к которым Потебня пришел. Для выяснения этих выводов беру те подготовительные к университетским лекциям заметки, которые вошли в книгу «Из записок по теории словесности». Здесь все положения Потебни, только намеченные в книге «Мысль и язык», выступают более резко и определенно. Образ прямо определяется, как иносказание, аллегория (стр. 68). Вопрос об отношении образа к «объясняемому» определяется так: «а) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим = постоянное средство аттракции изменчивых апперципируемых, б) образ есть нечто более простое и ясное, чем объясняемое» (стр. 314), т. е. «так как цель образности есть приближение образа к нашему пониманию, и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен нам быть более известен, чем объясняемое им» (стр. 291). Этого «долга» не исполняют тютчевское сравнение зарниц с глухонемыми демонами, Гоголевское сравнение неба с ризами Господа и шекспировские сравнения, поражающие своей натянутостью. Сам же Потебня отметил, что в гомеровских и гоголевских сравнениях большое количество черт образа остаются без употребления и не дают возможности заключать о соответствующих чертах сравниваемого.
При выяснении сущности поэзии Потебня оставил в стороне вопросы ритма и звука. О них у Потебни имеется всего несколько строк. «Каково бы ни было, в частности, решение вопроса, почему поэтическому мышлению более (в его менее сложных формах), чем прозаическому, сродна музыкальность звуковой формы, т. е. темп, размер, созвучие, сочетание с мелодией, оно не может подорвать верности положения, что поэтическое мышление может обойтись без размера и пр., как, наоборот, прозаическое может быть искусственно, хотя и не без вреда, облечено в стихотворную форму». («Из записок по теории словесности», стр. 97.)
Это нежелание считаться с рядом массовых фактов коренного значения объясняется тем, что они никак не укладывались в формулу, что поэзия, как и слово, есть особый способ мышления при помощи образов. Потебня, защищая свою мысль от фактов, ей противоречащих, заявил против них формальный и плохо обоснованный отвод. Из положений: «явственность представления или его отсутствие (т. е. образность слова) не сказывается на его звуках» и «образность равна поэтичности» Потебня делает вывод, что поэтичность слова не сказывается в его звуках, что внешняя форма (звук, ритм) может быть не принята во внимание при определении сущности поэзии, как и искусства вообще. Между тем этот вывод явно противоречит фактам, показывающим, что наше отношение к звукам слова в поэтическом и прозаическом языках различно. Несовпадение вывода с фактами показывает, что вторая посылка: «образность равна поэтичности» неверна. Система Потебни оказалась состоятельной только в очень узкой области поэзии: в басне и в пословице. Поэтому эта часть труда Потебни была им разработана до конца. Басня и пословица, действительно, оказались «быстрым ответом на вопрос». Их образы, в самом деле, оказались «способом мышления». Но понятия басни и пословицы весьма мало совпадают с понятием поэзии.
Система оказалась неспособной к жизни, поэтому книга осталась ненаписанной. Потебня не взял на себя ответственности за свое построение. Не так сделали его ученики. Веря в имя учителя, они распространили то, что сочли за законы, им найденные, на более сложные явления искусства, не дав себе предварительно труда проверить систему самостоятельной работой. Создание научной поэтики должно быть начато с фактического, на массовых фактах построенного, признания, что существуют «прозаический» и «поэтический» языки, законы которых различны, и с анализа этих различий.
ИСКУССТВО КАК ПРИЕМ
«Искусство — это мышление образами». Эту фразу можно услышать и от гимназиста, она же является исходной точкой для ученого филолога, начинающего создавать в области теории литературы какое-нибудь построение. Эта мысль вросла в сознание многих; одним из создателей ее необходимо считать Потебню. «Без образа нет искусства, в частности поэзии», — говорит он («Из записок по теории словесности». Харьков, 1905. Стр. 83). Поэзия, как и проза, есть «прежде всего и главным образом <…> известный способ мышления и познания», — говорит он в другом месте (Там же. Стр. 97).
Поэзия есть особый способ мышления, а именно способ мышления образами; этот способ дает известную экономию умственных сил, «ощущенье относительной легкости процесса», и рефлексом этой экономии является эстетическое чувство. Так понял и так резюмировал, по всей вероятности верно, ак. Овсянико-Куликовский, который, несомненно, внимательно читал книги своего учителя[174]. Потебня и его многочисленная школа считают поэзию особым видом мышления — мышления при помощи образов, а задачу образов видят в том, что при помощи их сводятся в группы разнородные предметы и действия и объясняется неизвестное через известное. Или, говоря словами Потебни: «Отношение образа к объясняемому: а) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим = постоянное средство аттракции изменчивых апперципируемых <…>, b) образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое» (Там же. Стр. 314), то есть «так как цель образности есть приближение значения образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен быть нам более известен, чем объясняемое им» (Там же. Стр. 291).
Интересно применить этот закон к сравнению Тютчевым зарниц с глухонемыми демонами или к гоголевскому сравнению неба с ризами господа.
«Без образа нет искусства». «Искусство — мышление образами». Во имя этих определений делались чудовищные натяжки; музыку, архитектуру, лирику тоже стремились понять как мышление образами. После четвертьвекового усилия ак. Овсянико-Куликовскому наконец пришлось выделить лирику, архитектуру и музыку в особый вид безо́бразного искусства — определить их как искусства лирические, обращающиеся непосредственно к эмоциям[175]. И так оказалось, что существует громадная область искусства, которое не есть способ мышления; одно из искусств, входящих в эту область, — лирика (в тесном смысле этого слова) тем не менее вполне подобна «образному» искусству: так же обращается со словами и, что всего важнее, — искусство образное переходит в искусство безо́бразное совершенно незаметно, и восприятия их нами подобны.
Но определение: «искусство — мышление образами», а значит (пропускаю промежуточные звенья всем известных уравнений), искусство есть создатель символов прежде всего, — это определение устояло, и оно пережило крушение теории, на которой было основано. Прежде всего оно живо в течении символизма. Особенно у теоретиков его.
Итак, многие все еще думают, что мышление образами, «пути и тени», «борозды и межи»[176], есть главная черта поэзии. Поэтому эти люди должны были бы ожидать, что история этого, по их словам, «образного» искусства будет состоять из истории изменения образа. Но оказывается, что образы почти неподвижны; от столетия к столетию, из края в край, от поэта к поэту текут они, не изменяясь. Образы — «ничьи», «божьи». Чем больше уясняете вы эпоху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других и почти неизмененными. Вся работа поэтических школ сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше к расположению образов, чем к созданию их. Образы даны, и в поэзии гораздо больше воспоминания образов, чем мышления ими.
Образное мышление не есть, во всяком случае, то, что объединяет все виды искусства или даже только все виды cловесного искусства, образы не есть то, изменение чего составляет сущность движения поэзии.
Мы знаем, что часты случаи восприятия как чего-то поэтического, созданного для художественного любования, таких выражений, которые были созданы без расчета на такое восприятие; таково, например, мнение Анненского об особой поэтичности славянского языка, таково, например, и восхищение Андрея Белого приемом русских поэтов XVIII века помещать прилагательные после существительных[177]. Белый восхищается этим как чем-то художественным, или, точнее, — считая это художеством — намеренным, на самом деле это общая особенность данного языка (влияние церковнославянского). Таким образом, вещь может быть: 1) создана как прозаическая и воспринята как поэтическая, 2) создана как поэтическая и воспринята как прозаическая. Это указывает, что художественность, относимость к поэзии данной вещи, есть результат способа нашего восприятия; вещами художественными же, в тесном смысле, мы будем называть вещи, которые были созданы особыми приемами, цель которых состояла в том, чтобы эти вещи по возможности наверняка воспринимались как художественные.
Вывод Потебни, который можно формулировать: поэзия = образности, — создал всю теорию о том, что образность = символичности, способности образа становиться постоянным сказуемым при различных подлежащих (вывод, влюбивший в себя, в силу родственности идей, символистов — Андрея Белого, Мережковского с его «Вечными спутниками» — и лежащий в основе теории символизма). Этот вывод отчасти вытекает из того, что Потебня не различал язык поэзии от языка прозы. Благодаря этому он не обратил внимания на то, что существуют два вида образа: образ как практическое средство мышления, средство объединять в группы вещи, и образ поэтический — средство усиления впечатления. Поясняю примером. Я иду по улице и вижу, что идущий впереди меня человек в шляпе выронил пакет. Я окликаю его: «Эй, шляпа, пакет потерял!» Это пример образа — тропа чисто прозаического. Другой пример. В строю стоят несколько человек. Взводный, видя, что один из них стоит плохо, не по-людски, говорит ему: «Эй, шляпа, как стоишь!» Это образ — троп поэтический. (В одном случае слово «шляпа» была метонимией, в другом — метафорой. Но обращаю внимание не на это.) Образ поэтический — это один из способов создания наибольшего впечатления. Как способ он равен по задаче другим приемам поэтического языка, равен параллелизму простому и отрицательному, равен сравнению, повторению, симметрии, гиперболе, равен вообще тому, что принято называть фигурой, равен всем этим способам увеличения ощущения вещи (вещами могут быть и слова или даже звуки самого произведения), но поэтический образ только внешне схож с образом-басней, образом-мыслью, например, к тому случаю, когда девочка называет круглый шар арбузиком (Д. Овсянико-Куликовский. «Язык и искусство». СПб., 1895. Стр. 16–17). Поэтический образ есть одно из средств поэтического языка. Прозаический образ есть средство отвлечения: арбузик вместо круглого абажура или арбузик вместо головы есть только отвлечение от предмета одного из его качеств и ничем не отличается от голова = шару, арбуз = шару. Это — мышление, но это не имеет ничего общего с поэзией.
Закон экономии творческих сил также принадлежит к группе всеми признанных законов. Спенсер писал: «В основе всех правил, определяющих выбор и употребление слов, мы находим то же главное требование: сбережение внимания. <…> Довести ум легчайшим путем до желаемого понятия есть во многих случаях единственная и во всех случаях главная их цель» («Философия слога»). «Если бы душа обладала неистощимыми силами для развития представлений, то для нее было бы, конечно, безразлично, как много истрачено из этого неистощимого источника; важно было бы, пожалуй, только время, необходимо затраченное. Но так как силы эти ограничены, то следует ожидать, что душа стремится выполнять апперцептивные процессы по возможности целесообразно, то есть с сравнительно наименьшей тратой сил, или, что то же, с сравнительно наибольшим результатом» (Р. Авенариус)[178]. Одной ссылкой на общий закон экономии душевных сил отбрасывает Петражицкий попавшую поперек дороги его мысли теорию Джемса о телесной основе аффекта[179]. Принцип экономии творческих сил, который так соблазнителен, особенно при рассмотрении ритма, признал и Александр Веселовский, который договорил мысль Спенсера: «Достоинство стиля состоит именно в том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов». Андрей Белый, который в лучших страницах своих дал столько примеров затрудненного, так сказать, спотыкающегося ритма и показавший (в частном случае, на примерах Баратынского[180]) затрудненность поэтических эпитетов, тоже считает необходимым говорить о законе экономии в своей книге, представляющей собой героическую попытку создать теорию искусства на основе непроверенных фактов из устаревших книг, большого знания приемов поэтического творчества и на учебнике физики Краевича по программе гимназий.
Мысли об экономии сил как о законе и цели творчества, может быть, верные в частном случае языка, то есть верные в применении к языку «практическому», — эти мысли, под влиянием отсутствия знания об отличии законов практического языка от законов языка поэтического, были распространены и на последний. Указание на то, что в поэтическом японском языке есть звуки, не имеющиеся в японском практическом, было чуть ли не первым фактическим указанием на несовпадение этих двух языков[181]. Статья Л. П. Якубинского об отсутствии в поэтическом языке закона расподобления плавных звуков и указанная им допустимость в языке поэтическом труднопроизносимого стечения подобных звуков является одним из первых, научную критику выдерживающих фактических указаний на противоположность (хотя бы, скажем пока, только в этом случае) законов поэтического языка законам языка практического[182].
Поэтому приходится говорить о законах траты и экономии в поэтическом языке не на основании аналогии с прозаическим, а на основании его собственных законов.
Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами. Процессом автоматизации объясняются законы нашей прозаической речи с ее недостроенной фразой и с ее полувыговоренным словом. Это процесс, идеальным выражением которого является алгебра, где вещи заменены символами. В быстрой практической речи слова не выговариваются, в сознании едва появляются первые звуки имени. А. Погодин («Язык как творчество». Харьков, 1913. Стр. 42) приводит пример, когда мальчик мыслил фразу: «Les montagnes de la Suisse sont belles» в виде ряда букв: l, m, d, S, s, b.
Это свойство мышления не только подсказало путь алгебры, но даже подсказало выбор символов (буквы, и именно начальные). При таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счетом и пространством, они не видятся нами, а узнаются по первым чертам. Вещь проходит мимо нас как бы запакованной, мы знаем, что она есть, по месту, которое она занимает, но видим только ее поверхность. Под влиянием такого восприятия вещь сохнет, сперва как восприятие, а потом это сказывается и на ее делании; именно таким восприятием прозаического слова объясняется его недослушанность (см. ст. Л. П. Якубинского), а отсюда недоговоренность (отсюда все обмолвки). При процессе алгебраизации, обавтоматизации вещи получается наибольшая экономия воспринимающих сил: вещи или даются одной только чертой своей, например, номером, или выполняются как бы по формуле, даже не появляясь в сознании.
«Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я не мог и чувствовал, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, т. е. действовал бессознательно, то это все равно, как не было. Если бы кто сознательный видел, то можно бы восстановить. Если же никто не видел или видел, но бессознательно; если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была» (запись из дневника Льва Толстого 1 марта 1897 года. Никольское).
Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны.
«Если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была».
И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как ви́дение, а не как узнавание; приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно.
Жизнь поэтического (художественного) произведения — от ви́дения к узнаванию, от поэзии к прозе, от конкретного к общему, от Дон Кихота — схоласта и бедного дворянина, полусознательно переносящего унижение при дворе герцога, — к Дон Кихоту Тургенева, широкому, но пустому, от Карла Великого к имени «король»; по мере умирания произведения и искусства оно ширеет, басня символистичнее поэмы, а пословица — басни. Поэтому и теория Потебни меньше всего противоречила сама себе при разборе басни, которая и была исследована Потебней с его точки зрения до конца. К художественным «вещным» произведениям теория не подошла, а потому и книга Потебни не могла быть дописана. Как известно, «Записки по теории словесности» изданы в 1905 году, через 13 лет после смерти автора.
Потебня сам из этой книги вполне обработал только отдел о басне[183].
Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим[184]. Поэтому мы не можем ничего сказать о ней.
Вывод вещи из автоматизма восприятия совершается в искусстве разными способами; в этой статье я хочу указать один из тех способов, которыми пользовался почти постоянно Л. Толстой — тот писатель, который, хотя бы для Мережковского, кажется дающим вещи так, как он их сам видит, видит до конца, но не изменяет.
Прием остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз происшедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах. Привожу пример. В статье «Стыдно» Л. Толстой так остраняет понятие сечения: «<…> людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по заднице»; через несколько строк: «стегать по оголенным ягодицам». К этому месту есть примечание: «И почему именно этот глупый, дикий прием причинения боли, а не какой-нибудь другой: колоть иголками плечи или какое-либо другое место тела, сжимать в тиски руки или ноги или еще что-нибудь подобное?» Я извиняюсь за тяжелый пример, но он типичен как способ Толстого добираться до совести. Привычное сечение остранено и описанием, и предложением изменить его форму, не изменяя сущности. Методом остранения пользовался Толстой постоянно: в одном из случаев («Холстомер») рассказ ведется от лица лошади, и вещи остранены не нашим, а лошадиным их восприятием.
Вот как она восприняла институт собственности:
«То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, — но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: своего, его жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.
Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.
Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: „дом мой“, и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: „моя лавка“. „Моя лавка сукон“, например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уж о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей — по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом».
В конце рассказа лошадь уже убита, но способ рассказа, прием его не изменен: «Ходившее по свету, евшее и пившее тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею».
Таким образом, мы видим, что в конце рассказа прием применен и вне его случайной мотивировки.
Таким приемом описывал Толстой все сражения в «Войне и мире». Все они даны как, прежде всего, странные. Не привожу этих описаний, как очень длинных — пришлось бы выписать очень значительную часть 4-томного романа. Так же описывал он салоны и театр:
«На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых, в обтяжку, панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками.
Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться. <…>
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей».
Так же описан третий акт:
«Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась».
В четвертом акте:
«<…> был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда».
Так же описал Толстой город и суд в «Воскресении». Так описывает он в «Крейцеровой сонате» брак: «Почему, если у людей сродство душ, они должны спать вместе». Но прием остранения применялся им не только с целью дать видеть вещь, к которой он относился отрицательно.
«Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.
Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно-одинокий смех.
— Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. — смеялся он с выступившими на глазах слезами. <…>
Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. „И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!“ Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам».
Всякий, кто хорошо знает Толстого, может найти в нем несколько сот примеров по указанному типу. Этот способ видеть вещи выведенными из их контекста привел к тому, что в последних своих произведениях Толстой, разбирая догматы и обряды, также применил к их описанию метод остранения, подставляя вместо привычных слов религиозного обихода их обычное значение; получилось что-то странное, чудовищное, искренне принятое многими как богохульство, больно ранившее многих. Но это был все тот же прием, при помощи которого Толстой воспринимал и рассказывал окружающее. Толстовские восприятия расшатали веру Толстого, дотронувшись до вещей, которых он долго не хотел касаться.
Прием остранения не специально толстовский[185]. Я вел его описание на толстовском материале из соображений чисто практических, просто потому, что материал этот всем известен.
Теперь, выяснив характер этого приема, постараемся приблизительно определить границы его применения. Я лично считаю, что остранение есть почти везде, где есть образ.
То есть отличие нашей точки зрения от точки зрения Потебни можно формулировать так: образ не есть постоянное подлежащее при изменяющихся сказуемых. Целью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание «виденья» его, а не «узнаванья».
Но наиболее ясно может быть прослежена цель образности в эротическом искусстве.
Здесь обычно представление эротического объекта как чего-то, в первый раз виденного. У Гоголя в «Ночи перед Рождеством»:
«Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной, полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:
— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.
— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.
— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.
— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
— А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами <…>»
У Гамсуна в «Голоде»:
«Два белых чуда виднелись у нее из-за рубашки».
Или эротические объекты изображаются иносказательно, причем здесь цель явно не «приблизить к пониманию».
Сюда относится изображение половых частей в виде замка и ключа (например, в «Загадках русского народа» Д. Садовникова, № 102–107), в виде приборов для тканья (там же, № 588–591), лука и стрелы, кольца и свайки, как в былине о Ставре («Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», № 30).
Муж не узнает жены, переодетой богатырем. Она загадывает:
«Помнишь, Ставер, памятуешь ли, Как мы маленьки на улицу похаживали, Мы с тобою сваечкой поигрывали: Твоя-то была сваечка серебряная, А мое было колечко позолоченное? Я-то попадывал тогды-сёгды, А ты-то попадывал всегды-всегды?» Говорит Ставер, сын Годинопич: — Что я с тобой сваечкой не игрывал! — Говорит Василий Микулич, де: «Ты помнишь ли, Ставер, да памятуешь ли, Мы ведь вместе с тобой в грамоты училися: Моя была чернильница серебряная, А твое было перо позолочено? А я-то поманивал тогды-сёгды, А ты-то поманивал всегды-всегды?»В другом варианте былины дана и разгадка:
Тут грозен посол Васильюшко Вздымал свои платья по самый пуп: И вот молодой Ставер, сын Годинович, Признавал кольцо позолоченное. (Рыбников, № 171)Но остранение не только прием эротической загадки — эвфемизма, оно — основа и единственный смысл всех загадок. Каждая загадка представляет собой или рассказывание о предмете словами, его определяющими и рисующими, но обычно при рассказывании о нем не применяющимися (тип «два конца, два кольца, посередине гвоздик»), или своеобразное звуковое остранение, как бы передразнивание: «Гон да тотонок?» (пол и потолок) (Д. Садовников, № 51) или — «Слон да кондрик?» (заслон и конник) (Там же, № 177).
Остранением являются и эротические образы — не-загадки; например, все шансонетные «крокетные молотки», «аэропланы», «куколки», «братишки» и т. п.
В них есть общее с народным образом топтания травы и ломания калины.
Совершенно ясен прием остранения в широко распространенном образе — мотиве эротической прозы, в которой медведь и другие животные (или черт — другая мотивировка неузнавания) не узнают человека («Бесстрашный барин» — «Великорусские сказки Вятской губернии», № 52; «Справедливый солдат» — «Белорусский сборник» Е. Романова, № 84).
Очень типично неузнавание в сказке № 70 (вариант) из «Великорусских сказок Пермской губернии» Д. С. Зеленина:
«Мужик пахал поле на пеганой кобыле. Приходит к нему медведь и спрашивает: „Дядя, хто тебе эту кобылу пеганой делал?“ — „Сам пежил“. — „Да как?“ — „Давай и тебя сделаю?!“ Медведь согласился. Мужик связал ему ноги веревкой, снял с сабана сошник, нагрел его на огне и давай прикладывать к бокам: горячим сошником опалил ему шерсть до мяса, сделал пеганым. Развязал, — медведь ушел; немного отошел, лег под дерево, лежит. — Прилетела сорока к мужику клевать на стане мясо. Мужик поймал ее и сломал ей одну ногу. Сорока полетела и села на то самое дерево, под которым лежит медведь. — Потом прилетел после сороки, на стан к мужику паук (муха большая) и сел на кобылу, начал кусать. Мужик поймал паука, взял — воткнул ему в задницу палку и отпустил. Паук полетел и сел на то же дерево, где сорока и медведь. Сидят все трое. — Приходит к мужику жена, приносит в поле обед. Пообедал мужик с женой на чистом воздухе, начал валить ее на пол, заваривать ей подол. Увидал это медведь и говорит сороке с пауком: „батюшки! мужик опять ково-то хотит пежить“. — Сорока говорит: „нет, кому-то ноги хотит ломать“. Паук: „нет, палку в задницу кому-то хотит засунуть“».
Одинаковость приема данной вещи с приемом «Холстомера», я думаю, видна каждому.
Остранение самого акта встречается в литературе очень часто; например, «Декамерон»: «выскребывание бочки», «ловля соловья», «веселая шерстобитная работа» (последний образ не развернут в сюжет). Так же часто остранение применяется при изображении половых органов.
Целый ряд сюжетов основан на таком «неузнавании», например: А. Афанасьев, «Заветные сказки» — «Стыдливая барыня»; вся сказка основана на неназывании предмета своим именем, на игре в неузнавание. То же у Н. Ончукова, «Северные сказки», № 252 — «Бабье пятно». То же в «Заветных сказках» — «Медведь и заяц»: медведь и заяц чинят «рану».
К приему остранения принадлежат и построения типа «пест и ступка» или «дьявол и преисподняя» («Декамерон»).
Об остранении в психологическом параллелизме я пишу в своей статье о сюжетосложении.
Здесь же повторяю, что в параллелизме важно ощущение несовпадения при сходстве.
Целью параллелизма, как и вообще целью образности, является перенесение предмета из его обычного восприятия в сферу нового восприятия, то есть своеобразное семантическое изменение.
Исследуя поэтическую речь как в фонетическом и словарном составе, так и в характере расположения слов, и в характере смысловых построений, составленных из ее слов, мы везде встретимся с тем же признаком художественного: с тем, что оно нарочито создано для выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в нем ви́дение его представляет цель творца и оно «искусственно» создано так, что восприятие на нем задерживается и достигает возможно высокой своей силы и длительности, причем вещь воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей непрерывности. Этим условиям и удовлетворяет «поэтический язык». Поэтический язык, по Аристотелю, должен иметь характер чужеземного, удивительного; практически он и является часто чужим: сумерийский у ассирийцев, латынь у средневековой Европы, арабизмы у персов, древнеболгарский как основа русского литературного, или же языком повышенным, как язык народных песен, близкий к литературному. Сюда же относятся столь широко распространенные архаизмы поэтического языка, затруднения языка «dolce stil nuovo» (XII век), язык Арно Даниеля с его темным стилем и затрудненными (harten) формами, полагающими трудности при произношении (Diez, «Leben und Werke der Troubadours». S. 285). Л. Якубинский в своей статье доказал закон затруднения для фонетики поэтического языка в частном случае повторения одинаковых звуков. Таким образом, язык поэзии — язык трудный, затрудненный, заторможенный. В некоторых частных случаях язык поэзии приближается к языку прозы, но это не нарушает закона трудности.
Ее сестра звалась Татьяна… Впервые именем таким Страницы нежные романа Мы своевольно освятим, —писал Пушкин. Для современников Пушкина привычным поэтическим языком был приподнятый стиль Державина, а стиль Пушкина, по своей (тогдашней) тривиальности, являлся для них неожиданно трудным. Вспомним ужас современников Пушкина по поводу того, что выражения его так площадны. Пушкин употреблял просторечие как особый прием остановки внимания, именно так, как употребляли вообще русские слова в своей обычно французской речи его современники (см. примеры у Толстого, «Война и мир»).
Сейчас происходит еще более характерное явление. Русский литературный язык, по происхождению своему для России чужеродный, настолько проник в толщу народа, что уравнял с собой многое в народных говорах, зато литература начала проявлять любовь к диалектам (Ремизов, Клюев, Есенин и другие, столь же неравные по талантам и столь же близкие по языку, умышленно провинциальному) и варваризмам (возможность появления школы Северянина). От литературного языка к литературному же «лесковскому» говору переходит сейчас и Максим Горький. Таким образом, просторечие и литературный язык обменялись своими местами (Вячеслав Иванов и многие другие). Наконец, появилась сильная тенденция к созданию нового, специально поэтического языка; во главе этой школы, как известно, стал Велимир[186] Хлебников. Таким образом, мы приходим к определению поэзии, как речи заторможенной, кривой. Поэтическая речь — речь-построение. Проза же — речь обычная: экономичная, легкая, правильная (prosa sc. dea — богиня правильных, нетрудных родов, «прямого» положения ребенка). Подробнее о торможении, задержке как об общем законе искусства я буду говорить уже в статье о сюжетосложении.
Но позиция людей, выдвигающих понятие экономии сил как чего-то существующего в поэтическом языке и даже его определяющего, кажется на первый взгляд сильной в вопросе о ритме. Кажется совершенно неоспоримым то толкование роли ритма, которое дал Спенсер: «Неравномерно наносимые нам удары заставляют нас держать мускулы в излишнем, порой ненужном, напряжении, потому что повторения удара мы не предвидим; при равномерности ударов мы экономизируем силу»[187]. Это, казалось бы, убедительное замечание страдает обычным грехом — смешением законов языка поэтического и прозаического. Спенсер в своей «Философии слога» совершенно не различал их, а между тем возможно, что существуют два вида ритма. Ритм прозаический, ритм рабочей песни, «дубинушки», с одной стороны, заменяет команду при необходимости «ухнуть разом»; с другой стороны, облегчает работу, автоматизируя ее. И действительно, идти под музыку легче, чем без нее, но идти легче и под оживленный разговор, когда акт ходьбы уходит из нашего сознания. Таким образом, ритм прозаический важен как фактор автоматизирующий. Но не таков ритм поэзии. В искусстве есть «ордер», но ни одна колонна греческого храма не выполняет точно ордера, и художественный ритм состоит в ритме прозаическом — нарушенном; попытки систематизировать эти нарушения уже предпринимались[188]. Они представляют собою сегодняшнюю задачу теории ритма. Можно думать, что систематизация эта не удастся; в самом деле, ведь вопрос идет не об осложненном ритме, а о нарушении ритма, и притом таком, которое не может быть предугадано; если это нарушение войдет в канон, то оно потеряет свою силу затрудняющего приема. Но я не касаюсь более подробно вопросов ритма; им будет посвящена особая книга.
ИЗ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ОЧЕВИДНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О СТИХЕ
Второе пятидесятилетие девятнадцатого века было периодом упадка русского стихосложения и науки о стихе. За этот период мы пошли назад и понимание законов стиха уже не достигало того уровня, который мы видим в работах Востокова и Остолопова, а в очень значительной степени и Тредиаковского.
Но русское Средневековье кончается.
Символисты первые — и да будет за это над ними земля пухом — обратили внимание на разработку теоретических вопросов в искусстве; занимались этим Андрей Белый, Недоброво и настойчивый покойник Валерий Брюсов.
Но над ними тяготела старая традиция полезного искусства, которая изменялась, но не сдавалась. Потебня, понявший искусство прежде всего как басню, как ряд алгебраических формул к арифметике жизни, завел символистов в тупик «что? и как?» в понимании искусства как формы мышления[189]. В области стиховедения это привело к тоскливому рассмотрению, каким образом ритм и фонетика стиха связаны с его смыслом (— увы! не смыслом стиха, смыслом лирическим, но со смыслом слова, пользуемого как стихом, так и речью — смыслом грамматическим), привело к навязыванию звуковым комплексам ономатопической тенденции.
И символистам удалось только вернуться к уровню, прежде достигнутому.
Группа филологов, сосредоточившаяся около «Сборников по теории поэтического языка», порвала с традицией «изобразительного искусства» (вспомним вчера канонизированный, ныне столь надоевший «образ» avant toute chose). Звук это звук и звуки нужны для звучания.
Кто вам сказал, что мы забыли о смысле? Мы просто не говорим о том, чего (еще) не знаем, и мы забыли лишь ваши теории осмысления, зачастую столь примитивные в своей выспренней отвлеченности.
Еще работами датского ученого Ниропа и французского — Граммона было доказано отсутствие в языке звукового символизма, т. е. непосредственной связи между смыслом слова и его звучанием. В языке понятия близкие часто имеют совершенно различный звуковой состав и, наоборот, слова с различным смыслом звучат близко или даже одинаково (коса Коломбины и коса смерти, voler — летать и воровать, pecher — удить рыбу, грешить и т. п. ad infinitum). В то же время из тысячи примеров, доставляемых вариантами стихотворений, из сотен сообщений самих поэтов мы узнаем о величайшем внимании и сознательнейшей работе их именно над звуковой формой речи и зачастую преимущественно пред стороной первично значащей. Лев Якубинский своею работой «О расподоблении плавных в стихотворном языке» дал очень любопытный подход к этому вопросу. Как известно, закон расподобления плавных, существующий в прозаической речи, выражается в том, что, если в слове встречаются два одинаковых плавных, два «р» или два «л», то один из этих звуков расподобляется (т. е. одно из пары «р» заменяется чрез «л» и обратно). Так из литературного (заемного для русских) «коридор» получалось простонародное «калидор» или современное «верблюд» из древнецерковнославянского «велблют». Это расподобление объясняется общею тенденцией прозаического разговорного языка создавать с помощью естественного отбора наиболее экономические формы речи, так как стечение одинаковых звуков (учтенное скороговорками — экзаменами на речистость) затрудняет произносительную сторону речи.
Совершенно противоположную тенденцию мы видим в языке поэтическом; чуждый закону расподобления, он имеет, напротив, тенденцию создавать стечение одинаковых звуков. Частным случаем такого стечения является аллитерация. Отсюда же звуки не расподобляются и в словах, переживаемых как поэтические даже прозой; таковы собств. имена с деспотизмом их статичности; например, имя Фалалей, сохранившее оба «л». Тот же обратный расподоблению момент стечения в стихотворном языке одинаковых звуков наблюдал Лев Якубинский, изучая варианты Лермонтова, изобличающие вкус к ассимиляции. Обычно оказывалось, что в результате изменений окончательная редакция стихотворения являла очевидно большее звуковое единообразие, чем первоначальный вариант.
Таким образом, мы видим, что стихотворная речь — речь, отмеченная тенденцией создавать трудно произносимые комплексы. А так как мы знаем, что в противоположность прозаической речи, пользующей звук бессознательно (точнее, безотносительно его самоценности), речь стихотворная звуки переживает, то позволено с вероятностью полагать художественною целью стечения одинаковых звуков в стихах создание ощутимых, а не только автоматически произносимых (вечно третье произносящих) словесных масс.
В этом сказалась общеизвестная тенденция сделать язык поэзии отличным от прозаического, в идеале безостаточно особым, объяснимая волею поэзии к своему собственному арсеналу средств, каковой в свою очередь только и способен объяснить (органически обосновать) ее видовую отдельность как искусства. Вспомним сообщение Веселовского о дикарском творчестве на языке соседнего племени[190]. Яков Гримм обращает внимание, что очень часто народная литература создается не на местном диалекте, а на «повышенном» языке, тяготеющем к литературности; важен не момент подражания образцам высшей культуры, но присущее самому организму диалекта, безотносительно явлений третьих, тяготение к «остраннению» привычного, отмежеванию искусства от быта средствами искусственности.
Аристотель в поэтике советует придавать языку характер чужестранного. Все эпохи, и особенно Средневековье, изобилуют примерами искусственно затрудненных форм поэтического языка. Достаточно указать на трубадуров; о затруднениях пишут и в индусских поэтиках. Литературный язык Пушкина, близкий к разговорному, тоже воспринимался современниками как язык затрудненный, так как в его время каноничным для литературы был язык повышенный, державинский.
Сейчас, когда литературный язык влиянием школы, солдатчины и фабрики распространил московский говор, вытеснив говоры народные, на фоне коих он воспринимался на местах, эти говоры начинают, меняясь с ним местами, вытеснять его из литературы. И мы видим Лескова и Ремизова, создающих «литературный говор». И мы видим Есенина, Клюева, Асеева, Ширяевца[191], первоначально выступавших со стихами на литературном языке, ныне же культивирующих «народную речь», которая является определенным литературным приемом. Таким же литературным ни чуть не менее органическим и ни чуть не более стилизационным являются, как с одной стороны произвольные и производимые слова футуристов и прежде всего Хлебникова и Петникова[192], так с другой субъективные варианты «драгоценного стиля» (prècieux) Осипа Мандельштама, Бенедикта Лившица, Владимира Маккавейского. Об этих дифференциальных качествах языка поэзии читаем весьма ценное даже в «Философии искусства» Христиансена[193].
Таким образом, мы видим, что и со стороны словаря речь стихотворная — речь затрудненная и тем самым выведенная из автоматизма.
«Я вытирал комнату и не мог вспомнить, вытер ли я диван. Следовательно, если и вытер, то бессознательно… Если бы кто сознательный со стороны видел, то мог бы восстановить. Если же я сделал, но бессознательно, то это как бы не было и целая жизнь людей, проведенная бессознательно, эта жизнь как бы не была» (из Дневника Толстого).
Так пропадает, в ничто вменяясь, вся автоматически проходящая жизнь, т. е. фактически вся та часть ее, которая не проходит через искусство. Ибо задачей искусства является создание ощутимых вещей.
Таким образом, танец — это ходьба, которая ощущается[194].
Задачей инструментовки является создать балет артикуляционных органов и ощущение словоговорения. Сладки слова поэта на устах.
Органически ощутимая, не из сообщения учитываемая, но видением воспринимаемая вещь — высшая ценность и цель искусства. Пусть ноги ощущают дорогу, по которой идут.
Таково же истинное понимание сюжетосложения. Не миф — зерно сюжета. Сюжет — одна из форм ступенчатого построения. Такими же формами являются звуковой повтор, эпитет, параллелизм, замедления и ускорения, эпические повторения, сказочная обрядность, утроение действия, перипетии…[195]
Отсюда ясно, что сюжет такая же «форма», как и рифма. В сюжете тоже нет ценностей, лежащих вне рамок данного произведения. Теорию сюжета надо изучать как теорию языка. Нужно забыть о попытках изображать историю литературы как историю культуры, отображаемую художеством слова. Плачевным рецидивом этого ветхого взгляда явились молодые «Скифы», полагающие, что революция должна принести с собою обязательные изменения в искусстве, точнее, — должна означать обязательность таких изменений, будто история искусства не история органически обусловленной смены форм, каковые и составляют ее предметное содержание.
Формы новые являются не для того, чтобы «выразить» новое содержание и очевидно не должны явиться с непременностью лишь ввиду возникновения житейски новых кандидатов в их материал. Ибо с тем обветшанием форм искусства, какое единственно вправе двигать его вперед (его — живущего формально), обветшание быта обязательно совпадать не должно[196]. Так было, так будет и лишь таким способом может родиться то, чего еще не было.
Идет новая теория искусств, простая, как система пифагорейцев.
Киев, 1918. XII Редактор Владимир МаккавейскийК СВЕДЕНИЮ[197]
Из обильных и многообразных погрешностей этого (полгода издававшегося) ежегодника современный читатель приглашается отметить своим состраданием главным образом следующее: 1) За несовпадением присутствия цинка (в цинкографии) и рисунков (в редакции) в «Ежегодник» не вошли произвед. О. В. Розановой, Исаака Рабиновича и В. Чекрыгина (анонсированные на титульном листе). 2) Римская нумерация начала книги обусловлена трудностью доставки (со всех концов России) стихотворного материала, отпечатанного в последнюю очередь и оказавшегося превышающим отведенные стихам полтора листа. И все-таки приходится пожалеть, что близкий приезд в Киев Вячеслава Иванова, Белого и Есенина застает сборник уже законченным, а следующие за этим скорбным листом страницы библиографии столь немногочисленны по тем же техническим соображениям (недостаток времени и бумаги).
ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Революция в русской литературе происходит уже скоро двадцать пять лет. Уже десять или одиннадцать лет существует футуризм, самая страстность которого не обещала ему долгих годов.
Все каноны были свергнуты, все законы искусства разрушились и восстановились снова.
Революция в искусстве обновила умы и освободила науку об искусстве от гнета традиции.
Новое общество изучения теории поэтического языка родилось под знаком революции. Филологи, его составляющие, сознают себя родившимися из пестрых книг футуристов. Теорию Потебни постигла великая неудача. Все признали ее, но она не развилась. В пренебрежении Потебни к литературной форме крылась первичная ложь его теории.
Система А. Н. Веселовского была счастливее. Великий ученый, как не многие, сумел оформить тот материал, который он нашел в поэзии чуть ли не всего мира.
От робких слов своих первоначальных лекций о том, что «история литературы — это история человеческой мысли, поскольку и т. д.», он дошел до сознания автономности искусства. И в истории эпитета показал, как можно объяснять эволюцию литературных форм, не прибегая к заглядыванию во внелитературный материал.
Александр Веселовский не имел учеников, он имел только почитателей.
Его идеи не развивались, их канонизировали.
Символисты сумели обратить внимание на форму в искусстве, но они видели в искусстве высказывание. В искусстве они увидали «что» и «как», и Андрей Белый в своих статьях, утонченно ритмизированных, бьется в треугольниках теософии.
Развитие науки лингвистики не отразилось в поэтике символистов, их система — это английская блоха, подкованная тульскими оружейниками — эта блоха не могла прыгать. Символисты и тульские оружейники не знают арифметики.
Отдельные страницы Белого-теоретика войдут в учебники как доказательство невозможности работать, не имея подготовки. Поэтика символистов только материал для построений.
Еще глубже было падение знаний среди критиков — не стихотворцев. Записано для будущего историка русской литературы, что некий критик в городе Петербурге, в библиотеке на углу Садовой и Невского, гласно и не стыдясь присутствующих, просил дать ему перевод «Жития протопопа Аввакума» на русский язык. Не будет ничего удивительного в том, что этот же человек напишет исследование по русской поэзии.
Общество изучения теории поэтического языка, организованное 2 октября с. г.[198] участниками «Сборников по теории поэтического языка», поставило себе целью разработку вопросов теории литературы и общелингвистических дисциплин, поскольку они необходимы для создания научной поэтики.
Членами общества состоят: Сергей Бернштейн, Александра Векслер, Б. А. Ларин, В. А. Пяст, Е. Г. Полонская, Пиотровский, М. Слонимский, Борис Эйхенбаум, Виктор Шкловский, В. Б. Шкловский, Лев Якубинский и друг<ие>.
Однотипное общество существует уже довольно давно при Московском лингвистическом кружке, в настоящее время кружок тоже во главу угла поставил вопросы формальной поэтики.
Общество изучения теории поэтического языка имело уже два заседания: одно было посвящено докладу А. Векслер о «Котике Летаеве» А. Белого, на втором Б. М. Эйхенбаум прочел доклад о построении шиллеровской трилогии.
Готовятся доклады: «Петербург» Андрея Белого — В. Полонский; «Индусские поэтики» — Б. Ларина; «Повести Белкина» — Б. Эйхенбаума; «А. Н. Веселовский» — Виктора Шкловского; «Ритм русского стиха» — С. Бонди; «Очерки истории литературного языка» — Сергея Бернштейна. Общество приступило к разработке плана учебника теории литературы и предполагает организовать коллективную работу над созданием ряда книжек, популяризирующих вопросы научной поэтики. Со справками по делам общества просят обращаться по адресу: Надеждинская, 33, кв. 7, телеф. 156–20.
О ЗАУМНОМ ЯЗЫКЕ. 70 ЛЕТ СПУСТЯ[199]
В старом Петербурге, у Николаевского вокзала, в здании Хлебной биржи выступали футуристы. С ними был молодой тогда еще Виктор Шкловский, который говорил о поэзии и заумном языке.
Пикассо, рассказывая о своих первых выставках, говорил, что было на них все, — но нас, — добавлял он, — все-таки не убивали.
Нас тоже не убивали. Но я помню тот страшный рев, те крики, ругательства, которыми встречали нас. Они сливались в один слитный гул, слова коверкались, переворачивались. Отчасти это напоминало заумь.
Но заумный язык — это умный язык.
Ругательствами и криками встречало свое будущее прошлое. Мы никогда не знаем, в какой одежде оно придет.
И только спокойный, выдержанный академик Бодуэн де Куртенэ, пришедший на наш диспут о заумном слове, сказал мне, когда мы остались наедине: «Что касается вас, то я могу сказать только одно, — у вас есть окна, ведущие к истине».
И вот я обращаюсь к вам через это окно.
Что я думаю сейчас, 70 лет спустя, о заумном языке?
Я думаю, что мы так до конца его и не смогли разгадать. Выучить его трудно. Но понять надо. Прежде всего — это не язык бессмысленный. Даже когда он намеренно лишался смысла, он был своеобразной формой отрицания мира. В этом он был чем-то близок «театру абсурда».
Трудно говорить о заумном языке вообще. Были разные поэты, и у каждого был свой ум и своя заумь. Был Хлебников, и Каменский, и Крученых… И у каждого был свой заумный язык.
Что мне сейчас кажется особенно интересным в зауми? Это то, что поэты-футуристы пытались выразить свое ощущение мира, как бы минуя сложившиеся языковые системы. Ощущение мира — не языковое. Заумный язык — это язык пред-вдохновения, это шевелящийся хаос поэзии, это до-книжный, до-словный хаос, из которого все рождается и в который все уходит.
И Хлебников говорил мне, что поэзия выше слова.
Заумники пытались воспроизвести этот копошащийся хаос пред-слов, пред-языка. И в строгом смысле слова, заумный язык — не язык, а пред-язык.
Ребенок рождается с криком прародителей. Крик, не расчлененный на слова, бормотание, это язык ощупывания мира, ошарашивания его. Ощупывая мир звуком, мы наталкиваемся на предметы, обозначаем их определенными звуками.
И на каком языке говорит мать с ребенком? Они понимают друг друга, хотя их язык — до-словен. Обезьяна на дереве, наш — и мой — далекий предок, кричит о чем-то своем, она докричалась в конце концов до языка.
Песня рождается, когда человек открывает глаза, когда он видит мир таким, каким его никто раньше не видел. Он видит мир странным, новым. Я не боюсь, как видите, повторения, и опять повторю, что искусство остранняет мир. Художник видит мир не через язык, он видит его не опутанным, как сетью, языком.
Так я вижу из своего окна.
Маяковский писал, что рождению стихотворения предшествует какой-то гул, гул нерасчлененных слов; слова, точнее, — недо-слова, поднимаются со дна сознания, из нашей памяти, памяти наших предков, кричавших на дереве о чем-то, им еще не понятном.
Заумники открыли дверь этим словам.
Так кажется мне, Виктору Шкловскому, даже не ученому, а не доучившемуся студенту, который делал много открытий и закрытий. И вот мне уже 90 лет, а я все не могу договориться.
Поэзия, оформляясь в словах, получает новую жизнь, она словно переводится на другой язык. Это происходит и с заумным языком, он попадает в другую систему. Эта система поэтическая, художественная, условная.
Заумь выполнила свою роль в поэзии — де-автоматизация языка, нового его остраннения, возвращения ей утраченной первобытной образности.
Звуки в стихотворении должны ощущаться почти физиологически. Мы пережевываем слово, замедляем его. Это танец, это движение рта, щек, языка и даже пищепровода, легких. Футуризм вернул языку ощущаемость. Он дал почувствовать в слове его дословное происхождение. Я писал в «Третьей фабрике»: «Как будто обвалился берег, слои стали видны, и из-под глины лез, отгоняя собак, живой мамонт».
Заумь существовала в языке, в поэзии, в человеческой культуре всегда. В моей старой статье много подобрано примеров ее из языков сектантов, из детского фольклора. Это как бы две державы, две страны в поэзии, заумная и умная поэзия, которые должны мирно сосуществовать. Поэт — путешественник, он берет и там, и там, он постоянно движется, как челнок, он прыгает на натянутом между этими странами канате.
Эти страны существуют одна за счет другой, опираясь и поддерживая друг друга. И часть границы между ними — условна, межевые столбы передвигаются то в одну, то в другую сторону.
И снова ученые, занимающиеся расшифровкой языка хлыстовских радений, обнаружили, что он имеет санскритские корни. И задолго до этого мне говорил Евгений Дмитриевич Поливанов, что в языке сектантов часто обнаруживаются слова другого, исторически родственного, языка.
Этого я не знал еще, когда писал свою молодую статью «О поэзии и заумном языке». От нее я не отказываюсь, она мне нравится и сейчас, но кое-что, конечно, надо уточнить.
Хлебников пришел в поэзию из далекой страны. Родился он в устье Волги, там, где жили когда-то таинственные племена хазаров. Они исчезли, и теперь их до сих пор не могут найти. Выяснилось, что уровень Каспия колебался, вода то поднималась, то опускалась, поглощая города и села. Это вздыхает История, и из-под воды показываются исчезнувшие культуры.
Мне часто кажется, что сам Хлебников и был пришедшим из далекого прошлого хазаром.
История живет в нас. И нами двигается, дышит. Вздох и выдох — это движение Истории.
Футуристов упрекали в том, что они отказываются от содержания. Но орнамент — разве он бессодержателен? А музыка? Она кажется умонепостигаемой, чистейшей заумью. Но это иные формы, иные способы передачи информации.
Язык предсказаний часто темен и не понятен. Шаман, который крутится, ища вдохновения, хлысты, чувствующие его приближение, кричащие: «Накатил! Накатил!» — они говорят на иных языках.
И я никак не могу кончить, все кручусь, кручусь, и говорю, кажется, невнятно и путанно.
Заумный язык еще надо расшифровать, как расшифровывают языки хлыстовских радений ученые-лингвисты, надо еще разгадывать этот темный язык предсказаний, пророчеств.
Даром пророка обладал Хлебников. Он мог предсказать революцию. Его слово «летчик» казалось заумным. Но летчик Каменский поднимался в небо, Татлин строил Летатлин… Это казалось безумием. Но скорее мир вдруг был безумным. За-умь — это то, что еще находится за пределами нашего ума, то, что мы пока понять не можем. Пока…
В Библии рассказывается, как апостолов посетил святой дух и они вдруг заговорили на разных языках.
Поэзия разноязычна.
Я хочу сказать еще о предсказаниях, которые воплощаются. Я старый человек и дожил до того, до чего многие мои друзья не дожили и чего увидеть они не могут.
Начну издалека. Платон в своем диалоге «Федр» выступает против письменности. Он говорит, что она ничего не добавляет человеку, служит только для закрепления уже придуманного, найденного человеческой мыслью. Этот спор продолжается и по сей день: спор о смысле и значении устной и письменной культур.
История пошла мимо Платона. Человечество изобрело книгопечатание, литеру. Само слово «литература» происходит от слова «литера». Слово, живое, устное слово, спряталось за букву, потом — за литеру.
Футуризм хотел вернуть миру звучание, он хотел «воскресить слово».
Для того чтобы человек, потерявший возможность говорить, мог заговорить снова, ему нужно сильное потрясение. Или нужно рассечь какой-то центр в его мозгу. И бывает так, что человек начинает говорить — бессвязно, быстро, непонятно, еще на операционном столе.
Футуризм — это восстание, бунт против письменной культуры.
Заумный язык — многоязычен. А я пытаюсь обо всем сказать на нескольких страничках. Я говорю, а мои слова прячутся за буквы, потом их покроют литеры, как кольчуга тело воина. Она предохраняет от ударов, но двигаться и дышать в ней неудобно.
Сейчас многие пишут о конце «письменной культуры», начале эры новых коммуникаций, не основанных на письменности. Я вряд ли доживу до этого времени. Я видел рождение кино, рождение телевидения. Они выросли на моих глазах. Я убежден, что с их дальнейшим развитием культура человечества будет сильно меняться. Не знаю, умрет ли письменность. Ведь она не убила живого слова, а только сильно его потеснила. Не надо забывать о прошлом. Наступление этой новой эры, мне кажется, провозгласили еще футуристы-заумники. Они тоже искали новых способов передачи информации, — в нашем до-языковом прошлом, в создании новых языков, — или даже — в отказе от языка (Гнедов). Но ведь и это — поиск нового языка.
…Я помню, как выступали футуристы, футуристы — друзья будущего. Батюшков называл надежду — памятью о будущем. Будем помнить наше будущее, будем чаще вспоминать прошлое. Футуристы открывали окна в будущее.
Люди долго искали истоков Нила. Нил берет свое начало в снегах, лежащих на высоких горах, его начало — до-словно.
Надо додумывать свои мысли, надо досказывать недовысказанное, надо уметь слушать и слышать. Будущее приходит неожиданно.
РЕВОЛЮЦИЯ ВРЕМЕНИ
ХОД КОНЯ
Первое предисловие
Книга называется «Ход коня». Конь ходит боком, вот так:
Много причин странности хода коня, и главная из них — условность искусства… Я пишу об условности искусства.
Вторая причина в том, что конь не свободен, — он ходит вбок потому, что прямая дорога ему запрещена.
Статьи и фельетоны этой книги были напечатаны все в России с 1919-го по 1921-й год.
Они напечатаны в крохотной театральной газете «Жизнь искусства», а сама эта газета была ходом коня.
Я пишу для русских за границей.
Одни говорят: в России люди умирают на улице, в России едят или могут есть человеческое мясо…
Другие говорят: в России работают университеты, в России полны театры.
Вы выбираете, во что верить…
Не выбирайте. — Все правда.
— В России есть и то и другое.
— В России все так противоречиво, что мы все стали остроумны не по своей воле и желанию.
Я собрал газетные статьи, как они были написаны. Добавлено мало.
Еще одно слово: не думайте, что ход коня — ход труса.
Я не трус.
Наша изломанная дорога — дорога смелых, но что нам делать, когда у нас по два глаза и видим мы больше честных пешек и по должности одноверных королей.
СВЕРТОК
Второе предисловие
Ко мне пришли два студиста: Лев Лунц и Николай Никитин[200].
Они мне сказали: «Расскажите нам что-нибудь про искусство, потому что мы студисты».
Я им ответил: «Я расскажу вам нечто вроде отрывка из „Хитопадеши“[201]: рассказ в рассказе. Это будет интересно как образчик индусской поэтики, — я забочусь о вашем образовании, потому что вы студисты».
Они сказали: «Хорошо».
«В некотором царстве, в некотором государстве жил один середняк; вот убрал он к осени с поля хлеб, молотит его и ругается. Шел в это время мимо старик и говорит ему:
— Чего ругаешься — чистый воздух портишь, разве тебе избы ругаться мало?
А середняк ему отвечает:
— Да как же мне не ругаться, плох урожай, опять напутал Николай Угодник, где нужно было вёдро, он там дождь пустил, где солнце — там мороз.
А старик тот и был сам Николай Угодник. Обиделся Николай Угодник и говорит ему:
— Ну, если я тебе плохо погоду делаю, то вот тебе самоопределение, вот тебе мандат, делай погоду сам.
Обрадовался мужик, сам стал погоду организовывать.
Только убрал он к осени урожай — плох урожай, совсем плох.
Молотит он и ругается, так ругается, что на дороге проезжие лошади морду отворачивают.
Идет Николай Угодник, смеется:
— Как урожай?
Ругается середняк так, что в небе пробежалые тучки ахают.
— Да разве это урожай?
— Ну, расскажи мне, как делал погоду?
Рассказал мужик все по параграфам.
Смеется Угодник:
— А ветер у тебя был?
— Зачем ветер, он только хлеб путает.
— Нужен ветер, без ветра ни рожь, ни пшеница не обсеменятся. Да у тебя, небось, и грозы не было.
— Не было.
— И гроза нужна.
Подумал тут середняк и говорит Угоднику:
— Знаешь, делай лучше погоду сам.
А Угодник ему говорит:
— Действительно, ты поступил так, как поступают люди в Италии, ставшие потом идиотами.
— А как поступали в Италии люди, потом ставшие идиотами? — спросил середняк.
— Жили в Италии или Японии люди, и стали сами они замечать, или другие за ними заметили, что глупеют они ежесуточно, а летом даже на три часа вперед. Спросили врачей, те бились, бились и догадались: ели эти японские или итальянские люди лущеный рис, а та часть, которая нужна мозгу, есть в рисе, но только в его шелухе.
И тогда сказали врачи:
— Не нужно изобретать пищу, всего не предусмотришь, а если люди, ставшие идиотами от того, что они не ели шелухи, похожи на мужика, забывшего о ветре, то человек, который пожелал бы все учесть, был бы похожим на индийскую сказку о тысяченожке.
— А что это за сказка о тысяченожке? — спросили люди, ставшие идиотами.
Врач сказал:
— Была тысяченожка, и имела она ровно тысячу ног или меньше, и бегала она быстро, а черепаха ей завидовала.
Тогда черепаха сказала тысяченожке:
— Как ты мудра! И как это ты догадываешься и как это у тебя хватает сообразительности знать, какое положение должна иметь твоя 978-я нога, когда ты заносишь вперед пятую?
Тысяченожка сперва обрадовалась и возгордилась, но потом в самом деле стала думать о том, где находится каждая ее нога, завела централизацию, канцелярщину, бюрократизм и уже не могла шевелить ни одной.
Тогда она сказала:
— Прав был Виктор Шкловский, когда говорил: величайшее несчастье нашего времени, что мы регламентируем искусство, не зная, что оно такое. Величайшее несчастье русского искусства в том, что им пренебрегают, как шелухой риса. А между тем искусство вовсе не есть один из способов агитации, как vitamin, который должен содержаться в пище кроме белков и жиров, не есть сам ни белок и ни жир, но жизнь организма без него невозможна.
Величайшее несчастие русского искусства, что ему не дают двигаться органически, так, как движется сердце в груди человека: его регулируют, как движение поездов.
— Граждане и товарищи, — сказала тысяченожка, — поглядите на меня, и вы увидите, до чего доводит чрезучет! Товарищи по революции, товарищи по войне, оставьте волю искусству, не во имя его, а во имя того, что нельзя регулировать неизвестное!»
— Ну так что же? — спросили меня студисты.
— Теперь вы должны сказать что-нибудь, чтобы замкнуть традиционное в индийской поэтике обрамление, — ответил я.
— Погубили мы свою молодость, — сказали Лев Лунц и Николай Никитин и ушли.
Это очень способные люди: один написал пьесу «Обезьяны идут», другой — рассказ «Кол».
ОБРАМЛЕНИЕ
ПЕТЕРБУРГ В БЛОКАДЕ
Меня поразило в Москве обилие ворон. Первый раз они испугали меня на площади Охотного Ряда. На сине-красной конине, привезенной к какой-то продовольственной лавке, сидели черные с серо-синими грудями вороны. Конина и вороны были друг другу в тон. Вороны шли к страшным, ободранным конским головам. Конская туша некрасива. Никто не пугал ворон, они не пугали никого и спокойно ходили по крепкому мясу, как грачи по пахоте.
Была весна, тепло. Я шел домой на Остоженку, где остановился. В воздухе происходил, очевидно, «день вороны». Вороны летали над храмом Христа Спасителя спиральной сетью, как будто стремясь окружить Москву. Вороны летели кучей, и я чувствовал себя как пехотинец, сминаемый атакой кавалерии. Несколько ворон (но все же много) кружились вокруг купола храма, как мухи. Это выглядело грязно. Вороны шумели, и галдели, и орали, и скрипели в воздухе над городом, полупогруженным в грязный снег. Они строились и перестраивались в воздухе. Потом несколько вороньих полков сели на дом с 11 трубами, что перед храмом. Крыша почернела. Я не знаю вороньих намерений, но намерения у них были. Может быть, то была только демонстрация.
Ночью московские вороны ночуют па деревьях Пречистенского бульвара, что у Арбата. Деревья так усажены ими, что кажется, будто листья не осыпались с ветвей осенью, а только почернели. Они сидят молчаливые и организованные.
Так вот ворон в Питере не видно.
Питер живет и мрет просто и не драматично.
Я хочу писать о нем. Кто узнает, как голодали мы, сколько жертв стоила революция, сколько усилий брал у нее каждый шаг?
Кто сможет восстановить смысл газетных формул и осветить быт великого города в конце петербургского периода истории и в начале истории неведомой?
Я пишу в марте, о начале весны. 1920 год. Многое уже ушло. Самое тяжелое кажется воспоминанием. Я пишу даже сытым, но помню о голоде. О голоде, который сторожит нас кругом[202].
Трамваев в Питере мало. Но все же ходят. Ходят, главным образом, на окраины. Вагоны переполнены. Сзади прицепляются, особенно у вокзалов, дети с санками, дети на коньках, иногда целыми поездами.
В трамваях возят почту. Сейчас по воскресеньям платформы, прицепляемые к трамваям, возят грязь и мусор из временных свалок, устроенных на улицах. Одна из них на углу Невского и Литейного.
Петербург грязен, потому что он очень устал. Казалось бы, почему ему быть грязным? Народу мало: тысяч семьсот. Бумажки, щепки, все сжигается в маленьких домашних очагах, которые зовут в нем «буржуйками». Питер мало сорит, он слишком нищ для сора. Он грязен (в меру и меньше Москвы), он грязен и в то же время убран, как слабый, слабый больной, который лежит и делает все под себя.
Зимой замерзли почти все уборные. Это было что-то похуже голода. Да, сперва замерзла вода, нечем было мыться, а в Талмуде сказано, когда не хватает воды на питье и на омовение, то лучше не пить, а мыться. Но мы не мылись. Замерзли клозеты. Как это случилось, расскажет история. Блокада и революция с ее ударом во вне разбила транспорт, не было дров. Вода замерзла.
Мы все, весь почти Питер, носили воду наверх и нечистоты вниз, вниз и вверх носили мы ведра каждый день. Как трудно жить без уборной. Мой друг, один профессор, с горем говорил мне на улице, по которой мы шли вместе леденея… «ты знаешь, я завидую собакам, им, по крайней мере, не стыдно». Город занавозился по дворам, по подворотням, чуть ли не по крышам.
Это выглядело плохо, а иногда как-то озорно. Кое-кто и бравировал калом.
Я пишу о страшном годе и о городе в блокаде. Иезекииль и Иеремия жарили на навозе лепешки, чтобы показать Иерусалиму, что будет с ним в осаде.
В будни лепешки жарились на человечьем кале, в праздники — на лошадином.
Люди много мочились в этом году, бесстыдно, бесстыднее, чем я могу написать, днем на Невском, где угодно. Они мочились не выходя из упряжи своих санок, не скидывая ярма, не снимая веревки, за которую тащат эти санки.
Здесь была сломанность и безнадежность. Чтобы жить, нужно было биться, биться каждый день, за градус тепла стоять в очереди, за чистоту разъедать руки в золе.
Потом на город напала вошь; вошь нападает от тоски.
Теперь несколько слов о градусах.
Мы, живущие изо дня в день, вошли в зиму без дров. Достать по талонам было очень трудно: нужно было выдержать стояние в двух холодных враждебных очередях, да талонных дров не хватало и на кухни.
Чем мы топили? Немногие из уцелевшей буржуазии, перешедшей на торговлю сахарином и еще чем-то невесомым, топили дровами. Мы же топили всем. Я сжег свою мебель, скульптурный станок, книжные полки и книги, книги без числа и меры. Если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы ими и оказался бы к весне без конечностей.
Один друг мой топил только книгами. Жена его сидела у дымной железной печурки и совала, совала в нее журнал за журналом. В других местах горели двери, мебель из чужих квартир. Это был праздник всесожжения. Разбирали и жгли деревянные дома. Большие дома пожирали маленькие. В рядах улиц появились глубокие бреши. Как выбитые зубы, торчали отдельные здания. Ломали слабо и неумело, забывали валить трубы, били стекла, разбирали одну стопку вместо того, чтобы раскручивать дом, звено за звеном, как катушку. Появились искусственные развалины. Город медленно превращался в гравюру Пиранези.
А мороз впивался в стены домов, промораживал их до обоев. Люди спали в пальто и чуть ли не в калошах. Все собрались в кухни; в оставленных комнатах развелись сталактиты. Люди жались друг к другу, и в опустелом городе было тесно, как в коробе с игрушками. Священники в храмах совершали литургию в перчатках и ризах на шубах. Больные, школьники, все мерзли. Полярный круг стал реальностью и проходил где-то около Невского. И тогда открылись могилы старых домов; на Невском сняли и сожгли леса на перестраиваемых зданиях, и они вновь появились, старыми, мертвыми стенами.
Строящимся домам отказали в рождении: у них тоже сняли леса.
Да, я еще забыл сказать, что у мужчин была почти полная импотенция, а у женщин исчезали месячные.
Это было вовсе не сразу, и волны голода то ослабевали, то захлестывали всех с головой.
Когда давление не превышает определенной силы, то предметы изменяют свою форму разнообразно, но когда давление громадно, то перед ним равны и крепость соломы, и крепость железа. Оформливается однообразно.
В Петербурге давление было чрезвычайно. Петербуржцы имели одну судьбу; все переживалось какими-то эпидемиями. Были месяцы резиновых подошв, когда все магазины имели вывеску белую с синим и красным и торговали резиновой пластиной; были месяцы комиссионных магазинов, когда все продавали, все в разных лавках со странными именами — «По-ко-ко»; был месяц падающих лошадей, когда каждый день и на всякой улице бились о мостовую ослабевшие лошади, бессильные подняться; был месяц сахарина, когда в магазине нельзя было найти ничего, кроме пакетиков с ним.
Был месяц, когда все ели одну капусту, — это было осенью, когда наступал Юденич. Был месяц, когда все ели картофельную шелуху. А перед этим все ели какаовое масло.
Питер шел стадом, стадо бросалось в разные стороны; лиц не было, они раздавились. Но да будет слово мое сейчас о лошадях. Трудно быть лошадью в Петербурге. Покормленная, она падает на камнях и бьется, бьется, силясь уцепиться ногами без шипов за голые, круглые, всегда круглые голыши.
Мы жалели наших лошадей. Когда падала еще одна, к ней бежали люди со всех сторон, не с панелей, панелей не стало — все ходили по середине, — и подымали ее изо всех сил, не боясь даже чесотки.
Но редко подымается падающая лошадь. Она падает и лежит. У головы ее кладут сено; первый день она жует его, мотом лежит неподвижно рядом; она не может уже поднять голову. Потом приходят собаки.
Собаки не рвут мертвой лошади. Они питерские, неумелые собаки; искусство рвать мясо ими утрачено.
Сперва люди вырезывают из туши украдкой куски, и в обнаженное мясо вгрызаются обрадованные псы. Иногда приходится встретить конский хвост или конскую часть там, где не помнил конского трупа. А если везут мертвую лошадь на салотопенный завод, то голова ее висит с телеги, и ослабленные губы свисают и как будто текут. Конские кости (хребет и ребра), лежащие всю зиму в конце Ямской, напомнили мне о караванных дорогах: там кости лежат еще гуще.
Кошкам было хуже. Я не видел кошек на трупах, но раз мне пришлось, идя к знакомому, увидеть кошку у его двери. Она стояла и ждала. Вид у нее был худой, но корректный. Не знаю, какие отношения были у нее с домом, у двери которого она стояла. Я вышел потом, посидев не более часа. Кошка лежала на боку спокойная, но мертвая.
И кошки спокойно умирают в Петербурге.
Теперь о собаках. Не буду описывать собачью жизнь, я недостаточно внимателен для нее. Помню только собак нищих. Одна стояла на углу Симеоновской и Моховой, другая на Пантелеймоновской у церкви, третья на углу Греческого и Бассейной. Два фокса, один пудель (пудель на Бассейной). Они стояли и служили на задних лапах или стояли и просто лаяли. Люди приходили и приносили им пищу. Стояли они месяцами, потом исчезли.
Вернемся к людям. Как трудно везти санки с дровами или санки с мебелью, особенно тогда, когда стаял снег или не подкованы полозья. Или биться на скользком льду и, падая, мечтать о крепких, цепких копытах с шипами.
Я не забуду тоски скрипящих полозьев. Умирали просто и часто. Ведь я говорю об общем. В столовой «Дома литераторов», где пахло плохим обедом и у стен сидели и дремали ушедшие из квартир люди, которые уже были присоединены морозом и тьмой к хаосу. Во тьме, на стене, всегда висела одна, две, три фамилии умерших. Кто-то назвал это дежурным блюдом.
Умрет человек, его нужно хоронить. Стужа студит улицу. Берут санки, зовут знакомого или родственника, достают гроб, можно напрокат, тащат на кладбище. Видел и так: тащит мужчина, дети маленькие, маленькие подталкивают и плачут. Что было на кладбище — не знаю, я слишком невнимателен.
Из больниц возили трупы в гробах штабелем: три внизу поперек; два вверху вдоль, или в матрасных мешках. Расправлять трупы было некому — хоронили скорченными.
Голод. Мы так сжились с голодом, как хромой с хромотой.
Голод и кипяток утром. Ссора за обедом в семье из-за пищи. Голод ночью. Мы голодали покорно. Голодные говорили с голодными о голоде. Трудно смотреть, как ест кто-нибудь. Я видел, как человек ел воблу, а другой, пришедшей к нему в гости, украдкой брал с края тарелки кости и головки рыбы и ел здесь же. Оба притворялись, что это ничего, что это так и нужно. Пища перестала питать. Когда она была, ее ели, но не насыщались.
Мы ели странные вещи: мороженую картошку, и гнилой турнепс, и сельдей, у которых нужно было отрезать хвост и голову. чтобы не так пахли. Мы жарили на олифе, вареном масле для красок, сваренном со свинцовой солью. Ели овес с шелухой и конину, уже мягкую от разложения. Хлеба было мало. Сперва он был ужасен, с соломой и напоминал какие-то брикеты из стеблей, потом хлеб улучшился и стал мягким. Мы ели его сознательно.
Голод и желтуха. Мы были погружены в голод, как рыба в воду, как птицы в воздух.
Одна знакомая вышла замуж за повара коммунальной столовой, другая за шофера, торгующего краденым керосином. Он пожалел ее и дал ей хлеба и шнурованные ботинки до колена. Если бы был невольничий рынок, на котором можно было бы продать себя за хлеб, он торговал бы бойчее всех лавок с сахарином.
Кругом города была деревня. Прежде город тянул все из нее, рос и пух, красивея. Теперь город тает в деревне, как мыло в воде. Ушли люди; вспомнил о земле и уехал в деревню лавочник и парикмахер; уехал с завода квалифицированный рабочий. Поползли и другие, кто мог. Потом деревня раздела город. Взяла за хлеб и картошку портьеры и посуду за жир. Обратный мешочник, человек крепкий и серьезный, владелец своего хозяйства и охранитель собственной шкуры, с обратным мешком вывозил все из города. Золото, граммофоны, образа, платье, кажется, все, кроме книг.
Как мы были одеты. Костюм женщины, купленный спекулянтом, был такой: валенки, свитер, теплая шапка и котиковое пальто. Костюм наших женщин не помню. Я не смотрел на них: было жалко. Мы одевались, как эскимосы. Носили, кто достал, валенки, носили полушубки и просто пальто, подпоясанные ремнем, обертывали голову платками, носили солдатские брюки навыпуск, но, главное, все донашивали. Помню какие-то остатки военного обмундирования. Носили суконные туфли, оборачивали ноги тряпками или носили галоши на голую ногу или на ногу в тряпках. Но многие были каким-то чудом обуты. Так многие каким-то чудом не умирали. Старые запасы города убывали, но не обрывались совсем. На руки надевали самодельные варежки. Когда надевал варежку на левую руку, казалось, что она с правой, когда надевал на правую, она была с левой.
Мылись мы редко, и то наиболее крепкие.
Временами казалось, что сейчас больше уже будет нельзя… Вымерзнут все ночью по квартирам. Раны были так глубоки. А раны без жиров не заживают. Царапина гноится. У всех были руки перевязаны тряпочками, очень грязными. Заживать и выздоравливать было нечем. И город великий, город все жил. Он жил своею городскою душою, душою многих, как горит угольная куча под дождем. Из темных квартир (о темнота, и копоть маленького ночника, и ожидание света!) собирались в театры. Смотрели на сцену. Голодные актеры играли. Голодный писатель писал. Работали ученые.
Мы собирались и сидели в пальто, у печи, в которой горели книги. На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме, и о словесной форме, и изредка о весне, увидать которую казалось так трудно.
Так делали многие, так делали старики профессора в сыпнотифозных квартирах. Казалось, что мы работаем не головным, а спинным мозгом. Нева бежала подо льдом, бежала, а мы работали.
Я понимаю тех, кто бился у подступа к Петрограду и отбил его. В городе, истощенном дотла, было тепло и жар горячечного больного. Город был болен великой болезнью — революцией. Этот умирающий Петербург не стал провинциальным, идущие от него таяли от его жара. Немногие знали о том, что они горят, но многие горели.
Старая жизнь кончилась, и мы в пустыне. Я не знаю, куда я иду, но назад я не хочу. Я научился дорожить пройденным. Умерла старая семья. Мы разлюбили свои вещи. Мы забыли свои старые места. Слишком трудно будет возвращаться.
Город пуст. Как будто улицы подмыли берега — так расширились они. Но город все еще жив и горит не то, как огонь, не то, как рана на теле сельской России. Красный огонь революции — последнее, что осталось от города в России.
ОБ ИСКУССТВЕ И РЕВОЛЮЦИИ
«УЛЛЯ, УЛЛЯ, МАРСИАНЕ!»[203]
(Из «Трубы марсиан»)[204]
То, что я пишу сейчас, я пишу с чувством великого дружелюбия к людям, с которыми я спорю.
Но ошибки, делаемые сейчас, так явны для меня и будут так тягостны для искусства, что их нельзя замалчивать.
Наиболее тяжелой ошибкой современных писателей об искусстве я считаю то уравнение между социальной революцией и революцией форм искусства, которое сейчас они доказывают[205].
«Скифы», «футуристы-коммунисты», «пролеткульты» — все провозглашают и долбят одно и то же: новому миру, новой классовой идеологии должно соответствовать новое искусство. Вторая посылка — обычна: наше искусство и есть именно новое, которое выражает революцию, волю нового класса и новое мироощущение. Доказательства для этого обычно приводятся самые наивные: Пролеткульт доказывает свое соответствие данному моменту тем, что у его поэтов и родители были пролетариями, «скифы» — чисто литературный прием применения «народного» языка в поэзии, вызванный слиянием старого литературного языка с городским говором и ведущий свою историю от Лескова через Ремизова, — выставляют признаком почвенности своих писателей, а футуристы приводят в доказательство своей органической враждебности капиталистическому строю ту ненависть, которую буржуазия питала к нам в дни нашего появления на свет.
Не очень густые доказательства, слабые основания для домогательства на место в истории социальной революции, на место, которое нам, может быть, не более нужно, чем солнечному свету квартира на Невском в три комнаты с ванной.
Во всех этих доказательствах общее одно: все авторы их полагают, что новые формы быта создают новые формы искусства. То есть они считают, что искусство есть одна из функций жизни. Получается так: положим, факты жизни будут рядом чисел, тогда явления в искусстве будут идти как логарифмы этих чисел.
Но мы, футуристы, ведь вошли с новым знаменем: «Новая форма — рождает новое содержание». Ведь мы раскрепостили искусство от быта, который играет в творчестве лишь роль при заполнении форм и может быть даже изгнан совсем, так, как сделали Хлебников и Крученых, когда захотели заполнить, по Гюйо, «поэзией расстояние между рифмами» и заполняли его вольными пятнами заумного звучания. Но футуристы только осознали работу веков. Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города.
Если бы быт и производственные отношения влияли на искусство, разве сюжеты не были бы прикреплены к тому месту, где они соответствуют этим отношениям. А ведь сюжеты бездомны.
Если бы быт выражался в новеллах, то европейская наука не ломала бы голову, где — в Египте, Индии или Персии — и когда создались новеллы «1001 ночи».
Если бы сословные и классовые черты отлагались в искусстве, то разве было бы возможно, что великорусские сказки про барина те же, что и сказки про попа.
Если бы этнографические черты отлагались в искусстве, то сказки про инородцев не были бы обратными, не рассказывались бы любым данным народом про другой соседний.
Если бы искусство было так гибко, что могло бы изображать изменения бытовых условий, то сюжет похищения, который, как мы видим в словах раба комедии Менандра «Επιτρέποντες»[206], уже тогда был чисто литературной традицией, — не дожил бы до Островского и не заполнял бы литературу, как муравьи лес.
Новые формы в искусстве являются не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старые формы, переставшие быть художественными.
Уже Толстой говорил, что сейчас нельзя творить в формах Гоголя и Пушкина потому, что — эти формы уже найдены.
Уже Александр Веселовский положил начало свободной истории литературной формы.
А мы, футуристы, связываем свое творчество с Третьим Интернационалом.
Товарищи, ведь это же сдача всех позиций! Это Белинский-Венгеров и «История русской интеллигенции»![207]
Футуризм был одним из чистейших достижений человеческого гения. Он был меткой — как высоко поднялось понимание законов свободы творчества. И — неужели просто не режет глаз тот шуршащий хвост из газетной передовицы, который сейчас ему приделывают.
САМОВАРОМ ПО ГВОЗДЯМ
Если взять самовар за ножки, то им можно вбивать гвозди, но это не его прямое назначение.
Я видел войну, я сам топил печи роялем в Станиславове и жег на кострах ковры, поливая их постным маслом, запертый в горах Курдистана. Сейчас я топлю печь книгами. Я знаю законы войны и понимаю, что она по-своему переформировывает вещи, то обращая человека в четыре пуда с половиной человечины, то ковер в суррогат фитиля.
Но нельзя рассматривать самовар с точки зрения удобства вбивания им гвоздей или писать книги так, чтобы они жарче горели. Война — нужда — переформировывает вещи по-своему, но старую вещь она рассматривает просто как материал, и это грозно и честно, но изменять назначение вещи, сверлить ложкой двери, бриться шилом и уверять, что все обстоит благополучно, это не честно.
Такие мысли осаждают меня уже месяц с той самой поры, когда я прочел в «Правде» программу или «проект программы» организации музыкального вечера при просветительном отделе Военного комиссариата.
Эта программа — программа пропаганды при помощи музыки.
Но как пропагандировать музыкой, «содержание которой чистая форма» (Кант)?
И создается не научная и не марксистская, а так себе, по аналогии сделанная, теория существования буржуазной музыки.
Для доказательства этой мысли понадобилось бы еще сперва доказать возможность идеологической музыки.
А потом составитель музыкальной программы со всей легковесностью, ему присущей, делает прыжок и противопоставляет буржуазной музыке не пролетарскую, а музыку, написанную на революционный сюжет. Это логически неправильно, с этим не стоит спорить, это нужно просто править, как ученическую работу. Здесь упущен принцип единого основания. И вот начинается забивание самоваром гвоздей.
Да, товарищи, бывает музыка на революционный текст, а самовар имеет вес и некоторую крепость, так неужели же этого достаточно, чтобы отнести его в разряд молотков?
Увы! Это же происходит в живописи: силы художников заняты плакатами, просто плакатами, даже не плакатным мастерством.
Я не буду защищать искусство во имя искусства, я буду защищать пропаганду во имя пропаганды.
Царское правительство умело ко всему прилагать свой императорский штамп: оно перештемпелевывало все пуговицы и все учреждения.
И десять лет в школе утром, каждым утром я пел в стаде других детей: «Спаси, Господи, люди Твоя…» И вот теперь и даже раньше, в год окончания гимназии, я не мог произнести эту молитву без ошибки, я могу только пропеть ее.
Агитация, разлитая в воздухе, агитация, которой пропитана вода в Неве, перестает ощущаться. Создается прививка против нее, какой-то иммунитет.
Агитация в опере, кинематографе, на выставке бесполезна — она сама съедает самое себя.
Во имя агитации уберите агитацию из искусства.
КРЫЖОВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ
Кажется, в «Иванове» Чехова одна хозяйка угощает всех крыжовенным вареньем. Наварила его несколько бочек и угощает: надо же скормить.
Кажется, это в «Иванове». Я не могу второй раз прочесть Чехова.
Очевидно, у наших театралов большой запас крыжовенного варенья. Вещи, которые ставятся в театре, хорошие вещи, с репутацией, но все это так давно сварено.
Делакруа писал приблизительно так: «Великий человек не имеет много новых мыслей, но имеет одну: что высказанные прежде мысли недостаточны»[208]. Наши театралы не имеют этой одной мысли. Ведь, в сущности говоря, совершенно неправильно, что пьеса, представляемая на сцене, известна зрителю. Писатель пишет все же, главным образом, для первого восприятия, для восприятия наново. Мы же воспринимаем его пьесу как реставрацию.
Великий театр будет театром не крыжовенного варенья, а театром вот сейчас созданного репертуара.
Таким театром был театр греков и театр Шекспира.
И Пушкин жил, конечно, всего жизненней, когда писал.
А сейчас же классики, увы, только иллюстрации к своим комментаторам.
Конечно, скажут: «Где же сейчас новый репертуар?»
На худой конец, если уж ставить старые вещи, то нужно ставить неизвестные — не «Фауста» Гёте, а «Фауста» Марло. Но, кроме того, мы не ставим того, кого имеем.
Наш великий писатель, заруганный, засмеянный, непрочтенный, но признанный лучшим, творец нового сюжета, создатель нового стиха, Велимир Хлебников, имеет пьесу, даже две, но где их можно поставить?
Крыжовенное варенье в форме Шекспира и итальянской комедии или в иной другой всех насыщает.
Хлебников признан немногими, но среди признавших его есть почти все поэты. А для широкой публики Хлебников только тот самый футурист, к которому, как сиделец к хвосту собаки, привязал знаменитый, талантливый Корней Чуковский — Локк русской критики — свою критическую жестянку.
Необходимо поставить «Ошибку смерти» Хлебникова, принадлежащую к его несложно построенным вещам. Хлебников не виноват, что он не писатель XVII века или даже начала XIX[209].
Другую пьесу мы видали на сцене[210]. Автора ее мы знаем. Это «Мистерия-буфф» Маяковского. Маяковский родил толпу подражателей, которые сейчас попрекают друг друга плагиатами из него в своих журнальчиках.
Маяковский растолкал локтями своих современников. Это не Хлебников: когда он станет тебе на ногу и закричит, то трудно его не услыхать.
И все же пьеса его, поставленная всего несколько раз, лежит себе и ждет своего XXV века.
Я не считаю «Мистерию-буфф» в числе лучших произведений Маяковского. Конец пьесы, по-моему, слаб, не вышел.
Но по ходу диалога, почти целиком построенного на каламбуре, по мастерству эта вещь заслуживает того, чтобы ее ставили ежедневно, несмотря на ее злободневность. Кроме того, в основе своей вещь Маяковского народна в 10 000 раз больше, чем все «Цари Максимилианы» Ремизова[211].
Ремизов, стремясь создать народную вещь, ухватился за внешнее — за сюжет, который, как известно, в «Царе Максимилиане» вырождается и, конечно, не характерен. Владимир Маяковский взял — конечно, интуитивно — самый прием народной драмы. Народная драма же вся основана на слове как на материале, на игре со словами, на игре слов.
В блестящих страницах «Мистерии» (особенно хороши первые) канонизирован народный прием.
Для того чтобы поставить Хлебникова, нужно много понимать, уметь и сметь, но я не понимаю, что понимают и что умеют всякие рабоче-крестьянские арены, сидящие без репертуара, когда они проходят мимо так талантливо завернутой пьесы Маяковского.
Неужели еще надолго наш паек — крыжовенное варенье.
ШТАНДАРТ СКАЧЕТ[212]
При каждой почти части есть свой театрик. Театр есть почти при каждой организации. Мы имеем даже «Школу инструкторов театрального дела с отделением подготовки суфлеров» при Балтфлоте.
Происходит что-то евреиновское — театрализация жизни[213].
Я не удивлюсь, если Мурманская железная дорога или Центрогвоздь станут готовить актеров не только для себя, но и на вывоз.
Музыка играет, штандарт скачет.
О девяти десятых этих театров не пишет никто; это — «театры для себя»[214].
Мне пришлось бывать в этих театрах, — дух телеграфиста Надькина[215] носился над ними. Худший театр, театр дачно-любительский, под ведением какого-либо культпросвета продолжает свое существование. Идет опошление зрителя, превращение его в преемника культурных вкусов бывшего полкового писаря.
Мне ли не знать, что год диктатуры левых и молодых в искусстве прошел. Пошла другая линия, линия деловая и хозяйственно-кустарная. А пойдите в студии, и вы увидите, что молодые художники остались молодыми и остались левыми, кроме тех, которые перестали быть молодыми.
За «деловое искусство», искусство, «понятное красноармейцам», берутся люди, которые не знают, что тот, кто не говорит стихами, говорит прозой, и тот, кто отказывается от нового искусства, — творит старое и устаревшее.
Среди них есть люди лично благонамеренные, люди «хорошего вкуса», — кстати, самого плохого для художников, — но они люди в искусстве не живые, не напорные, рядом с ними становятся люди похуже, и вместе со старой формой врывается: «Прежде скончались — потом повенчались». Музыка играет, штандарт скачет, и Центрогвоздь превращает рабочих в актеров.
Этот истерический актеризм, охватывающий всю Советскую Россию, подобен жировому перерождению тканей.
И всему виной легко прежде добытое искусство — соблазн дешевого искусства.
Я предлагаю основать «Лигу защиты красноармейцев от водевиля, танцульки и чтения лекций по космографии».
Мы объявили принцип трудовой школы для детей, а для взрослых — вместо того, чтобы ввести их в процессы научной работы, — употребляем театр в лошадиных дозах и лекции, оглушающие верхушками, лекции, на которых, кажется, нужно уже ставить охрану у дверей для невыпуска, — это уже не только кажется.
Я помню, как напряженно и обрадованно слушали меня красноармейцы на фронте, когда поздно вечером — так как день был занят боевой работой — я в темноте (света никакого не было) начал с ними заниматься арифметикой.
У людей была радость от ощущения, что они что-то начали сначала, впряглись и пашут.
Нужно бросить все силы на образовательную работу, на систематическую работу. Такая работа возможна везде.
Нужно объявить новый лозунг: «Отдохнем от театра» — и заменить культпросветские скачки по верхам планомерной работой.
Для этого понадобится много работы, так как для интенсивности и быстроты учебной работы в войсках нужно организовать занятия с маленькими группами в десять — пятнадцать человек.
И нужно также другое: ставить себе все время исполнимую и близкую задачу. Пусть Балтфлот выпускает не суфлеров, а учителей, если только это не должен делать Наркомпрос. И тогда в общий план нужно и можно ввести и искусство как работу, как деланье, — а не глазенье и не игранье.
Старый режим не умел расчленять работу; когда какой-нибудь военный завод строил корабль, он готовил для этого корабля дверные ручки и клозетные чашки.
Сейчас у нас такая же мания: «каждый сам по себе пробочник», «каждый сам по себе актер», — Центрогвоздь готовит артиста, пока штандарт скачет.
СОГЛАШАТЕЛИ
Знахарь — не человек без теории: у знахаря неверная, чаще всего устаревшая теория.
Спектакль, который я видел в Революционно-Героическом театре, не был бесформенным; он был очень плохо старооформлен.
В искусстве нет импровизаций; точнее, импровизация возможна только как изменение формы, как появление ее, наконец, в новом контексте.
Нельзя отлить пушку по вдохновению, нельзя и играть пьесу нутром, потрохами. Пьесу можно только сделать.
Революционный театр хотел быть театром порыва, вдохновения, но от техники он не ушел. Он отказался от искания ее — тогда пришла чужая, старая, отбросовая техника, техника оперы и плохого кино, и спектакль пошел по ее колеям.
Печально было видеть талантливую артистку Чекан в ужаснейшей пьесе («Легенда о Коммунаре»), в шаблоннейших группах и позах.
Постановка как будто была вся составлена из открыток и иллюстраций «Родины» (был такой журнал).
Здесь не было неумелости, не было революционного преодоления формы. Нет, просто я видел перед собой провинциальную традицию формы во всей неприкосновенности.
Неправду говорят, когда оправдываются тем, что для народа нужно какое-то особенное, простое, укороченное искусство. Народные загадки и пословицы инструментованы необыкновенно тонко.
Стилистические приемы русской сказки не проще приемов прозы Андрея Белого, и слушатели превосходно понимают приемы сказки, отличая, например, аллитерации. Фабричная песня восприняла в себя приемы старой русской эпической песни, а так как это, конечно, неизвестно многим занимающимся пролетарским творчеством, то я предлагаю внимательно посмотреть хотя бы песню «Маруся отравилась». Да и частушка есть вещь сделанная, построенная.
«Легенда о Коммунаре» — это революционная «Вампука»[216]. И ковка сердца Коммунара — это Вагнер, воспринятый по либретто[217].
Я не верю, что автор «Легенды о Коммунаре» — пролетарий, так как свежий класс, еще не развернувший своих возможностей, не может выделить этого человека, которому для выражения пафоса пролетарской революции понадобился колпак звездочета и меч Гавриила.
Жалко людей, играющих в этой пьесе: она и «знахарская» постановка губят их, делают неловкими и короткорукими.
ДРАМА И МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Адриан Пиотровский предлагает (в «Известиях Петросовета») использовать драматические кружки для организации из них кадров участников массовых представлений[218].
Действительно, никто не знает, что делать с драматическими кружками; они плодятся, как инфузории. Ни отсутствие топлива, ни отсутствие продовольствия, ни Антанта — ничто не может задержать их развития.
Тщетно бегают испуганные руководители и предлагают самые разнообразные способы замены кружков, — кружки непоколебимы.
— А если вас закроют? — говорят им.
— Мы будем ставить водевиль конспиративно!
И играет, играет Россия, происходит какой-то стихийный процесс превращения живых тканей в театральные.
А тут еще Евреинов предлагает: «Каждая минута нашей жизни — театр»[219]. Зачем это нам, когда у нас есть театр каждую минуту!
Понятно желание Пиотровского употребить эти театральные кружки в дело, как-то разрядить их, оттащить хоть от водевиля, от дачного любительского спектакля, от маскарадного театра с переодеваниями.
Я думаю, что это невозможно, — театральные кружки именно хотят переодевания и маскарада, того самого маскарада, который так не понравился в Доме искусств одному человеку в маске «Браунинга»[220], с очень длинным, очевидно, позднее Октября полученным номером.
Жизнь тяжела, ее тяжесть от себя не скрыть. И в этой тяжелой жизни не похожи ли мы на селенитов («Первые люди на Луне»), посаженных в бочки, из которых дают расти одному только щупальцу, полезному для коллектива[221].
Человек поневоле рад бы туда, где все было мягче, где били не иначе как мягкими подушками, а топили непременно в теплой воде. Но дорога во вчерашний день, конечно, заперта.
И вот человек бежит в театр, в актеры, — так, по мысли Фрейда, при психозе мы прячемся в какую-нибудь манию, как в монастырь, то есть создаем себе иллюзорную жизнь, иллюзорную действительность вместо трудной действительности действительной.
Вы помните, по всей вероятности, описание театра в «Записках из Мертвого дома» Достоевского. Покрыть бритую голову париком, одеть не серую одежду, перейти в другую жизнь, — вот что пленяло каторжан в театре. Достоевский говорит, что они оказались хорошими актерами. Это оттого, что в старое время каторга снимала наиболее сильную часть народа.
Народное массовое празднество, смотр сил, радость толпы есть утверждение сегодняшнего дня и его апофеоз. Оно законно тогда, когда на него никто не смотрит из окна или из особой трибуны, иначе оно вырождается в парад, в крепостной балет и в оркестр роговой музыки. И уже поэтому оно не маскарад и не театр.
Народное массовое празднество — это дело живых; драматические же кружки — психоз, бегство, мечта селенита о конечностях.
Эти миллионы кружков нельзя закрыть, — нельзя запретить человеку бредить; они — сыпь болезни, и как таковые — они заслуживают внимания социолога.
Но использовать их для постройки нового быта нельзя.
Его нельзя строить из бреда дезертира.
Это слишком жестоко.
ПАПА, ЭТО — БУДИЛЬНИК!
Я был в «театре Зон» на постановке Мейерхольда и Бебутова «Зорь» Верхарна в переделке Чулкова, или в переделке Мейерхольда и Чулкова, или вообще в переделке[222].
Рампа снята. Провал сцены ободран. Театр похож на пальто с выпоротым воротником. Не весело и не светло.
На сцене контррельеф с натянутыми, вверх идущими канатами, с гнутым железом, — все это на фоне таком черном, что его почти не видно. Мне это понравилось, особенно, если бы мне не мешали рассматривать несколько бритых людей без грима и в костюмах, представляющих нечто среднее между контррельефом и костюмом комиссара (галифе).
За сценой бьют в железный лист и кричат по-театральному, — на театральном жаргоне это обозначает бунт.
В оркестре пятнадцать человек в штатском, мужчины и женщины; судя по манере говорить, похожей на манеру актера Мгеброва, люди эти пришли из Пролеткульта. Сам Мгебров стоит на призме, но на сцене он Пророк и говорит поэтому очень громко.
Люди в пиджаках в оркестре должны слить сцену с публикой и для этого, чтобы было легче, сняли рампу.
Текст пьесы: Верхарн написал плохую пьесу. Так как революционный театр создается наспех, то и пьесу эту приняли наспех, наспех приняв за революционную!
Содержание: рассказ про то, как вождь Эреньен заключал коалицию с буржуазией.
Текст пьесы изменен, на сцене говорят о Союзе Действия, о власти Советов. Действие осовременено, хотя не знаю, почему на сцене империалистские воины ходят с копьями и со щитами.
В середине, кажется, второго действия Вестник приходит и читает телеграмму о потерях Красной армии у Перекопа.
Очевидно, это художественно рассчитано на вторжение трагизма жизни в трагизм искусства. Но так как действие осовременено, то телеграмма не вырывается из его текста, и художественного эффекта, на который она рассчитана, не получается.
Музыка играет, пролеткультцы в оркестре кричат, на сцене поют похоронный марш, публика встает и… стоит. Митинг не удается.
Из трех групп, которые должны играть, по мысли постановщика, в этом игрище: актеры (сцена), пролеткультцы (оркестр) и публика (партер), — публика бастует.
В любом митинге она ведет себя оживленнее, чем на этом митинге в костюмах и контррельефных галифе.
Самая большая ошибка вечера то, что пьеса, пусть плохая пьеса, уничтожена митингом до конца; митинг не удался, не удалась и борьба между митингом и пьесой.
Чтобы удалась эта борьба, пьесу нужно было именно сохранить, разорвав ее неизмененное тело вставками современников.
У Тэффи есть рассказ о неудачном изобретателе, ищущем все время, что бы ему придумать.
Раз утром, проспав, выходит к чаю и говорит: «…Хорошо было бы изобрести машинку; чтобы ей сказать, когда разбудить, и она разбудила бы…» — но дочка перебивает его: «Папа, да ведь это будильник!»
КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Вопрос о коллективном творчестве выплыл в светлое поле сознания современного общества.
Коллективность творчества, конечно, понимается многими очень наивно. Например, на этой неделе в одной из газет появилась заметка о том, что к постановке предложена пьеса, написанная коллективно четырьмя авторами, причем каждый писал свой акт.
Конечно, такое творчество вполне возможно: мы знаем романы Эркмана и Шатриана, братьев Гонкур; Дюма-отец держал у себя в доме целую фабрику по приготовлению романов, а Сарду заказывал помощникам отдельные сцены своих пьес, а сам только связывал и обрабатывал их.
Но все это случаи не столько коллективного, сколько группового творчества.
Настоящий коллективизм в творчестве лежит глубже, но зато и шире.
При выдаче патентов на изобретения записывают не только день, но и час, даже минуту подачи заявления; практика показала, что вполне возможен приход другого изобретателя с тем же изобретением. Так случилось при выдаче патента на телефон! Вообще, приоритет на изобретение или открытие установить очень трудно; эпоха подготовила предпосылки построения, и несколько человек, не связанных друг с другом, ощущают себя творцами. В этом случае человек и человеческий мозг не что иное, как геометрическое место точек пересечения линий коллективного творчества.
Я поясню свою мысль сравнением. Если мы в совершенно неподвижно стоящий стакан с водой бросим мельчайше истертый порошок, то мы увидим, что и после того, как вода успокоится, мельчайшие частицы порошка, подвешенные в воде, движутся, вроде того, как движется рой мошек на солнце, но гораздо тише. Движение это называют броуновским, по фамилии ученого, который его открыл и объяснил нам, что частицы, подвешенные в жидкости, в силу ничтожности своей массы, воспринимают движение молекул и начинают колебаться под действием их толчков.
Вот роль таких частиц, выявляющих движения, не заметные сами по себе для невооруженного глаза, и играет творец, будет ли это изобретатель двигателя внутреннего сгорания или поэт.
Может быть, многим из читателей известно, как разыгрывают или разыгрывались итальянские комедии импровизации, так называемые «commedia dell’arte». Брался сценарий, в основу сценария клался какой-нибудь сюжет; сюжеты же, как вам известно, не являются продуктом личного творчества, они переходят из одного временного пласта творцов искусства в другой, изменяясь под влиянием желания все время иметь ощутимый переживаемый материал, и в эту основу исполнители ролей вставляют свои шутки, оживляя и украшая традиционные речи. Но всем, слушавшим и рассказывающим анекдоты, известно также, что и эти анекдоты тоже представляют из себя какой-то склад запасных частей, и, таким образом, артист-импровизатор вставляет в традиционную, в широком смысле этого слова, раму традиционное заполнение. Но также совершается творчество эпического певца.
Так же описывал творчество сказания сказок Рыбников, — он говорил об общем всем сказочникам складе[223].
Нам кажется, что наше так называемое личное творчество совершается не так, но это результат невозможности или, вернее, трудности видеть сегодняшний день в общем.
Мы чувствуем, что средневековая лирика оперирует школьной традицией, что рыцарский роман, например, это перестановка все тех же трафаретных узоров по все тем же схемам, мы чувствуем, наконец, что послереволюционные рассказы в русской литературе так же традиционны, как рассказы «с проблемой пола», но мы не чувствуем того, что и сейчас мы оперируем с традиционным коллективным творчеством, причем под коллективом здесь я понимаю не всю массу народонаселения, а общество певцов-писателей, вне зависимости от того, говорим мы о так называемом народном или так называемом искусственном творчестве.
Пушкин и Гоголь такое же явление своей школы, как и рядовой автор. Мы вырываем их из общей массы, между прочим, и оттого, что не умеем мыслить процессами. Нам нужны красные строки.
Творчество, даже революционно-художественное, — творчество традиционное. Нарушение канона возможно только при существовании канона, и богохульство предполагает еще не умершую религию.
Существует «церковь» искусства в смысле собрания его чувствующих. Эта церковь имеет свои каноны, созданные напластованием ересей.
Заботиться о создании коллективного искусства так же бесполезно, как хлопотать о том, чтобы Волга впадала в Каспийское море.
В СВОЮ ЗАЩИТУ[224]
Я не дразню никого, когда пишу о «Дон Кихоте» и о Толстом. История совершенна. Явления всего понятней тогда, когда мы можем понять процесс их возникновения. Вокруг много дел, требующих немедленных решений, но чтобы решить, — нужно знать, что я могу сказать о рабоче-крестьянском искусстве человеку, которому неизвестны не только законы искусства, но неизвестен сам материал, сами произведения. Я не литературный налетчик и не фокусник, я могу только дать руководителям масс те формулы, которые помогут разобраться во вновь появляющемся — ведь новое растет по законам старым. Мне больно читать упреки «Правды» и обидно обращение «господа» — я не «господин», я товарищ Шкловский уже пятый год. Мои товарищи, которые вместе со мною пишут в газете, заслуживают прежде всего уважения, а не упреков. Мы не халтурим, а работаем по первоисточникам и со всей серьезностью. Тот факт, что мы пишем статьи о Шиллере и Стерне, разрешая вопросы заново, — чудо.
Товарищ из «Правды», — я не оправдываюсь, я утверждаю свое право на гордость.
Мы слишком увлекаемся распределением знаний, мы слишком увлекаемся популяризацией науки, мы слишком мало думаем о производстве в науке, мы не отвели ей место.
Я и мои товарищи работаем при 0 градусов и при коптилке, мы будем работать при температуре ниже нуля и при лучине, но только так, как мы умеем. Мы сами видим свой путь.
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАМПЕ
Тов. Керженцев поднял вопрос о «театре без зрителя» — театре действа — игрище.
Я совершенно согласен со статьей Державина и с тем, что такие игрища были всегда, но их просто не называли театром, подразумевая под словом театр нечто совершенно другое.
В театре важна театральность.
Гофман в «Принцессе Брамбилле» употребил следующий прием: один из героев рассказа говорит: «Мы все, действующие лица „каприччио“, которое сейчас пишется»; здесь интересна установка на «нарочность» действия, подчеркивание его условности.
Этот прием можно найти у Сервантеса в «Дон Кихоте», где безумный сам читает рассказ о самом себе; он очень типичен для Стерна и почти для всей романтической школы, которая в основе своей, между прочим, является школой подчеркивания и освежения условности формы.
Тот же прием, но перегнутый в другую сторону — сторону реализации условности, мы видим у Гоголя в «Мертвых душах», когда он предлагает читателю не повторять громко имени Чичикова, чтобы Чичиков не услыхал и не обиделся.
Был случай в маленьком немецком городке, когда во время представления трагедии зрители взошли на сцену и силой прекратили кровопролитие.
Одна моя знакомая при представлении мелодрамы, кажется, «Две сиротки», начала кричать актерам, ищущим выхода при преследовании: «В окно! в окно!»
В этих случаях иллюзия была превзойдена, но театру этого не нужно, театру нужна мерцающая, то есть то возникающая, то исчезающая иллюзия.
Психологическая рампа — один из стилистических приемов театра, один из элементов его формы.
Есть целые вещи, построенные на одной игре с рампой, как, например, «Зеленый попугай»[225] или «Паяцы», — здесь смысл в том, что действие воспринимается то как реальное, то как иллюзорное.
Но подчеркивание рампы встречается не только в этих пьесах.
У Шекспира в «Короле Лире» король, оскорбленный своей дочерью, обращается в публику и говорит про даму, сидящую в партере: «А ей разве необходимы ее наряды, разве они греют ее?»
То же у Островского в «Бедность не порок»: обиженный подьячий бросается к рампе и показывает публике свои рваные подошвы, жалуясь ей на Подхалюзина[226]; подобный прием каноничен для водевиля.
Широко пользовались этим приемом в своих театральных произведениях романтики, — отсюда все эти директора театров в пьесах Тика и Гофмана (Жирмунский).
Все эти обнажения приема игры с рампой показывают, что она всегда входит как элемент в строение драмы.
Уничтожить психологическую рампу — это то же, что уничтожить, ну, например, аллитерации в стихотворении.
О ГРОМКОМ ГОЛОСЕ
Когда мне приходится писать заметки рецензионного характера, я чувствую себя, как государственная печать, которой Том, по воле Марка Твена сделавшийся английским королем, колол орехи.
О театре, об искусстве вообще, нужно не писать заметки, — нужно создавать исследования, работать группами, научными обществами и, найдя, наконец, основы научной поэтики, позволить себе говорить — и тогда говорить громко.
Но нужно и колоть орехи.
Нужно писать, хотя бы для того, чтобы за тебя не писал другой и не мучил тебя своим остроумием.
С такими оговорками пишу я о постановке мистерии в портале Биржи[227].
Я видел только генеральную репетицию. Я принужден говорить отрывисто.
Многое нравится мне в этой постановке. Прежде всего хорошо то, что в строение «мистерии» как органическая часть введен парад. Получается очень интересная двойственность. «Художественно», то есть по законам эстетики построенное движение масс, играющих порабощенный и восстающий народ, уравнено с «прозаическим», то есть по законам полезности построенным движением войска. Это пользование внеэстетическим материалом в художественном произведении поразило меня больше, чем цифровая огромность действующей массы в мистерии.
Это придумано талантливо.
Можно создавать художественные произведения так, но еще смелее было бы противопоставить, найти эстетическое отношение не между эстетическим и внеэстетическим предметом, а между двумя внеэстетическими предметами, прямо между вещами реального мира.
Я думаю, что можно создать художественные произведения, противопоставив Выборгскую сторону Петербургской.
Атака на ворота «Царства свободы» лучшее и наиболее крепкое место постановки. Гораздо слабей по напряжению цирковой «Пир королей».
Для того чтобы противопоставить человеческое тело человеческой толпе, нужно как-то героизировать его или же относиться к нему внимательнее, чем это делаем мы.
Хорош масштаб постановки, хорошо, если, как говорили мне, в него введут прожекторы с Петропавловской крепости. Хорошо, когда в спектакле принимает участие такой большой кусок города и воды. Может быть, можно еще усилить масштаб и развернуть композицию на весь город вместе с Исаакием и воздушным шаром над площадью Урицкого.
В таком спектакле актерами должны были бы выступить и могли друзья-мостовые и подъемные краны над Невой, предвестники братьев моих, марсиан Уэллса. И прожектор дирижировал бы сразу всеми оркестрами города и барабанами пушек.
Постановщикам «мистерий» я завидую.
Говорить громким голосом всякому, имеющему громкий голос, — приятно.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
О «ВЕЛИКОМ МЕТАЛЛИСТЕ»
Поднялся и повис в воздухе вопрос об отливке из бронзы статуи «Великого Металлиста» работы скульптора Блоха[228]. Не знаю, чьей работы такое пышное название этой «статуи». Я считаю, что этот вопрос должен быть решен отрицательно, так как статуя очень плоха, плоха не с точки зрения футуриста, а плоха со всех точек зрения, и плоха потому, что сейчас нельзя сделать хорошей статуи «старой школы». Различные способы создания художественных вещей, различные художественные формы не существуют одновременно. Когда Роден хотел скопировать античные статуи, то оказалось, что он все время лепил их слишком тощими, но сам он смог заметить это только путем измерения. Разные эпохи способны ощутить разное, и у каждой эпохи есть нечто закрытое для ее восприятия. Вспомним, что горы у Тита Ливия определены только как безобразные. Восприятие человеческого тела ушло из области ви́дения в область узнавания; тело, по крайней мере, не измененное, не преображенное, не обезображенное или не разложенное, не существует как предмет художественного восприятия. Недаром в языке почти отсутствуют слова, обозначающие части тела. А наши дети, рисуя, рисуют пуговицы всегда, а колени и локти почти никогда не рисуют. Можно по инерции лепить человеков и даже делать их очень большими и поэтому называть великими, но простое измерение работы честного ремесленника, Ильи Гинцбурга или Блоха, покажет, что эти формы лепились людьми, не видавшими их, а только знающими наизусть, что у человека есть голова, руки и даже ноги.
Те, кто не хотят искать, а режут купоны старых традиций, думают, что они представители старой школы.
Они ошибаются. Нельзя творить в уже найденных формах, так как творчество — изменение.
Толстой был классиком, и он смеялся над теми, кто не понимает, почему старые формы хороши у Пушкина и у Гоголя и плохи у подражателей, которые ими пользовались как чем-то готовым.
Дело в том, что так называемое старое искусство не существует, объективно не существует, а потому невозможно сделать произведение по его канонам.
История искусства не представляет из себя библиотеки, в которую поступают всё новые томики, так что можно взять с полки любую книжку: хочу — вчерашнюю, хочу — времени Гутенберга.
Прошлое в искусстве уничтожается или живет, то вспыхивая, то впадая в жалкое существование коллекции, где все равноценно: и картины, и папиросы со странными мундштуками, «каких уже теперь нет».
Реально это выражается в том, что все великие архитекторы были разрушителями. Ломали шатровую церковь, чтобы построить на ее месте новую, каменную. Томон ломал Биржу Гваренги, чтобы поставить на ее месте свою; много ломал Гваренги, много ломал Растрелли; Летний дворец самого Растрелли был сломан, чтобы поставить на месте его нынешний Инженерный замок. Баженов хотел снести Кремль и поставить на месте его свою постройку. Только как тени, только как восприятия антиквара могут одновременно существовать постройки различных эпох; живой же художник разрушает, потому что видит только свое.
Правы были монахи, стиравшие с пергамента стихи Вергилия, чтобы на месте их написать свои хроники, нарисовать свои миниатюры.
Это происходит не оттого, что изменяются формы жизни, формы производственных отношений.
Изменения в искусстве — не результаты изменений быта. Они результаты вечного каменения, вечного ухода вещей из ощутимого восприятия в узнавание.
Все эти художники «Общины», все эти передвижники, — это не старое искусство. Все это мертвые пятна, выгнивающие дупла. Все это мертво, как мертв постоянный эпитет.
Всякая художественная форма проходит путь от рождения к смерти, от ви́дения и чувственного восприятия, когда вещи вылюбовываются и выглядываются в каждом своем перегибе, — до узнавания, когда вещь, форма делаются тупым штучником-эпигоном, по памяти, по традиции, и не видятся и самим покупателем.
Блох и Блохи делают вещи неощутимые, не существующие художественно так же, как не существует «резьба» и «вазы» на буфетах. Так же умерла ныне столь косноязычно, столь неструктивно употребляемая арка, которую тычут в революционные памятники.
Если в России есть бронза и много людей, не понимающих искусство, но голосующих о нем, то «Великий Металлист» из гипсового чучела сделается бронзовым чучелом, но это не обратит его «наизусть» сделанных форм в формы художественные.
Но отлить можно, можно и позолотить…
Очень жалко видеть, как тратятся силы на то, чтобы снять памятник Беренштама и поставить памятник Блоха. Это для глядящего сознательно совершенно художественно сделанное переливание из пустого в порожнее. Может быть, пролетариат не может еще воспринять формы искусства передового[229]; буржуазия тоже не понимала художников своего времени, но это не дает еще права навязывать ему медные пуговицы вместо золота и Блоха вместо скульптуры.
ПРОСТРАНСТВО В ЖИВОПИСИ И СУПРЕМАТИСТЫ
Исторический материализм очень хорош для социологии, но им нельзя заменить знания математики и астрономии и при одной его помощи нельзя ни рассчитать мост, ни определить законы движения кометы.
Нельзя также, исходя из исторического материализма, объяснить и отвергнуть или принять какое-либо произведение искусства или целую школу в искусстве. Поэтому я пытаюсь объяснить явление искусства: дуб растет из желудя.
Изобразительные искусства не имели целью изображение существующих вещей; целью изобразительных искусств было и будет создание художественных вещей — художественной формы.
Если мы бы и захотели в изобразительном искусстве «подражать природе», то это было бы покушение с негодными средствами на негодный объект. Например: Гельмгольц доказал, что отношение силы света между участками неба и тенью леса можно выразить как отношение двадцати тысяч к единице. В картине же разница между самым ярким и самым темным пятном не может быть более, чем шестьдесят к единице. Таким образом, картина своими красками не может передавать отношение света, но это и не является задачей картины. Картина — это нечто построенное по своим собственным законам, а не нечто подражательное.
Теперь о форме. Обычно думают, что благодаря перспективе мы можем на картинной плоскости передать форму предмета. Это мнение неверно.
Во-первых: перспектива, даже самая академическая, не есть построение по закону начертательной геометрии. В большой картине, например, края рисуются так, как будто наблюдатель стоит именно перед ними, а не перед центром картины. Таким образом, предметы, изображенные на такой картине, даны с двух и более точек зрения.
Из этого вытекает «закон» академической живописи: не сокращать горизонтальных линий. Поэтому же, изображая внутренность здания, пишут его в одном сокращении, а группу людей, находящихся в этом помещении, вписывают, сокращая другим способом, по другим законам. Об этом можно справиться даже в энциклопедическом словаре, что я и советую как программу-минимум для людей, которые сейчас пишут с налета статьи об искусстве.
Во-вторых: если картина будет повешена на стене не на том уровне, на котором она писалась, и если это не было специально учтено художником (обычный случай станковой живописи), то линия горизонта картины окажется фальшивой и перспектива опять искаженной. В таком положении находятся почти все картины в музеях. Впрочем, и при самом исполнении картины иногда (например, у Веронезе) пишутся с двумя или более линиями горизонта.
Но если бы перспектива и следовала законам начертательной геометрии, то и тогда она не могла бы объективно передавать формы.
Представим себе маленький квадрат внутри большого. Соединим их углы. Теперь будем смотреть, фиксируя внимание на малом квадрате. Мы увидим, что перед нами изображена усеченная пирамида с квадратным основанием, обращенная вершиной к нам. Посмотрим затем, фиксируя внимание на большом квадрате. И мы увидим ту же пирамиду, но уже обращенную к нам своим основанием, как бы врезанную внутрь.
Если же мы бросим на чертеж беглый взгляд, не подчеркивая своим вниманием ни одного из контуров, то мы не получим ощущения формы. Этот опыт анализирован Вундтом[230], а потом подробно разработан в применении к живописи Христиансеном в его «Философии искусства».
Я не совсем согласен с некоторыми выводами Христиансена, но не буду разбирать их в статье. Сейчас же скажу только: наш чертеж представляет из себя перспективную схему. Большой квадрат можно считать передним планом, малый — задним. Но ведь можно и наоборот. Можно, как мы видели, вывернуть чертеж, представить задний план передним.
Можно, наконец, сплющить его, ощутить как плоский.
Таким образом, и с этой стороны перспектива условна, она основана на традиции восприятия.
Европейская живопись канонизировала второй случай, то есть перспективу сходящихся параллельных. Японская и византийская живопись канонизировали первый случай; получилась так называемая обратная перспектива. Фреска и мозаика строятся по третьему способу. В них глубина, собственно говоря, отсутствует. Сообразно с этим, рисунок вешают плоско на стену, фрески пишут на самой стене, а картину отрывают от стены, вешая с уклоном, и подсказывают глазу восприятие пространства рамой из брусьев косого сечения.
Как мы видим, и пространство в изобразительном искусстве — условность, картинная условность. И это одинаково верно и для академистов, и для футуристов.
Таким образом, совершенно неправильно заменять мозаику копией, исполненной, например, масляными красками, так как принципы построения пространства в этих «картинных системах» совершенно различны.
Такую ошибку собиралась сделать царская власть, заменяя в Исаакиевском соборе живопись итальянской (не фресковой) манеры мозаичными копиями. Сейчас эти работы приостановлены.
Но ни прямой, ни обратной перспективой не объясняется построение картины.
Картины формуются своей предметностью. Поясняю свое утверждение. Если мы снимем у слепорожденного с глаз катаракты и вернем ему зрение, то он не увидит в мире предметов, расположенных один за другим в пространстве. Мир ему представится в виде цветных ставней, цветной завесы, непосредственно лежащей у глаз (Рибо)[231]. Только мускульный опыт научает нас строить пространство вокруг себя во внешнем мире.
Поэтому когда мы видим предмет, то ощущение формы получится только тогда, когда мы узнаем предмет, узнаем, что он такое.
Гильдебранд в своей книге «Проблемы формы в изобразительном искусстве» указывает, что для создания впечатлений глубины и высоты в картине недостаточно изобразить уходящее поле, а необходимо, например, нарисовать на этом поле дерево, от дерева отбросить тень, и тень подскажет нам глубину картины. Точно так же когда на греческой вазе или на современной чашке мы видим черный силуэт какого-нибудь тела, иногда данного даже в ракурсе сокращения, то, только связав с этим силуэтом представление о том, что это, например, контур козы, мы ощутим объемность. Причем если силуэт допускает не одно, а несколько осмысливаний, то разнопредметность этих осмысливаний даст нам несколько противоречивых оформлений.
Таким образом, материалом живописи являются обычно не краски, а красочные изображения предметов.
В истории искусства установлен факт (Гроссе) тяготения животного и растительного орнамента к геометрическому.
Может быть, этот факт связан с тем явлением, на которое указал Мейман: в рисунках детей форма появляется не ранее, чем они составляют себе некоторое (ненаучное) представление о геометрической форме[232].
Во всяком случае, геометрически-кубистический стиль периодически захватывал искусство. Один из таких захватов произошел в Греции, кажется, после эпохи чернофигурных изображений. Чашка с геометризованным рисунком находится, между прочим, в Эрмитаже.
При геометризации изображений быстро отрывается предмет от предмета и становится узором.
Оторвавшись от предметности, мы теряем один из приемов создания форм и приходим к плоскостным изображениям. Таким образом, беспредметность супрематистов и их отказ от пространства тесно связаны одно с другим.
Еще Джотто писал, что для него картина прежде всего — сочетание красочных плоскостей. Но только супрематисты, которые долгой работой над предметом как над материалом осознали элементы живописи, только супрематисты оторвались от рабства вещи и, обнажив прием, дали картину и для зрителя только как красочную плоскость.
Я не думаю, что живопись навсегда останется беспредметной. Не для того художники стремились к четвертому измерению, чтобы остаться при двух измерениях. Но для меня ясны предки супрематистов, неизбежность и необходимость этого движения. Если художники вернутся к изображению предметов или даже к сюжетности, которая в нашем понимании этого слова, то есть в смысле создания ступенчатого построения, есть и у футуристов (те случаи, когда они разлагают предмет на планы), то и тогда, и именно тогда, путь через супрематистов будет не даром пройденным путем[233].
О ФАКТУРЕ И КОНТРРЕЛЬЕФАХ
Часто приходится читать жалобы на трудность выразить в искусстве свою мысль.
Поэты заполняли этими жалобами свои стихи. Горнфельд даже пожалел бедных поэтов и написал статью «Муки слова».
Взгляд на форму искусства, то есть на само искусство, как на толмача, переводящего какие-то мысли художника с языка его души на язык, понятный зрителю, общеизвестен. Для сторонников такого взгляда слово в литературе, краска в живописи — горестная необходимость. От этих «средств» художников требовали прежде всего прозрачности, незаметности. Художники с этим соглашались словесно, но в своих мастерских делали все по-своему.
В чем очарование искусства?[234]
Внешний мир не существует. Не существуют, не воспринимаются вещи, замененные словами; не существуют и слова, едва появляющиеся, едва произносимые.
Внешний мир вне искусства. Он воспринимается как ряд намеков, ряд алгебраических знаков, как собрание вещей, имеющих объем, но не имеющих материальности — фактуры.
Фактура — главное отличие того особого мира специально построенных вещей, совокупность которых мы привыкли называть искусством.
Слово в искусстве и слово в жизни глубоко различны; в жизни оно играет роль костяшки на счетах, в искусстве оно фактурно; мы имеем его в звучании, оно договаривается и довыслушивается.
В жизни мы летим через мир, как герои Жюля Верна летели с Земли на Луну в закрытом ядре. Но в нашем ядре нет окон. Вся работа художника-поэта и художника-живописца сводится, в первую голову, к тому, чтобы создать непрерывную, каждым своим местом ощутимую вещь, — вещь фактурную.
Поэт, имея материалом своего творчества, построения форм не только слово-звук, но и слово-понятие, также творит из него новые вещи. Добро и зло в искусстве — фактурны. Нельзя думать, что искусство, изменяясь, улучшается. Само понятие улучшения подъемом вверх — антропоморфично.
Формы искусства сменяются.
Бывают минуты если не падения искусства, то растворения в нем ряда чужих ему элементов. Таково, например, творчество наших передвижников.
Тогда искусство живет помимо этих элементов, которые участвуют в жизни, как пуля, сидящая в груди, участвует в жизни тела.
Нельзя сказать, что Репин совсем не художник, но нужно помнить, что он художник постольку, поскольку он решал вопросы о создании особого рода вещей — полотен, покрытых красками.
С другой стороны, художники, часто думая, что решают чисто живописные проблемы, не решают их, а только показывают, и вот получается живописная алгебра, то есть «несделанная картина», — вещь, по существу, прозаическая.
К такому живописному символизму приходится отнести школу супрематистов.
Их картины скорее заданы, чем сделаны. Они не организованы с расчетом на непрерывность восприятия.
Правда, здесь «поставлен вопрос» не о вреде религии или крепостного права, а об отношении красного четырехугольника к белому полю, но, по существу, это «идейная» живопись.
Из русских художников ближе всех подошли к вопросу создания сделанных, непрерывных вещей — Татлин и Альтман.
Альтман сделал это в ряде картин, в которых он обнажил установку на фактуру, где весь смысл картины в сопоставлении плоскостей разных шероховатостей; Татлин — уйдя из живописи.
Я видел в Академии (в Свободных мастерских Васильевского острова), на выставке работ учащихся, вещи мастерской Татлина, к сожалению, я не видел собственно его работы — модель Памятника III Интернационалу.
Эта модель будет выставлена в ноябре, и тогда можно будет говорить о ней конкретно.
Пока же можно сказать, что Татлин ушел из живописи, от картин, которые он писал так хорошо, и перешел к противопоставлению одной вещи, взятой как таковая, другой.
Я видел работу одной из его учениц. Это большой квадрат паркета, обработанный так, что разные куски его имеют разную фактуру и представляют как бы несколько плоскостей, уходящих друг за друга: одна часть квадрата занята куском меди неправильной формы, и этому противопоставлены полоски кальки, прикрепленные впереди основного плана работы.
Конечной задачей Татлина и татлинистов является, очевидно, создание нового мироощущения, перенесение или распространение методов построения художественных вещей на построение «вещей быта». Конечной целью такого движения должно являться построение нового осязаемого мира.
Контррельеф, эскизный набросок — куски какого-то особого рая, где нет имен и нет пустот, где жизнь не похожа на наш сегодняшний «полет в ядре», на наш способ существования по точкам, от момента к моменту, как езда по незамечаемой дороге от станции к станции.
Новый мир должен быть миром непрерывным.
Я не знаю, нрав или не прав Татлин. Не знаю, смогут ли распуститься гнутые листки жести композиций его учеников в кованый контррельеф нового мира.
Я не верю в чудо, оттого я и не художник.
ПАМЯТНИК ТРЕТЬЕМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
(Последняя работа Татлина)
Дни бегут за днями, как вагоны, переполненные странными и разнообразными повозками, пушками, толпами о чем-то шумящих людей. Дни гремят, как паровой молот, удар за ударом, и удары уже слились и перестали слышаться, как не слышат люди, живущие у моря, шума воды. Удары гремят где-то в груди, ниже сознания.
Мы живем в тишине грохота.
В этом мощеном воздухе родилась железная спираль проекта памятника ростом в два Исаакия.
Эта спираль падает набок, и ее поддерживает крепкая наклонно стоящая форма.
Таково основное построение проекта Памятника III Интернационалу работы художника Татлина.
Изгибы спирали соединены сетью наклонных стоек; в прозрачном дупле их вращаются три геометрических тела. Внизу движется цилиндр со скоростью одного поворота в год; пирамида над ним поворачивается раз в месяц, и шар на вершине совершает полный поворот каждый день. Волны радиостанции, стоящей на самом верху, продолжают памятник в воздух.
Это впервые железо встало на дыбы и ищет свою художественную форму.
В век подъемных кранов, прекрасных, как самый мудрый марсианин, железо имело право взбеситься и напомнить людям, что наш «век» даром называет себя уже со времени Овидия «железным», не имея железного искусства.
Можно много спорить по поводу памятника. Тела, вращающиеся в его теле, малы и легки сравнительно с его громадным «общим» телом. Само вращение их почти не изменяет его вида, а носит скорей характер задания, чем осуществления. Памятник проникнут своеобразным утилитаризмом; эта спираль если и не хочет быть доходным домом, то все же она как-то использована.
По заданию, в нижнем цилиндре должен вращаться мировой Совнарком, а в верхнем шаре должно помещаться РОСТА.
Слово в поэзии не только слово, оно тянет за собой десятки и тысячи ассоциаций. Произведение пронизано ими, как петербургский воздух в вьюгу снегом.
Живописец или контррельефист не вольны запереть этой вьюге ассоциаций ход через полотно картины или между стоек железной спирали. Эти произведения имеют свою семантику.
Совет Народных Комиссаров принят Татлиным, как кажется мне, в свой памятник как новый художественный материал и использован вместе с РОСТА для создания художественной формы.
Памятник сделан из железа, стекла и революции[235].
ИВАН ПУНИ
Иван Пуни, по существу, человек застенчивый. Волосы у него черные, говорит тихо, по отцу итальянец. Видал в кинематографе на экране таких застенчивых людей.
Идет себе маляр с длинной лестницей на плече. Скромен, тих. Но лестница задевает за шляпы людей, бьет стекла, останавливает трамваи, разрушает дома.
Пуни же пишет картины.
Если бы собрать все рецензии о нем в России и выжать из них их ярость, то можно было бы собрать несколько ведер очень едкой жидкости и впрыскиванием ее привить бешенство всем собакам в Берлине.
В Берлине же 500 000 собак.
Обижает людей в Пуни то, что он никогда не дразнит. Нарисует картину, посмотрит на нее и думает: «Я тут при чем, так надо».
Его картины бесповоротны и обязательны.
Зрителя он видит, но считаться с ним органически не может. Ругань критиков принимает, как атмосферное явление.
Пока живет — разговаривает. Так Колумб на корабле, идущем в неоткрытую Америку, сидя на палубе, играл в шашки.
Пока Пуни художник для художников, художники еще не понимают его, но уже беспокоятся.
После смерти Пуни, — я не хочу его смерти, я его ровесник и тоже одинок, — после смерти Пуни над его могилой поставят музей. В музее будут висеть его брюки и шляпа.
Будут говорить: «Смотрите, как скромен был этот гениальный человек, этой серой шляпой, надвинутой на самые брови, он скрывал лучи, исходящие из его лба».
Про брюки тоже напишет какой-нибудь.
И, действительно, Пуни умеет одеваться.
На стену повесят счет за газ пуниевского ателье, счет специально оплатят. Время наше назовут «пуническим». Да будут покрыты проказой все те, кто придет покрывать наши могилы своими похвальными листами.
Они нашим именем будут угнетать следующие поколения. Так делают консервы.
Признание художника — средство его обезвредить.
А может быть, не будет музея?
Мы постараемся.
Пока же Пуни с вежливой улыбкой, внимательно пишет свои картины. Он носит под своим серым пиджаком яростную красную лисицу, которая им тихо закусывает. Это очень больно, хотя и из хрестоматии.
ЗАКОН НЕРАВЕНСТВА
ПАРАЛЛЕЛИ У ТОЛСТОГО
Для того чтобы сделать предмет фактом искусства, нужно извлечь его из числа фактов жизни. Для этого нужно, прежде всего, «расшевелить вещь», как Иван Грозный «перебирал» людишек[236]. Нужно вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций, в которых она находится. Нужно повернуть вещь, как полено в огне. У Чехова в его «Записной книжке» (дома не держу) есть такой пример: кто-то ходил не то 15, не то 30 лет по переулку и каждый день читал вывеску «Большой выбор сигов» и каждый день думал: «Кому нужен большой выбор сигов»; наконец, как-то вывеску сняли и поставили у стены боком, тогда он прочел: «Большой выбор сигар». Поэт снимает все вывески со своих мест, художник всегда зачинщик восстания вещей. Вещи бунтуют у поэтов, сбрасывая с себя старые имена и принимая с новым именем — новый облик. Поэт употребляет образы-тропы, сравнения; он называет, положим, огонь красным цветком, или прилагает к старому слову новый эпитет, или же, как Бодлер, говорит, что падаль подняла ноги, как женщина для позорных ласк[237]. Этим поэт совершает семантический сдвиг; он выхватывает понятие из того смыслового ряда, в котором оно находилось, и перемещает его при помощи слова (тропа) в другой смысловой ряд, причем мы ощущаем новизну, нахождение предмета в новом ряду. Новое слово сидит на предмете, как новое платье. Вывеска снята. Это один из способов обращения предмета в нечто ощутимое, в нечто могущее стать материалом художественного произведения. Другой способ — это создание ступенчатой формы. Вещь раздваивается своими отражениями и противоположениями.
Этот способ почти универсален. На нем основаны очень многие приемы стиля, как, например, параллелизм.
О, яблочко, куда катишься? Ой, мамочка, замуж хочется!Как поэт продолжает, по всей вероятности, традицию песни типа:
Катилося яблочко с замостья, Простилася Катичка с застолья.Ростовский босяк. Тут дана пара понятий, совершенно не совпадающих, но сдвигающих друг друга из ряда обычных ассоциаций.
Иногда же вещь удваивается или разлагается. У Александра Блока одно слово «железнодорожная» разложено на слова «тоска дорожная железная»[238]. Лев Толстой в своих вещах формально, как музыка, делал построения типа остранения (называние вещи не обычным именем) и давал примеры ступенчатого построения.
Об остранении у Толстого мне приходилось писать довольно много. Одна из разновидностей этого приема состоит в том, что писатель фиксирует и подчеркивает в картине какую-нибудь деталь, что изменяет обычные пропорции. Так, в картине боя Толстой развертывает деталь жующего влажного рта. Это обращение внимания на деталь создает своеобразный сдвиг. Константин Леонтьев в своей превосходной книге о Льве Толстом не понял этого приема. Но самый обычный прием у Толстого, это когда он отказывается узнавать вещи и описывает их, как в первый раз виденные, называя декорации («Война и мир») кусками раскрашенного картона, а причастие булкой, или уверяя, что христиане едят своего Бога.
Я думаю, что традиция этого толстовского приема идет из французской литературы, может быть, от «Гурона по прозвищу Наивный» Вольтера или от описания французского двора, сделанного дикарем у Шатобриана.
Во всяком случае, Толстой «остранял» вагнеровские вещи, описал их именно с точки зрения умного крестьянина, то есть с точки зрения человека, не имеющего привычных ассоциаций, по типу «французских дикарей». Впрочем, такой же прием описывания города с точки зрения селянина употреблялся и в древнем романе (Веселовский).
Второй прием, прием ступенчатого построения, разрабатывался Львом Толстым очень своеобразно.
Я не буду пытаться дать хотя бы конспективный очерк развития этого приема в процессе создания Толстым своей своеобразной поэтики и удовольствуюсь сейчас несколькими примерами. Молодой Толстой строил параллелизм довольно наивно. Особенно для того, чтобы дать разработку темы умирания, показать ее. Толстому представлялось необходимым провести три темы: тему смерти барыни, смерти мужика и смерти дерева. Я говорю про рассказ «Три смерти». Части этого рассказа связаны определенной мотивировкой: мужик — ямщик барыни, а дерево срублено ему на крест.
В поздней народной лирике параллелизм тоже иногда мотивируется. Так, например, обычная параллель: любить — топтать траву, мотивируется тем, что любовники вытоптали траву, разговаривая.
В «Холстомере» параллелизм лошадь — человек поддерживается фразой: «ходившее по свету, евшее и пившее тело Серпуховского убрали в землю гораздо позже. Ни кожа — ни кости его никуда не пригодились». Связь членов параллелизма мотивируется в этом рассказе тем, что Серпуховский был когда-то хозяином Холстомера. В «Двух гусарах» параллелизм виден из самого названия и приведен в деталях: любовь, карточная игра, отношение к друзьям.
Мотивировка связи частей — родство действующих лиц.
Если сравнить приемы мастерства Толстого с приемами Мопассана, то можно заметить, что при параллелизме французский мастер как бы пропускает вторую часть параллели.
Когда Мопассан пишет свою новеллу, то он обычно, как бы подразумевая, умалчивает второй член параллели. Таким вторым подразумеваемым членом обычно является или традиционный склад новеллы, им нарушаемый, например: он пишет новеллы как бы без конца, или же обычное, скажем, условное, буржуазно-французское отношение к жизни. Так, например, во многих новеллах Мопассан описывает смерть крестьянина, описывает просто, но удивительно «остраненно», причем меркой сравнения служит, конечно, литературное описание смерти горожанина, но оно не приводится в этой же новелле.
С этой точки зрения Толстой, так сказать, примитивнее Мопассана, ему нужна параллель выявления, как в «Плодах просвещения» — кухня и гостиная. Я думаю, что это объясняется большей отчетливостью французской литературной традиции, сравнительно с русской. Французский читатель ярче чувствует нарушение канона или же легче подыскивает параллель, чем наш читатель с его неясным представлением нормального.
Я вскользь хочу отметить, что, говоря о литературной традиции, я не представляю ее себе в виде заимствования одним писателем у другого. Традицию писателя я представляю себе как зависимость его от какого-то общего склада литературных норм, так же как традиция изобретателя состоит из суммы технических возможностей его времени.
Более сложные случаи параллелизма у Толстого представляют из себя противопоставления в его романах действующих лиц друг другу или одной группы действующих лиц другой. Например, в «Войне и мире» отчетливо чувствуются противопоставления: 1) Наполеон — Кутузов, 2) Пьер Безухов — Андрей Болконский и одновременно Николай Ростов, который служит как бы координатой (мерилом) для того и другого. В «Анне Карениной» противопоставлена группа Анна — Вронский группе Левин — Китти, причем связь этих групп мотивирована родством. Это обычная мотивировка у Толстого, а может быть, и вообще у романистов. Сам Толстой писал, что он сделал «старого» Болконского отцом блестящего молодого человека (Андрея), «так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо». Другим способом, способом участия одного и того же действующего лица в разных комбинациях (излюблен английскими романистами), Толстой почти не пользовался, разве только в эпизоде Петрушка — Наполеон, где он употребил его в целях остранения.
Во всяком случае две части параллели в «Анне Карениной» связаны мотивировкой настолько слабо, что можно представить себе эту связь мотивированной только художественной необходимостью.
Очень интересно пользовался Толстой «родством» уже не для мотивировки связи, а для ступенчатости построения. Мы видим двух братьев и одну сестру Ростовых. Они представляют как бы развертывание одного типа. Иногда Толстой, как, например, в отрывке перед смертью Пети, сравнивает их. Николай Ростов — упрощение Натали, «огрубение» ее. Стива Облонский открывает одну сторону построения души Анны Карениной — связь дома через слово «немножечко», которое Анна говорит голосом Стивы. Стива — ступень к сестре.
Здесь связь характеров объясняется не родством, не постеснялся же Толстой породнить на страницах романа отдельно задуманных героев. Здесь родство понадобилось для постройки ступеней.
То же, что в литературной традиции изображение родственников совершенно не связано с обстоятельством показать переломление одного и того же характера, показывает традиционный прием описания благородного и преступного брата, родившихся в одной семье.
Здесь все, как всегда в искусстве, мотивировка мастерства.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
ДОПОЛНЕННЫЙ ТОЛСТОЙ[239]
«Первый винокур» Льва Толстого, дополненный Ю. Анненковым, — пишу без всякой иронии или восхищения, а просто устанавливая факт, — вещь яркая и обнаженная в своем сложении.
Анненков поступил с текстом Толстого так. Он взял его как сценарий и развернул его, вставив гармонистов, частушки, эксцентрика, акробатов и т. д. Мотивированы эти вставки так: частушки вставлены как песни мужиков, подпоенных «дьявольским пойлом», гармонисты и хоровод тоже вставлены в сцену пьянства, акробаты же даны как черти, то есть цирк введен в пьесу как изображение ада. И наконец, эксцентрик в рыжем парике и широких «форменных» штанах дан вне всякой мотивировки. Просто пришел себе рыжий и бродит в аду, как в шантане.
Я человек не благоговейный и не почтительный, и на меня смесь Толстого с цимбалами не действует сама по себе раздражающе, но мне хочется разобраться в этой смеси, выяснить ее сущность и, главное, попытаться понять, что она может дать.
Конечно, текст произведения не есть нечто неприкосновенное, как это думали в конце XIX и начале XX века. Во всяком случае, мы не имеем права сказать, что свобода обращения с чужим текстом есть признак «дурного вкуса». Переделывал же Гёте Шекспира[240], да и сам шекспировский текст состоит из напластования всяких, может быть, даже и актерских, переделок. Больше того, каждое воспроизведение произведения есть его пересоздание — перекомпоновка, что очень ясно при рассматривании копий, сделанных с одного и того же произведения на расстоянии даже, ну, двадцати лет. Анненковская же перекомпоновка хороша уже тем, что она не воображает себя копией.
Развертывание сюжетной схемы материалом, органически с ней не связанным, в искусстве почти правило. Напомню, например, развертывание в «Дон Кихоте», где для заполнения привлечен чуть ли не весь философско-дидактический, фольклорно-литературный и даже филологический материал того времени.
Иногда такое развертывание дано с мотивировкой, обычно нанизываясь на речи или чтения действующих лиц, как у Сервантеса, Стерна, Гёте («Вертер»), Анатоля Франса и у сотен других.
Иногда же они даны по принципу интермедии, то есть внесены своеобразными включениями и сосредоточены в ролях шутов или остряков, не принимающих участия в основном (если такое есть) действии произведения.
У Шекспира мы встречаем и тот и другой способ развертывания. Шутки, обычно данные в диалоге, или произносятся шутами-специалистами, или же введены в роли действующих лиц («Много шуму из ничего»). То же можно найти у Мольера. Условность мотивировки ввода пения в водевилях представляет из себя ту же тенденцию. Такова же роль «философских» вставок в психологическом романе.
Таким образом, неожиданность анненковских вставок чисто внешняя. Она состоит в том, что разрушен, казалось бы, неприкосновенный толстовский текст, хотя ведь вообще схема, подлежащая развертыванию, для каждого переделывателя данного произведения всегда чужая, а следовательно, казалось бы, неприкосновенная. Но, конечно, это не так. Средние века развернули мистерию, тесно примыкающую к богослужению, фарсовым материалом. Таким образом, Анненков, может быть, и не очень сознательно, оказался восстановителем традиций.
Кое-что ему не удалось. Главным образом не вышло взаимоотношение moralité и фарса. Посмотрим, в чем дело. Пьянство, и пьяная песнь, и грех вообще для moralité — грех, и дается как таковой, а в фарсе-буффе он потешное зрелище. Эти два плана не очень резко отличаются друг от друга, и греховное, конечно, почти всегда чисто «занятно», как занятным показался Ловелас читательницам Ричардсона, но все же тенденция есть, особенно же у Толстого; с нею можно не считаться, но для этого нужно ее не замечать. Анненков ее заметил.
Старик-дед, сидя во время вставленной картины танцев, говорил что-то очень невнятное о грехе. Эти слова полуслышались мне так: «Вот что гармонисты и люди веселятся, — это хорошо, это не грех…»
Вот что старики разговаривают — это нехорошо. Действие фарса и действие основное не должны перебивать друг друга, не должны ввязываться друг в друга; не нужно опираться на нарисованные скалы или раскрашивать раму картины так, как написана сама картина.
Смешение фарса и moralité, перебивающих друг друга и даже забивающих друг друга, — вот главное достоинство веселой и талантливой постановки.
Отсебятины рыжего в клетчатых штанах меня не обрадовали. Это слишком просто сделано. Анненков вставил фразу в пьесу: «Анюта, до свидания», — а я по тому же принципу вставляю в свою статью фразу: «Я и Женя огорчены, что не видали Юрия в зале». Очень интересно сравнить постановку «Первого винокура» с русской народной драмой, хотя бы с «Царем Максимилианом». Об этом я собираюсь написать отдельно, сейчас же скажу: в постановке Анненкова преобладали, как материал развертывания, танец, песня и, главное, пантомима. Получилось что-то вроде мозаики. В народной же драме основной текст часто стирается почти до основания, и на первый план выступает «слово». Игра в слова, каламбуры. Народная драма, в этом смысле, — театр слова.
«НАРОДНАЯ КОМЕДИЯ» И «ПЕРВЫЙ ВИНОКУР»
Мне очень нравится тот спор, который развертывается на страницах «Жизни искусства» вокруг вопроса о народно-цирковой комедии Сергея Радлова.
В этом споре гг. В. Соловьев и Е. Кузнецов доказывают, что «Народная комедия» хороша, а Сергей Радлов утверждает, что она чрезвычайно хороша[241].
Мне нравится отношение Сергея Радлова к делу, которое он делает, мне тоже кажется, что многое из того, что я делаю, хорошо и значительно.
Поэтому я решаюсь напомнить о моей старой статье в «Жизни искусства» — это рецензия на постановку Юрием Анненковым «Первого винокура» Льва Толстого.
Эту пьесу Анненков развернул цирковым материалом и всю превратил в цирковое действие, — тогда же и пошли разговоры о специальной «цирковой» труппе.
Но между тем, что делал прежде Юрий Анненков, и тем, что делает теперь Сергей Радлов в Железном зале Народного дома, есть разница, на которой я хочу остановиться. Анненков вместе с цирком внес в пьесу (прежде толстовскую) материал злободневности, частушки, городовых в аду и т. д. Радлов как эпигон итальянской комедии-импровизации пока что пытается развернуть действие комедии только материалом цирковых трюков. В этом его большая ошибка. Вырождающаяся цирковая традиция не может дать материала для импровизации, так как фактически импровизация всегда привлечение старого материала из общего склада.
Правда, Радлов думает основать студию и в ней приготовлять импровизаторов и начинять их запасом театрального материала.
Но это все равно как пытаться единолично создать язык. Единоличная воля может изменить традицию, но не может создать ее. Путь Ю. Анненкова, пошедшего от уже существующего материала, правильней и в то же время острей.
Другая характерная черта различия у двух деятелей «цирковой» комедии — то, что Анненков для развертывания взял пьесу, имеющую определенную фабулу, Радлов же обрамляет трюки весьма слабо разработанным сюжетом, в котором почти нет организующего ядра.
В то же время Анненков как художник новой школы, чуждой потребности мотивировать введение каждого художественного приема, ввел в свою комедию действующих лиц, совершенно не связанных с ее сюжетом. Благодаря этому они, как, например, клоун Анюта, гораздо ярче выделялись на фоне основного сюжета, чем радловская параллель к этому же приему — клоун-посланец. Интересно отметить, что, как всякий новатор, Анненков оказался в то же время истинным восприемником традиции. Именно в двух планах, не слитых между собой, совершалось действие в начале развития европейской драмы (у Аристофана есть тоже такая двойственность), и в русском народном театре, как и в турецком «Карагезе»[242], развертываемый материал вводится без мотивировки, и швы, соединяющие части комедии, не закрашиваются.
У Анненкова, как и у Радлова, есть один общий недостаток, их роднящий. Их театр вне слова. Или, вернее, слово в нем на ущербе. В этом их минус и резкий разрыв с народным искусством. Как я уже писал в своей заметке о «Царе Максимилиане» («Жизнь искусства»), народный театр, особенно русский, не столько театр движения вообще, сколько театр словесной динамики. Слово, «самовитое слово» дорого народу. Народные пьесы не меньшие мастера слова, чем поэты-футуристы и модернисты.
Фабричная частушка тоже жива словом, игрой звука и смыслом слова.
Радлов, происходя по прямой линии от Юрия Анненкова, по боковой происходит из пантомим Мейерхольда; в этом объяснение и оправдание пренебрежения словом. Грех же Юрия Анненкова перед словом непростителен.
Статья моя печатается в том же порядке, в котором я существую сам, — в дискуссионном.
ИСКУССТВО ЦИРКА
Во всяком искусстве есть свой строй — то, что превращает его материал в нечто художественно переживаемое.
Этот строй находит выражение себе в различных композиционных приемах, в ритме, фонетике, синтаксисе, сюжете произведения. Прием есть то, что превращает внеэстетический материал, придавая ему форму, в художественное произведение.
Как-то странно обстоит дело в цирке. Его представления, которые можно разделить на: во-первых, фарсово-театральную часть (у клоунов); во-вторых, на часть акробатическую; в-третьих, на представление со зверями, — художественно построены только в первой своей части.
Ни человек-змея, ни силач, поднимающий тяжести, ни велосипедист, делающий мертвую петлю, ни укротитель, вкладывающий напомаженную голову в пасть льва, ни улыбка укротителя, ни физиономия самого льва, — все это не состоит в искусстве. А между тем мы ощущаем цирк как искусство, как героический театр (по Ю. Анненкову)[243].
Интересно проследить: каков именно строй цирка, в чем его прием, что выделяет цирковое движение и действие из движения бытового? Возьмем силача и укротителя.
Сцены, в которых они участвуют, лишены сюжета; следовательно, цирк может обходиться без сюжета.
Движения их не ритмичны, — цирк не нуждается в красоте.
Наконец, все это даже не красиво. Пишу, чувствуя себя виноватым за то, что употребляю такое непонятное слово, как «красота».
В красоте цирк, слава Богу, не нуждается.
Но в цирковом действии есть, и всегда есть, нечто общее: цирковое действие трудно.
Трудно поднять тяжесть, трудно изогнуться змеей, страшно, то есть тоже трудно, вложить голову в пасть льва.
Вне трудности нет цирка, поэтому в цирке более художественна работа акробатов под куполом, чем работа тех же акробатов в партере, хотя бы движения их были и в первом, и во втором случае абсолютно одинаковы.
Если же работа будет производиться без сетки, то она окажется более страшной, более цирковой, чем работа, хоть немного обезопасенная сеткой.
Затруднение — вот цирковой прием. Поэтому если в театре каноничны поддельные вещи, картонные цепи и мячи, то зритель цирка был бы справедливо возмущен, если бы оказалось, что гири, поднимаемые силачом, весят не столько, сколько об этом написано на афише. Театр имеет другие приемы, кроме простого затруднения, поэтому он может обходиться и без него.
Цирк — весь на затруднении.
Цирковая затрудненность сродни общим законам торможения в композиции.
Больше всего цирковой прием «трудности» и «страшности» как одного из видов трудности связан с сюжетным торможением, когда герой, например, ставится в трудные положения борьбой между чувством любви и долга. Акробат преодолевает пространство прыжком, укротитель зверя — взглядом, силач тяжесть — усилием, так, как Орест преодолевал любовь к матери во имя гнева за отца. И в этом родство героического театра и цирка.
О ВКУСАХ
Во Франции проходила анкета о том, кто лучший драматург мира.
Громадное большинство голосов получил Ростан; Шекспир и Софокл остались без места.
Во времена Шекспира театр его был полон, хотя, быть может, и неуважаем.
Во времена Софокла театр был полон, и народ знал, вероятно, что он смотрит.
Я написал это не для того, чтобы плакать о золотом веке, и не для того, чтобы предложить восстановить его явочным порядком.
Сейчас сезон открывается в лучших театрах Шекспиром, а интересно, что сказала бы публика при анкете.
Нормален ли разрыв между вкусами зрителей и репертуаром? Нужно ли воспитывать зрителя? Если бы в свое время стали воспитывать английского зрителя, то, конечно, ему не дали бы Шекспира.
Ростан — пошлость, но благоговение перед авторитетами, реставрация — по-моему, пошлость также.
Три года жду я на сцене постановок пьес Блока[244]; пьеса Маяковского была поставлена, но была снята, как враждебный флаг, изменнически поднятый над крепостью и сейчас же сорванный.
Для постановок новых пьес в больших театрах, очевидно, есть ценз смерти.
Правда, он был нарушен для постановки «Маски» Окса[245].
Не радуют меня хорошие вкусы петроградских театров.
Это не радует меня, как и крики о порче языка. Почтенные крики и очень забавные. По ним получается, что вся русская литература портила русский язык во главе с Толстым.
Я знаю, что француз, отвечавший на анкету похвалой Ростану, был в свое время палачом импрессионистов и сейчас душит помаленечку все живое в искусстве. Но и театр Шекспира перед лицом предупрежденной, что «это хорошо», толпы, это не лучше Ростана, это подушка на лице.
Мнение большинства в искусстве, это — то ничто, то все, — этим искусства не смерить; но классицизм и хороший тон еще не спасали никогда. Особенно сегодняшний, ничего не отрицающий, музейный, коллегиальный классицизм.
Я тоже не знаю, что делать с театром.
Я, человек, носящий под полой желтый флаг футуристов.
Но мне хотелось бы увидеть на месте театра хорошего вкуса и реставрации — такой театр, которому дали бы так портить искусство, как портят сейчас язык.
Хоть кинематограф оставили бы без опеки и без «исторических картин»[246].
Когда мужик в сказке стал делать погоду, он сделал ее очень плохо.
Сейчас мы сами делаем искусство.
ПО ПОВОДУ «КОРОЛЯ ЛИРА»
К сожалению, у меня нет сейчас даже Шекспира в руках, а идти отыскивать еще не могу, но, как известно, многие книги, как и низшие животные, могут иногда размножаться почкованием, без оплодотворения.
К числу книг, размножающихся почкованием, относится большинство трудов о Шекспире. Одна книга производит другую, десять книг производят одиннадцатую, и так без конца. Эта «книгоболезнь», к сожалению, типична не только для литературы о Шекспире, — ею больна вся история и теория литературы, ею болела недавно вся филология.
Поэтому пусть будет моей заслугой, что, начав писать заметку, я не открываю библиотечные краны.
Самое неважное в «Короле Лире», на мой взгляд, это то, что произведение это — трагедия.
Чехов сообщал своим друзьям, что он написал веселый фарс — «Три сестры». Чехов не вложил слез в свою пьесу.
Гоголь к концу своей жизни видел в «Ревизоре» — только трагедию.
Да, «Ревизор» можно воспринять трагически, а «Три сестры» ставить у Смолякова[247].
Эмоции, переживания не являются содержанием произведения.
Теоретик музыки Ганслик приводит много примеров того, как одно и то же музыкальное произведение воспринималось то как печальное, то как веселое и остроумное[248].
Содержанием «Короля Лира», на мой взгляд, повторяю, является не трагедия отца, а ряд положений, ряд острот, ряд приемов, организованных так, что они создают своими взаимоотношениями новые стилистические приемы.
Говоря просто, «Король Лир» — явление стиля.
Так же как неправильно пасти коров по нарисованной траве, неправильно и подходить к художественному произведению с социологической или психологической меркой.
Люди, работающие над произведениями с такими мерками, всегда находят в них то, что является несущественным, неосновным, — всегда находят в них тип.
В короле Лире они также видят — тип.
Тип — одно из изобретений ненаучной поэтики. В искусстве художник всегда идет от приема, обусловленного материалом.
В театре Шекспира этим материалом был, кроме сценической интриги, еще и каламбур — словесные игры. Шекспиру неважно правдоподобие типа, ему неважно, почему Лир говорит сейчас то, а потом другое, почему врываются в его речь грубые шутки. Для Шекспира король Лир — актер, как актер и шут. Но шут введен в пьесу именно как шут, хотя и как шут короля Лира, что мы не всегда видим в однотипных пьесах. Король Лир же введен в произведение более частной, персональной мотивировкой.
Но пьесы Шекспира находятся в том периоде развития приемов творчества (я, конечно, не предполагаю, что приемы заменяют друг друга, улучшаются), когда мотивировка была еще совершенно формальна.
Вот почему так плохо мотивирована вся завязка пьесы да и весь ее ход, в частности, все эти бесчисленные неузнавания.
Речи короля Лира так же слабо связаны с ним, как речи Дон Кихота об испанской литературе слабо связаны с Алонцо Добрым, который в свободное время делал клетки и зубочистки.
Критики, думающие, что можно рассуждать о поведении героев художественного произведения не на основании законов искусства, а на основании законов психологии, конечно, интересуются вопросом о характере безумия короля Лира и даже ищут к нему медицинский термин на латинском языке.
Интересно узнать, чем болен шахматный конь: ведь он всегда ходит боком.
Как нужно играть «Короля Лира»?
Играть нужно не тип, тип — это нитки, сшивающие произведение, тип — это или панорамщик, показывающий один вид за другим, или же мотивировка эффектов.
Играть нужно пьесу, выявлять нужно материал ее, а не находить такую физиономию, которая объясняла бы его смену.
Короля Лира нужно играть как каламбуриста и эксцентрика.
Дочери его так же условны, как карточные дамы; Корделия — козырь.
Нужно быть слепым, чтобы не чувствовать в пьесе условности сказки и умной руки знатока театра.
СТАРОЕ И НОВОЕ
Приятно видеть в «Жизни искусства» новое искусство, ниспровергаемое товарищами Э. Голлербахом и Петром Сторицыным.
С такими врагами не пропадешь.
В наше время, когда все талантливые люди вышли из Египта и от котлов его, чтобы искать новых форм, когда старые омертвели, как десны, замороженные кокаином, забавно читать про контррельеф Татлина: «Такие рельефы в изобилии встречаются в выгребных ямах, мусорных кучах, в старых сараях и на задних дворах».
Нет границ наивности честного провинциала: «Произведения Штеренберга, Татлина, Карева, Розановой, Бруни, Малевича, Митурича, Школьника, Баранова-Россинэ и Львова кажутся сплошным недоразумением».
Приходится говорить и о таких людях, которые считают недоразумением даже «Мир искусства», так как пишешь с ними в одной газете.
Вчера я был в театре, вчера я был на ученическом (выпускном) спектакле студии Аполлонского, вчера не было никаких «недоразумений», вчера я был в морге.
Были «лес», и «даль», и «трагик» с «р», говорящий «брратец», и женщина, очень толстая и так двигающаяся спиной, что, по всей вероятности, было смешно. Шла пьеса без «недоразумений».
Ничье наивное сердце, ничье коротенькое художественное образование, дошедшее до умения делать выписки и цитаты из «Старых годов» (я умею отвечать за свои слова и доказывать их)[249], не смутились бы.
Шел Островский, да еще какой — «Светит, да не греет».
Было очень академично, а может быть, даже государственно.
Играли по системе чик-чирик, однообразно, даже без сильных ошибок.
О, трудно искать, и лягающиеся иногда собираются бить нас стадами, но лучше даже умереть в пустыне, чем жить трупом среди трупов.
О, неужели товарищи мертвые не могут использовать своего, им присущего хладнокровия, чтобы говорить об ищущих хотя бы без покушения на остроумие.
Как ни привыкли мещане, что искусство всегда впереди их, что интересны для истории искусства только те, которые хотят сделать нечто иное, чем их предшественники, — есть и другие: это те, что хотят сделать то же самое, что было сделано, но они-то и не интересны.
Кстати, это из Брюнетьера[250].
О МЕРЕЖКОВСКОМ
Петербургский драматический театр готовит постановку драм Мережковского и «по Мережковскому»: «Павла», «Александра» и «Николая» (переделка романа «14 декабря»)[251].
Я сегодня очень долго стоял в очереди и бегал по «безхозам», а потому почти не могу писать о литературе, не нарушая закона о совместительстве. Принужден поэтому писать приблизительно.
Я не хочу звонко ругаться, но на меня романы и драмы Мережковского производят впечатление «Цыганских песен в лицах», — каких-то инсценированных исторических анекдотов.
Поэтому, чем меньше мы знаем ту эпоху, которую нам рисует Мережковский, тем интереснее нам его произведение.
Здесь подкупает занимательность материала. Вот почему среднему читателю интереснее «Юлиан Отступник» и «Леонардо да Винчи», чем «Петр и Алексей», а человеку, знакомому с историей декабристов, «14 декабря» прямо докучно и неприятно своим приемом сводки плохо выбранного материала, разбавленного мистицизмом, уже сильно подержанным.
На меня «14 декабря» производит впечатление пародии, чего-то вроде «Прекрасных сабинянок» Леонида Андреева, в которых римляне сами себя называют древними римлянами; у Мережковского декабристы воспринимают сами себя с точки зрения третьеразрядного литератора двадцатого века.
Интересно сравнить, как пользовался цитатами в своих произведениях Лев Толстой. У него обычно «историческая фраза» появляется в таком контексте, то есть окружена такими словами и положениями, что она воспринимается заново. Посмотрите, например, разговор Наполеона с послом Александра.
Толстой заново создает «историческую фразу», вводит ее в композицию. Мережковский склеивает фразу и стихи, как лоскутное одеяло.
Я не упрекаю Мережковского за то, что он пишет или клеит хуже Толстого, но просто указываю на то, что литературная техника, которая за последнее десятилетие существования русской литературы необыкновенно развилась, у него выродилась в совершенно детские приемы.
Мережковский обладает еще другой особенностью: он очень быстро стареет. Стихи, написанные им в начале его литературной работы, нельзя слушать без ощущения неловкости (пример: «Сакья-Муни»).
Мистицизм Мережковского, его «Небо вверху и небо внизу», «Зверь и Бог»[252], «Христос и Антихрист», все попарно связанные словечки, выносились до того, что о них нельзя писать серьезно[253].
Я не протестую против постановки Мережковского на сцене, но ставить Мережковского надо не в плане художественном, а в плане образовательном. Его романы нужны так же, как и стихотворения, поэтому и отношение к ним должно быть не как к целым произведениям, как, например, к скульптурным группам, и даже не как к целым гарнитурам, как, например, к гарнитурам мебели, а как к связкам предметов, могущих существовать и отдельно.
Мистика — плохая мистика Мережковского — должна быть удалена, вычеркнута из его романов — и не за то, что она мистика, а за то, что она плохая.
Против переделок романа Мережковского в пьесы ничего нельзя возразить; эти романы не были романами, не будут и драмами. Вообще это глубоко не литературное явление.
КОМИЧЕСКОЕ И ТРАГИЧЕСКОЕ
В последней постановке Театра народной комедии интересен перебой комических и трагических моментов.
Пьеса организована так: основной стержень ее состоит из мелодрамы типа бульварного романа, с быстрой сменой сцен, с катастрофическими влюблениями, — одним словом, из ряда авантюрных моментов, связанных между собой почти без психологической мотивировки.
Пьеса открывается пантомимой убийства, мотивировка этого убийства дается позднее при помощи разговора.
Комический элемент дан в виде эксцентрика (клоуна), ввод которого в пьесу мотивирован тем, что он тихий буржуй, на улице которого произошло убийство; он бежит в провинцию, но получается так, что он везде встречается с преступниками, — одним словом, он оказывается аккомпанементом мелодраматического действия.
Теперь, как построена эта комическая сторона? Смешное дано здесь не как смешные слова, а как несовпадение обычных слов с эксцентрическими действиями; комический элемент, таким образом, сосредоточен в жесте и бутафории.
Это смешно, и смешно театрально. Но мне кажется возможным и другой тип смешного, который широко использован в цирке: несовпадение слова и жеста. Например, клоун хочет перескочить через другого и падает, говоря «вот и перескочил» (Богатырев).
В более развитом виде это дает (уже на материале слова) диккенсовскую шутку: ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост.
Во всяком случае, «смешное» Сергея Радлова показывает в нем человека, смогшего превратить алхимию театра в химию театра, то есть сознательно (научно) пользующегося материалом.
Но перейдем к контрасту комического и трагического.
Прием этот в своем обнажении широко использован в русской хоровой песне типа «Среди долины ровныя» с припевом «Ах, вы, Сашки, канашки мои» и т. д., причем в припеве изменяется темп и ритм. На одной перемене ритма основаны русские народные песни Верхнего Поволжья, сконтаминированные (составленные) из чередования песен частушечьего и протяжного размеров. Иногда контраст дан в самом припеве, то есть припев не только дисгармонирует с текстом, но и в себе самом несет противоречие. Например, после шутливого припева вдруг вводится «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» церковного распева.
Таким образом, закон контраста распространен среди самых популярных песен. Необходимость же обосновывать ввод этого элемента каким-нибудь способом — только требование одного из литературных стилей, и попрекать Сергея Радлова несоблюдением правдоподобности «ввода» — значит не понимать, в чем дело.
Кстати, приведу мнение Фильдинга (английский писатель XVIII века из числа «реалистов», по уличной терминологии):
«Мы необходимо должны указать на новую жилу познания, которая если и была уже известна прежде, то, по крайней мере, не разработана, сколько нам известно, ни одним из древних или новых писателей. Эта жила — закон контраста».
Дальше идут примеры; приведу наиболее подходящий:
«Один великий гений, наш соотечественник, объяснит это вполне. Я не могу причислить его ни к какому разряду художников, хотя он и имеет право занять место между теми.
Я говорю об изобретателе пантомимы. Эта пантомима состоит из двух частей, названных изобретателем серьезною и комическою. В серьезной части являются языческие божества и герои, глупейшая компания, какую только можно представить зрителю; и (это тайна, известная только немногим) это делается с умыслом, чтобы тем лучше оттенить комическую часть представления и придать яркости шуткам арлекина»[254].
Еще несколько слов о мотивировках приема. Отчего уже не требовать от поэтов мотивировки рифмы (эхо — были примеры) или ритма еще чем-нибудь. Прием в искусстве самоцелен, так как искусство само прием. Характер трагического у Сергея Радлова бульварен, это я говорю не в укор. Бульварный роман оказал влияние на Достоевского. Шекспир родился не в Большом драматическом театре, а тоже на бульваре.
Я говорил уже много раз, что в общем ходе истории литературы вообще крупное может быть создано не восстановлением старых образцов, а канонизацией младшего рода искусства.
Таким образом, теоретически Радлов прав.
Может быть, не надо было повторять дословно формы американской фильмы, а нужно было использовать схему ее строения.
Из приемов связи трагического и комического в пьесе хороша сцена переодевания вора и сыщика. Переодеваясь все в новые и новые костюмы, они пробегают, останавливаемые каждый раз тем же вопросом эксцентрика, причем ответ их обнаруживает зрителю, что это все те же самые люди.
Слаб в пьесе текст; вернее, не слаб, — его нет.
Говорят, но я не знаю наверное, что кинематографические актеры во время игры, для облегчения себе представления о мимике, соответствующей данному моменту, произносят «подходящие слова». Вот такими подходящими словами, подсобными и художественно не организованными, и выглядит текст, особенно текст трагической пьесы.
Это основная ошибка Радлова и его театра. Если слово не нужно театру, то можно ставить пантомиму, но говорить на сцене «какие-то слова» так же преступно, как и «кое-как» двигаться.
Это необходимо сказать хотя бы из уважения к блестящей постановке. Некоторые моменты ее, например сцена появления голов из-за всех выступов, декораций, — предел неожиданности и выдумки!
Сергей Радлов хорошо знает театр, но знания его захлестывают.
Весь третий акт выпадает из сюжета пьесы.
Пьеса кончается, таким образом, посредине самой себя.
Я думаю, что это неправильно, так как первые два акта построены не по аристофановскому способу ввода эпизодов, а по аристотелевскому закону единого сюжета, осложненного перипетиями.
В 3-м, приставном акте зато скоплены все бывалые и небывалые трюки: клоуны кувыркаются, полиция катится по каталке, Дельвари «острит»; не хватает только, чтобы Валентина Ходасевич вышла на сцену и среди этого содома начала писать декорации, а Сергей Радлов прочел свой перевод «Близнецов» Плавта.
Я понимаю радость изобретателя, захлебывающегося от мыслей, которые у него в голове прыгают друг через друга, как бараны в стаде.
Но все же, видя всевозможные трюки, соединенные в одном месте, я вспомнил старый анекдот про гимназиста, написавшего свое сочинение без единого знака препинания и поставившего все знаки, какие есть, и в большом количестве, в самом конце, и мне хочется кончить свою статью фразой этого гимназиста: «Марш по местам».
ПОДКОВАННАЯ БЛОХА
(К вопросу об инсценировках и иллюстрациях)
Есть у Лескова рассказ «Левша».
Подарили Александру Павловичу англичане стальную танцующую блоху.
При Николае Павловиче решили англичан посрамить. Отдали блоху в Тулу. В Туле блоху подковали. Работа мелкая, даже в микроскоп нельзя разобрать. Послали блоху за границу, пускай иностранцы удивляются.
Только блоха больше не танцевала. Каждая машина свою пропорцию имеет и на нее рассчитана.
Сильно удивились англичане мелкой работе, но поняли: люди таблицы умножения не знают.
Я был на постановке «Сверчка на печи» 1-й студии Художественного театра[255].
Беженец я недавний и еще не имею психологии сторожа из «Обломова» Гончарова. Сторож этот в четверг доедал остатки воскресного барского пирога и наслаждался мыслью, что пирог господский.
Фамилию его забыл, кажется, Офросимов[256].
Мне постановка не нравится. Вещь сделана с тонкостью удивительной. Чехов, очень серьезно говоря, большой актер. Гиацинтова играла хорошо. Чтец Невский читал плохо.
Но я не пишу рецензий. Знаю одно и в одном уверен: блох нельзя подковывать.
Рассказ нельзя инсценировать.
Нужно знать таблицу умножения и помнить, что каждая вещь рассчитана на свою пропорцию.
Из очень хорошего рассказа получается невыносимая пьеса.
С интересом наблюдал за сценой.
Двое разговаривают, остальным делать нечего.
Режиссер опытный, он их за печку прячет. Или по лестнице наверх пошлет.
Но все время игры чувствуешь натугу, знаешь, что играют то, что нельзя играть. Сидячая пьеса.
У Диккенса почти все вещи построены на приеме загадки. В больших вещах одна загадка, разрешаясь, сменяется другой.
На загадке (незнакомец) построен и рассказ «Сверчок на печи». Но диккенсовские разгадки совершенно не театральны, они не действенны до того, что романист обыкновенно должен был кончать свои произведения рассказом, объясняющим тайну. Так кончается «Николас Никльби», «Мартин Чезльвит», «Наш взаимный друг», «Крошка Доррит». Так кончается и «Сверчок»; это не развертывание действия, это медленное его скручивание и полуудовлетворительное объяснение в конце.
Рассказ, повесть сделаны не только при помощи слов, они сделаны из слов и по законам слова. Нельзя переводить произведения из материала в материал. Когда Масютин иллюстрировал повесть Гоголя «Нос»[257], то вещь просто погибла, потому что все строение повести, вся ирония лежат в ее непосредственности. Нос то едет в дилижансе, на нем мундир надворного советника, то его заворачивают в тряпочку и запекают в хлеб.
Гоголь нарочно совмещает оба момента.
Квартальный, принеся майору его нос — нос реальный, хотя и отрезанный, — рассказывает, что он поймал его в образе человека.
Гоголю, который был чрезвычайно смелый писатель и которого печатали в его время только потому, что общий уровень литературного понимания тогда был выше, чем сейчас, — нужна была нелепость. Он в последней редакции отказался от мотивировки нелепости сном. Ему она нужна как чистая форма.
Книга Гоголя с иллюстрациями Масютина (издание «Геликона») — большая и великолепно подкованная блоха.
Начало повести Диккенса — это разговор рассказчика с читателем о том, кто начал раньше, чайник или сверчок, игра с реальностью, игра на том, что, конечно, никто, кроме автора, не знает о том, кто начал раньше. Об этом приеме, о его разуме я могу сказать много. Но вернемся к театру.
Тихо. Занавес висит. Раздается звук кипящего чайника, потом, не посмотрел по часам, не через пять ли минут, начинает сверчок. Потом выходит чтец и спорит о том, что известно всему театру: «Чайник начал раньше».
Произведение как будто сохранено, на самом деле оно обессмысленно.
Не думайте, что я говорю о мелочах. Я говорю о строении вещи.
Можно от вещи отбрасывать элементы ее формы, но тогда получится то же, что останется от кочана капусты, если от него оторвать все листья.
Ни русское искусство, ни Первая студия Художественного театра не нуждаются в снисходительности. Будем мерить друг друга полной мерой.
У каждой вещи есть своя арифметика. «Сверчок» незаконно существует девять лет.
Грызущие пирог пускай не обижаются.
РЫБУ НОЖОМ
есть нельзя. И не потому, что неприлично (где нам), а потому, что инструмент неподходящий.
Мясо мягкое, резать нельзя.
Про Евреинова поэтому не писал.
Долго и очень хорошо молчал. Вообще хорошо молчать тем, которые будут говорить, и мы научились молчать блистательно.
Афиши висят: «Самое главное», «Самое главное!», «Самое, самое главное!!!»
И довиселись: буду писать.
Но прежде переменю заглавие.
Сейчас идет новое заглавие.
Тысяча сельдей
Есть задачники, задачи в них расположены по порядку. Одни задачи на уравнение с одним неизвестным, подальше задачи на квадратное уравнение.
А позади задачника идут ответы. Идут ровным столбиком, в порядке:
4835 5 баранов
4836 17 кранов
4837 13 дней
4838 1000 сельдей
Несчастен тот, кто начнет изучать математику прямо с «ответов» и постарается найти смысл в этом аккуратном столбце.
Важны задачи, ход их решения, а не ответы.
В положении человека, который, желая изучать математику, изучает столбцы ответов, находятся те теоретики, которые в произведениях искусства интересуются идеями, выводами, а не строем вещей.
У них в голове получается:
романтики = религиозному отречению[258]
Достоевский = богоискательству
Розанов = половому вопросу
год 18-й… — религиозное отречение
″ 19-й… — богоискательство
″ 20-й… — половой вопрос
″ 21-й… — переселение в Сев. Сибирь.
Но для теоретиков искусства устроены рыбокоптильни в университетах, и они вообще никому не мешают.
Несчастен писатель, который стремится увеличить вес своего произведения не разработкой его хода, а величиной ответа своей задачи.
Как будто задача № 4837 больше, важнее задачи № 4838 потому, что в ответе одной из них стоит 13, а у другой ответ «тысяча сельдей».
Это просто две задачи, и обе для третьего класса гимназии.
«Самое главное» Евреинова — водевиль с громадным ответом.
Взято что-то вроде «Жильца с третьего этажа» Джером Джерома, смешано с «Гастролями Рычалова»[259], прибавлен Христос с открыток, и получилась очень плохая, хотя и довольно театральная… но я ошибся в роде… получился посредственный водевиль.
О, не пугайте нас Параклетом, не утешайте нас доктором Фреголи[260], не уравнивайте всего этого с арлекиниадой.
Никакая извне внесенная сила не может увеличить силы произведения искусства, кроме строя самого произведения[261].
Если бы сидящие в зрительном зале обладали остроумием, то потолок бы треснул от хохота над тем, что человек для того, чтобы ниспровергнуть театр, написал пьесу, еще одну пьесу.
Бедный Евреинов! — такой большой ответ и такое пустяковое действие.
P. S. Для компактности помещаю сюда же рецензию.
На днях вышла книга человека[262], фамилии которого я не назову, чтобы не сделать ему рекламу.
Назовем этого человека условно Игрек.
Книжка издана превосходно на восьмидесятифунтовой бумаге.
Предисловие Евреинова, рисунки Ю. Анненкова.
Что нравится Евреинову в Игреке — понятно: Игрек — предел, к которому Евреинов стремится.
Фамилию же Анненкова в этой книге видеть неприятно. Тем более что рисунки его в ней не совсем уместны.
Но мало ли какие фамилии попадаются вместе.
Вот еще одна: Виктор Шкловский.
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАМЛЕНИЯ
Я И МОЕ ПАЛЬТО
Потолок крепкий, очень крепкий потолок.
Мне дали паровоз, величиной в мой письменный стол, но вы не знаете величину моего письменного стола.
Известно было, что таких паровозов в России очень мало; в России вообще очень мало паровозов. Я никогда не ездил на паровозах, то есть никогда не был машинистом на них, а ездить — ездил: один раз на Украине, на тендере, сверху угля.
Паровозик был маленький. Я двинул ручку сбоку (как включают скорость на автомобиле) и поехал вместе с какими-то военными молодыми людьми.
Мы ехали стоя и были выше трубы машины. Потом остановились. Начали смотреть, в чем дело. Открыли (очень легко) нутро у паровоза, а оно у него, как у четырехцилиндрового автомобиля.
У не работавшего. Белая, чистая, серебряная лохань картера, и погнувшийся коленчатый вал чуть посерее его, и шатуны, как руки, обхватившие изгибы вала ладонями подшипников. Руки-то руки, да строганные. А поршни, как гнилая вода, отливают в разный цвет, и кольца поршневые перекошены.
Перекошены поршневые кольца на поршне, а сам-то поршень задран.
Так грубо сорван металл не по-человечьи; так осколок снаряда, не понимая ничего, проводит полосу по человечьему телу.
И все заело, намертво заело. Запорота машина. Без смазки ехал.
Ударил по плечам сверху стыд. «Вот тебе и производственная пропаганда! Ведь пятьдесят в России только паровозов, только пятьдесят». И кавычки вокруг фразы неверно поставил. Вокруг всего рассказа нужно поставить кавычки. Стыдно так, как будто доктор меня осматривает, и сижу я голый на гинекологическом кресле, а справа-то весь «Дом искусств», а слева весь «Дом литераторов». Волосы по всему телу дыбом стоят от стыда.
Погубил я паровоз, без смазки поехал. И зачем сказал, что умею?
Приводят на суд — революционный. Подсудимый, говорят, зачем паровоз испортил?
Ни одного слова не могу придумать. Виноват, насквозь виноват.
Кровь моя и та виновата.
Но ведь нужно же что-нибудь сказать?
Решил проснуться. А стыдно просыпаться.
Ведь я в самом деле зарезал машину, не посмотрев на смазку. Не имею права просыпаться.
Как женщину обидел и бросил.
Разве можно так напутать, так обвиниться кругом, а потом убежать и проснуться?
Стыдно сказать, а все же проснулся.
Это стыд и выбросил меня.
Выплыл я из сна через потолок.
Жена рядом.
Не знает, как я виноват, и спит.
И потолок крепок надо мной, как костяной.
Как воздух дождем, пронизана жизнь иными жизнями, иными мирами.
Колесо вращается и пересекает другое колесо. Машина работает в другой машине.
Не может быть этого, а есть. Вы сами знаете.
Вкрученная в другой мир лежит и спит жена и не знает, как я провинился в третьем мире.
На странном ткацком станке ткут нашу жизнь. Не только вдоль и поперек натянуты в ней нити и не только вверх даже.
Когда ее снимут со станка, странную мы увидим вещь: не ткань и не нечто вроде моста, и не нечто вроде аэроплана, а колесо, работающее там, где уже работает под углом другое, и жизнь, пронзенную другими жизнями, как воздух дождем.
Может быть, наша жизнь сама, как дождь, пронзает другую.
Крепок надо мной потолок.
Я выскочил из «оттуда» не весь. Может быть, я остался там.
Я там, а здесь ходит мое пальто и мои валенки, и, оттого, мне в них так просторно.
Меня тошнит от этого. Тянет.
И это не правда, что я здесь и что послезавтра меня пригласят редактировать юмористический журнал «Свободный труп».
Вчера на улице Володарского, возле дома 46, недалеко от Бассейной, вечером, я встретил свое пальто и валенки.
Они танцевали чечетку.
Довольно сдержанно.
Но, как неконструктивно: чечетку в валенках.
Это не логично.
Чечетку надо выстукивать.
Я знаю, почему они, снявшись с меня, как я снимаю с себя ответственность за рассказ, не танцевали канкан.
Они (пальто и два валенка) боялись показать, что у них нет коленей.
Стоял перед ними и смотрел.
Как, должно быть, мучается «я», брошенное мною во сне.
Тут вылез черт в полной святочной форме и стал смотреть на меня и на мое пальто вместе.
Но черт попал сюда случайно. Он забежал из рассказа Ремизова. Я не отвечаю за его действия.
Мое пальто все же похоже на меня. Оно, например, может танцевать, хотя и скверно, но не может стоять на рукавах, воротником вниз, и, поэтому, Сергей Радлов не примет его в театр «Народная комедия».
Потолок крепок.
Не нужно убивать меня из жалости. Я не так страдаю; так путешественник, увидев в пустыне человека, засунувшего себе ногу в рот, сказал ему: «Зачем ты ешь свою ногу?»
А тот ответил: «Я не ем ее, а мою».
Не убивайте меня — берегите тару.
Не держи меня за эти… я не знаю, как называются… не держи меня за руки.
Ты думаешь, что я хочу выплыть?
Ты не хочешь, жена, чтобы я тебя бросил?
А сама зачем уходишь от меня в свой собственный сон?
В небе кривятся задранные поршневые кольца.
Нет смазки на дне Петербурга.
Крепко держат стоганые лапы изогнувшийся от усилия вырваться коленчатый вал.
Потолок крепок.
Пусти мои руки, я не выплыву, я только напишу новогодний рассказ.
31 декабря 1920 годаКАМЕНЬ НА НИТКЕ
Американские горы
Какое странное дело — газета.
Вообще организация человеческих душ, не отдельной души внутри ее, а строй душ, ранжир их — дело странное.
На углу Невы и канала, отчеркивающего крепость от Петроградской стороны, или на углу канала, которым Нева прихватывает крепость к себе…
Это один и тот же угол.
Два слова о крепости: когда пишешь о ней, то шпиль ее так врезается в память и столько воспоминаний кругом, со всех сторон, бегут вокруг него, как дорога на Джульфу вокруг Арарата, что хочется написать это слово петропавловская снизу вверх, шпилем.
Но я не напишу.
Мне, например, хочется когда-нибудь напечатать статью наискосок газеты, и, кажется, причиной здесь не одна архитектура…
Теперь, определив место, я могу сказать, что именно в этом месте (на углу канала) стоит плохо сделанная гора, с двумя вершинами.
С четырех до двенадцати гора работает.
По ней бегут вагонетки; их, кажется, две; я часто вижу две сразу, когда смотрю на гору с Дворцового или Биржевого моста.
Вагонетки в день делают определенное количество концов, и определенное количество раз срываются и летят они вниз по крутому скату.
Замирает сердце.
И назначенное строителем горы число раз кричат люди в вагонетке:
— А-а-а… ах!.. а-а-а-а-ах!
Это фабрика визга.
О, дорогие товарищи по газетам всего мира, какое страшное дело — газета.
Какое страшное дело — организация душ.
Мы будем писать в разное время; у нас замрет сердце.
Я не хочу клеветать на сердце.
Вместе выйдут наши статьи, и мы закричим все разом:
— Я хочу разбить строй.
Гробы обратно
Пришлось мне ехать из Украины в Россию с военнопленными. Год это был, кажется, 1918-й.
Я не провожал военнопленных, — я ехал с ними, так же одетыми, и тоже, как и им, мне было холодно.
Я пробирался в Россию.
Неодетые, в деревянных башмаках, мерзли мы на полу теплушек с выломанными печами.
Навстречу шли доверху набитые мукой поезда немцев, очищающих Украину.
Немцы шли организованно и отнимали от нас паровозы.
Мы мерзли в поездах, брошенных среди дороги.
Мы шли пешком, закутанные в тряпье, по шпалам и стучали по шпалам своими сапогами, деревом по дереву.
Мы шли «ночью». Петлюровцы, немцы, большевики пропускали нас через границы.
Мы шли отдельные, как течение среди моря.
Холодное течение.
Утром мы будили друг друга, но не всех можно было разбудить.
Мы ехали через Россию.
С нами вместе, в одних поездах, на платформах шли гробы.
На гробах было написано черными буквами: «Гробы обратно».
Хоронили у Курска в «горелом лесу».
И я шел вместе со всеми, я умею терять себя в толпе и не чувствовать себя несчастным отдельно.
Вот что я вспомнил, когда услыхал о том, что Поволжье пошло, оставив горелые поля, пошло, кто на север, кто на юг, а кто и к индийскому царю.
Сбитый боксер
Ломится дух.
Разбиты мы в щепки, вдребезги.
Не нами строится жизнь.
Я так растерялся, что если перекину ногу через ногу, то не знаю, которая из них правая, которая левая.
Мы как род баронов в пьесе «Тот» Андреева[263], — представители этого рода все импотенты, а род продолжается.
Каждое утро встает кто-то с моей постели и влезает в мои брюки и замечает, что они ему коротки.
Но тот ли же это самый человек — я не знаю.
Теперь лежу свинцовой мягкой трубой под землей.
Бежит вода через меня.
Неужели кусок времени, пробегающий сквозь меня, как канат сквозь ноздрю (клюз) парохода, — я.
Потерял я себя.
Это отрывок из пьесы. Пьеса не пойдет.
Как сбитый с ног боксер, лежу на песке и чувствую телом шершавый холод.
Кто-то считает надо мной секунды. Раз… два… три… четыре… Если я не встану на «десять» — я побежден.
Шпиль Петропавловского собора
Слыхал в вагоне для военнопленных.
Некоторые наши солдаты так тосковали в плену, что уже не мылись, покрывались вшами и даже переставали говорить.
Немцы безжалостны, они приказывали оттирать таких людей крепкими щетками и мыть холодной водой.
Граждане, нельзя смеяться.
Граждане, нельзя плакать.
Нужно почувствовать свою связь с государством.
Нужно вернуть себе волю к жизни.
Как поезд Джульфинской дороги все бежит вокруг Арарата, как камень, кружась на нитке, не может уйти от нее, как Нева от Петербурга, не могу уйти я от России.
И вязнут спицы расписныя В расхлябанныя колеи…СВОБОДНЫЙ ПОРТ
Договоры, которые уже дали нам сельдей.
Радек[264]Не правду, нет. Не всю правду. Не четверть правды даже.
Не смею говорить, чтобы не проснулась душа, я усыпил ее и покрыл книгой, чтобы она ничего не слыхала.
У Николаевского вокзала надгробная плита… Глиняная лошадь стоит, расставив ноги, стоит под глиняным задом глиняного городового. И оба они из бронзы[265]. Над ними деревянная будка «Памятник свободы» и четыре высоких мачты на углах. «Зефира трехсотого» предлагают мальчишки, а когда милиционеры с ружьями приходят, чтобы поймать их и отвезти в детоприемник и там спасти их душу, кричат мальчишки «стрема» и свистят профессионально… разбегаются… бегут к «Памятнику свободы».
Потом отсиживаются в этом странном месте — в пустоте под досками между царем и революцией.
Когда же пастыри с винтовками не ищут блудных овец, то дети, как на «гигантских шагах», катаются на длинных веревках, висящих с мачты по углам.
Мне жаль, что я не прежний, не веселый, я взял бы кисть и черную краску и написал бы на этом деревянном кубе-убежище петербургских Гаврошей:
У Биржевого моста, на узких плотах, целый день по воде ездят люди и щупают баграми дно, ища на нем дрова, затонувшие с прошлых лет.
Так человек, не имеющий обеда, чистит зубы зубочисткой.
ДОМ РЕБЕНКА
На мостах ловят рыбу. Один стоит и закидывает удочку, человек десять смотрят. Клюет редко.
Сиг эмигрировал. Он оптировался в эстонцы.
Ловят маленьких рыбок.
Когда Невский был Невским, этих рыбок звали колюшками, я не знаю, как их зовут сейчас, когда Невский — проспект 25 Октября.
На Гончарной, 14, разъехался и рухнул дом. Четырехэтажный. Подмыло водой в подвале. Он осел, как шапокляк.
Я никогда не видел шапокляков.
Единственная дымящая над Петербургом труба — водокачка.
Качает водокачка и днем, и ночью воду из Невы, текут в подвалах лопнувшие трубы, и вода подмывает фундамент.
Пахнет в Петербурге простором и морем.
Зелена трава на улицах.
Кругом города огороды… верстами идут…
Все, кто не хотят умереть, копают землю.
А хотят умереть не все.
Разогородился город.
На углу Введенской и Кронверкского пашут.
Вместо сожженных заборов и домов новые построены заборы — из ржавого, старого железа — новые заборы.
Места разобранных на топку домов похожи на поля Финляндии, так же как там камни, здесь собраны в кучи кирпичи и битые горшки клозетов, и из кирпичей сложены, как вокруг финляндских полей, заборы. Но больше всего новых заборов из старого железа.
На улицах открыли кофейни. В стеклах видны: булки, балыки, сахар.
Сперва стояли и смотрели в окно.
Теперь ходят мимо.
В Летнем саду (в пруду) и в Мойке (у Марсового поля) купаются. Больше дети.
Липы сада огромны.
Потерянный и возвращенный рай.
Не всю правду, не четверть правды даже. Я не хочу вспоминать.
Какая странная страна.
Где каждый сам себе транспорт, каждый огородник и каждый сам себе делает сапоги.
В Казани в трамваи впрягают верблюдов.
Страна электрификации и Робинзонов.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
КУХНЯ ЦАРЯ
Сидел и смеялся.
Потому что есть сказка.
Некий царь был могуч. Тысяча верблюдов возила его кухню, и другая тысяча — припасы для кухни, и третья тысяча — поваров.
Была война, и разбили царя.
Сидел он в плену, в крепких оковах.
Ел из котелка.
Бежала мимо собака, сбила котелок, запуталась сама в дужке и унесла котелок на себе.
Царь засмеялся.
Спросила стража:
— Почему ты смеешься?
Царь сказал:
— Тысяча верблюдов возила мою кухню, и другая тысяча возила припасы для нее, и третья тысяча возила поваров. А сейчас одна собака на хвосте унесла мою кухню.
Сидел и смеялся.
В 1917 году я хотел счастья для России, в 1918 году я хотел счастья для всего мира, меньшего не брал. Сейчас я хочу одного: самому вернуться в Россию.
Здесь конец хода коня.
Конь поворачивает голову и смеется.
ИЗ ПЕРИОДИКИ 1910-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-х ГОДОВ
ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Я всегда удивляюсь, когда слышу о намерении поставить памятник русской революции. Кажется, революция еще не умерла. Как-то странен прижизненный памятник развивающемуся действию.
Во всяком случае, революции никто не забыл. Одни ее делали сами и делают и сейчас, другие помнят ее так, как помнят межи своих полей крестьянские ребятишки, которых «для памяти» отец всегда сек на этих самых межах.
Революции памятника не нужно. Это слишком ничтожный, не ответственный знак для обозначения того, что перевернуло всю жизнь.
Может быть, памятник нужен скульпторам. Я был на выставке в память Великой Революции и, конечно, не стал бы писать об этом художественно-пустом месте, если бы не то, что участники ее собираются издать альбом своих произведений и, следовательно, не раскаиваются. С другой стороны, ведь возможно все, даже появление премированных проектов уже в виде памятников на улицах.
Поэтому я принужден писать. Еще никогда не приходилось мне видеть столько плохих вне всякого искусства стоящих вещей, как на этой выставке. Недаром квалифицированная часть жюри отказалась от суда и умыла руки. Но премии присуждены и над нами висит грозная опасность осуществления проектов.
Кроме работы Синайского[266], который все же скульптор, все вещи прямо ошеломляют.
Голые, «на узнавание» слепленные натурщики, составленные из наизусть сделанных частей, одеты в шлемы, держат щиты с гербами Республики и почему-то должны вызывать мысль о революции.
И на этих скульптурах висят объяснения, льстивые и навязчивые, как зазыванья.
Ходишь и не знаешь: драться или плакать. И, главное, эти люди чему-то учились, кого-то передразнивают. Они также лепят планами, они кладут краску, тоже перенимая манеру чуть ли не Филонова.
Трупы имитируют живых.
Я не могу отделаться от воспоминания о двух пластилиновых трупах, которые с выпученными глазами выползают из полукруглой дыры, с трудом стоя на подгибающихся ногах. Кажется, первая премия. Дыра как раз такой вышины, чтобы эти трупы могли влезть в нее стоя. Называется она Триумфальной аркой.
А дальше барельефы и медали, чуть ли не Александровские, только очень плохие. Забавно, что товарищ Курилко[267] выставил гравюру, изображающую, очевидно, мировую революцию: она же может пригодиться (как и все произведения на выставке) и ко всякому иному случаю и во всяком месте земного шара.
Под этой гравюрой пояснения на латинском языке. Еще остроумнее были бы несколько санскритских примечаний. Я не думаю, чтобы художники выставки в память революции были бы исключительно бездарны. Я думаю, что они ординарно бездарны.
Но их подкосила тема.
Неверно было само задание выставки. Ведь все такие задания основаны на предпосылке, что новый политический и экономический строй создаст новые формы искусства, в которых и выразит себя.
Если бы это было так, то, несомненно, мы имели бы сперва пролетарскую революцию, а потом пролетарское искусство.
Сейчас же пролетарскую революцию приходится заказывать[268].
И это не случайность.
Конечно, уже скоро тысячу лет все время находят тесную и непосредственную связь между искусством страны и ее бытом. Но ведь более четырех тысяч лет находили такую же связь между движениями звезд и судьбой человека астрологи и все же такой зависимости не существует. Изменение форм искусства не результат изменения жизни, оно результат изменения литературной традиции, накопление художественных приемов и, главное, обновление их. Между прочим, таково мнение Брюнетьера.
Все, например, указания Рыбникова о влиянии раскольничества на русские былины оказались неправильными, и это доказал Гильфердинг. Та же русская былина прожив, например, в среде крестьянства не менее четырехсот лет, все же не приняла черт крестьянского быта, как это признает такой фанатик историзма, как Марков[269].
Революция не может непосредственно отразиться в искусстве.
Землетрясение не отражается на пенье соловья, как говорил когда-то Достоевский.
Попытка же создать революционное искусство ведет к созданию фальшивых произведений.
О НОВОМ ИСКУССТВЕ[270]
Есть люди, начисто отрицающие «не пролетарское» искусство. Если бы эти люди писали совсем по-новому и их стихи и проза никого не напоминали, можно было бы раздумывать об их правоте.
Есть люди, не отрицающие Пушкина и Льва Толстого, но говорящие, что ими и исчерпывается приемлемая для пролетариата часть «буржуазного» искусства и что читать стоит только их, а не наших современников, например не Сологуба, Ахматову, Владимира Маяковского.
Я не собираюсь защищать искусство, оно не нуждается в защитнике; всякий душевно здоровый человек, открыв книгу, сам сможет решить для себя этот вопрос. Очарование культуры непоборимо; и арабы на почве греческой, и германцы на почве латинской культуры восприняли ее несмотря на запрещения церкви.
Но сократить сумму предрассудков все же стоящее дело, вот почему я решил писать маленькие статейки об искусстве и начну сразу с наиболее угрожаемого места — с футуристов[271].
У футуристов стихи странные, футуристы никому не нужны, футуристы ломаются, вот что говорят обыкновенно. Говорят даже, что в стихах футуристов нет смысла.
Начну с последнего.
К сожалению, очень многие рассматривают стихи, как красивые графины, в которые налит смысл.
Это не так. Стихи нельзя сравнивать между собой по высоте идей в них заключенных, стихи — это вовсе не рифмованные передовицы.
Мы живем в мире плохо устроенном и все время стараемся его пересоздать. В этом задача практической жизни человека. Но этого мало, мы живем в мире не ощутимом, в мире не воспринимаемом. Постарайтесь понять меня.
Разве вы не замечали сами, как мало впечатления производят на вас знакомые предметы и надоевшие слова. Мы ведь даже не договариваем своих слов, узнавая их на лету. Петербург, лежащий вокруг нас, нами тоже не видим, потому что он нам привычен, а вот если вы уедете из него и потом вернетесь из провинции, вы поразитесь в нем многому, чего раньше не замечали.
Словом, мир, лежащий вокруг нас, почти нами не ощущается, вернее ощущается бессознательно.
Искусство же и есть метод создания ощутимых вещей. И если практическая работа пересоздает мир, то только искусство дает ему ощутимость.
Как же оно это делает? В поэзии это достигается тем, что создают стихи, в которых тщательно выбирают слова, расставляют их по ударениям, одним словом заставляют их чувствовать, слова ставятся так, что рифмуются друг с другом; т. е. они подбираются по созвучию, в середине строки звуки тоже не стоят случайно, а организовано подобраны определенными повторами. Приведу пример из Лермонтова:
Отворите мне темницуили у Пушкина:
Редеет облаков летучая гряда.Всего же сложнее этот прием разработан в народном творчестве.
Например, возьмите пословицу:
Сила солому ломит.Я не даю подробного разбора этой пословицы, так как она чрезвычайно сложно организована. Но сразу же видно, что все три слова представляют перестановку одних и тех же звуков.
Примеров таких, как и в народном творчестве, так и у классиков, можно привести много тысяч. Итак, мы видим, что поэзия — речь не обычная, а построенная внимательно, с выбором звуков, с определенной постановкой этих звуков. Благодаря этому поэтическая речь ощущается.
Но поэзия не исчерпывается звуками. Поэзия еще и говорит о чемто. Говорит она тоже по-особому, в ней предмет дается не так, как описывается в каталоге, а совсем иначе; поэт или творец художественной прозы старается увидать вещь по-новому, дать ее не с привычной стороны, и это он делает не из-за того, чтобы быть оригинальным, а оттого, что вещь только тогда и ощущается, когда дается за новую. Приведу пример. Если я скажу про собаку, что она лает, то это будет верно, но не оживит предмета, и вот Гоголь в «Мертвых душах» описывает лай собак, как пение певчих, подробно рассказывая про каждый голос; эта неожиданность сопоставления лая и пения заставляет нас как бы вслушаться в лай, воспринять его с новой точки зрения. В литературе этим приемом пользуются постоянно.
Но каждый такой прием может стать традиционным, привычным.
Помните, как в начале революции говорили про какой-нибудь противообщественный поступок: «Товарищи — это нож в спину революции»; теперь это надоело, это уже даже смешно сказать, и выражение само вывелось.
Так каждый художественный прием стареет, и следующее поколение изобретает новое, мы обречены шевелить искусство, как дрова в горящей печке. Отсюда и идет футуризм. Я не могу писать книги, так как я не могу сейчас их напечатать, и мне приходится говорить очень коротко и торопиться к Маяковскому.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая, — ей нечем кричать и разговаривать. Городов вавилонские башни возгордясь возносим снова, а бог города на пашни рушит, мешая слово, улица мýку молча пёрла, крик торчком стоял из глотки. Топорщились, застрявшие поперек горла, пухлые taxi и костлявые пролетки. Грудь испешеходили. Чахотки площе. Город дорогу мраком запер И когда — все-таки! — Выхаркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось: в хорах архангелова хорала бог, ограбленный, идет карать! — А улица присела и заорала: «Идемте жрать»!А вот из другого места:
Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Где глаз людей обрывается куцый главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год.Написано это в 1914 году.
Вот видите, какие стихи.
Что нас здесь прежде всего поражает?
Во-первых, образы. Например, «варево из любвей и соловьев» или «крик торчком стоял из глотки». В чем тут дело? Любовь и соловьи — темы прошлого, живой поэт отрицает прошлое, он пользуется прошлым, как трамплином для прыжка, он пародирует прошлое. Но со старыми образами можно поступить иначе, можно их подновить. В разговорной речи есть выражение «крик застрял в горле», Маяковский берет это выражение, уже не переживаемое, обновляет его, крик: «торчком стоял из глотки». Кроме того, изменен самый тон поэзии: он принял уличный площадной характер, опять-таки потому, что комнатный голос не слышен по привычности.
Теперь несколько слов о ритме Маяковского. Старый русский ритм (хотя бы Пушкинский) основывался на счете слогов и на чередовании ударяемых, т. е. в основу его были положены два признака.
Но в русской разговорной речи неударяемые звуки и целые слоги вымирают, ослабевают, и ритм (размер) новых поэтов (не только футуристов) бессознательно стремится к тому, чтобы в стихах принималось во внимание только количество ударений, наиболее полно это выразилось у Маяковского.
У Маяковского есть определенный размер, представляющий нечто произошедшее от ямба, но при равном количестве ударений в строке количество ударных слогов произвольно. Строкой я называю у Маяковского не просто его строку, а расстояние между двумя рифмами. Таким образом,
Славьте меня! Я великим не чета. Я над всем, что сделано, Ставлю «nihil»[272].представляют две строки.
Разбивка Маяковского на строки — дело довольно сложное, так как у него много внутренних рифм.
Я должен заканчивать. Хочу подвести итоги. То, что кажется произвольным в футуристах, на самом деле гениальное осознание новых форм, ведущих к созданию нового переживаемого искусства.
Людей же, желающих сказать свое мнение о футуризме, я прежде всего призываю к работе и внимательному изучению.
СТАРЫЙ ЗАПАХ
Вышел одиннадцатый номер «Вестника литературы». Серый журнал на серой бумаге[273]. Среди тусклых статей выделяется как-то случайно попавшая, тоже неприятная для меня, непристойно написанная статья К. Чуковского[274].
Все прочее — груда серого хлама.
Я не стал бы писать так резко, не хорошо укорять людей их убожеством, и талантливости нельзя требовать и у «литературы».
Но меня вынуждает на резкость невероятная статейка какого-то человека, подписавшегося «старым писателем». Статейка носит название «Новое поэтическое стойло». Привожу отрывки из нее: «Там за прилавком в желтой кофте и с лоснящимися от хорошей, сытой пищи щеками стоял сам Маяковский… и т. д.» Или… «в результате, спустя несколько месяцев такой плодотворной футуристической деятельности у Маяковского появились на пальцах бриллиантовые перстни, на животе толстая золотая цепь и т. д.»[275]
И это «вести литературы»?
Мы склонны идеализировать прошлое, это так понятно сейчас, когда вся литература молчит, книги нет.
И вот «Хам» напоминает о своем дореволюционном существовании, тянет воздухом уборных «Петроградской газеты»[276].
Среди мертвого поля, мертвых костей встал гнилой человек и сказал гнилое слово. И это в единственном органе, оставленном литераторам. Конечно, клеветник не знает, кто такой Маяковский, что он сделал в русском стихе, но редакция «Вестника» должна была оградить Маяковского от желтых оскорблений, просто как русского литератора.
ИЗДАНИЕ ТЕКСТА КЛАССИКОВ
Несколько туземных художников предложили проект, напечатанный в одном из последних номеров «Жизни искусства». Это проект о памятниках-кафедрах. Предлагают ставить памятники, но так, чтобы с этих памятников можно было бы говорить речи, а сзади в них втыкать шесты с плакатами.
Этот проект очень хорошо показывает, как узка та щель, в которую сейчас запихивают русское искусство. Произведение искусства обращают в простой кронштейн. А художники как будто бы рады прицепить свою работу, хоть куда-нибудь. В такое положение русское искусство попало не по вине теперешнего политического положения; это все тот же подход, когда главное «свет», а искусство «подсвечник».
Только в русской литературе критики сделали из искусства «возвышение» для проповеди, как будто нельзя говорить речь с любого фонаря.
И стоит на возвышении какой-нибудь Венгеров или другой кто-нибудь похуже, и разговаривает о героическом характере русской литературы. Отсюда презрение к форме, презрение даже просто к тексту, ко всему не агитационному, заключающемуся в нем.
Поэтому в России академик Соболевский мог издать пять томов русских песен[277] и выбросить из них все повторения, даже не перенеся их в примечание, даже не обозначив их, а так, просто, бесследно выкинув. И ничего. Академия не обиделась. Так, более авторитетный и более потому ответственный Гумилев, переводя Шумеро-акадскую поэму «Гильгамеш», взял и выбросил «лишние» длинноты, т. е. эпические повторения. Действие столь же беззаконное, как и выбрасывание из триолета «лишних», т. е. повторяющихся стихов. Причем все это делается с сознанием безнаказанности. Благодаря такому взгляду у нас нет хороших изданий классиков. Невежественные люди, издавая неинтересные им по форме тексты, не стесняются переделывать их, «исправляя» или давая «сводные», но, конечно, не оговоренные редакции.
Издательская коллегия при Петербургском литературно-издательском отделе, пытающаяся заняться несвоевременным и не традиционным делом издания строго проверенных текстов, в своей работе наткнулась на целый ряд неожиданностей. Например, Тихонравов дает в «Мертвых душах» сводный текст из печатных изданий и цензурной рукописи, вводя, таким образом, целые фразы.
Но, конечно, хуже всех оказалось академическое издание Лермонтова[278]: рукопись для него оказалась использованной небрежно, неумело. Например, в ст. «Звезда» в рукописи: «мой ум» — в Акад<емическом> издании: «взор»; в ст. «Бульвар» в рукописи: «в чаду», в Академ<ическом> издании «в саду»; в ст. «Смерть поэта» в рукописи — «злобно», в Академ<ическом> издании «долго»; в рукописи — «язык», в Академ<ическом> издании — «закон». В стихотворении «Валерик», название которого, что тоже не отмечено в Академ<ическом> издании, очевидно, не Лермонтовское, так как в рукописи его нет, такие ошибки: в рукописи «темный», в Академ<ическом> издании — «томный»; в рукописи «на братний зов», в Академ<ическом> издании — «бранный». В том же Академическом издании совершенно юмористически разбиты строки. Когда стих разбивается на несколько реплик, что очень типично для романтика, Абрамович умудряется так расставить строки, что вообще получается не стих, а проза, нарубленная очень мелко с редко мелькающими рифмами, появляющимися через неопределенное количество времени.
Я не говорю уже про пунктуацию — она в русских классиках почти вся выправлена корректорами. А между тем эта самая пунктуация, с которой так непочтительно обращаются, изменяет синтаксис речи и ритм стихов.
Привожу пример в Лермонтовской рукописи:
Смешно же сердцем лицемерить Перед собою; столько лет Добро б еще морочить свет.В Академ<ическом> изд<ании>:
Смешно же сердцем лицемерить Перед собою столько лет: Добро б еще морочить свет.Если, вообще, рассматривать искусство не как подсвечник и не как «место для втыкания шестов с плакатами», то, конечно, люди, которые раза три в день попрекают современных писателей именами покойников, могли бы в оставшееся свободное время позаботиться о том, чтобы дать возможность издать вещи этих покойников.
Конечно, из правильно изданного текста не сделаешь «крестового похода» — это не чудо, но это простая необходимость.
Издавать неряшливо прокорректированный текст Лермонтова для Академии позорно, хотя «мертвые срама и не имут».
ПЛАН ОДНОГО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО ПОДСЧЕТА
Известно то внимание, которое обращают поэты на звуковой состав слова. Поэты, по собственному признанию, подбирают определенные звуки в стихах, влюбляются в них. Лермонтов писал:
Я без ума от тройственных созвучий И влажных рифм, как например на ю.Кроме того, мы знаем, что у определенных литературных школ есть склонность к употреблению в стихах определенных звуков, т. е. звуковой состав стихотворений изменяется в смысле частоты применения тех или других звуков, и это изменение совершается не параллельно ходу однородных явлений в прозаическом языке. Так, например, в индусской поэтике мы встречаем то требования наибольшей легкости произношения, то соседство звуков, — близких по артикуляции (Ф. Щербатский[279]), что, как известно на примерах скороговорок, затрудняет произносительную сторону речи.
То же мы видим в русской поэтике. Если Державин из звуков облюбовал «Л», то с другой стороны, футуристы (в частности — Маяковский) усиленно применяют шипящие. Тенденция к учащенному применению того или иного звука создает то, что в стихах теперь называют звуковой инструментовкой. Явление звуковой инструментовки было вполне осознано в русской поэтике XVIII века, но в XIX веке составляло почти только устную традицию поэтического мастерства, в XX оно пережило свою реставрацию и, с почина Андрея Белого и Вячеслава Иванова, стало обычным параграфом критических статей.
К сожалению, понятие звуковой инструментовки успело вульгаризироваться, прежде чем стало понятным. Ведь все указания на то, что в таком-то стихотворении Пушкина, скажем «Анчар», преобладают шипящие звуки, — голословны, пока мы не знаем, какова обычная частота применения этих звуков в русской прозаической и поэтической речи. Для того чтобы говорить более или менее научно, мы должны были бы обладать следующими знаниями.
Во-первых, мы должны знать обычное процентное отношение различных звуков в русском языке вообще; 2) мы должны знать процентное отношение различных звуков в русской стихотворной речи; 3) мы то же должны установить в стихотворной речи данной эпохи; 4) у данного автора; 5) в данный период этого автора, и — только тогда мы можем сказать, что в стихотворении «Анчар» мы наблюдаем или не наблюдаем стечение одинаковых звуков. Причем мы должны еще, по теории вероятности, проверить возможность случайности такого скопления.
Я привел такой длинный список необходимых условий не для того, чтобы скопировать рассуждения какого-нибудь мольеровского педанта, я перечислил их для того, чтобы подчеркнуть необходимость производства той работы, план которой и сообщаю.
Приблизительное процентное отношение звуков в русском языке мы можем получить из некоторой аналогии с количеством знаков (букв) в комплекте шрифта на словолитне. Ввиду не совпадения письма и речи мы получим данные очень приблизительные. Для согласных такие данные будут довольно близки к истине, для гласных же звуков мы не получим почти ничего. Во всяком случае, мы получим результат исчерпывающего опыта, так как комплекты словолитень все время корректировались типографиями, докупающими тот или иной знак.
Я уже года три тому назад пытался получить из словолитни Лемана необходимые мне сведения, но мне отказали, ссылаясь на коммерческую тайну. Надеюсь, что национализированные словолитни не будут так скрытны.
Далее необходимо попросить, чтобы при разборе [наборов] отдельных произведений классиков подсчитывали и записывали количество знаков каждой буквы, встречающихся в нем.
Не нужно думать, что это египетская работа. Достаточно в каждое отделение наборной кассы положить бумажку, так чтобы при разбрасывании набора буквы попадали на нее. Потом необходимо свесить вес букв, попавших в каждое отделение кассы из набора. Эту работу нужно сделать для каждой буквы отдельно. Потом, — узнать вес, например, буквы «р» и разделить на него вес всех букв «р», бывших, скажем, в наборе поэмы «Полтава». Провозившись таким образом, мы получим данные, основанные не на единицах, а на сотнях тысяч фактов.
Ввиду того что сейчас издание классиков национализировано, мы обращаемся со своим предложением через газету к Наркомпросу и одновременно к союзу печатников, надеясь на то, что они окажут свою помощь научной работе. Результаты подсчета прошу сообщать в Москву, Лубянский проезд, 10, кв. 3. Лингвистическому кружку.
РЕПЕРТУАР ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА
Как мне передавали, в Москве предполагается создание особого школьного театра. С одной стороны, в этом театре предполагают давать кинематографические представления, иллюстрирующие уроки географии и естествоведения, с другой стороны, и думаю, что эта сторона дела наиболее ответственная, предполагают создать сцену для школы, т. е. создать театр для учащейся молодежи.
Возможно появление такого же учреждения и в Петрограде.
Трудно что-нибудь возразить против самой идеи школьного театра, но, с другой стороны, трудно и представить себе его, особенно зная современную постановку преподавания истории литературы в школе.
В основу теперешней школьной программы положен совершенно ложный принцип историчности. Трудовая школа — это не только такая школа, в которой ученики сами метут пол, это школа, в которой учащиеся вырабатывают сами те знания, которые им необходимы. В трудовой школе ученики в идеале должны сами открыть основы геометрии, сами вывести ее законы, сами открыть свойства рычага. Трудовая школа — школа, обучающая творчеству. Поэтому единственным правильным учебным планом в такой школе можно признать такой план, в котором учащиеся идут от более простого к более сложному.
Этот план нельзя заменить принципом прохождения предмета в исторической последовательности. Современный школьный план преподавания истории литературы — это раскрашенный гроб и раздушенная отрыжка старой школы. Каждому толковому преподавателю ясно, что, например, географию нужно начинать в трудовой школе не с Африки, а с составления плана классной комнаты. Но это значит, что и преподавание литературы в школе нужно начинать не с Кантемира и не с былин, а с анализа произведений сегодняшнего дня, так как — восприятие произведений, которые создавались на совершенно другом фоне, с соблюдением или нарочным нарушением канонов нам неизвестных, дело большой сложности, доступное только немногим из числа специалистов, или не доступное и им. Истории литературы, предмету все еще научно не обоснованному и в университетской науке, предмету, оперирующему над громадным материалом, не поддающимся сокращению, нет места в трудовой школе. Конечно, никто не читает его и сейчас, потому что нельзя назвать историей литературы те рассказы про отдельных авторов, совершенно не передающие самый тип и стиль коллективной работы масс в деле создания новых форм, заменяющих старые формы, нельзя назвать эти рассказы историей литературы.
Нужно перейти от преподавания истории литературы к преподаванию литературы, повышая восприимчивость учащихся к литературной форме, вводя их в новый мир, быть может, единственный мир, который стоит завоевывать, в мир искусства. Опыты такого преподавания делали мои товарищи в первой ступени трудовой школы, а я на курсах, в которых учащиеся были исключительно красноармейцы.
Я пишу это довольно длинное введение после того, как прочел примерный репертуар школьного театра, составленный В. Гиппиусом[280] по предложению совета экспертов. Длинный список, пышный список. Шестьдесят пьес и все самые лучшие, и начинается, конечно, с греков, есть и моралите.
И все в исторической последовательности. Учащийся будет проходить эту программу, следуя пути, пройденному человечеством.
Нет ни малейшего намека на приспособление материала к публике, просто собраны хорошие пьесы. И все вам известные, как будто в русской литературе нет ничего кроме «Ревизора», а в английской кроме «Гамлета». Очень забавно кончается эта программа Горьким и вдруг Мережковским («Павел I») — два имени современников, удостоившихся попасть в общество знатных мертвецов.
Я думаю, что это программа никакая.
Просто отписка.
Если нужен школьный театр, то его репертуар нельзя создавать по принципу историческому.
Но прежде школьного театра нужно пересоздать школьное преподавание истории литературы, этот любопытный курс — прибежище всякого дилетантизма.
Мой же ответ на вопрос о школьном театре в трудовой школе таков. Такой театр может быть создан только самими учащимися изнутри.
КУПОЛ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА
На прошлой неделе клир Исаакиевского собора богослужением отметил день столетия начала постройки.
Я не знаю, насколько верна эта дата. Еще при Петре I, в 1717 году, на месте нынешнего собора стояла церковь, сгоревшая в 1737 году от молнии. По архитектуре церковь эта напоминала Петропавловский собор. При Екатерине на месте сгоревшей церкви, по проекту архитектора Ринальди, начали строить громадный храм. Ко дню ее смерти стены собора были выведены почти до карниза и облицованы мрамором. Павел приказал закончить здание по-своему, т. е. свести своды, не считаясь с пропорциями. Александр I в 1817 году, после конкурса, утвердил проект архитектора Монферрана.
Возможно, что к постройке было приступлено в 1819 году. Я не знаю, я не специалист по юбилеям. В 1824 году собор, во всяком случае, строился: камнями постройки во время бунта декабристов народ отбил атаку кавалергардов.
Николай I сам усовершенствовал проект Монферрана, прибавив, кажется, еще два портала «для симметрии». Получилось здание, так характерное для силуэта Петербурга, здание нарочито огромное, пышно-академическое. Фантастическое по своей тяжести для болотистого грунта Петербурга, оно не органично для него, если не считать Петербург городом разрушения.
Громадный храм разрушает себя собственной тяжестью. Недавно говорили о необходимости заложить ниши в стенах. Осыпается неправильно положенная живопись.
По словам старожилов, Исаакий, несмотря на 10 672 трехсаженные сваи, забитые в грунт, на которые положен фундамент в 17 000 кубов гранита, медленно погружается в почву.
Крайне характерен купол Исаакиевского собора. Это не купол, строго говоря, это имитация купола. Конструкция купола железная. Это одна из самых крупных железных конструкций того времени и в техническом отношении была тогда очень любопытна.
Но с точки зрения соответствия материала и формы «купол» не архитектурен.
В архитектуре камень должен становиться еще каменней, железо железней. Специфические черты характера сопротивления данного архитектурного материала определяют его архитектурные формы.
Характер кирпичной кладки, с толстой прослойкой дикого камня внутри, определял стиль новгородских церквей. Кирпичная кладка и утрата стеной опорного значения, перенос тяжести здания на столбы и контрфорс создали готику.
Материалом архитектуры, как и искусства, является не «строительный материал», а сопротивление материалов. Это создает архитектурную семантику. Правда, в архитектуре мы имеем и другой закон, закон переживания формы.
Новый материал иногда повторяет вначале формы, выработанные свойствами другого материала.
Например, в Московских каменных храмах сказались многие черты деревянных шатровых церквей. Греческое зодчество в основу каменного здания положило формы, выработанные для дерева. Здесь было не полное конструктивное использование нового материала, но не было конструктивной лжи. Свойства мраморной балки, работа на сжатие в колонне использовались вполне архитектурно.
Исаакий же и своим куполом, и своей главной башней, обшитой медными листьями, окрашенными под мрамор, лжет, как картонный.
На фальшивой башне лежит «не взаправдашний» купол. Ему бы, по материалу своему, подняться вверх, как шпиль, а он горбится, — круглится. Он фальшивый, как полотняная колонна какой-нибудь театральной постановки. Один материал имитирует другой, а не выражает себя.
Исаакий нарочито громаден. Громадны монолитные колонны (56 ф.), громадны колонны вокруг барабана (42 ф.), громадны ангелы, и крылья их так хорошо прорисовывают углы.
Но Исаакий не архитектура, не здание. Это не сила, образованная из слабостей (Леонардо да Винчи)[281].
Вес здесь не создает устойчивости, вес здесь разрушает.
Это тяжелая многомиллионнопудовая декорация.
Это не художественно, как перевод.
ЭМИГРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
В большой поволжской деревне Ровное, ныне Марксштат, населенной немецкими колонистами, возник университет.
В петербургском университете почти нет слушателей.
Петербургские театры уезжают в провинцию.
Уезжают в деревню квалифицированные рабочие, уезжает и бывший лавочник, вспомнивший свои связи с деревней.
Деревня разматывает город.
Уходят в деревню вещи, платья, портьеры — все то, что может унести с собой обратный мешочник.
Город рассредоточивается. Город тает. Растут провинциальные центры, и в первую голову обогащается людьми деревня.
Это самое важное в сегодняшнем дне.
Городская культура распыляется, растаскивается, совершает великое рассечение. Я знаю, что не разрушение Византии было причиной появления итальянского возрождения, но я знаю и то, сколько сделала маленькая кучка несториан, вытесненная когда-то из Мессопотамии и разнесшая свою культуру на всю Персию, до Индии, до Сибири, до дальних граней Туркестана.
Правда, эти люди имели свой фанатизм, им было из-за чего идти так далеко, они не искали только дешевой картошки.
Но я человек верующий, я хочу верить в то, что культура неуничтожима.
Я думаю, что-то будет внесено в быт деревни беглецами города.
Несколько дней, может быть, месяцев сытости вернут тоску по культуре, заставят что-то делать.
Теперь другой вопрос: сможет ли русская провинция воспринять эту культуру искусственную, в оранжереях, при дешевых дровах выращенную, петербургскую культуру?
Я верю, что сможет.
Русские песенники полны стихами поэтов XVIII века, стихами поэтов, выросших еще на более искусственной почве.
Искусство и жизнь не связаны функциональной связью. В мире вещей свободным живет мир художественных форм.
Венчики персидских миниатюр нимбами горят на русских иконах, романские звери живут на карнизах суздальских церквей.
А в церквах новгородских так плавно перелилось творчество грека в творчество северного славянина — человека из болотного леса.
Приемышам хорошо в искусстве, весь царский род форм искусства продолжается, как когда-то ради римских императоров, через усыновление.
Деревня-народ приняла в свое время и манихейство через богумилов, и греческую легенду, и арабскую сказку, и стихи Державина и Лермонтова, и яркую, как павлиний хвост, комедию о царе Максимилиане.
В искусстве нет границ, здесь из рода в род, из края в край переходят элементы единственной вселенской интернациональной культуры.
Дорого стране стоила петербургская культура, и вот рассыпался ее центр.
Я верю, что рассыпался не даром, и пусть вера кажется безумием, я верю, что городское творчество последней четверти века обновит и сольется со старой культурой русской равнины.
К ТЕОРИИ КОМИЧЕСКОГО
Должен ли быть анекдот смешным?
Чем отличается смешное от трагического?
Я не знаю.
Счастливы люди, которые знают, сколько мыслей было у них в голове, за кого нужно голосовать на избирательных кампаниях, знают, что Белинский и Иванов-Разумник — русские критики. Я думаю, что они знают даже, что скажут люди над их могилами. Я же не знаю даже, чем отличается смешное от трагического. В воспоминаниях Бекетовой об Александре Блоке есть любопытное место: А. А. Блок со своей будущей женой, Л. Д. Менделеевой, выступал в деревенском театре. «Зрители относились к спектаклю более чем странно. Я говорю о крестьянах. Во всех патетических местах, как в „Гамлете“, так и в „Горе от ума“, они громко хохотали, иногда заглушая то, что происходило на сцене».
Это производило неприятное впечатление.
Не знаю.
Много раз слышал этот смех в 1919/20 году в петербургских театрах. Смеялись в самых драматических местах. Например, когда Отелло душил Дездемону. А между тем ходили в театр, любили театр, говорили о театре в казармах.
Восприятие трагическое и комическое ближе друг к другу, чем это полагают.
Вещь может быть задумана как трагическая и воспринята как комическая, и наоборот.
Антон Чехов писал своему другу: «Пишу веселый фарс». Это были «Три сестры».
На «Трех сестрах» канонично плачут.
У меня на руках был блоковский автограф «Незнакомки».
Вы помните?
«По вечерам над ресторанами…»
Автограф этот хранится у Зиновия Исаевича Гржебина.
Прислан он был в «Адскую почту» — юмористический журнал, издаваемый Гржебиным.
На углу рукописи пометка Г. Чулкова: «Набрать мелким шрифтом».
У Марка Твена есть в «Простодушные у себя дома и за границей» описание его первой юмористической лекции. Твен не верил в свои силы и озаботился подыскать клакеров. Пригласил здоровых молодцов с дубинами, пригласил даму, которая смеялась особенно заразительно, на улице встретил героя своих повестей Тома Сойера, — пригласил и его.
Уговор был такой. Когда Твен улыбнется, дама должна была хохотать, Том подхватывать, а молодцы с палками стучать и аплодировать.
Лекция удалась блестяще.
Все смеялись без всяких клакеров.
В середине лекции было серьезное место, патетическое место, которое так часто вводят в свои произведения юмористы (вспомните место в «Шинели» Гоголя о молодом человеке… «и закрывал себе лицо руками молодой человек»[282] и т. д.). Зал замер. Твен читал и посмотрел на даму в ложе, и от удовольствия, которое он испытывал, от ощущения напряженности зала — улыбнулся.
Дама приняла улыбку за сигнал и засмеялась, Том Сойер захохотал, клакеры загрохотали тростями, и зал загремел от хохота.
Марку Твену не удалось во всю свою жизнь доказать, что патетическое место в его лекции не было его самой удачной шуткой.
Я в этом ничего не понимаю.
Попробую перейти к материалу анекдотов.
Есть анекдот.
Немец не мог вспомнить, как нужно говорить: «У рыбов нет зубов, или у рыбей нет зубей, или у рыб нет зуб».
Анекдот производит комическое впечатление тем, что он основан на языковой тенденции сближения типов склонений.
У рассказчика самого нет твердого убеждения в «правильности» формы. Я напоминаю, что Пушкин в «Домике в Коломне» употреблял слово «зуб» в значении родительного падежа множественного числа:
Скажу, рысак! Парнасский иноходец Его не обогнал бы. Но Пегас Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец …Таким образом, колебание и борьба нескольких языковых форм производит иногда комическое впечатление.
Разница в диалектах чаще используется для произведения комического впечатления, чем сопоставления двух языков.
Акцентирование обычно вызывает комическое впечатление, но может и не давать его. Вспомним Пушкина:
Неправильный, небрежный лепет, Неточный выговор речей По-прежнему сердечный трепет Произведут в груди моей; Раскаяться во мне нет силы, Мне галлицизмы будут милы…и т. д.
(то же в строфах XXVII и XXVIII).
В остальных же местах «Евгения Онегина» Пушкин постоянно пользуется изобилием иностранных слов, им самим подчеркнутых:
Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше б мог Иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я встарь В академический словарь.Комично одновременное восприятие нескольких диалектов, — чем широко пользовались в итальянской и французской комедии.
Языковые новшества обычно воспринимаются как комические.
«…ужель сударыня?»
«Сударыня, ха-ха, прекрасно!»
«Сударыня, ха-ха, ужасно!» («Горе от ума»).
У Тургенева в «Накануне».
«Ах, ты сочувственник, — брякнул Шубин и рассмеялся вновь придуманному слову».
В обоих случаях сами по себе слова комического элемента не содержат.
Я случайно знаю, что слово «Коминтерн» при его создании воспринималось как смешное.
Многочисленные советские анекдоты — на одном ощущении комичности новообразованных слов.
Я присутствовал в Москве на заседании одного лингвистического общества, настроенного по отношению к советской власти совершенно не оппозиционно. Читался доклад о «советских словах». Докладчик был филолог-коммунист.
И весь вечер прошел в веселом демонстрировании различных языковых курьезов.
Более сложной является игра с семантикой слова. Например, у Тэффи в одном рассказе: «У нас, слава богу, в Бога не верят»; в том же рассказе: «а вдруг, не дай бог, Бог есть».
Комизм здесь основан на том, что в одном случае в выражении «слава богу» или «не дай бог» слово «бог» имеет не то значение, как в утверждении «Бога нет» или «Бог есть».
Это, конечно, основано на привычности выражения «слава богу», которое воспринимается как одно слово. Попробуйте сказать с перестановкой: «У нас Богу слава, в Бога уже не верят», или: «А вдруг Бог не дай, Бог есть» — и ощущение комизма исчезнет.
Здесь комично двойное семантическое осмысливание одного фонетического знака, в данном же случае, тоже говоря комично, утрата словом его первичного смыслового значения.
Перехожу на современный анекдот.
«Ночью стоит поезд; выходит из вагона человек и спрашивает: — Почему стоим? — Ему отвечают: — Паровоз меняем. — На что меняете?»
Здесь слово «меняем» имеет сперва техническое значение замены одного предмета другим однотипным (как о машинах пишут — «легкая заменимость частей»), а в другом — слово «менять» взято в смысле товарообмена.
Для меня сейчас при некоторой привычке платить за товар деньгами анекдот не смешон.
Очень обычны достижения комического впечатления через применение к одной категории явлений понятия, связанного с другой.
Беру опять современный анекдот.
В Москве говорили, что Совнарком приказал ввиду отсутствия топлива перевести градусник на четыре градуса вверх.
В старинном анекдоте это дано так.
Человек смотрит на термометр и говорит: «14, а я в девять обещался жене быть дома».
Здесь комично сопоставление двух рядов цифр: часы — градусы. Мотивировка путаницы — опьянение.
В другом советском анекдоте два спекулянта из-за боязни Чека условливаются на будущее время по телефону называть миллионы не лимонами, а лошадьми.
— Нужны два миллиона, — говори — пришлите две лошади.
Вечером происходит разговор:
«Пришлите мне, пожалуйста, три лошади».
«У меня нет ни одной лошади».
«Но я не могу жить без лошадей».
«Хорошо, я пришлю вам полторы лошади».
Анекдот не бытовой, так как, когда нельзя было по телефону говорить о миллионах, нельзя было просить и о присылке лошадей.
Вся мотивировка анекдота построена для того, чтобы создать «дробную лошадь».
Ряд такой: полтора миллиона, полтора лимона, полторы лошади.
Значит, комичен здесь не быт, а смысловое противоречие в словах.
Обилие советских анекдотов в России объясняется не особенно враждебным отношением к власти, а тем, что новые явления жизни и противоречия быта осознаются как комические.
Денежно-обесцененные миллионы первое время сами по себе производили комическое впечатление.
Потом к ним привыкли.
Но начали в анекдоте использовать противоречие между «денежным» и реальным миллионом.
Например:
«Ужасно! В России может быть к осени вымрет несколько миллионов».
«Ну что такое советский миллион!»
Мы подвигаемся к все более и более мрачному материалу.
Напомню, впрочем, одну страницу из «Записок из Мертвого дома». Цитирую по памяти. Нет книги под рукой.
У меня многого нет под рукой, например — Петербурга, хотя бы вместе с Ирецким[283] и советскими анекдотами.
Друзьям же привет.
Страница эта — следующая. Секут арестанта, офицер… Нет, не могу по памяти, пойду в город искать книгу.
«Принесут розги, а Смекалову стул; он сядет на него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить… „Нет уж, брат, ложись, чего уж тут…“ — скажет Смекалов; арестант вздохнет и ляжет. „Ну-ка, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?“ — „Как не знать, ваше благородие, мы крещеные, сыздетства учились“. — „Ну так читай“. И уж арестант знает, что читать. И знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука раз тридцать уже и прежде с другими повторялась. Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает; знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой шутке тоже давно уж наслышаны, и все-таки повторяет ее опять, — так она ему раз навсегда понравилась, может быть, именно потому, что он ее сам сочинил, из литературного самолюбия. Арестант начинает читать, люди с розгами ждут, а Смекалов даже пригнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит до слова: „на небеси“. Того только и надо. „Стой!“ — кричит воспламененный поручик, и мигом, с вдохновенным лицом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит: „А ты ему поднеси!“
И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты ухмыляются: тоже ухмыляется секущий, чуть ли не ухмыляется даже секомый, несмотря на то что розга по команде „поднеси“ свистит уж в воздухе, чтоб через один миг, как бритвой, резнуть по его виноватому телу» («Записки из Мертвого дома». Т. II, гл. 2).
Здесь хорошо дана бескорыстность анекдота, арестант смеется ведь не только из сочувствия. У него есть и чисто художественное ощущение от игры слов.
Интересно отметить, что кощунственные пародии на отпевания, когда кадило заменяют старым лаптем, а ладан куриным навозом (Ончуков) в деревне, как игру, производили очень религиозные люди.
Богохульство возникает часто из потребности игры с тяжелыми предметами, не связываясь с отрицанием божества или с желанием его активно оскорбить.
Это явление того же характера, как увлечение авантюрным романом с преступниками, но в романах мы имеем еще игру, напоминающую раздвоение личности при истерии, — не я, мол, люблю преступление, а этот описанный разбойник.
То же мы имеем в сентиментальном романе. Ричардсон эротичен, эротична, например, сцена обыска Ловеласом Памелы (но эротичен как бы не автор, а отрицательный герой). Так, может быть, написана книга Иова. И так будем мрачнеть дальше.
На юге России я слыхал два анекдота, рассказанные мне не то про белых, не то про красных.
Ведь песни белых похожи на красные песни.
Белые пели:
Пароход, ближе к пристани. Будем рыбу кормить коммунистами.Красные пели:
Пароход идет, вода кольцами. Будем рыбу мы кормить добровольцами.Анекдоты же следующие.
Ведут человека на расстрел. Дождь. Холодно. Он говорит: «Какая погода плохая». Конвойный отвечает: «Тебе ничего, а мне назад идти».
Второй.
Ведут еврея на расстрел. Он спрашивает: «Какой сегодня день?» — «Понедельник». — «Пустяки, для меня начинается неделя».
На чем основан комизм этих анекдотов?
Не думайте, что я сошел с ума. Я только совершенно убежден в деле, которое делаю. Недавно узнал, что аналогичный анекдот существовал в XV веке.
Это анекдоты, кровь в анекдотах не кровава, берутся не вещи, а отношение вещей.
Анекдоты основаны в первом случае на сопоставлении смерти и неприятности, на различном отношении к чужой смерти и к личной неприятности.
Во втором случае анекдот построен на противоречии интонации обычной поговорочной фразы и трагизма положения.
Это любопытнейший пример обрабатывающей силы приема.
Вещи в анекдотах не значат сами по себе ничего.
Важно сопоставление вещей.
Трагическое отличается от комического не материалом, из которого построена композиция, а главным образом ключом, написанным перед произведением.
В частности, новая форма воспринимается почти всегда как комическая.
Может быть, поэтому комический жанр в искусстве обычно является передовым.
Впоследствии ощущение комизма стирается, и мы часто плачем там, где нужно смеяться.
Трагизм образа Дон Кихота — явление вторичное.
Исследование русского комического стиха покажет нам, что именно здесь создавались новые формы.
Я думаю, что в смехе крестьян над «Гамлетом» не было непонимания.
Они восприняли художественную форму драмы, но в ином ключе.
Смех есть один из видов ощущения композиционного неравенства.
Ошибка крестьян, смеющихся над «Гамлетом», того же рода, как и ошибка русской критики, плачущей над пародийным «Евгением Онегиным».
А «Евгений Онегин» пародиен насквозь.
Пародийны рифмы. Выбираю для заграницы примеры попроще:
И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей… (Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей!)Пародийны сравнения:
Благословенное вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тотчас принесено. Оно сверкает Ипокреной; Оно своей игрой и пеной (Подобием того-сего) Меня пленяло…Пародиен сюжет и типы…
…
Статью свою бросаю, как камень в воду.
Берлин, 1 сентября 1922 года.ШЕКСПИР НА ПОДМОСТКАХ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАЛА
Постановка Сергеем Радловым комедии Шекспира «Виндзорские проказницы» в театре Народной комедии[284] производит впечатление чего-то безусловно правильно сделанного, чего-то бесспорного.
Режиссер здесь не сидит верхом на рампе, маша ногами и выкидывая новые коленца, а создает сценическое воплощение для выражения форм произведения, рифмует сцену с пьесой.
По существу, в постановке много нового.
Введена верхняя сцена с одновременным действием на ней, часть действия проходит на просцениуме, но все эти новшества органически вытекают из «игры», так что она без них непредставима.
Спорны, может быть, слуги просцениума с однообразными сальто-мортале в воздухе, выносящие столы и стулья в сценах «трактира». Зато совершенно органично цирковое действие в сценах поисков Форда. Когда слуги спрыгивают с верхней сцены.
Очень хороши костюмы, эффект которых усилен отсутствием декораций, в особенности костюм пастора, переодетого чертом, в сцене пуганья Фальстафа, — слишком хорош, неожиданно выдвигая на первый план второстепенное лицо.
Играли хорошо. Цирковые актеры сыгрались с драматическими.
Хороша была Сводня — Гриневич, слуга Фальстафа — Дельвари, мистер Педж — Нефедов. Хорош мелодраматически тип Форда — Чернявского и мистрисс Форд — Басаргиной. Хорошо двигался Анненков в роли доктора.
Фальстаф — Гибшман был спорен. Играл Гибшман, конечно, хорошо, но не знаю, по его ли вине, или причина лежала глубже, изменилась основная струя пьесы. Добродушный хорошо сыгранный смех Фальстафа при похищении Анны Педж во время пуганья снял ударение сюжета пьесы с его осмеяния. Ударение перешло дальше на то, что супруга Педж сама устроила похищение своей дочери. Фальстаф же оказался покровителем влюбленных.
Для шекспировской же сцены «похищенье» было так же привычно, как так называемая «тема» (сцена из священной Истории) в картинах Возрождения; на этих темах внимание не останавливалось.
Не переданы были и не передаваемые словесные игры Шекспира, которые и составляют душу его диалога. Исключение представляли эротические каламбуры о люках.
И несмотря на правильность постановки, на веселую и умную игру костюмов худ<ожника> Ходасевич[285], — об этих костюмах нужно было бы писать отдельно — пьеса игралась, но не играла.
Не было стремительности самого по себе развертывающегося действия.
Шекспир в Железном зале был поставлен бесконечно правильней и талантливей, чем похороны Шекспира в иных театрах под балдахином с перьями.
Но стоит ли здесь ставить Шекспира.
«ТЕАТР НА МОЙКЕ, 61»
«Героический театр», «социалистический театр» и вдруг «яркий театр» находятся рядом в статье Луначарского о современном театре, в московском журнале «Культура театра».
В этой классификации отсутствует принцип единого основания, все равно, как если бы мы сказали, что люди делятся на буржуев, пролетариев и «интересных брюнетов».
Каковы же причины такой классификации? Каково то «бытие», которое определяет здесь «ошибки сознания».
Ведь сознание всегда только подыскивает формулировку для поступков, подсказанных бытием.
Об этом писал Лев Толстой в своих романах (см. «решение» Пьера Безухова). У Диккенса это сформулировано еще проще: — «Ехать так ехать», — как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост[286].
Куда же нас тащит кошка?
Сейчас нужен театр служебный. И конечно, законы и цели этого служебного театра свои собственные, и когда его хотят поставить в ряд других театров, то получается ошибка Луначарского.
Задача этого служебного театра — упростить и свести в легко запоминаемую схему вопросы сегодняшнего дня, вопросы очень сложные. Задачей этого театра является не столько пропаганда, так как пропаганда плохо входит в условия театральной техники, сколько сопоставление фактов, расширение масштабов событий сегодняшнего дня, знакомых зрителю, до их истоков и истинного масштаба.
Нужно научить людей видеть лес за деревьями.
Служебный театр будет плохим театром, пока он будет стараться наметить себя где-то между «академическим» и «ярким». Он должен отойти в сторону и сам создать свои законы. Мне кажется, что такие законы уже намечаются.
Служебный театр не должен быть ни театром личного переживания, ни театром интриги. Отдельные действия его пьес должны быть связаны друг с другом или идейной симметрией построения, или связью вещей.
Например. Мы можем построить «драму» на «пушках Коммуны»: как они были спасены народом от пруссаков, как они защищали народ от версальцев и как версальцы отобрали их.
Мы можем построить «драму» на основе «маховика завода»: как он работал при капитализме, как война и революция остановили его, как он стоит и сколько труда стоит снова пустить его.
Это будет связь на «вещь».
Такой прием уже применялся в сюжетосложении пьес, но не в служебной роли («платок» Дездемоны, «ключ» в испанской драме).
Судьба же отдельного человека, пусть даже героя, не должна вноситься в служебный театр; мы и так слишком много думаем о своей судьбе.
Театр же театральный, — чистое искусство — должно быть освобождено от служебной и даже просветительной миссии. «В стихах главное стихи» — говорил Пушкин.
Отделим же воду от земли и не будем вместе с Мейерхольдом уверять, что Гамлет убивает короля Клавдия, как революционер. Не будем уверять также, что он убивает его, как принц узурпатора. Он убивает его, как один театральный персонаж убивает другого.
Не будем же убивать театра. Честно и искренно построим служебный театр.
Подобный театр существует уже два месяца при Политуправлении ПВО. Мне нравится в нем то, что [он] не хочет быть ни ярким, ни академическим.
Подписываюсь не псевдонимом:
Виктор Корди
«ГОНДЛА»
7 января Государственным театром «Театральная мастерская» была поставлена драматическая поэма в 4-х действиях Н. С. Гумилева «Гондла»[287].
Об этой постановке год тому назад писал Ю. Анненков из Ростова, сейчас мы видим театр в гостях у себя в Петербурге.
Не повезло слову в театре в последние годы.
Камерный театр как будто бы гордится тем, что он победил текст пьес, театр Сергея Радлова «Народная комедия» был объявлен как театр движения, тут не то что стиху, а и разговору места не было.
И в камерном театре, и в Народной комедии слово осталось как опора для интонации.
Александринский театр соблюдал традиции, и как собственно он относился к слову и к движению, было непонятно.
Одно слово «академический».
Потом ударила «новая экономическая политика».
Театры поняли ее как крик «спасайся, кто может».
И начали спасаться.
Запестрело в глазах от афиш, и растерянно заметались театры, ища, где чем бы понравиться.
Много еще уцелевшего, много еще не выросшего погибнет в театре за то время.
Сейчас ставят «Поруганного»[288].
Спасайся, кто может!
Приятно было видеть на Владимирской театр, который играет, а не спасается. Играет для пьесы, для стихов.
Театральная мастерская — театр слова. Здесь умеют читать стихи, или хотят уметь.
«Гондла» вещь не драматическая, это именно поэма, лирическая поэма.
Самые места действий не мотивированы, не мотивированы входы и выходы действующих лиц.
Актерам нечего играть, поза может быть одна: поза произнесения.
Но на сцене звучали стихи, стихи жили на сцене.
Со своеобразной задачей постановки «Гондлы» Мастерская справилась. Труднее всего было, когда прерывался текст и по ремарке автора шло действие, не сопровождаемое словами, как, например, в конце пьесы, когда вождь ирландцев крестит исландских волков.
Как только на сцене воцарялось молчание, пьеса как бы прерывалась. Самый жест, там, где он был, казался странным и плохо сделанным.
Может быть, впечатлению мешало то, что пьеса шла с двумя заменами.
Исполнитель роли Гондлы не нуждается в оговорках, его позы произнесения удавались, стихи звучали прекрасно, а образ Гондлы Королевича по праву поэзии весь в стихе.
Наивна и трогательна гордость поэта Лебедя, заклинающего жизнь стихами. К концу вечера спектакль как-то спадал. Самые стихи звучали не так, как прежде. Я думаю, что это объясняется, кроме случайных причин, и малым мастерством исполнителей.
Декорации кажутся случайными, в виде архитектурной декорации (колонна) среди рисованных [выглядят] не убедительно.
Громадной заслугой театра является постановка пьесы современного автора.
Мы не избалованы в этом отношении.
НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ
Мы помещаем в этом номере два снимка: снимок великой русской танцовщицы Павловой и воспроизведение рисунка Юрия Анненкова, сделанного им недавно с Айседоры Дункан, приехавшей в Москву[289].
Айседора Дункан дорога нам как наша первая любовь, как увлечение нашей юности.
Приезд Дункан как приход океанского парохода в петербургский порт.
Нет, иначе.
В московском шуме имя Дункан как новая нота шума мирового, и шумная Москва рада Дункан.
Русский классический балет был долго не оценен в России.
Нужна была смелость Акима Волынского, чтобы говорить о нем с тем пафосом, с которым до того говорили о Бетховене, о Достоевском, о Леонардо.
Русский классический балет — условен.
Его танцы не танцы, изображающие какое-нибудь настроение, не танцы, иллюстрирующие что-нибудь, классический танец не эмоционален.
Этим объясняется убожество и нелепость старых балетных либретто.
Они были едва нужны. Определенные классические па и смена их существовали по внутренним законам искусства.
Классический балет условен как музыка, тело танцовщика не столько определяет строение па, сколько служит самоодой из прекраснейших условностей.
Эпоха Фокина была порой победоносного падения классического балета.
Классический танец приблизился к танцу характерному.
Новые ловко сложенные либретто и психологическая мотивировка движения двинули балет в сторону пантомимы.
Это был такой же упадок, как если бы музыка ушла в сторону звукоподражания.
И как часто бывает, эпоха падения была в то же время эпохой популяризации.
Русский балет распространился по всей земле.
Гениальные мастера, как Павлова, как Пушкин, всегда стоят в конце эпохи, а не в ее начале.
Гений — плохое предзнаменование для потомков.
Танцы Дункан при всей их талантливости, при всей их убедительности бесконечно ниже, бесконечно ýже того искусства, которое мы знали в классическом балете.
Эти танцы понятны, а великое искусство только созерцаемо. Красота движения человеческого тела, которое проявлялось прежде в танцах Дункан и, может быть, проявляется еще и теперь, тоже ниже красоты композиции классического балета.
Здесь та же разница, как в литературе между рассказом или стихотворением с художественно построенной композицией и рассказом просто занимательным.
«Натуральность» танца Дункан, их «искренность» не есть достоинство.
«Искренность хороша на базаре», — сказал Крученых и сказал хорошо.
В искусстве нужна сделанность.
Классический балет — искусство бесконечно более передовое, чем дунканизм.
Мы приветствуем из Петербурга приход корабля большого плавания — Айседору Дункан, но мы приветствуем ее с высокого берега.
ТОСКА ОСТРОВИТЯН
На первых строках моей статьи благодарю Бога за то, что он не сотворил меня почтенным.
В 1922 году носят юбки по щиколотку, пояса из мишуры, жилеты из парчи.
В 1912 году по улицам уже ходили трамваи.
В 1912 году влезать на подножку трамвая в узком платье было неудобно.
В 1913–1914 годах женщины носили шляпы с высокими эгретами.
В 1913–1914 годах женщины, носящие шляпы с высокими эгретами, ездили на автомобилях.
Ездить на автомобилях в шляпе с высоким эгретом было неудобно, так как перья упирались в крышу автомобиля, как листья пальмы о стекла оранжереи в рассказе Гаршина[290].
Дамы, ездящие на трамваях, были дамы сравнительно бедные.
Им было неудобно влезать в трамвай в узкой юбке, но приходилось применяться.
Мода же сама применяется, [а] переменяться не хотела.
Дамы, ездящие в автомобилях, были богаты, и вот явился особый тип автомобильного кузова с крышей, приподнятой сзади, эта надстройка была сделана для того, чтобы не ломались эгреты.
Вывод:
Мода может не соответствовать техническим условиям момента, может быть неудобна и все же удержаться, приспосабливая жизнь к себе, а не приспосабливаясь к жизни.
Второй вывод:
История изменения костюма (мод) не связана непосредственно с изменением быта.
История карикатуры показывает нам, что мода все время находилась в противоречии с требованием практической жизни.
Мода — один из примеров оторванности искусства от жизни.
Мы вбиты в жизнь, как железные гвозди в дерево.
Мы ввинчены в жизнь, как стальные винты в железо.
Но человек хочет шевелиться, он немеет в жизни, как нога в туго затянутом шнуровкой башмаке.
Человек создает искусство.
Искусство превращает ходьбу в телегу, и только медведь одет в свое платье — шкуру, человек в свое платье наряжен.
То, что мы назовем любовью, не есть просто влечение мужчины к женщине.
Мы любим, внося в любовь элементы искусства, ставим себе преграды, преодолеваем их.
В самом ходе романа есть свои моды.
Не одной необходимостью движется вперед жизнь человека, но и произволом.
История искусства — история произвола.
Увы, я живу в начале XX века во время, которое отнимает все время на то, чтобы жить.
Я принужден писать скачкáми.
В современных модах обращала на себя внимание их нормативность, т. е. то, что их кто-то предписывает.
Причем именно в модах достигнуто полное сосредоточение определяющей воли в одном центре.
Существует не только всемирный союз, но и всемирные фасоны дамских шляп.
Немец Шпенглер написал книгу о близком конце современной цивилизации.
Он говорит, что и наша культура погибнет, как погибла когда-то античная, что мы не избранники истории, что наш день не вечен.
«Падающий камень если бы мог думать, то думал бы, что он падает по собственной воле», — сказал один философ, отрицающий существование свободной воли у человека[291].
Я полагаю еще, что падающий камень если б мог думать, то думал бы, что он будет падать вечно.
Может быть, поэтому мне кажется, что день сегодняшней культуры вечен.
Еще никогда не имело человечество всемирного быта.
Украинский наркомпрос получает книги, напечатанные на украинском языке, из Мексики.
Массовая продажа бриллиантов в России ухудшает, может быть, положение какого-нибудь кафра в Южной Африке.
В области не быта, а в области произвола — искусства еще никогда не было так, как сейчас, когда Давид Бурлюк с картинами, как рассказал мне Иннокентий Жуков[292], приезжавший из Читы, когда Бурлюк с выставкой своих картин катает по Японии и хочет ехать в Полинезию.
Никогда еще русская танцовщица, как сегодня балерина Павлова, не делалась предметом толков и споров газет всего мира.
Никогда еще Европа не интересовалась негритянским искусством.
Человечество круто свернуто в один сверток.
И вот сейчас целый свет будет носить юбки по щиколотку и из обезьяньего меха отделку на платьях и пояса из мишуры.
Человеческое искусство, человеческие моды. Хороши они или нет, сейчас [они] всемирны. Человечество же в целом, может быть, уже переросло и обезьяний мех на отделку.
Одна моя знакомая живет на острове Мартинике.
Имя ее Эльза[293].
Она мне прислала открытку, что тоскует.
Есть такая тоска островитян.
Море кругом.
Чувствует человек, что кругом море. Даже когда моря не видит.
Тоскует человек, хотя и не видит края своей земли.
Тесно.
Так писала мне Эльза с острова Мартиника.
Напишу ей, что и я тоскую.
Тоской островитянина.
Кругла земля.
Не видал я никогда ее края, и нет у нее краев.
Кругла земля.
А я тоскую на земле, висящей летучим островом в мире — море.
Я тоскую тоской островитянина.
Человеческий дух и человеческая наука переросли землю.
Науке на земле физически тесно.
Для полной проверки принципа относительности, открытого Эйнштейном, нужны, быть может, земным академиям члены-корреспонденты на Марсе.
Тоской островитян тоскует наука земли.
Читал о попытках сношения с Марсом.
Жду писем.
КНИГИ В РОССИИ
Издательская деятельность в России восстановилась в последние ½ года или восемь месяцев. Правда, в период 1918–1921 годов выходили иногда отдельные книги, выпускали: «Алконост», «Колос», наш ОПОЯЗ (Общество изучения теории поэтического языка), но все это было делом удачи, случая.
По закону мы даже не имели права издавать, так как не имели права держать бумагу, издавать приходилось, подумывая об ответственности за скупку заведомо краденного или за укрывательство товара от реквизиции.
Иногда бывали отдельные удачи, например нам отпустил в долг 60 пудов бумаги Петербургский Госиздат, что дало возможность издать две книги, из них одна в 10 или 15 листов («Мелодика стиха» — Б. М. Эйхенбаума[294]).
Вообще же первоначально издавали книжки маленькие, как их называли, молитвенники, в 64 долю листа, по типу «Подорожника» Анны Ахматовой.
Такой тип издания пустил в ход «Петрополис». Причина, вызвавшая такое измельчание книги, простая: полное отсутствие бумаги, а особенно ее хороших сортов.
Молитвенники расплодились очень быстро и также скоро надоели.
Но своеобразные условия русского книгоиздательства привели к тому, что почти не выходит беллетристики, и не потому что ее нет, а потому что на нее нужно больше бумаги. Таким образом мы знаем, что в России есть спрос на стихи, как же пойдет беллетристика, сказать наверное нельзя.
Среди писателей же есть несомненная тяга к прозе: сейчас пишут прозу такие поэты, как Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Андрей Белый, Евгений Замятин, в Петербурге работают Серапионы, в Москве среди пролетарских писателей есть талантливые прозаики, как, например, Михаил Козырев[295], находящийся под влиянием А. Ремизова, и т. д. Но беллетристика при мне (до 15 марта сего года) почти не выходила.
Правда, зато много книг лежало в типографиях; в печати были: повесть Всеволода Иванова «Цветные вечера», книга его же «Ситцевый зверь». С 1918 года лежал в одном издательстве альманах «Север» с вещами Евгения Замятина, у «Алконоста» был набран альманах «Серапионовых братьев», книжка Михаила Зощенко «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», в наборе же видел, кажется, две книги Пильняка.
Характер книги, выходящей сейчас в Петербурге, изменился, издательства стараются издать большую книгу, молитвенники надоели.
Много книг выходит по философии, несмотря на то что на них есть специальная цензура. Книги выходят обычно в небольшом количестве экземпляров. Завод в 5000 экземпляров считается очень большим.
Нормально печатают 2000 экземпляров. Все это, конечно, не относится к книгам, сдаваемым в комиссариат народного просвещения, там практиковалось печатание книг в цифрах со многими нулями.
Ничтожный тираж современной русской книги в России объясняется узостью книжного рынка. Фактически книги идут только в Петербурге и в Москве.
Посылать книги в провинцию почти невозможно, так как теперь нельзя ждать даже месяца с расчетом за книгу, иначе падение рубля поглотит всю издательскую прибыль.
Главным книжным покупщиком для Петербурга является Москва, где петербургские книги дороже, чем на месте, от 50 до 100 проц<ентов>. В последнее время пробовали связаться с Украиной, устроив с ней обмен книг, но пока это еще не удалось.
Это очень жаль, так как там есть свои ценные издания, в настоящее время печатается, например, найденная книга Потебни о Тютчеве.
Попытка связаться с Витебском, Псковом, Вологдой, Архангельском не дала почти ничего, провинция оказалась слишком бедной, чтобы покупать книги.
Книги дорожают очень быстро, по мере того как приходится фактически оплачивать рабочих. Бывают случаи, что счет, предъявляемый типографии, в десять раз больше того, что ожидаешь. Берешь в руки счет, как открываешь карту. Не знаешь, что там окажется.
В настоящее время в России готовятся несколько книг типа роскошных изданий. Издательство «Петрополис» выпускает книгу с 70, кажется, иллюстрациями большого формата из 20 трехцветок, это монография о Юрии Анненкове, как портретисте.
Текст М. Кузмина, Е. Замятина и Бобышова[296]. Работой над этой книгой занята была 15-я государственная типография почти всю зиму. Печатание книг в России — тяжелая работа. Зимой в типографиях так холодно, что стынет типографская краска и оттиски получаются бледными.
Положение писателей несколько улучшилось после восстановления книгопечатания в России. Но улучшение это не верное и временное, как временно само усиление издательств. Уже видны концы последних запасов бумаги. Нет уверенности в том, что покупатель сможет и завтра приобрести книгу. Писатель же пока продал и съел все, что он написал за последние два-три года. Подписаны контракты зачастую очень тяжелые на много лет вперед.
Чем будет завтра жить писатель — я не знаю. Пока же с радостью могу установить, что в середине зимы один очень крупный русский поэт в первый раз за три года начал топить печи.
Союз писателей в Петербурге в последнее время был занят разработкой нормального договора между издателем и писателем. Договор был выработан, и предполагалось обсудить его совместно с союзом издателей. Главные основания договора следующие:
1. Действие договора начинается со дня подписания его, а не со дня издания книги.
2. В договоре должно быть указано количество экземпляров, которое имеет право издать издатель. Если издатель купил книгу, положим, с тиражом в пять тысяч экземпляров на пять лет, а книга разойдется раньше, то писатель свободен от договора.
Отказ издателя отпустить книги в магазин за наличный расчет считается признанием его, что издание разошлось.
Оплата авторского труда в России все еще очень низкая, можно надеяться, однако, что русские писатели, которые сейчас гораздо организованнее, чем когда либо, сумеют создать условия, когда гонорар перестанет быть наиболее податливой на сокращение частью сметы издания.
ЛИТЕРАТОРЫ И ЛИТЕРАТУРА В ПЕТЕРБУРГЕ
Я совершенно не собираюсь в этой статье дать общую картину литературной жизни и жизни литературы в России.
Здесь будет сказано только то и только столько, сколько можно сказать в данном количестве газетных строк.
Начну с упреков. Мне приходилось еще в России, приходится и сейчас читать «рецензии» на русских писателей. Странное дело, мне кажется, что заграничная Русь перестала воспринимать литературу.
Почти все рецензии, прочитанные мною, пользуются теми обрывками литературных произведений, которые переползают через границу, как иллюстрацией к советскому быту.
Читая повесть Пильняка, перепечатанную из журнала «Дом искусств» в «Воле России», я ищу рядом список цен на продукты в Петербурге… «масло 1 000 000» и т. д.
Блок и Белый в зарубежной России — это вопрос об отношении к революции. Все это понятно, но неверно: даже больной человек не должен думать все время о своей болезни. В России такие рецензии выводятся и там относятся к произведению литературы, как к факту искусства, а не как к иллюстрации.
Ведь вообще беллетристику пишут не для того, чтобы написать, что вот жить плохо.
Три года нельзя было ничего печатать в России, печатались, кажется, одни только драмы Луначарского, но писать писали и невозможность печататься, отсутствие срочной работы у всех, кто не умер, на это время создавала привычку отделывать вещи, быть строже к их построению.
Когда же появилась возможность печатать, возможность очень малая, так как издавать книги очень трудно, книга иногда лежит в типографии по 8 месяцев, а если ее не толкать, то может лежать и год, так вот, когда появилась возможность печататься, то сразу появился целый ряд новых писателей.
Я для начала буду писать про Петербургские новости, — про Москву напишу потом, благо москвичи сейчас сами в Москве в достаточном количестве, и так я их уважаю за их уменье существовать во что бы то ни стало (кроме того, они талантливые люди) и я верю, что они пока что сами о себе напишут.
Разрешите для того, чтобы ввести вас в литературный быт, начать с описания петербургских «Дома литераторов» и «Дома искусств».
Прежде всего должен сказать, что оба эти дома состоят при комиссариате народного просвещения, который, впрочем, сейчас им средств не дает.
В России к этому относятся спокойней, чем за границей, хотя идеология обоих домов не большевистская.
Видите ли, мы стараемся жить мимо большевиков.
Я оттого начал «с домов», что в Петербурге писатели живут группами и не только в смысле обедов и помещения, сколько в смысле связанности в общей работе. Это относится главным образом к молодежи. «Дом литераторов» — организация главным образом журналистов, здесь живут интересами публицистическими, здесь и устраивали раз диспут о «Смене вех», на который однако писатели, кроме председателя и членов комитета «Дома литераторов», которые пришли по должности, не явились. Говорили только сотрудники «Нового пути» и также незначительные журналисты, фамилии которых я не привожу, потому что невежливо приводить фамилию как образец ничтожества. «Дом литераторов» сыграл однако свою роль и для всех писателей: в 1918–1919 годах в его комнатах было достаточно тепло, чтобы не замерзнуть, и можно было достать форшмак из селедки. Я думаю, что «Дом литераторов» спас много жизней.
В него привозили и детей и оставляли их на целый день, а в углу сидели и иногда спали сидя измученные люди, а на стенах висели каждый день новые фамилии умерших. Жили мы ужасно, я знаю писателя с большим, очень большим именем, который не топил своей квартиры с 1918 года по 1 января 1922 года. Спал в пальто и в перчатках. Но я сам начал писать о быте. Кончу.
«Дом литераторов» сберег несколько писателей, но литературной жизни в нем не было.
«Дом искусства» — учреждение другого типа. Вначале в нем был неприятный привкус литературного и художественного аристократизма. Я помню, как меня поразили на его столах белые скатерти и салфетки и то, что почти все были хорошо одеты.
Но более всего «Дом искусств» замечателен тем, что его все время закрывают, под всеми предлогами и без предлогов, он и сам не умеет собою управлять и дров у него теперь нет и он не нарядный больше.
Но в нем есть жизнь. В нем в длинных коридорах водится литературная молодежь. Здесь из учеников студии создались «Серапионовы братья» — это компания беллетристов, а внизу за кухней, в конце коридора, рядом с комнатой Пяста, живут «Островитяне», компания поэтов во главе с чрезвычайно талантливым Николаем Тихоновым, как хотелось бы мне сейчас вставить в статью его стихи, но я не взял их с собой.
Помню, уже разрешили вино, в оном помещении в Петербурге сильно пили, все бегали и занимали друг у друга деньги, в углу пили какие-то знатные иностранные спекулянты, дамы были в сильно открытых платьях. В воздухе пахло скандалом, какой-то чекист приставал к публике и не знали, как ликвидировать скандал.
На столе танцевал чечетку один приезжий из Москвы иммажинист.
Для тихого Петербурга, в котором зимой не на всех улицах есть колеи по снегу, а летом по Манежному переулку пасут лошадей на траве, — все это было внове и не очень приятно.
Мы уговорили Тихонова читать. Начал читать, и стихи перегнули весь этот хаос.
Было очень хорошо.
Откочевала из «Дома искусств» группа покойного Гумилева, создавшаяся из его студии «Звучащая раковина», это очень большое общество поэтов человек в 30–50. Они являются продолжателями линии Гумилева, хорошо владеют формой, но что они дадут — я не знаю.
Отдельной группой существует «Кольцо поэтов» имени Фофанова, с ними я был знаком мало.
В «Доме искусств» жило и «Общество изучения теории поэтического языка», по-здешнему ОПОЯЗ. Последнее время оно собиралось мало, а старалось издаваться во что бы то ни стало.
Общество это — «формалисты», представители формального или, как здесь говорят, морфологического метода. Председателем общества был я. Мы занимались вопросами формы искусства, считая, что оно может быть исчерпано анализом формы до конца.
Идейную сторону литературы мы рассматривали как один из материалов для создания форм. Одним словом, в газете не объяснить. Когда я убегал, мы только что издали книгу «Мелодика стиха» Б. М. Эйхенбаума; готовили книгу Ю. Тынянова «Семантика стиха» и книгу «Динамика стиха»[297]. Не знаю, как работают там сейчас.
Все эти общества создавались при страшных условиях. Я знаю заседания, во время которых приходилось сидеть на спинках стульев, так как полкомнаты было залито водой. Заслугой «Дома искусств» было [то], что он дал им возможность провести несколько часов в человеческих условиях, а для многих и дал школу, показал, какие требования можно ставить литературе.
В деле создания школы прозаиков много сделал Евгений Замятин.
Но обо всем я напишу подробней следующий раз, когда у меня будет больше места, так как я кончил с бытом.
СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ
Родились в Доме искусств в 1921 году.
Всего их двенадцать, из них одна женщина: Елизавета Полонская.
Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, Лев Лунц, Вениамин Зильбер[298], Николай Никитин, Константин Федин, Николай Радищев[299], Владимир Познер, Илья Груздев.
Я был бы тринадцатым.
Но я не беллетрист (смотри книгу «Революция и фронт»)!
Из двенадцати серапионов поэтов трое: Полонская, Николай Радищев, Владимир Познер.
Буду писать о беллетристах.
Писателям обыкновенно не везет на критические статьи.
Пишут о них обыкновенно после их смерти.
Нет статей о Хлебникове, о Маяковском, о Михаиле Кузмине, Осипе Мандельштаме, о Пастернаке.
Перед ними виноват и я.
Пожалуй, лучше было бы писать о живых, а не о «Дон Кихоте» и Стерне.
Пишу о серапионах.
Книг беллетристических сейчас не выходит: дорог набор.
У Андерсена есть сказка об уличном фонаре, который каждый день наливали ворванью и зажигали.
Дело было в Копенгагене.
Потом ввели газовые фонари.
Духи в последний день службы старого фонаря подарили ему…
Их было два…
Первый дух сказал: «Если в тебе зажгут восковую свечу, то на твоих стеклах можно будет видеть все страны и все миры».
Другой дух сказал: «Когда тебе все опротивеет, то пожелай — и ты рассыпешься в прах, это мой дар».
Это была возможность самоубийства — вещь среди фонарей, действительно, редкая.
Фонарь достался старому фонарщику, тот по субботам чистил его, наливал ворванью и зажигал.
Но, конечно, он не зажигал в фонаре восковые свечи.
Первый дар был потерян.
Андерсен сообщает, что фонарь думал о самоубийстве.
Но будем веселы.
В конце концов напечатают и беллетристику.
Бумагу обещали дать, ищем денег. Кто даст денег в долг двенадцати молодым и очень талантливым литераторам на напечатание книги? Ответ прошу направить в Дом искусств, Мойка, 59. (Нужны 7 000 000, можно частями.)
А люди очень талантливые.
Видели ли вы, как перед поднятым стеною пролетом Дворцового моста скапливаются люди?
Потом пролет опускается, и мост на секунду наполняется толпой идущих людей.
Так невозможность печататься собрала воедино Серапионовых братьев.
Но, конечно, не одна невозможность, но и другое — культура письма.
Старая русская литература была бессюжетна: писатели-бытовики брали тем, что Лев Толстой называл «подробностями»[300], действия же в русской беллетристике, «события» было всегда мало.
Если сравнить русский роман с английским и даже французским, то он покажется рядом с ним композиционно бедным, новеллистическим.
Старую линию русской литературы продолжает и Борис Пильняк, писатель очень талантливый, но какой-то отрывочный, у него нет рассказов, нет романов, а есть куски.
Серапионы очень не похожи друг на друга, но и «Рассказы Синебрюхова» Михаила Зощенко, и «Синий зверюшка» Всеволода Иванова, и «Тринадцатая ошибка» Михаила Слонимского, драма Льва Лунца «Вне закона», и «Хроника города Лейпцига» Вен. Зильбера, и «Песьи души» Федина, и «Свияжские рассказы» Николая Никитина — занятны, интересны.
На ущербе психология, нет анализа, герои не говорят друг другу речей, у многих даже умышленно пропущены мотивировки действия, потому что на фоне перегруженной мотивировками русской литературы особенно ярко действие, идущее непосредственно после действия, — действия, связанные друг с другом только движением рассказа.
Любопытна традиция серапионов.
С одной стороны, они идут от сегодняшней «старшей» линии: от Лескова через Ремизова и от Андрея Белого через Евгения Замятина, таким образом, мы встречаем у них «сказ» — речь, сдвинутую с обычной семантики, использование «народной этимологии» как художественного средства, широко развернутые сравнения, но вместе с тем в них переплетается другая струя — авантюрный роман, похождения, пришедшие в Россию или непосредственно с Запада или воспринятые через «младшую линию» русской литературы, — и здесь мне приходят в голову рассказы Александра Грина.
Третьей линией в серапионах я считаю оживающее русское стернианство.
Изд<ательство> «Алконост» имеет в портфеле сборник рассказов серапионов; я надеюсь, что жизнь сборника в этом портфеле не будет долговечна.
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН
(«Герберт Уэллс». Издательство «Эпоха», Петербург, 1922, стр. 48)
Книжка Евг. Замятина — первая работа на русском языке о знаменитом английском романисте. Евг. Замятин считает, что фантастические романы Уэллса явились порождением страны, где «почва — асфальт» и на этой почве густые дебри — только фабричных труб, и стадо зверей только одной породы — автомобили, и никакого другого весеннего благоухания, кроме бензина.
И как в лесу рождаются сказки про лесовиков, так в Лондоне должны были родиться сказки о машинах.
«Такие городские сказки есть: они рассказаны Гербертом Уэллсом. Это — его фантастические романы».
Замятин считает, что отличительная черта фантастики у Уэллса — это правдоподобность невероятного.
Уэллс заманивает своего читателя в фантастику, заставляет его всерьез верить ей.
В фантастике Уэллса, по словам Замятина, очень часто есть не что иное, как предвидение будущего.
Уэллс в 1893 году уже писал о боях аэропланов. В 1898 году описывал, как марсиане уничтожают земные войска газовой атакой.
Одновременно мы видим другую сторону в творчестве Уэллса: Уэллс автор 13 реалистических романов, написанных в духе школы Диккенса, в них Уэллс является пред нами в образе своеобразного английского социалиста и английского же богоискателя.
«Можно признавать, — пишет Уэллс в 1902 году, — или что вселенная едина и сохраняет известный порядок в силу какого-то особого, присущего ей качества, или же можно считать ее случайным агрегатом, не связанным никаким внутренним единством».
Вся наука и большинство современных религиозных систем исходят из первой предпосылки, а признавать эту предпосылку для всякого, кто не настолько труслив, чтобы прятаться за софизмы, признавать эту предпосылку и значит верить в Бога. «Вера в Бога означает оправдание своего бытия».
Книга Евг. Замятина об Уэллсе ценна нам не только тем, что она впервые знакомит русского читателя с простой, но чуждой нам фигурой английского романиста. Интерес Замятина к Уэллсу характерен также как показатель тяги крупного русского писателя школы Ремизова и отчасти Андрея Белого к другой стихии литературы, к литературе латинской, к роману приключений. Русская литература только в 19 веке и то лишь отчасти вошла в поле зрения культурного мира.
Вещи Пушкина и Гоголя не вошли и, вероятно, не войдут в сравнительно тесный круг всему миру известных произведений. Успех Толстого — успех идеи религиозной, успех Горького — успех идеи социальной и успех биографии, успех Достоевского — двояк, часть людей приняли его философские идеи, часть поняла его как «уголовный роман».
Русская литература не создала своего ни «Робинзона Крузо», ни «Гулливера», ни «Дон Кихота». Русская литература работала над словом, над языком и бесконечно меньше, чем литература европейская и, в частности, английская обращала внимание на фабулу.
Тургенев, Гончаров — писатели почти без фабулы.
Трудно придумать что-нибудь беспомощней по сюжету, чем «Рудин». Школа Стерна не отразилась в России почти ни на ком, если не считать не понятого современной выходу книги критики и не понятого критикой современной нам мало исследованного романа Пушкина «Евгений Онегин» и, может быть, на Лескове, в его вещи «Смех и горе», в которой, как и в «Онегине», не только использованы приемы Стерна, но и названо его имя.
Мы презираем Александра Дюма, в Англии его считают классиком. Мы считаем Стивенсона писателем для детей, и между тем это действительно классик, создавший новые типы романа и оставивший даже теоретическую работу о сюжете и стиле.
Молодая русская литература в настоящее время явно идет в сторону разработки фабулы. С этой точки зрения всякая работа, освещающая нам английскую литературу с этой стороны, нам чрезвычайно дорога.
Сам Замятин чувствует это, когда (на стр. 22) сравнивает русскую литературу с английской.
Более спорен взгляд Евг. Замятина на фантастический роман Уэллса как непосредственное порождение техники сегодняшнего дня.
Сам же Замятин в последней части своей книжки «Генеалогическое дерево Уэллса» называет предков Уэллса, Свифта, Гольберга, Сирано де Бержерака, и эти предки создали тип романа до наступления века техники.
«Наука», «техника» — это только новый способ создания и разрешения сюжета.
Кроме того, ирония романов Уэллса не в описаниях чудес техники, а в сопоставлении техники и человека.
У Уэллса шофер слабее своей машины.
Евг. Замятин не сумел подойти к романам Уэллса со стороны их основной техники — художественной. Если бы он это сделал, образ Уэллса был бы перед нами более конкретным.
Сейчас же изображение быта затолкало изображение художника.
ФЕДОР СОЛОГУБ
(«Заклинательница змей». Роман. Издательство «Эпоха», Петербург, 1922)
Если перечислять направления, существующие в современной русской литературе, то нужно будет прибавить к немногому числу их еще одно направление «Федор Сологуб». Писать об этом человеке-направлении очень трудно, потому что не с кем сравнивать и нечем мерить.
Он возник во время символизма, но умер символизм, умерли его формы, а в мире Федора Сологуба идет своя жизнь этих форм.
Может быть, эти формы родились для того, чтобы жить в мире Сологуба.
Федор Сологуб был признан и утвержден со времени «Мелкого беса», но и «Мелкий бес» не понят и не принят целиком.
В «Мелком бесе» приняли Передонова, потому что признали в нем обличительный тип.
Не принят он, потому что не понята осталась другая часть романа, история Саши, и с нею весь пафос романа.
Так не приняли и не поняли до сих пор пафоса Гоголя и если бы смели, то печатали бы мелким шрифтом «грозные вьюги» гоголевского вдохновения. А пафос Гоголя — это все, что осталось от «неистовой школы», а может быть, и от всего романтизма.
Пафос Сологуба, прославительная часть его романов, — это все, что осталось от того, что называлось декадентством.
«Заклинательница змей» — странный роман. Действие романа, очевидно, происходит в 1913 году, место действия — приволжский город, действующие лица — рабочие, с одной стороны, и фабрикант и его семья, с другой.
Содержание романа — классовая борьба.
Время написания 1915–1921 годы.
И как непохоже.
Как нарочно непохоже.
В «Заклинательнице змей» нет никакой фантастики, нет ни чар, ни бреда.
Но роман фантастический.
Фабрикант влюбляется в работницу своей фабрики Веру.
Вера требует у него отдать фабрику рабочим.
Вера заклинает фабриканта и сама зачарована им, как фарфоровая заклинательница змей, подаренная ей ее другом христианином Разиным, благословившим ее на невозможный подвиг, сама зачарована зачарованной змеей.
Фабрикант отдает Вере завод, но не требует от нее за это ничего и отпускает ее к жениху.
Жених-рабочий в ревности убивает Веру.
Все это вложено в традиционные рамки романа, с ревностью, шантажом, подслушиванием, и все это фантастично.
Роман, как аэроплан, отделяется от земли и превращается в утопию.
Конечно, Федор Сологуб и не хотел написать бытовой роман, он хотел скорей из элементов жизни, жгучих и тяжелых, создать сказку.
АННА АХМАТОВА
(ANNO DOMINI MCXXI. Книгоиздательство «Петрополис». Петербург, 1922)
Внешность книги очень хороша. Чрезвычайно удачна наборная обложка.
Книга обозначена датой написания, взятой как название.
Быть может, поэт хотел подчеркнуть этим какую-то лирическую летописность своих стихов.
Это как будто отрывки из дневника. Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи.
Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну.
Нельзя разлучать этих стихов.
В искусстве рассказывает человек про себя, и страшно это не потому, что страшен человек, а страшно открытие человека.
Так было всегда и «в беззаконии зачат» псалмов — страшное признание.
Нет стыда у искусства.
Один критик написал: «Ахматова и Маяковский»[301].
Если простить и забыть эту фельетонную статью, то можно показать на то, что действительно соединяет этих поэтов.
Они конкретны.
Маяковский вставляет в свои стихи адрес своего дома, номер квартиры, в которой живет любимая, адрес своей дачи, имя сестры.
Жажда конкретности, борьба за существование вещей, за вещи с «маленькой буквы», за вещи, а не понятия, это пафос сегодняшнего дня поэзии[302].
Почему же поэты могут не стыдиться. Потому что их дневник, их исповеди превращены в стихи, а не зарифмованы. Конкретность — вещь, стала частью художественной композиции.
Человеческая судьба стала художественным приемом.
Приемом.
Да, приемом.
Это я сейчас перерезаю и перевязываю пуповину рожденного искусства.
И говорю:
«Ты живешь отдельно».
Прославим оторванность искусства от жизни, прославим смелость и мудрость поэтов, знающих, что жизнь, переходящая в стихи, уже не жизнь.
Она входит туда по другому отбору.
Так крест распятия был уже не деревом.
«Свобода, Санчо Панса», — сказал Дон Кихот, выезжая из двора дворца герцога.
Свобода поэзии, отличность понятий, входящих в нее, от тех же понятий до перетворения — вот разгадка лирики.
Вот почему прекрасна прекрасная книга Анны Ахматовой и позорна была и будет работа критиков всех времен и народов, разламывающих и разнимающих стихи поэта на признания и свидетельства.
ГИПЕРТРОФИЯ СКЕПТИЦИЗМА
(К. Миклашевский. Гипертрофия искусства. Л.: Academia, 1924)
Книга Миклашевского написана фельетонным стилем и не хуже книги Эренбурга «А все-таки она вертится».
Сделано смело, написаны страшные слова, например «презерватив», и вывод дан невероятный: искусство не нужно.
Не понимаю только, почему Миклашевский ссылается на меня?
Он очень любит, правда, ссылаться на всех, даже на словарь Брокгауза. Но я тут ни при чем.
Работа К. Миклашевского вредна своею хлесткостью: это хлесткость без удара.
Но, из внимания к прежним заслугам человека, рассмотрим и эту книгу.
Опять начну оправдываться. Миклашевский согласен со мной, что искусство есть «остранение».
Бедное остранение, выкопал я яму, и падают в нее разные младенцы. Остранение — это выведение предмета из его обычного восприятия, разрушение его семантического ряда.
Это необходимо для искусства, но не достаточно.
Интересно поставить научный вопрос вверх ногами, но только для того, чтобы его лучше рассмотреть, а не для того, чтобы перестать его видеть.
Дальше идет следующее рассуждение Миклашевского:
1) «Искусства» сейчас больше, чем прежде.
2) «Искусство» сейчас слишком часто меняется.
3) Конструктивизм тоже искусство.
4) А лучше, чтобы его не было.
На это можно ответить:
1) Количество вещей все время увеличивается. Каждые пять лет на увеличение Берлина тратится больше материала, чем пошло когда-то на весь императорский Рим. Поэтому увеличилось и количество так называемых художественных вещей.
2) «Древнее» искусство менялось достаточно часто: за период одной человеческой жизни был Эсхил-Софокл-Еврипид. В устном эпосе в течение пятнадцати лет каждая былина изменяется. Представление о неподвижности народного эпоса неверно. Даже татуировка у «диких» изменяется довольно часто, то есть каждое поколение.
3) Конечно, конструктивизм — тоже искусство, но изменилась сфера применения искусства.
4) Миклашевский мыслит какими-то потопами и катастрофами — вот было искусство, а хорошо, чтобы его не было.
Из этого вышел бы фельетон.
Фельетон и так вышел, но представление о жизни, как о ряде вспыхивающих точек, неправильно. Все не очень страшно, бомба брошена, но нельзя бомбой взорвать такие явления, как климат, — и искусство продолжает существовать и изменяться.
Книжка основана на непроверенных фактах.
Сегодня самый дешевый товар: объявить Запад гнилым, мир погибшим и солнце остановившимся. Скептицизм сделался дешевым приемом. Скептические фразы можно выхлопывать вафельницей.
Книжка Миклашевского — гипертрофия скептицизма. Вчера автор ее был эстетом. Вероятно, завтра он станет романтиком.
ПИСЬМО О РОССИИ И В РОССИЮ
I
Сейчас Петербург — тихий университетский город. На пустом Невском стоят освещенные кафе, из окон слышен иногда голос, поющий цыганский романс. А на Невском сейчас хороший резонанс. Давно не дымят трубы — небо голубое. Пахнет морем. Правда, ходит омнибус, но только по праздникам. По улицам бродит старик с кларнетом и играет. Идешь у Морской и слышишь, как поет кларнет у Михайловской. Просторно как-то в Петербурге. В Москве не то. Москва — это Сухаревка, которая слопала и революцию, и Россию. Там можно услышать приглашение к почти незнакомому человеку: «Приходите сегодня к нам кокаин нюхать». Меня раз так пригласили. Как на чай. В Петербурге университет, и Академия, и профессура, и молодежь. На собраниях едят хлеб, а если очень богаты, то пьют какао. Все разбито вдребезги в России, и самое дешевое в ней сейчас разрушение. В русском государстве быть безнравственным очень легко.
Сейчас нужно писать поэмы о людях, которые работают крепко и спокойно, не халтурят, живут со своими женами, имеют детей. Если эти люди сумели сохранить в себе чувство, что дело в России не в реставрации, не в том, что есть «булки образца 1914 года»[303], то их нужно считать гениальными.
Работали в Петербурге все время, даже ужасный 1919 год. Из старых поэтов пишет сейчас Федор Сологуб, который неожиданно окреп в своих последних вещах. Слыхал его стихи на довольно нудном заседании в последнюю пушкинскую годовщину. Его стихи большие, крупные, с неожиданными поворотами.
Михайло Кузмин прожил мученически все полярные петербургские зимы. Печку затопил первый раз в 1922 году. До этого года к зиме разбивал градусник. Писал стихи, писал прозу. Оказался железным. В стихах сильно полевел. Обращает сейчас внимание главным образом на звуковую сторону стиха и на организацию в нем новой динамики.
Анна Ахматова одно время ничего не писала. Не потому, что колола снег. Это совместительство не было запрещено, а потому, что ей показалось легким писать так, как писала она прежде.
Сейчас пишет иначе. Книжку ее «Anno Domini» читать страшно. Обнаженная книжка. Если брать стихи целиком, то видишь, что судьба поэта для него формальный материал. Но эти стихи неразменны, их можно напечатать, но нельзя пересказать — получится диффамация. Анна Ахматова сейчас состоит в Правлении Союза писателей и ходит на заседания. Сидит за столом в шелковой шали, в шали, которая кажется цитатой из стихов Блока и Мандельштама.
Вообще у нас портреты ходят по улицам. Ждем прихода на какое-нибудь заседание местной литературной знаменитости — Медного всадника.
С Блоком же неблагополучно, только год умер, а его уже бронзируют. Читают его мимо стихов. Фразеология надвинута на творчество. Критики со славной традицией, происходящие от людей, сумевших обезвредить Пушкина и понять его как изобразителя «лишнего человека», конечно, сумеют обломать острие иронии Блока.
Из прозаиков старшего поколения работает Евгений Замятин. Я не поклонник его работы.
Техника Евгения Замятина состоит в том, что, дав предмету какое-нибудь уподобление, передав его образом, он потом не оставляет этот образ, а развертывает его шаг за шагом. Такие вещи Замятина, как «Мамай» и «Пещера», — простые развернутые сравнения. Этот прием сравнительно легко разгадываем и после разгадки не интересен. В вещах типа «Ловец человеков» Замятин в технике связан с Андреем Белым, хотя и крепче его в одном отношении: свою технику он понимает как технику, а не как мистику.
Большие вещи написал в Петербурге Андрей Белый.
Белый живет сейчас в Берлине, но без него не расскажешь про Петербург.
В Петербурге Белый — это Вольфила — Вольная философская ассоциация. Часто семь градусов мороза в полном людном зале.
Последние вещи Андрея Белого организованы довольно сложно. По построению их можно сравнить с романами-загадками типа Радклиф, Метьюрин, отчасти Диккенс и Достоевский.
Разверну подробнее. Каждое художественное произведение содержит в себе элемент торможения. Одним из приемов торможения является загадка. Возьмем, например, «Преступление и наказание» Достоевского. Там дело начинается с описания приготовления (петля для топора, замена цилиндра шапкой), цель приготовления неизвестна. Мотивировка же преступления (статья Раскольникова) дана еще позже, уже к концу романа. Таким образом, здесь мы имеем дело с сюжетной инверсией.
Андрей Белый употребляет иной способ торможения. Основной его прием — «рой» и «строй». «Строй» — это мир эмпирических фактов. «Рой» — это развертывание факта в длинный ступенчатый ряд, вроде разложения формы на кубистических картинах. Прием этот Белый развил особенно четко в «Котике Летаеве». Сперва дается «рой», ряд осколков, которые медленно высветляются в «строй». Происходит становление мира. Этот прием у Андрея Белого разнообразно мотивируется: в «Котике Летаеве», например, мотивировка дана бредом.
Андрей Белый останется в русской литературе, и после него писатели будут иначе строить свои вещи, чем до него. Антропософия Андрея Белого пройдет. Форма переживает мотивировку.
Перейду к молодым прозаикам. Это — известные уже по имени на Западе (русском) серапионы. Серапионы родились в Питере, в конце коридора Дома искусств, в комнате Михаила Слонимского. Первоначально хотели называться «Невский проспект». Слонимский — хороший мальчик лет 22, любящий лежать в кровати до четырех часов в дни, когда у него нет хлеба. Отличие серапионов от прочих литературных групп то, что на их собраниях не говорят ни о политике, ни о мистике, а только о мастерстве. Делятся они, по словам Евгения Замятина[304], на Восток — Всеволод Иванов, Зощенко Михаил, Николай Никитин, — эти работают над языком, принадлежат к традиции, начатой Далем и Вельтманом и продолженной Лесковым, и на Запад — это Каверин (Зильбер — не знаю, для чего ему понадобился псевдоним), Лев Лунц, Михаил Слонимский, Николай Тихонов (он же поэт) и два поэта: Владимир Познер и Елизавета Полонская. Западники тянут в сторону авантюрного романа. Романы они хотят писать и пишут без психологии, с игрой, с сюжетом.
Каверин — тот совсем математик, строит и вычисляет. Пишет странные вещи. Играют люди в карты, у них драма. А карты тоже играют. Очень ловко соединено.
Михаил Слонимский пишет вещи военные и скетчи, связано все это тем, что пишет он без «потому что».
Лев Лунц драматург, с традицией испанского театра. Написал несколько пьес. Одна из них — «Обезьяны идут» — ему надоела и не нравится, а мне очень.
Восток — Запад собираются вместе и работают. И друг на друга влияют.
Разговоры там особенные…
Упрекают за плохо сделанный рассказ как за преступление. Так раньше говорили только про стихи.
Когда Горнфельд написал, кажется в «Вестнике литературы», рецензию на книжку Всеволода Иванова «Партизаны»[305], где разбирал героев произведения как живых людей, то серапионы сильно веселились.
Впрочем, они тоже любят, когда их хвалят.
На некоторые бытовые темы у них [не] рекомендуется писать про мистических чекистов и сентиментальных убийц. Не потому, что не разрешит цензура, а потому, что это дурной реализм. Дешево стоит.
Политические убеждения у серапионов разные, но они из-за них не ссорятся.
У каждого из них скоро выйдет по книжке, и тогда можно будет написать подробно.
II
Нас упрекают пролетарские писатели, что мы про них не пишем.
Пролетарские писатели в Петербурге представлены слабо. И не потому, что они были бездарны.
Перехожу к личному разговору. Кажется, Илья Садофьев меня в чем-то упрекал в «Петербургской правде».
Илья Садофьев, Вы меня считаете белым, я считаю Вас красным. Но мы оба русские писатели. У нас у обоих не было бумаги для печатания книг. Это кажется, Вам кажется, что мы враги, на самом деле мы погибаем вместе.
Русская литература продолжается.
Революцией и нэпом разрушена Россия. Не дымит металлический завод, на котором Вы когда-то работали.
А Вы помните, как приняли у нас Нобеля?[306]
А русская литература и наука продолжаются. Мы оказались самыми крепкими.
Среди вас, пролетарских писателей, есть талантливые люди.
Но вы ошибаетесь, когда хотите создать пролетарское искусство.
Искусство не там, где идеология, а там, где мастерство.
Русская литература продолжается, и пока вы не будете работать вместе с нами, вы будете провинциалами.
Не будем упрекать друг друга.
Если я жил когда-нибудь лучше Вас, мы давно сравнялись.
Может быть, Вы ненавидите меня.
А я, через гору трупов, протягиваю Вам руку.
ОГЛУМ
Оглумом называется одна болезнь у лошадей. Во время ее лошадь, если поставит ногу за ногу, то так и стоит, потому что не догадывается переменить положение. Не ест, потому что не знает, что это нужно. Воду пить не умеет: слишком глубоко опускает голову в ведро, вода идет ей в ноздри. Одним словом, ведет себя нецелесообразно. Не знаю, можно ли с ней разговаривать. Но поговорим. 15 марта 1922 года перебежал я из России в Финляндию. Посадили меня в карантин. Не имел никаких бумаг. Очень нервничал, не знал, кто может установить мою личность. Вспомнил, что рядом, в Куокалла, живет Илья Репин. Я с ним был знаком. Послал письмо. Сообщил ему, что в России выходят его воспоминания. Репин ответил тот час же. Вот копия письма:
22 марта 1922 г.
О милый Виктор Борисович — конечно, я вас хорошо знаю и люблю. Но что это Вы упражняетесь в «новой» безграмотной орфографии!!!?
Что же Вы боитесь своего начальства?
Ну как же я могу поручиться, что Вы не большевик?
Да, Вы были похожи на Лермонтова…
Дальше идут комплименты.
Поручительство я достал из Англии, но все же сильно испугался.
Выйдя из карантина и живя на одной даче в Райволо, без права езды по железной дороге. Читал я тамошнюю газетку «Новая русская жизнь», теперь она уже закрылась. В составе редакции были некоторые петербургские профессора. Злобой дня было советское людоедство. «Новая русская жизнь» перепечатывает из советской газеты доклад какого-то члена волисполкома о том, как один отец, когда дочь его умерла, распорол ее живот от груди до половых органов и использовал внутренности как «жизненные припасы». Ужасное сообщение, которым, конечно, нельзя пользоваться в целях агитации. Иначе получится тоже людоедство.
Сообщение волисполкома написано обычным советским чиновничьим языком и безграмотно. «Новая русская жизнь» перепечатывает это сообщение со следующим примечанием: «Печатаем этот отрывок, сохраняя орфографию подлинника, но восстанавливая везде букву Ѣ».
Вы подумайте, на что люди обратили внимание! Я утверждаю, что газета, напечатавшая эти строки, больна была «оглумом» в тяжелой форме. Ее сумасшествие тяжелей сумасшествия того человека, который распорол живот своей мертвой дочери.
Он пил своими ноздрями не воду, а кровь и заметил в ней одно: «нет буквы ять». Этим белым ятем сильно пропахла Россия за рубежом.
Сейчас я занят унизительной работой, сдавая книги в издательства, должен исправлять новую орфографию на старую.
Делаю это, зная, что делать нельзя.
Но что мне делать, одинокому человеку?
Я обращаюсь к съезду преподавателей, который на днях соберется в Праге. «Товарищи (я сам преподаватель), граждане и современники. О бессмысленности старой орфографии вы знаете, ведь вы тоже ученики Бодуэна де Куртенэ, Щербы, вы знаете, что старая орфография не имеет даже исторических прав на существование. Но дело не в этом только. Старая орфография сделалась политическим вопросом, и это позорно. Нельзя строить свою жизнь, хотя бы и эмигрантскую, под оглумным знаменем борьбы за Ѣ. Лошадь, больную оглумом, убивают. А нам нельзя умереть — мы русская интеллигенция».
ПРОБНИКИ
Чаплин говорил, что наиболее комичен человек тогда, когда он в невероятном положении притворяется, что будто бы ничего не произошло.
Комичен, например, человек, который, вися вниз головой, пытается оправить свой галстук.
Есть твердые списки того, о чем можно и о чем нельзя писать.
В общем, все пишут, оправляя свой галстук.
Я напишу о пробниках, о них никто не писал, а они, может быть, обижаются.
Когда случают лошадей, это очень неприлично, но без этого лошадей бы не было, то часто кобыла нервничает, она переживает защитный рефлекс и не дается. Она даже может лягнуть жеребца.
Заводской жеребец не предназначен для любовных интриг, его путь должен быть усыпан розами, и только переутомление может прекратить его роман.
Тогда берут малорослого жеребца, душа у него, может быть, самая красивая, и подпускают к кобыле.
Они флиртуют друг с другом, но как только начинают сговариваться (не в прямом значении этого слова), как бедного жеребца тащат за шиворот прочь, а к самке подпускают производителя.
Первого жеребца зовут пробник.
Ремесло пробника тяжелое, и, говорят, они иногда даже кончают сумасшествием и самоубийством.
Не знаю, оправляет ли пробник на себе галстук.
Русская интеллигенция сыграла в русской истории роль пробников.
Такова судьба промежуточных групп.
Но и раньше вся русская литература была посвящена описаниям переживаний пробников.
Писатели тщательно рассказывали, каким именно образом их герои не получили того, к чему они стремились.
И оправляли галстук.
Увы, даже герои Льва Толстого, в «Казаках», «Войне и мире» и «Анне Карениной», любимые герои, — пробники.
Сейчас же русская эмиграция — это организации политических пробников, не имеющих классового самосознания.
А я устал.
Кроме того, у меня нет застарелой привычки к галстуку.
Торжественно слагаю с себя чин и звание русского интеллигента.
Я ни перед кем не ответствен и ничего не знаю, кроме нескольких приемов своего мастерства. Я ни к кому не иду на службу, но хочу присоединяться к толпе просто работающих людей, ремесло писателя не дает человеку бóльшего права на управление думами людей, чем ремесло сапожника. Долой пробников.
ГИБЕЛЬ «РУССКОЙ ЕВРОПЫ»
Недавно один фэкс сказал мне: «Из стариков я больше всех уважаю вас». ФЭКС, кажется, значит: «эксцентрический театр». «Ф» для меня неразгадываемо.
Не могу вспомнить фамилию человека, сказавшего мне это.
Кажется, Трахтенберг.
Помню, что товарищ его Кузнецов[307], а Кузнецова помню по его сестре — художнице, которая жена Эренбурга.
Эренбурга я просто помню.
Но все равно; принимаю посвящение в старики (я старею с каждым годом и не забываю закреплять это в литературе). Достоин — аксиос — как пели в церквах при посвящении.
Прошли «тридцать лет жизни игрока»[308], впереди «ослиные года» человека и старость, не обеспеченные академическим пайком.
Но что состарило меня?
Я думаю — Берлин.
Запад — дежурная тема русского писателя и фельетониста.
Запад — гнилой.
А все русские литераторы виноваты. Ведь это неправильно, что и Эренбург, и Николай Лебедев, которого никто не спрашивает, в предисловии к книжке о кино клянется, что он сам видел, как Запад сгнил на его глазах на углу Таунциен и Нюренбергштрассе.
То же подтверждает Никитин[309].
Ему все это англичане объяснили знаками.
У старого, милого, достойного (аксиос!) Жюля Верна описывается путешествие с Земли на Луну. Летят люди в ядре. Путешественники залетели в такую местность мирового пространства, где тяготение Земли и Луны почти уравновешивалось.
Выкинули они там бутылку, или дохлую собаку, или вчерашний номер газеты, и вот в этом лишенном тяготения пространстве летят эти вещи за ядром. Оно одно веско и притягивает в этом месте.
Скучно им было ужасно.
Выйдешь в Берлине на улицу, и вот уже летят навстречу и Альтман, и Немирович-Данченко, Даманская, Алексей Толстой и вся туманность русской эмиграции и полуэмиграции.
Шел раз по Берлину Айхенвальд.
Заблудился.
Берлин очень большой, поезд пересекает его три часа.
Заблудился Айхенвальд в Берлине и спросил прохожего на плохом немецком языке что-то про дорогу.
Прохожий ответил:
«Da vi ne tuda idete, Juli Isaevitsch».
Потому что он был москвич.
Откуда нам знать, гниет ли или не гниет Запад, когда мы видим друг друга. Видим еще несколько немецких и американских журналистов, двух чехов и одного полицейского чиновника, которому даем взятку сигарами.
Мы ездим по дорогам Европы, едим ее хлеб, но ее не знаем.
Только презираем на всякий случай.
Я Европу знаю еще меньше других, но молодость моя прошла — кончилась в Берлине.
Не знаю, умеет ли безымянный фэкс бегать за трамваем, вести скандал до конца и связывать вместе те слова, которые никто не связывал, или начинать по три раза в год жизнь сначала, а я умел.
Но Берлин смирил меня.
Я подымаю старую тему, за которую на меня уже сердятся.
Я знаю, что проживу всю жизнь с теми людьми, с которыми живу. Что мы стаей пролетим через безвоздушное пространство.
Я знаю, что то, что считаешь своей личной судьбой, на самом деле судьба твоей группы.
Намучаешься, набегаешься, прибежишь куда-нибудь в чужое место…
А там сидят одни знакомые и играют в покер.
— Здравствуйте, Виктор Борисович.
— Здравствуйте, Захарий Григорьевич[310].
И опять побежишь, и опять встретишь.
Поэтому нельзя сердить своих знакомых.
Но я все-таки настаиваю на «Пробниках». Написал я ту статью с горечью, но в общем порядке, никто мне ее не заказывал, и никто меня за нее не хвалил. Однако ее нужно было написать, чтобы лишить людей еще одной иллюзии.
Я уважаю всякое мастерство и всех владеющих мастерством, но интеллигенция — это не люди, имеющие определенные знания, а люди с определенной психологией.
Они не удались меньше, чем удалось дворянство. Сейчас сообщу вам, что привело меня к этой мысли.
В эмиграцию ушло около миллиона русских. Все они грамотны.
Но уровень читательской массы в заграницах ниже, чем в СССР.
За границей читали Лаппо-Данилевскую, Краснова, Дроздова, а Пушкина издавали так, как никто никогда не смел его издавать в России.
У меня личной обиды на эмигрантскую публику нет, мои книги шли хорошо, очень хорошо, но не те, которые я издавал в России.
Получается следующее: для научной книги есть читатель в России, есть читатель в Ленинграде и нет читателя в Берлине, хотя 300 или 400 тысяч берлинских русских и состоят из профессиональных читателей книг.
Каждый человек воспринимает мир с точки зрения своей профессии.
С точки зрения писателя — русской эмиграции нет.
Она не читает.
И это не от бедности, ведь нельзя быть беднее русского вузовца.
Утверждение, что в мире есть люди более нищие, чем русские студенты и рабфаковцы, есть беспочвенный идеализм.
Но русский студент в России работает, а вне дома — нет.
Мы убежали из России и думали унести с собой культуру.
Оказывается, что это так же невозможно, как увезти с собой солнечный свет в бутылке.
Эмиграция идейно не удалась.
Интеллигенция сама по себе не способна ни создавать, ни хранить культуру.
Конечно, мы жили за границей, и не так плохо.
Но хлеб, который я ел, был отравлен.
Он лишил меня самоуверенности.
Немецкая марка падала.
Всякое зарегистрированное издательство платило в типографию векселями, написанными в марках. Векселя учитывались частным банком и потом переучитывались государственным.
Наступал срок платежа.
Обычно к этому времени марка падала настолько, что приходилось платить десятую часть цены.
Бывали случаи, что издание целой толстой книги обходилось в четыре доллара.
Кто же платил на самом деле?
«Рабочие и беднейшие крестьяне», — сказал мне без улыбки один содержатель конторы. Платил рабочий, и страдал золотой фонд Германии.
Русское издательство в Берлине возникло как результат падения марки.
И хотя в Берлине было 36 русских издательств, все они вместе не выглядели величественно.
Это хорошо, что издавались книги, но эту работу не нужно переоценивать.
Русская наука, литература, театр за русским рубежом не живут.
Я ел отравленный хлеб изгнания.
Жил случаем и в конечном счете на немецкий счет, все это лишает человека самоуверенности.
Дорогой фэкс, я постарел.
Не приходится бояться общественного мнения, каждый из нас умел проходить через воющую толпу.
Милый фэксик, вы не знаете, как это бывает иногда физически трудно.
Был еще до войны раз доклад футуристов у медичек.
Ругали футуристы и Бога, и вселенную, но вдруг Крученых сказал что-то, и не грубо, — про Короленко.
Взбунтовались тут медички.
Еле ушел от них Крученых, отбиваясь калошами.
Но это не доказательство, что надо молчать и притворяться, что все благополучно.
Ничего не благополучно.
Ни одной этажерки на месте нельзя оставить.
А главное — нужно переоценить роль интеллигенции.
Нет интеллигенции, и вероятно, и не было.
Толстой, Гоголь, Блок со статьями — все это было вне литературного фонда.
Литераторы, воспитавшие нас, маленькие литераторы с большими традициями, еще могли что-то делать дома, опираясь на настоящее мастерство других не признанных ими людей, цепляясь за них, как собаки за брюки прохожего.
А за границей все оказались компанией балалаечников.
Запад гниет или нет, я не знаю.
Запад крепкий, вероятно, в нем люди умеют хранить свои вещи и вещи других, там культ сохранения.
Там берегут шляпу и штаны.
А там нет воздушных людей нашей складки — интеллигентной.
А вы, мои милые, не исправитесь. Вы не умеете замечать поражения. Стоя вверх ногами, вы оправляете галстук и сохраняете полную стыдливость. Что же касается того моего непочтительного замечания, что герои русской литературы — пробники, то я на этом чрезвычайно настаиваю.
РЕВОЛЮЦИЯ ФАКТА
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.
Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.
Гамбургский счет необходим в литературе.
По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет.
Они не доезжают до города.
В Гамбурге — Булгаков у ковра.
Бабель — легковес.
Горький — сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
КАКУЮ ЛИТЕРАТУРУ СЧИТАЛ НАСТОЯЩЕЙ А. ПУШКИН
«Современник»
Это был журнал, издаваемый Пушкиным и руганный Булгариным в «Северной пчеле». Приведу заглавия некоторых статей или наиболее характерные фразы: «В других современных журналах излишне хвалят друзей редакторов» (№ 213).
«Ни Шиллер, ни Гёте не участвовали в мелкой вражде писак и не держались партий». «Пусть уверяют — пушкинский период кончился». «Упадок таланта Пушкина» (№ 216). «Я сердит на Пушкина» (№ 146). В общем Булгарин не травил Пушкина. Он только давал ему руководящие замечания.
«Современник» почти не печатал сюжетную прозу. За первый год в нем напечатаны: «Коляска» Гоголя и «Нос» Гоголя. Вторая вещь — с оговоркой.
Зато напечатаны «Путешествия в Арзрум», «Разбор сочинения Георгия Конисского» (с включением крупных цитат из трудов этого архиепископа).
Ряд статей, письма из Парижа, записки Н. Дуровой, статья о теории вероятности, статья о партизанской войне, исторические анекдоты, перевод приключения мальчика, взятого в плен индейцами, путешествие по Москве.
Романов, конечно, нет. Но есть статья: «Как пишутся у нас романы» (с подписью Ф. С.).
Это явление не объясняется тем, что в это время у нас не было вообще прозы, или тем, что публика прозой не интересовалась. Наоборот. Из статьи Гоголя в том же «Современнике» мы узнаем: «…Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии» («О движении журнальной литературы», «Современник», № 1, стр. 218).
Но половина журнала из стихов.
«Современник» был журнал изобретательский. Он искал перехода к новой прозе, к установке на материал.
Нельзя даже сказать, что прозаические документальные отрывки, даваемые в «Современнике», тематически были другие, чем тогдашняя сюжетная проза. Скорее они тематически с ней совпадали и ее предупреждали.
Например, цитаты из Георгия Конисского с его описанием казни над казаками почти текстуально совпадают с «Тарасом Бульбой» Гоголя.
Здесь была борьба между «подробностями» и генерализацией, между романом и фактом. Тогда она сгущалась резко. Вот цитаты из № 3 «Современника»:
«Пишите просто собственные записки, не гоняясь за фантазией и не называя их романом; тогда ваша книга будет иметь интерес всякой летописи, и произойдет еще та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман, ибо такое расположение духа в читателе гибельно для всего того, что вы почитаете лучшим в своем сочинении! Не обманывайтесь даже успехами: читатели ищут в наших романах намеков на собственные имена, когда не ищут романа…»[311]
Тиражи наших журналов
Тираж «Литературной газеты» был «едва сто» (Барсуков, кн. III, стр. 14)[312]. В этом журнале писал Пушкин.
Но тираж «Телескопа», в котором писал Белинский, был так низок, что издатель сознательно взорвал журнал, напечатав в 15-й книжке «Философическое письмо» Чаадаева.
Журнал «Европеец» с именами Жуковского, Языкова, Боратынского и Пушкина имел пятьдесят подписчиков.
Но «Современник» достиг до пятисот подписчиков. «Библиотека для чтения» имела успех, что, конечно, не может быть ей поставлено в укор.
«Миргород» и «Арабески» не разошлись.
О Булгарине
Мы знаем его по борьбе с Пушкиным, по борьбе с аристократией, во имя массового читателя.
Докладная записка Ф. Булгарина генералу Потапову — вещь умная. В ней хорошо характеризован читатель из среднего и «низшего состояния».
Сам Булгарин не был плебей. По справке Санкт-Петербургского губернатора Кутузова: «Подпоручик Фаддей Булгарин из дворян Минской губернии: за отцом его 750 душ крестьян мужского пола…» (Справка от 9 мая 1826 года).
В 1832 году барон Розен писал Шевыреву: «Сказывал ли вам Пушкин, что Булгарин добивается княжеского достоинства? Он утверждает, что он князь Скандерберг Буггарн».
Но, конечно, происхождение Булгарина и его претензии не определяют класс, который он обслуживал.
Родовитость аристократа Пушкина условна и литературна.
О ней без уважения говорит Вяземский, настоящий аристократ. Ганнибал — негр, больное место для аристократизма, с трудом исправляемое экзотикой. Аристократизм Пушкина связан с биографией Байрона и является частью его литературного облика. Геральдический лев Пушкина совсем молоденький. Привел в порядок русскую геральдику Павел I.
Русские бояре гербов не имели.
Ставили как свою печать случайные оттиски разных камней. Не всегда были поняты и эти оттиски.
Так, например, птичка с фалусом обратилась впоследствии в птичку на пушке и стала гербом Смоленской губернии.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЯЧЕПОЛОНСКОМ
Есть остроты, которые наворачиваются сами. Например — «не посол, а осел», «не критик, а крытик», «не леф, а блеф». Эти остроты лежат так рядом, что употреблять не стоит.
Это пошло.
Неправильно также в подвале из восьми столбцов занимать четыре столбца цитатой.
Особенно если желаешь только доказать, что цитата плохая, вредная, и таких вещей не нужно печатать. Неправильно начинать критическую статью — «я развернул книжку» или — «я заинтересовался», «я перелистал», «я заглянул».
Нельзя также начинать театральную рецензию со слов — «я пришел в театр и сел на кресло».
Все крайне беспомощно, так как начать читать книгу, не развернув ее, невозможно.
Поэтому, например, вещи, печатаемые В. Полонским[313], нельзя считать заметками журналиста.
Статьи неумелые, не профессиональные.
Это произведения не журналиста, а — администратора.
Пишущий же администратор часто бывает похож на поющего театрального пожарного.
Генеральские привычки — называть людей «неведомыми» — нужно бросить. Если Родченко неведом Полонскому, то это факт не биографии Родченко, а биографии Полонского.
Конечно, неверно обвинять меня с моей книгой «Третья фабрика», вышедшей в 1926 году, в том, что я влиял на письма Родченко, написанные в 1925 году.
Но вообще недостойно марксиста представлять историю литературы так, что будто бы в ней люди друг друга портят.
Манера печатать свои письма при жизни — старая. Вытеснение письмами и мемуарами «художественной прозы» — явление в истории литературы.
О том, что письма вытеснят из литературы выдумку, писал не Розанов, а Лев Толстой.
Так как случайно запевшего театрального пожарного нельзя включать в труппу, то ни аплодисментам, ни порицанию он не подлежит.
ЗАГОТОВКИ I
Двухлетний ребенок говорит, неправильно употребляя словесные штампы: «Я с таким трудом потеряла карандаш».
К отцу Есенина, крестьянину, приехала делегация. Он принял их в избе.
— Расскажите нам о вашем сыне!
Старик прошелся в валенках по комнате. Сел и начал:
— Была темная ночь. Дождь лил, как из ведра…
В одной редакции редактор спрашивал, получив толстую рукопись:
— Роман?
— Роман.
— Героиня Нина?
— Нина, — обрадовался подающий.
— Возьмите обратно, — мрачно отвечал редактор[314].
Не годны для печатанья также рукописи, написанные чернилами разных цветов.
Крестьяне покупают на ярмарках фотографические карточки и вешают их на стенах изб, как украшения. Вероятно, не хватает генералов.
Во время войны многие наши пленные бродили по центральной Европе. Они попадали из Германии в Сербию, в Турцию. Потом они попали в революцию. Трудно даже представить, насколько изменился крестьянин.
Сибирскому языку Всеволода Иванова обучал Горький. Для него Всеволод записал пять тысяч слов. Еще не все слова использованы. Если кому нужно, попросите. Может быть, подарит. Он писатель настоящий.
Сравнивал «L’Art poétique»[315] московского издания 1927 года с нашей «Поэтикой» 1919 года. До чего улучшилась бумага!
Моему знакомому цензор сказал: «У вас стиль удобный для цензурных сокращений».
Человек, назначенный заведующим одного кинопредприятия, на первом прочитанном сценарии (Левидова) написал следующую резолюцию: «Читал всю ночь. Ничего не понял. Все из кусочков. Отклонить».
Редактор, прочитав стихи поэта, сказал ему: «Ваши стихи превосходны, но я их не напечатаю: они мне не нравятся…» Потом прибавил задумчиво: «А знаете, вы чем-то напоминаете мне моего Бакунина»[316].
Крупное издательство вывесило объявление: «Выдача гонорара прекращена впредь до особого распоряжения».
Молодой поэт, только что выпустивший свою первую книжку, спросил: «Как вы думаете, я останусь в истории литературы?»
Вопрос этот напоминает вопрос не очень порядочной женщины: «Я тебе доставила удовольствие?»
Издатель (Успенский)[317] прочел книгу, ему принесенную, и сказал: «Я не читаю уже пятнадцать лет. Вашу книгу я прочел, так как вас очень уважаю. Она не понятна. Вы ее не можете переделать?»
Писатель переделал.
В. Л. Дуров рассказывал: — Я выписал из-за границы моржей, чтобы научить их резать минные заграждения.
— И режут?
— Нет, пока я их научил играть на гитаре.
Петр Коган носил в Париже, приходя на выставку, цилиндр — как поставленный на голову, а не как надетый.
Так Сейфуллина сейчас носит свое литературное имя.
Видал карточку (кажется) К. Федина.
Он сидит за столом между статуэтками Толстого и Гоголя.
Сидит — привыкает.
СКАЗОЧНЫЕ ЛЮДИ
Есть сказка у Федора Сологуба.
Пошли раз девочка и мальчик на берег реки, видят — рак.
Идет рак, как всегда раки ходят по земле: куда глаза глядят.
Сели дети над ним и кричат: «Смотрите, рак пятится!»
А рак идет вперед, куда глаза глядят.
Прибежали дети домой и кричат: «Мама, мы видели, как рак задом пятится, только странный такой рак — голова с передом у него были сзади, а зад с хвостом — спереди!»
Меня хотят убедить, что я в кинематографии пячусь. Так полагается: если снимаются идеологически невыдержанные ленты, то значит виноват идеологически невыдержанный человек.
Или по карикатуре «На посту» Шведчиков не на того молится[318].
Между тем я не только пишу статьи, но и сценарии; сценарии мои читаются в рабочих клубах и т. д. Очевидно у меня голова с передом на месте[319].
Вообще же получается разговор с глухими.
Сейчас на прилавках книжных магазинов появились странные книги.
Вот Дмитрий Петровский называет свои воспоминания о Велемире Хлебникове — повесть.
А читатель сам читает, как повесть, и художественно обработанную Юрием Тыняновым биографию Кюхельбекера и книгу о путешествиях.
Факты переживаются эстетически. Художественная вещь может сейчас и не иметь сюжета.
Лучшее, что из многого хорошего написал Максим Горький за последнее время, — это его «Отрывки из записной книжки».
То, что было черновым материалом для художника, стало самым художественным произведением.
Как будто раньше промывали какую-то руду на золото, а сейчас на радий.
Особенно стоило написать такую сегодняшнюю повесть о Велемире Хлебникове.
От В. Хлебникова произошли поэты: Маяковский, Асеев, Пастернак, Николай Тихонов и, конечно, Петровский.
Самые цельные, самые традиционные поэты, как Есенин, тоже переменились от влияния Хлебникова. Он писатель для писателей. Он Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он дрожание предмета: сегодняшняя поэзия — его звук.
Читатель его не может знать.
Читатель, может быть, его никогда не услышит.
Коснитесь рукой повести Петровского. Вы ощупью почувствуете дрожание.
Судьба Хлебникова доходчивей, понятнее его стихов.
О КРАСОТЕ ПРИРОДЫ
«Митина любовь» Ивана Бунина есть результат взаимодействия тургеневского жанра и неприятностей из Достоевского. Сюжетная сторона взята из «Дьявола» Льва Толстого. Тургеневу принадлежит пейзаж, очень однообразно данный. Схема его такая. Небо, земля, настроение. Эта троица идет через все страницы. Небо все время темнеет.
Стих введен для условного подчеркивания банальности и для разгрузки возможности пародии.
Краски, как говорят, изысканные. О них смотри у Достоевского в «Бесах», там они даны в пародии в описании рассказа «Мерси».
«…Тут непременно кругом растет дрок (непременно дрок или какая-нибудь такая трава, о которой необходимо справляться в ботанике). При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого конечно никто не примечал из смертных, то есть и все видели, но не успели приметить, а „вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь“. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета» («Бесы», ч. 3-я, Праздник, отдел I). У Бунина сводятся описания к противоречивости.
«В пролет комнат, в окно библиотеки глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над ней. На фоне этой синевы картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна как бы зимняя всего того, что цвело в саду» (выделено мной. — В. Ш.).
«Бесцветная» и «невыразимое» встречаются здесь часто.
Шмели у Ивана Бунина «бархатно-черно-красные», это оттого, что они заново выкрашены. Это от Тургенева. Тот так настаивал на том, что он (Тургенев) очень четко видит, что самые замечательные слова даже давал курсивом.
«Это она. Но идет ли она к нему, уходит ли от него — он не знал, пока не увидел, что пятна света и тени скользили по ее фигуре снизу вверх… значит она приближалась. Они бы спускались сверху вниз, если бы она удалялась».
(Курсивы из глазуновского второго издания 1884 года. Т. IV, «Новь», стр. 175.)
Вещь Бунина вся взята таким курсивом. Ее описания отталкиваются не от предмета, а от описаний же. Пейзаж вообще понятие литературное, он появился и ощущается благодаря традиции.
Пушкинские пейзажи архаичны и состоят из упоминаний о предметах.
«Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнце, как царедворцы ожидают государя» («Барышня-крестьянка»).
«Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом: ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли, одна другой мрачней, стеснились в душе его… Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблекших листьев, и живо представлялось ему подобие жизни — подобие столь верное, обыкновенное» («Дубровский»).
«Волга протекала перед окнами; по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекой тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность» («Дубровский»).
Интересно описание своих чувств человека, научившегося пейзажу.
Это знаменитый автор воспоминаний Болотов.
Родился он при Анне Иоанновне, умер при Александре. Воспоминания он начал писать под влиянием «Жиля Бласа», а кончил под влиянием Стерна.
А научился он природе так:
«…а сверх того попались мне нечаянно две те книжки господина Зульцера, которые писал сей славный немецкий автор о красоте натуры. Материя, содержащаяся в них, была для меня совсем новая, но мне полюбилась… Она-то первая начала меня ознакамливать с чудными устроениями всего света и со всеми красотами природы…» («Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», 1789 год, том I, стр. 864).
«И как по счастью въехали мы тогда на одно возвышение, с которого видны были прекрасные положения мест и представлялось очень преузорчатое зрелище, то рассудил я употребить очам их и поводом к особенному разговору и орудием к замышляемому испытанию или, простее сказать, пощупать у него пульсу с сей стороны».
«Для самого сего, приняв на себя удовольственный вид, начал я будто сам с собой и любуясь ими говорить: Ах! Какие прекрасные положения мест и какие разнообразные прелестные виды представляются глазам всюду и всюду. Какие прекрасные зелени, какие разные колера полей! Как прекрасно извивается и блестит река, река сия своими видами, и как прекрасно соответствует все тому и самая теперь ясность неба и этот вид маленьких рассеянных облачков. Говоря умышленно все сие, примечал я, какое действие произведут слова сии в моем спутнике и не останется ли и он также бесчувственным, как то бывает с людьми обыкновенного разбора…»
Спутник отвечал:
«Что я слышу! и, ах! Как вы меня обрадовали… так, что я нашел в вас то, чего искал…»
«Как то с молодых лет еще имел я счастье познакомиться с натурой и узнать драгоценное искусство утешаться всем и ее красотами и изяществами» («Записки Андрея Тимофеевича Болотова», том III, стр. 399).
Этот же Болотов при жизни ставил себе уединенные мавзолеи, закапывая под ними выпавшие свои зубы.
Иван Бунин находится в конце этой линии.
Он омолаживает тематику и приемы Тургенева черными подмышками женщин и всем материалом снов Достоевского.
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Когда лошадь под Александром Блоком споткнулась и упала, поэт успел вынуть ноги из стремян и встать на ноги.
Лариса Рейснер с восторгом говорила о нем: «настоящий человек». Она ехала рядом.
Лариса Рейснер сама была настоящим человеком: жадная к жизни, верный товарищ, смелый спортсмен, красивая женщина, изобретательный журналист. Человек длинного дыхания.
Но «смерть не умеет извиняться». Наполовину не сделана жизнь. Как писателя Лариса Рейснер нашла себя в газете.
Ее перегруженные образами фельетоны бывали превосходны.
В газете она говорила настоящим газетным голосом. Она не удостаивала газету работой литератора, а из манеры газеты создавала новый жанр.
Пройдена Волга, прошли бои у Свияжска, увиден каменный Афганистан, рудники Донбасса и Кузнецкого бассейна, баррикады Гамбурга.
Сейчас хотела Рейснер лететь в Тегеран… Скупо ей отмерили жизнь.
Я помню Ларису Михайловну в «Летописи» Горького. У Петропавловской крепости в дни Февральской революции. В Лоскутной гостинице с матросами. Трудное дело революция для интеллигента. Он ревнует ее, как жену. Не узнает ее. Боится.
Эстетическое признание революция, когда она слаба, легче.
Не трудней было миноносцам Раскольникова пройти через Мариинскую систему на Каспий, чем писателю, ученику символистов, другу акмеистов, Ларисе Рейснер, идти через быт и победы революции.
Немногие из нас могут похвастаться, что видели революцию не через форточку. Люди старой литературной культуры умели принять Февраль и первые дни Октября, но у Ларисы хватило дыхания и веры на путь до Афганистана и Гамбурга.
Мы долго еще будем вспоминать друга. Лариса Михайловна рассказывала еще лучше, чем писала. Ироничней и не нарядно.
Она рассказывала о том, как играли в Гамбурге на мандолинах вечную память или похоронный марш, и в этой комнате плакали, а в соседней танцевали под музыку.
Про цилиндр, который товарищи дали безработному, чтобы он мог достойно проводить жену на кладбище.
Про это нужно говорить, чтобы знать сроки ожидания.
Про кино на Востоке Лариса Михайловна рассказывала мне месяца два назад.
Должна была написать:
«Дома белых стоят замкнутыми; белый на Востоке держит лицо чистым и бреет его, как моют вывеску. Цвет обязывает.
А в углу сидит „Сами“ Николая Тихонова и смотрит. Белый выдерживает характер.
И вот является кинематограф. Дешевые, трепаные, как у нас в клубах, ленты показываются в Персии, в Индии, в Полинезии.
Конрад Вейдт и Чаплин в гостях у негров и индусов.
Оказывается:
Белый вообще вор. Жена белого господина ему изменяет. Белый господин плачет. Белого господина бьют. Белый господин обманщик.
Идет теперь саиб по улице, а цветные люди знают — король голый.
И не мытый даже.
Кино с буржуазными лентами на Востоке — перлюстрация переписки господ.
Индусские губернаторы в ужасе. Требуют перемонтажа лент.
Запрещения кинематографа».
Так австрийские генералы, после того как революция была побеждена, уничтожали фонари в Неаполе. В этом рассказе есть бодрость веры в объективную правду жизни.
Электричество, кино и даже водопровод не могут не быть нашими союзниками.
Это все, что я мог сегодня сделать для друга: сохранить кусок того, что он не успел написать.
В ЗАЩИТУ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА[320]
Писатель использует противоречивость планов своего произведения, не всегда создавая их. Чаще планы и их перебой создаются не одинаковой генетикой формальных моментов произведения. Писатель пользуется приемами, разно произошедшими. Он видит их столкновение. Изменяет функции приемов. Осуществляет прием в ином материале. Так Державин развернул оду низким штилем. А Гоголь перенес песенные приемы на темы, сперва связанные с Украиной, но качественно иначе оцениваемые, а затем на темы не украинские.
Таково происхождение одного из приемов гоголевского юмора.
Экскурс
Что же касается открытия т. Переверзева, что природа вокруг мелкопоместных имений беднее, чем природа вокруг крупного, то оно не верно. Впрочем, все стоит цитаты: «Не может быть сомнения в том, что природа вокруг города и мелкого поместья далеко беднее, чем вокруг поместья крупного» (Переверзев, «Творчество Гоголя»)[321].
А я сомневаюсь. Дело в том, что в России была чересполосица.
И вообще Переверзев, будучи человеком знающим и не принадлежа к типу гимназистов, читающих в вузах историю литературы, все же работает с недоброкачественным материалом.
Например. Он производит Гоголя из мелкопоместных дворян и переносит на Украину русские крепостнические отношения без оговорок. Между тем: «При составлении списков избирателей в екатерининскую комиссию от Слободской Украины было установлено — дворян в полном смысле этого слова в Слободско-украинской губернии из природных жителей не оказалось: были только владельцы населенных и ненаселенных местностей, выходившие из рядов полковой и сотенной старшины» («Вестник Коммунистической академии», 1926, том ХIII, стр. 59)[322].
Дворянство на Украине очень молодо.
Далее Переверзев сливает дворянство с чиновничеством безоговорочно. Между тем при Екатерине «класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу» (А. Пушкин. «К восьмой главе истории Пугачевского бунта»)[323].
При Павле дворянам было запрещено служить на гражданской службе (в обход этого постановления было намерение создать особый «Сенатский полк»). И чиновничество начало пополняться дворянством только при конце царствования Александра и с начала царствования Николая.
Сам Евгений из «Медного Всадника» — дворянин сословный, а не классовый, он — изгой.
И натуральное хозяйство не типично для екатерининской эпохи. Скотинины разводят свиней для экспортного сала. Коробочка вся в поставках.
Может быть, в эпоху Николая была обратная «натурализация» хозяйства. (В 1825 году мировые цены на хлеб понизились на 65 %.) Все это факты, которые нужно исследовать, а не просто отыскивать их отражение в литературе.
Кстати, и Лев Толстой, которого Переверзев считает представителем крупного дворянства, был помещик мелкопоместный и в письмах к Фету называл поместья в 100 десятин крупными.
Как не нужно работать
Вся эта работа вычитывания из литературы фактов, которые потом находишь в истории, вся она не научная. Так как не учитывает законы деформации материала. Кроме того, вся она находится в усиленном движении по дурному кругу.
Указания же Переверзева на то, что Гоголь легко переводил тему из поместного быта в чиновничий, доказывают только нефункциональность связи бытов с их «отображением» (совершенно вредный термин). Так переносится прием и из испанской жизни в русскую. Так Гончаров по быту купеческого дома изобразил Обломовку.
Крестоносцы
Когда шло первое их ополчение, то они каждый город принимали за Иерусалим. По ближайшему рассмотрению город Иерусалимом не оказывался. Тогда крестоносцы производили погром.
От обиды.
Между тем Иерусалим существует.
Факты между тем существуют
Формалисты (ОПОЯЗ) в то же время не хотят сопротивляться научному факту.
Если факты разрушают теорию, то тем лучше для теории.
Она создана нами, а не дана нам на хранение.
Изменение эстетического материала — социальный факт, проследим его хотя бы на примере «Капитанской дочки».
«Капитанская дочка»
Тов. Воронский, человек разочарованный и вольнолюбивый. Он в Иерусалиме поколеблен.
Рассматривая «Капитанскую дочку», он нашел, что «заячий тулупчик» — факт внеклассовый, что здесь Пушкин как бы перестал быть дворянином[324].
Очевидно, Воронский хотел объяснить хотя бы тулупчиком тот факт, что «Капитанскую дочку» можно читать и сейчас.
Попытаемся разобраться.
«Капитанская дочка» состоит из трех цитатных тем:
1. Помощный разбойник. Он же в прошлом помощный зверь. Герой оказывает разбойнику услугу, разбойник его потом спасает. Тема старая, живучая, потому что она позволяет развязывать сюжет, сюжетные затруднения. Она жива и сейчас в историческом романе (Сенкевич — «Огнем и мечом», Хмельницкий и Скшетуский, Конан Дойль и т. д.). К Пушкину она могла скорей всего попасть от Вальтера Скотта из «Роб Роя». Само строение повести, — она будто бы не написана, а только издана Пушкиным, который разделил ее на главы и снабдил ее эпиграфами, — весь этот прием вальтер-скоттовский.
Таким образом «внеклассовое» в «Капитанской дочке» — это эстетическое, цитатное. Образ благородного и благодарного разбойника, а также двух его помощников — «злодея» и «незлодея» — все это традиция.
Внеклассовость создана вне воли художника.
2. Гринев, не желая запутать Машу, не дает показаний.
Это — цитатный прием. Невозможность давать показаний или невозможность говорить до срока мы имеем в сказках и в их сводах, например, — «Семь визирей» в немецких сказках. В романах, как и в сказках, это — прием торможения. Изменилась мотивировка.
3. Пункт второй разрешается тем, что женщина говорит о себе сама.
Тема прихода Маши к Екатерине взята, вероятно, одновременно из «Сердца Среднего Лотиара» и из «Параши-сибирячки»[325].
Я умышленно обхожу первоначальный набросок темы «Капитанской дочки». В этом наброске Гринев и Швабрин были одним человеком, и вся тема была основана на прощении благородного разбойника.
Но варианты, записанные, но не вставленные в книгу, принципиально отличны от того, что обнародовано автором, и могут нас завести в психологию творчества.
Что же «классово» в «Капитанской дочке»?
Прежде всего — извращение истории.
Вернее всего, что Белогорская крепость это — Чернорецкая.
Но исторический Оренбург имел вал в пять с половиной верст окружности. Имел каменные стены, 100 пушек, 12 гаубиц и более 4 тысяч войска.
Это была первоклассная (не совсем достроенная) крепость.
В Белогорской крепости солдат было, конечно, не 30 человек, а 230–360 без казаков.
Миронов должен был быть крупным помещиком. Приведу цитату: «…когда в губерниях служилые люди, большею частью хлебопашцы, как же в Сорочинской, Татищевой и Сакмаре и прочих крепостях не быть промышленникам, да они в том и не виновны, для того, что все командиры в оных местах имеют свои хутора и живут помещиками, а они их данники» («Донесение капитана-поручика Саввы Маврина». Дубровин. Том II, стр. 28)[326].
Идиллии Белогорской не было, и Пушкин это знал. Он знал также, что историческая Палашка жаловалась в Чернорецкой крепости Пугачеву на своего барина (коменданта).
В Оренбургской степи не было глухо. В ней стояли большие торговые города. Я не говорю об Оренбурге. В Яицком городке было 15 тысяч. Здесь шли караваны. Здесь была соль.
Здесь было из-за чего драться.
Пушкин, работая над историческим материалом, сделал следующее. Он написал в примечаниях не то, что в истории, и в истории не то, что в «Капитанской дочке».
Ему нужно было дать бунт жестоким и бессмысленным, поэтому он сделал Белогорскую идиллию и разгрузил крепость от реального материала. В ней нет ничего, кроме снега и Гринева.
Ослаблена крепость (вместо крепости описан форпост) для того, чтобы не делать противника сильным. Между прочим, бревенчатые стены Татищевской крепости нас не должны смущать, так как у Измаила (турецкая крепость) тоже были бревенчатые тыны (см. «Дон Жуан» Байрона).
Разбойник, устраивающий свадьбы, конечно, нас опять возвращает в шаблон.
Интересен поп Герасим в Белогорской крепости. Как всем известно, духовенство встречало Пугачева с крестом. Об этом синод потом писал много.
У Пушкина отец Герасим тоже выходит к Пугачеву с крестом.
Но Пушкин чрезвычайно удачно подменивает мотивировку:
«Отец Герасим, дрожащий и бледный, стоял у крыльца с крестом в руках и, казалось, молча умолял за предстоящие жертвы».
Савельич исторически должен был бы пристать к пугачевцам.
Пушкин это понимает.
Но Савельич «преданный народ». Тогда Пушкин удваивает Савельича (сколько раз мы теперь это делаем) и разгружает его на Ваньку.
Ваньку мы встречаем прямо на плывущей виселице:
«…это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости приставший к Пугачеву»[327].
До этого Ваньке было отведено так мало строк (я убежден, что читатель его не помнит), что мы можем считать Ваньку введенным для исторического правдоподобия. Это — заместитель Савельича.
Не всегда Пушкину удается легко спрятать историю. Например, непонятно, какую «пашпорту» требуют у него бунтующие крестьяне. Очевидно, пугачевскую.
Но не дав пугачевского государства, его организаций, Пушкин «пашпорту» просто не мотивировал, использовав ее как признак нелогичности бунта. «Наездничество», которым глухо занимается Гринев, тоже не развернуто. Это дворянская партизанщина, очень характерная для того времени.
Пушкин не мог ее показать, потому что тогда надо было бы дать пугачевский тыл.
В общем, идеологически «Капитанская дочка» — произведение остроумное и блестяще выдержанное. Эстетические же ее штампы делали вещь приемлемой и не для ее класса.
Дальнейшая судьба вещи
Сама «Капитанская дочка» со временем эстетизируется. Ее положения теряют (очень быстро) свою установку. Они становятся чисто эстетическим материалом. Возникает оренбургская степь Пушкина. Эстетизированный материал, в самом начале заключающий в себе чисто формальные моменты, окаменевает сам. Когда наступил пугачевский юбилей, то спокойно решили — роскошно издать «Капитанскую дочку». Протестовали башкиры, находящиеся вне наших эстетических привычек.
Но вещь, действительно, потеряла свое первоначальное значение. Оно отделилось от задания.
Для читателя исторический материал, поставленный рядом с эстетическим, создал другое произведение, не то, которое хотел писать Пушкин. История удавшегося памфлета обычно и есть история его использования не для первоначального употребления.
Блестящий пример анализа такого явления представляет неопубликованная еще работа Осипа Брика о первой и второй редакции «Отцов и детей»[328].
Первоначальная значимость явления часто оживает при попытках перевести произведение на другой материал.
Относительно Пушкина
К Пушкину мы относимся производственно.
Как техник к технику.
Если бы он жил, то мы бы (он был бы иной) голосовали, принять ли его в «Новый Леф».
Затем мы бы попытались достать ему представительство в Федерацию писателей. Нас бы спросили: «Скольких писателей товарищ Пушкин представляет?»
Тут воображение меня покинуло.
Впрочем, что такое сейчас Пушкин?
Приведу цитату из Л. Войтоловского «История русской литературы» (Гиз, 1926, стр. 23) «…это дворянская литература, до мельчайших подробностей воспроизводящая быт и нравы дворянского сословия тех времен. Онегин, Ленский, Герман, кн. Елецкий, Томский, Гремин… В их лице Пушкин дает…» Сообщаем небезызвестному ученому Войтоловскому, что перечисленные им типы суть баритонные и теноровые партии опер, что и обнаруживается упоминанием Гремина, мужа Татьяны (?) — [ «Любви все возрасты покорны»?], которого (Гремина) нет у Пушкина. Нехорошо изучать русскую литературу (социологически) по операм.
ДУША ДВОЙНОЙ ШИРИНЫ
У наших писателей душа двойственная. По крайней мере, так выясняют критики. Они не находят в писателе единства стиля.
Беру отрывок из новой книжки И. М. Гревса «История одной любви» («Современные проблемы», 1927):
«Наконец, об оригинальном своем рассказе „Степной король Лир“ Тургенев — со страхом перед ожидаемым судом П. Виардо в очень решительном, неприятно резком стиле, к которому он иногда спускался, к сожалению, в разговорах и в интимной переписке, допуская острый контраст изяществу его подлинного литературного языка, — дает собственную, безусловно несправедливую характеристику тому же Пичу» (16 апр. 1860): «Я закончил повесть; по своей грубости она производит на меня впечатление большого зада, но не в рубенсовском стиле — с розовыми щечками, нет, совсем обыкновенного, тучного и бледного русского зада»[329].
Сколько оговорок у Гревса!
Какая путанная фраза!
Безграмотно. Так пишут профессора. Терминологию с запрещенными словами мы можем найти и у Толстого (например, его сравнение поэзии и прозы с анальными объектами). Здесь не личность художника. Толстой и Тургенев не похожи. Здесь две традиции, обусловливающие стиль литературы и интимного письма.
Так русская аристократия по-русски говорила иногда нарочно простонародно.
Жанры выбираются. Не две души, а несколько жанров. Строй души в литературе темперирован. Играй на черных, а четверти тонов нет… Все это еще более суживает понятие о литературе как о высказывании души.
Литературные жанры существуют в писателе, как свойства черного кролика в белом, рожденного от черного и белого.
Выбрейте его на морозе. Вырастут черные волосы. В зоологии это делает Завадовский[330].
Изменения климата — это внелитературный факт. «Таким образом, ответ животных тканей на внешние раздражения — в нашем случае холод — определяется всецело наследственным свойством живого существа, определяется внутренними силами, в нем заложенными»[331].
А. Веселовский иногда подходил к этой мысли.
Куда идет Горький
«Самгин» ни к чему не приспособлен. Это вообще беллетристика, которая вообще печатается. Вещь невозможная, как не может существовать вообще здание. Нужно иметь какое-то безотчетное уважение к великой литературе и не нужно иметь представления о пользе давления техники, чтобы так печатать писателей.
Ловят сома из номера в номер. Изменяет Фын Юй-Сян, происходят события в Ухане, в Вене революция, а сом все еще ловится. Это совершенно комично по несовпадению темпа романа с темпом газеты, в которой он печатается. Не может же быть, чтобы человек, прочитавший о событиях в Вене или о каких-нибудь других событиях такого характера, спросил: «Ну, а что сом? Поймали его или нет?» Сома не поймали, и вообще оказалось, что мужики обманывают интеллигенцию.
Я не против самого романа Горького, хотя Горький сейчас с целым рядом других писателей, главным образом начинающих, — жертва установки на великую литературу. Но если возражать против сома по существу, то можно сказать, что сом этот произошел по прямой линии от рыси из «Крестьян» Бальзака. Там так же ловили несуществующую рысь, и так же ею крестьяне обманывали интеллигенцию. Таким образом, сом, плавающий на страницах газеты, — сом цитатный.
Горький очень начитанный бытовик.
Андрей Белый
Андрей Белый ходит по Тифлису, нося за спиной единственный в городе зонтик — черный. Жара градусов 30 в тени, и небо без дождя. Тифлисцы не ходят по улице после 4-х часов, а по преимуществу стоят все одетые одинаково в белое, и все никуда не идут. Так они стоят покамест светло, и так стоят, когда стемнеет. Посреди них ходит Андрей Белый в панаме, седой и с черным зонтиком.
Черные зонтики в Грузии и Аджаристане, кроме него, носят пастухи и контрабандисты. Пастухи обычно потому, что солнце очень ярко.
Но не очень стоит осматривать свет подряд, — в результате попадешь на то же самое. В горах Кавказа такие же альпийские луга, как в Альпах и на Карпатах, и черные зонтики в руках пастухов тоже есть на Карпатах. И камни на крышах домов так же лежат в Аджаристане, как в Швейцарии. Это — разные места в одинаковом этаже, и мы, осматривая мир, часто попадаем в положение киноэкспедиции Госкино, которая ехала в Сибирь по параллельному кругу и удивлялась, что на Лене такая же природа, как под Москвой.
О жанрах
Я написал статью о двойной душе художника. Нужно договорить в чем дело.
Я говорю, что у одного писателя не двойная душа, а он одновременно принадлежит к нескольким литературным линиям. Так, в биографии человека, происшедшего от непохожих друг на друга психически отца и матери, преобладает то материнская, то отцовская линия. Черный кролик не смешивается с белым кроликом; не получается кролик серый, а в рядах получается то белый, то черный.
И писатель одновременно принадлежит нескольким литературным жанрам. Гоголь не пережил душевного перелома, когда начал писать переписку с другом; он в нее хотел включить старый материал «Арабесок», — он продолжал другую линию.
Руссо говорит, что в другое время роман «Новая Элоиза» не был бы напечатан и что он жалеет, что не живет в то время.
Что касается жанров, то нужно сказать следующее, бегло и пользуясь аналогией: не может быть любого количества литературных рядов. Как химические элементы не соединяются в любых отношениях, а только в простых и кратных, как не существует, оказывается, любых сортов ржи, а существуют известные формулы ржи, в которых при подставках получается определенный вид, как не существует любого количества нефти, а может быть только определенное количество нефти, — так существует определенное количество жанров, связанных определенной сюжетной кристаллографией.
Они осложняются тем, что осуществляются в различном материале, и ценность материала в них разная, иногда даже они переходят в отдел коллоидальной химии и имеют установку чисто на материал[332].
ЭКСТРАКТ
Для облегчения полемики сообщаю формулировку своих возражений т. Переверзеву, заранее извиняясь перед ним за то, что мои возражения короче его книги и поэтому менее точно сформулированы.
Возражение первое характера общего
Так как литературные произведения в своей технике изменяются довольно быстро и во всяком случае претерпевают за несколько лет часто очень серьезные изменения, то для выяснения влияния на них социального базиса нужно исследовать этот базис в том же масштабе, т. е. в той степени разделительности, которая соответствовала бы реальным изменениям литературного материала.
Возражение второе характера общего
Конечно, литературная заимственность есть явление социальное, если мы будем называть социальным все, происходящее в обществе. Но факт переживания определенным литературным явлением тех социальных условий, которые его создали[333], есть социальный факт особого рода. И жанр должен быть исследован в специфических своих условиях.
Возражение третье характера частного
Утверждение т. Переверзева, что в 30-х годах XIX века дворяне только начинали привыкать к деньгам, что они переживали момент перехода от натурального хозяйства к денежному, я считаю просто неверным. А принимая во внимание масштаб литературных изменений, я считаю рассматривание Гоголя (дворянина, так легко соглашающегося на перенос из 6-й книги в 8-ю) как просто «дворянина», считаю это заявление настолько общим, что оно не может быть использовано ни для какого анализа.
Возражение четвертое характера частного
Указание т. Переверзева на то, что медный подсвечник на щегольском столе Манилова есть факт, прямо вскрывающий социальную сущность Манилова, я считаю возможным опровергнуть тем, что ввод этого подсвечника представляет собою обычный прием комичного, и материал здесь, следовательно, находится в деформированном состоянии. Все эти утверждения мои сводятся к тому, что я считаю сегодняшнюю работу товарищей, оперирующих социологическим методом, чрезвычайно общей и недооценивающей специфического характера материала.
Что же касается нашей завтрашней работы, в частности работы над историей литературных гонораров и над историей тиражей книг, то мы не утверждаем, что этими работами вопрос о взаимоотношениях литературного и внелитературного ряда будет разрешен. Но это работы, которые необходимо сделать. Необходимо вдвинуть в сознание новые факты. Я прошу поэтому товарищей не сердиться на нас за то, что мы принялись за работу, которую они не сделали сами, очевидно, по недостатку времени, ушедшего частично на создание хрестоматий и прочую научно-популяризаторскую работу.
ЗАГОТОВКИ II
Горький спорил с одним крупным коммунистом по вопросу: понятно ли для народа выражение «религия — опиум для народа».
Решили спросить красноармейца-караульного.
— Что такое опиум?
— Знаю, — ответил красноармеец, — это лекарство.
Может быть поэтому сейчас у Иверских ворот религия уже не опиум, а дурман. Когда пишут о языке газет, то бесконечно упрощают вопрос, приводя примеры неверного понимания слов читателем.
А дело не в этом.
Опиум — это действительно лекарство.
Дело не в понимании слова, а в незнании его тесного значения.
Дело идет не о замене слова словом, а о сообщении читателю наибольшего количества знаний. Слово существует в фразе. Нужны словари не слов, а понятий.
Неважно — русские слова или иностранные.
Пока же мы имеем увлечение переводом, — в этом есть хорошее.
Обнаружилось, что газетчики слов, ими употребляемых, не понимали. Возьмем, например, словари Шафира[334]. Там все неточно.
Впрочем, в одной крупной столичной газете слово «чемпион» было переведено — зачинщик.
Шафир — один из зачинщиков всей истории, он же и чемпион неточного знания слов. Нужно знать слова. Например, слово халтура. Откуда оно?
Одни говорят, что это слово греческое, что происходит оно от «халькос» — медь.
У духовенства различались доходы: парофиальные и халтуриальные.
На юге России халтурой называлась плата за требу (богослужение по частному заказу), исполненную вне своей епархии.
Слово это через певчих перешло к оркестрантам. В 1918–1919 годах это слово начало распространяться, как крысы при Екатерине, и, несомое актерами, завоевало всю страну[335].
Максим Горький уверяет, что в Казани слово «холт» означает предмет, не отвечающий своему назначению. Например, мыло, которое не мылится. Тогда оказывается, что халтура происхождения татарского.
Мне Рощин-Гроссман, Вяч. Полонский, Сакулин и еще кто-то все время предлагают синтез. Нужно женить формальный метод на ком-то. Дети, говорят, будут хорошие.
Есть две халтуры: греческая и татарская.
Халтура греческая. Это тогда, когда человек пишет не там, где должен писать, и поет не там, где должен петь.
Халтура татарская. Человек работает не так, как надо.
Халтурщики этих двух родов презирают друг друга и находятся в вечной вражде.
Сейчас вражда эта вылилась в борьбу между попутчиками и напостовцами.
Халтурщики первого рода обычно козыряют (халтуряют) талантливостью, халтурщики второго рода — правильностью направления. Существуют смешанные типы — греко-татарские.
Отдельно существует искусство.
Из Вотской республики вернулся сейчас сценарист Гребнер и рассказывает: христианство у вотяков вымерло немедленно с падением династии Романовых, но жрецы держатся. Жрецы у них вроде агрономов: дают советы по хозяйству, заодно приносят в пихтовых рощах в жертву черных коров. В южной части Вотской области бога не видим, но все-таки для него в каждой избе в специальном домике на дворе есть маленький шкафик, куда ему ставят хлеб и кумышку — водку. В северной части Вотской области в этом же шкафике есть изображение гуся; гусь там — бог воды, скворец — бог воздуха.
Иногда жрецом избирают 14-летнего девственника.
Вообще же девственность там не уважается.
Вотяки сейчас ведут раскопки, ищут свою историю, а одна бывшая жрица сделалась кандидаткой в члены ЦИК’а. При смерти женщины режут корову, можно и не черную. Когда умирает мужчина, то убивают лошадь. Когда нужно выгнать черта из деревни, то в избу, а избы вотятские большие, тяжелые, двухэтажные, — то в такую избу ударяют бревном, черт вытряхивается, и так его постепенно оттесняют к околице. Кинематографа там не видел, а фотографы туда заходят.
Изумительно красноречивый писатель Федорович в «Правде». Когда он пишет про Туркестан, то напускает такую экзотику, как будто это не газета, а постановка Бассалыги[336]. Но напрасно Федорович не пользуется в своих статьях картой и энциклопедическим словарем, тогда бы он знал, что пенгинка не венерическая болезнь и что он заставляет революционных, героических женщин в степях, где проложена железная дорога, проезжать зараз по 200–300 верст верхом. Не нужно быть в газете таким красноречивым.
Все это оттого, что у нас, когда хотят похвалить журналиста, так говорят ему: «Какой журналист! Не журналист прямо, а беллетрист!» И думают, что его повышают этим в следующий ранг.
Не нужен ли какой-нибудь ученой экспедиции писатель, который терпеливо ездит на лошади, не боится жары и не рассказывает никому, что у него делается в желудке, если даже он и съест что-нибудь не упомянутое в энциклопедии. Если нужно, обратитесь в редакцию «Нового Лефа», пришлем. Согласны в отъезд. Расстоянием не стесняемся.
Один мой знакомый молодой писатель, до того как быть писателем, работал пастухом в деревне. Он комсомолец и хотел деревню переделать, а кулаки решили его убить. Пастух в деревне скитается по избам как разъездной, корреспондент по достопримечательностям и открытиям электростанций. За одну овцу пастух ночует в избе ночь, а корова считается за две овцы. Изводили пастуха разными способами: и топор на него роняли и кислотой поили. Ничего, увертывался и каждое утро выходил на улицу и начинал играть в рожок. Деревня просыпалась сонливо и говорила: «Жив все-таки». Сейчас пастух в Москве и хочет поступить в ГТК.
Писателя Светозарова, когда он ехал на лодке один из Москвы в Астрахань, в одной деревне били, но в этой же деревне дети знали наизусть стихи Казина.
Когда пишут комический сценарий, то потом его все переделывают. Между прочим, шофера так определяют различную степень неопытности. Предположим, что стоит автомобиль. «Серый» подходит и жмет у него сигнальную грушу — это полное незнание дела. «Сырой» подходит и переставляет скорости, что уже портит машину. Сценарий переделывают и «серые» и «сырые». Каждому хочется показать, что он тоже умный человек, если он работает в комиссариате народного просвещения. Сперва пожмет грушу — переделает надписи, потом почувствует себя человеком творческим и шофероподобным и переделает эпизод. Удержаться от того, чтобы не ткнуть пальцем, не переделать, может только очень культурный и выдержанный человек. Я помню на одном просмотре жена директора фабрики задумалась и сказала вдохновенным голосом: «А хорошо было бы сюда поставить надпись: „А в это время“!» В результате сценарии у нас получаются не очень смешные. Не работайте на чужом станке!
Шаляпин говорил про актеров: «Вот такой-то актер ко мне на спектакли ходит. Вы думаете, он учиться ходит, он десять лет ждет, пока я голос потеряю». Это в наших нравах. «Мы ленивы и не любопытны», — говорил Пушкин, а кто помнит, по какому поводу он говорил? По поводу ненаписания биографии Грибоедова. Мы, формалисты, любопытны и не ленивы, и Тынянов биографию Грибоедова написал. Наши друзья десять лет ходят в публику и ждут, пока мы потеряем голос, а пока что ужимают в бумаге.
Я расстался с одним шофером в 1917 году. Он был большевиком, хороший шофер из токарей, шофер из рабочих. Сговориться нам было очень трудно, потому что мы были разные люди. Через шесть лет на автомобильном пробеге со мною заговорил человек знакомым голосом, а нужно сказать, что человека в автомобильном шлеме почти невозможно узнать: от лица остается один треугольник носа, бровей и рта. Он назвал свою фамилию: тот самый шофер. «А я вот пишу теперь», — сказал я ему, а он отвечает даже обиженно: «Мне это не нужно говорить, я слежу за литературой». Человек научился многому. Не знаю, не потерял ли он при этом свою прежнюю ядовитость?
Писатель с трудом вырывает свое словесное произведение из автоматизма привычного дня. Произведение писателя становится привычным переходом в новую область эстетики — эстетики штампов.
К этому новому восприятию пишут и новую биографию. Вернее, биография заменяет анекдот.
Площадь вокруг великих могил вымощена добрыми пожеланиями мещан. Они дарят мертвым собственные добродетели.
Есть гардиновская лента «Поэт и царь»[337]. Две части этой ленты заняты фонтаном. Настоящее название ленты поэтому «Поэт и фонтан».
Пушкину здесь подарили молодость, которой он не имел перед смертью, красоту и идеологическую выдержанность.
Крестьянам он читал народные стихи. А Николая ненавидел. Дома Пушкин сидел и писал стихи. На глазах у публики.
Пушкин садится за стол.
Посидел немножко, встал и прочел: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
В семейной жизни Пушкин до Гардина говорил, что, имея дома повара, можно обедать в ресторане. Но теперь он исправился. Сидит дома, жену любит одну, а детей катает на спине.
Настоящего Пушкина, очевидно, понять нельзя. Сделали чучело.
Когда Пушкина убили, то положили в ящик и отправили с фельдъегерем в деревню зарыть.
Постановщик окружает дроги факелами. Получается красиво, но смысл перевозки ящика с трупом, кража трупа у славы не получается.
Павильоны большие и маскарад, конечно, разные маски, которые должны, очевидно, изображать душу Пушкина. Пушкин же погиб глухо на околице; вскрыли его бумаги — и друзья удивились: «Пушкин думал, Пушкин был мыслитель».
Булгарин, конечно, изображен в отрывочке и злодеем. Ходит и покупает «Современник». Тут еще Гоголь стихи слушает. Про хронологию, конечно, и говорить не приходится. Исторически достоверен, вероятно, один халат Пушкина.
Все вместе напоминает рисунок для обучения иностранному языку: в одном углу косят, в другом сеют, в третьем пожар, в четвертом пашут. Снега нет, а в фильме бы сделали.
В честь этих фонтанов на Страстной площади поставлен дополнительный памятник.
На полотне зима так, как в фотографиях. Перед зимой на длинных прямых ногах стоят с шерстью на голове молодой человек, чучело Дантеса, и чучело Пушкина в клеенчатой накидке. Глаза обведены синим.
Это безграмотная ерунда, — сыпь той болезни, которой больна фильма.
В Бурятию приехал фининспектор и разослал населению города окладные листы. Утром проснулся, вышел за дверь юрты. Города нет. Город уехал ночью. Говорят, его (город) видели потом в ста верстах.
Вы вот представьте себе крестьян из Красной армии времен гражданской войны, крестьянина военнопленного из Германии и свежего демобилизованного, которому в казарме читали так много, даже кулинарию. Одних демобилизованных (этих владельцев 10 % площади наших литературных тем) в деревне три сорта.
В деревне на даче встретился с бывшим красным командиром. На стене бедной халупы висел именной маузер.
Демобилизованный имел и аренде совместно с крестьянами паром. Контузия держала его в лихорадке.
«Мельницы имеют, — сказал он мне, — мельницы имеют, а я их разбивал…» «Они» это были бывшие белые, ныне исправные крестьяне. Один из них был и в немецком плену. На стене его халупы висели фотографии, изображающие гимназистов.
Семья уже раскрестьянилась, но была возвращена в крестьянство революцией.
— Скажите, — спросил меня низкорослый хозяин, — скажите, сколько я могу иметь, чтобы не быть кулаком?
Вот и живут люди в деревне разные.
А пахал мужик, боящийся переступить границу в своем хозяйстве, на телятах, и не из бедности, а из конспирации.
Теленок (их звали пионерами) пашет, а как тяговая сила не учитывается. И корова пашет, хотя от этого молока у нее и меньше.
И города бывают странные.
В Богучаре нет ни 1/8 фунта чая. Нет такого богача на чай. Живут в городе извозчики. Развлечение — радио. Между тем в городе сейчас уже построен водопровод.
Мы не представляем себе нашей деревни.
Мне рассказывал один вузовец-крестьянин — тихий малый с белыми, густыми вихром стоящими волосами.
Косят в Олонецкой губернии далеко от села за грязями. Косят, уезжая надолго.
Утром на покосе — мать, старая крестьянка, и сын. Мать спрашивает: — А что правда, что бога нет? Сын, вероятно, ответил — правда.
— Хорошо, если бы не было, — вздохнула мать. Здесь замечательна реальность тоски и заедание «чтобы не было».
Мешает.
ЛИТЕРАТУРА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Многое мы забыли с тех пор. Многое потеряли. Потеряны, например, киноснимки с первого большевистского мая, которые сделал тогда Лев Кулешов.
С годами создались шаблоны воспоминаний. Шаблоны срослись с памятью и героизировались. Очень трудно для писателя преодолеть собственную манеру писать и вспоминать. Вспоминаю.
На дворах заводов росли большелистые тонкие осины. Береза уже взобралась на развалины окружного суда. Очень красивые стены. Трава покрыла Манежный переулок. Дома стояли с закрытыми ртами — парадными подъездами.
Нева летом была голубая. В пруду Летнего сада купались. У кариатид Эрмитажа на звонких торцах играли в рюхи.
На углу Кронверкского проспекта и Введенской за оградой из листов ржавого железа пахали сохой. Мосты и весь город стояли одной крепостью железа без восстановления. Небо было пустое, без дыма. На набережной Мойки стояла длинная, непересыхающая очередь людей за документами на выезд. На документы ставили отпечаток пальца.
У Белицкого, заведовавшего, кажется, административным отделом Петросовета (он же издавал Всеволода Иванова), сидел в кабинете, с окном на Зимний дворец, Мережковский.
Шел разговор о выдаче рукавиц милиции.
«Дайте и мне», — сказал Мережковский.
Белицкий написал записку.
Тогда Мережковский попросил:
«Еще две пары; для Зинаиды (кажется, Николаевны) Гиппиус и для Философова». Но в это время жили и без рукавиц.
В 1915 году Хлебников в журнале «Взял» написал свои предложения. Там было много иронического благоразумия. Велемир предлагал занумеровать общие мысли, как параграфы или статьи свода законов. Это было бы замечательно.
«Шестьдесят девять», — кричали бы мне из «На посту», что означало бы какую-нибудь неприятность. «Сто двенадцать», — отвечал бы я, бережа свое время.
При номерах находились бы и цитаты.
Частично то же предлагает сейчас Третьяков в «Хочу ребенка»[338]. Но только для ругательств.
Велемир предлагал еще создать дома — железные остовы со стеклянными выдвижными ящиками. Каждый человек имел бы право на кубатуру в таком доме любого города.
Это хорошо придумано.
Квартира, оседлость, судьба взяты с минусом.
Нет ничего печальней судьбы.
Если спросить в деревне, особенно у женщин, как называется соседняя деревня, они часто не знают. Их судьба прикрепила к избе мычанием коровы.
Мы жили до революции прикованные к судьбе, как невеселые греческие губки ко дну.
Родишься и прикрепишься. Придешь случайно на специальность и живешь. И жили замечательные поэты с синодальными чиновниками и страховыми агентами.
Безобразно устроена в капиталистическом обществе такая интересная вещь, как человеческая судьба.
И вот во время революции судьбы не было.
Если не хлопотать о рукавицах, то времени много, и царство свободы предвосхищено невесомым, но уже объемным.
Езжай куда хочешь, открой школу суфлеров для Красного флота, читай теорию ритма в госпитале, — слушатели найдутся. У людей тогда было внимание. Мир отчалил с якорей.
Мне тридцать четыре года, и многие из них я помню. И я бы хотел переставить память о двух-трех годах своей жизни вперед и увидать снова то, что мы называем военным коммунизмом.
Даже с ночными пропусками и патрулями на улицах город был голоден, но свободен.
Мы обязаны тому времени своими изобретениями, этого ветра хватило на все паруса.
Достоевский, Джером Джером (покойный ныне) и все еще беспокойный Мережковский равно говорили, что социализм это — скука.
Как очевидец, опровергну.
Горечь устройства жизни и необходимость налаживать ее мы бросили тогда и были, кажется, счастливы. Не хватало только углеводов и белков для того, чтобы закрепить это царство интеллектуальной свободы под пушками «Авроры».
БЕССМЫСЛЕННЕЙШАЯ СМЕРТЬ
Мне очень трудно писать. К умершей так не подходит прошедшее время. Как тут напишешь о человеке, когда не срок подводит его счет. Бессмысленнейшая смерть. Был Горький в сюртуке, в ежике. Хитрый и все понимающий Суханов. Маяковский совсем молодой. Сейчас нет таких молодых.
Была тогда Лариса Рейснер.
С русыми косами. С северным лицом. С робостью и самоуверенностью.
Писала рецензии в «Летописи» и поэму, конечно, как и надо в девятнадцать лет, мирового значения, кажется, «Атлантида».
Мы переезжали тогда в мир, как в новую квартиру.
Лариса Михайловна радовалась конькам. Любила, чтобы ее видели на катке. Потом работала в студенческих, очень неопытных журналах: «Рудин», кажется, и «Богема».
Рейснер, как писатель, как северянка, зрела медленно.
Потом революция. Как ветер в парус.
Лариса Михайловна была среди тех, кто брал Петропавловскую крепость. Это нетрудный штурм. Но нужно было подойти к крепости. Поверить, что ее ворота откроются.
Первое заседание «Новой жизни». Рейснер говорила что-то. Стеклов ужасался и спрашивал все время соседей: она марксистка? А Лариса Михайловна в это время уже принимала участие, кажется, в реформе русского правописания.
Она не была тогда мыслителем, ей было двадцать два года. Она была талантлива и смела жить.
Люди думают, что они съедят жизни много, а только пробуют.
У Рейснер была жадность к жизни. И в жизни она все шире надувала паруса.
Путь у нее был в полветра, вразрез.
Она хорошо описывала Зимний дворец. Умела видеть в нем смешное.
Была у большевиков, когда они казались нам сектой. Тогда Блок горько говорил: большинство человечества — «правые эсеры».
Помню Ларису Михайловну в «Лоскутной» гостинице. Была она женой Раскольникова. Флот стоял чуть ли не на Москве-реке.
Было так тесно, что почти стыдно.
Я был во враждебном лагере. Когда я передумал и вернулся, Лариса встретила меня, как лучший товарищ. Со своей северной пасторской манерой и как-то хорошо.
Потом она ушла с флотилией на Волгу.
Она упаковывала жизнь жадно, как будто собиралась увязать ее всю, уехать на другую планету.
Миноносцы Раскольникова переползли через мели и провели по Волге красную черту.
Здесь в походах нашла Лариса Рейснер свою литературную манеру.
Это не женская манера писать. И это не привычная ирония журналиста.
Ирония — дешевый способ быть умным.
Лариса Михайловна дорожила тем, что видела, и принимала жизнь всерьез. Немного тяжеловесно и перегруженно. Но и жизнь была переполнена тогда, как теплушка.
Рейснер росла медленно и не старела. Не набивала руку. Лучшее, что она написала, было сделано вот сейчас. Прекрасное описание Ульштейна, заводов Юнкерса.
Очень хорошо она понимала Германию.
Это был настоящий корреспондент, который видел не глазами редакции.
Культура ученицы акмеистов и символистов дала Ларисе Рейснер умение видеть вещи.
В русской журналистике ее стиль наиболее ушел от стиля книги.
Это потому, что она была одна из самых культурных. Вот как недешево был создан этот журналист.
Писать Лариса Михайловна только что начала. Не верила в себя, переучивалась.
Лучшая ее статья — о бароне Штейнгеле («Декабристы», кажется, только сейчас печатаются).
Она только что научилась не описывать, не называть, а развертывать предмет.
И вот чужое лицо в знакомом зале Дома печати. Столько раз здесь ее видели!
Из русской журналистики, как зубами, вырвали живой кусок.
Друзья никогда не забудут Ларисы Рейснер.
ЗОРИЧ
Название этой статьи — ошибка против законов построения фельетона, так как в статье я действительно собираюсь писать о Зориче.
Чтобы исправить ошибку, начну с Л. Сосновского.
Сейчас несколько его фельетонов вышли отдельной книжкой в библиотеке «Огонька».
Сосновский — хороший агроном, а также пишет статьи о музыке и литературе.
Если бы он не был фельетонистом, то все это означало бы, что он работает не по своей специальности.
Но Сосновский работает по своей специальности фельетониста.
Ломоносов когда-то советовал в одах соединять в одной строке «далековатые идеи», и сейчас это делают в фельетоне.
Понятие фельетона чрезвычайно широко и создавалось исторически, а не явилось результатом анализа. Говорят о «маленьком фельетоне», о «фельетоне-романе». Но с точки зрения техники писания главной чертой фельетона нужно признать: 1) связанность его с газетой сегодняшней темой, 2) введение в него еще нескольких умышленно издалека взятых тем.
Это введение новых тем дается или с самого начала неожиданным названием, между которым и первой строкой текста читатель ощущает резкий переход. Такое название обычно разъясняется только в последних строках фельетона, разрешая его. Часто фельетон состоит из двух или трех фактов, рассказываемых параллельно, или же начинается с одного случайного и странного факта, откуда внезапно переходит на тему дня.
У Сосновского есть фельетон: «Не поклонимся иностранцам, а поклонимся земле-матушке».
Написан он во время переговоров с английским правительством относительно займа. Содержание его (основное) — агитация за разведение корнеплодов. Логического противопоставления займа турнепсу нет, так как турнепс можно развести на занятые деньги, но здесь правильно проведен фельетонный принцип, сводящийся к тому, что предмет должен быть подан в неожиданном контексте.
Прием Дорошевича, — короткие, не связанные друг с другом строки, — так привился к фельетону потому, что им достигается в самом стиле тот же фельетонный эффект неожиданного восприятия.
Л. Сосновский основал общество «Хозяйственной разведки». Разведки, а не исследования.
Каждое дело, воспринятое в своем ряду, в своем генезисе, всегда логично. Английское «министерство околичностей», о котором писал Диккенс, несомненно, самое историчное и генетически правильно выросшее учреждение.
Но журналист-фельетонист, считаясь с логикой, не считается с генезисом, он сопоставляет «далековатые вещи» и выхватывает разведкой отдельные факты.
С этой стороны фельетонисты, не являясь ни учреждением, ни профсоюзом, необходимы. Фельетониста почти всегда можно если не опровергнуть, то отвести словами: «единичный факт», «неизбежная отрыжка гнилого быта».
Но фельетоны обжалованию не подлежат.
Фельетоны советские отличаются от своих досоветских предшественников в общем меньшей дробностью стиля.
В иных сдвиг дан на большом материале.
Все чаще советский фельетонист пользуется фактом, письмом, протоколом.
Лучшие фельетоны Сосновского основаны на этом принципе.
Иногда работа художника выражается в том, что он выбирает одно выражение документа и обращает его в название и в протекающий образ, на фоне которого весь отрывок заново ощущается.
Таковы фельетоны Сосновского «Главное, не стесняйся», «Указ Дюка де Ришелье» и «Конная дура» Зорича.
Не нужно думать, что переход на материал исключает работу художника. Лесков скупал старые архивы, и его личные вещи представляют собой выборки из этого материала (Эйхенбаум). Вещь Л. Н. Толстого «За что» является контаминацией цитат из Максимова (Тынянов).
В работе Зорича фельетон претерпел значительное изменение. Основная тема Зорича — провинция. Провинция дается им документом и рассказом, физиологическим очерком без сюжета.
Физиологические очерки, как мы это видим в английской и русской (но не немецкой) литературе, соответствуют моменту предроманному, времени, когда не ощущается старая сюжетная форма, но сам материал начинает восприниматься эстетически.
Для Диккенса «Боттские очерки» непосредственно перешли в «Записки Пиквикского клуба».
Сюжетного построения у Зорича обычно нет, хотя он сюжетом и владеет, как это можно увидеть из хорошего рассказа «О копейке».
Но чаще место сюжета занимает умышленное противопоставление тона рассказа событию: «…начинается — судебное следствие „о звуке, испущенном в березовой роще“». Обвиняемый рабочий-комсомолец опрашивается на основании ст. ст. 99, 162, 168 и 187 уголовного кодекса — целых четыре статьи.
Дальше идет серьезное описание дела. Комсомолец защищается по делу о звуке даже с латинскими цитатами: «Audiatur et altera pars». На этом же принципе, но с тем изменением, что шутливая торжественность закреплена потом заключением, основана манера письма фельетона «О цветной капусте».
Но главное в фельетонах Зорича не в этом: они существуют не изолированно, а связанно со всем листом газеты. Их фельетонность рождается на границе между документом Зорича и окружающими их статьями. Фельетоны Зорича — фельетоны на фоне статей о Чемберлене.
Стилистически Зорич тесно связан с Лесковым и еще больше с Гоголем, часто повторяя их интонации. Но как фельетонист он почти совершенно оригинален.
Хотя литературные достоинства его вещей значительно выше газетного уровня, вещи Зорича, мне кажется, очень потеряют вне газеты.
Они потеряют больше, чем фельетоны Сосновского или Кольцова.
Зорич перепечатывает свои вещи отдельной книжкой. Я советую ему по крайней мере обильно снабдить книжку газетными прокладками, эпиграфами и цитатами.
Потому что самый лучший фельетон — это такой, который нельзя вынуть из газеты.
КРАШЕНЫЙ ЭКСПОНАТ
О фельетоне
Работу о фельетоне нужно было бы написать следующим образом.
Сначала перечислить все, что называется фельетоном, проанализировать все, подводимое под это понятие. Потом выяснить, объединяет ли это название вещи существенно сходные или только случайно одинаково названные.
Выяснив основное сходство большей части материала и отличив ее этим самым сходством от других явлений литературы, мы смогли бы дать правильное, не догматическое определение фельетона.
Я этого не делаю.
Поэтому работа моя здесь по необходимости пунктирная.
В своих статьях в «Журналисте» (о Зориче и Сосновском) я указывал, что некоторые явления современной прозы причисляются к жанру фельетона не столько по своему внутреннему строению, сколько по месту печатания.
Это любопытнейший случай определения жанра функцией.
Фельетон Зорича, напечатанный вне газеты, — это беллетристика. Старый, дореволюционный фельетон в качестве специфической черты жанра имел множественность и легкость тем.
Старая фельетонность — это особый литературный способ указания необычных ассоциаций.
С революцией в жанре фельетона произошло изменение
Он окрупнел.
Количество тем в одном фельетоне уменьшилось.
О фельетонной легкости мы говорим по памяти. Современный фельетон состоит обычно из двух-трех тем.
Одна целевая — программна. Фельетон называется не по ней, а по теме дополнительной, остраняющей. Эта тема вводится для изменения ключа, в котором обычно воспринимается целевая тема.
Искусство фельетониста состоит, таким образом, в неожиданности и обязательности (не натянутости) расшифровки главной темы при помощи дополнительной.
Иногда остраняющей теме дается так, как в новелле, отрицательный конец.
То есть (приятно начать фразу с «то есть») тема, изменяющая основную, дается вне произведения.
Так, например, Сосновский описал поведение какого-то безобразника тоном, его оправдывающим.
Фельетонность приема — в остранении темы способом изложения.
Как будто бы введением не упомянутого сказчика. Может быть, именно тоном объясняется то, что к жанру фельетонов относят такие произведения, как «Сон Чемберлена», и прочие «фантастические» статьи.
Фельетонно здесь остранение статейного фактического материала.
Но при однотемности эти вещи находятся на краю жанра.
Классический советский фельетон
Он сейчас представлен М. Кольцовым.
У него постоянная двух- или трехтемность. Удачею Кольцова нужно считать то, что он умеет учесть тембр тем и никогда не соединяет в одной вещи однотипных тем.
Любопытно, что Кольцов даже в своих статьях, как, например, в описании перелета через Черное море, пользуется фельетонными приемами введения второй темы по далекой ассоциативной связи. Скорее всего, по типу старого фельетона.
Расширение жанра
В провинциальных и в профессиональных газетах фельетоном называют сейчас инсценированную статью, однотемную, но имеющую беллетристические черты.
Появился тип фельетона с эпиграфом — темой, которая потом зафельетонивается.
На ту же тенденцию расширить понятие жанра указывает заявление Сосновского на одном из диспутов: «Откройте последнюю страницу „Гудка“ — и вы там найдете сразу двадцать-тридцать фельетонистов».
Указание это, конечно, неправильное, так как вы на этой странице найдете работу 5–6 правщиков, которые инсценируют в разговоры рабкоровский материал.
Но Сосновский еще решительней. Он называет очерки Рихтер фельетонами и дальше предлагает «профельетонить нашу газету от передовой до смертоубийственной хроники» («Журналист», январь, 1926). Здесь жанр погибает от расширения сердца.
Прием этот — фельетонный.
Именно фельетонист может предложить сделать фельетоны даже из объявления.
Тут слово «фельетон», «фельетонность» не термин, а средство дать фельетон — неожиданно повернуть понятие.
Конечно, можно спросить: а для чего работать над термином, зачем выяснять, что такое фельетон? Можно ведь ограничиться по Мольеру:
«Опиум усыпляет, потому что имеет снотворную силу».
А фельетон — это то, что профельетонено. Но с этим нельзя лечить.
Газета, состоящая из одних фельетонов, невозможна. Нельзя дать разницу без сравнения.
Механизм фельетона сопротивляется распылению жанра
Иногда одно название в фельетоне остается фельетоном, но тогда оно — тема.
Недавно Кольцов, фельетонист чистокровнейший, написал статью о газетных шаблонах, о «бурных аплодисментах», «переполненных залах» и прочих штампах.
Статья эта — фельетон. Признак — заглавие «Утопающий гроб».
Это всего только один из штампов, остраненный усечением конца фразы «гроб утопал в цветах».
Но гроб — это тема, гроб как образ в просторечии — это скука, провал. «Гибнущий гроб» — это тема весьма мрачного кораблекрушения.
Почти такую же работу проделал раз Зорич, назвав статью об ораторских штампах (в их деревенском преломлении) — «Конная дура».
Это всего только конъюнктура. Конная дура — всего только пример народной этимологии. А заглавие — цитата из статьи.
Но у этого заглавия, как и у первого, мною приведенного, есть свой ореол. Получается тема о какой-то дурацкой воинственной бестолочи.
Сами рассказы Зорича, печатаемые в газетах, — фельетоны. Это показывается нам интереснейшим «спором о красках».
Здесь спор пошел не о границе между статьей и фельетоном, а о границе между фельетоном и «рассказом».
Зорич получал от своих читателей письма. В этих письмах не предлагался материал. В этих письмах материал протестовал. Какой-то пограничный товарищ писал о фельетоне Зорича «Случай из Орловщины».
В этом фельетоне идет дело о человеке, раздавившем учительницу.
Изложено все это в фельетоне с подробностями, с разговорами.
Против этих подробностей протестует корреспондент.
Так вот — откуда может Зорич знать, что секретарь (раздавивший) закричал кучеру «гони, поезжай», а не просто «поезжайте», или «скорее», или еще что-нибудь?
Откуда он, фельетонист, может знать, сидя в Москве, насколько сух или любезен был в тот или другой момент секретарь со старухой и как изменилось выражение его лица, когда он узнал о старухином социальном положении?
Корреспондент считает, что вымысел в фельетоне, коль скоро он допущен, умаляет или даже уничтожает общественное значение последнего, потому что порождает у читателя недоверие к самому факту, который лежит в основе изложения.
Письмо интересное.
Зорич на него ответил, что он за «краски». «Потому, что мало привести отрицательный факт, нужно рассказать о нем так, чтобы рассказ этот взял читателя за живое».
Я против красок
Не знаю, как читатель, но если бы я был фактом, то я бы хотел, чтобы меня брали за живое другим способом.
Если я прочту, что определенная дистанция сделана спортсменом не в 2,1, а в 2,05, то меня это 0,05 разницы интересует, как факт.
А если я в рассказе прочту, что герой без адреса пробежал всю дистанцию в 2,00, то это меня интересует меньше.
Представьте себе, что вы читаете рассказ о революционере Камо, например. Он делал невероятные вещи. Почти невозможные.
Но можно прибавить, придумать еще более невероятные. Но не надо. Мы прибавкой обесценим сделанное.
Из уважения к сделанному нельзя придумывать. Придумка обесценивает 0,05.
А газетный день состоит из реальных дробей. Зорич — талантливый фельетонист, но он поставил среди живых людей чучела. Он не сделал бы этого, если бы обладал большим чувством жанра.
Значение фельетона сейчас
Фельетон и весь его успех сейчас, который мы еще не сумели оценить, основан на том, что фельетонная форма позволяет работать реальными фактами.
Радостное ощущение, ощущение сдвига, поворота материала даются здесь между кусками, а не в кусках.
В рукоделии, в вышивках хорошим тоном считалось не подкрашивать вышивку.
Не обходить трудности.
Нужно работать серьезными крестиками.
Сейчас время литературной реакции.
Похвалой писателя считается сказать, что он работает не хуже такого-то. А десять лет между «таким-то» и тем, что пишут сейчас, списывают в убыток.
Фельетон в себе содержит элементы работы иным способом.
Он — часть нового жанра.
Осаживать фельетон на художественную прозу — это значит списать себя в убыток.
БАБЕЛЬ
Критический романс[339]
Мне как-то жалко рассматривать Бабеля в упор. Нужно уважать писательскую удачу и давать читателю время полюбить автора, еще не разгадав ее. Мне совестно рассматривать Бабеля в упор. У Бабеля есть такой отрывок в рассказе «Сын ребби»: «Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную и курчавую мужественность исчахшего семита».
И я беру для статьи о Бабеле лирический разгон. Была старая Россия, огромная, как расплывшаяся с распаханными склонами гора.
Были люди, которые написали на ней карандашом: «Гора эта будет спасена».
Еще не было революции.
Часть людей, писавших карандашом, работала в «Летописи». Там недавно приехавший Горький ходил сутулым, недовольным, больным и писал статью «Две души». Статью совершенно неправильную.
Там ходила девочка Лариса Рейснер (еще до взятия ею Петропавловской крепости). Там ходил Брик с Жуковской улицы, 7, и я, в кожаных штанах и куртке из автороты. Журнал был полон рыхлой и слоистой, даже на старое сено непохожей беллетристикой. В нем писали люди, которые отличались друг от друга только фамилиями.
Но тут же писал Базаров, слепнем язвил Суханов, и здесь печатался Маяковский.
В одной книжке был напечатан рассказ Бабеля. В нем говорилось о двух девочках, которые не умели делать аборта. Папа их жил прокурором на Камчатке. Рассказ все заметили и запомнили. Увидал самого Бабеля. Рост средний, высокий лоб, большая голова, лицо не писательское, одет темно, говорит занятно.
Произошла революция, и гора была убрана. Некоторые еще бежали за ней с карандашом. Им не на чем было больше писать.
Тогда-то и начал писать Суханов. Семь томов воспоминаний. Написал он их, говорят, сразу и наперед, потому что он все предвидел.
Приехал я с фронта. Была осень. Еще издавалась «Новая жизнь».
Бабель писал в ней заметки «Новый быт». Он один сохранил в революции стилистическое хладнокровие. Там писалось о том, как сейчас пашут землю, я познакомился тогда с Бабелем ближе. Он оказался человеком с заинтересованным голосом, никогда не взволнованным и любящим пафос.
Пафос был ему необходим, как дача.
В третий раз я встретился с Бабелем в Питере в 1919 году. Зимой Питер был полон снегом. Как будто он сам стоял на дороге заноса, только как решетчатый железнодорожный щит. Летом Питер прикрыт был синим небом. Трубы не дымили, солнце стояло над горизонтом, никем не перебиваемое. Питер был пуст — питерцы были на фронтах. Вокруг камней мостовой выкручивалась и вырывалась к солнцу зеленым огнем трава.
Переулки уже зарастали.
Перед Эрмитажем, на звонких в том месте, на выбитых торцах играли в городки. Город зарастал, как оставленный войсками лагерь.
Бабель жил на проспекте 25 Октября, в доме № 86. В меблированных комнатах, в которых он жил, жил он один, остальные приходили и уходили. За ним уносили служанки, убирали комнаты, выносили ведра с плавающими объедками.
Бабель жил, неторопливо рассматривая голодный блуд города. В комнате его было чисто. Он рассказывал мне, что женщины сейчас отдаются главным образом до 6 часов, так как позже перестает ходить трамвай.
У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ. Ремесло накладывало на человека следы его инструментов.
У Бабеля на столе всегда был самовар и часто хлеб. А это было в редкость.
Принимал Бабель гостей всегда охотно. В его комнате водился один бывший химик, он же толстовец, он же рассказчик невероятных анекдотов, он же человек, оскорбивший герцога Баденского и явившийся потом на суд из Швейцарии, чтобы поддержать свое обвинение (но признанный ненормальным и наказанный только конфискацией лаборатории), он же плохой поэт и неважный рецензент, невероятнейший человек Петр Сторицын. Сторицыным Бабель дорожил. Сюда же ходил Кондрат Яковлев[340], еще кто-то, я, и заезжали совершенно готовые для рассказа одесситы-инвалиды и другие разные одесситы и рассказывали то, что в них было написано. Бабель писал мало, но упорно. Все одну и ту же повесть о двух китайцах в публичном доме.
Повесть эту он любил, как Сторицына. Китайцы и женщины изменялись. Они молодели, старели, били стекла, били женщин, устраивали так и эдак. Получилось очень много рассказов, а не один. В осенний солнечный день, так и не устроив своих китайцев, Бабель уехал, оставив мне свой серый свитер и кожаный саквояж. Саквояж у меня позже зачитал Юрий Анненков. От Бабеля не было никаких слухов, как будто он уехал на Камчатку рассказывать прокурору про его дочерей.
Раз приезжий одессит, проиграв всю ночь в карты в знакомом доме, утром занявши свой проигрыш, рассказал в знак признательности, что Бабель не то переводит с французского, не то делает книгу рассказов из книги анекдотов.
Потом в Харькове, проезжая раненым, услыхал я, что Бабеля убили в Конной армии.
Судьба, не спеша, сделала из всех нас сто перестановок.
В 1924 году я снова встретил Бабеля. От него я узнал, что его не убили, хотя и били очень долго. Он остался тем же. Еще интереснее начал рассказывать.
Из Одессы и с фронта он привез две книги. Китайцы были забыты, и сами разместились в каком-то рассказе.
Новые вещи написаны мастерски. Вряд ли сейчас у нас кто-нибудь пишет лучше.
Их сравнивают с Мопассаном, потому что чувствуют французское влияние, и торопятся назвать достаточно похвальное имя.
Я предлагаю другое имя — Флобер. И Флобер из «Саламбо».
Из прекраснейшего либретто к опере.
Самые начищенные ботфорты, похожие на девушек, самые яркие галифе, яркие, как штандарт в небе, даже пожар, сверкающий как воскресенье, — несравним со стилем Бабеля.
Иностранец из Парижа, одного Парижа без Лондона, Бабель увидел Россию так, как мог ее увидеть француз-писатель, прикомандированный к армии Наполеона.
Больше не нужно китайцев, их заменили казаки с французских иллюстраций.
Знатоки в ласках говорят, что хорошо ласкать бранными словами.
«Смысл и сила такого употребления слова с лексической окраской, противоположной интонационной окраске, — именно в ощущении этого несовпадения» (Юр. Тынянов, «Проблема стихотворного языка»). Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах, и о триппере.
Лирические места не удаются Бабелю.
Его описания Брод, заброшенного еврейского кладбища, не очень хороши.
Для описания Бабель берет высокий тон и называет много красивых вещей. Он говорит:
«Мы ходим с вами по саду очарования, в неописуемом брынском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, вы не видите его японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск родится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности волнистой, как линии Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков, а шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги…»
Правда, этот отрывок кончается так: «Купите очки, Александр Федорович, умоляю вас» («Линия и цвет»).
Умный Бабель умеет иронией, вовремя обозначенной, оправдать красивость своих вещей.
Без этого стыдно было бы читать.
И он предупреждает наше возражение, и сам надписывает над своими картинами — опера.
«Обгорелый город, переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновидение. Голый блеск луны лился на него с неистекаемой силой. Серая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал, потревоженный душой, выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны».
Я сравнивал «Конармию» с «Тарасом Бульбой»: есть сходство в отдельных приемах. Само «Письмо» с убийством сыном отца перелицовывает гоголевский сюжет. Применяет Бабель и гоголевский прием перечисления фамилий, может быть идущий от классической традиции. Но концы перечислений у Бабеля кончаются переломом. Вот как пишет казак Мельников.
«Тринадцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трупов, и белого жеребца нет подо мною, так что, согласно перемене военного счастья, не дожидай увидеть любимого начдива Тимошенку, товарищ Мельников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может быть, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Мельников».
Все казаки у Бабеля красивы нестерпимо и несказанно. «Несказанно» любимое бабелевское слово.
И всем им намеком дан другой фон.
Бабель пользуется двумя противоречиями, которые у него заменяют роль сюжета: 1) стиль и быт, 2) быт и автор.
Он чужой в армии, он иностранец с правом удивления. Он подчеркивает при описании военного быта «слабость и отчаяние» зрителя.
У Бабеля, кроме «Конармии», есть еще «Одесские рассказы». Они наполнены описанием бандитов. Бандитский пафос и пестрое бандитское барахло так нужно Бабелю, как оправдание своего стиля.
Если начдив имеет «ботфорты похожие на девушек», то «аристократы Молдаванки — они были затянуты в малиновые жилеты, их стальные плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах с костяками лопалась кожа цвета небесной лазури» («Король»). И в обеих странах Бабель иностранец. Он иностранец даже в Одессе. Здесь ему говорят «…забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге».
Конечно, это не портрет Бабеля.
Сам Бабель не такой: он не заикается. Он храбр, я думаю даже, что «он может переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется им довольна».
Потому что русская женщина любит красноречие. Бабель прикидывается иностранцем, потому что этот прием, как и ирония, облегчал письмо. На пафос без иронии не решается даже Бабель.
Бабель пишет, утаивая музыку при описании танца и в то же время давая вещь в высоком регистре. Вероятно, из эпоса он заимствовал прием ответов с повторением вопроса.
Этот прием он применяет всюду.
Беня Крик в «Одесских рассказах» говорит так:
«Грач спросил его:
— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?
— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.
— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую».
Так же говорят казаки в «Письме».
«И Сенька спросил Тимофея Родионыча:
— Хорошо вам, папаша, в моих руках?
— Нет, — сказал папаша, — худо мне.
Тогда Сенька спросил:
— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?
— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.
Тогда Сенька спросил:
— А думали ли вы, папаша, что и вам худо будет?
— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет».
Книги Бабеля — хорошие книги.
Русская литература сера, как чижик, ей нужны малиновые галифе и ботинки из кожи цвета небесной лазури.
Ей нужно и то, что понял Бабель, когда он оставил своих китайцев устраиваться, как они хотят, и поехал в «Конармию».
Литературные герои, девушки, старики, молодые люди и все положения их уже изношены. Литературе нужна конкретность и скрещивание с новым бытом для создания новой формы[341].
СОВРЕМЕННИКИ И СИНХРОНИСТЫ
История этого отрывка следующая:
Я прочел свою фамилию в «Русском современнике» рядом с фамилиями Абрама Эфроса, Козьмы Пруткова и еще какого-то классика.
Тогда я написал в «Русский современник» письмо.
В этом письме я выразил удивление тому, что оказался современником Тютчеву и Пруткову, не отрицая самого факта, но категорически отрицал свою одновременность с Абрамом Эфросом и Ходасевичем, утверждая, что это только хронологическая иллюзия. Письмо не было напечатано, и статья только использовала эту тему.
Льва Лунца, ныне покойного, я узнал, когда он был еще мальчиком, через каждое слово говорящим «моя меме».
«Меме» его с отцом уехали за границу. Лунц выбрал — остаться.
Лунц был мальчик из средней буржуазной семьи. Она дала ему хорошую подготовку в смысле хотя бы знания иностранных языков. Как каждый мальчик, Лунц увлекался Дюма, Стивенсоном, капитаном Мариеттом. Каждый мальчик под давлением «меме», давлением традиции отказывается от своей детской литературы и переходит к Тургеневу и Вересаеву.
Лунц выбрал — остаться.
Будучи чрезвычайно образованным для своего возраста человеком и начитанным специалистом-филологом, он остался на почве юношеского романтизма и юношеской сюжетной действенной литературы.
Мама и папа (милые люди) — традиции — уехали, а Лунц писал веселый роман в письмах о том, как едут почтенные люди через границу и везут с собой деньги в платяной щетке. Щетку крадут. Тогда начинается бешеная скупка всех щеток на границе. Роман кончается письменным заказом одного лавочника: «Еще два вагона платяных щеток прежнего образца».
Лев Лунц был — как трава, выросшая в прочищенном лесу.
Судьба избавила его от компромиссов.
Вещи его не напечатаны, потому что они не традиционны. Наши современники больше всего любят молодых, пишущих не хуже старых, и это большая вина всех друзей неплохо пишущего Леонова.
Друзья Лунца теряют сейчас свою молодость.
Михаил Слонимский, начавший прекрасным скетчем и советскими небылицами, ушел в обыкновенные рассказы. «Машина Эмери» — способная книга, но писать ее не стоило.
Не нужно стремиться выполнять задания старых театров. Не нужно увлекаться темой. Не нужно говорить «моя меме».
Мама уехала.
Нужно прекратить «охрану» культуры, передать музеи в Госхран, с правом обозрения, а в старой литературе изучать метод, а не тему. Тема заняла сейчас слишком много места. Она кажется достаточной пролетарским писателям для создания новой литературы, и она же угнетает Ахматову.
Есенина тема загнала в пивную и не пускает его оттуда: он должен пить и раскачиваться, как пьяный.
Казин рассказывает о всех своих родственниках по порядку[342].
И даже Маяковский сидит в плену своей темы: революция и любовь, извиняющаяся за то, что она пришла во время революции.
А что в стихах тема?
Так, гвоздь, на котором можно повеситься самому, а можно и повесить только шляпу.
Поэты уже начинают бежать из областей, занятых их темами. Где сейчас Маяковский?
«Нигде, кроме как в Моссельпроме» или «Сообщаем кстати — в Госиздате».
И пускай гуляет, там ему тема не мешает, и там он отгуляется.
Я написал слишком длинное предисловие. Но статьи все равно не будет, и предисловия мешают только молодым писателям.
Писатели являются в литературу по-разному: с предисловием и без предисловий.
Писатели с предисловиями, как общее правило, недолговечны.
Помню, как начали говорить о Есенине: впечатление театральное, сперва гул, потом в гуле появляются звуки, и вдруг фамилия как будто сама рождается.
Как довольно старый журналист, тут же изложу совершено необходимые сведения и правила для выведения писателя из литературы.
Сейчас это делается так: начинают ругать человека на чем свет стоит, причем обычно кричат: «талантлив, но вреден», начало фразы обычно запоминается. Не так съедали людей прежде. Людей ругали в придаточных предложениях, как будто бы между прочим. Желающие ознакомиться с этой техникой могут прочесть ее оценку у Льва Толстого в «Анне Карениной»; там таким способом съедают брата Левина. Ругать нужно не обращая внимания.
Сообщаю об этом всем, всем, всем, так как люблю во всем высокую технику.
Но вернемся к Есенину, который, вероятно, уже волнуется.
Есенина я увидел в первый раз в салоне Зинаиды Гиппиус; здесь он был уже в опале.
— Что это у вас за странные гетры? — спросила Зинаида Николаевна, осматривая ноги Есенина через лорнет.
— Это валенки, — ответил Есенин.
Конечно, и Гиппиус знала, что валенки не гетры, и Есенин знал, для чего его спросили. Зинаидин вопрос обозначал: не припомню, не верю я в ваши валенки, никакой вы не крестьянин.
А ответ Есенина: отстань, и совсем ты мне не нужна. Вот это тогда делалось.
А спор весь шел об Октябрьской революция.
Но Есенина я знал и раньше. Он был красивый, в золотых кудрях, синеглазый, молодой, с чудным говором. Беда Есенина в том, что он слишком долго носил в городе валенки. Искусство явилось для него не отраслью культуры, не суммой знания — умения (по Троцкому) с расширенной автобиографией. Пропавший, погибший Есенин, это есенинская поэтическая тема, она может быть и тяжела для него, как валенки не зимой, но он не пишет стихи, а стихотворно развертывает свою тему.
Ошибка Есенина в том, что он не умеет отличать число месяца от престольных праздников. Это, может быть, крестьянская ошибка.
Число — это умение, праздник — это тема, связанная с числом.
А крестьянство живет по праздникам.
Помню, как появился Николай Тихонов. Сперва пошел в Ленинграде по студиям слух, что появился красноармеец-кавалерист вроде унтер-офицера и пишет стихи, очень плохие, но с замечательными строками. Потом появился и сам Тихонов. Худой, по-солдатски аккуратно одетый, тренированный. Поселился он внизу в Доме искусств, в длинном темном и холодном коридоре, вместе со Всеволодом Рождественским. Посередине комнаты стояла железная печка, а дрова лежали под кроватями. У окна был стол; за этим столом и Тихонов и Рождественский писали одновременно. Когда в Доме искусств был вечер, на котором Кусиков танцевал лезгинку на столе, к великому негодованию всей посуды, то на этом вечере Тихонов читал своего «Махно». А потом в комнате его на полу ночевало человек пятнадцать молодежи, и утром он всех напоил чаем из одного чайника.
Дорогие молодые современники, бойтесь каракулевого овцеводства: слишком быстрого рождения поэтов и прозаиков. Шкурка красива, но ягненок недоношен. Суровый мороз коридора Дома искусств, военная служба и колка льда на улице не повредили Тихонову. То, что в России не выходило два-три года журналов, тоже пошло молодым писателям на здоровье. Они писали для себя.
Тихонов не дорожит своими валенками. Он растет, изменяется, читает историю морских войн и учится английскому языку. Он умеет отличать число месяца от престольного праздника. Он знает, что Георгиев день — день выгона коров — не по заслуге Георгия. Имея хорошую биографию и настоящую мужскую выправку, он не пишет просто о себе, а проламывается через русскую культуру: учился у Гумилева, учился у Киплинга, учился у Пастернака, учится у Хлебникова. И эта работа сохраняет Тихонову его романтизм. Он остался все тот же: и шарф вокруг его шеи, и узкие, как ножом обрезанные, щеки его все те же. И вот, наконец, я добрался до Всеволода Иванова. Мы снимали пальто вместе с мешком, не вынимая рукавов пальто из лямок. Говорили, что мешок станет частью всякого костюма каждого русского, как прежде воротник.
Мне раз сказал Горький низким голосом: «Тут писатель молодой приехал, наборщик, — хотите познакомиться?» Я сказал, что хочу. Заодно Горький дал мне для него денег и описал наружность.
Я поймал Всеволода Иванова на Фонтанке против цирка Чинизелли и загнал его в магазин «Книжный угол», единственный магазин в Питере. Здесь сидел в углу Ховин, пил чай из желтого чайника и изображал собой букиниста. Покупателей было в Питере человек пять, все книжники.
Всеволод тогда был худ, с лицом как после тифа, с рыжими выцветшими волосами, с бородой цвета и достоинства конского волоса. На нем был нагольный полушубок без ворота, пуговиц и меха внутри, а на ногах самодельные короткие суконные обмотки и башмаки, крепко перевязанные проволокой. Смотрел он дико и недоверчиво, но деньги взял.
Через неделю Всеволод читал свой рассказ у Серапионов, но держался больше у стены, что объяснялось потом состоянием брюк. Приехал Иванов уже со многими вещами, со своей манерой, а в Питере писал все время легко и интересно.
У нас было впечатление, что он слишком талантлив, что образы заливают его потому, что ему ничего не стоит. Он не боялся ошибок, потому что почти не знал правил. Первые вещи его были цветные, темы сельские, азиатско-крестьянские. Всеволод с Никитиным образовали у Серапионов восточное крыло. Но уже с «Дите», долго и тщательно запрещаемого цензурой, у Иванова оказалась и другая линия, которая первое время была не замечена почти никем. Всеволод в этой вещи показал умение строить сюжет и понимать иронию художественного построения. Кустарное мастерство и торговля этнографией его не прельстили. Всеволода определили сейчас же по его теме; крестьянский писатель, стихийный художник, азиат. Но он не настаивал на валенках.
Три года, прожитых Ивановым в литературе до сегодняшних дней, для него, может быть, только три кружки пены, выливаемой на землю для того, чтобы наполнить четвертую кружку вином. Всеволод движется сейчас стремительно на запад — к сюжету, к Уэллсу, и это движение не случайное, а подготовлено с первых вещей.
Я думаю, что многие помнят содержание ивановского «Дите». Партизаны из-под Иртыша загнаны белыми в Монголию. Монголия — зверь дикий, нерадостный, здесь бабочки и те кусаются. Женщин у партизан нет, и они ловят и обижают киргизок. Живут они темно и душно. Случайно попадает к партизанам «дите» убитого офицера. Дите надо воспитывать, а щей оно не ест. Скачут партизаны к киргизам — отбить корову, но на удачу им, кроме коровы, попадается и киргизка с молоком. Киргизка как-то захватила с собой и собственного ребенка и кормит двоих: желтенького и беленького под внимательным наблюдением партизан. В этом месте читатель начинает привычно умиляться, чувствуя себя в знакомых местах. Действительно, сюжет знакомый, это «Счастье Ревущего поселка» Брета Гарта и какой-то рассказ Горького или Андреева[343] о рождении человека на квартире воров и проститутки, это даже похоже на сюжет одной фильмы Чаплина «К. Л.». Жалостно умиляется читатель на изображение суровых мужчин, смягчающихся при виде ребенка.
Но Всеволод Иванов продолжает рассказ. Партизаны любят своего ребенка, им кажется, что киргизка кормит детей не равно и их Васька получает меньше.
Взвешивают ребят: действительно, Васька легче…
«Взял киргизенка Афанасий Петрович, завернул в рваный мешок.
Завыла мать. Ударил ее слегка в зубы Афанасий Петрович и пошел из лога в степь».
Кормит потом киргизка чужого белого Ваську, а мужики смотрят нежно и радостно.
«Могуче хохоча, глядели мужики.
Нежно глядел Афанасий Петрович и, швыркая носом, плаксиво говорил:
— Ишь кроет…
А за холщовой палаткой бежали неизвестно куда лога, степь, чужая Монголия.
Незнаемо куда бежала Монголия — зверь дикий и нерадостный».
Мы видим, что сюжет здесь развертывается совершенно неожиданно. Могут быть несколько объяснений этого развертывания.
Можно сказать, что оно изображает особенную жестокость дальневосточных партизан.
Но все сюжеты об «обратившихся разбойниках» и разбойниках, воспитывающих детей, всегда подразумевают, что разбойники эти жестоки. Авантюристы Брета Гарта к индейцам, вероятно, и относились так, как партизаны к киргизам, киргизкам и киргизятам.
Достаточно жестоки к детям и обитатели городских трущоб. Таким образом, бытовой материал, из которого Иванов берет материал для своих построений, сам не мог обусловить новой развязки. Писатель выбирает из жизни то, что ему нужно. У Всеволода Иванова в «Дите» задание, вероятно, было не столько бытоописательное, сколько сюжетно народное.
Лелевич упрекал Иванова за гофманство в «Долге»[344]. Обвинение совершенно неосведомленного человека. Нисколько не похоже. Но московиты издревле называли всех иностранцев немцами.
Привыкнув к форме рассказа, культивируемого «Литературными приложениями к „Ниве“», можно смешать и Всеволода Иванова с Гофманом. Действительно, «Долг» написан довольно сложно.
Существует шаблон революционной повести: красный командир попадает в плен к белым, но счастливо бежит, произнося по дороге революционные слова. Иногда штамп изменяется тем, что командира все же убивают. Вещей на этот штамп на поверхности земли сотни, а ниже ее, в корзинах под столами редакции, пласты.
Всеволод Иванов взял этот сюжет, но развил его совершенно неожиданно. Командира ловят и приводят к зеленому генералу, а тот… принимает его за своего знакомого офицера и хочет отдать ему долг карточный.
Но это только ложная развязка. Генерал мучит Фадейцева, добиваясь, чтобы он назвал свою фамилию и взял «долг». Но налетают красноармейцы и отбивают деревню.
«Два года назад Фадейцев был помощником коменданта О. Губ. Ч. К. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать). Четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции Фадейцев должен был его пристрелить.
Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка. Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь, привыкнув к смерти, он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: „умер… бросайте…“»
И этот «долг» лежал между Фадейцевым и генералом, но оба не могли вспомнить. Фадейцев попал в плен, потому что револьвер его не был заряжен, и в конце вещи Иванов снова в третий раз восстанавливает мотив «револьвера», пользуясь им для уничтожения могущей возникнуть сентиментальности развязки.
«Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.
— Ду-урак… — придыхая, сказал он, — дуурак… у-ух… какой дурак.
— Кто?
— Кто? А я знаю?.. Я вот сосну лучше, товарищ Корноухов!
И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как в урожай стручок — зерном».
В этой вещи сюжетная форма блестяще мотивирована.
Лев Лунц оказался правым.
Запад побеждает в русской литературе. Орнаменталисты оставляют свои посты и уходят переучиваться писать…
Самая большая опасность, которая угрожает сейчас писателю, это несвоевременное умение. Уметь сейчас нечего.
Нам сейчас очень недостает Лунца, с его ошибками, отчаянием и твердым знанием о смерти старой формы и неистощимым весельем человека, каждый день ощущающего жизнь.
Каверин как будто идет по дороге, параллельной дороге Лунца.
Но Каверин научился слишком легко. Он схематически понимает задачу, и ему нечем тормозить сюжетную схему, Каверин человек эренбургского типа, но еще не распустившейся «философии» и иронии. Русская же проза сейчас распадается на составные части так, как недавно распадалась поэзия в руках первых футуристов: на заумный язык, образы и т. д. Сюжетные вещи наполняются нейтральным материалом, материал, когда-то наполнявший их, печатается отдельно, в виде дневников, заметок[345].
НАЧАТКИ ГРАМОТЫ
(Адриан Пиотровский — «Падение Елены Лей». Пг., 1923)
Вспоминаю, в 1919 году служил я в ТЕО (потом ПТО)[346] в Петербурге в репертуарной комиссии.
Полярный круг проходил тогда через Невский, и город казался мертвым, как мороженая рыба. Служили со мной: Михаил Кузмин, Анна Радлова, Алексей Ремизов и Адриан Пиотровский.
Пьесы поступали непрерывно. Казалось странным, что люди, писавшие и переписавшие эти толстые тетради, не знакомы друг с другом и не сговариваются где-нибудь на конспиративной квартире. Существовало только три-четыре, нет, четыре не было, типа пьес, и самый распространенный тип была пьеса с президентами и принцами. Лучшей вещью из этой стаи явилась «Вне закона» Лунца, а дальше шли сплошные озеры-люли[347], которые только авторы могли отличать друг от друга.
Пьесы эти скапливались у нас пластами. Очевидно, потом этот пласт оттаял, и мы должны выслушать все, что было тогда написано.
В родильных домах, чтобы не спутать ребят, пишут им номера чернильным карандашом на пятке. Но там дело упрощается тем, что дети — или мальчики или девочки; значит, есть и естественная классификация.
В театральном же деле пьесы с президентами и принцами могут быть классифицированы только по алфавиту.
Из старой дружбы к Адриану Пиотровскому нарушаю алфавитный порядок.
Но вот еще одно воспоминание.
В 1921 году пьесы оплачивались по-актно. Несомненно, что бытие определяет сознание. Акты получались маленькие. Писали мы тогда пьесу в ночь. Одну написал даже хорошую, т. е. не плохую — «Пушка коммуны», ее потеряли. Всего же написано мною было 16 пьес[348]. Список их, кажется, есть в «Союзе драматических писателей». Если кто найдет рукописи, согласен купить их обратно. Серьезные репертуарные люди сидят и спорят о Еленах и Люлях и создают им рекламу… О, наивные граждане, в искусстве трудно только новое, а Люлей и Елен можно приготовить без всякого священного трепета сколько и каких угодно!
Вещи эти контрреволюционные (или не контрреволюционные) — говорите вы. Этих вещей вовсе нет, они не написаны.
Это одни акты и принцы.
Адриан Пиотровский — талантливый человек, со знаниями и своеобразной (не в литературе) физиономией, и его президент не хуже других.
Более того, Адриан Пиотровский знает и по-гречески и понимает театр. Его пьесы наверно лучше смотреть, чем читать. Он знает театральную технику, знает, например, что если бить в железный лист (что может означать катастрофу) и при этом кричать громко, а на сцене потушить огни, то будет страшно.
Так у него и кончается «Елена Лей».
По школе Адриан Пиотровский принадлежит к радловцам.
Радлов такие театральные пьесы писал и пользовался таким красноречием. По сюжету «Елена Лей» связана с Аристофаном (с Лизистратой). Но половая забастовка взята как страшная. Сам Пиотровский указывает на это в тексте:
Торговец вдруг заговорил по-гречески:
«По системе древнегреческого поэта Аристофана! Олисбос октодактилос!»
Некоторые каламбуры ужасны по своей недобросовестности. Например: игра со словом «высечь» (высечь розгами и высечь из мрамора) устарела.
Но, конечно, не следует огорчаться такими пустяками даже самому Адриану Пиотровскому. «Елена Лей» не опасна, если только он так относится к ней, как к пародии.
ТОЧКИ НАД «И»
(Антуан Альбала — «Искусство писателя. Начатки литературной грамоты». С предисловием А. Г. Горнфельда. Пг., 1924)
Были толстые журналы. Жили они лет сто. Писали в них особые люди; не литераторы, не писатели, а журналисты. Литературу они презирали.
Просматривали ли вы когда-нибудь комплект «Вестника Европы»? Сто лет печатался журнал и умудрился всегда быть неправым, всегда ошибаться. Это был специальный дренажный канал для отвода самоуверенных бездарностей. У них были свои боги, свои поэты, свои прозаики.
Другой канал, покороче, назывался «Русским богатством»; он происходил от славных родителей; предки его вели литературные войны. Но сам он был отдан под выпас П. Я.
Здесь разучивался писать Короленко, а писал Олигер, и здесь из номера в номер ругали и поносили сперва символистов (и до них еще кого-то), потом футуристов…
«Русское богатство» субъективно было честным журналом, но объективно это было место литературной оппозиции людей, плохо пишущих, против людей, пишущих хорошо.
А. Горнфельд — человек почтенный и украшенный многими ошибками. Так адмирал Макаров был славен своей неудачной попыткой совершить полярное путешествие на ледоколе.
Горнфельд никуда не плавал и, кажется, этим очень гордился.
Литературно он никого не родил и это, вероятно, очень аристократично. Конечно, Горнфельд умнее журнала, в котором он писал, но тем хуже, так как он действовал сознательно.
В литературе не надо жалости и нужно поэтому не замалчивать бесполезность пути Горнфельда, а сделать из него памятник и пугало.
Кажется, первый раз А. Горнфельд (очень милый в жизни и образованный человек) что-то советует. Интересно, конечно, то положительное, что может предложить нам человек с громадным, хотя и отрицательным литературным опытом. Книга Альбала вся основана на анализе отрывков прозы, разбираемых со стороны их стиля. Все эти отрывки, конечно, понятны для французского писателя и взяты из писателей, ему известных.
Для русского читателя они дают очень мало, так как нельзя учиться стилю по переводам. Сам А. Горнфельд (чрезвычайно милый и образованный человек) понимает это, когда говорит «что книга будет полезна только для того, кто, прежде всего, попытается заменить его (Альбала) французские ссылки и сопоставления соответственными выдержками и примерами из русской литературы».
Конечно, такая замена должна была быть сделана редактором (можно указать одну попытку на это: стр. 138, пример из Тургенева), но возлагать всю эту работу на неподготовленного читателя — значит сознательно делать книгу бесполезной.
Сама книга далеко не первоклассна.
Автор ее стоит на точке зрения неизменности законов и даже правил стиля, т. е. думает, что писали всегда одинаково, а если писали иначе, то ошибались.
Таким образом оказывается, что нужно избегать (всегда) «повторений слов», хотя и у лучших писателей нет в них недостатка (стр. 77).
Если читатель этой книги начнет после этого изучать литературу, то узнает, что повторения — правило для «библии», для «Калевалы», для русского так называемого народного творчества, что они же правило для Гоголя и ими же широко и сознательно пользовался Лев Толстой.
Но Альбала этим не смущается, он на одной странице (стр. 94) исправил Расина, Ричардсона, Сервантеса и Софокла.
В другом месте Альбала говорит:
«Ясно, например, что нужно идти прямо к цели и избегать отступлений». Однако ими полон «Дон Жуан» Байрона. В «Жиле Бласе» («Дон Кихот» тоже. — В. Ш.) эпизоды занимают почти столько же места, сколько главное содержание. Этот список русский читатель, конечно, дополнит именем Пушкина («Евгений Онегин»), но Альбала не смущен, так как пошлость никогда не удивляется (смотри «Русское богатство»), он говорит: гений позволяет себе вольности, в которых отказано простому смертному.
Превосходное изречение, так как почти все авторы, приведенные почтенным французом, — гении. Итак, напишем вместо поэтики «Указ о вольности». Пока же заметим: некоторые отдельные указания почтенного француза правильны и говорят о том, что он все же родился не в той стране, где выходил «Вестник Европы», но они даны знахарски, как отдельные случаи. Удачность гомеровского описания можно попытаться объяснить умелым пользованием «несущественными деталями»; те образы, которые кажутся Альбала удачными, обычно основаны на реализации метафоры и т. д., сейчас же все эти отрывки, данные просто как достопримечательности, бесполезны. Подвожу итог. Книга «Начатки литературной грамоты» в том виде, как она предлагается А. Горнфельдом («неподготовленному читателю»), т. е. с переводными примерами из незнакомых писателей, бесполезна.
Если же ее снабдить (что может сделать редактор книги во втором ее издании) русскими примерами, то она может стать незаменимым руководством для всякого, кто захочет научиться писать так, как писали в «Вестнике Европы» и «Русском богатстве».
РЕЦЕНЗИЯ НА ЭТУ КНИГУ
В своих беллетристических произведениях я всегда писал о себе и был героем своих книг. Писатели обычно делят себя на героев, говорят через героя. Это, казалось бы, небольшая гримировка, но это сильно изменяет произведение. Потому что Нехлюдов и Левин не Толстой.
Когда мы начинаем писать и изображаем героя, снабжаем его наружностью, платьем, остротами, биографией, то герой оживает, как в каком-то (спутанном мною из нескольких) рассказе оживает рисунок. Герой оживает, и материал его делает, отделяет. Он становится вне писателя, разгружает его ответственность и дает ту политическую невнятицу, которая может быть иногда разменена в вдохновение. Герой делается из материала; он составляется из него, как библиотека из книг.
У Льва Николаевича Толстого есть плохой отрывок прозы — «Сон». Об этом «Сне» собрал материал Срезневский[349].
«Сон» Льва Николаевича Толстого — это литературное произведение в стиле «стихотворения в прозе». Лев Николаевич хотел его напечатать, отправил под чужим именем в редакцию — от имени Натальи Петровны Охотницкой, как ее первый литературный опыт. Охотницкая существовала, хотя, конечно, как автор, она была Львом Николаевичем выдумана.
Вещь Охотницкой была забракована. Тогда Лев Николаевич хотел вставить «Сон» в «Войну и мир» и предлагал связать с Пьером, но это не вышло, хотел связать с Николаем Ростовым, но и у Николая тоже не вышло, причем поправки для перенесения в роман состояли только в переделке оборотов с первого лица на третье: не «я видел», а «он видел». Таким образом один и тот же кусок должен был бы войти в биографию разных людей; значит, этих людей нет. Они только составлены из этого материала. Правда, сон в результате не приснился никому, но в любой пьесе мы видим эту передачу реплик от героя к герою. Особенно это характерно для Достоевского, хотя Достоевский и не писал пьесы. У него реплики разверстаны между говорящими, а для того чтобы говорящие не спутали друг друга, Достоевский ремаркировал их места. Герои у него закреплены пространственно, потому что не охарактеризованы. При постановке пьесы на провинциальной сцене происходит сведение реплик, сгущение ролей и вообще то, что Виктор Максимович Жирмунский называет единством произведения и единством типа, — легенда.
Толстой читал в Малом театре свою «Власть тьмы», читал он плохо, стесняясь резких выражений и говоря, что их можно выкинуть.
«Обратило общее внимание, что Лев Николаевич пробегал скороговоркой места в пьесе, изобиловавшие грубыми простонародными выражениями. При чтении же разговора о выгребных ямах заметили, что автор даже конфузится. Прочтя одну фразу, Л. Н. сказал, что фраза эта вычеркнута, так как может шокировать некоторых дам».
Это обычная вещь: многое можно написать, а прочесть вслух автору нельзя.
«После чтения пьесы начался общий разговор о постановке и исполнении ролей. Лев Николаевич сказал о Митриче как о басистом широкоротом мужике. Между тем роль эту должен был исполнять Н. И. Музиль, располагающий как раз обратными физическими свойствами. И собравшимся сделалось как-то неловко» (Из книги «О Толстом». П. Н. Пчельников, стр. 280).
Вот, видите, то, что считается в романе само собой разумеющимся, т. е. что определенной внешности героя соответствует его «характер», на сцене совершенно не перестраивается и очень часто оказывается, что герой с другой телесной характеристикой так же возможен и даже укладывается в произведение.
Поэтому я не считаю себя виновным в том, что я пишу всегда от своего лица, тем более, что достаточно просмотреть все то, что я только что написал, чтобы убедиться, что говорю я от своего имени, но не про себя.
Потом, тот Виктор Шкловский, про которого я пишу, вероятно не совсем я, и если бы мы встретились и начали разговаривать, то между нами даже возможны недоразумения.
Тот Митрич обладает другими физическими свойствами, я же сам человек 34 лет от роду, пикнического сложения. Но если я начну опять себя характеризовать, то получится опять литературное произведение.
Что же я считаю важным в своей не теоретической, а литературной работе?
Важно чувство разобщенности форм и свободное с ними обращение.
Представление слитности литературного произведения у меня заменено ощущением ценности отдельного куска. Вместо сливания кусков мне интереснее их противоречия.
И так как это, вероятно, нужно для сегодняшнего момента развития литературы, то это особенность лично моя не вытеснена из литературы, а мною в нее внесена.
Писать я начал очень рано. Первая книжка, которую я издал, называлась «Воскрешение слова». Написана она была о заумном языке, а в магазинах попала в отдел богословия, потому что типограф набрал заглавие древним шрифтом.
Потом я был дружен с Львом Якубинским, работал с Бриком уже как теоретик.
К беллетристике, если я беллетрист, я пришел через газету. Газета эта — «Жизнь искусства». Я был в ней членом редакционной коллегии. До меня работал в ней Михаил Кузмин, а после меня Гайк Адонц. Газета печаталась в очень небольшом количестве экземпляров, и экземпляры эти примораживались к забору чистой водой, так как не было тогда муки на клейстер.
В газете я печатал теоретические статьи и фельетоны. После этого Зиновий Гржебин заказал мне автобиографическую книжку и платил сколько-то тысяч в месяц.
Я написал книжку, которая называется «Революция и фронт».
«Сентиментальное путешествие» написано мною в Финляндии, кажется, в десять дней, потому что мне очень нужны были деньги. Это объясняется не тем, что я могу каждые десять дней писать книгу, а тем, что она, очевидно, была готова и только в десять дней просыпалась.
«Zoo» написано мною в Берлине и первоначально была задумана, как книга халтурная.
Я хотел дать ряд характеристик людей и вставить в книгу образцы их произведений, а для Зиновия Гржебина его торговую марку.
В этой первоначальной, ненаписанной книге было несколько характеристик, которые я потом выбросил; все они очень обидные. Там была статья о сменовеховцах и характеристика владельца издательства «Геликон», фамилия его Вишняк.
Я и сейчас с трудом удерживаюсь, чтобы не сказать про него несколько неприятностей.
Но одновременно у меня была совсем другая тема; мне нужно было дать мотивировку появления несвязных кусков.
Я ввел тему запрещения писать о любви, и это запрещение впустило в книгу автобиографические места, любовную тему, и когда я положил куски уже готовой книги на пол и сел сам на паркет и начал склеивать книгу, то получилась другая, не та книга, которую я делал.
В ней есть места, которые я переделывал, вообще книгу я написал сгоряча, прочесть ее вслух нельзя. Книжка лучше задания.
Потом я написал «Третью фабрику», книжку для меня совершенно непонятную.
Я хотел в ней капитулироваться перед временем, причем капитулироваться, переведя свои войска на другую сторону. Признать современность. Очевидно, у меня оказался не такой голос. Или материал деревни и материал личной неустроенности в жизни, включенный в книгу, вылез, оказался поставлен не так, как я его хотел поставить, и на книжку обиделись. Книжки пишутся вообще не для того, чтобы они нравились, и книжки не только пишутся, но происходят, случаются. Книги уводят автора от намерения. Пишу не оправдываясь, а передаю факт. Сейчас я пишу записные книжки.
Работаю вещи в лом, не связывая их искусственно. Мое убеждение, что старая форма, форма личной судьбы, нанизывание на склеенного героя, сейчас не нужная. Новой формы, которая временно будет состоять из создания установки на материал, — этой новой формы, формы высокого фельетона и газетной заметки, ее еще нет.
Путешествия, автобиографии, мемуары — суррогатная форма новой предлитературы. Большие романы, эпические полотна сейчас никому не нужны. Это какие-то алюминиевые телеги, издаваемые в то время, когда нужно строить стальной и алюминиевый автомобиль. Завтрашняя литература будет не тематически, а тематически и формально отличаться от сегодняшней.
Современная так называемая литература, связанная уже в пакеты полных собраний сочинений, может уже быть связана в связки. Она живет на воспоминаниях о другой литературе, ее донашивают, как императорские театры. Она обычай — как галстук.
Пока я, вероятно, писатель для писателей, а не писатель для читателя, но я никого не тороплю.
В газете, там, где форма незаметна, где она носит настоящий свой ремесленный характер, я писатель для всех. Приходится же сейчас работать в кино, а это совсем не литература — это какое-то другое ремесло. В кино я работаю уже четыре года. Выработались навыки настолько, что начинает освобождаться голова и появляется возможность заняться литературой.
Из литературы в кино я принес бóльшую требовательность, чем есть у обыкновенного кинематографиста, и уважение к материалу.
В работе мне хочется не развертывать нейтральный сюжет на неопределенном фоне, а создавать сюжет — композицию из основных противоречий самого материала. Я думаю, что это для кинематографистов полезно, иначе получатся пустые кадры, и людям на экране нечего делать.
Да, и тут о сложном вопросе — отношение писателя к его времени.
Я скажу очень наивно: при мне вытребовали из кинематографистов советскую кинематографию. Так Наполеон заказывал своим химикам изобретение нового сахара (не тростникового).
Я убедился, что это вне искусства стоящее задание для искусства часто бывает полезно.
Кинематография убавила у меня замкнутости, упростила меня и вероятно осовременила. В кинематографии я также вижу, как форма создается, как создается изобретение из противоречий и ошибок и, как закрепление случайного изменения, оказывается — вновь найденной формой. Эта форма потом может существовать вне создавшей ее обстановки, даже оказывать сопротивление этой обстановке, консервировать определенный содержащийся в себе материал. Скрещивание художественной формы с внелитературным рядом совершается взрывами, какими-то квантами.
Здесь нет никакого тройного правила, а здравый рассудок, тройное правило в науке — ложь.
Если в 10 дней человек может написать одну книгу, то в 360 дней он не напишет 36 книг, здесь нет простых функциональных связей, и задача с бассейнами не разрешима без дифференциальных исчислений, потому что время истечения жидкостей из сосуда зависит от высоты столба жидкостей, а этот столб изменяется.
Старый социологический метод основан на тройном правиле, на простой функциональной связи, и не учитывает достаточно сопротивление материала. Он не полная истина, как старый дарвинизм, по нему немножко изменилась обстановка, немножко изменился организм. Но это неверно.
Так же точно, как неверна и моя прежняя установка о чистом, не изменяющемся по посторонним обстоятельствам внелитературном ряде.
ЖУРНАЛ КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА
О журналах толстых и тонких
Диккенс хотел одно время создать новую форму в прозе — «сверхроман». Этот «сверхроман» должен был состоять из нескольких перебивающих друг друга романов.
Издаваться все это должно было в виде журнала. Связь романов давалась тем, что их рассказывали друг другу компания джентльменов и компания их слуг на кухне. Поддерживалась связь тем, что рассказчики были сами героями романов или родственниками героев.
Этот «сверхроман» не удался, от него вышли только куски, в том числе «Лавка древностей».
Мы можем видеть из этого, что роман не является предельной литературной формой, не является он и единственной литературной формой, допускающей широкое развертывание.
Гейне ощущал каждый сборник своих стихов как нечто целое, и не в смысле только «настроения» или чего-нибудь другого неопределенного, а в смысле детальной разработки порядка следования одного стихотворения за другим и их зависимости друг от друга.
И для современного читателя не все равно — читать ли стихи А. Блока в книге «Снежная маска» или читать их сейчас в новом издании, когда они, по воле самого Блока, печатаются в хронологическом порядке. Здесь мы видим факт перестройки литературной формы с установкой не высказывания. Читателю, я думаю, новое издание не заменит старое.
Журнал-дневник
Писателю-прозаику мысль издать одному журнал приходила довольно часто. Это не столько потребность остаться со своим читателем наедине — так как эту потребность вполне удовлетворяет книга, — сколько интерес к журналу, осознанному как литературная форма.
В начале журнализма монологические журналы, казалось, одно время могли взять верх. В самом деле, статья, стоящая рядом с куском романа и хроникой, для человека, привыкшего к восприятию большой литературной формы, дает новое впечатление.
Любопытно, что Гейне в одну из своих прозаических книг, кажется, «Путевые заметки», попросил Иммермана вписать две страницы — все равно какие.
Возможно, что здесь ему понадобилась комбинация стилей, похожая на ту, которая создается в персидских «пестрых стихах» чередованием персидских и арабских строк. Включая в свою прозу чужую прозу, Гейне работал, конечно, как художник, но прием его — прием журнала.
Неописанные классики
История русского журнала темнее и путаннее.
Русскую журналистику изучали без учета формы журнала, у нас только удивлялись; видя в толстых старых журналах цветные рисунки мод, удивлялись, замечая, что Пушкин писал в журналах мелкие желтые заметки. Заметки выщипывались из журнала в собрание сочинений, и там они сразу приобретали почтенный вид.
Русские журналисты, как Сенковский, с 35 000 экземпляров тиража, все еще остаются непонятыми, так как они читаются вне своего журнала.
Вместо исследования журнальной формы мы утверждаем только, как нечто прочное, те отзывы, которые давали журналисты друг другу в процессе своей работы.
Поэтому совершенно не удивительно, что мы презираем Сенковского, — удивительно только, что мы не считаем Орлова классиком: ведь его хвалил Пушкин.
«Библиотека для чтения» еще неописанный русский классик[350].
Журнал как литературная форма
Восприятию журнала как литературной формы мешают политические журналы. Но у них своя история.
Русская цензура была милостивее к толстым книгам. Политика ушла в журнал, подталщивая себя беллетристикой. Беллетристику иногда использовали как иллюстрационный материал, а чаще всего как обертку.
Одновременно журнал заменял собой библиотеку. Если просмотреть районы распространения журналов, то легко убедиться, что они шли на окраины, в глухие углы.
В романе Панаевой-Головачевой и Некрасова «Три страны света» описывается, между прочим, один журнал, редакция которого решила взять на себя не только рассылку своих изданий, но и выполнение разных комиссий в городе: покупку мебели, иголок, приглашения гувернанток и т. д.
Место это имеет в романе памфлетный характер и рассказывает о действительном происшествии. Затея не удается, но она характерна для своего времени, указывает на роль журнала: служить связью между местом и центром, выражаясь сегодняшним языком.
Под осенними звездами
Итак, русский журнал находился под разнообразными влияниями общественного, экономического и литературного характера. Многие из этих обстоятельств исчезли. Цензура относится одинаково к журналу, к книге и к листу. Связь провинции с центром сейчас неизмерно лучше, чем при Некрасове. Журнал не имеет, — я говорю о толстом журнале, — сейчас оснований для своего существования в прежнем виде. Самая литература отрывается от журнала. Если при Диккенсе длина главы его романа объяснялась журнальными условиями, то теперь «Россия» разрывает просто роман Ильи Эренбурга на две части и на два номера. Горький печатается всюду кусками любой величины[351].
Журнал может существовать теперь только как своеобразная литературная форма. Он должен держаться не только интересом отдельных частей, а интересом их связи. Легче всего это достигается в иллюстрированном журнале, который рождается на редакционном верстаке. Рисунок и подпись образуют здесь нечто новое, связанное. К сожалению, у нас мало мастеров «мелкого» журнального ремесла.
Такие журналы тянутся за толстыми. Удача у них не полная, они становятся только скучными.
Между тем удача настоящего тонкого журнала возможна; недавний пример — «Крокодил» — это сейчас доказывает.
Хуже дело с толстыми журналами, они никуда не стремятся, так как они уже толстые — уже большая литература. «Звезда» так и начинала: «Восстанавливая вековую традицию толстых журналов» и т. д. Совершенно непонятно, какое место этой традиции хочет восстановить «Звезда».
Менее безоговорочно работает «Красная новь», но все же это — старый, толстый журнал со статьями (которые сейчас же печатаются отдельно), с куском прозы и т. д. Это журнал имитационный.
Любопытно проверить в библиотеках номера этого журнала, — разрезываются ли они целиком. Говорят, что разрезывается только беллетристика.
«Леф» тоже тонкий-толстый журнал. Хорошо в нем то, что в нем не все печатается. В русских журналах сейчас необычайная веротерпимость. Говорю, конечно, только о литературе. Все везде печатается. Непонятно даже, чем отличается журнал от журнала. Извиняюсь (как говорил А. Пушкин, — смотри «Капитанскую дочку») за то, что не даю анализа журналов «Молодой гвардии» и «Октября»: их тип еще не установился.
На Западе сейчас толстых журналов нет. Есть полутолстые художественно-партийные журналы различных объединений. К этому типу у нас принадлежат только «Леф» и «На посту».
Но мы переживаем кризис большой литературной формы. Нам, может быть, нужен новый журнал, который, поставив рядом разные куски эстетического и внеэстетического материала, хотя бы случайно показал нам — как и из чего можно строить вещи нового жанра.
Статья моя не программная и не хочет быть программной. Она только задание новой работы о журнале бывшем и будущем.
СВЕТИЛА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ВОКРУГ СПУТНИКОВ, ИЛИ ПОПУТЧИКИ И ИХ ТЕНИ, ИЛИ «ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ОСОБЫ»
У Горького есть в его «Заметках из дневника» такое место: снимает человек сапог с ноги, ставит его на пол и говорит: «Ну, иди», а потом: «Не можешь. То-то, без меня никуда».
С такими словами мог бы обратиться Николай Тихонов к поэту Лелевичу. У Безыменского в стихах «у мысли сгибаются колена». Я знаю, почему они сгибаются — они гнутся параллельно — «и уже у нервов подкашиваются ноги». Это у Владимира Маяковского. Все это — явления закономерные. Почему Безыменскому не копировать образы Маяковского, если Влад. Ходасевич заимствует интонации стихов у Пушкина и Батюшкова, вытряхивая из этих интонаций старые слова и засыпая образовавшиеся пустоты подсобным материалом, своего рода литературным гартом.
Право быть подражателем имеют и буржуазный и пролетарский писатель. У каждого русского писателя есть сейчас свой попутчик.
У Маяковского — Безыменский. У Асеева — Саянов. У Брюсова — Герасимов[352]. У Пильняка и Чехова — Либединский.
В двадцатом номере «На посту» из этого даже создана целая теория, целиком признающая факт, но желающая теперь оттенять уже классиков.
«Первые шаги поэта определяют учителя. У кого наследовать выбор тем, глубинность их разработки, какие ритмы, интонацию культивировать — эти вопросы разрешаются персонально и до той поры, когда начинающий не научится критически относиться к работам своего мэтра, играют главную, организующую роль. В творчестве Есенина, например, молодые крестьянские поэты-перевальцы нашли формулу „захожего“ отношения к деревне; манера оплакивать старое, патриархальное, разговоры об избе вообще (без единой мысли о конкретном мужичьем труде) — все это пышно расцвело в их стихах. На пути преодоления учителя погибает бесславно много молодых авторов. Для поэтов второго призыва поэтому очень важно знать, кто был поводырем Безыменского, Светлова, Саянова, Кирсанова, Багрицкого и других.
Бесспорно, что формальными достижениями Маяковского и Асеева молодежь воспользовалась достаточно широко. Под руководством автора „Черного принца“ курс ритмики проходили Саянов, Кирсанов, Ушаков. Ораторскую интонацию Маяковского использовали Безыменский, Кирсанов, отчасти Жаров. Развитием отдельных пунктов центральных тезисов программы отделились от лефовцев конструктивисты. Последние годы сделали общественным достоянием результаты пятнадцатилетней работы Бориса Пастернака. Н. Ушаков, Дементьев проявили уже большие успехи по переключению лаконического синтаксиса, пополнению календаря городских образов и сравнений, так характерных для творчества автора „Сестры моей жизни“. Ничтожно по сравнению с влияниями левых мастеров наследство есенинской лирики; она, может быть, сказалась в творчестве многих перевальских поэтов, но перспектива их роста под большим знаком вопроса.
Большинство поэтов первого призыва рано поняло, что на изучении одних современников большой культуры стиха не достигнешь. Надо хорошо знать классическую литературу, чтобы спокойно, с расчетом выбрать себе дополнительных влиятельных особ. С каждым годом список их расширяется; к именам Пушкина, Кольцова прибавился Тютчев (ученик Ушаков), Языков (Уткин), Гейне (Светлов), Эдгар По, Шевченко (Багрицкий). Поэтам второго призыва остается на долю бесконечное разнообразие русской и мировой поэзии, едва затронутое старшими собратьями по перу. Стыдно признаться, но это так — кроме Демьяна Бедного, у нас нет продолжателей некрасовской музы; лирики не замечают мастерства формы Жуковского, Фета. Лермонтов не воспламенил сердец. А Виктор Гюго, Гёте, Верхарн? Да и мимо Байрона пройти нельзя — ученик только тогда становится настоящим поэтом, когда он преодолеет учителя. Преодолеть Байрона, использовать приемы его „Чайльд Гарольда“ для пропаганды любви к жизни — разве не огромная задача?»[353]
Не понимаю я только в этой истории черной неблагодарности, Неужели, если пролетарский писатель прислонился к Николаю Тихонову, то Тихонов уже не имеет права пошевелиться? Тихонову расти хочется, он невиновен, что кому-нибудь удобней быть тенью неизменяющегося предмета.
Каждый живой писатель растет и изменяется.
А «На посту»[354] кроет их за это, как за измену. Испортились, говорят в «На посту», Иванов и Тихонов. Опаздывая на полчаса, тени по своему правы в своих упреках. Неправильно только, когда они хотят руководить литературой. В истории был аналогичный случай — тень, разбогатев, нашла своего хозяина лежащим у своих ног. Тяжелая служба и бесполезная. Я не советую обращать Маяковского в тень.
Конечно, можно будет поменять хозяина и набивать своими словами пушкинские схемы, но жизнь литературы умрет, так как подражатели ее вперед не ведут. Лучше по-теперешнему[355].
Сейчас происходит передача культуры в руки нового класса. Писатель уже сейчас чувствует, что изменился его читатель. Место за пролетарскими писателями обеспечено историей. Им незачем занимать своего места шапками.
Пока же по праву на своем месте самостоятельного писателя сидит один Гастев. И тот не пишет.
Пролетарские писатели нуждаются сейчас в хорошей школе, а не в развитии звукоподражательных способностей и не в введении в литературу девиза: «Нигде кроме как в Моссельпроме», а пролетпоэзия в «Октябре».
А я сам никак не могу понять, почему Маяковский попутчик, а Уткин вождь[356], и почему оказался попутчиком Тихонов, который не написал до революции ни одной строки. А теперь совет: берегите источники света. Светите сами, без влиятельных особ. Не нужно ехать за старой литературой, как велосипедист едет за трамваем. Электричество у вас.
БОРЬБА ЗА ФОРМУ
В снежном Тибете есть свой театр.
Драма для этого театра написана буддийским монахом. Но во многих драмах среди буддийских масок врываются на сцену в широких плащах и черных шапках бешено крутящиеся волхвы.
Здесь дело в том, что до буддизма в Тибете была другая религия — шаманизм.
Волхвы, крутящиеся в буддийской драме, это шаманы, вроде шаманов наших сибирских племен.
Как же они остались в религиозных драмах другой, победившей религии?
Есть легенда, что один буддийский монах переоделся волхвом и участвовал в их танцах, чтобы убить государя, восставшего против буддизма.
Под этим предлогом остались старые шаманы на сцене. В нашем искусстве много шаманских плясок.
«Ревизор» Мейерхольда, с нарядной мебелью, с нарядной женщиной, это — танец шамана. Те, кому нравится пляска, обманывают себя, говоря, что они смотрят не на шаманов, а на победу над шаманством. Все сцены в кино, где «буржуазия разлагается» и, разлагаясь, танцует фокстрот, все эти сцены — просто фокстрот, но благочестиво введенный.
Старое остается в новых мотивировках.
На сцене всегда прав тот, кто самый красивый и нарядный. Зритель бережет в пьесе плута, который доставляет ему наслаждение.
Борьба за форму не должна быть борьбой за оставление старой формы, иначе мы будем шаманами. Между тем старой формы у нас очень много.
Мы пишем рассказы, которые начинаются с пейзажа, с описания утра, с описания того, как «захлопали двери», мы вставляем в описания дождь, который, по словам Льва Толстого, мог бы и не идти.
Мы зажигаем на сцене елку и играем на гитаре и удивляемся, что получается реакционно[357].
Ищем новые тексты к драмам, операм будущего. Большой интерес читателя к мемуарной литературе, к путешествиям, к технике показывает нам, что сейчас есть интерес к сообщению, к сведению.
У нас сейчас есть два типа произведений: переводная литература, с совершенно условным материалом, и литература советская, местная, с установкой на материал, на сообщение.
Часть нашей литературы работает под переводную. Это можно отнести к Эренбургу и отчасти к Мариэтте Шагинян.
Переводные вещи у нас воспринимаются вне значения тех фактов, которые в них описываются. Формы старого сюжетосложения очень хорошо приложимы к этому материалу.
К новым вещам и к вещам будущего нужны новые формы.
Мне кажется, что будущую литературу нужно создавать методами практического языка. Нам нужно добиться точного описания предмета. Основная ошибка современного пролетарского писателя в том, что он воспроизводит способ работы старого писателя, а не старается найти способ описания предмета.
В каждый отрезок времени искусство диалектически изменяется. Литература обрабатывает иной материал. Бывают моменты использования «способов» работы над определенным материалом.
Это момент своеобразного цитирования.
Такая работа «штампами», еще не потерявшими эстетического значения, но не имеющими уже значения жизненного, может быть у высокого художника.
В настоящее время установилось в науке мнение, что «Илиада» Гомера создана не наивным поэтом, а человеком, для которого мифология только набор традиционных образов.
Но существуют органические эпохи, вводящие новый материал в искусство.
Каждый класс, каждая сильная группировка выбирают и создают себе свою военную тактику.
Французская революция так создала стрелковую цель. Пролетарскому писателю в основе не выгодна реставрационная работа старыми формами.
Между тем, если за сценой начать бить в лист железа и гудеть, то вызванная эмоция всегда одна и та же. Елка и гитара — что ни вешай на елку — не изменится. Борьба за форму — это борьба за новую форму.
Старую форму нужно изучать, как лягушку. Физиолог изучает лягушку не для того, чтобы научиться квакать. Уже буржуазные писатели, как Салтыков-Щедрин, Лесков, Лев Толстой, писали о том, что формы романа и повести, в которых они работали, перестали их удовлетворять.
Понижение культурных навыков, неизбежное при революции, сделало старые формы заманчивой довоенной нормой.
Жажда «довоенного» еще укрепила шаманизм.
Так итальянцы-эмигранты в Америке выписывали скверный овечий сыр. Вкус родины.
На наших глазах, хотя мы и не всегда ими смотрим, перед нашими глазами, это вернее, происходит рост пролетарского искусства. Что это за искусство, мы не знаем и можем в нем определить только время и место.
Искусство это развивается с быстротою кинематографической ленты, пущенной усталым механиком на последнем сеансе.
Имена живут по два года.
На наших глазах происходят заново открытия: сегодня откроют пейзаж, завтра заметят, что можно писать о любви.
Мне кажется, что быстрая смена тем и имен в пролетарской литературе — не случайность и не зло.
Оттанцовываются шаманские танцы.
Пробуются одно за другим старые формы и изобретения.
У нас не Тибет, формы не выдерживают.
Происходит не процесс восстановления, а процесс перепробывания старого. Когда перепробуют, то одни зимуют на изображениях (разложения), но со знаком минус, а другие поедут медленно вперед. Как же писателю практически подойти к вопросам нужной нам формы?
Ему выгодно, как человеку, имеющему непосредственное отношение к вещам, ему выгодно внесение в искусство технологии.
В писательской работе мы прежде всего должны стремиться к созданию точных определений, к умению описывать вещи.
Современный писатель должен знать не только литературное ремесло, но еще какое-нибудь другое ремесло, чтобы через него поворачивать вещи.
Современный писатель должен иметь еще одну, другую, не писательскую профессию. Обучиться литературной работе только тем, что будешь писать, нельзя. Нужно учиться особому, спокойному, медленному, внеэмоциональному чтению.
Нужно приобретать знания и технические навыки. Сейчас очень велик разрыв между наукой и ее достижениями и знанием об этих достижениях у современника.
Между тем старые крупные писатели владели материалом своего времени.
Необходимо улучшить способ определения вещей, усилить сознательность восприятия.
Техника и наука изменят для нас вещи, осветят запас образов. Только нужно жить в технике, а не похищать из нее материал набегами.
В результате такой внелитературной работы мы получим новую литературную форму.
Тогда наступит некоторая стабилизация писателя, и они перестанут быть столь недолговечными.
Вне этой работы у писателя есть только шаманский танец и головокружение.
ПОДПИСИ К КАРТИНКАМ
Вам придется задержаться с работой еще на полтора часа, товарищ машинистка! Мне нужно договорить с моим читателем.
Я знаю, что спрашивает читатель. Он говорит — где же здесь единство.
Единство, читатель, здесь в человеке, который смотрит свою изменяющуюся страну и строит новые формы искусства для того, чтобы они могли передать жизнь. Что же касается единства книги, то она очень часто — иллюзия, как и единство ландшафта. Пройдитесь вдоль наших вещей, найдите точку зрения и наслаждайтесь единством, если вы его найдете.
Но мне хочется рассказать читателю еще что-нибудь, иметь с ним разговор, как с товарищем, в передней. Итак, представим, что на нас одеты пальто.
Человек в пальто — товарищ Ерофеев
Он приходил ко мне в редакцию и никогда не снимал пальто, потому что, вероятно, у него под пальто не было пиджака и, вероятно, не было и рубашки.
Он пах лизолем, запахом дезинфекции из ночлежных домов, где берегут людей от паразитов, но не боятся причинять людям неприятности. В ночлежках люди спят на скользком брезенте, и пол комнат вымыт лизолем.
Лизоль пахнет бедствием.
Человек в пальто был уже стариком. Впоследствии, выясняя его биографию, я узнал, что он принадлежит к числу основателей русского декадентства, и где-то в ящиках букинистов еще сохранились его пахнущие лизолем книги.
Он принес мне кусок, вырезанный из какого-то старого журнала, причем этот кусок был виньетка, и святочную открытку, изображающую двух свиней, играющих в карты.
Под открыткой было написано чернилами: «Английские консерваторы играют ва-банк». Я тогда заведовал иллюстрированным журналом.
— Материал не подходит, — сказал я человеку в пальто.
Он посмотрел на меня с отчаянием и сказал:
— Вы не обратили внимания на подпись.
Я сказал человеку в пальто:
— Вероятно, у вас есть на квартире старые иллюстрированные журналы. Подберите их по принципам темы; например — «Красная площадь 20 лет тому назад», или «1905 год» и т. д., и попробуйте продать. Принесите мне, я посмотрю.
Как журналист я знал, что почти всякий снимок можно обновить подписью. А кроме того, в этих иллюстрированных журналах, которые уже выбыли из строя, но не стали антикварными, должен быть острый материал.
Действительно, через несколько дней я получил фотографии лейтенанта Шмидта, снятого среди его команды до бунта, и т. д. И вот как ко мне попал целый ряд снимков Сиама.
Рассматривая их, я удивился тому, что сиамские войска одеты в русские гимнастерки и высокие сапоги, что сильно противоречит тропическому климату. Тогда я вспомнил детство, и угол Бассейной и Литейной улиц, и какой-то странный герб на фотографии, и подпись к ней — фотограф такой-то, поставщик сиамского короля.
Потом я вспомнил квартиру Горького и медный череп с бирюзою, с воткнутым в него тяжелым трехгранным кинжалом, вещь из Сиама.
Но для начала я расскажу вам, как выглядит Николаевский корпус.
Площадь Мариинского театра.
Николаевский корпус стоит на Офицерской улице. Он красный. Рядом с ним цветочный магазин, а напротив желтое, сожженное здание бывшей охранки.
А через площадь без крыши Литовский замок, над окнами которого черные языки сажи отнесены несколько вбок. Потому что Литовский замок — тюрьма, которая горела во время Февральской революции при сильном ветре.
До революции на площади жгли костры. Конечно, в большие морозы. И лошади, проезжая мимо костра, жались к нему, чтобы согреться. Вообще у меня ощущение, что морозы в последнее время в Ленинграде уменьшились.
Николаевский корпус не аристократический. В нем учились дети купцов, и величественен в нем был только тяжелолапый швейцар в передней с желтыми диванами.
Сюда и отдан был в 1896 году седьмой сын сиамского короля Мага Чакрабон.
Как Мага Чакрабон попал в Россию и что он в ней видел
Во время спора Сиама с Францией из-за области Маконга сиамский король, вероятно, с какими-то далекими мыслями о политической комбинации отдал одного из своих сыновей в Россию, которую он знал по заезду наследника престола.
Сын был определен в корпус иждивением государя императора, носил синие штаны и полосатый пояс и товарищами для простоты считался мусульманином. Его не брали ко двору, и если он видал императрицу, то только тогда, когда она выходила, как из норы, из-под дворца сквозь маленький детский подъезд.
Одета она была в красную ротонду, и в цвет ее ротонды был выкрашен Зимний дворец.
Несколько строк благотворительности
По воскресеньям Мага ходил в дом своего поставщика, еврея фотографа, и читал толстого Фауста с рисунками Дорэ, который в интеллигентных еврейских семьях заменяет библию.
У фотографа была дочка. Чакрабон катал ее на извозчике.
Мороз и любовь. О, любовь, да будут благословенны твои 15, которые я сейчас дарю сиамскому принцу.
Даже лошади знают, что зимой на извозчике, там за хвостом, целуются.
Двойная целующаяся тень традиционно обегает сани при встречах с фонарями.
Когда между губами опять появился мороз, то принц не знал, что сказать.
О Российской империи, написано по воспоминаниям и материалам
Это была налаженная империя: рыба и хлеб, нефть в цистернах и гусь пересекали ее, встречаясь, не мешая друг другу и не испытывая нигде потребности выяснить отношения.
Это была империя с музеями, с университетами, ландшафтами и пространствами.
По аналогии принца отправили в Киев.
На Украину вообще отправляли служить кавказцев, крымские татары служили в Бессарабии.
Армейский кавалерийский полк, в котором служил Чакрабон, стоял у Киева, в Лавре.
Здесь начался роман принца.
Роман принца, написан по Тургеневу
Женщину я не стану описывать. Она описана Тургеневым, а он описывал их подробно, как имение. Была весна и бал. Это обычное совпадение.
Дул теплый ветер из зала, как будто из геликонов оркестра. Холодные листья истерических тополей в саду могли пахнуть человеческим потом. Как артиллерия, скрывшись дымной завесой тумана, пел кругом сразу несколькими голосами соловей.
От вальса кружилась в обратную сторону голова. И здесь Чакрабон поцеловал русскую женщину и по закону жанра сделался ее мужем.
Следующая глава
После свадьбы было страшно рядом с ней, энергичной и горячей, непохожей на книжную, так страшно, как будто схватился с борцом неравной силы. Ему хотелось отодвинуться к кровати в угол и, забравши одеяло, просидеть ночь у никелированной спинки. Или пойти в переднюю, где шинель висела никем не тревожимая.
Но прошло два года. Принц скучал. Служил. Читал Блока, Бальмонта, опять скучал, и однажды утром к нему приехал французский консул.
— Ваше императорское высочество, — сказал он, с ним был командир полка, — сиамский император — родитель ваш, в бозе почил. Ввиду смерти старших братьев ваших получена телеграмма: ваше императорское высочество вызывается занять прародительский престол.
Глава о Сиаме, написана по энциклопедическому словарю Брокгауза и по народоведению Ратцеля[358]
Сиам, по-сиамски Мунг Тан, что значит — свободное королевство, по-бирмски Водра — королевство в центральной части ИндоКитайского полуострова между британскими владениями на западе и французскими на востоке, сильно уменьшенное в объеме с 1893 года, — прочел принц в 59-м полутоме энциклопедического словаря Брокгауза, специально взятого на пароход. 300 слонов у сиамского короля. А 40 слонов — это достаточно для счастья. Дворец не похож на Зимний. Он на сваях, с роем беспорядочных комнат и с дребезжащей хрустальной кроватью.
Жены в костюмах баядерок.
Наташа испугалась, когда ее поместили в коридор с женами.
В коридоре — толстый китаец.
«Где ключ угрюмого скопца» — должна была вспомнить Наташа.
Наташа сперва плакала.
— Хочешь, я построю тебе отдельный дворец в 20 комнат и кухню, — спросил ее Чакрабон.
Конец Наташи, тургеневской женщины и императрицы Сиама
— Мага, — сказала Наташа мужу, — я отравлена. Они накормили меня толченой электрической лампой. Мага, ты император, вероятно, ты имеешь право подписывать рецепты. Наш император имеет право даже причащать себя сам. Дай мне скорый яд! Зачем мы не остались в Киеве?
Когда ее хоронили, то император шел впереди войска.
Войска были одеты в защитные гимнастерки, в шаровары и бескозырки. В ногу шли комбеджи, фуанги, стаенги, лиосы, кмеры и мои.
Казалось, что землю бьют огромными связками сухих прутьев. Русский генерал пропустил бы войска спокойно. Цвет лиц солдат только сказал бы ему, что войска возвращаются из лагерей.
Сзади шли с темным слитным гудом слоны.
Гроб утопал в цветах, — как говорили иностранцы на балконах.
«Левой, левой», — тихо считали инструктора. Барабаны бились о палки, подскакивая на ноге барабанщиков.
Флейты призывали покойницу к храбрости. Над могилой Наташи были поставлены два каменных слона с поднятыми хоботами. На хоботах они держали корону.
Я видел фотографию этой могилы. Кругом ее стояли ряды войск в нашей форме. Фотография висела в витрине на углу Литейной и Бассейной, ныне улицы Некрасова. Снимок с нее и принес мне во Дворец труда Ерофеев, человек, пахнущий лизолем. Фотографии были помещены в разрозненных номерах «Нивы».
Концовка, сделанная по фотографии в стереоскопе
Я знаю, что Чакрабон жив и живет у себя в Сиаме, а так как мне приходилось бывать на Востоке, то я могу рассказать о том, как узнал Чакрабон об Октябрьской революции.
Ноябрь в Сиаме
У озера Тогесан уже выплыл на поверхность и дозревал болотный рис. На плоскодонках ездили крестьяне в рисовых зарослях. Они наклоняли колосья над лодкой и били рис палками так, как у нас дети, играя, бьют крапиву. Рис осыпался в лодки. Крестьяне собирали в горах навоз и летучих мышей.
Император был во дворце. Без стука открылась дверь. Без паузы вошла в дверь чья-то спина и повернулась боком, пропуская вперед французского резидента.
Несколько слов от меня, что император Сиама говорит только по-русски.
— Мы не решались тревожить раньше вашу долгую и законную скорбь, — быстро заговорил француз, — но изменнический выход России из рядов союзных армий заставляет нас набрать Вспомогательный корпус. Но изменнический выход России, — быстро переводил на русский язык человек в морской форме.
О телеграфе на Востоке
Телеграф в странах Востока идет на невысоких железных, внизу раздваивающихся столбах, поэтому он похож на изгородь. А столбы похожи на сплетниц. Телеграмма, пока идет, напитывается слухами. Я в северной Персии получил через Индию телеграмму следующего содержания:
При выходе из цирка Чинизелли Зиновьевым убит известный большевик Максим Горький. Викжель[359] протестует.
Представьте себе эту телеграмму в руках принца Чакрабона.
Или представьте себе, что вы из Москвы переселились на луну и что там душно. И вдруг вы на луне узнаете, что вам въезд в Москву воспрещен навсегда и квартира ваша сдана другому. Так как никому еще никогда не случилось прочесть библию и историю России, нарезанные узкими полосками и смешанные с утренней газетой, то я не могу передать впечатление от октябрьских телеграмм на Востоке. Уже опять появились в саду тени, и свет солнца перестал быть лобовым, когда Чакрабон дочитал последнюю телеграмму.
Офицер свертывал ленты в аккуратные кружки с тем отсутствием впечатлений, с которым человек, провалившийся на экзамене, надевает пальто в передней.
Лейтенант вышел в сад. Сад был в стереоскопе, пространственный, но нереальный. Перья пальм демонстративно обозначали первый план.
На что это похоже.
На пыль, висящую в воздухе и не имеющую веса.
На жалость.
На человека, который идет по дороге с заросшей травой, поет и не знает, что поет.
А на это похож сам писатель.
На песню, которую поют невнимательно.
На бога, который наскоро, в шесть дней, создал мир и доволен, что седьмой день — воскресенье.
ДРОВА
Разговор у ворот тюрьмы
Неужели они и раньше были такие тяжелые?
Пока достанешь, перевезешь, да по лестнице, и топить не захочешь.
А мне дрова таскает один человек. Очень любезный такой и старательный: у нас пять этажей. Только я боюсь.
Муж мой из поляков. Помер давно. Сын у меня в Варшаву уехал. Мама, — говорит, — я буду писать. Не пишет. Живу я вместе с его женой, зову ее дочкой.
Очень у нас дует из-под двери пустой комнаты. Взяли жильца.
Георгий Сигизмундович из поляков, но по-ихнему не говорит. Маленький такой — мне по плечо.
Пожил. Опять из-под двери дует.
— Вы бы на ночь топили, — говорю.
— Печурка тепло не держит, простудитесь.
— У меня легкие, — говорит, — здоровые, я на ночь не топлю.
Встала я раз утром, а дочка у меня на плите спала. Пошла на кухню. Лежат они, жилец и дочка, на плите, пальто его укрылись. А галифе на стуле висят. Очень мне было это обидно, вот, думаю, какие у тебя легкие. Ничего я им не сказала. Только вещи свои на рынке сама стала продавать. Вещей у меня много. А жилец начал звать меня маменькой. И жили мы так очень смирно.
Был день, когда муж помер, и решила я пойти на могилу на Смоленское кладбище. Начала с утра одеваться теплей. Узнал жилец.
— И мы с вами мамаша, — говорит. На Смоленском кладбище тихо. Стою у могилы. Холодно. Даже не плачется.
Вынимает дочка бумажку, вытрясла порошок в руку и съела.
Спрашиваю — что это?
Георгий Сигизмундович отвечает моментально — это, мамаша, сердечные порошки, дал мне их на службе фельдшер; время сейчас голодное, блокада и угощать друг друга нечем. Вот и едят порошки. Съешь такой порошок, и станет весело. У меня и для вас есть.
Съела один порошочек.
Пошли.
Я вперед. Думаю, еще целоваться будут, так чтоб не мешать.
Слышу, говорит дочка — что же она не падает? Отвечает жилец — сейчас, — и слышу щелкнул за мной раздав. Обернулась я, вижу, он в меня из нагана стреляет, сейчас осечка была.
Бросилась я на него. Хотела прямо в снег втоптать. А он, не повернув нагана, мне прямо в лоб дулом ударил. Только это хорошо, если бы рукояткой, так убил бы, хоть и слабый. Упала я на землю, кричу, кровь на глаза, хочу снег в рану, а все песок хватаю. Слышу, бегут от меня мои, и дочка бежит и кричит. Поймали их какие-то рабочие, кресты красили. Притащили ко мне.
Очень они были растеряны и все говорили «мамаша». Били Георгия Сигизмундовича рабочие очень и в кровь головой тыкали, а он говорил — «извиняюсь». Дали они ему саночки и сказали — вы ее убили, вы и в больницу везите.
Привезли меня в больницу, и очень там доктора на меня удивлялись, потому что приняла я, оказывается, стрихнин. Мучилась я сколько надо времени и поправилась. Вернулась домой. Стала жить одна. Холодно. Из-под двери дует. Иду я раз на улице. Нагоняют меня сани. На них конвойный, и лежит рядом с ним лицом вниз женщина и ногами бьет. И на ней мои чулки.
— Дочка, — говорю, — что с тобой, дорогая?
— Мамаша, он меня не любит, я отравилась!
Села я с ней рядом, и поехали мы в тюремную больницу. Полечили ее там, и оказалась она беременной.
А у нас в тюрьмах беременных не держат. Потому что очень тесно. Взяла я дочку и привезла к себе. А Георгий Сигизмундович в тюрьме. У него очень почерк хороший, и человек он аккуратный, и он у них вроде делопроизводителя. Я на него на суде не очень жаловалась. Отпускают его оттуда по воскресеньям. Приходил он к нам, стоял у ворот. Потом стал помогать дрова носить, и пьем мы по воскресеньям чай все вместе.
А сын мне из Варшавы так и не пишет.
Видно у них там дрова дешевы!
КИНО
НЕЧТО ВРОДЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Нума Помпилий
Существует, кажется, у Тита Ливия старинная латинская легенда:
«Боги торгуются с Нумой Помпилием о характере жертвоприношения, им угодного (стиль Тита Ливия). Боги хотят человеческого жертвоприношения. Нума Помпилий притворяется, что их не понимает.
— Мы просим нечто человеческое, — говорят боги.
Нума предлагает клок человеческих волос.
— Мы спрашиваем нечто живое, продолжают боги.
Нума накидывает две живых рыбы.
— Мы спрашиваем нечто круглое, мы требуем головы, — говорят боги.
Нума предлагает головку лука».
Итак, боги получили совершенно ненужный им ассортимент.
Приблизительно такие разговоры происходят сейчас между сценаристами и Главполитпросветом.
ГПП нужно нечто живое человеческое, основанное на живом материале, выражающем взаимоотношение классов.
Сценаристы предлагают рыбу, лук и надписи.
Разговоры длинные и тягостные.
Крылья холопа
Существовал сценарий «Крылья холопа». В этом сценарии описывалось, как некоторый человек летел при Иоанне Грозном и что из этого получилось. Иоанн Грозный в сценарии был взят из «Князя Серебряного».
Главполитпросвет потребовал чего-то иного. Внезапно нам пришло в голову не надувать бога и не держаться ложно классической традиции Нумы Помпилия. Виновником нарушения традиции был артист МХАТ — Леонидов. Он заявил, что играть Грозного, который рычит и убивает, — невозможно. Тогда нам пришло в голову посадить Иоанна Грозного на реальный исторический материал. Вспомнили, что Иоанн Грозный имел первый в России завод по механической обработке льна, поставленный англичанином Гарвеем, что он конкурировал своим льном с Новгородом, что вообще он не только убивал, но и торговал и даже был основателем льняной монополии. И как только мы ввели реальный исторический материал, не традиционный, сейчас же сценарий начал строиться. Понятным стало, откуда взялись крылья холопа, потому что без механики не полетишь, а оружейные мастерские и механическая установка Иоанна Грозного могут создать механику. Увязалась царица, потому что царица заведовала белой казной (льном).
У Иоанна Грозного появилась роль, и режиссер Тарич смог, наконец, переделать сценарий так, что он удовлетворил актера и фабрику.
Монпансье
Когда я пришел на кинофабрику, первое, что меня поразило, — это запах монпансье.
Дело в том, что кинематографические ленты клеят грушевой эссенцией, а грушевая эссенция, конечно, пахнет карамелью.
Этот запах проникает в режиссерскую комнату и в голову сценариста.
Запах монпансье в советской кинематографии можно изгнать только введением в нее работы над реальным историческим материалом.
Политическое требование сегодняшнего дня в части своей совпадает с художественным.
Дело идет не о том, чтобы отговориться от этих заданий, а о том, чтобы художественно их использовать.
Мы ставим сейчас ставку на «Крылья холопа», на картину без монпансье, лука, рыбы и человеческих волос.
Нам кажется, что в сценарии нам удалось уже работать над материалом.
Кино ищет нового материала — экзотического, национального, новых кадров, между тем история торговли и настоящая история культуры, даже история штанов, если ее взять научно, может дать для кинематографии больше материала, чем все Дороти Вернон[360].
5 ФЕЛЬЕТОНОВ ОБ ЭЙЗЕНШТЕЙНЕ
Первый фельетон
У художника есть несколько свобод относительно материала быта: свобода выбора, свобода изменения, свобода неприятия[361]. Ни одну из этих свобод не использовали постановщики «9 января»[362]. Говорят, что эта лента стоила несколько сот тысяч — это очень печально, это очень стыдно. Кроме нескольких сцен-массовок, лента последовательно бездарна… Вина постановщиков в том, что они не использовали своей свободы. Они действовали под ряд, снимали все как было, и получилось, конечно, так, как не было, потому что революцию нельзя передавать скучно.
Эйзенштейн — громадный мастер; он использовал свои свободы. Первая удача его в ленте была та, что он сузил тему, умело выбрал моменты, взял не вообще 1905 год зараз, а броненосец «Потемкин», и из всей Одессы — только лестницу. Чрезвычайно умно, крупно, по-эйзенштейновски, хорошим крупным планом на белом фоне, а не на черном эстетном бархате, взято восстание.
Восстание «Потемкина» было неудачно. «Потемкин» и берег не могли помочь друг другу. Матросское бессистемное восстание кончилось тупиком в Констанце. Эйзенштейн сумел найти героические моменты восстания и сумел показать пафос прохода «Потемкина» сквозь адмиральскую эскадру.
Между вещью Эйзенштейна и историей есть правильный промежуток. И Эйзенштейн, как «Потемкин» с революционным флагом, прошел через историю, оформил материю и поднял флаг: «Присоединяйтесь к нам». Удача ленты полная. Зрителя лента берет. Лента интересна. Лента наполнена крупными вещами.
Второй фельетон
Еще не перевелись большие темы на Руси.
Еще можно говорить на тему, гениален ли Эйзенштейн, гениальна ли и русская кинематография. Но дело не в гениальности Эйзенштейна. Дело в том, как нужно руководить русской кинематографией. Мы утратили свободу рук, пытаемся создать коммерчески выгодный кинематограф, показываем в «Минарете смерти»[363] голых женщин и уверяем, что это не порнография, а видовая картина.
Чтобы правильно руководить советской кинематографией, надо верить в гениальность нашего времени, надо понимать, что Эйзенштейн явился не из воздуха и не из воды. Эйзенштейн — логическое завершение работы левого фронта. Может быть такой укор Эйзенштейну, что он стоит в середине и, может быть, даже в конце, а не в начале своего движения. Для того чтобы явился Эйзенштейн, должен был работать Кулешов с сознательным отношением к киноматериалу. Должны были работать «киноки», Дзига Вертов, конструктивисты, должна была родиться идея внесюжетного кино.
Легко признать гениальность Эйзенштейна, потому что гениальность одного человека как-то не так обидна. Гениальному человеку можно дать пленку Тиссэ и большое жалованье, но трудно признать гениальность времени. То, что советская кинематография должна не течь по течению, а изобретать, добиваться, что кинокультура существует, и что Протазановы, Егоровы, Алейниковы[364] очень хороши, но не годны как точки для ориентировки.
Третий фельетон
Что умеет и чего не умеет Эйзенштейн?
Эйзенштейн умеет обращаться с вещами.
Вещи у него работают превосходно: броненосец действительно становится героем произведения. Пушки, их движение, мачты, лестница — все играют, но пенсне доктора у Эйзенштейна работает лучше, чем сам доктор.
Актеры, натурщики[365] — или как их там называют у Эйзенштейна — не работают и как-то с ними ему работать не хочется, и этим ослаблена первая часть. Иногда человек удается Эйзенштейну — это тогда, когда он понимает его, как цитату, как вещь, берет стандартно. Так хорош Барский[366] (капитан «Потемкина»), он хорош, как пушка. Лучше люди на лестнице, но лучше всех — лестница.
Лестница — сюжет. Части площадки играют роль задерживающих моментов, и лестница, на которой, то убыстряя движение, то замедляя, катится коляска с ребенком, организована по законам, родственным законам поэтики Аристотеля; в новой форме родилась перипетия драмы. Не удается Эйзенштейну беготня, момент, когда люди бегут в разные стороны.
Несколько вещей оказались недоработанными. Недоработан прожектор. Очень хорош, но эстетен просвет.
Тиссэ очень талантливый человек, но расцвет его очень художественен, он годится и в другие картины. Замечательный пример, как мало значит материал и как много значит режиссер, изменяющий материал. Достаточно сравнить лестницу у Эйзенштейна и лестницу у Грановского[367]: лестница та же самая и оператор тот же самый, а товар разный.
Четвертый фельетон
О словаре Пушкина. У Пушкина не окажется много новых слов, потому что Пушкин завершитель своего времени. Ко времени Пушкина новые формы были созданы, он лишь улучшил их, но словарь и ритм были у Пушкина, — эти формы становились полубессознательными, уходили из светлого поля воспринимающего читателя, — и в этом была гениальность.
У Эйзенштейна в «1905 годе»[368] почерк режиссера, монтаж, углы съемки, кинематографические знаки препинания — наплывы, диафрагмы, бесконечно менее заметны, чем в «Стачке». Во всей ленте есть только два наплыва, и оба смысловым образом оправданы: это — лестница наполняется людьми сразу, и палуба броненосца сразу пустеет.
Эти наплывы экономизируют экспозицию сцены и не чувствуются как фокус. Лента вся прекрасна, потому что вещи в ней не забиваются. Прием экономизирования, я думаю, сознательно соблюден, — это что-то вроде единства действия.
Остатками старого Эйзенштейна явилось несколько сцен: завернутый в брезент командир — совершенно ненужная возня из «Стачки». Брезент хорошо работал, когда остался один и раздувался ветром. Не нужно было его больше трогать. Не нужно было так грациозно убивать Вакулинчука. Кроме того, его нужно было убить раньше, потому что если он убит уже в момент победы матросов и после смерти почти всех офицеров, то его смерть уже нельзя воспринять как от руки палачей.
Пятый фельетон
Нужен ли был красный цвет — флаг, поднимающийся над мачтой «Потемкина». Мне кажется, что нужен. Художественное произведение и, в частности, кинематографическое произведение работается смысловыми величинами, и в теме «1905 год» красный цвет — материал. Нельзя упрекать художника за то, что при просмотрах аплодируют не ему, а революции.
Красный флаг, хорошо освещенный, развевается все время над Кремлем. Но люди, идущие по улице, ему не аплодируют.
Эйзенштейн покрасил флаг дерзко, но имел право на эту краску.
Боязнь дерзости, боязнь простых доходящих эффектов в искусстве — пошлость. Один раз покрасить флаг в ленте — это доходит. Это сделано настоящей рукой смелого человека.
О КИНОЯЗЫКЕ
На иностранных фильмах иногда можно проверить себя.
Это я вспомнил, потому что в «Парижанке»[369] увидал кадр, который я тщетно протягивал всем прохожим, идущим через кинематографию.
Кадр этот следующий: человек стоит на перроне вокзала, по нему бегут световые пятна от подходящего поезда.
Вместе с Львом Владимировичем Кулешовым, год тому назад, писали мы это в одном сценарии[370]. В нем, конечно, таких кадров много. Дело в том, что органические вещества не выдерживают часто сложной химической обработки. Их замучивают.
На дне искусства, как гнездо брожения, лежит веселость.
Ее трудно сохранить, трудно объяснить неспециалисту.
Изобретательность нуждается в аудитории, мы истрачиваем веселость творцов. Дело не в «кадрах», не в планах[371].
Кадры — дело наживное.
Дело в искусстве.
Картины можно ставить дешево, можно ставить дорого.
В нашей стране мы обязаны ставить дешево. Кинематографию ведь поливают деньгами. Советская кинокомедия не удается[372].
Не могу себе представить, когда она удастся[373].
Ведь для того, чтобы провести ее, нужно рассмешить несколько комиссий. Нет логики изобретения. Логика есть в анализе изобретения. Комиссии не изобретают. Любой сценарий любого мирового боевика будет забракован не по идеологическим, а по художественным соображениям. У нас пока невозможна эксцентриада. Почитайте, как пишут в Ленинграде о ФЭКСах[374].
Все эти слова просты, как мычание коровы перед запертыми воротами.
Рецепта на советскую кинокомедию, вероятно, никто не имеет. Мы знаем одно, что Макс Линдер доходит до деревенской аудитории и имеет в ней успех. В городской аудитории сейчас успех имеют Пат и Паташон[375]. Газетный успех имеет Бастер Китон[376]. Если следить за смехом в зале, то можно легко заметить, в какой ничтожной части доходит игра Китона до нашего зрителя. В «Нашем гостеприимстве» хорошо принимали железную дорогу, комические трюки Китона принимали всерьез и им хлопали, как игре Гарри Пиля[377].
«Три эпохи»[378] почти совсем не доходят. Интересуются ихтиозавром, львом, которые рассматривали наманикюренные ногти, восхищаются прыжками Китона. Смеются из уважения. Но это не решает вопроса.
Нельзя сделать вывод — эксцентрическая кинокомедия не воспринимается советским зрителем. Дело обстоит сложнее. Кино оперирует в своей работе не просто с изображением, а со смысловым изображением. В процессе обычного видения мы воспринимаем глубину, пространственность благодаря тому, что смотрим двумя глазами. Совмещения видения правым и видения левым глазом, слагаясь, дают нам ощущение размера. Кинокартина снята с точки зрения одного глаза. Между тем мы в кинокартине видим глубину. Глубина эта — смысловая. Благодаря движению в кадре, особенно движению изнутри на нас — по диагонали — мы верим в пространственность кадра.
Поэтому декорация, в которой не движутся, или дорога, по которой не проехали, в кино не построена. Любопытно отметить, что на экране можно заменить одного человека другим, мало похожим, и публика этого не заметит, если нет установки на перемену. Но публика замечает, что у Гарри Пиля на одной крыше есть на ногах белые гетры, а на другой нет. Это потому, что ноги прыгают. На них есть установка.
Не мешало бы об этом знать и кинорежиссерам. Они ставят декорации, не обыгрывая их, и хотя декорация и стоит, но зритель на экране ее не увидит. Она ни при чем, и с нее не прыгают. А так, стоит она себе сзади. Это не декорация, а пробка для работы киноателье.
Кинолюди и кинодействие, видимые нами на экране, точно так же видятся нами постольку, поскольку они осознаются. Кино больше всего похоже на китайскую живопись. Китайская живопись находится посередине между рисунком и словом. Люди, движущиеся на экране, своеобразные иероглифы. Это не кинообразы, а кинослова, кинопонятия. Монтаж — синтаксис и этимология киноязыка[379]. Когда в первый раз показывали ленту «Нетерпимость»[380] в СССР, публика не выдержала монтажа (Грифитовского) и уходила с сеанса. Сейчас она читает Гриффита[381] с открытого листа.
Условность пространственности, условность безмолвия, условность неокрашенности в кино — все имеет свою аналогию в языке. Кинематографическое правило, что нельзя показать, как человек сел за стол, начал есть и кончил есть, т. е. правило выделения из движения одной только его характерной части — обозначение движения — и есть превращение кинообраза в киноиероглиф. Поэтому нельзя говорить, что язык кино понятен всем. Нет, он только всеми легко усваивается.
Существование интернациональных центров производства не противоречит этому утверждению. Существует определенный сорт: американская лента для Мексики. Существовали ленты для России. То, что мы имеем от мировой кинематографии, — чрезвычайно своеобразно. Мы пропустили несколько лет развития киноискусства. Мы скорее узнали подражателей рампы, чем творцов. Мы не понимаем законов отталкивания форм одной ленты от другой. Не знаем кинодиалектов.
Зощенко имеет сейчас успех у мелкобуржуазной публики, но когда ему приходится читать перед крестьянской или рабочей аудиторией, то он читает не «Аристократку», а вещи, основанные на комизме положения.
Аудитория, не знающая литературного языка, не воспринимает комичностей отклонений от языковых норм. Одно время наоборот. Аверченко был очень популярен в Китае, так как его юмор — юмор положения, а не языка и положений элементарных.
Киноязык имеет свои нормы. Неправильное пользование этими нормами производит впечатление комичного. Когда в АРК’е[382] показывают феерию, постановки 1914 года, или «Северное сияние»[383], то публика хохочет бескорыстно и неудержимо.
Юмор Китона кинематографичен. С одной стороны, он пародиен. Пародирует эпохальные ленты типа «Нетерпимость», «Рождение наций». Смешное находится не в ленте, а между лентами. Так, смешны, например, деревья в роли доисторических катапульт. Смешна неуклюжесть параллелизмов. Смешно вторжение одного стиля в другой. В историческую драму (бег на колеснице) врывается английская драма (гонка на собаках), разнобой доходит и производит комическое впечатление. Доставание собаки из ящика ассоциируется с запасным колесом. Для нас эта ассоциация не обязательна. Негр для нас в картине — экзотика. Для американца и экзотика и быт. Гадание на костях — экзотика. Негр, играющий в кости, — быт. Столкновение планов комично. Здесь мы переходим на игру с бытовыми подробностями, которая до нас тоже не доходит. Не смешны последствия «сухого закона», игра в мяч, так как мы не знаем ни подробностей закона, ни правил игры. Одним словом, вся вещь нуждается в переводе.
ГОЛОС ИЗ-ЗА СЦЕНАРИЕВ
Трудно говорить со сценаристами. Сам понимаешь, что положение их отчаянное.
Бракуют их три, непохожих друг на друга инстанции. Они отвечают не только за себя, но и за место, в котором сценарий находится.
Правда, есть новые веяния. Но знаете ли вы, что такое свет потухших звезд?
Потушена в небе какая-нибудь несчастная звезда, а свет от нее все еще идет годами, десятилетиями на землю.
Так происходит в кинематографии.
Сценаристы говорят: «Было задание „деревенская фильма“, „восточная фильма“, сейчас — „историческая“».
А кино — дело долгое, нужно пригнать сценарий, подобрать режиссера, поставить декорации, иногда устроить экспедицию. Проходит больше полугодия. Звезда задания уже потухла, а лучи и разные партизанские ленты все поступают и поступают.
Разогнавшиеся сценаристы не могут остановить свои хлопающие вафельницы и продолжают писать.
Художественные бюро бракуют сценарии пачками, и много еще можно сказать не смешного.
В чем же дело?
Прежде всего в художественной честности. Нужно понять, что в искусстве нет приказаний, что слишком буквальное исполнение приказаний всегда было одной из форм саботажа.
Нужно перестать подслушивать вздохи ГПП.
Сценарии должны быть написаны по социальному заказу, а не для воображаемого заказчика.
Тогда у нас пройдет полоса сезонных сценариев, тогда сценарист не будет стрелять сценариями, как дробью, в расчете, что авось один попадет.
Я и несколько моих товарищей, горько упрекаемые кинематографистами за то, что мы «больны литературой», читаем сценарии сотнями.
В мозгах начинает образовываться какая-то корка или арка.
Мы больны литературой не больше, чем трамвай электричеством.
Да, нужно говорить от первого лица.
Я берусь поделиться с товарищами сценаристами опытом, принесенным мною из моего ремесла.
Я беру сценарий, читаю его и спрашиваю себя: «В чем здесь изобретение, в чем здесь выдумка, за что нам предлагают заплатить деньги? Есть ли новый характер героя, дана ли другая развязка, возможность применения нового материала?»
Обычно сейчас передо мною сценарий исторический. Я читаю про Анну Ивановну, про Анну Леопольдовну, про Ляпунова. Все это мне известно из выписок из книг (по тарифу нужно платить 75 коп. штука).
Если сценарий деревенский, то я читаю по порядку о кулаках, середняках, бедняках и обо всем том, о чем гораздо лучше пишут в газетах.
Сейчас во всех сценариях по крепостному праву секут. Сечение это для зрителя не неожиданно и очень подозрительно идеологически.
Изображение садизма на сцене и есть садизм.
Я не верю, что голые спины женщин в рубцах нужны для агитации. Сценарии воют однообразно и однообразней, чем волчьи стаи.
«Ты не смог изобразить ее красивой и нарисовал ее разукрашенной», — так сказал один учитель художнику, изобразившему богато наряженную Елену. Дело было в Греции.
А у нас я вижу то же неумение и замену работы сценариста пользованием всяким материалом. Они хотят продать антикварную лавку. Так происходит на каждой кинофабрике.
Сценаристы не могут остановиться, раз начав делать выписки из учебников истории.
Если один кадр не производит переворота, то ему же нечем работать.
В революционном сценарии обязательны поп Гапон, 9 января, провокация, еврейский погром и два революционера: один интеллигент, другой — рабочий. Все это я списал с одной страницы сценария. Происходит дикое истребление тем.
Темы душатся, как будто хорек ворвался в курятник. Это погром, а не работа.
На фабриках идут странные разговоры: «Сифилис?.. — Сифилис у нас уже был». Темоистребление. Нужно не столько учиться беречь темы, сколько уметь освобождаться от них. Превращать материал в конструкции.
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА В КИНЕМАТОГРАФИИ
Поэзия и проза в словесном искусстве не резко разграничены друг от друга. Неоднократно исследователи прозаического языка находили ритмические отрезки, возвращение одного и того же строения фразы в прозаическом произведении. По ритму в ораторской речи есть интересные работы Фаддея Зелинского[384]; по ритму чистой прозы, рассчитанной не на произнесение, а на чтение, много сделал, правда, не проводя своей линии систематически, Борис Эйхенбаум[385]. Таким образом, при разработке вопросов ритма граница поэзии и прозы как будто бы не становилась яснее, а, наоборот, спутывалась.
Возможно, что различие поэзии и прозы не только в одном ритме. Чем больше мы занимаемся произведением искусства, тем глубже мы проникаем в основное единство его законов. Отдельные конструктивные стороны явления искусства отличаются друг от друга качественно, но эта качественность имеет под собой количественное обоснование, и мы можем неприметно из одной области переходить в другую. Основное построение сюжета сводится к планировке смысловых величин. Мы берем два противоречивых бытовых положения и разрешаем их третьим, или мы берем две смысловых величины и создаем из них параллелизм, или, наконец, мы берем несколько смысловых величин и располагаем их в ступеньчатом порядке. Но обычное основание сюжета — фабула, т. е. какое-то бытовое положение, но бытовое положение только частный случай смысловой конструкции, и мы можем создать из одного романа «роман тайн», не путем изменения фабулы, а путем простой перестановки слагаемых: путем конца поставленного сначала или более сложной перестановки частей. Так сделаны «Метель» и «Выстрел» Пушкина. Таким образом, величины, которые можно назвать бытовыми, смысловые величины — величины положения и чисто формальные моменты могут заменяться одни другими и переходить одни в другие.
Прозаическое произведение в своей сюжетной конструкции, в своей основной композиции основано главным образом на комбинации бытовых положений, т. е. мы разрешаем положение так: человек должен говорить, человек не может говорить, за человека говорит кто-нибудь третий. Например, «Капитанская дочка»: Гринев не может говорить, но он должен говорить для того, чтобы оправдаться от навета Швабрина. Он не может говорить, потому что он скомпрометирует капитанскую дочку; тогда за него объясняется перед Екатериной сама женщина; или человек должен оправдаться, потому что дал обет молчания, — разрешение в том, что ему дается затянуть срок. Мы получаем одну из сказок Гримма «О двенадцати лебедях» и сказку «О семи визирях». Но может существовать и другой способ разрешения произведения — и это разрешение его не смысловым способом, а чисто композиционным, причем композиционная величина оказывается по своей работе равной смысловой.
В стихотворениях Фета встречается такое разрешение произведения: даны четыре строфы определенного размера с цезурой (постоянным словоразделом посредине каждой строки), разрешается стихотворение не сюжетно, а тем, что пятая строфа при том же размере не имеет цезуры и этим производит завершающее впечатление.
Основное отличие поэзии от прозы, возможно, лежит в большей геометричности приемов, в том, что целый ряд случайных смысловых разрешений заменен чисто формальным геометрическим разрешением; происходит как бы геометризация приемов; так, строфа «Евгения Онегина» разрешается тем, что две последние строки, рифмующиеся друг с другом, разрешают композицию, перебивая систему рифмовки. Смысловым образом у Пушкина это поддержано тем, что в этих двух последних строках словарь изменяется и носит несколько пародийный характер.
В этой заметке я пишу чрезвычайно общие вещи, потому что хочу наметить самые общие вехи, причем вехи в кинематографии. Мне неоднократно от профессионалов кино приходилось слышать странное мнение, что из произведений литературы стихи ближе к фильме, чем проза. Это говорят самые разнообразные люди, и целые ряды фильм стремятся к разрешению, которое по далекой аналогии мы можем назвать стихотворным. Несомненно, по стихотворному, формально разрешающему принципу построена «Шестая часть мира» Дзиги Вертова, с ясно выраженным параллелизмом и с вторичным появлением образов в конце произведения, иначе осмысленных и отдаленно напоминающих, таким образом, форму триолета.
Рассматривая фильму Пудовкина «Мать», в которой режиссер положил много усилий по созданию ритмического построения, мы видим в ней постепенное вытеснение бытовых положений чисто формальными моментами. Нарастание движений, монтаж, выход из быта сгущается к концу и подготавливается в начале параллелизмом сцен природы. Многозначность поэтического образа и неопределенный ореол, которые ему свойственны, способность одновременного осмысливания различными способами достигается быстрой сменой кадров, которые не успевают стать реальными. И самый прием разрешения фильмы — создание двойной экспозицией кремлевских движущихся под углом стен — это прием использования формального момента взамен момента смыслового, и этот прием — поэтический.
В кинематографии сейчас мы — дети. Мы едва только начинаем думать о предметах своей работы, но уже можем сказать, что существуют какие-то два полюса кинематографии, из которых каждый будет иметь свои законы.
Фильма Чарли Чаплина «Парижанка» — явно проза, основанная на смысловых величинах, на договоренных вещах.
«Шестая часть мира», несмотря на госторговское задание, — патетическое стихотворение.
«Мать» — своеобразный кентавр, а кентавр вообще животное странное; фильма начинается прозой с убедительными надписями, которые довольно плохо влезают в кадр, и кончается чисто формальным стихотворством.
Повторяющиеся кадры, образы, обращения образов в символические поддерживают мое убеждение в стихотворной природе этой фильмы.
Повторяю — существует прозаическое и поэтическое кино, и это есть основное деление жанров: они отличаются друг от друга не ритмом, или не ритмом только, а преобладанием технически формальных моментов (в поэтическом кино) над смысловыми, причем формальные моменты заменяют смысловые, разрешая композицию. Бессюжетное кино есть «стихотворное» кино.
ОШИБКИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ
Работа Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга» производит на меня двойственное впечатление. Ощущение двойного вкуса. Может быть, это объясняется переделками в сценарии.
Первоначально сценарий был задуман Зархи так:
Происходит революция и параллельно ей не происходит романа. В старой схеме исторического романа личная история подвигается вперед благодаря историческим событиям, и (более ранняя схема) сама подвигает их. В сценарии же была взята другая установка, благодаря революции и войне обычный банальный роман не осуществился. Классовое чувство героев, власть истории над ними перестраивала их любовные взаимоотношения, и дуэлянты становились друзьями, а жена-изменница и счастливый соперник офицера — союзниками обманутого мужа. Ирония сценария не была достаточно оценена. Сюжетная схема была принята всерьез, как буржуазная линия, и ленту упростили по требованию со стороны, приведя ее в юбилейный вид.
То, что сейчас осуществлено на экране, поэтому бледнее художественно и политически менее значительно, чем то, что было задумано сценаристом и режиссером. Осталась сюжетная линия, развертывающая историю рабочей семьи. Но эта линия не противопоставлена другой сюжетной линии, а положена на исторически-монтажный фон.
Но искусство очень часто подвигается вперед благодаря постановке неразрешимых задач и ошибкам. Правильно замеченная и до конца проведенная ошибка оказывается изобретением.
В ленте Пудовкина благодаря отсутствию сюжетной конструкции выделились монтажные задачи, вопросы поэтического кино и вопрос сужения кадра. Поэзией я здесь условно называю ту область творчества, в которой смысловые величины имеют тенденцию становиться чисто композиционными. Так в поэтической строке ритмический импульс подчиняет себе речевую интонацию. В своем развитии, так сказать, ритмизуется и фонетическая сторона речи, и семантические величины вступают в сложные взаимоотношения под влиянием закона повторов.
Периоды, словоразделы и артикуляционная сторона вещи — все становится элементами чисто композиционными. Чрезвычайно важно отметить, что в искусстве определенный смысловой поступок может быть часто заменен своим композиционным суррогатом (совершенно не термин), так, например, появление или исчезновение цезуры может в конечной строке заменить в лирическом стихотворении смысловое разрешение. А временная перестановка заменяет тайну. И торможение может быть осуществлено не только противодействующей интригой, но и включением иного, нейтрального материала.
В конце стихового ряда стоит чистое заумное стихотворение так, как тип шизоида доводит нас в конце ряда до уже определенного патологического типа, причем, конечно, понятие патологии здесь не имеет того значения, которое имеет в обыденной жизни.
Смысловые моменты в ленте Пудовкина поэтизируются по принципам значащего стиха. У него дается реальная фабрика, которая потом обращается в монтажно-стихотворную фразу. Памятники Петербурга — сперва реальные памятники определенного города, затем они обращаются в монтажную фразу и в знаки, причем Медный Всадник обозначает торжество и в клеточном монтаже равен удару палки по барабану. Краны и памятники, фанфары и барабан обращаются в знаки, в слова. Появление их в нескольких клетках воспринимается не видением уже, а узнаванием.
Их даже физически мало, чтобы они были увидены. Они не договорены так, как не договариваются в реальной речи слова. Они являются кинематографическими иероглифами.
Сергей Эйзенштейн в своих устных выступлениях чрезвычайно значителен. Чрезвычайно важно для мировой кинематографии его, им еще не высказанная теория аттракциона, которая не напоминает зрителю об эмоции, а вызывает у него эмоцию.
Я думаю, что если бы приделать к местам в кинозале динамометры, то мы бы убедились, что даже не в аттракционной ленте зритель потому воспринимает эмоцию, что он ее заглушения переживает, проделывает, и, вероятно, эстетическое переживание здесь связано с подавлением телесного подражания. Здесь есть нечто общее с внутренней речью при выслушивании стиха.
Очень любопытна другая сторона работы Эйзенштейна, это его мысль о необходимости сузить значение кинематографического кадра, сделать его однозначным, разгадываемым только одним способом.
Как пример, Эйзенштейн приводит словесное построение «худая рука»[386]. Это нужно было бы снять так, чтобы прилагательное «худая» было бы один кадр, а рука — другой. Этим достигается то, что нельзя было бы прочесть кадр: «белая рука».
В «Октябре» Эйзенштейна есть уже найденные куски такого характера. Так сделан, например, пулемет. При неудаче этого приема получается очень плохо, получается сравнение и символизм. Но такие ошибки это обычно издержки изобретения.
Сюжетные части вещи или, вернее, ее сюжетная часть оказалась хромой. У нее нет данного в сценарии антипода.
С другой стороны, попытка Пудовкина работать очищенным кадром дала в кадре бытовом чрезвычайную скупость материала, например голую комнату рабочего. В этой голой комнате на столе стоит стакан чуть дымящегося чая. И благодаря изолированности деталей сюжетно-элементарный прием (стакан брошен в окно) действует чрезвычайно сильно.
В старых реалистических вещах всегда сообщались лишние детали, которые придавали иллюзорность вещи. Вещь существовала не только теми своими признаками, которые были нужны для композиции. Это обрастание деталями, против которого протестовал критик Льва Толстого Константин Леонтьев, было похоже на те подробности, которые вводят в свой рассказ опытные лжецы[387].
У Пудовкина кадр очищен и даже пар над стаканом чая имеет точную значимость, он показывает количество времени от ухода хозяина дома и поддерживает ожидание.
В отношении актерской игры режиссеру не во всем удалось провести свой прием. Барановская, которая так хорошо сидела в «Матери», здесь играет лишнее, и она одна выпадает из схемы произведения.
Вещь в общем хорошая и изобретательная, но, может быть, лучше было бы изобретать иное. Режиссеру пришлось развертыванием политической части ленты, патетическим монтажом замаскировывать отсутствие целой части конструкции. Он это сделал и по пути сумел показать значение однозначного кадра в игровой ленте.
В ленте есть не случайные выдумки, как мундиры, снятые без голов, и сюртуки, выслушивающие декларации. Все это идет по той же линии высушивания кадра, выжимания из него воды. Но напрасно не доверили до конца сценаристу и режиссеру. Они имели право попробовать свое изобретение. Когда не понимаешь человека, то это не значит непременно, что он ошибается, может быть, просто ты опаздываешь.
Один человек, умный и кинематографически осведомленный, после просмотра кусков Эйзенштейна сказал мне:
— Это очень хорошо. Мне очень нравится, но что скажут в массах. Что скажут те, для которых мы работаем.
Что тут можно ответить!
Если бы не было заказа времени, если бы не было революции, то сейчас Эйзенштейн и Пудовкин были бы дикие эстеты. А Мейерхольд не пережил бы своей второй молодости. И сразу бы после «Маскарада» поставили бы «Ревизора» и «Горе от ума»[388].
Эйзенштейн многим и, может быть, всем обязан времени.
Время вытребовало себе свою кинематографию. И так же, как в кино, моменты индустриализации в то же время элементы художественно прогрессивные, так и политическое задание играет сейчас одну из прогрессивнейших ролей в кинематографии.
Но делать вещи на аплодисменты сейчас, на то, чтобы они понравились немедленно и понравились всем, нельзя. Нужно давать время зрителю доспеть до восприятия.
Кстати о Киршоне[389].
Киршон обижен тем, что он вместе со мною ругает политику Совкино. И он указывает разницу между нами. Мне (Шкловскому), — говорит Киршон, — нужна революция для того, чтобы были хорошие картины. А ему (Киршону) нужны картины для революции. Величественные изречения. Это кто-то в Государственной думе говорил: — «Вам нужны великие потрясения. Вам нужна великая Россия»[390].
Но это противопоставление реакционнейшее. Оно основано на недоверии к своему делу.
Революция непременно полезна для электрификации, для индустриализации, для кинематографии. А если она не полезна, если она им противопоставлена, то она будет разбита.
Тут нужно не ревновать, не утверждать, что ты ее любишь бескорыстно, она наследница и двигатель культуры.
Эйзенштейну заказана была юбилейная лента. Один раз он уже ошибся и вместо юбилейной ленты «1905 год» снял «Броненосец „Потемкин“». Дело в том, что художественное произведение не может развиваться вдоль темы. Так как слово или кадр не тень от вещи, не тень от дела, а само вещь. Художественная конструкция требует тематических изменений. Если «Хорошо» Маяковского развивается приблизительно вдоль темы, то это возможно только потому, что техника поэтического языка настолько высока, что материал может быть деформирован самим приемом.
Историографическая часть в «Октябре» Эйзенштейна не может быть осуществлена в полной мере. Но зато именно это задание, неправильно поставленное, создало в картине целый ряд кинематографических изобретений.
Это совершенно гениальная свобода обращения с вещами.
Революция оставила на своем попечении музеи и дворцы, с которыми неизвестно что делать. Картина Эйзенштейна — первое разумное использование Зимнего дворца. Он уничтожил его.
Вещь построена на кинематографическом развертывании отдельных моментов. Время заменено кинематографическим. Двери перед Керенским открываются сколько угодно времени. Сколько угодно времени, т. е. совершенно условно, подымается мост, или Керенский идет по лестнице, набавляя себе титулы.
Кино перестает быть фотографией. Оно уже приобрело свое слово, и лестница Зимнего дворца обозначает совершенно точно то, что хочет Эйзенштейн.
У кинематографиста бывает опасность затянуть что-нибудь, и затяжка это ошибка. Но если саму затяжку перетянуть, то вступают в силу иные законы. И вещь Эйзенштейна вся перетянута и основана на собственных своих законах, которые требуют нового анализа. Смысловой материал вещи — томление. Томится Зимний дворец. Томятся грязные ударницы среди красивых вещей. И вещи показаны так перетянуто, одним своим количеством раздавливают и Временное правительство и самих себя.
Томится Совет. Камень, брошенный вверх, потом падает вниз. У него есть моменты замедления и моменты остановки.
Эйзенштейн гениально перетянул остановку, и, вероятно, это исторически верно, так совершается гражданская война, потому что ее нельзя изображать батальными способами.
Вещь Эйзенштейна — это кинематографическое событие огромной важности. Это для многих — кинематографическая катастрофа. Причем, как известно, первый паровоз бегал хуже лошади, и в вещи Эйзенштейна не идеальна работа оператора. Не все разрешено внутри кадра, и лучше всего взаимоотношение кадров. И, вероятно, основной момент изобретения происходил уже на работе, Эйзенштейн разыгрывал вещь, и лента, конечно, очень дорога. Конечно, мы все понимаем значение режима экономии. Но самое важное это не то, чтобы ленты дешево производить, а то, чтобы создавался дорогой товар. И эйзенштейновская лента даже без оценки ее изобретательного момента, ее значения в общей кинематографии, ее морального значения, как победы нашей кинематографии, даже без всего этого она стоит своих денег.
Такая лента не может рассматриваться в сравнении с хроникальными[391].
Она не мешает хронике, и хроника ей не мешает, это разные приемы творчества[392].
О РОЖДЕНИИ И ЖИЗНИ ФЭКСОВ
Это было то время, когда озябшие эшелоны выпивали в дороге паровозы, как самовары.
Когда играли в городки перед Эрмитажем.
Когда купались в пруду Летнего сада и пасли кроликов на площади Урицкого у Александровской колонны. Это было время, когда Питер трепетал, как вымпел, «между воспоминанием и надеждой, сей памятью о будущем».
Вымпел был красный.
Не дымили заводы, в типографиях замерзшие валы прыгали по набору.
Небо стало синее.
Воздух был разрежен революцией. Город плыл весь под Октябрьским вымпелом.
Революция надувала паруса даже тех, кто ее не понял.
Сожгли заборы. Улицы потеряли свои дома, они шли, как стадо.
Вероятно, они шли к Неве на водопой, покинув оледенелые водопроводы.
Проспект Двадцать пятого октября пуст. Против Дома книги на кларнете играет что-то Казанскому собору музыкант.
Примороженные к стене висят «Жизнь искусства» и афиша фэксов на четырех языках.
Это было время, когда отец и внук молодых — Мейерхольд — еще только ехал с юга.
Когда Блок говорил в Большом театре о короле Лире, а футуристы вывешивали плакаты на площадях.
В Народном доме в это время работала «Народная комедия» Сергея Радлова.
Это было представление с сильным вводом цирковых моментов. Несколько раньше или одновременно выступил с «Первым винокуром»[393] Юрий Анненков. Питер (тогда еще не Ленинград) висел между настоящим и будущим, веса в нем, как в ядре между землей и луной, не существовало.
Это давало размах экспериментам.
Существовала еще литературная традиция, очень сильная в Питере.
Многие писатели сами ходили готовыми памятниками. Эксперимент был направлен против традиции. Выбор «Первого винокура» Льва Толстого и переработка его в цирковое представление было вызовом. Требование перемены традиции высказывалось изношенностью старой и ее привычной связью со старым строем мысли.
Александр Блок перед «Двенадцатью» ходил «учиться у куплетистов». «Народная комедия» видела его часто.
Для «Народной комедии» Максим Горький написал, кажется, не опубликованную, но поставленную вещь «Работяга Словотеков».
В мастерскую фэксов на объявление русское, немецкое, французское и английское первым пришел куплетист, «актер рваного жанра», потом циркач Серж и жонглер, японец Токошима.
Первой постановкой фэксов была «Женитьба». Эта «Женитьба» 1922 года связана с «Мудрецом» Эйзенштейна и Сергея Третьякова (борьба с Островским) и противопостоит постановке мейерхольдовского «Ревизора» в 1926 году, несмотря на, казалось бы, общую установку переработки классика. Фэксы и Эйзенштейн брали классика на слом, а Мейерхольд взял на восстановление. Одновременно или почти одновременно с «Женитьбой», постановка Козинцева и Трауберга, — в Москве Фореггер[394] поставил эксцентрическую вещь «Хорошее отношение к лошадям».
Художниками в этой постановке были Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич.
Сейчас трудно проследить, почему именно эксцентризм через Эйзенштейна, фэксов и отчасти Мейерхольда создал новые приемы послеоктябрьского искусства.
Может быть, эксцентризм обозначил переход внимания на материал с конструкцией. Во всяком случае, теория монтажа аттракционов (значащих моментов) связана с теорией эксцентризма. Эксцентризм основан на выборе впечатляемых моментов и на новой не автоматической их связи. Эксцентризм — это борьба с привычностью жизни, отказ в ее традиционном восприятии и подаче.
Любопытно, что именно люди, прошедшие через эксцентризм, сумели овладеть новым материалом. Эксцентризм же не как метод подачи материала, а как определенная область материала сейчас — явление только историческое.
Это было нужно, как увлечение рисованием колонн в эпоху проработки законов перспективы.
Через условное «Чертово колесо» и «Шинель», через современного «Братишку» фэксы, уничтожая тыл противника, пришли к «С. В. Д.» — самой нарядной ленте Советского Союза.
Как факт овладения новым материалом, это можно приветствовать. Автор сценария Юрий Тынянов в своих романах «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» показал, что новый метод может стеснить старое искусство даже с его исконных позиций. Конечно, «С. В. Д.» — одна из лучших советских исторических лент.
Сделана она замечательно, но в будущем фэксы хотят работать над современным материалом или материалом исторически современным, они добиваются ленты на тему «Еврейские земледельческие колонии» или «Парижская коммуна»[395].
Потому что Лессинг в «Гамбургской драматургии» сказал: «Не все то сто́ит дела, что можно замечательно делать».
Обижаются на кинофабрики. Говорят, что там невнимательно читают сценарии.
Сам обижаюсь. Читают меня внимательно, но переделывают.
Средний член художественного совета не может не переделать.
Сценарий, разделенный на кадры, вероятно, выглядит очень беззащитно.
Но, с другой стороны (как говорят в газетах), — что присылают.
Приносят раз сценарий «Ревизор». В комнате сидит В. Пудовкин. Не развертывая сценария, спрашиваю Пудовкина.
— Как должен начинаться самотечный сценарий «Ревизор»?
Пудовкин отвечает:
— Свинья чешется об столб.
Развертываю и читаю:
«1) Крупно. Свинья чешется об столб».
СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН И «НЕИГРОВАЯ» ФИЛЬМА
Вопрос о так называемой «неигровой» фильме очень сложен.
Во младенчестве советской кинематографии утверждали: неигровая лента — это жизнь врасплох.
Реально оказалось, что «неигровая» — это прежде всего «монтажная».
А монтажные куски требуют установки или остановки[396] для съемки.
В «Кино-Правде» Дзиги Вертова, посвященной радио, я увидел в качестве крестьянина одного из помрежей Вертова. А по «Правде» это был середняк.
Если бы даже мы и ловили «жизнь врасплох», то факт ловли был бы все равно художественно направлен.
В вещах Стендаля, Достоевского мы имеем включение неигровых кусков, и все равно эти вещи эстетические. Таким образом, отказ от инсценировки, установка на составление сырых кусков — не необходимое и не достаточное основание считать какое-нибудь произведение неигровым и внеэстетическим.
Более того, можно смело сказать, что именно в хронике мы встречаем много игрового материала. Я знаю, что моменты Февральской революции, например проезд броневиков, инсценированы, потому что сам видел эту постановку. Я видел куски, снятые с Льва Николаевича Толстого, и мне кажется, что даже этот самоуверенный человек немножко подыгрывал аппарату. Научить человека ходить перед аппаратом так, чтобы он этого не замечал, очень трудно.
Из этого может быть только два выхода — или поголовное обучение всех людей киноактерству, но это так же нелепо, как забивание стенки в гвоздь. Или же — выбирание людей с профессиональными навыками, которые бы работали этими навыками, которые были бы настолько целесообразны и стандартизованы, что при съемке не могли измениться[397]. Но если мы выбираем для посева селекционное зерно, если мы в деревнях сейчас, заведя племенного производителя, кастрируем всех посредственных быков и жеребцов, не давая им, по выражению Сергея Третьякова, разводить сексуальную эстетику, то почему нам на экране не иметь селекционного человека, которым в идеале и должен быть актер.
Киноактер сейчас — обычно биологически и социально — идеал своего зрителя, и заменять киноактера прохожим — это значит отступать назад от индустриализации.
Я не отрицаю грандиозной работы, проделанной Дзигой Вертовым. Я только отрицаю у него те места, которые он набирает крупным шрифтом. Выгодным для селекции кинематографической формы у Дзиги Вертова оказалась не работа со случайным натурщиком, а перенесение композиционных задач из сюжетных областей в области чистого сопоставления фактов.
Сергей Эйзенштейн сейчас не занимается неигровой фильмой, но он занимается фильмой внесюжетной. Есть старая пословица, что мертвый хватает живого. Пословица эта сейчас — мелкобуржуазная идиллия, потому что мертвый сейчас не хватает живого, а ездит на нем, как на трамвае.
Когда-то был создан способ соединять смысловые куски судьбою одного героя. И это не единственный способ и во всяком случае это — способ, а не норма. Этим способом, этой техникой хорошо брать определенные вещи.
Легче всего ими обрабатывать историю о том, как мужчина сошелся с женщиной. И вот почему сюжетные вещи так часто кончаются свадьбой.
Но сейчас не семейное время.
Однако мертвый катается на живом.
Мне пришлось сейчас по заказу переделывать рабкоровские темы, писать либретто. В теме были мужчина и женщина. Женщину потом исключали из комсомольской ячейки. Написавши либретто, я дал его прочесть в одном кружке рабкоров при газете[398]. Один из рабкоров предложил: «А нельзя ли, чтобы секретарь ячейки и был бы мужем этой женщины?» Режиссер спросил: «А разве это бывает, чтобы муж исключал свою жену или принимал свою жену, и никто не заявлял отвода?» — «Нет, — говорят, — не бывает». Но человек привык мыслить родством.
Эйзенштейн говорит, что если сейчас сценаристу заказывают показ войны с семи точек зрения, то он должен изобрести семью, в которой было бы семь братьев.
Между тем техника искусства показывает нам, что композиционные приемы могут заменять смысловые, вызывая тот же эффект. Например, даже в литературе мы можем разрешить композицию новеллы введением параллелизма. Сюжетную тайну можно создать при помощи «пропавших документов» или просто перестановкой глав.
Кинематография сейчас не нуждается в традиционном сюжете, эйзенштейновские «Генеральная линия»[399], «Броненосец „Потемкин“» (пускай он привыкает ко второму месту), «Октябрь» — это вещи, держащиеся не родством, это вещи игровые, но материальные и внесюжетные. И вторые качества этого разделения важнее, чем очень гадательное первое. Задание внеигровой ленты оказалось полезным как подсобное. Как то затруднение, которое создало новую технику разрешения задачи. Собственно же сюжетная кинематография (те коммерческие сценарии, которые пишут) уже существует, как мумия.
К сожалению, мумии очень долговечны.
ПРОБЕГИ И ПРОЛЕТЫ
ПРОСЕЛОК
Я отстал в Москве от автомобильного пробега. Пришлось пойти сказать об этом в редакцию «Огонька».
— Вы нагоните автомобили аэропланом.
Я человек сговорчивый, и чужое решение втягивает меня, как вентилятор муху. Утром за мной заехал автомобиль. В семь часов мы были уже на аэродроме. При нас улетел Юнкерс на Кенигсберг, строго по расписанию. Мне хотелось спать, а не восхищаться. На Харьков летел огромный Дорньер, у него крылья над кабиной и прикреплены к телу аппарата с каждой стороны двумя тягами. У Юнкерса никаких тяг не видно, все внутри крыла. Зато Дорньер восьмиместный. У него восемь плетеных стульев в длинной каюте, и через эту каюту есть ход в кочегарку. Все довольно просторно. В конце каюты вход в багажное отделение.
Летело только трое. Нам дали какие-то немецкие розовые шарики из ваты с воском и все это в конвертике с надписью и рекламой. В Германии все в конвертиках с рекламой и с намеком патента. А шарики явно немецкие. Пришлось заткнуть уши. Аппарат отбежал мимо веселых тонкокостных и сильных военных истребителей в дальний конец поля и начал свой разбег серебряной вороны. Гром по жесткой земле, красная сухая аэродромная трава внизу. Поднялись у другого конца. И, как всегда, покинули землю не заметив.
Утренняя Москва висит под нами. Знакомый круг над аэродромом. Летим на Харьков. Внизу убранные поля. А с аэроплана видно не то, что крупно, а то, чего много. Видно общее. Сейчас с аэроплана видны полосы, оставленные косой при уборке. Земля покрыта полукруглыми параллельными линиями. Похоже на ряд досок, которых видать в торец. Местами на полях еще лежит что-то полосами. Вероятно, скошено и не убрано. На что похожи стада с аэроплана? Я думал сперва на нарванные кусочки бумаги. Нет, не верно. Очень похожи на горсти красных и черных черепков, насыпанных по полям. Летим. Внизу деревья. Скирды у домов и желтой соломой усыпанные гумна. Хлеба сверху видно много. Но в Харьков лететь только четыре часа, и я, вероятно, спал из них три. В утешение расскажу случай с Андерсеном. Это тот, который сказочник. Только что изобрели железную дорогу. Андерсен поехал. Вероятно его удивило тогда, что поезд на Кенигсберг пошел вовремя, и он все старался отметить время, когда тронется поезд. Потом он поехал через Германию. «Мы въезжаем, — сказал ему сосед, протягивая табакерку, — в великое герцогство Дармштадтское». Андерсен взял табак, понюхал и чихнул. «А сколько времени, — спросил он, — мы будем ехать по этому герцогству?» «Мы проехали, пока вы чихали», — ответил сосед.
Так как недавно был столетний юбилей железной дороги, то примите этот анекдот (вы найдете его в собрании сочинений Андерсена) вместо описания полета в Харьков.
«Спускаемся», — разбудил меня сосед. Внизу был уже Харьков, большой, весь в зелени, щедро пересыпанный ярким красным цветом новых строящихся зданий. Спускаемся. Уже катимся по аэродрому.
Большой ангар. В нем серые голуби — Дорньеры. Потолок высок, как в вокзале. В углу надпись — «Начальник станции». Буфета нет.
— Ушла ли автомобильная колонна?
— Два часа тому назад.
Ударил с досады чемоданом о землю. Но питаемый надеждой на русские ухабы, умеющие отрывать хвост в две-три машины от всякого автомобильного поезда, пошел к воротам старта.
Еще на сухом шоссе свежи зубчатые следы шин.
— Давно уехали?
— Десять минут тому назад прошла «Aде».
Значит, ушла отсталая машина четвертой колонны. Но вдруг гудение, и идет Паккард. Я знаю его в радиатор. Это восьмицилиндровая машина первой колонны. Подымаю руки, как беспризорный, и прошу подсадить. Взяли. Оказывается, задержались починкой рессор. В Харькове чинится еще машина. Едем. Дорога большая. Она идет вдоль ряда телеграфных столбов. Она рассучена и растрепана, как шерстяная нить. Здесь нет дороги, а есть одно только направление. Дорогу ищет себе каждый сам.
Вчера не было дождя. Дорога выносима. По сторонам убранные поля.
Едем по следу, оставленному автомобилями, по мягкой степной дороге. Временами казалось, что сбились, но труп большой черной с белыми пятнами собаки нас обрадовал. Значит, здесь проезжали наши. Под Чугуевым грязь. Это черный, жидкий чернозем. Сильный Паккард, на широких баллонных шинах, взял грязи с разгона. Маленькие машинки копошились в ней по уши, увязая до радиаторов и толкая грязь перед собой вперед рыльцем. Обогнали их. Обгоняем Адлера 30. Он и его шофера в грязи, как в коре. Едва имеют силы нас приветствовать. Едем. Чугуев. Весь город застроен одинаковыми трехоконными домиками с колоннами и фронтонами. Крыши черепичные. Здесь было военное поселение. Здесь русский двуглавый орел хотел превратиться в римского. Тянутся аракчеевские фигурные заборы из кирпича.
В городе нас приветствовали целая расставленная шпалерами дивизия и население, бросавшее в нас цветы и свертки с орехами. Дальше слева лагерь и снова степь. Под Изюмом нагоняем свою колонну, она здесь обедала. Обедать нам, конечно, не пришлось. Дальше. Степь, дорога лезет в гору. Трубы на горизонте. Считаю — их тридцать. Въезжаем в город. Это Славянск. Дорога извивается между заводами. Пахнет химией, пылью и промышленностью. Густые шпалеры народа нас приветствуют. Желтые от солнца, серые от пыли стоят ряды детей. Их сотни и тысячи, они приветствуют нас дружными дробными аплодисментами. Нам бросают цветы, цветы. В цветах записки. Тут и приветствия от женщин с подробными адресами писавших, и обстоятельные послания организованных кустарей с изложением значения автомобилизма, и краткие указания — не давите кур, и запросы пионеров — что делают пионеры в Москве. Смеемся в пыли и радости. На углу стоят люди с дынями и бросают аккуратно по дыне в машину. Бросают ветки слив. Желтые от солнца, серые от нашей пыли стоят тысячи ребятишек в одних полосатых трусиках и аплодируют. Славянск пройден. После него дорога не очень трудна. К раннему вечеру видим трубы Артемовска. Машины строятся вокруг огромного бетонного памятника т. Артему[400] в ложно-кубическом духе. Уже темно, зелень города кажется густой. На площади толпа автомобилей уже выстроилась в каре. Товарищи, знавшие, что я отстал в Москве, меня приветствуют. Все бегут на телеграф. Там в окошке уже засел корреспондент «Правды» А. Перовский.
Идем ночевать в общежитие металлистов, проходим снова мимо площади. Среди мелких машин, как второгодник, торчащий на своей парте среди малышей, угрюмо стоит среди четвертой колонны, вторым с края, запыленный Адлер.
Наступило утро. Пили чай в Нарпите. Немцы жаловались на то, что машины перегружены, шофера спорили друг с другом за вчерашние обгоны. Госпожа Стиннес мыла демонстративно свой маленький автомобиль «Аде». Ходили смотреть на такси «Рено». Бедная маленькая машина. Она городская. С одной рессорой сзади и тяжелым сравнительно кузовом. Но она все еще на ходу. Дойдет, может быть, и до Тифлиса. А мне не хочется ехать на Паккарде. Хлопочу и попадаю на другого американца «Пирс-Арроу» 27. Хорошая машина, но верх у нее не спускается, в чем я имел случай скоро убедиться. С Артемовска-то и началась настоящая дорога.
Сперва все было хорошо, и машины бежали, на перебой запасаясь скоростью.
Дорога пылила. Если сразу глянуть на степь, то похоже будто идет артиллерийский бой.
Дымки отдельных машин иногда совсем сливались, когда колонна подтягивалась. Тогда видна была одна дымовая комета. Справа были холмы. Дорога танцевала, желая сбросить с себя автомобили. Потом начались какие-то красные холмы с уклоном в сторону и глубокими измоинами. Нас било о верх машин. Дорога сбегала вниз к черту и случайно находила мост или проскакивала мимо него.
Последние восемь верст перед Штеровкой были ужасны. Но вот в долине у реки серое многоэтажное бетонное здание. Штеровка. Ворота с надписью на всех языках: «Добро пожаловать». И все увито дубовыми листьями. И сразу за воротами работницы приветствуют нас аплодисментами. И тут за воротами особый музейный ухаб вниз, в бок, в сторону. Этот ухаб стоил того, чтоб его отметили особо. Узнаем, что в дороге сорвано гибкое соединение между коробкой скоростей и дисками «Линкольна». У «Паккарда» лопнули рессоры. Рассматриваем их излом. В металле много раковин, это будет показано фирме.
Обед нам изготовлен на верхнем этаже станции.
Тут произошло недоразумение. На Штеровке мы должны были пробыть часа два. Но инерция навыков у людей такова, что с нас кто-то решил снять анкету: какой марки машины, сколько сил, кто владетели, кто механик, где строилась машина.
Анкета сия испортила впечатление от Штеровки. Сама же Штеровка это почти построенная станция для электрификации Донбасса. Начнут работать первые машины еще этой зимой. Станция как топливо будет использовать так называемую штыбу — антрацитовую мелочь, которую сейчас на рудниках некуда девать. Штеровка электрифицирует район на девять километров по радиусу на этой самой штыбе. Пока же штыба грозит краю черным наводнением. Ее лежит уже в соседних рудниках 35 000 000 пудов. Первоначально станция рассчитана на 20 000 киловатт, но предусмотрена возможность увеличить ее мощность до 100 000.
Для охлаждения турбин земляной плотиной перегорожена река Миус. Величина пруда до 50 десятин. Топливо будет подаваться к топкам сверху из закромов механическим способом.
Хороший обед и радушие рабочих помогло нам забыть об анкете. Пожарные предложили вымыть машины. Это было очень гостеприимно, но не стоило. Опять невероятная дорога, знаков почти нет.
Посыпанный шлаком проселок заменяется опять глиной.
Дорога вьется углами.
Часам к трем показался Ростов.
Здесь нас встретили толпа и желтые палатки продавцов минеральных вод.
Просмотрел нашу колонну, почти у всех машин сели рессоры.
Дорога всем далась тяжело.
Сейчас уже можно кое-что сказать про результаты пробега.
2000 верст пройдены.
Хорошую скорость показывают Мерседесы, Штейра, Самбимы.
В отношении экономичности в первой колонне на первом месте — Фиат.
Во второй колонне наиболее экономические на горючее — Адлер.
В четвертой — Татр.
Расход масла в пути на современную машину невелик; есть машины, которые еще не доливали картер с момента отправки из Ленинграда.
В общем результаты пробега значительны: очевидно автомобили докажут, что они смогут акклиматизироваться в СССР.
ДЕРЕВНЯ СКУЧАЕТ ПО ГОРОДУ
Недавно мне пришлось с аэропланом пролететь от Москвы до глухого Богучара.
Вылетели мы из Воронежа и полетели по Дону, часто садясь у деревень.
Оказалось, что даже во время полевых работ население, оставив все, ждало самолет.
К самолету бегут, как будто тут раздают деньги. У него сидят ночами.
Деревня не любит автомобиля, но она очень любит аэроплан.
Деревня прозаична не до конца, в ней есть интерес к сейчас бесполезному. И все вопросы она любит обобщать. Говорят от частного к общему.
А аэроплан интересует деревню, особенно стариков, как разведчик неба.
— Неужели за хмарой (облаками) нет ничего?
Очень наивно.
Между тем в деревне двигатель — не новость.
Его знают и ценят.
Крестьянин не хочет быть сам двигателем. Крестьянину сейчас скучно в деревне. Он хочет устроить в деревне город. Крестьянин говорит: «Бык работает на мужика, а мужик на быка». Этот круг в деревне не популярен.
Деревня любит сенсацию, с цифрами, изобретения (и чтоб были русские), электричество.
Я думаю, что в деревне очень хорошо мог бы идти иллюстративный журнал, только не народнический и без красивых снимков, изображающих сенокос. Мы в разговоре с крестьянами всегда называли свой Юнкерс самолетом, а крестьяне всегда — аэропланом. Иностранные слова местами бытуют в деревне крепко. Мел во всей Воронежской губерния зовут «крейда». Деревне нужна газета с событиями, с городской техникой, а там уже она разберется.
И не нужна, вероятно, деревне крестьянствующая литература.
Не нужна она в том виде, в каком сейчас имеется (с имитацией говора), и для писателей.
Я видал в бедном Никитинском музее рукопись одного писателя, выправленную для «Посредника» Львом Толстым.
Толстой, прежде всего, вычеркнул все «аж», «агромадный» и весь словесный мусор, имитирующий народную речь.
Народная речь может быть художественно использована, но, конечно, все «народные этимологии» Лескова созданы именно для народа.
Это импортный товар.
Рукопись с толстовской правдой хорошо было бы сфотографировать и издать.
Тогда не говорили бы, что Сейфуллина идет от Толстого и к Толстому (как трамвай А от Гоголя до Гоголя).
Кроме рукописи Толстого, старой культуры в Воронежской губернии видно мало.
Жизнь там начинается или должна начаться сейчас.
Старая культура не оставила там даже просто вещей. Газета в деревне будет почти первой литературой. Газета должна помочь деревне стать городом.
Деревня сама по себе сейчас обречена на жизнь не восстанавливаемых дешевых двигателей.
Ее заносит песок.
Ее сушит солнце.
Суслик — небольшой зверь, но и он может съесть деревню.
НА САМОЛЕТЕ
Описывать полет трудно, так его уже много раз описывали.
Общее впечатление: подъем приятен, спуск неприятен, качка совсем неприятна, а при повороте, когда одно крыло самолета выше другого, хочется держаться за соседа.
Аппарат, на котором меня везут, системы Юнкерс. Он весь из гофрированного алюминия. Никаких креплений не видно, они внутри толстых металлических двойных крыльев. В крыльях же около пассажирской кабины спрятаны бензиновые баки. Двигатель 180 сил шестицилиндровый, управление двойное, все рукоятки и педали есть у летчика и у моториста, который сидит с ним рядом. Весь самолет, если не считать крыльев, похож на тупоносую рыбу. В глаза этой рыбы влезают и вылезают летчик и моторист. Потом идет маленькая кабина на четырех пассажиров. По отделке она похожа на ложу немецкого театра, т. е. обита какой-то материей с разводами и занавесками с помпончиками.
Из окон кабины видны надежные крылья, которые летят рядом с ней, как две вагонные крыши. А внизу, так на версту ниже, проходят губернии, сменяя одна другую.
Внизу все так обобщено, что кажется совсем новым. Видны стада. Квадратики крестьянских построек с черными квадратиками дворов внутри, поля, выложенные плотно одно к другому и расштрихованные в разные стороны.
Качает (сильный ветер), всего сильнее качнуло над Рязанью. Сменяются и становятся крупнее поля. Чернеет гуще поле под паром.
Меньше речек, чаще пруды.
Сели под Воронежем на поле. Потом перелетели на речку Воронеж.
Воронеж — узкая река, которая имеет воду только весной. Поднялись с Воронежа с трудом, все время садились на мели.
Юнкерс — машина тяжелая, любит разгон, а Воронеж — река не только мелкая, но и кривая, да еще с мостиком.
Сейчас сидит самолет на Дону и доволен.
Повезли по уездам.
Большак.
Ездить тут нужно или на аэроплане или на волах парой.
На водоразделах — на высоких местах — пустыня. В поле выезжают на неделю, живут у телег, привозя с собой воду в бочках.
Из деревень выселены помещики, но еще важнее выселить с полей овраги.
Поле больно оврагами, как сифилисом.
Ползут пески намывные и ветряные.
Нужно организоваться. Распыленное крестьянство не может сделать это само. Смычка города с деревней — единственное спасение культуры.
Здесь был неурожай и будет. Дождь выпадает, но не попадает в то время, когда он нужен.
Абсолютное количество осадков почти достаточно. Но вода попадает не вовремя и уходит в иссушенную оврагами почву.
Земля издырявлена.
Нужно пробыть хоть несколько часов в безводной степи и видеть людей, которые не мылись уже неделю, надрываясь над своим полем, чтобы понять, что́ сделано.
Спасаются исчезающие реки. Река «Тихая Сосна» выкопана вновь. Ее выкопали, убыстрили, и сейчас она унесет воду с 2500 десятин. Всего осушают 6000 десятин. Условия работы тяжелые. Малярия защищает свои наследственные места. Работали в воде по грудь. Сейчас прислали новые насосы и откачали воду.
Население относится к работам с напряженным интересом и на «Тихой Сосне» внесло в работу 24 000 человеко-дней, дней работы в холодной воде.
Спасенная от болота земля, конечно, переходит к населению.
Кругом очень бедно. Культуры как будто нет никакой.
Она придет за водой и сменит жестокую беспросветную нужду, которую знал край от времени мамонта до вчерашнего дня.
ЧТО ЗА «XМАРОЙ»
Хмара — это облака.
«Что за хмарой?» — спрашивают нас крестьяне тех деревень, в которые мы прилетаем.
«Мы» — это агитсамолет «Лицом к деревне». Он летит через Воронеж — Лиски — Богучар на Астрахань — Гурьев и еще дальше до Москвы. Но он не пролетает деревни, а залетает в них и делает полеты с крестьянами.
Я уже писал, что здесь очень мало воды — только малярийному комару напиться.
Поэтому у Дона, да и у всякой пропадающей речушки стоят огромные села.
Ехать вдоль такого села на лошади — час. Гореть им тоже час.
В селе Мамон, в котором мы гостим, населения 15 000. Аэроплан в воздухе при хорошем летчике — прекрасное средство сообщения. Но как хорошо летающая птица, аэроплан слаб на ноги и может сломаться при посадке.
Наш аэроплан — гидроаэроплан: у него вместо колес большие черные поплавки в двенадцать пудов весом. Подымается аэроплан с воды, как гусь; долго бежит по воде.
Летчик берет штурвал то на себя, то от себя, работая рулями глубины. Машина гудит, вода за самолетом обращается в пыль и пену. Самолет подымается на дыбы, еще глубже рвет воду.
Самого момента взлета никогда не заметишь из кабины.
Мы летим не очень высоко.
Справа к нам подходят дожди. Мы облетаем облака. Земля, видная с самолета, непохожа на деревенскую, она обобщена географически.
Видишь не быт, а какой-то вывод из данных географии и политической экономии. Видишь чересполосицу крестьянских полей, и эти поля похожи на ряд зеленых росписей разной грубости.
А вот чересполосица заменилась правильными, большими, ровно закрашенными квадратами: здесь, значит, проведено землеустройство, и хлеб зреет на широком поле.
В итальянской живописи, кроме обычной перспективы, была еще «перспектива всадника» и «лягушечная перспектива».
В будущей живописи будет перспектива летчика. Тогда и опишем.
Летчику на тихую воду спускаться трудно: трудно определить расстояние от этой воды. А тут еще навстречу тебе летит из глубины твое отражение. Но наш летчик Моисеев спускался на воду прекрасно. Его «птичье чувство» имело и «утиное отделение». На берегу реки уже ждут люди. Они ждут самолета уже несколько дней. Разочаровались, уже издевались над своим авиахимом, все же ждали.
Спускаемся ранним утром. Те, кто спал, бегут к нам из хат. Моются у реки. Начинается митинг.
После митингов начинаются полеты крестьян. В первую очередь летят старики и старухи.
Они просят поднять их повыше. Их интересует: «Что за хмарой?»
Крестьянину в самолете нравится все, начиная с того, что сидеть мягко.
Парни лезут в самолет решительно. Девушки боятся и просят, чтобы их возили по две. Деревня не любит автомобиля. Она к нему враждебно-равнодушна. Но деревня любит аэроплан. Мы пролетели через край, в котором сейчас, перед новым урожаем, почти нет хлеба. Но никогда не услышишь о том, что аэроплан — роскошь. Старуха 77 лет, поднявшись на аэроплане, говорит другим: «На небе ничего нет — за хмарой пусто». И вот у аэроплана идет разговор: «Сколько стоит аэроплан?», «сколько весит?», «скоро ли будут летать все?», «сколько будет стоить билет?», «почему аэроплан не падает?», «нельзя ли отдать сына в мотористы?», «а если бога нет, то почему в прошлом году не выпал снег?». Спрашивают нас, как «очевидцев». Когда отвечал такому старику, седому и яростному (он кричал на меня; «не перебивай — твоя речь впереди»), он выслушал и сказал: «а почему же это прежде не объясняли, а только ругались?» (ругал его внук-комсомолец).
Со стариком сидели бабы. Они не согласны. Но ласковы — им тоже лестно, что человек летает.
У нас сейчас больше направляют больных крестьян в Ливадию. Это, конечно, очень хорошо. Но крестьянин здоровый несколько пресыщен природой. Ему нужны машины, аэроплан, трактор, электрическое освещение. Урожай будет хороший, если «хмары» не помешают.
ДЕРЕВНЯ 1925 ГОДА
Некоторые черты Краснохолмского льняного рынка
Через Савеловский вокзал — путь в уездную узкоколейную Россию. Поезд идет 230 верст 17 часов; он стоит на станциях, не зная, как извести время. В вагонах едут сезонные рабочие, возвращающиеся из Москвы, торговцы — на ярмарку. А поезд идет медленно. Версты каплют. У станции «Красный Холм» города нет; есть грязный кружок вокруг садика и несколько тележек. Еду в город за две версты. Город «Красный Холм» — город вокруг двух соборов. В базарный день сюда набивается народ. В небазарный день все тихо, город пуст. Против собора двухэтажный дом — «Производсоюз»; здесь оживленно.
Все уезжают.
Назавтра генеральный бой — годовая ярмарка, Сергиев день в селе Малахове за 30 верст. Деньги должны были прийти с поездом, но не пришли, их занимали в городе, скребли по всем кассам, доставали у товариществ и сейчас ими набивают саквояжи. Сортировщики уже сидят на тележках. Места для меня нет, потому что лошадь по такой дороге лишнего везти не может. Мне достали маленькую лошадь, маленькую тележку и маленького крестьянина. На всем этом я едва мог поместиться с портфелем. 30 верст немного, и я поехал. «Лошадь у меня щекотливая, — сказал крестьянин, — она на передок не кована и шоссе боится». Задние ноги щекотливой лошади тоже были не кованы, и мы поехали не по шоссе.
Несколько дней лил дождь.
Шоссе, как насыпь, возвышалось среди двух длинных болот. «Наши лошади, — говорил мне возница, — к воде привыкли, мы около реки живем». И лошадка действительно довольно весело везла тележку по грязи. Разговор от самой станции «Красный Холм» везде один и тот же — лен, лен и клевер. Клевер привел в этот край лен, который любит расти по клеверищу, и привел с собой также и скот.
Мы выехали из «Красного Холма» часа в три.
Я не знал, куда девать время на этой дороге, на которой версты капали так медленно. Ночевать пришлось в одной деревне в одиннадцати верстах от села Хаботское. Изба чистая, стены мытые и тараканы свежие, не противные. «А обои мы скурили сами», — сказал мне хозяин, и я получил еще один пример крестьянского бестоварья. В соседней комнате мычал и стонал дедушка, спал он сидя, упершись на грязный ларь (говорят, так спит уже 10 лет). Хозяин хитрил со мною, чтобы я остался переночевать и дал отдохнуть лошади. Рассказывал мне о том, что он из Ленинграда и был конфетным мастером; объяснил мне, как делаются «атласные подушечки» и конфеты с ромом.
В деревне рабочих из города довольно много; все они мечтают о городе.
В час ночи постучали в окно. Вызвали хозяйку мять лен. Лен мнут обычно помочью, потому что для мятья нужно топить ригу. На риге собирается сразу 8–10 женщин и мнут с ночи до света, до другой работы, а это как будто не считается. Наминают по полпуда на человека волокна на самодельных мялках.
Мнут наскоро, сгущая работу, деньги нужны наспех.
К двум часам подняли и меня.
Повезли.
Дожди снесли три мельницы, и ехали мы в объезд. Лошади больше не боялись щекотки, потому что дорога шла с борозды на борозду. Осенняя дорога, приминающая поля. У одного моста нас остановили и взяли за переезд; мост был крестьянский, взяли за переезд случайные люди, которым было не лень не спать, взяли пятиалтынный. Через другой мост просили пятьдесят копеек, но мы сумели проехать, не заплатив. На обратном пути техника уже была усовершенствована, мост разобрали — говорили, что он сломан, — и брали деньги не за переезд, а за починку.
Еще раз доночевывали в пути, в доме у кузнеца, почти под самым Малаховым.
У хозяина дома семья была большая. Спали всюду — на полу, на стульях, на деревянных диванах. Здесь в сарае работала мялка с деревянными вальцами. Она наминала за 8 часов работы 10 пудов волокна. Таких мялок на деревне много. Их сдают напрокат от 25–50 коп. в час. Есть мялки с конным приводом.
Ими крестьяне широко пользуются и даже перевозят из деревни в деревню.
Кузнец вез на базар 6 пудов волокна.
Считалось, что лен вздорожает к новому году, так что наминали те, кому деньги нужны очень спешно. Мой возница совсем не вез льна на базар и говорил, что привоз будет небольшой, лен на базар не пускали кооперативные товарищества, скупая его дома.
Светлело. Звезды таяли в голубеющем небе. Где-то влево, далеко, стояло зарево, горела какая-то деревня. Сзади нас вставало солнце. По дорогам шли люди на ярмарку, ехали телеги, к телегам были привязаны лошади, а рядом прыгали покрытые еще не шерстью, а пухом, особенно на спине, жеребята. Хвосты у жеребят курчавые, витые, как булки.
Малахово началось конской ярмаркой.
Улицы были переполнены телегами, лошадьми. Среди толпы, взяв лошадь за узду, бегали продавцы, показывая своих лошадей. Возы наполняли улицы так, как никогда не бывают переполнены тротуары города пешеходами. Длинные оси крестьянских телег спутывались и зацепляли друг за друга.
Рассвело и немножко потеплело. Из толпы уже торчали треножники громадных базарных весов. К 7 часам утра я попал к чаю в помещение местного кооперативного товарищества. Настроение здесь было оживленное и почти доходящее до боевой истерики. Только что были здесь представители Хлебопродукта, Госторга, Льноторга и совещались о непревышении лимитных цен. Все сговаривались и все не верили друг другу. Старший распоряжался: «Наше дело такое, что хоть бы базара и не было; наше дело лен удержать на местах, но если они на базаре против лимита, так они нам места спортят. Мы им лен не уступим; первыми через лимит не пойдем, но если они нарушат, то и мы нарушим». Седобородые сортировщики волновались (в льняном деле много старых специалистов). И вот здесь в обстановке базара, среди толпы, они забывали, что скупают уже не для себя и горячатся на совесть. Торг начался, как будто сорвался с цепи. Весы стояли рядом друг к другу, как пушки на фронте. Пушки эти были друг другу «враждебные». Едва какой-нибудь льнозаготовитель выставлял свои весы, его окружали со всех сторон конкуренты. Весы стояли не только в центре базара, но и на краях. Это была облава весов. Временами вдруг появлялся слух, что где-то с краю идет лен, и там нет наших весов. Всех весов, говорят, было 68 и из них наших штук 12, остальные Льноторга, Бежецкого Госторга, Райсоюза и частных скупщиков, подозреваемых в работе на госторговлю. Каша из телег, лошадей и людей не позволяла двигаться на базаре. Люди шли, неся лен за спиною громадными тюками. Скупщики выхватывали пучки льна, зажимали пучки между колен и разгребали хвост льна обеими руками. «Какая цена?» Покупатель называл. «Неладно», — отвечал сортировщик и называл свою цену. Весь торг на закупку льна шел несколько минут, меньше, может быть, — полминуты. Продавцы метались от весов к весам. Настроение было как на фондовой бирже. В 7 часов хороший лен стоил рублей 9, а потом с 9 он дошел до 11 р. 60 к., не успевали писать квитанции, для скорости писали цену прямо на продавце — 5 50, 6 50, 11 50; если цена была высокая, то продавец, даже получив деньги, не стирал ее и ходил с нею по базару, как газета или бюллетень. Вероятно, это так надо, — так скупать лен и вырывать его хвосты у продавцов, у крестьян, как перья из птиц на лету. Но при такой покупке оценка производительности труда становится делом удачи. Лен в своей цене явно зависит не только от качества, но и от настроения соседних весов. Мне сортировщики говорили, что лен, когда этого хочешь, кажется выше сортом.
Идет гонка не только за льном, но и за очередью около весов, потому что туда, где очередь, крестьянин лезет особенно охотно, и поэтому покупатель боится остаться без очереди. Бегают по базару, подгоняя людей к своим весам.
Уже час продолжались торги. Горы льна росли на рогожах. Быстро наваливали серию пучков на весы. Крестьяне недоверчиво смотрели на то, как стрелка весов двигается. Спорят о четверти фунта, следят за тем, чтобы гири не были грязными. Пытаются подсунуть в десятирублевый лен пятирублевый и, конечно, попадаются. Но прямой недобросовестности, например, недодачи товара, что совершенно легко сделать в атмосфере льняного бешенства, кажется, нет.
Весь торг продолжается полчаса, потом у весов становится тише. Еще стоят очереди, но вокруг очередей поредело. Видно, кто остался победителем. Отдельные покупатели все еще ходят с горбами льна и предлагают его по несуразным ценам.
В свой союз, разыскав его на базаре, приходит крестьянин и предлагает лен. Тут сказывались додачи. О додачах говорят все. На базаре крестьянин почти всегда чувствует себя обманутым, потому что умение взять цену — это отдельное умение, которого может и не быть у человека, создавшего хороший товар. Измученный и изнуренный на базаре продавец идет в свой кооператив, потому что его здесь не ловят на слове. У него есть надежда получить настоящую цену. Таких людей с базара кооператор принимает с обидной снисходительностью.
Кроме льна, на базаре продавали очень немного овчин, немного масла и совсем мало яиц. Лошади были плохие, 4-месячный жеребенок стоил 15–20 рублей. Если же он был от заводских производителей, то стоил 75 и даже 150 рублей. Так ценит деревня породу.
Да, кстати об агитации. Я не видал во всем Малахове ни одного клочка печатной бумаги, ни одного лозунга, ни одного плаката, хотя сюда собрались и ночевали и скучали после того, как схлынули с торга тысячи людей. Так, просто не пришло в голову. Крестьянин имеет достаточно психологии мелкого собственника. На базаре его возбуждают 68 весов с 68-ю разными ценами. Больше того, базар хочет проникнуть и в село, разрушая кооперацию. Назначают кооперативные товарищества день сдачи льна. Приезжают возы со льном. Лен этот уже именной, кооперативный, и сюда же приезжают другие заготовители и ставят свои весы.
Когда схлынул народ, я набил в галоши сена и пошел по липкой грязи. Мне интересно было посмотреть, что покупают крестьяне на рынке. Они покупают мясо, баранки, расписные в полоску телеги, колеса, ведра, чугуны по 20 коп. ф., шинное железо, а мануфактуру покупают на вес. Это я видел в первый раз. Много ларьков и на некоторых надпись: «весовой лоскут». Лоскут этот довольно крупный, до 1½–2-х аршин в куске. Потом я расспрашивал о происхождении этого лоскута. Лоскут странный. Например, есть много головных платков, разорванных, а потом сшитых на машинке. Оказывается, это заводской брак.
Когда на заводе бракуют товар, за то ли, что пропущена нитка или не вышел узор, то брак этот рвут на части и продают весом. Лоскут этот скупают торговцы, сортируют по цветам, подбирают, сшивают и продают крестьянам. Вероятно, все это очень разумно, как все существующее, но дико думать, что платок рвут, чтобы потом сшить опять и продать крестьянину. Очевидно, бороться за качество можно тогда, когда есть товар, а не тогда, когда его нет. Тогда нужно не уничтожать товар, а понижать цену. Фунт лоскута в первое время моего появления на рынке стоил очень дешево, а сейчас стоит до 1 рубля — 1 р. 30 к. Продают нитки, но только при мне продавали белые и желтые. Продавали бусы. Ассортимент у частного торговца напоминает лотерею. В кооперативных лавках ассортимент лучше, но с большими провалами.
Лошадей на базаре было продано мало.
Пошел снег, серый, густой. Быстро упаковывали скупленный лен, затягивали его рогожей на возах в большие тугие подушки. Дорога портилась у всех на глазах. Цена на извоз поднималась. Я сел на свою маленькую телегу, которая стала еще меньше оттого, что на ней поместилась большая кадушка, и поехал.
Подъехали к Красному Холму.
В Красном Холме мой возница опять затосковал, затосковал его дед и сквозь стоны рассказал, что лошади нельзя ехать дальше. В семье была радость — сбавили продналог. Посидел. Сходил на ригу, посмотрел, как треплют лен о палку. Лен неважный в этом году, недлинный, а на базаре видел пучки с черными пятнами. А сейчас льна и немного — пропал на стлище. Меня уговорили еще раз переночевать в деревеньке. Мне было жалко лошади с ее щекотливыми ногами, и я решил из этой деревни пройти на Хобоцкое пешком. Вознице было очень жалко меня, но лошадь жальче. Пошел меня провожать; мы шли по межам, через мокрые поля, сквозь мокрый снег; я закрывался мокрым портфелем. Снег тает. Сзади, далеким кругом обойдя Хобоцкое, подошел к заводу. Поднялся кверху; тепло. Здесь я остался ночевать. Утром мне показали завод. Хобоцкий завод совсем небольшой и похож больше на мануфактуру. Сейчас в нем устраивают вентиляцию, и вытяжные трубы ставятся над каждой стенкой. В прошлом году вентиляции не было, и пыль стояла такая, что трудно было увидать собственные руки.
Льняное волокно — волокно несчастное, оно еще не дождалось заводской обработки. Хлопковое волокно хуже по качеству, вытесняет его как хочет, оно как будто специально родилось для завода. И на Хобоцком заводе машины для льна выглядят как-то ненастоящими; вибрирующая часть машины сделана из чугуна и, конечно, лопается. Но мялки работают не так плохо. Хорошо работают куделеобрабатывающие машины, машина системы «Кухельмейстер». Слабое место завода представляют трепальные колеса. Их 18, и они стоят в два ряда. Но это явно не машины, а станки. Вот такого-то именно вида были трепальные колеса, вероятно, при Иване Грозном. Их продуктивноспособность в два раза больше, чем при ручном трепании, а выход продукта ниже, чем при ручной обработке. Эти 18 колес не дают и 20 пудов продукта в день. Правда, оттрепывают они лучше, чем палкой, но зато получается меньше длинного волокна. На заводе мне говорили, что последнее время качество волокна улучшилось. Это именно типичный разговор мастерской, а не завода. Здесь нужно приспособиться к приборам, поймать какой-то секрет. Заготовили в этом году тресты 15 тысяч пудов. Нужно около 100 тысяч пудов. Из заготовленной партии около половины самого лучшего сорта. Крестьяне говорят о качестве продукции завода с уважением, отмечая, что так руками льна не обработать. Но на цены жалуются. Но дело не в одной цене. Работа по мятью и трепке льна очень тяжелая, но она не рискованная работа и занимает дешевые женские никаким профсоюзом не охраненные руки. Рискованна работа по стланью льна. В этом году, хотя небольшая часть льна, но все же попадает под снег на стлище. Бывали гораздо более худшие годы. Дождь тоже враг волокна. Крестьянин с большей охотой отдал бы лен, чтобы мочка производилась на заводе. А завод берет у него уже стланную солому, тогда, когда достаточно двух дней, чтобы отмять, оттрепать ее и получить за продукт деньги. И самые машины, которые обрабатывают лен, не настоящие. У каждой машины стоят несколько человек, которые ее подпихивают как телегу в бездорожье.
Безусловно, выгодно ставить сейчас мялку в селах, потому что это улучшает продукцию и сберегает труд.
А вот для трепанья, очевидно, нужно придумать другие машины.
Кроме работы по обработке льна, на заводе есть работа по его сортировке.
В крестьянском льне всегда есть несколько сортов в каждом пучке, и, в сущности говоря, крестьянин всегда проигрывает, потому что ему оценивают весь пучок по худшему пряденью. Нужно изменить систему сортировки, уточнить ее. Вообще из торговли льном нужно как можно дальше удалить виртуозность, ловкость рук и гениальность глаз.
Хобоцкий завод сейчас стоит, ждет новых машин и костротопок. Пойдет он в ход через несколько недель. На дворе в прошлом году была начата выкопка пруда, но по предложенным ценам крестьяне работать до конца не стали. Так сейчас пруд стоит, и деньги не заплачены. Крестьяне не настаивают, чтобы им заплатили сейчас, потому что с заводом ссориться не хотят, но и не работают. Да еще неизвестно, правильно ли копать пруд на этом месте: воды поблизости мало.
Идет разговор о том, что нужно было бы создать завод — побольше чем в Красном Холме.
Днем, по невероятной дороге, через замерзшие лужи лошади потащили меня и другого человека из завода в город. По дороге нас обогнала тройка, на которой везли одного из сортировщиков льна. Он заболел на приемке льна. Думаю, что от волнения и переутомления. Мы тихо двигались и через два часа были в городе. Еще через несколько минут станция. На станции госзаготовители в романовских полушубках громко, как умеют говорить только в России, обсуждают вопрос о состоявшемся сражении. Обсуждают шансы кооперации. А в углу в роскошных шубках сидят два немца явно концессионного происхождения.
Перед станцией, на пустом еще от поезда пути, стоит высокая автомобильная дрезина. Подхожу, расспрашиваю шофера. Шофер немножко стесняется того, что ездит на машине без руля, что, конечно, является для шофера крайней деквалифицированностью. А люди в шубках это, оказывается, действительно концессионеры «Мологолеса». Осмотрели лесопилки и место, где будет построен завод для обработки древесной массы. На путях стояли бесконечно длинные поезда с желтыми от стаявшего снега досками.
Паровоз стоял на пути и пришивался то к одному, то к другому концу состава.
Немцы сидели в буфете и спрашивали дичи. И то снимали, то надевали роскошные шубы. В романовских полушубках торговцы волновались и обсуждали вопрос о том, сколько льна прошло на вчерашнем базаре.
Льна прошло, кажется, до 5 тысяч пудов, из них половина досталась кооперации.
ТРИКОТАЖНЫЕ МЕСТА И ЛЬНЯНЫЕ ПОЛЯ
1925–1927
Мне пришлось побывать в районе Лихославля. Это — станция между Москвой и Ленинградом. Места унылы, большие болота, глиняные поля, а на полях лежат камни. Невысокие мореные пригорки. Бедные места. А деревни здесь богатые и много новых построек. Рядом со старыми избами стоят новые, очевидно на запас; еще не жилые. Особенно богатым кажется этот край тому, кто видел черноземную полосу. Дороги проселочные, но через речки построены новые, еще не потемневшие мосты. Деревня от деревни отделена заборами в четыре палки, в заборах надежно устроены ворота на деревянных петлях. За заборами — рожь в человеческий рост вышиной, гречиха цветет, как густой рой белых мух, подымающихся с земли. Рожь и гречиха справляются с сорняками. Но чертополох и васильки торчат местами слишком нагло. Особенно угнетен ими лен.
Лето. По дорогам движение еще не от деревни, а на деревню: из машинных товариществ везут молотилки.
Овес виден хороший, рослый, это — иностранец из Австралии. К сожалению, семенного материала мало, местами деревни хотят перейти на общественную уборку урожая, но этого нельзя сделать, пока деревня не получит обезличенное, чистое, сортовое зерно.
На скошенных полях клевера краснеют маленькие мохнатые клинья клевера, оставленного на семена. Клевера не хватает для посева, и это расстраивает севооборот. Местами земля осталась незасеянной. Пермские семена, привезенные сюда, оказались хорошими, а заграничный клевер на второй год не вышел. Нужда в клеверных семенах очень большая. Спрос на них все время возрастает: в этом году лугового сена мало, но те, кто посеял клевер, обеспечены кормами.
«Это картофельное поле — уже город» — так мне сказали в Лихославле. Лихославль — город уже две недели. Граница, отделяющая здесь город от деревни, проходит через поля, захватывая их. У Кустсельсоюза контора в городе, а склад в деревне, через дорогу. Эта чересполосица как будто не случайна. Город и деревня перепутаны в самом быту всей местности. Так, в соседнем Боровическом районе живут кустари, главным образом трикотажники. За трикотажной машиной работают женщины. Обычно в две смены по 8 часов. За прокат машины союз берет 1 р. 20 к. в месяц с одной работницы. Большая часть работниц кооперированы. Есть товарищества, в которых кооперировано 60 %. Для окраски ряда существует 3 кооперативных завода. Но несколько тысяч трикотажниц работают на хозяйчиков. Кооперация не имеет силы объединить их. Капитал у союза оборачивается не больше двух раз в год, а средства заемные на три месяца.
Быт у трикотажниц полугородской, избы оклеены обоями, разговор тоже городской.
— Вы не судите по этой избе, — сказал нам крестьянин, — здесь обои три года не переклеены. Стихийное бедствие: две лошади пали в прошлом году и в семье мало взрослых работников.
Вязальная машина здесь не вытеснила сельского хозяйства, но вытеснила трехполье.
Получилась как будто крестьянская идиллия по Глебу Успенскому: Глеб Успенский первый в России поднял разговор об электрификации. Но ему казалось, что электричество в деревне спасет ее от поглощения городом. Электрическую энергию можно подать в каждый дом: в каждом крестьянском хозяйстве будет двигатель, и тогда деревня сможет противопоставить работу от домашнего ткацкого станка и прялки фабричному производству.
Таким образом, Глеб Успенский мечтал не столько об электрификации деревни, сколько о консервировании ее при помощи электричества.
В Тверской губернии кустарные села сейчас быстро электрифицируются. В районе Лихославля тремя станциями электрифицированы 17 деревень. Деревня Кузино электрифицировалась два года тому назад самовольно и не спросив разрешения города. В этой деревне устраиваются осенью большие сельскохозяйственные выставки, есть специальное выставочное помещение и мачта для поднятия флага во время выставки. На площади стоит здание с электрической молотилкой и клеверотеркой. Уже давно в этой деревне введено многополье, но только сейчас крестьяне ввели в севооборот корнеплоды. Пробовали и раньше, но не выходило, а сейчас вспомнили о прежних неудачных опытах, и время что ли сейчас удачливое, но турнепс получился. Эта деревня забором отделена от соседней деревни, трехпольной. Таких отсталых деревень в этой местности уже немного. Большинство культурных деревень землеустроены на отрубах, но есть общинные села, уже азартно проводящие одиннадцатиполье. Деревня трикотажного района не столько деревня счастливая тем, что в ее хозяйстве есть деньги, сколько деревня, начинающая становиться городом. Дело идет не по Успенскому.
«Это картофельное поле — уже город». Это не только в Лихославле и не только для шутки.
Работу женщин, занятых у вязальной машины, начинают беречь. Машина создает уважение к труду. Район здесь льноводческий, а лен — трудоемкая культура: его теребят, стелют, треплют, чешут. Руками его можно обрабатывать, если рук не жалеть. Жилища он обращает в мастерскую полную пыли.
Уже два года Кустсельскосоюз хлопочет об организации завода по первичной обработке льна.
Сейчас постройка начата, и уже началась возка кирпича.
Строят завод на горе, у озера. Здесь когда-то была усадьба с фазанами.
Потом здесь хотели устроить музей. Но из фазанника без фазанов музея не вышло. Теперь здесь будут мочить лен, и вокруг льна создается целый комбинат.
Льнообделочный завод, маслобойный, электрическая станция, которая будет работать на костре (отброс, получающийся при обработке льна), и ремонтная мастерская. Кустарная маслобойная промышленность и домашняя обработка льна кончатся.
Примечание 1927 года. Завод построен. Пока строились льнообрабатывающие заводы, о них спорили.
Казалось, что такая индустриализация преждевременна при дешевых рабочих руках.
Сейчас уже выясняется удача заводов: в районах их постройки увеличивается культура льна, и появляются посевы нового типа: коллективные, чистым зерном произведенные.
Это не полоски льна, а льняные поля.
60 ДНЕЙ БЕЗ СЛУЖБЫ
Это не потому, что я уже писал об автомобиле, я буду снова писать об автомобиле. Меня ободрил Осинский своей статьей в «Правде»[401]. Он прав — на таких больших дорогах нельзя жить без автомобиля. И старые и не совсем доломанные машины сейчас настолько крепко въехали в самый быт раскинутой страны, что если бы вырезать их или если они сами доломаются, то мы можем отсидеть деревню. У нас будет застой крови, и мы не сможем шевелить пальцами.
В Киеве все еще стоит старый вокзал, и у старого вокзала стоят десятки извозчиков днями, потому что Киев из тех городов, который должен был бы переехать на другое место, но не может.
Города, как ногти и волосы, живы тогда, когда растут. Город иногда растет даже на мертвой стороне, так как часы могут идти на мертвом. Но город может быть и не нужен. В Киеве строится только одно здание и то достраивается. Правда, еще строится кинофабрика, но это не здание, а покрытое пространство для юпитеров, и оно не связано с Киевом, а строится при квартирах.
В Киеве — Днепр и Крещатик и мануфактура в магазинах та самая, которую трудно достать в Москве, и очень много казино с наглыми и подробными описаниями правил игры, нарисованными на стеклах. Но Киев не живой город.
Города переезжают. Новороссийск перелезает на другую сторону бухты к цементным заводам. Мертвая Керчь, город, в котором много женщин, сидящих в открытых окнах на подушке, — Керчь переходит к строящемуся заводу. Питер ползет к окраинам и становится городом-бубликом с красивой мертвой серединой, а Киев — город административный.
В нем и встретил меня невероятный автомобиль с мальчиком, сидящим на крыле и подливающим бензин из бутылки в карбюратор с падающей крышей, которую шофер поддерживает одной рукой, и с женой шофера, которая ездит постоянно с ним, потому что все равно нет пассажиров.
От измызганного автомобиля, в котором работали только два цилиндра, я попал на дряхлый пароход. Пароход маленький, в нем не каюта, а камеры, и 2 колеса, и капитанская рубка не по середине, а сбоку на колесах — их две, так что капитан едет на пароходе, как женщина в дамском седле. Пароходу лет 50, а большого пустить нельзя, потому что он не пролезет под мост.
Днепр при сотворении мира был перерезан порогами на две части, и поэтому большие пароходы на нем не жильцы. Вот и доламывается старая рухлядь.
Днепр извивается так, что через плавни принимаешь правый берег за левый. Дует встречный ветер на якоре, неделями останавливаются плоты, идущие к Днепрострою.
Встретился с Федором Гладковым. Гладков недоволен пароходом и сердится. Съедает обед и сердится после обеда. Недовольный человек. В камерах душно. По два человека — воздуха нет.
На стоянках пароход пригуливается прямо к берегу, потому что пристани давно сожжены и еще не отросли на берегу.
Базар около парохода — прямо в воде. Бабы стоят по колена в реке. Вечером в кустах загораются, как окурки, фонари, показывающие фарватер. Столбы мотаются своим отражением в воде, как веревки.
Приехали в Днепропетровск (б. Екатеринослав). Это живой город с большим будущим. И здесь в гостинице подают, вместе с самоваром, сообщения о Махно. «Вот здесь, — говорят, — в лифте он был расстрелян, а на дворе стоял пулемет, а я…» — и воспоминания идут дальше.
В газете никто ничего не знает о порогах. «Есть, — говорят, — Ивирницкий, историк, который знает, но Ивирницкий уехал».
Поехали на лодке а Лоцманскую Каменку и тут на берегу нашли лоцмана. В доме разрисованный зеленый сундук на колесах XVIII века, фольговая икона и бумажные венки на потолке; полы посыпанные травой.
Нас только двое на дубе. Нас не хватает, — а дубами здесь зовут большие лодки, — так их звали в XI веке.
На стенках, в качестве украшений, висят рисунки из жизни животных — Брема. В Тифлисе потом раз я видел в духане на стенке рисунки, изображающие разные формы листьев, из какого-то учебника ботаники. Мне показалось интересным, за что принимает это сам хозяин. Я спросил его, что это такое? Духанщик мне ответил спокойно: «Бульвар». Нашего хозяина в Каменке звали «Горячим», а по имени Ефим, и он нас повез на двухвесельной лодке. Сын греб двумя веслами. Я сел потом на эти весла. Правое весло ни по весу, ни по длине не напоминало левое. Грести ими было так же неудобно, как ходить с самоваром по натянутой проволоке (был такой специальный русский цирковой номер).
Пороги шипят, как примуса. Их 13, а между ними заборы. Вода из них прыгает вверх, и эту волну зовут здесь грозою. Маленькие пороги — крутящиеся — зовут бычками и, действительно, они мычат. Через пороги идут плоты, и много плотов. Плоты длинные, на них весла из бревен — три сзади и три спереди. Гребут на них отчаянно. Нужно, пройдя через порог, сразу поворачиваться, чтобы попасть на русло другого порога, и каждый день быть в зависимости от высоты воды фарватера другого. Плоты идут партиями. Старший плот имеет избушку — на нем провизия и хозяин. Раньше его пускали последним, сейчас он идет первым для ободрения остальных.
Через первые пороги мы прошли каналами. Каналы проложены через самые пороги левым берегом, а правым идет старый казачий ход. Вода перед каналами пухнет, круглится и становится похожей на шоссе, т. е. середина высока, а по бочинам низко. Она вливается в узкое пространство между двумя каменными дамбами. Лодку несут волны, становят ее на корму.
Каждый порог имеет свой характер, и самые ядовитые пороги — последние, особенно один с хорошим названием «Лишний», а еще ядовитее считается камень перед самым Кичкасом.
Когда вы пройдете 13 порогов, есть камень под названием «Школа». На нем разбивались больше всего. «Ненасытец» совсем страшный. Он в ширину верста, в длину — верста с четвертью. Едут его минуту. В его канале вода так быстро поднимается, что он отрывается от берегов. Это уже не вода, а нечто совершенно твердое, и лодку несет дыбом, а между стенками ее вода; есть щели, и края дамбов разбиты.
Вода здесь ломается, через несколько ступеней заборов она просто скатывается по лестнице. Это буря, но каждая волна закреплена раз навсегда на своем месте, т. е. она спокон века бьется точно так же и зависит только от высоты воды.
Есть обвалы сажени в 1½.
Странно видеть реку кривой. Она падает не только вниз, но и вбок. Вообще здесь ничего похожего нет на наше представление о воде. Но самое обидное, что в месте, которое называется пеклом, вы, будучи весьма испуганы и оглушены, видите, что на камне стоит удочник.
Оказывается, что туда идет тихая струйка, и рыболовы туда залезают на камни и забрасывают удочки и находят, что это стоит.
Это так же обидно, как если бы мы забрались в ад по какому-то очень сложному поручению и нашли бы там человека, который тихо сидел и сушил белье.
По берегам когда-то стояли большие помосты для вида, теперь их нет — они утащены до последнего кирпича, кроме колонн.
Колонны остались как памятники. Одни колонны стоят рядом, другие полукругом.
Местность очень внушительная. Сбоку порогов — маленькие мельницы на одну миллионную часть силы порогов. Если сравнивать, а сравнивать полагается, то эти мельницы похожи на свисток, ценою в 3 коп., приделанный к буре.
В промежутках между порогами Федор Гладков объясняет лодочнику преимущества коллективного земледелия. Преимущества очень важные.
На порогах мы держимся за скамейки. Раз нас ударили дном о камень.
За «Ненасытцем» берега зеленые, и на зеленых, крутых, каменных берегах зеленые дикие груши. Ночевали в совхозе, севооборот которого спутан будущим Днепростроем, потому что все равно поля будут залиты. Когда показывают колышки будущего уровня реки, то странно (слово не очень такое художественное, но подходящее), странно думать, что и дома, и горы, и острова, и леса пойдут под воду, и что здесь будет озеро, местами в две и больше версты ширины.
То, что уже готовится в Днепрострое, — почти не представимо. Это выходит из пределов описываемого в 300 и 1000 строк.
Ночью спорим об украинском языке. В семье отец говорит по-русски, а дети по-украински, а отец хотел бы, чтобы они говорили по-английски, а дети отказываются говорить по-русски, говоря, что если говорить на языке национальных меньшинств, то придется говорить и по-еврейски. И спор семьи идет об этом лет 5. А в Тифлисе есть семья, где отец грузин, мать говорит только по-русски, а дочка 8 лет говорит только по-грузински, поэтому мать не может говорить с дочкой без переводчика и очень обижается.
За этим совхозом еще 2–3 порога, потом круто поворачивается Днепр, и висит один пролетный Кичкасский мост. Имя строителя этого моста мне неизвестно. Мосты вообще не подписаны, но известно, что Махно этот мост взорвал.
Мост построен настолько крепко, что два кронштейна его остались несоединенные друг с другом, и это оказалось очень удобным для того, чтобы сбрасывать здесь разного рода грузы. Теперь этот мост пойдет под воду, вернее, пошел бы, но его перетащат в другое место.
Есть другой мост под Тифлисом и построен, как утверждают, Александром Македонским, и зовут его Мцхетским. Но мост этот на днях снимут, потому что он залит поднявшейся от Загэса Курой. Мир, в котором мы сейчас живем, чрезвычайно изменяется. И пороги, через которые я ехал, — это пороги учреждений, которые ликвидируются; они сливаются по старому советскому обычаю и превращаются в Днепрострой с падением в 36 метров.
За Кичкасским мостом правый и левый берег Днепра уходит в сторону, река расширяется, и с обеих сторон мели. На левой мели камень, и на камне стоит трехногий гипсовый лев — это все, что осталось от бывшего здесь курорта Александробад. На правом берегу из песков торчат камни, а между камнями немецкие дома поселка Кичкасс — это все будет залито, и будущие берега уже выравниваются грабарями, которые крутятся каруселью со своими лошадьми, насыпая песок и ссыпая.
Кичкасс переполнен подводами, едущими в одну сторону, людьми, тянущими подводы, и людьми разговаривающими.
Я хотел сказать штаб — нет, учреждение это очень похоже на близкий тыл громадной армии; даже — точнее — это похоже на австрийский момент оккупации России, только немцы уходят из своего дома довольными, так как дома покупают и, кроме того, они увозят в горы кирпичи и черепицу.
Стоит стук. Руки дробят камни, его будет приготовлено миллион кубов. Вообще здесь цифры миллионные. В широких соломенных шляпах ходят грабари. В штабе — в управлении — меня приняли очень любезно. Много рассказывали и сказали: «Просим этого не писать, а оставайтесь здесь, и мы вам дадим комнату — тогда пишите; а не пишите как мы строим, ибо о нас достаточно напутали» — и я не написал. Гладков остался в Кичкассе. Напишет роман, а сам Кичкасс, полный построек, не будет описан.
Ведь предположим, что я бы остался на три месяца в Кичкассе. Я думаю, что я бы сумел написать, как это строится, как делают перемычки и почему это трудно и как взрывают, но книга — не роман в 5–6 листов — она не существует на рынке.
Про Днепрострой реальный можно написать фельетон, а про ненастоящий Днепрострой, если его назвать «электростроем», можно написать толстый роман, что противоречит логике, так как в реальном Днепрострое материал больший, чем в Днепрострое выдуманном.
Гораздо страшнее, чем ехать через пороги, ехать от Кичкасса до Запорожья. Правда, день был праздничный, a в Кичкассе никакого вина и никакого пива не продается, и поэтому все ехали в Запорожье. Пароход был переполнен, и ехали боком, а помощник капитана спокойно уговаривал публику: «Сидите на месте и играйте в домино, потому что, когда вы стоите на палубе, то пароход может перевернуться, а мы вам, тем что посадили, сделали уважение». Пароход шел набекрень.
Вставка. В цементных заводах интересны 3 сорта дыма: серый, черный и бурый, очевидно, от двух разных обжогов и от силовой станции.
Вокруг заводов стоят серыми и желтыми стогами плотины, сложенные бондарной клепкой для цементных бочек. Эти стоги похожи на хижины негров (сравнение недобросовестное, но если, напр., будут описывать солнце, то нужно будет солнце с чем-нибудь сравнивать, хотя солнце вещь известная).
Я так устал от сравнений, что следующий раз, когда мне придется описывать облака, то я напишу так: «И над цементными заводами, над Новороссийском шли прежде описанные облака».
Терек в Дарьяльском ущелье не похож на львицу с косматой гривой на спине, но сравнения не обязаны быть похожими. Если же понадобилось бы действительно дать сравнение, то Терек можно было бы сравнить, скорее всего, с несколько ослабленным пеньковым приводом на шкивах, сильно мотающимся, благодаря изношенности трансмиссии. Может быть, Терек похож на процесс скручивания из пенькового волокна каната. Наверное похож Терек на Днепровские пороги, только много ýже, но в нем те же неподвижные, закрепленные на камнях волны. Дворец Тамары есть то, что стоит внизу. Дворец Тамары маленький и похож на лимонадную будку. Выше Терек течет мелко — это еще щенок реки. Если поставить поперек его ванну, то, вероятно, она наполнялась бы минуты две.
Здесь Терек похож на московский дождь, когда вода катится по Волхонке вниз к Моховой, когда блестят асфальты. Мохнатые, стоптанные ногами людей, — эти асфальты похожи на следы верблюдов, вытирающих своими мохнатыми лапами твердые, чуть склеенные пески пустыни.
Если не считать мельниц, крутящихся в 1000 раз быстрее течения, — у них широкие колеса, и они плавают на двойных лодках, еще плавали на Куре плоты на бурдюках. На такие плоты садятся около начала города с вином, и закусками, и зурначами, и дудуками и плывут под музыку по реке на вертящемся плоту.
В том месте, где в Куру впадает Арагва, и под тем местом, где стоит монастырь Мцыри, — сейчас стоит серый, чистый, как операционный стол, илот. Река ширеет и обращается в ладонь, и пальцы этой ладони засунуты в турбины Загэса, как в перчатку. Ночью здесь светло — огни желтые и красные. Красные висят, отражаясь над решеткой, заграждающей русло новой Куры.
Паровой двигатель ворчлив. Двигатель внутреннего сгорания, особенно 4-тактный — истеричен. Наиболее спокойная из всех источников сил — это гидротехническая установка. У них голубая кровь.
Над Загэсом, как я уже сказал, стоит монастырь Мцыри. В нем козы взбираются на карнизы.
Есть внутри какой-то старый жертвенник и местный дачник, монах Илларион, излюбленный человек фельетонистов и очеркистов, потому что монаха Иллариона легче описывать, чем Загэс, и кроме того, влезши на Мцыри, нужно что-нибудь описывать. С Мцыри виден Мцхетский залитый мост и старые заводы в городе, залитом почти до края. Этот город плавает в озере Загэса, как ковш в бадье с водой. Старый собор огромен и построен из желтого и чуть зеленоватого камня. Его купол прикрыт граненой крышей, орнамент простой. Внутри собора, как в футляре, спрятана маленькая церковь, сделанная из камня так, как будто она вылита на камня. Величина у нее в аэропланный ящик, поставленный дыбом. На полу — могилы грузинских царей и могилы Багратионов.
Я люблю переводы, сделанные людьми, плохо знающими язык. Один грузин рассказал мне, что некий царь, убив своего врага, похоронил его у подножья своего трона, или у подножья своей кровати (не помню), для того, чтобы попирать его «первой» ногой. Собор окружен типичной грузинской стеной, сложенной из округленных камней, поставленных прямо и косо. Этот способ ставить камни и кирпичи елочкой, кажется, местный.
Стена невысокая, на ней башенки и бойницы, закрытые сверху как будто двумя сомкнутыми ладонями. Ладони эти, открытые вместе над бойницей, оказываются вроде острого козырька. Это очень удобно было для сбрасывания разных вещей на голову наступающих.
А Загэс выглядит спокойным и ненуждающимся в описании. Покамест у него запружена 1⁄3 часть воды. Вторая очередь еще не построена, и в плотине торчат железные прутья, арматура к которым будет прицеплена коробкой. Вторая очередь турбин и третья очередь еще не начаты.
Тифлис любит Загэс, и грузины, даже не очень восторженные от настоящего, смягчаются, говоря о Загэсе, который работает спокойно и бесперебойно. Сейчас электрические станции строят, как трубы на заводе, где нет ничего, а трубы уже складываются. Эта сила должна вокруг обрасти заводами.
Пока Загэс не загружен, он освещает Тифлис и, может быть, нагревает его электрические утюги и Госкинпром Грузии, который в числе крупных потребителей тока. Кажется, он занимает или будет занимать 1⁄10 турбин.
Странные похороны в Тифлисе. Впереди несли портрет — увеличенный фотографический портрет в раме. За портретом шла толпа, которая несла открытый гроб. В открытом гробу лежал покойник в барашковой шапке из рыжего каракуля. Было очень жарко. За гробом шли дудуки и играли какую-то похоронную вещь, а я привык видеть сазандари в ресторане.
Слова у них в ресторане тоже печальные, причем двое играют на дудках, а третий бьет в барабан изогнутыми палками, он и поет в то время, как его товарищи печально и кругло надувают щеки. Песня такая, как мне перевел Цуцупало: «Наша жизнь — солома, и все пройдет. Много цветов в этом прекрасном саду, но один садовник имеет их право срывать. Будь садовником…»
Утром кладут в сторону дудки и берут как будто оловянный, быстро ширящийся короткий рожок и играют песнь восходящему солнцу.
Сейчас сазандари играли что-то покойнику. Покойник лежал с головой в барашковой шапке. Голова его была слегка на плече. Было очень жарко.
В верийских садах под Тифлисом в беседках пьют вино. Здесь встречал меня гостеприимный грузин. Старый хорист Гиго, играющий на какой-то гитаре, обтянутой кожей, отложил в сторону свою гитару и, глядя на всех темными стеклами своих очков, одетых для того, чтобы закрыть слепые глаза, сказал по-русски: «Разрешите мне сказать два лишних слова: в прежние времена один дворянин построил корабль и поехал далеко. Море разбило корабль, и дворянин остался со своим слугой на бревне. Их носило в воде 20 дней, и через 20 дней заговорил слуга: „Есть ли такие несчастные люди, как мы?“ Но дворянин ответил: „Неправильно ты говоришь — мы не самые несчастные, нас или выбросит на берег или потопит, а вот тот человек, к которому придет любимый друг, если ему нечем угостить друга, тот человек несчастный“».
Наши хозяева в этот день, очевидно, несчастными не были.
Кутаис стоит на реке Рион, а река Рион очень быстрая. Плавают по ней только плоты из места, которое называется Рача.
Плоты связаны из толстых бревен более обхвата толщиной и так же, как у нас на Ветлуге, в концах бревен проушины отверстий, через которые проходят веревки, связывающие плоты, и по России я знаю, что на эти проушины уходит, кажется, 10 % древесного материала, так как концы бревен портятся. Бревна приходят к Кутаису все мохнатые, шерстяные от ударов о камни. Может быть, это размягчившееся дерево похоже на буйвола. Буйволы покрыты шерстью жесткой, редкой спереди, почти голы сзади и все-таки не похожи на пуделя.
Течение Риона такое, что купаются здесь в одну сторону: бросаются в воду и плывут, скажем, по ½ версты, а потом вылезают из воды и бегут по берегу обратно. Одним словом, Рион — необратимая река, как бывает необратима передача и так, как необратимо время. А дальше, верстах в восьми от Кутаиса, у станции Рион, река входит на большую, голубую от кукурузы долину. Здесь она течет широко и широкой приходит в Поти, полная, как неумело налитый стакан, она даже кажется чуть выпуклой, выпуклой над берегами, и хочется попросить буйвола, чтоб он ее отпил.
Река течет через низкий город, полный влажности и вздохов лягушек. Темно. Провинциальные люди в белых костюмах стоят у еще незакрытых магазинов. В кафе играют в домино. В порту грузят марганцы большого парохода. От порта в город идет одноконная конка с колесами, как будто бы неплотно прилегающая к рельсам; конка освещена стеариновым огарком и кажется переполненной. В ней семь человек. Люди — портовые рабочие в белых рубашках — что-то тихо поют. Стоя у открытых дверей передней площадки, поет кондуктор и подпевает кучер, не оборачиваясь от лошадей. Лошади все голодны. Колеса начинают шуметь глуше. Мы катимся над мостом еще тише, нагоняем прохожих. Прохожие тихо подпевают конке.
Таков Рион — река у Поти. А около Кутаиса она бежит, журча так, что слышно ее даже у высоких развалин, увитых, как полагается, плющом. Плющ держится своими зелеными мышиными лапками прямо за камень. Еще сохранились углы сводов. Капители с ременным орнаментом лежат в траве.
Мы снимаем развалины. Оператор предлагает старику-монаху — единственному, оставшемуся у развалин, инсценировать разговор с детьми. Старик сел. У него седые букли за ушами вроде длинных пейс, и он начал говорить что-то детям, и я узнал старую интонацию: «Что вы говорите?» Оказывается, он говорил: «Дети, церковь — это храм» и т. д. И это была та фраза, которую я с детства знал по учебнику — закон божий. Больше старик ничего не сумел.
А дети были разные; один быстро говорил по-грузински, а потом заговорил со мной по-русски. Я спросил: «Ты откуда?» А он сказал: «Я из Саратовской губернии, заслан во время эвакуации». Потом посмотрел на меня, думая, каким разговором занять русского: «А в России детские сады есть?» — и ушел. Детский дом помещается около развалин, и из него видны Рион и кукурузные поля, и раздаются звуки «Кирпичиков», исполняемых на фисгармонии.
Кутаис застроен домами на четырех ножках. Внизу пусто. Домики есть и вроде городских, но в общем — это тип грузинских сельских построек, правда, с трубами, а в Гурии есть постройки и без труб. Заборы в городе деревянные, связанные железными прутьями, не крашены, посырели от дождя. Арыки покрыты истоптанными, стертыми ногами, известковыми плитами. Местами эти плиты провалились: провалы огорожены серыми, плотными, уже почернелыми от времени заборами.
«Хотите папиросу?» — спросили меня сверху. Никого не было. Я посмотрел — продавец сидел во втором этаже, а лоток стоял действительно около тротуара внизу. Как происходила торговля, я не знаю, так как я не курю.
В городе — маленькие кузницы в магазинах. Базар с луком, сыром и живыми курами, спокойно лежащими со связанными ногами. Кур покупают и несут их за ноги вниз головой. Куры молчат, очевидно, они уважают местный обычай.
Много извозчиков с черными фаэтонами, внутри обитыми зеленым и красным бархатом. Это одновременно напоминает калоши и иллюминацию.
Жил в маленьком доме с длинным садом за домом, в котором доцветали розы, зеленел мелкий и еще бархатно шершавый виноград.
Внутри — качалка, фотографии, в качалке подушечки, и все это напоминало мне Финляндию — все вместе: с садом, спокойной хозяйкой и, когда я вошел в комнату, мне хотелось спросить по-фински: «Оно камори?» (есть комната?).
Вот в этом городе, где еще куют железо так, как это делали в Персии, и где так неудобно подковывают буйволов, сваливая их на бок и поднимая вбок связанные ноги, — в этом городе, вернее рядом с ним, ставят громадную станцию Рионгэс.
На месте построек бывшие вузовцы руками крутят сверлильные машины. Под углом 30° они проходят породу, вытачивая ее коронками с алмазами. Порода вынимается длинными, шершавыми каменными столбиками.
Эти люди уже сверлили на Курской магнитной аномалии, где-то в Армении, где-то на Урале. Это уже специалисты-бурильщики. Завтра к ним придет двигатель, но сверлят они уже сейчас.
С поездом приехали люди с портфелями — плотная, сделанная компания — это инженеры, которые только что закончили Загэс и сразу, готовые, с чертежами и курьерами приехали монтировать Рионгэс.
Потом приехали члены правительства. Был парад, были речи. Калинин нажал кнопку, и три взрыва начали туннель, по которому вода должна выйти куда-то за город.
Куда пойдет ток — я не знаю, очевидно, будут отстраивать фабрики; покамест здесь есть небольшая суконная фабрика и шелковичное производство «Грузшелк», который покупает коконы у крестьян.
Самку и самца «шелковичного червя» (они с крыльями) парой сажают в маленький бумажный мешок. Так начинается их роман. Таких мешков на фабрике 6 миллионов.
АДЖАРИСТАН
Город Батум стоит на Черном море, которое иногда синее, а иногда зеленое. Горы подвигаются к морю близко. В некоторых местах они даже втыкаются в море, а в некоторых отходят, оставляя красные пористые долины. На этой красной земле, очень мокрой, растут чрезвычайно зеленые вещи, разные деревья, пальмы и т. п. Текут реки.
Реки текут в море, но иногда не дотекают. Море их замывает, тогда они устраивают болота.
Батум сейчас тихий. Батумцы уверяют, что в нем растет трава. Есть бульвары, на бульварах растут магнолии. Это — цветок вроде лилии, только растет он на дереве, величиной с липу. На этом дереве листья из зеленой кожи — толстые, и цветы такие же толстые и жирные. Еще растут здесь бананы, которые, однако, не дозревают. Каждый год цветет кактус, выбрасывающий громадный цветок в сажень длиной, вроде сухой елки. Батумцы уверяют, что это бывает раз в сто лет.
Это неправда, но человеку почему-то нужно, чтобы цветы, например Виктория Регия, цвели раз в сто лет. Хотя и Виктория Регия цветет каждый год. Очевидно людям хочется видеть редкости.
В Батуме зашел с товарищем в женотдел. «Мы, женщины Аджаристана, — диктовала белокурая женщина другой женщине, — протестуем против интервенции в Китае и против правительства… — дальше я сама выправлю… — Вам что, товарищ?»
Мы с ней пошли к прокурору.
Прокурор начал рассказывать нам о новой аджарской моде или обычае — способе борьбы с кровничеством: односельчане-убийцы сжигают дом кровника, очевидно, для того, чтобы лишить убийцу удовольствия. Вообще поджоги здесь приняты. Поджигают, например, обесчещенные женщины.
Что в горах? Продают ли там женщин? Что там происходит? — в Батуме знают мало. Прокурор нам сказал: «Здесь знают, что говорят на судебном процессе, и из дел — вот они — вы ничего не узнаете».
Женщин продолжают похищать, после этого идет кровничество, но, когда вы отыскиваете эту женщину, она говорит, что она согласилась или что она была согласна раньше, и с ней вместе приходят человек 16 вооруженных людей.
Про Аджаристан часто рассказывают анекдоты. Советская власть, вдвинутая в горы, находящаяся в противоречии с бытом, как будто вызывает на рассказывание таких анекдотов.
На меня Аджаристан не произвел впечатления анекдотичной страны. Его переделывают, но его переделывают простым и сильным средством — электрической станцией.
Внизу закладывают сейчас 20 тысяч, а потом 100 тысяч десятин чайных плантаций. Это будет покрывать ¼ часть союзной потребности в чае. Страна все равно изменится, и эти кровнические дела — это бегущие в бою мертвые лошади, которые не знают, что они убиты. Живо другое — то, чего еще нет.
От Батума в Хуло — это центр страны — 80 верст по реке Аджарис Цхали идет автомобиль. Обычный шофер, обычная расхлябанная машина, неизвестно почему еще ходящая. На машине аджарец, я с товарищем и старуха, едущая в зятю пограничнику, а у нее на руках самая неудобная вещь в Аджаристане, если считать в автомобильном масштабе, — большой бамбуковый стул, который всем мешает.
— Удобнее, — говорит мне шофер, — удобнее везти какогонибудь одного богатого человека. У такого человека две жены в горах, одна в Батуме, а иногда три. В Батуме он снимает автомобиль один. Едет сам с тремя и всю дорогу поет песни.
Женщины в Батуме — аджарки — ходят в черных покрывалах. Местами эти покрывала уже начинают вырождаться, т. е. они уже не на лице, но лишь немножко закрывают лицо и, скорее, от солнца.
От этого скоро останется только жест, и аджарки в городе просто будут держаться ладонью за щеку. Но даже в поезде часто встречаешь женщину, сплошь окутанную чадрой, как будто это люстра, защищенная от мух.
Костюм мужчины — обязательно башлык. Носят сейчас многие носки на галифе, на галифе же открыто надеты подвязки и, если это дело в поезде, то под подвязку подщелкнут железнодорожный билет. Даже элегантно. И вот мимо желтого от глины, а может красного гороха автомобиль лезет вверх. Скалы, деревья, встречи с арбами.
Нагоняем курдов. Курды уже второй месяц идут, идут на верхние пастбища, на альпийские луга. Зиму они проводят около моря.
Через Аджарис Цхали перекинуто длинное бревно. Это старый Аджарский мост. Рядом стоят новые, широкие, бетонные, построенные советской властью. Перед одним из таких мостов, недалеко от города Кедды, два дома целиком набиты колесами. Оказывается, что именно в этом месте кочевники снимают колеса со своих арб, кладут на склад и дальше через мост едут вьюками, потому что за мостом горы. Здесь многие занимаются контрабандой, потому что турецкая граница в 7 верстах. Ночью здесь, как светляки, вспыхивают сигнальные лампочки контрабандистов.
Светляки здесь начинают сверкать в сумерках и дают впечатление, как будто продергивают перед глазами через какую-то материю золотую нитку. Это летит муха, изредка поблескивая. Нитка такая раньше звалась «канитель». Здесь канителятся светляки и контрабандисты.
Коверкотовые штаны попадались, но мало.
Но у населения зонтиков много.
Дорога исправная — неплохое шоссе.
Все выше и выше, мимо аджарок, купающихся в полосатых чадрах в каком-то местном целебном источнике, на скале, мимо домов на ножках мы въезжаем во второй город Аджаристана. В городе этом, кажется, 50 домов, зовут его Хуло. Отсюда мы решили ехать не вперед, на Абастуман, а вбок, через Гедерский перевал и горный курорт Бахмаро — вниз в Гурию.
Дорога не общепринятая.
В Хуло есть каменный дом, построенный местным беем. Про дом идет легенда, что для постройки его всякий проезжий был обложен податью в один камень. Дом — самый обыкновенный дом, величиною с сельскую аптеку.
Аджарцы так не привыкли строиться, что легенда больше дома.
В Хуло есть хирургическая больница, где лечатся и женщины. И даже есть акушерка, которая, кажется, выселена за производство абортов. А в хирургической больнице лежат больные и мужественно дожидаются операции. К операциям относятся с уважением и охотой. Приходят сюда обыкновенно в ужасном состоянии. На больных больничное белье и башлыки, которые они отказываются снимать. Очевидно, снять башлык с аджарца можно только под наркозом.
На полдороге местная электрическая станция. Аджарис Цхали делает петлю. В этом месте пробит туннель, и река будет пущена через гору. Получается очень большое падение воды. Плотины будут совсем маленькие, а туннелей целых три. Вся электрическая станция будет спрятана в горах, и когда уберут бараки, то она будет почти не видна. Туннель уже готов. Во время постройки здесь произошел обвал, при котором погибло четверо рабочих и инженер Калашников. Об этой гибели рассказывали мне несколько раз в самых глухих местах Аджаристана.
Куда пойдет ток, я не знаю. Предполагается электрифицировать порт и откачивать аджарские болота внизу, сушить край и выводить малярию. А на Гедерском перевале люди спокойно дожидаются трамвая и фабрики буковой мебели.
От Хуло поехали на лошадях, тоже хорошая дорога — верст 8 до деревни Горжоми. Здесь знаменитый мулла — ученый, умный, у него 7 жен, больше нельзя иметь, потому что в неделе 7 дней, и очередь для мусульманина обязательна. Недавно мулла заполнил комплект — женился на седьмой. Но говорят, что, когда он открыл лицо своей жены, она посмотрела на него и сказала: «Ты похож на моего отца». Тогда мулла отпустил ее, потому что здесь прозвучал как будто намек на кровосмешение, а может быть, у него в этот день не было энтузиазма.
Он заплатил ей некари. Некари — это вот какая вещь: так как развестись с женой довольно легко и забыть ее лишить очереди в Горжоми можно, то в обеспечение ее прав муж выдает родителям долговое письмо на случай развода, т. е. он платит штраф за развод, причем очень высокий, могущий разорить среднее хозяйство.
Так как мы ехали со всякими документами, то поэтому нас уверяли, что калыма нет, что платы за женщин не выплачивают. Кто их знает. Но некари, кажется, неплохо придумано.
Под Горжоми можно понять — почему аджарцам нужны зонтики. Туман все время. Туман, между прочим, слово местное — турецкое или татарское, его все знают, а по-русски не говорит никто ни одного слова.
Грузинский знают все.
Турецкий язык знают мужчины. Что касается русских слов, то один человек, когда я с ним прощался, застенчиво сказал мне: «Здравствуйте».
Дома в Горжоми двухэтажные, построенные из толстых досок, пальца в три толщиною. Крыши покатые, на крышах камни. Плоские крыши заменяются узкими балконами без перил. На балконах сидят женщины и прядут. Они не столько закрывают лицо чадрами, сколько заслоняются ими.
Улицы деревни покаты так, что лошадь нужно тянуть за уздцы. Если подниматься верхом, то нужно держаться за гриву. Конечно, я очень плохой наездник, но я думаю, что расстояние между верхними ногами лошади и нижними по вертикали — аршин.
И во всей деревне нет плоского места. Вместо того чтобы увидать перекресток — видишь какие-то раскосы во все стороны. Земли мало, все огорожено. Избы большие.
Принял нас председатель сельисполкома.
У него отдельная комната для гостей, и я думаю, что в доме комнат восемь. Но лошадей нам вывели из нижнего этажа. Амбары отдельно — они из бревен. В комнате есть низкий стол в полторы четверти высоты, сделанный из одного куска дерева, два ковра, керосиновая лампа, маленькая полочка на стене, и на этой полочке стоит единственный стакан, из которого мы по очереди пили воду.
Кормили нас сыром, жареным в сливочном масле, кефиром и кукурузным хлебом — чады.
У хозяина четыре брата, из которых один сел с гостями, а остальные стояли.
Утром мы взяли лошадей и поехали дальше. Дорога шла по ручью прямо вверх.
Ручей катился и только раз посторонился от нас, чтобы покрутить маленькую мельницу с вертикально поставленным валом, который он просто толкал, ударяясь в изогнутую лопасть. Тут коэффициент полезного действия процентов пять. По дороге мы встречали волов, которые тянули прямо на цепи большие красные бревна. Когда дорога перешла в тропинку, то по всей тропинке шли желоба от этих протягиваемых бревен.
Лес здесь весь в красных трупах деревьев и огромных пнях. Это, кажется, был тисовый лес — он срублен и почему-то не вывезен и зарастает елью. Но ели внизу похожи на высокие аджарские стоги, только у них срублены верхушки. Складывающие стоги женщины очень нарядно одеты, потому что люди их видят только на работе, и на работу принято одеваться хорошо. Дорога лезет вверх. Внизу туман, и, когда он отодвигается, видно то, что принято в рассказах называть попросту горизонтом, и еще дальше за ним лежат луженые снегом верхушки. Сбоку растут желтыми, лиловыми и еще какими-то цветами кусты, листва которых напоминает металлические венки на кладбище.
Со мной едет т. Мачавариани. Он умеет ехать на лошади, а я чувствую себя на лошади, как будто я гимназист, и ко мне сел на парту преподаватель математики — настолько она больше меня понимает в езде. Она меня не слушается, но едет прилично. Дорога идет еще выше, кончаются кусты. Луга. Луга — клевер красный, белый; не знаю, сеют ли его здесь. На Военно-грузинской дороге там сеют золотистую траву, и она очень хорошо оттушевывает горы, а здесь что-то не похоже, что сеют.
Еще выше встречаем семью на санях. Саней полозья дубовые, с ладонь шириною. На санях поставлена картонка, круглая, вроде наших для шляп. Жена, муж и ребенок. Все сооружение везут быки. Еще деревья — последние. На них лежат воткнутые в прощелине суков колоды — местные ульи. Так высоко их сажают, чтобы не залезли медведи.
Сажают их еще на скалы, снимают оттуда ночью, когда пчелы спят.
Внизу в Хуло есть ученый пчеловод и есть аджарский пчельник с даданами и с рамочными ульями.
Есть люди, которые имеют до 200 таких ульев.
Лезем выше. Трава. Я выехал в сеточке и в брезентовых ботинках. Холодно. Показывается снег. Снег сперва лежит козырьками над ручейками, потом он начинает лежать сводами, вроде сводов персидских бань, плоских и глянцевитых. Под таким сводом бежит ручей. Еще выше. Встречаем едущих аджарцев, у одного не башлык на голове, а носовой платок, завязанный в четырех углах. Двое в шинелях, один в макинтоше. Штаны на них из местной саржи — шерстяной, грубой материи, очень узенькой. Все тащат грузы в таких ранцах: целиком снятые шкуры с теленка, а лапки теленка связаны, получается большой ранец. В нем несут туда, вниз, на Бахмаро сливочное масло.
Лошадь наконец взбирается совсем на снег. Очень устали, но едем дальше. Начинаем спускаться, и здесь в долине, похожей на две руки, собранные горсточками, — второй Горжоми. Та же деревня, но только летняя. Ходят стада. Стоят дома без окон — двухэтажные. Вместо окон длинные щелки в стенках, пальца в 1½ шириною. Вместо лестниц — толстые деревья в обхват положены под углом в 45°, и на этих деревьях вырублены зарубки. Ходить довольно удобно. Бегают дети. Замечательно чистый, совершенно невидимый воздух. Сюда уходят люди на лето.
Спускаемся еще ниже — появляются корявая береза, потом ель, и, наконец, мы спустились к курорту Бахмаро, находящемуся на высоте двух верст выше уровня моря. Кругом его ели, дома его новенькие, свежие.
За лето здесь бывает тысяч 12 людей. Солнце здесь такое, что мой товарищ, который не мог нигде загореть, загорел в тумане в два часа.
Здесь солнце, как кварцевая лампа.
На улице сидит гуриец и поет, надувая поросенка. Когда он его надует, то вынимает дудку, упирает ее в щеку и начинает говорить быстро какие-то куплеты, перебирая пальцами по клапанам трубки. Так он поет, сам себе аккомпанируя на духовом инструменте.
Спуск из Бахмаро идет буковым лесом. Этот лес сидит на горе, как всадник в седле при спуске, т. е. дерево откинулось и только поэтому стоит вертикально. Лес этот идет 12 верст. Он серый, и сверху листва еще покрыта густым бородатым мхом. Лошадь, спускаясь, шагает через корни. Спуск, если гнать лошадь, продолжается 5 часов. Дорога прорезана местами в узких траншеях, в которых всадник не виден, иногда траншея две сажени глубины. В траншеях грязь, потому что шли дожди.
Спускаешься, спускаешься. Темнеет, и перед глазами начинает мелькать канитель светляков, а навстречу поднимаются люди на курорт. Старухи сидят на лошадях сверх вьюков, дети едут на лошадях, крепко привязанные веревками. Очевидно, это повторение переселения кочевников. Подымаются на курорт так, как курды подымаются на летние пастбища. Это больше похоже на переселение народов, чем на курортную поездку.
Спускаемся, спускаемся. Уже проехали за день 65 верст. Так устали, что не можем слезть с лошадей и пьем чай около духанов в седле, потому что как слезть — неизвестно. Спускаемся. Совсем темно, но моя лошадь, как известно, профессор математики, — опускает голову и нюхает дорогу. Наконец, совершенно странное ощущение. Стало ровно. Мы спустились в Гурию.
СТАТЬИ, ВЫШЕДШИЕ В ЖУРНАЛАХ «ЛЕФ» И «НОВЫЙ ЛЕФ»[402]
ЛЕНИН, КАК ДЕКАНОНИЗАТОР
Несколько недель после смерти Ленина были неделями переименования.
Все заводы, все фабрики, все вузы хотели присоединить имя Ленина к названию своего коллектива.
Сейчас переименования проходят уже через ВЦИК.
Попытаемся выяснить результаты переименования.
Переименование может быть: 1) разделительным. Это случается тогда, когда прежде единое явление распадается на два или несколько. Пример: «большевики и меньшевики». Ленина звали «раскалыватель», действительно, он охотно шел на раскалывание явления, на выделение его.
Русский политический словарь знал не только большевиков и меньшевиков, но и троцкистов, отзовистов[403] и т. д.
Переименование большевиков в коммунистов тоже служит разделительным целям. По существу говоря, заменено было не слово большевик словом коммунист, а слово социал-демократ словом коммунист, большевик же остался, так сказать, в скобках (б). Отталкивание шло от слова — с. — д.
Таким образом, разделительное переименование есть один из способов отделять понятие от старого слова ему более не соответствующего. Разделительный характер, оттенок чего-то нового В. И. Ленин умел придавать даже и наречиям, союзам, ставя на них ударение.
«Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм…» и т. д. («Против течения» (стр. 32). «О национальной гордости великороссов»). Курсив «тоже» дан в подлиннике.
Курсивно выделяет Ленин слова — вполне, если, все, вкладывая в них своеобразный, местный смысл, заставляя их служить делу обособления понятия…
И может быть другое переименование: 2) переименование предмета, неизменного и не появляющегося вновь.
Такое переименование имеет свой смысл, если оно не стихийное, потому что, если мы переименуем все вещи одинаково, например, если они все будут называться «октябрьскими», то они перестанут различаться, т. е. название потеряет свой смысл. При единичном же переименовании нужно иметь в виду, что здесь происходит вытеснение одного слова другим. Этот момент, и только он, и является агитационным. Переименование ощущается больше всего в момент вытеснения.
Может быть, отчасти этим объясняется существование в практике церкви, имеющей несомненный опыт в технологии языка, двух имен для одного человека, при неполном вытеснении старого имени новым, например, не только Ярослав не христианское имя, но и современник Ивана Грозного Морозов носил имя, не обозначенное в святцах — Дружина.
Быт ощущается в момент становления его. Названия улиц Ленинграда были в 1919 году знаком перемены[404], сейчас они средства обозначения.
В словах «август, июнь, июль, царь, король» есть, вернее были, моменты увековечения имени, но эти слова «привились» и потеряли этот элемент. Чем лучше прививается переименование, тем оно бесполезнее. Как только слово прирастает к вещи, оно перестает ощущаться и лишается эмоционального тона. При более сложных переименованиях, когда образуются новые слова, происходит не только вытеснение одного слова другим, но и впадение нового слова в сферу старого.
Возьмем слово «октябрины», оно образовано из октября и крестины.
Несомненно, что это слово втягивает понятие в поле религиозного обряда. Оно не только вытесняет обряд, но и носит в себе его следы.
Оппозиция, имевшая место в некоторых коллективах против «октябрины», вероятно, вызвана «инами», так как это окончание несет в себе неожиданный, но навязчивый смысловой тон.
Иногда языковая техника пользуется тем новым смысловым ореолом, который получило старое слово.
Например, название «Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности» дает слово «Чрезвычайная» не в смысле необычная, а в связи со вторым словом «комиссия», таким образом, получается не чрезвычайная + комиссия + по ликвидации безграмотности, а чрезвычайная комиссия + по ликвидации безграмотности, т. е. как бы частный случай ЧК, на фоне которой и ощущается все построение.
Таково значение укрепления и создания нового названия.
Но дальше происходит явление, которое лучше всего исследовать на «языке революции».
Слово и целое выражение становится заклинанием.
Между термином, обычно выражаемым в нескольких словах, и предметом устанавливается привычная связь. Причем «выражение» обозначает уже не предмет, а, так сказать, место, занимаемое им в пространстве.
Граница явлений, соответствующих «выражению», быстро растет, переходные явления стремятся слиться с канонизованным. Они как бы закладываются за него, как за богатого сеньора.
Выражение становится фальшивой тенью предмета. В частном случае является то, что называется «революционной фразой».
Предполагается, что понятие, один раз проформулированное, останавливается.
Так продолжается до того момента, когда получается отрыв.
Особенностью стиля Ленина является отсутствие заклинания.
Каждая речь или статья как будто начинает все сначала. Терминов нет, они являются уже в середине данной вещи, как конкретный результат разделительной работы.
Спор Ленина со своими противниками, будут ли то его враги или товарищи по партии, начинается обычно со спора «о словах» — утверждения, что слова изменились.
К самой «языковой стихии», которую Ленин хорошо понимал, у него своеобразное отношение, ироническое отталкивание.
«Я бы очень хотел взять, например, несколько гострестов (если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалит Тургенев) и показать, как мы умеем хозяйничать» («Основные задачи партии при нэпе», стр. 137). Здесь можно подумать, что ирония относится к слову «гострест».
Но вот другой пример.
«Этого мы не сознаем, тут осталось коммунистическое чванство, комчванство, выражаясь тем же великим русским языком» (там же, стр. 139). Здесь интересно, что слово создается на наших глазах и в то же время подчеркивается его противоречие с «языковой стихией», которая и существует для того, чтобы ей противоречили.
Формула, когда она является в агитационной работе Ленина, организована так, чтобы не закрепиться.
Ленин презирает людей, которые заучили книжки. Его стиль состоит в снижении революционной фразы, в замене ее традиционных слов бытовым синонимом.
В этом отношении стиль Ленина близко примыкает по своему основному приему к стилю Льва Толстого. Ленин против названья, он устанавливает каждый раз между словом и предметом новое отношение, не называя вещи и не закрепляя новое название.
Любопытно бегло просмотреть, как употреблял Ленин в своих статьях и речах бытовой материал. Прежде всего он берет часто материал невероятный, такой, который как будто подлежит замалчиванию.
Один воронежский профессор написал Ленину письмо, где перечислил все беды, которые он испытывал в провинции. Начальник отряда, расквартированного в его квартире, вмешивался в частную жизнь профессора и требовал, например, чтобы тот спал в одной постели со своей женой.
Ленин ответил на это письмо. В этом ответе он остановился на самом остром моменте, доказывая, что
«Во-первых, поскольку желание интеллигентных людей иметь по две кровати, на мужа и на жену, есть желание законное (а оно, несомненно, законное), постольку для осуществления его необходим более высокий заработок, чем средний. Не может же автор письма не знать, что в „среднем“ на российского гражданина никогда по одной кровати не приходилось» (том XVI, стр. 165).
Для понимания этого отрывка нужно знать, что в предыдущем (в письме М. Дукельского и в ответе Ленина) разговор шел о спецставках, причем Ленин отстаивал спецставки.
Кажется чрезвычайно странной и смелой попытка выдержать состязание по сложному вопросу на таком резком обидном примере.
Но резкость примера для Ленина находится в связи со всеми приемами его стиля.
Быт вводится Лениным для противоядия фразе, иногда для этого берется умышленно узкая тема: о чистке дворов и даже способе расклеивания объявлений.
Люди, желающие понять стиль Ленина, должны прежде всего понять, что этот стиль состоит в факте перемены, а не в факте установления. Когда Ленин вводит в своем произведении бытовой факт, то он не «стандартизует» этот быт, а пользуется бытом для изменения масштаба сравнения.
Он сравнивает большое с малым, пользуется примером минимальной величины, чтобы сбить слово с фальцета, расшевелить его.
О ПИСАТЕЛЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ
В организации ВАПП — три тысячи писателей; это очень много.
Когда Льву Николаевичу Толстому уже было 56 лет, то он написал жене следующее письмо: «Я сломал себе руку и, пока лежал, почувствовал себя профессиональным писателем». К этому времени уже была написана «Война и мир».
Современный писатель старается стать профессионалом с 18 лет, старается не иметь другой профессии, кроме литературы. Это очень неудобно, потому что жить ему при этом нечем; в Москве он живет у знакомых или в доме Герцена, на лестнице; а некоторые в уборной, так человек 6; но даже уборная не может вместить всех желающих, потому что, как сказано, их три тысячи.
Это небольшое несчастье, потому что можно было бы построить специальные казармы для писателей, — находим же мы, где разместить допризывников, — но дело в том, что писателям в этих казармах писать будет не о чем.
Для того чтобы писать — нужно иметь другую профессию, кроме литературы, потому что профессиональный человек — человек, имеющий профессию, — описывает вещи так, какое он имеет к ним отношение. У Гоголя кузнец Вакула осматривает дворец Екатерины с точки зрения кузнеца и маляра и, может быть, опишет дворец Екатерины. Бунин, описывая Римский форум, описывает его с точки зрения русского человека из деревни.
Лев Николаевич Толстой писал как профессионал-военный, артиллерист, и как профессионал-землевладелец; он шел по линии своих профессиональных и классовых интересов для создания художественных произведении. Например, «Хозяин и работник» написан тогдашним хозяйственником и мог бы быть прочитан на тогдашнем производственном совещании дворян, если бы такие были.
Если взять переписку Толстого и Фета, можно установить, что Толстой — это мелкий помещик, который интересуется своим маленьким хозяйством; хотя помещик на самом деле он был не настоящий, и свиньи у него все время дохли, но это поместье заставило его изменить формы своего искусства.
Если бы Лев Николаевич Толстой в 18 лет пошел бы жить в дом Герцена, то он Толстым никогда не сделался бы, потому что писать ему было бы не о чем.
Пушкин представляет пример более профессионального писателя; он живет литературным заработком, но движется он вперед, отходя от литературы, например, к истории.
Заниматься только одной литературой — это даже не трехполье, а просто изнурение земли. Литературное произведение не происходит от другого литературного произведения непосредственно, а нужно ему еще папу со стороны. Это давление времени является прогрессивным фактором, без него нельзя создать новые художественные формы.
Роман Диккенса «Записки Пиквикского клуба» был написан по заказу, как подписи к картинкам неудачи спортсменов. Величина глав Диккенса определилась необходимостью печататься отдельными кусками. Вот это уменье использовать давление материала сказалось и в работах Микеланджело, который любил брать для работы испорченный кусок мрамора, потому что он давал неожиданные позы его статуэткам, — так сделан Давид. Театральная техника давит на драматурга, и технику Шекспира нельзя понять, не зная устройства шекспировской сцены.
Писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту, вторую, профессию не должен забывать, а должен ею работать; он должен быть кузнецом, или врачом, или астрономом. И эту профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши, когда входишь в литературу.
Я знал одного кузнеца; он принес мне стихи; в этих стихах он дробил молотком чугун рельс. Я ему на это сделал следующие замечания: во-первых, рельсы не куют, а прокатывают; во-вторых, рельсы не чугунные, а стальные; в-третьих, при ковке не дробят, а куют; и, в-четвертых, он сам кузнец и должен сам знать лучше меня. На это он мне ответил: «Великолепно, да ведь это стихи».
Для того чтобы быть поэтом, нужно в стихи втащить свою профессию, потому что произведение искусства начинается со своеобразного отношения к вещам, не старо-литературного отношения к вещам. Создавая литературное произведение, нужно стараться не избежать давления своего времени, а использовать его так, как корабль пользуется парусами. Пока современный писатель будет стараться как можно скорее попасть в писательскую среду, пока он будет уходить от своего производства, до тех пор мы будем заниматься каракулевым овцеводством; а это овцеводство состоит в том, что овцу бьют — она делает выкидыш, и с мертвого ягненка сдирают шкуру.
Самое важное для писателя, который начинает писать, — это иметь собственное отношение к вещам и видеть вещи как неописанные и ставить их в ненаписанное прежде отношение. Очень часто в литературных произведениях рассказывается о том, как иностранец или наивный человек приехал в город и ничего в нем не понимает. Писатель не должен быть этим наивным человеком, но он должен быть человеком, заново видящим вещи.
На самом деле происходит другое: люди не умеют видеть окружающего, поэтому средний современник, начинающий писать, не может написать обыкновенную корреспонденцию в газету; получается, что корреспондент имеет сведения о своей деревне из газеты — он читает газету, использует ее, как анкету, и потом заполняет ее событиями своей деревни; если в анкете события не упоминаются, то он их не ставит; в результате мы не знаем, усиливается кулачество в деревне или нет. Конечно, корреспонденции сейчас с лесопильного, с швейного завода, из Донбасса не отличаются ничем: «Нужно подтянуться, пора поставить вентилятор, и течет крыша».
Я не говорю, что нужно в корреспонденции рассказывать анекдоты. Но не нужно корреспонденту и писателю описывать те же самые вещи, только в обмолвках проговариваясь о реальных вещах. Кроме того, иногда он и не корреспондент и не писатель, а садится за стол и начинает писать роман листов в восемь и потом присылает с запиской, что «может быть, вышло». Конечно, выйти не может потому, что писать роман в восемь листов сразу так же невозможно, как, не смотря ни разу в телескоп, начертить карту звездного неба.
Леонид Андреев много лет проработал судебным корреспондентом в газете. Судебным корреспондентом в газете работал Чехов; Горький работал в газете под псевдонимом. Диккенс работал в газете много лет.
Из современных писателей многие работали в газетах, в типографиях ментранпажами, в мелких журналах и т. д., и т. д.
Настоящая литературная школа состоит в том, чтобы научиться описывать вещи, процессы. Например, очень трудно описать словами, без рисунка, как завязать узел на веревке. Описать вещи точно так, чтобы их можно было представить и только одним способом, тем самым, которым они описаны. И нужно не лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное[405].
Представьте себе, что Буденный захотел бы выслужиться в царской армии, — он бы дослужился до прапорщика; но участвуя вместе с другими в революции и изменяя тактику боя, он сделался Буденным.
Часто бывает, что писатель, работающий в самых, казалось бы, низких отраслях литературы, сам не знает, что он создает большое произведение. Боккаччо, итальянский писатель времен Возрождения, который написал «Декамерон» — собрание рассказов, стыдился этой вещи и даже не сообщил о ней своему другу Петрарке, и в список «Декамерон» не попал. Боккаччо занимался латинскими стихами.
Достоевский не уважал романы, которые писал, а хотел писать другие, и ему казалось, что его романы газетные; он писал в письмах: «Если бы мне платили столько, сколько Тургеневу, я бы не хуже его писал». Но ему не платили столько, и он писал лучше.
Большая литература — это не та литература, которая печатается в толстых журналах, а это литература, которая правильно использует свое время, которая пользуется материалом своего времени.
Положение современного писателя труднее положения писателя прежних времен, потому что старые писатели фактически учились друг у друга. Горький учился у Короленко и очень внимательно учился у Чехова, Мопассан учился у Флобера.
Нашим же современникам учиться не у кого, потому что они попали на завод с брошенными станками и не знают, который станок строгает, который сверлит; поэтому они не учатся часто, а подражают, и хотят написать такую вещь, какая была написана прежде, но только про свое. Это неправильно.
Каждое произведение пишется один раз, и все произведения большие, как «Мертвые души», «Война и мир», «Братья Карамазовы», все они написаны неправильно, не так, как писалось прежде. Они были написаны по другим заданиям, чем те, которые были заданы старым писателям. Эти задания давно прошли, и умерли люди, которые обслуживались этими заданиями, а вещи остались, и то, что было жалобой на современников, обвинением их, как в «Божественной комедии» Данте или в «Бесах» Достоевского, стало литературным произведением, которое могут читать люди, совершенно не заинтересованные в отношениях, создавших вещь.
Литературные произведения не создаются почкованием — так, как низшие животные — тем, что один роман делится на два романа, а создаются от скрещивания разных особей, как у высших животных.
Есть целый ряд писателей, которые стараются взять старые произведения, вытрясти из них имена и события и заменять своими; они пользуются в стихотворениях чужим построением фраз, чужой манерой рифмовать — из этого ничего не выходит — это тупик.
Если вы хотите научиться писать, то прежде всего хорошо знайте свою профессию. Научитесь глазами мастера смотреть на чужую профессию и поймите, как сделаны вещи. Не верьте обычным отношениям к вещам, не верьте привычной целесообразности вещей — это первое.
Второе — научитесь читать, медленно читать произведения автора и понимать: что для чего, как связаны фразы и для чего вставлены отдельные куски. Попробуйте потом из какой-нибудь страницы автора выбросить кусок.
Например, у Толстого описывается сцена между княжной Мари и ее стариком-отцом; во время этой сцены визжит колесо; вот вычеркните это колесо — посмотрите, что получится. Посмотрите, чем можно было заменить это колесо, хорошо ли было бы поставить тут пейзаж за окном, описание дождя или «кто-то прошел по коридору». Сделайтесь сознательным читателем.
Когда писал Пушкин, то его дворянская среда в среднем умела писать стихи, т. е. почти каждый товарищ Пушкина по лицею писал стихи и конкурировал с Пушкиным в альбомах и т. д., т. е. было такое же уменье писать стихи, как у нас сейчас умение читать. Но это не были поэты-профессионалы. В этой среде людей, понимающих технику писания, и мог создаться Пушкин.
Литературный работник не должен избегать ни профессиональной работы вообще, ни занятия каким-нибудь ремеслом, ни газетной корреспондентской работы, причем техника производства везде одна и та же. Нужно научиться писать корреспонденции, хронику, потом статьи, фельетоны, театральные рецензии, бытовой очерк и то, что будет заменять роман; т. е. нужно учиться работать на будущее — на ту форму, которую вы сами должны создать. Обучать же людей просто литературным формам, т. е. уменью решать задачи, а не математике — это значит обкрадывать будущее и создавать пошляков.
ПОД ЗНАКОМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ
КАНОНИЗАТОРЫ
Наконец издан Велимир Хлебников. Вышел первый том его поэм. Все издание будет в трех томах. Книга не только хорошо издана Ленинградским издательством писателей, но даже неплохо идет. Прошло десять лет, и Хлебников получил свою аудиторию.
Примечание к книге сделано академично Степановым и Тыняновым.
Очевидно, дело идет о создании нового классика.
Тынянов в своих теоретических статьях по старой литературе и даже в своих романах умел рассредотачивать писателя, снимать с него лак.
Тынянову удавалось показать связь Тютчева с архаистами, Пушкина с Кюхельбекером, Грибоедова с Катениным и личное понимать как жанровое и групповое[406].
Между тем в статьях о Хлебникове Тынянов начинает «снимать леса» и заниматься обратной работой, работой создания классика, выделения писателя из группы, из жанра.
Говоря о Хлебникове, можно и не говорить о символизме, футуризме, и необязательно говорить о зауми. Потому что до сих пор, поступая так, говорили не о Хлебникове, но об «и Хлебникове»: «Футуризм и Хлебников». «Хлебников и заумь». Редко говорят «Хлебников и Маяковский» (не говорили) и часто говорят «Хлебников и Крученых».
Это оказывается ложным. Во-первых, и футуризм и заумь вовсе не простые величины, а скорее условное название, покрывающее разные явления, лексическое единство, объединяющее разные слова, нечто вроде фамилии, под которой ходят разные родственники и даже однофамильцы.
«Не случайно ведь Хлебников называл себя будетлянином (не футуристом), и не случайно удержалось это слово» (стр. 19).
«Ни в какие школы, ни в какие течения не нужно зачислять этого человека. Поэзия его также неповторима, как поэзия любого поэта» (стр. 30, статья Ю. Тынянова «О Хлебникове», Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. I. Изд-во писателей в Ленинграде, 1928).
Отделение Хлебникова от футуризма — теоретически реакционная работа, она минус для Хлебникова, так как она работа типовая, именно так всегда делают классиков и именно так стремятся окончить литературную группировку.
Андрей Белый в красноречивой книге «Ветер с Кавказа» хвалит меня. Он утверждает, что все у меня жест, пантомима и символ и что я «сплошность весьма содержательных тем», а вина моя в том, что я наплодил седобородых убийственно скучных формалистов.
«Я же люблю натолкнуться на Шкловского; люди мы — разные, но с ним не скучно и просто: он — остр, непредвзят, умен, добр и терпим, хотя силится выглядеть непримиримым; потом — человек без „приема“, без „формы“: он — сплошность весьма содержательных тем; и одно содержанье — всегда интересно: то — „метод формальный“, им выдуманный, потому что анализ приемов, сведенье к приему в нем — жест, пантомима и символ; когда говорит он „прием“, я — не верю: „прием“ — угаданье: его интуиция; „метод формальный“ его нечто вроде известного „психоанализа“; а преступленье его в том, что он, наплодив формалистов, добыл им кафедры: „профессора“ от шкловизма — седы, препочтенны, убийственно скучны» (Андрей Белый «Ветер с Кавказа», изд-во «Федерация», 1928, стр. 180).
Таким образом, Андрей Белый «снимает леса» с Виктора Шкловского и отделяет его от Тынянова и Эйхенбаума так, как Тынянов отделяет Хлебникова от футуристов.
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ХУТОРЯНЕ
Есть еще более печальный случай — в этом году Брик иронизировал над Сергеем Эйзенштейном, который поставил себя вне групп и думал ориентироваться прямо на политическое руководство, художественно додумывая все «собственной гениальной головой».
«Решив, что он сам себе гениальная голова, он решительно отошел от всех своих товарищей по производству, вышел из производственной дисциплины и начал работать, опираясь непосредственно на мировое признание» («Новый Леф», № 4 за 1928, стр. 29, ст. О. Брика «„Октябрь“ Эйзенштейна»).
Сегодня Брик «снимает леса» с Маяковского. Маяковский уже готов, и Леф может вырваться из клетки лесов.
На диспуте в АРКе о кризисе советской кинематографии Рафес[407] укоризненно говорил, что Эйзенштейн считает себя ответственным непосредственно перед ЦК ВКП.
Маяковский более скромен — в своей афише «Левее Лефа» в пункте — Семь или 2 миллиона — он противопоставляет группе Леф ВЛКСМ. Это одно и то же, Эйзенштейн только последовательней, и здесь есть только самодеятельность — люди сами себя изолируют. В основе эта замена художественной группировки непосредственным обращением к политическому руководству является всего только крайним индивидуализмом, отсутствием понимания коллективности творчества.
Партия никогда не предлагала себя и никогда не брала на себя роль руководительницы художественного творчества непосредственно. Вся работа партии сводилась к поддержке и руководству группировок. Здесь просто были перенесены на искусство правильно понятые и для искусства обязательные принципы коллективизма. Человек входит в партию не непосредственно, а через свою ячейку, через маленький рабочий коллектив, перед которым он отвечает. Человек, который хотел бы входить в партию через Коминтерн непосредственно, болен индивидуализмом, у него всего-навсего психология швейцарского средневекового крестьянина, который считает свой участок земли леном, данным от императора, это психология картофелины, которая понимает как объединение только мешок.
Отрицание литературных коллективов, литературной групповой работы, выделение одного себя, под чьим бы протекторатом оно ни происходило, — это повторение старой песни о классике.
Очень жалко, что вещи гениального писателя Хлебникова вышли под этим знаком выделения и очень симптоматично, что превосходно мыслящий Тынянов в своей работе над современностью сделал обратное тому, что он делает в работе над историей.
Очень симптоматично, что трезвый Брик не сумел применить к себе и Маяковскому то, что он так резко, таким высоким голосом сказал про Эйзенштейна.
Если старая группировка отжила свой век — значит рождается новая группировка, потому что люди должны работать и думать вместе.
О САМОМ ЗНАМЕНИТОМ ПИСАТЕЛЕ
Бывают пятистишия, из которых знаешь две строки, какой-то отрывок отрывка. И сама распространенность таких изречений пересекает попытку их анализировать.
Для меня совершенно загадочно пятистишие, которое печаталось в правом углу изданий литературно-издательского отдела Комиссариата народного просвещения.
Вот это стихотворение:
…Придет ли времячко, Когда мужик не Блюхера И не Милорда глупого, Белинского и Гоголя С базара понесет. Н. А. Некрасов.Я честно признаюсь, что не знаю точно, кто этот Блюхер, которого не нужно таскать с базара? Кажется, это автор так называемых народных комедий.
Что же касается Милорда глупого, то это, очевидно, Георг, английский милорд. Таскают его с базара уже больше ста лет. А для того чтобы его не таскали, нужно, конечно, прежде всего узнать, что это за товар и чем его можно заменить. Приключения Георга, английского милорда, написаны Комаровым, московским жителем[408].
Комаров был писателем конца XVIII века. В биографических словарях его обыкновенно нет. В словаре Новикова, в том экземпляре, который находится в Ленинской библиотеке, имя Комарова вписано в число русских писателей рукой Николая Полевого. Трудность отыскания Комарова увеличивается тем, что он подписывался Камаров. И его, конечно, везде исправляли. Вся биография о Комарове исчерпывается двумя-тремя упоминаниями.
Приведу из них одно, самое длинное:
«Комаров, Матвей, писатель XVIII века. Обстоятельства жизни его неизвестны; по одному объявлению о его книгах в „Московских ведомостях“ за 1783 год, № 7, видно, что он был „служителем в доме г-жи Эйхлер“, но какого рода была его служба — неизвестно; сам он называл себя в предисловиях „жителем города Москвы“. Первое печатное его произведение: 1) „Письмо к князю А. В. Хованскому“ (М., 1771). Затем им изданы 2) „Обстоятельные и верные истории двух мошенников… Ваньки Каина и… Картуша“ (СПб., 1779, 1791, 1793, 1794; М., 1781); 3) „Повесть о приключениях Английского Милорда Георга“ (П., 1782 — затем выдержала до 30 изданий); 4) „Описание тринадцати старинных свадеб великих князей и государей“ (М., 1785); 5) „Старинные письма китайского императора к российскому государю“ (М., 1787); 6) „Невидимки, история о Фецком Королевиче“ (М., 1789); 7) „Разные письменные материи, собранные М. Комаровым“ (М., 1791). Все произведения М. Комарова очень невысокого достоинства, но они вполне пришлись по вкусу малообразованных и неразвитых читателей и выдержали массу изданий. Можно даже сомневаться, был ли М. Комаров автором, по крайней мере, всех известных под его именем произведений или только являлся их издателем, переработав несколько старинных, анонимных повестей и при этом удачно приспособив их ко вкусам известного круга читателей: по крайней мере „История об Английском Милорде“ была довольно значительно распространена в рукописях уже в середине XVIII века; собственные имена в печатном издании оказываются измененными, сравнительно с рукописями» (стр. 96).
Русский биографический словарь. СПб., 1903. 8 т.
Справка Геннади не точная. В ней не перечислены несколько вещей Комарова; что же касается ее резкого тона и выговоров, которые в ней даются Комарову, то это объясняется тем, что Матвей Комаров был в представлении автора живым писателем. С ним как с представителем лубочной литературы все еще боролись, и поэтому людям было не до справедливости. Судить же Комарова по меркам литературы конца XIX века, конечно, неправильно.
Лучше отозвался о Комарове Белинский:
«Счастье слепо. Сколько поколений в России начало свое чтение, свое занятие литературой с „Английского Милорда“. Одни из сих людей пошли дальше и — неблагодарные — смеются над ним, а другие теперь еще читают его и почитывают».
Белинский хотел специально написать о Комарове — и называл его «прелюбопытнейшим в мире человеком».
Лев Николаевич Толстой любил спрашивать:
— Кто самый известный русский писатель?
И на ответ — Лев Толстой — отвечал:
— Нет. Матвей Комаров.
Мнение о Матвее Комарове, как о писателе низкого пошиба, писателе бездарном, совершенно неправильно. Бездарная книга не выдержала бы нескольких десятков изданий. Нужно отметить, что последнее издание «Английского Милорда» вышло уже при советской власти. Кроме беллетристических книг, Комаров имел, так сказать, книги научные, например «Описание тринадцати русских свадеб» и «Старинные письма китайского императора к русскому государю». Книги эти по уровню своему не ниже современной литературы.
Лев Николаевич Толстой не объяснял успех Комарова случайностью. Он называл свои народные рассказы «Мои милорды» и даже возил книги Комарова с собой в поездки. Других исследователей, кроме Толстого, Комаров не имел. В очерках из истории русского романа Сиповский, правда, дал пересказы главнейших произведений Комарова, но свести их вместе Сиповскому не удалось.
Кто такой был Комаров, можно установить с большей точностью, чем это проделал Геннади.
Он был услужающий графов Зотовых, и посвящения его адресованы целому ряду преемников имущества Зотовых.
Приведу, например, титул и часть предисловия одной из первых комаровских книг:
Старинные письма
китайского императора
к российскому государю,
писанные от нынешнего времени слишком за 150 лет, найдены между оставшими письмами после покойного графа Никиты Моисеевича Зотова, который, по известию верных российских писателей, был у государя императора Петра Великого учителем; а ныне изданы в печать бывшим у его наследников служителем М. К. в Москве типографии Пономарева 1787, стр. 24.
Сиятельнейший князь
милостивый государь!
Вашему сиятельству известно, что я в прошедшем 1785 году издал в печать книжку о старинных царских свадьбах, которая от меня посвящена была ее превосходительству любезной вашей бабушке Анне Логиновне Эйхлеровой; но к неописанному моему огорчению за кончиною ее не имел я счастия вручить оную ее превосходительству; однако же по крайней мере за счастие почитаю, что я тем исполнил долг моей благодарности, потому что через то почтенное ее имя останется у будущих потомков в незабвенной памяти.
Таким образом мы как будто имеем уже поколение одной семьи, при которой состоял Комаров. В одном из посвящений М. Комаров называет себя «всепокорнейший раб». Производит впечатление, что он был или крепостным, или во всяком случае клиентом дома. Судя по Ваньке Каину, Матвею Комарову приходилось ходить по судебным делам. Одновременно, как это мы знаем из одной заметки «Московских ведомостей», Комаров был дворником или управляющим одного дома на Моховой. Дом этот находился в книжном центре тогдашней Москвы. Справа были книжные лари Охотного Ряда, а сзади был мост через Москву-реку. На мосту этом торговали лубками.
Вещи Комарова переиздавались много раз. Если смотреть читательские надписи на его книгах, то видно, что обращались вещи московского жителя среди мещан и «купеческих сыновей».
Сам Комаров хорошо знал своего читателя.
Вот что он пишет в предисловии к своей книге «Невидимка».
Благосклонные читатели!
Я думаю, вы довольно уже известны, что чтение книг вошло у нас в великое употребление; ибо ныне не только просвещенное науками благородное общество, но и всякого звания люди с великою охотой в том упражняются; чего ради и выходит в публику немалое количество разного сочинения книг, наполненных или нравоучениями, или служащих для увеселения и препровождения от скуки праздного времени, которые охотно читают и самые поселяне, обучившиеся грамоте, которых ныне очень уж довольно.
А что чтение книг просвещает человеческий разум, тому, я думаю, ни один здраво рассуждающий человек противоречить не может.
Я сам, находясь в числе низкого состояния людей и не будучи обучен никаким наукам, кроме только одной русской грамоте, по врожденной склонности моей, с самого моего младолетия упражнялся в чтении книг, сперва церковных, а потом и светских, отчего и пришло мне на мысль, не могу ли я слабым моим пером оказать простолюдинам хотя малейшую услугу, и для того, а особливо чтоб не препроводить время моей жизни в праздности, сделал я первый в том опыт, сочинивши письмо стихами. А потом упражняясь час-от-часу более, издал в печать описание тринадцати старинных царских свадеб; повесть о приключениях Английского Милорда Георга; обстоятельное описание жизни славного российского мошенника Ваньки Каина, которое напечатано в одной книге с историею французского мошенника Картуша, и старинные письма китайского императора к российскому государю, что все от почтенных наших сограждан благосклонно принято, ободрен будучи сим снисхождением, принял я намерение для любителей чтения таких простых сказок услужить им еще и сею повестью, которую писал я простым русским слогом, не употребляя никакого риторического красноречия, чтоб чтение оной всякого звания люди могли пользоваться.
О! есть ли бы успех с усердием сравнялся, С каким стараюсь я о пользе общих дел, Давно б читатель мне, давно бы удивлялся; Но силам положен другой моим предел. Всяк шествует своей на свете сем дорогой, Сие предписано судьбиною нам строгой. Когда ж то выше сил, к чему мой дух пристрастен, То счастливым себя я буду почитать, Когда в читателях не буду я несчастен, Чтоб благосклонно труд могли они принять. Матвей Комаров, житель царствующего града Москвы.Литературный успех не устроил Комарова материально. На одной из книг, хранящихся в Ленинградской библиотеке, есть запись, вероятно, собственноручно комаровская, о том, что автор сей книги ищет места у купца по письменной части.
Матвей Комаров — писатель, факт существования которого перестраивает наше представление о литературе XVIII века.
Это писатель прежде всего массовый, и в своих предисловиях Комаров это отчетливо намечает, говоря о том, что он пишет для купечества и простого народа.
Любопытно, что это влияет на словарь Комарова и на его отношение к тогдашним литературным движениям.
Комаров пишет замечательно простым и ясным русским языком. О теории высокого, среднего и низкого стиля Комаров заявляет, что спор об этих штилях его не касается.
Иностранные слова, встречающиеся у Комарова, и название богов объясняются и переводятся, и эти примечания представляют собой характерную особенность «Милорда».
На основании этого признака я склонен, например, думать, что так называемые «Крестьянские сказки» тоже имеют своим автором Комарова.
Для того чтобы кончить биографию Комарова, скажу, что он был убит уже глубоким стариком в 1812 году в Москве французами.
Авторство Комарова — вещь чрезвычайно интересная для выяснения вопроса о возникновении профессионального писателя в России и вообще для выяснения вопроса об усвоении русской литературой иностранных художественных форм.
Работу свою Комаров начинает с публикаций, т. е. с изданий документов и с поздравительных писем.
Дальше роль его все время колеблется между авторством, компиляцией и, может быть, переводом. Эта сбивчивость представления об авторстве характерна для всего XVIII века.
Федор Эмин[409] подписывал переводные вещи как оригинальные. Иногда в отношениях между автором и переводчиком чувствуется какое-то странное для нас раздражение.
Например, «Зеркало для всех», изданное в Калуге в 1795 году, имеет такую странную заметку: «Переведена с того языка, на котором писана».
«Английский Милорд» представляет сложную контаминацию влияний романа приключений и сказок «Тысяча одной ночи», причем разным героям прикреплена разная литературная традиция.
В самом Комарове мы видим возникновение местных литературных форм сперва путем маскирования иностранной формы, потом введением местных форм в противовес иностранным.
«Ванька Каин» ощущается Комаровым на фоне «Картуша», и, наконец, литературная форма со своими инерционными моментами переключается на местный материал и возникает то, что можно условно назвать литературой данного народа.
Колебания состава книги чрезвычайно характерны для этого времени. Первое издание «Похождений нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута Совест-Драла Большого Носа» отличается от второго по объему почти вдвое. Это развертывание совершалось самым простым образом. В книгу о бельгийско-польском шуте вставлялись куски с такими мотивировками: «По сходности мысли песнь сия выписана из российских сочинений».
Литературные формы еще не имели своего хозяина, представление о герое иное, чем у нас, и поэтому «Приключения Никанора» (анонимный роман XVIII века) в нашем представлении должны бы принадлежать нескольким совершенно разно живущим людям.
Матвей Комаров — писатель традиционнейший, и изучение его выясняет нам общий арсенал литературного оружия его эпохи. И конечно, изучая его, мы должны его изучать методами специфическими и не упрекать его за то, что он не писатель нашего типа.
Только тогда мы объясним законы литературной эволюции и поймем четверостишие Некрасова.
Блюхер же не автор, а генерал; речь идет о его портрете, но так как конец четверостишия упоминает двух авторов, а не одного, то Блюхер (прусский генерал) воспринимается как автор.
Синтаксический параллелизм настолько силен, что Блюхера как автора, на мой вопрос о нем, хотели вспомнить несколько квалифицированных историков литературы, привлекая безызвестного автора слезливых комедий.
КИТОВЫЕ МЕЛИ И ФАРВАТЕРЫ
ДЕНЬ СМЕРТИ КЛАРИССЫ ГАРЛОВ
Мы убеждены, что инерция вчерашнего дня кончена. «Новый мир» и «Красная новь» не существуют, а только печатаются.
Мы представляем себе историю литературы не в виде непрерывной цепи, а в виде борьбы и вытеснения отдельных линий.
Леф отрицает современную, т. е. печатающуюся сейчас, прозу.
Мы знаем, насколько мало места занимает беллетристика в наше время.
В свое время, когда Ричардсон заканчивал «Клариссу Гарлов», читатели ждали в соседней комнате, ждали долго и обсуждали вопрос, умрет ли Кларисса? Были приняты меры к спасению Клариссы. Один человек угрожал Ричардсону, что если Кларисса умрет, то он изобьет сочинителя, так как невеста его сильно огорчается клариссиной судьбой.
Через несколько часов, потупив голову и не отвечая ни на один из вопросов, Ричардсон вышел из двери и посредине комнаты поднял руку вверх: «Она там»! — произнес он неподдельно грустным голосом, и вся компания погрузилась в печальные размышления. Двор был немедленно извещен о печальном событии. Эта заинтересованность в романе давно пережита.
Организм читателя вакцинизирован вымыслом. Интерес к сюжету, к судьбе героя упал настолько, что Алексей Максимович Горький печатает свой роман «Клим Самгин» сразу в двух журналах, причем в одном идет начало, а в другом — конец.
Так можно перевозить только мертвое, мороженое, разрубленное на части мясо.
В 1906 году Л. Толстой писал Ив. Наживину:
«…Роман, вероятно, много мешал вам, и я рад, что вы его кончили. Я давно уже думал, что эта форма отжила, не вообще отжила, а отжила, как нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я описывать гостиную, закат солнца и т. п.
Как забава, не вредная для себя и других, — да. Я люблю эту забаву. Но прежде на это смотрел как на что-то важное. Это кончилось» (Ив. Наживин «Из жизни Л. Н. Толстого». Письма, стр. 139).
Роман существует, но существует, как свет угасшей звезды. И в то же время на стеклах библиотек Ленинграда появилось объявление: «Здесь можно получать беллетристику и мемуары». Никогда еще, а только сейчас, во время нами предсказанное, не существовали одновременно на рынке мемуары Щепкина, Анненкова, Вигеля, Вульфа, Сушковой; они еще недавно были библиографической редкостью. Панаева со своими воспоминаниями читается лучше, чем романы Шолохова, несмотря на то что к книгам Панаевой не прилагаются никакие премии. Писатели воскресают заново, и происходят изумительные вещи, когда на рынке полное собрание сочинений Панаева, вышедшее давно, стоит дешевле, чем его воспоминания, которые можно прочесть в том же собрании сочинений. Когда воспоминания Григоровича идут хорошо, хотя и изданы дорого, а собрания сочинений Григоровича — груз для букиниста. Умирающий роман опытен.
Читая романы «Красной нови», видишь, как толково танцуют современные беллетристы и как они хорошо знают способы заставить романную куклу говорить «папа» и «мама».
НАТУРЩИКИ ПРОТЕСТУЮТ
Беллетристика умных не удовольствуется этим. Она движется в сторону опубликования материала, она переключается на новую сторону, и вот начинается спор автора и натурщика. Когда-то петрашевец Ахшарумов, которого Добролюбов считал соперником Достоевского, когда-то Ахшарумов написал роман «Натурщица». В этом романе выдуманная женщина судом протестует против судьбы, которую ей приписал автор. Выдуманные люди оживали в старой беллетристике, жили семьями и производили друг друга. Онегин родил Печорина, Печорин родил Тамарина и так далее, и так далее.
Сейчас беллетристы крадут человеческие судьбы, и натурщики уже живые, уже с фамилиями протестуют — они говорят, что именованные числа нельзя ни делить, ни складывать. Дегтярев протестует против Всеволода Иванова, который использовал мемуары для своей «Гибели Железной». Мемуарист чувствует себя автором, а не инертным материалом.
Сюжетное оформление перестало являться признаком авторства и свойством, таинственно превращающим нечто в искусство. Писатели, начавшие безматериально, люди типа Каверина и Вагинова перешли к памфлетным мемуарным романам.
Они делают ошибку, потому что нельзя пририсовывать птичьи ноги к лошади — птичьи ноги можно пририсовывать только к дракону, потому что дракона не существует.
Л. ТОЛСТОЙ НА КИТОВОЙ МЕЛИ
Я не думаю, что время остановится и что подробности навсегда вытеснили генерализацию, но я убежден, что новые беллетристы, считающие себя потомками классиков, на самом деле рождены только инерцией типографских форм.
Когда-то Хлебников называл партер китовой мелью. Китовая мель Большого театра в толстовские дни пустовала.
В пушкинские дни от речи Достоевского падали в обморок люди, и Глеб Успенский должен был бороться с праздником, как с живым событием, утверждая, что речь Достоевского имеет не всечеловеческое, а всезаячье значение.
Автор нескольких незаконченных произведений Сакулин не мог заполнить пустоты зева сцены Большого театра. Шацкий читал о педагогике, было очень скучно. Китовая мель населилась мелкой рыбой.
Может быть, где-нибудь у баптистов по внелитературной линии мог сейчас существовать юбилей Толстого.
Такого отсутствия заинтересованности, такой обреченности юбилея нельзя было себе представить.
И слухи о чтении трудовой интеллигенцией стихов над могилой Толстого и пении школьников — все это зевает, как зал Большого театра.
СПОР О Ю. ТЫНЯНОВЕ И БЕЛИНСКОМ
Покровительственная полоса и протекционные тарифы, введенные на беллетристику, конечно, поддерживают ее производство. Олитературивается этнографический очерк Пришвина и исследовательские работы Юрия Тынянова.
Юрий Тынянов замечателен своими исследовательскими работами над архаистами. Ему удалось понять судьбу Тютчева, Тынянов ввел в историю литературы понятие соотнесенности, возникновение литературной формы на фоне другой литературной формы.
Он, так сказать, расширил понятие пародии и снял с нее снижающее значение.
Сам Тынянов любит изречение Галича о том, что «пашквиль это высокий жанр». Юрий Тынянов занимается противопоставленной литературой, той, которая называется архаизм. Его линия идет на Кюхельбекера, Катенина, Грибоедова, Хлебникова. Кюхельбекер еще не напечатан, его тетради лежат в Публичной библиотеке трогательной горкой.
Не жалостливый Л. Толстой — и то был тронут этой судьбой.
Тынянов был в университете совершенно отдельным человеком. Он сидел в семинарии Венгерова иностранцем.
Есть трагедия в том, что список людей, произведенных Белинским в классики, что список этот (как показал Иван Розанов в своей интересной и компромиссной книге «Литературные репутации») сделался списком книг, проходимых в учебных заведениях министерства народного просвещения.
Эта трагедия продолжается и сейчас. Когда нас упрекают именем Белинского, нас упрекают именем правительственных гимназий.
Тынянов сидел на семинарии, отделенный от учеников Венгерова и Белинского, от либеральных гимназистов. Его исследовательская работа о Кюхельбекере, спор с Пушкиным об изобретательстве сгорел.
В свое время борясь с налоговой политикой, обкладывающей корабли налогами сообразно с шириною палубы и высотою от киля до нее, кораблестроители выпятили борта галиотов.
Юрию Тынянову пришлось вместо исследования о Кюхельбекере написать «снижающий роман», споря о судьбе Пушкина, решая в этом споре наши собственные споры.
В процессе работы исчезла ее первоначальная каузальность, исчезла пародийность и получилась читаемая книга — не биографический роман, а роман исследования. Я считаю «Смерть Вазир-Мухтара» лучшей книгой, чем «Кюхля».
В «Вазир-Мухтаре» заново решается вопрос о Грибоедове. Еще больше отпала пародийность. Отдельные куски материала, набранного по строкам, организуют магнитное поле, создавая новые ощущения.
Для того чтобы понять разницу между вещами Тынянова и обычным романом, достаточно посмотреть работы Ольги Форш.
Ольга Форш изучает биографию Гоголя, затем берет те дни жизни его, про которые не сохранилось никаких известий, и в них вписывает роман, т. е. она работает методом впечатывания. В обычном историческом романе это внесение шло по линии ввода выдуманного героя — Юрий Милославский у Загоскина, Мариорица у Лажечникова.
Тынянов работает методом сталкивания материала и выделения нового материала.
Новая проза существует сейчас, конечно, не только как проза историческая, но нужно помнить, что все коренные эпохи всегда поднимали спор о наследстве, о том, что можно принять в прошлом и те книги, которые мы сейчас пишем про историю, — это книги про настоящее, потому что занятие историей, кажется, это говорил Борис Эйхенбаум, — это один из методов изучения современности.
О ПИЛЬНЯКЕ
Л. Д. Троцкий говорит о Пильняке следующее:
«Пильняк бессюжетен именно из боязни эпизодичности. Собственно, у него есть наметка даже двух, трех и более сюжетов, которые вкривь и вкось продергиваются сквозь ткань повествования: но только наметка, и притом без того центрального, осевого значения, которое вообще принадлежит сюжету. Пильняк хочет показать нынешнюю жизнь в ее связи и движении, захватывает и так, и этак, делая в разных местах поперечные и продольные разрезы, потому что она везде не та, что была. Сюжеты, вернее сюжетные возможности, которые у него пересекаются, суть только наудачу взятые образцы жизни, ныне заметим, несравненно более сюжетной, чем когда-либо. Но осью служат Пильняку не эти эпизодические, иногда анекдотические сюжеты… А что же? Здесь камень преткновения. Невидимой осью (земная ось тоже невидима) должна бы служить сама революция, вокруг которой и вертится в конец развороченный и хаотически перестраивающийся быт» (Л. Троцкий «Литература и Революция», стр. 57).
Я согласен с описательной частью этого отрывка, но должен прежде всего установить терминологию. К сожалению, Л. Д. Троцкий этого не делает и употребляет слово сюжет, не сговорившись о его значении.
У Пильняка отдельная линия произведения, сама по себе, часто и не образует сюжета, т. е. она — не разрешение.
Сюжет не нужно смешивать с фабулой, т. е. с «содержанием», с тем, что рассказывается в вещи.
Сюжет характерен прежде всего как особого рода композиционная форма, работающая со смысловым материалом.
Очень часто этим материалом бывают бытовые положения.
Я не настаиваю на своей терминологии, но считаю удобным работать с ней, а не с бесформенными «обычными», никем не проверенными привычными словами.
В литературном произведении обычно используются не самые бытовые величины, а их противоречия. Например, в греческой драме столкновение идей патриархата и матриархата и т. д. Наша жизнь сейчас не сюжетна, фабульна, это не игра словами.
Называть какую бы то ни было жизнь сюжетной, значит, не сознавая того, воспринимать ее эстетически и проецировать в нее наши эстетические навыки.
Не нужно указывать писателям вокруг чего, вокруг какой невидимой оси должно вращаться их творчество. Менее всего годны для указания на них предметы невидимые.
У Пильняка его разбросанная конструкция не объясняется желанием исчерпать всю революцию, это не верно, так как эти куски не современны.
Причина особенности конструкции Пильняка — глубокие изменения, сейчас происходящие в русском сюжете.
И сюжет у него заменен, путем связи частей, через повторения одних и тех же кусков, становящихся протекающими образами.
Эти связи очень приблизительны и скорее сигнализируют единство вещи, чем ее дают.
«Ну, так вот. Вопрос один, — по-достоевски, — вопросик: тот дежурный с „Разъезда Мар“ не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным, — и иначе: Глеб Ордынин и Андрей Волкович не были ли тем человеком, что сгорел последним румянцем чахотки. — Этакими русскими нашими Иванушками-дурачками, Иванами-царевичами.
Темен, этот третий, отрывок триптиха».
Это «отрывок из „Голого года“» Бориса Пильняка («Голый год», изд. Круг, 1923, стр. 168).
В тексте указания на какие-нибудь особенности дежурного или «человека в вагоне» не даны. Их действительно можно переставить. Они могут носить любое имя из книги. Сам отрывок (описание поезда мешочников) ввязан в роман тем, что «Разъезд Мар» несколько раз мельком до этой главы упоминался в тексте (стр. 142).
Основная особенность построений Б. Пильняка — их сборность, в них мы можем как будто проследить процесс образования романа.
В приведенном в начале отрывке он предлагает нам ввязать отрывок в роман путем «единства героя», но не настаивает на этом единстве.
В «Голый год» вошли большими кусками новеллы из первой книги Пильняка «Быльё».
Я в этом Пильняка не обвиняю, а просто указываю на факт.
Вошли они «в роман» не расшитыми на эпизоды, а сохраняя внутреннюю свою организацию.
Роман Пильняка — сожительство нескольких новелл. Можно разобрать два романа и склеить из них третий.
Пильняк иногда так и делает. Для Пильняка основной интерес построения вещей состоит в фактической значимости отдельных кусков и в способе их склеивания.
Поэтому Пильняк так любит нагромождать материал: сообщить историю римского публичного дома, делать цитаты из масонских книг, из современных писателей, вставлять в книгу современные анекдоты и т. д.
Факт для отдельного отрывка Пильняку нужен «газетный» — значимый, если он дает просто отдельный сюжетный момент, то приводит его как цитату, используя литературную традицию.
«Дом Ордынина» в «Голом годе» дан в традиции умирания купеческо-дворянского дома, традиционен младший сын, художник, читается все это как много раз читанное. Вспоминается все — до Рукавишникова включительно[410]. В поздней вещи «Третья столица» одна из героинь Лиза Калитина, «девушка, как березовая горечь в июне рассвета», самым своим именем дает нам тургеневскую традицию.
Традиционность «Дома Ордыниных» у Пильняка вероятно вышла невольно, просто потому, что он не оригинальный мастер, — традиционность Лизы Калитиной уже явно осознана, автор заменяет обрисовку героя ссылкой на прежде созданные вещи.
Англичанин путешественник «Третьей столицы» восходит к капитану Гаттерасу Жюля Верна.
Наиболее сильный из кусков Пильняка: кусочки — быта 1918–1920 годов, в этих записях невероятного времени, интересного уже самого по себе, материал выручает писателя.
Иногда Пильняк оживляет свой материал прямым введением в него анекдотов, даваемых прямо под номерами 1). 2). 3). 4). 5). 6). Анекдоты эти ходовые, общие, в последних вещах Пильняка он вставляет их один за другим; не пряча, а обнажая прием.
Можно сказать даже, что Пильняк канонизировал случайную манеру своей первой вещи «Голого года», создавая вещи из явно рассыпающихся кусков. Для связи частей Пильняк широко пользуется параллелизмом, параллели эти держатся на очень примитивной идеологии, на утверждении, что Россия — Азия, а революция — бунт.
Внося распирающие во все стороны куски под один композиционный обруч, Пильняк должен делать натяжки и часто срывается с бытовой мотивировки. В «Голом годе» есть линия мужицкого бунта и описание деревни, есть и линия о большевиках.
«Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого обтянуты скулы, складки у губ, движения каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор».
Среди них один из «героев» Пильняка Архип Архипов. Здесь мне придется сослаться на Льва Давидовича Троцкого, чрезвычайно точно указавшего на характер одного пильняковского приема.
Архипов «бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривая так: контантировать, энегрично, литефонограмма, функцировать, буждет, — русское слово: могут — выговаривал: магýть. В кожаной куртке, с бородой как у Пугачева». Эта борода Пильняку понадобилась для того, чтобы связать Архипова с деревней, с Пугачевым. Но Троцкий, отмечая смысловую значимость этой бороды, тут же пишет: «мы Архиповых знаем, они бреются».
Действительно «Архиповы» бреются.
Не помогает даже, что Пильняк вводит (обычный прием) эту бороду сперва вскользь («и борода чуть-чуть всклокочена»). Обычно появляющийся после таких боковых упоминаний предмет кажется закономерным, но здесь борода к Архипову не приклеивается.
Синтеза не получается.
Синтеза у Пильняка не получается вообще, прием его чисто внешний, он «невнятица», и, несмотря на внешнее использование в вещах многих форм современной русской прозы, вещи по существу остаются элементарными.
За композиционным сумбуром автор намекает на какое-то смысловое его разрешение.
Между тем разрешения этого нет (и быть не может), художественной же формы не получается.
Модернизм формы Пильняка чисто внешний, очень удобный для копирования, сам же он писатель не густой, не насыщенный.
Элементарность основного приема делает Пильняка легко копируемым, чем вероятно объясняется его заразительность для молодых писателей.
Пильняковский способ писания спекулирует на невозможности для читателя разделить конструкцию. Между тем эта конструкция элементарна и если ее показать, то вся вещь начнет спадать как прорванная.
Слияние отдельных кадров (снимков), видимых на экране кинематографа по современным работам, является фактом не физиологическим, а психологическим. Мы употребляем некоторое усилие, чтобы сливать отдельные картины, наше сознание представляет смену объектов, как постепенное изменение одного и того же объекта.
Прерывистый ряд оно обращает в непрерывный. Если все увеличивать интервалы между отдельными кадрами и делать их все более отличными друг от друга, то мы все же будем видеть непрерывный движущийся объект, но начнем чувствовать дурноту и головокружение.
Дело может кончиться обмороком.
Пильняк использует явление, близкое к этому.
Андрей Белый как-то сказал мне, что на него вещи Пильняка производят впечатление картины, на которую не знаешь, с какого расстояния смотреть.
Здесь правильно указано на состояние напряжения, которое возникает в результате чтения Пильняка. Ощущение это проходит, когда узнаешь основу построения.
Но нужно указать на заслугу Пильняка. Она состоит в том, что он осознал и использовал несвязанность своего письма. Читая один отрывок, мы воспринимаем его все время на фоне другого. Нам дана ориентация на связь, мы пытаемся осмыслить эту связь, и это изменяет восприятие отрывка.
К сожалению, сами же идеи, которыми Пильняк связывает куски конструкции, слишком механичны, слишком ярко оказываются оговорками, словесным сведением концов.
Для увеличения напряженности чтения Пильняк пользуется различными типами «невнятицы».
Так, например, употребляя традиционные переходы от одной линии повествования к другой, он часто не упоминает, в какую линию ты попал, не озаглавливает ее.
Любопытно проследить, как изменяется восприятие вещей Пильняка благодаря введению в них несводимого параллелизма.
Есть у Пильняка вещь «Его Величество Kneeb Piter Komandor» — это про Петра Первого.
Вещь традиционная и очень плохая. Ю. Тынянов совершенно правильно сопоставил ее с вещами Д. С. Мережковского. И у Пильняка, как у покойного романиста (ныне Мережковский романов не пишет), дана параллель: Петр и раскольники, причем бегают обе части параллели с надписями и говорят декларациями. Конечно, введен другой эмоциональный тон, который сделан главным образом путем употребления слов, прежде запрещенных, «блядюжка, блюет», и договариванием сексуальных моментов до конца. Иногда в этих подробностях Пильняк забавно провирается, он пишет «…по дряблым губам (Петра) побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки, и, на бегу закидывая ей юбки и раздирая на ногах белье…»
Должно быть это очень страшно, но нижнего белья на ногах дамы при Петре, да еще в России, не носили, да еще лет сто после рвать белье на ногах Петру не нужно было, а нужно было это написать писателю Пильняку, нужно потому, что введение в вещь образов, прежде бывших под запретом, первое время производит резкое впечатление. До Пильняка вдосталь этим воспользовались имажинисты.
Несмотря на то что в пильняковской повести, как на картинке для изучения новых языков, все происходит (и сеют, и косят) в один момент и весь петровский материал использован в 20 минут, повесть ниже посредственности.
Пильняк пишет еще одну повесть «Санкт-Питер-Бурх».
В ней он ведет сразу пять линий: Петр и основание города, красноармеец, китаец, беглый белогвардеец и следователь Чека и инженер-националист.
Точнее определить так: 1) Россия XVIII века, 2) Китай XX века и 3) Россия XX века, причем в последнем разряде три линии.
Связь этих линий дана, как обычно у Пильняка, путем: 1) сперва повторения одной и той же фразы из одной линии в другую, 2) сведением сюжетных линий в конце.
Повторяется фраза «столетия ложатся степенно колодами (карт)» дана на стр. 81 в применении к китайцу-красноармейцу, на стр. 82 в применении в Петру Первому, а стр. 85 опять применяется к китайцу. У инженера оказываются на квартире китайские «ходи», повторяется фраза «Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою».
Фразы из одной части повести переносятся в другую уже как изречение, в кавычках. Например, так переносится фраза «мальчик — за все свое детство — не видел ни одного дерева, ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов».
Фраза эта: «тема» китайца, попадая в описание «Санкт-Питер-Бурха» (в кавычках), означает сведение двух линий.
Китаец попал в Ленинград и обрабатывал в нем землю.
«А если бы в тот вечер, — циркулем на треть земного шара, а треть земного шара шагнула на восток, через Туркестан, Алатау, Гоби, — то там, в Китае в Пекине (Иван Иванович был братом!) — Пекине, в Китае…
Белогвардеец, дворянин, офицер императорской армии, эмигрант, Петр Иванович Иванов… и т. д.» (стр. 102).
«Циркулем» и одновременностью действия, а также самым фактом перемещения, китаец связан с русским белогвардейцем, связь которого со следователем Иван Ивановичем Ивановым подчеркнута фразой в скобках (Иван Иванович был братом).
Сама же вещь состоит из Петра Первого по-Мережковскому (точно такого, как в первой разбираемой повести), из следователя, взятого из Петербурга Андрея Белого, следователь «боится пространства» (как Аблеухов), к нему приходит «Каменный гость», т. е., конечно, слезший по воле Андрея Белого с коня Медный Всадник (смотри «Петербург») и из Пильняком написанных кусков, о китайце-красноармейце и русском в Китае.
Все это раскладывается степенно, как карты, долго не сводится одно с другими и все это вместе и есть Пильняк.
«Санкт-Питер-Бурх» — сравнительно сложный пасьянс, разберем другие две вещи Пильняка: «Голый год» и «Третью столицу».
«Голый год» распадается на несколько кусков, связанных между собой повторениями фраз, общим проходящим «припевом» метели (из Андрея Белого) и участием героев одного отрывка в другом.
Последним меньше всего.
Вступление начинается с описания судьбы Доната Ратчина, но эта линия обрывается.
«Город Ордынин и Таежевские заводы — рядом и за тысячу верст отовсюду — Донат Ратчин — убит белыми: о нем все» (стр. 27).
Поэтому роль обрамляющей новеллы играет не его судьба, а повторение одного описания — описания Китай-города.
Описание введено сперва в судьбу Доната как отрывок «из его бродяжеств» (стр. 25). Не привожу его целиком, так как оно длинно (25–26 стр.).
Китай-город дан как «Китаец» с глазами, как «Солдатские пуговицы», «китаец» ползет на завод.
Описание это целиком повторено на стр. 173–175: Китай и выполз из Ильинки, смолол Ильинку — он как будто наступление Азии на Россию.
На самом деле строй вещи еще схематичнее и отдельные части ее еще менее связаны между собой. Кроме сопоставления Ильинка — Китай и Китай — завод, есть противопоставление: деревня — Европа — город. Причем деревня — не «Китай», а деревня — просто деревня из «Былья».
Это не новая часть строения вещи, а еще один включенный в нее кусок, от усилия ввязать ее крепче у читателя только заболят виски.
Описание старого города Ордынина дано обычно старой манерой, со включением «характерных слов» маленьким словарчиком (стр. 16).
Для связи отдельных мест описания применяется все тот же прием повторения. Стр. 11 (первая страница повести).
‹‹На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):
Спаси, господи, Град сей и люди твоя И благослови Вход во врата сии››.На стр. 23: «На Кремлевских ордынинских воротах уже не надписано…» — идет то же «Спаси, господи» и т. д.
На стр. 13: «Ночью же ходить по городу дозволяли неохотно, и если спросонья будочник спрашивал, кто идет — надо было всегда отвечать — обыватель!».
То же на стр. 17.
Кроме того, в самое описание включены кусочки: «летописи», «анекдоты» и «курьезная вывеска». Вывеска становится потом одним из способов связи частей.
Таким образом, мы имеем в этом маленьком отрывке Пильняка тот же прием, которым написано все произведение: оно состоит из кусочков, сколото из них.
Разница в композиции куска, в отличие от композиции всей вещи, та, что в этом куске связи частей даны логические и не использовано ощущение несводимости рядов. Описание заканчивается как бы двумя заключениями, описанием песни метели (это знаменитое: «Гвииуу, гаауу, гвиииуууууу, гаауу» и «Гла-вбум» и т. д.) и уже упоминаемым мною отрывком «Китай-город».
«Вьюга» также повторяется потом в вещи (стр. 176) сейчас же после повторения куска о «Китай-городе».
«Вступлению» соответствует «Заключение». Оно тоже, как и вступление, не поместилось в вещи, в ней другие темы, это другой рассказ.
Все это играет для русской поэтики роль ложного конца.
«Заключение» посвящено (оно называется «Триптих последний» (материал в сущности)) деревне, даваемой описательно, как «материал».
Реальная связь этого куска с вещью состоит в том, что он дает ей параллель, чем и разрешает всю конструкцию. Для Пильняка параллель эта должна выразить какую-то идеологию, сама мотивируется идеологией.
Чтобы связать «Заключение» с основной вещью, он механически вводит в «Заключение», которое само по себе представляет чистую безымянную этнографию, имена действующих лиц из основного цикла кусков.
Например, действует здесь колдун Егорка, действует он, конечно, по-пильняковски не очень сложно.
«Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял, и не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина» (стр. 186).
Действие элементарное вроде поступка Петра Первого.
Наговоры, данные в «Заключении», даны как наговоры, сказанные со слов Егорки. И любовная пара в «Заключении» не просто пара, а — Алексей Семенов Князьков Кононов и Ульяна Кононова, родственники старосты из отрывка «Первое умирание».
Моются бабы и девки в бане (стр. 189). «В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины тер всем большак…» и т. д.
Это не только у меня, но и у Пильняка цитата, Пильняк цитирует себя самого на стр. 160 и этим связывает «Заключение» с «Частью 3-й триптиха» с описанием поезда мешочников.
Кроме того, «поезд» связан с главой о доме Ордыниных «вопросиком», не был ли дежурный с «Разъезда Мар» Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным. С главой о коммуне анархистов он связан многократным упоминанием в ней имени «Разъезда Мар», то есть единством места.
Линия Архипова (большевики) дана сперва непонятным упоминанием: связывающий образ «Китая» кончается.
«Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз…
— Куда?!
— Дополз до Таежева?!
— Врешь! Врешь! Врешь! Загорит еще домна, покатят болванки, запляшут еще аяксы и фрезеры.
— Вре-ошь! Вре-ошь! Вре-оошь! — и это не истерически, а быть может разве с холодной злобой, со стиснутыми скулами — это Архип Архипов» (стр. 26–27).
Линия Архипова протянута через весь роман, она дана в виде эпизода, Архипов — его отец (самоубийство отца), слабо связана с линией Ордыниных (знакомство и женитьба Архипа на Наталье), связана с крестьянской линией путем упоминания о «пугачевской бороде» (смотри замечание Троцкого).
Кончается линия Архипова путем полного повторения, мы опять видим: «Китай», Архипова (уже объясненного), завод и метель.
Здесь же дано сюжетное, для Пильняка только по традиции обязательное окончание, женитьба Архипова и Натальи.
Пильняк пытается здесь (довольно удачно) оживить понятие счастья-уюта, которое от этого должно получиться.
Архипов все время изучает словарь иностранных слов, Наталья же решила иметь мужчину только для ребенка, без уюта.
Но когда они сходятся, то Наталья говорит: «Не любить — и любить. Ах и будет уют, и будут дети, и — труд, труд! …Милый, единственный мой. Не будет лжи и боли».
«Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату, — в словарике иностранных слов, вошедших в русский язык… — слово уют не было помещено.
— Милый единственный мой» (стр. 180). Последняя строка механически снова повторяет уже разрешенный мотив.
В качестве «мистического комментария» к этим линиям даны еще две линии, линия Семена Матвеева Зилотова, который начитался масонских книг и видит во всем пентаграмму. Глава, в которой вводится Зилотов, называется «Здѣсь продаются пѣмидоры». Зилотов живет перед такой вывеской, вот как он показывает пентаграмму. «Семен Матвеев Зилотов взял со стола пятиугольный картон, где в центре, в кружке написано было слово — Москва, а в углах — Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим. Молча подошел к Сергею Сергеевичу, Семен Матвеев сложил углы пятиугольника: Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим сошлись вместе. Снова разогнув углы, Семен Матвеев по-новому сложил пятиугольник — Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим склонились к Москве, и картон стал походить на помидор: окрашенный снизу красным».
«Пѣмидор» связывает эту пентаграмму с бытом, а сама пентаграмма должна давать всей композиции широкий мировой план.
Может быть, в этом сказалось (не в строе фразы) влияние Андрея Белого на Пильняка.
Зилотов же инсценирует в романе «мистическое» обладание Оленьки Кунц Лайтисом, на престоле церкви. Это самое натянутое и непутное место романа.
При описании Зилотова применена временнáя перестановка: его жизнь рассказана при его вторичном появлении (стр. 135–137).
Зилотов сам по себе только мотивировка появления в книге отрывков из масонских книг, они могли бы быть мотивированы и как найденные, как произнесенные на лекции, наклеенные на стене над обоями и так далее. Цель их — увеличение многозначности вещи и ощущения несводимости рядов.
С романом Зилотов связан самым примитивным образом — он живет в одном доме с Волковичем и присутствует при его неудачном аресте, он же поджигает монастырь.
Я подчеркиваю все время связи в романе, и поэтому, может быть, у кого-нибудь явится впечатление, что роман связан.
Так это не верно.
У сыщиков, говорят, было выражение: пришить такого-то к делу, так вот герои Пильняка вовсе не герои, а носители, даже скорее представители определенных кусков, они пришиты к роману занапрасно.
Потом они, или отдельные части тех кусков, которые они представляют, повторяются в других частях вещи.
Пришиты они в нескольких частях, так как композиции из них не получается.
Представителем другой комментирующей линии романа является «седой попик».
Связь его с романом следующая: он, видите ли, родственник Глеба Ордынина и живет в монастыре, где совершается «мистический» блуд Ольги Кунц.
Попик этот говорит длинно, сразу страниц на пять. Пильняк старательно, в старой, — старой и плохой манере русского рассказа перебивает речи попика, напоминая, что это все же речи в романе, а не передовица.
Попик перебивается монашком, который все время поет «Во субботу да день ненастный». Перебиваний полагается одно за страницу. То же делает в плохих вещах Горький; у него перебивается обычно рассказ тем, что вдруг сообщается о том, что за окном идет дождь.
Попик с Глебом Ордыниным разделили между собой комментарий и разговаривают.
Занимается, кроме того, попик и плагиатом из Пильняка, так прямо и говорит сперва «Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз — наваждение!» (стр. 72), а потом и совсем явственно: «Слышишь, как революция воет — как ведьма в метель. Слушай: — Гвииуу, гвииуу! Шооя, шооаяя… гаау. И летит барабанит: гла-вбум! гла-вбумм!..» и т. д. (стр. 75).
Последнее от Пильняка отнимает попик. Зато он и ставит все на место и все объясняет вместе с Глебом.
«Владыко, — и голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты. — Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами — класс, буржуазия, социальное неравенство — и получится большевизм» (стр. 75).
Думаю, что не получится.
Речи же попика я не привожу, читайте их сами у Пильняка: «Голый год» стр. 70–75 и 128–130.
На 134-й странице попик сгорел.
Герои «Голого года» не долговечны. Донат умер до начала романа, Глеб застрелился. Попик сгорел. Аганина умерла от тифа, анархисты Павленко, Свирид, Герри, Стеценко, Наталия — убиты, и Зилотов сгорел, остальные или уехали (Лидия), или арестованы.
Это потому, что их куски кончились, и Пильняку с ними нечего делать.
Остался один Архип с Натальей для семейного счастья.
Пильняк человек не разнообразный, причем повторяет он из вещи в вещь не только себя, но и свои цитаты, например орешинские стихи про голытьбу.
Романы «Голый год», «Третья столица» повторяют друг друга, связанные метелью. В промежутке между ними написана «Метель», — вещь под таким названием, — и метель, старая блоковская и беловская метель, которой Вячеслав Иванов при ее появлении обещал долгую жизнь, выдержала.
Сделана «Метель» так. Взяты два рассказа: о диаконе, который молился в бане, воспитывая кота в вегетарианстве, и стремился понять, кто в первый раз в мире доил и кого доили.
Вопросы, конечно, поучительные.
«Сколько тысяч лет назад и как это было, когда впервые доили корову. И корову ли доили или кобылу, и мужчина или женщина, и день был или утро, и зима или лето, — дьякону надо знать, как это было, когда доили, — первый раз в мире, скотину».
Сами по себе эти вопросы, конечно, не могли бы наполнить произведение.
Тогда Пильняк проводит вторую, ничем не связанную с первой линию произведения, рассказывая про удачливого провинциального дон жуана — ветеринарного врача Драбэ.
Две линии идут. Молится дьякон — внук Кифы Мокиевича, и идет сплетническое дело в суде чести о Драбэ. Суд чести хорошее дело, он позволяет Пильняку дробить рассказ на показания и документы. Разговоры переданы драматически так, как их пишут в пьесах.
В конце повести происходит слияние сюжетных линий.
Драбэ зашел к дьякону и надоумил его: доили первый раз — решает он — парни и от озорства. Дьякон решает, что, значит, и весь мир от озорства, и бежит записываться в коммунистическую партию; кот-вегетарьянец бесится и сжирает сразу восемь фунтов конины, метель говорит «гвиу, гвиу». Пильняк произносит несколько слов о советских буднях, и повесть кончается.
Вся неразбериха ее, мне кажется, сделана сознательно и имеет целью затруднить восприятие, проецируя одно явление на другое, линии эти явно не сводимые, и их несводимость (в них вставлено еще несколько анекдотов) и создает впечатление сложности.
Манера Пильняка вся в этом злоупотреблении бессвязностью.
«Третья столица» вещь подражательная, в ней автор пишет сам под себя, обманно ссылаясь на Ремизова.
Форма, получившаяся в «Голом годе», как результат сведения отрывков, уже канонизована и употребляется наизусть.
«Место: места действия нет. Россия, Европа, мир, братство.
Герои: героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверие, — культура, метели, грозы, образ Богоматери. Люди — мужчины в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно; — женщины: но женщины — моя скорбь» (стр. 110).
Героев у Пильняка и не было, были «представители автономных областей».
Все вещи кажутся мне похожими на СССР, но без ВЦИК’а и Совета национальностей.
Места действия тоже не было.
Но в «Третьей столице» все это регламентируется. Открывается повесть объявлением о бане, объявление это потом повторяется дважды. Один раз через три страницы, уже в связи с описанием представителя одного куска, Емельяна Разина, и потом в конце, обозначая вторичное появление Разина.
Разин этот — советский служащий, но он — Емельян (очевидно, по Пугачеву) и Разин (очевидно, по Стеньке); Разин он и Пугачев, для того, чтобы потом убить англичанина и доказать этим, что всякий русский — и Разин, и Пугачев.
Личного в нем нет ничего, просто это — человек из бани.
Потом идет авторская характеристика вещи, уже мною приводимая. Она кончается мыслью о женщине.
Мысль о женщине развертывается в описание помещичьей декабрьской ночи. Здесь говорится о том, что самое вкусное яблочко — с пятнышком, о том, как нежен коньяк на морозе, и о том, что «женщин, как конфекты, можно выворачивать из платья».
Все эти сентенции затем разделяются и по одиночке проходят через всю вещь, связывая ее части.
Я не буду рассматривать всю вещь, так как это заняло бы много времени.
Перечислю только кратко ее составные части:
1) Емельян Разин: жизнь его в России, поездка в Европу, проезд через Ригу. Возвращение в Россию, убийство англичанина Смита с целью грабежа.
2) а) Англичанин Смит (очевидно, вообще англичанин), въезд его в Россию (первое пересечение с Разиным), б) его история и Елизавет. Смерть Смита, в) Со Смитом сведен его брат, едущий на Северный полюс.
3) Рига, а) полковник Соломатин, он же Тензигольский, он же Расторов, б) при нем сын, Лоллий Львов Кронидов, с) князь Трубецкой и невеста его — Лиза Калитина.
Сама Рига — ее культура, традиция, дома — через постоянное упоминание древности одного публичного дома.
К этим основным линиям прислонены десятки анекдотов и описаний. Анекдоты взяты обычные, ходячие, описания даны с мотивировкой восприятия англичанина и т. д.
Кроме того, введена лекция Питирима Сорокина, играющая в вещи роль рассуждений попика в «Голом годе».
Англичанин и Разин фабульно связаны, фабульно связана и вся третья группа.
Связь же частей между собой, а заодно и многозначность их дана протекающими образами, роль которых — расширять значение происходящего.
Пильняку нужно обобщение, и нужно дать многозначительность предмета, в этом деле он довольно наивен и берет это сам на себя, за читателя. Тут ему помогает, как я уже говорил, и цитатность образов (Разин, Лиза), и просто объяснения.
Но перейдем к механизму связи.
Возьмем первоначальное задание протекающих образов, тот кусок, где они даны вместе:
«…Луна поднималась к полночи, а здесь у камина Иннокентием Анненским утверждался Лермонтов, в той французской пословице, где говорится, что самое вкусное яблоко — с пятнышком, — чтоб им двоим, ему и ей, томиться в холодке гостиной и в тепле камина, пока не поднялась луна. А там, на морозе безмолвствует пустынная, суходольная, помещичья ночь, и кучер в синих алмазах, утверждающих безмолвие, стоит на луне у крыльца, как леший, лошадь бьет копытами: кучера не надо, — рысак сыпет комьями снега, все быстрее, все холоднее проселок, и луна уже сигает торопливо по верхушкам сосен. Тишина. Мороз. В передке, совсем избитом снежными глышками, стынет фляжка с коньяком. И когда он идет по вожже к уздцам рысака, не желающего стоять, дымящего паром, — они стоят на снежной пустынной поляне, — в серебряный, позеленевший постовец, — блеснувший на луне зеленым огоньком, она наливает неверными, холодными руками коньяк, холодный, как этот мороз, и жгущий, как коньяк: от него в холоде ноют зубы, и коньяк обжигает огнем коньяка, а губы холодны, нервны, очерствели в черствой тишине, морозе. А на усадьбе, в доме, в спальной, домовой пес-старик уже раскинул простыни и в маленькой столовой, у салфеток, вздохнул о Рождестве, о том, что женщин, как конфекты, можно выворачивать из платья. — И это, коньяк этих конфект, жгущий холодом и коньяком, — это: мне,
— Ах, какая стена молчащая, — глухая женщина — и когда окончательно разобью я голову» (стр. 111–112).
Теперь проследим повторяемость образов. Вот как это появляется в теме «Разин»:
«В пятый год — он: спутал числа и сроки, он увидел метель — метель над Россией, хотя видел весну, цветущие лимоны. Как зуб из гнилой челюсти, — самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком — метельным январем, где-то в Ямбурге, на границе РСФСР, — когда весь мир ощетинился злою собакою на большевистскую Россию, и отметывалась Россия от мира горячими поленьями, как у Мельникова-Печерского — золотоискатели — ночью в лесу — от волков, — его, Емельяна, выкинуло из пределов РСФСР: в ощетиненный мир, в фанерные границы батавских слезок Эстии, Литвы, Латвии, Польши, в спокойствие международных вагонов, неторопных станций, киркочных, ратушных, зáмочных городов».
Эту же фразу мы видим в линии князя Трубецкого, в почти полном ансамбле.
«Надежда знает, что губы князя — терпкое вино: самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком. Разговор, пока Лиза наверху, короток и вульгарен. Здесь не было камина и помещичьей ночи, хоть и был помещичий вечер, коньяк не жег холодом, от которого ноют зубы и который жжет коньяком, — здесь не утверждался — Иннокентием Анненским Лермонтов, но французская пословица — была та же».
Теперь тот же мотив у мистрис Смит (жена англичанина).
«Мистрис Смит знала: — Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком, — и, когда он идет по вожже к уздцам рысака, не желающего стоять, — они стоят на снежной пустынной поляне, — неверными, холодными руками она наливает коньяк, холодный, как лед, от которого ноют зубы, и жгучий, как коньяк, — а губы, холодны, неверны, очерствели в жестокой тишине мороза, и губы горьки, как то яблоко с пятнышком. А дома домовой пес-старик уже раскинул простыни и подлил воды в умывальник. —
Роберт Смит никогда не познал, никогда: — как — Лиза Калитина одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны».
Здесь, кроме того, любопытно обстоятельство, что мистрис Смит связана с Лизой Калитиной не только тем, что она знала, но и тем, что ее муж никогда не узнал про Лизу Калитину. То есть во втором случае связь дана чисто условная, только обозначена.
Кроме того, мистрис Смит «знает, что женщину, как конфекту, нужно из платья выворачивать».
Когда к ней приходит телеграмма о смерти ее мужа, то это дано так:
«Телеграф — это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и осенями, сиротливо, потому что кто знает, о чем гудят они, — в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам. — В Эдинбурге, у матери Смит в пять часов было подано кофе, блестел кофейник, сервиз, скатерть, полы, филодендроны, — в Париже у мистрис Чудлэй разогревалась ванна, чтобы женщину, как конфекту, из платья выворачивать, — и тогда велосипедисты привезли телеграммы.
— „Мистер Роберт Смит убит в Москве“».
Так как вещь осложнена временнóй перестановкой, то о том, как жил Роберт Смит в Москве, мы узнаем уже после извещения о его смерти.
Жил он обыкновенно, тут выше Пильняка не прыгнешь.
Ходил, говорил сентенции вроде:
«Разговор велся о пустяках, и только четыре отрывка разговора следует отметить. Говорили о России и власти Советов. Мистер Смит, изучавший теперь русский язык, в комбинации слов — власть советов — нашел филологический, словесный нонсенс: совет — значит пожелание, чаще хорошее, когда один другому советует поступить так, а не иначе, желает ему добра, советовать — это даже не приказывать, — и стало быть, власть советов — есть власть пожеланий, нонсенс».
Но главное занятие было:
«В концертном салоне заиграли на пианино. В ночной тишине было слышно, как в маленькой столовой накрывали стол. Англичане провели дам в уборную, пошли переодеваться. Женщин, конечно, как конфекты, можно выворачивать из платья. Старик-лакей заботливо занавешивал окна, чтоб никто не видел с улицы, что делают колонизаторы. Было приказано никого не пускать» (стр. 219).
Так, фраза связывает линии произведений. Отдельные кусочки тоже связаны уже внутри себя, такими фразами.
Кусок «Рига» связан, например, постоянным упоминанием башни: «как женская панталонина».
Кроме того, вся вещь исполнена повторениями, повторяются описания домов, описания людей, целыми кусками, именно кусками, графически выделенными.
От «Голого года» к «Третьей столице» путь не далекий.
Но в «Третьей столице» есть и новое. Это фельетонный элемент, полугазетное описание гибели Европы, по манере, может быть, связанное с Ильей Эренбургом.
Возросло и расстояние между сюжетными линиями, возросла и претенциозность загадки.
Странно вошли в вещи живые цитаты, чуть ли не целые рассказы Бунина и Всеволода Иванова. В составных же частях «рассказа» конструкции нет или есть она в банальной, уже не переживаемой форме.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧЕТЫРЕХСТАХ МИЛЛИОНАХ
(О книге С. Третьякова «Чжунго»)
Мы почти ничего не знаем о Китае.
Достаточно сказать, что в своих статьях Радек ссылался на книгу монаха Иакинфа, напечатанную в 1840 году[411]. Правда, это работа капитальная, и Иакинф представлял собою редкий пример европейца, относящегося к Китаю не свысока. Но зато он был китайским патриотом, и при самом появлении книги она вызвала ряд вопросов.
«Когда горсть смелых пришельцев приводит в трепет огромнейшую империю в мире, державу в триста шестьдесят два миллиона жителей; когда государство, устоявшее три тысячи пятьсот лет против всех бурь, покорившее своей власти все соседние воинственные народы и со страхом почитаемое этими народами, образованное, трудолюбивое, промышленное и более чем в полтора раза многолюднее всей Европы, не находит у себя другого оружия против армии в три батальона, кроме комических прокламаций; когда тысяча триста девяносто три человека европейских солдат берут приступом колоссальный город, равный народонаселением и богатством Парижу, окруженный высокими стенами, снабженный страшною артиллерией и обороняемый пятьюдесятью тысячами гарнизона; когда один пароход сожигает все флоты этого народа в триста шестьдесят два миллиона душ, один капитан заставляет город в восемьсот тысяч жителей заплатить себе контрибуцию в тридцать два миллиона рублей, один полковник в красном мундире берет в плен пятьдесят тысяч воинов и эта пленная армия дефилирует со свернутыми знаменами, но с оружием в руках, среди восьмисот сорока человек своих победителей, которых она могла бы буквально закидать шапками, — когда все эти неслыханные события происходят перед нашими глазами — теперь-то или никогда и должно спрашивать почтеннейшего отца Иакинфа, что это за люди, эти любимые его китайцы».
(Собр. соч. Сенковского (барона Брамбеуса), т. VI, стр. 345–346. «Китай и китайцы», 1859. С. — Петербург.)
Сенковский совершенно правильно указал, что Иакинф не сумел дать Китай в его столкновении с Европой, не объяснил причины слабости Китая перед нарождающимся империализмом.
Кроме того, книга Иакинфа полна такого прославления консерватизма, который показался слишком реакционным даже «Библиотеке для чтения». В частности, Иакинф не понял значения патриархальных отношений Китая, того, что Сенковский называл «заговором стариков».
Приведу еще цитату из Сенковского:
«Настоящее китайское дворянство — отцы семейств или старшие в роде; дети и внуки — их вассалы. Они политические представители всего, что моложе их возрастом, и пользуются огромною властью; правительственная власть непосредственно опирается на них как на первое в государстве сословие; законы заботливо оберегают их права и окружают их сан величайшим почтением; оскорбление их признается равным оскорблению величества и государственной измене; дети и внуки подвергаются смертной казни за всякое неуважение к этим ближайшим наместникам верховной власти над ними — смерть за поношение деда, бабки, отца или матери, также мужнина деда и бабки, свекра и свекрови, — смерть за своевольное оставление их дома и раздел с дедом, бабкою, отцом или матерью, — смерть за отказ в работе на пропитание их, за утаение траура по ним, за ложное объявление где бы то ни было, что они уже не существуют, — за семейный раздор с ними, за неповиновение их воле, и так далее; наконец они имеют еще право продавать детей и внуков в рабство как свою феодальную собственность…»
(Собр. соч. Сенковского (барона Брамбеуса), т. VI, стр. 403. «Китай и китайцы». По поводу сочинения: «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» монаха Иакинфа, 1840.)
По этому самому Иакинф сегодня, то есть через восемьдесят лет после напечатания, не может быть признан источником для китаеведения или может быть использован приблизительно так же, как мы пользуемся трудами Марко Поло. Кроме того, мы должны понять вещи в их становлении. Китай изменяющийся. И Ленин, говоря о законах диалектики, показал именно на примере Китая, как трудно диалектически исследовать вопрос, не приводя конкретного материала.
«Чтобы еще нагляднее пояснить это, возьму пример. Я ровно ничего не знаю о повстанцах и революционерах Южного Китая (кроме двух-трех статей Сун Ят-сена и нескольких книг и газетных статей, которые я читал много лет тому назад). Раз там идут восстания, вероятно, есть и споры между китайцем № 1, который говорит, что восстание есть продукт обостреннейшей и захватившей всю нацию классовой борьбы, и китайцем № 2, который говорит, что восстание есть искусство. Тезисы, подобные Бухарину, я могу написать, ничего больше не зная: „С одной стороны… с другой стороны“. Один недостаточно учел „момент“ искусства, другой — „момент обострения“, и т. д. Это будет мертвый и бессодержательный эклектизм, ибо нет конкретного изучения данного спора, данного вопроса, данного подхода к нему и т. д.»
(В. Ленин «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Бухарина», т. XVIII, ч. I, стр. 58–62.)
Вот почему неправ т. Мстиславский, который смелее Ленина, так же как Фриче, заслуживший от Плеханова эпитет «доморощенный», увидел там решение, где для Плеханова был вопрос.
Мстиславский, исходя из нашей литературы, которая не имеет сведений о Китае, критиковал книгу Третьякова, где эти сведения сообщаются. Кроме того, Мстиславский критиковал книгу Третьякова, изображающего Китай 1924/25 года с точки зрения тезисов 1927/28 года, то есть не учитывая становления материала.
И это все о Мстиславском.
Книга Сергея Третьякова «Чжунго» представляет собою высоко газетный материал, т. е. такой литературный материал, в котором данные действительности по возможности не подвергаются деформации. Поэтому Сергей Третьяков там, где не сходились концы с концами в его газетной статье, и не сводил их и часто оказывался прав.
Я сам присутствовал в Тифлисе при совещании Третьякова с редакцией «Зари Востока», которая отказывалась напечатать статью Третьякова о Фын Юй-сяне (тогда еще не изменившем). Редакция считала, что Третьяков компрометирует приводимыми фактами революционного генерала.
К сожалению, в результате генерал оказался не революционным. Лучше бы было, если бы читатель оказался к этому подготовленным статьями. О фактах можно сказать только, что «факты — упрямая вещь», как говорил Карл Маркс, цитируя обычно известную английскую пословицу.
«Чжунго» вскрывает противоречия современного Китая и чрезвычайно точно показывает нам живучесть некоторых бытовых форм в нем.
Блестяще описаны Третьяковым китайские похороны, в которых перед гробом покойника несут бумажные, в натуральную величину сделанные модели… автомобилей и несгораемых шкафов. Это настолько точно и так доходит, что нуждается только в изложении.
К сожалению, у Сергея Третьякова в книге есть остатки литературной художественности. Описывая автомобиль, он говорит, что есть даже «номерок сзади». Уничижительное слово «номерок» своим действием не доходит до силы самого факта, и поэтому лучше было бы сказать — «номер сзади», так как Третьяков в другом месте, описывая китайские кредитки для загробного мира, просто указывает, что на этих кредитках есть английские подписи директоров (как на взаправдашних китайских кредитках).
Я оттого останавливаюсь на таком, казалось бы, маловажном факте, что дело идет о создании нового стиля деловой статьи, не отравленного перенесениями приемов из беллетристики.
Везде, где Третьяков передает факты — факт сильней, чем где Третьяков дает свое отношение к фактам.
В этих газетных статьях не вскрыта китайская семья изнутри, то есть мы не имеем строения клетки организма Китая.
Это дано, и дано местами блестяще в новой книге «Дэн Ши-хуа», представляющей собой развернутую «автобиографию китайского студента».
Книга Третьякова, таким образом — книга еще становящегося жанра. Любопытно отметить сейчас, что мы переживаем рецидив литературы в газетных статьях. Если хороший писатель сейчас сушит свою фразу и избегает так называемых образов, то средний фельетонист или очеркист пишет газетную статью методами старой беллетристики. От этого греха «Чжунго» совершенно свободно, но эта книжка еще компромиссной формы.
Перед нами за нею становится еще следующий вопрос — вопрос о том, чем мы будем скреплять внесюжетные вещи.
Пример Дзига Вертова показывает, что одно голое отрицание сюжета ничего не решает. Сюжетная форма живет тысячелетия не по ошибке, она позволяет интенсифицировать обработку материала, несколько раз показать одну и ту же вещь под разными углами, то есть сюжетная вещь, как танец, может быть произведена на меньшем участке, чем ходьба.
Вертов думал заменить сюжетную повторяемость — повторяемостью лирической, отрезав куски от определенных положений и дав их потом в качестве слитного припева. Но прием не вышел.
В литературе сейчас Третьяков от жанра путешествия перешел в «Дэн Ши-хуа» к жанру биографии, или, вернее, к биоинтервью. Здесь то преимущество перед записками путешественника, что мотивировка смены фактов дана переживанием их определенным человеком.
Это позволяет внимательней разглядывать факты и не переводить их в планетарный размер, который представляет сейчас детскую болезнь внесюжетных произведений.
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ
(из статьи «Ринг Лефа»)[412]
Напрасно Сергей Михайлович Эйзенштейн говорит о необходимости создания «особого отдела» в кино. Его лента понятна и в общем, не в особом порядке. Лента не нуждается в панике.
Сергей Михайлович поднял вопрос о причинах неудачи. Прежде всего нужно решить вопрос о том, что такое неудача?
Мы знаем очень много вещей, которые при появлении сознавались как неудача и только потом осмысливались как новая форма.
Сергей Михайлович в этом для своей ленты неуверен. Мне тоже кажется — в ленте есть элементы прямой неудачи.
Вся лента, по своим художественным приемам, резко делится на 2 части: на левую и ахрровую[413]; причем левая сделана интересно, а ахрровая нет.
Ахрровая часть ленты Эйзенштейна украшена только масштабом, только количеством световых единиц. Кстати, не пора ли бросить снимать мокрые вещи? Октябрьская революция не непременно происходила в дождь, и стоило ли поливать Дворцовую площадь и Александровскую колонну? Благодаря этой поливке и миллионному свету кадры кажутся смазанными машинным маслом. Между тем в ленте есть замечательные достижения.
Кинематография по одной отрасли своей сейчас ходит между пошлостью и изобретением. Чрезвычайно важно создать однозначный кадр, выявить язык кино, т. е. добиться точного воздействия кинематографического изображения на зрителя, создать слово кадра и синтаксис монтажа.
Эйзенштейну в картине это удалось. Он ставит вещи рядами, переходя, например, от бога к богу, доходя в результате до фаллического негритянского бога и от него через понятие «статуя» к Наполеону и к Керенскому с последующим снижением. Здесь вещи похожи друг на друга только одним свойством — своей божественностью, — а различаются друг от друга смысловыми тембрами, и вот эти тембры и создают дифференциальные ощущения, необходимые для художественного произведения. Создавая этот переходящий ряд, Эйзенштейн ведет зрителя точно туда, куда он хочет. С этим связано и знаменитое, совершенно блестяще построенное Эйзенштейном восхождение Керенского по лестнице. Восхождение это дано реально; одновременно идет перечисление титулов Керенского.
Преувеличенность лестниц и элементарная простота восхождения, совершаемая одной и той же походкой, и самая далекость понятия «восхождение» и «лестница» создает вполне понятную форму. Это — огромное изобретение, но возможны пробелы в нем, т. е. это может быть плохо понято даже самим автором.
В качестве заболевания этого изобретения появится элементно-кинематографическая метафора с слишком близким отношением двух частей. Например: идет река, люди идут рекой, или сердце какого-нибудь человека, как незабудка.
Нужно помнить здесь, что так называемый образ работает своими не совпадающими частями — ореолами.
Во всяком случае, Эйзенштейн чрезвычайно далеко продвинулся на этом пути, но новая форма, создаваясь, в силу своей новизны, воспринимается как комическая. Так воспринимали кубистов, до них так воспринимали импрессионистов и так Толстой воспринимал декадентов, так Аристофан воспринимал Эврипида.
Поэтому новую форму лучше всего применять в вещах, в которых комическая эмоция обусловлена. Так и сделал Эйзенштейн. Его новый прием, который, вероятно, будет общекинематографическим, применен им только в отрицательных характеристиках. Им построен Керенский, Зимний дворец, наступление Корнилова и т. д.
Распространить этот прием на патетическую часть ленты было нельзя. Новый прием еще не годен для героики.
Неудача ленты объясняется тем, что изобретение не совпало с материалом, и поэтому заданная часть сделана не изобретательно, сделана в лоб и, вместо того чтобы быть построенной хорошо, построена только грандиозно. Таким образом сюжетные места ленты, ее смысловые узлы не совпали с ее наиболее сильными местами.
Кроме изобретения смысловых кинематографических рядов (не параллелей), Эйзенштейн строил в своей ленте особое кинематографическое время, что хорошо разобрано в статье Пудовкина. На этом построен, например, развод моста. Но Эйзенштейн так развел мост, что ему уже нечем было взять Зимний дворец.
Искусство нуждается не в победах, а в продвижениях. Революцию 1905 года нельзя оценивать только как неудачу, поэтому говорить о неудаче Эйзенштейна можно только с особой точки зрения.
ФАКТ БЫТА И ФАКТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
В дискуссионном порядке
Лента Сергея Михайловича Эйзенштейна «Старое и новое» — лента неудачная. Куски же этой ленты представляют собой удачу несомненнейшую и крупнейшую.
Лента была сделана на колхоз. Сюжет ленты был основан на вырастании колхоза из молочного товарищества. Лента была связана личной судьбою женщины.
При выпуске ленты колхоз заменили совхозом. Законы постройки совхоза иные, чем у колхоза, он иначе вырастает. Личная судьба в нем играет иную роль. Благодаря вложениям государства совхоз развивается быстрее, он строится как фабрика. Колхоз, в идеале, вырастает из сил самой деревни. Сюжет, который годился для истории колхоза, совсем не годен для совхоза. Лента потеряла нарастание и в конце ленты выпала героиня.
Кроме того, небольшие, введенные эпизоды, оказались незамонтированы. Эпизоды разрешились без вновь введенных героев. Для них не было ритмического рисунка. Лента художественно ухудшилась и оказалась несостоятельной.
Дело в том, что отношение художественного произведения к экономическому ряду сложно. Для того чтобы определенное явление проявило себя в искусстве, необходимо техническое изобретение или переосмысливание старого приема. В этом отношении совершенно неправильно утверждение теоретика Рефа[414] Осипа Брика, который думает, что наиболее приемлемые для нас формы те, которые созданы группами, социальные симпатии коих совпадают с нашим сегодняшним настроением. Это — не диалектично.
При внесении в роман частной жизни человека нужно было приспосабливать новые методы описания его быта. Между тем методов описания комнаты не было, но существовала техника описания путешествия. Эта техника изменилась, путешествие стало только средством изображения ряда мелочей, изменился способ смотрения во время путешествия, так сказать, каталог путешествия. Потом начал изменяться, сперва пародийно, и объект путешествия. Появились путешествия по отдельным городам, потом путешествия по комнате, совсем пародийное путешествие по карманам. У раннего Льва Толстого, хорошо знавшего всю эту литературу, в «Детстве» описание классной комнаты дано методом путешествия, приемы которого приведены к описанию нового объекта.
Мы сейчас поставлены в необходимость изобретать, и это — лучшее в нашем времени.
Лента Эйзенштейна не учла необходимости перестройки сюжета при новой генеральной линии. Поэтому произошло то, что в технике называется коротким замыканием. Был дан короткий быстрый ответ, не включивший в себя разрешения формальных задач. И вещь сгорела.
Работая инерционными формами, мы никогда не передадим ни правильно, ни направленно сегодняшний день. Сама литературная форма вытесняет сегодняшний материал. У писателя есть методы изображения личной жизни. И у писателя нет методов для изображения постройки завода.
Нашими старыми способами можно изобразить состояние крестьянского двора в 1929 году и ими нельзя изобразить состояние сельского хозяйства в Нижнем Поволжье, наступления пустыни, образования оврагов, пересыхания рек, так как это никаким образом не влезает в проблему личной жизни. Обычно оказывается, что люди живут плохо, потому что человек работает над вещью сейчас самой неинтересной — над бытом. Быт подлежит уничтожению. И будет уничтожен, когда до него доберутся. Быт сейчас — это тактика, а строительство — стратегия. Писатель за тактикой не видит стратегии.
Кроме того, тот запас знаний, который имеет сейчас писатель, негоден для анализа новых событий. Писатель, например, привык к вещам прилагать эпитет, причем эпитет дается по случайному признаку, для создания иллюзии реальности. Достоевский обучал Григоровича писать и заставлял его писать вместо «пятак упал» — «пятак упал, звеня и подпрыгивая». Поэтому Огнев при описании завода, написал, что конвейер двигается скрипя. Но конвейер скрипеть не должен, это противоречит его свойству, этот эпитет ему не нужен. Поэтому рабочие протестовали против статьи Огнева. Получилось взаимное непонимание писателя и читателя.
Современный писатель-прозаик хуже всего пишет ту первую страницу плана, которую он должен написать и положить перед собою до работы. Плохо, когда «Враги» Лавренева основаны на том, что существуют два брата — красный и белый. Хуже, когда «Братья» Константина Федина основаны на том, что существуют три брата — красный, розовый и нейтральный музыкант. Совсем плохо, когда роман Олеши, сделанный на превосходных деталях, дающий превосходное описание вещей, шрамов, зеркал, улиц, тоже основан на том, что существуют два брата — красный и белый. Здесь нет сюжета. Он никак не разрешен. Вещь никак не построена. Ее хватает только на параллелизм. Материал размещен неправильно. Стиль вещи вскользь определяет сам Олеша, говоря про фамилию героя, ведущего повествование, что эта фамилия (Кавалеров) низкопробна и высокопарна. Высокопарный стиль Олеши неправильно окрашивает роман.
Когда Кавалеров говорит, что «вы прошумели мимо меня, как ветвь полная цветов и листьев», то эта фраза не может быть дискредитирована в романе, потому что она сделана доброкачественно и введена в систему романа. Олеша переплел образы своего романа. Ветки в главе седьмой введены через цветущую изгородь, через птицу на ветке. На окне стоит вазочка с цветком. При испуге падает вазочка, «вода из вазочки бежала на карниз». Потом вазочка катается, потом девушка плачет и слеза «изгибаясь текла у ней по щеке, как по вазочке». Это очень хорошо сделано, потому что материал накоплен незаметно, нужен в тех местах, где он подан предварительно. Слеза же, текущая по щеке, как по вазочке, работает, давая рисунок щеки.
И вот сюда введена ветка. Ветка опротестована Бабичевым. Но так как фраза о ветке введена в систему стиля Олеши, то она не может быть опротестована путем телефонного согласования. Так как стиль вещи связан с Кавалеровым, а не с Андреем Бабичевым, то героями вещи являются Кавалеров и Иван Бабичев. На их стороне стилистическое превосходство. Неправильное, невнимательное решение основного сюжетного вопроса, несовпадение сюжетной и стилевой стороны испортили очень хорошую прозу Олеши. Ошибкой вещи является также не всегда правильное разрешение эмоционального тона вещей. Например, он хорошо характеризует женщину старуху, снижая ее требухой, которой она кормит кошек. Но в описании кровати сделана ошибка, потому что кровать дана с точки зрения ребенка — поэтому она не отвратительна, а затейлива.
Вещь Олеши хороша, но она никуда не ведет. Это какой-то отрезок рельсовых путей. Все концы путей ведут в тупики.
Инерционное искусство обладает способностью искажать факт. В наше время, время создания новых фактов, нельзя идти на риск сохранения старых форм.
ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ЭСФИРИ ШУБ
О голодных годах, о годах военного коммунизма все говорят сентиментально или оживляясь.
Это относится и к тем, кто в это время революции и не делал, по крайней мере сознательно.
Дома стояли в полуочищенной, полуоттаявшей чешуе инея.
Улицы заросли сугробами и были мягкими и среди них вились тропы.
На Петербургской стороне снялись с якоря и ушли в печи деревянные дома, оставив на месте причалы — кирпичные трубы.
Вещи изменили вкус, вид и назначение: достав глицеро-фосфат, пили с ним чай, — потому что это казалось сладким.
Все это жалкие слова.
Под Херсоном в Днепровском отряде я поступил по профсоюзной мобилизации в батальон Чека; он состоял из солдат, побывавших в Ленинграде.
В Питере им пришлось топить печи нарами, а вспоминали город они так — «голодно, но интересно».
В нашу литературу и кино «интерес» голодных лет не попал.
Вспомните пустой город с бесплатно не идущим трамваем; Неву, пустую и чистую, или снега города в желтых пятнах.
А между тем русское искусство живет запасами изобретений того времени.
Отец и внук молодых, Мейерхольд, тогда делал свои первые постановки.
В Питере в Народном доме шла цирковая комедия, в Эрмитаже в 1920 году Юрий Анненков ставил то, что сейчас называется «Ревизором» — «Первого Винокура» Льва Толстого, разрушая традиционный текст.
Это было время эксцентризма. Появились фэксы с водевилем «Женитьба», и публика играла в зале мячом, ожидая начала представления.
А Максим Горький тогда не писал «Дело Артамоновых», но писал книгу о Толстом и нигде не обнародованную комедию для цирка «Работяга Словотеков».
Эйзенштейн работал на фронте, потом с Фореггером, работал тоже на эксцентрическом материале.
ОПОЯЗ собирался на кухне оставленной квартиры Брика. Топили плиту книгами и совали ноги в духовой шкаф.
В «Доме искусств» в комнате Михаила Слонимского, в которой из вентилятора почему-то текла вода, заводились веселые Серапионы.
Они тогда еще выдумывали вещи, но не писали полного собрания своих сочинений.
На стенах города, прибитая деревянными гвоздями, висела «Жизнь искусства» со статьями формалистов и объявления какой-то Аранович о школе ритма для красноармейцев.
Мы все обязаны признаться, что много должны этому холодному, горькому, растрепанному, как костер, на двадцатиградусном ветреном морозе, времени. И всегда его любим.
Дело в том, что тогда авансом был осуществлен социализм.
Воздух свободы, а не необходимости, парадоксальнейшее предчувствие будущего, заменял в Питере жиры, дрова и вообще атмосферу.
Социализм не представим. В нем угрожают нам нивеллированной скукой.
Но мы знаем его.
Знаем книги без гонорара и работу без принуждения.
Я думаю, что со мной вместе вспомнят так многие.
Чувство невесомости, возможность двигаться, отсутствие судьбы — и от этого творческая работоспособность.
Мы летели на железном ядре из прошлого в будущее — и тяготения не существовало, как в ядре Жюля Верна.
Время поэтому было гениально. Этот гениальный порыв в будущее дарил свое изобретение всем! всем! как будто бы ускорилось само вращение земли.
Потом появилась возможность.
Лента Эсфири Шуб об Октябре — хорошая лента[415].
Она неисправима, потому что подлинна.
Владимир Ильич Ленин на экране — веселый, заинтересованный механик.
Другие люди, как Дыбенко, еще чувствуют себя перед аппаратом, еще не въисторичились.
Гражданская война, которая никогда не выходит на экране, потому что она особенная, верна.
Пустые улицы Москвы.
Изумительный плач над гробами 26 комиссаров какой-то армянки.
Вещи восстанавливаются и освежаются.
Крестный ход во Владивостоке навстречу японцам, которые, конечно, не христиане.
Олицетворенная в лице какого-то юнкера — глупость, играющая на фанфаре.
Восстановленная буржуазия. Оказывается, она вот такой и была, как на плакатах.
Куски даны правильно документально, без чудес монтажа. Есть настоящее талантливое отношение к действительности — конструктор не противопоставляет себя ей.
Может быть, слишком затянута «электрическая ночь». Ведь это если не «игровой», то иронический кусок. Гневный.
Это электрический ток, убивший Ванцетти.
Его надо укоротить за надписью, не давая самодовлеющим аттракционом.
Но как мало и как скучно снимали!
Сейчас же снимают еще меньше.
Веселость времени не снята.
Не снят Питер в первом послеоктябрьском мае. Нет ни одного украшенного города. Ни одной стенной афиши, ни одного зрелища.
Почти нет быта.
Нет почти совсем улиц.
В Москве нет ни одного дома с трубами. Не снят перелом на нэп.
Получается непонятно.
Грозное, горькое, стреляющее время и веселый подлинный Ленин.
В сегодняшние дни еще хуже.
Нет Днепростроя. Нет порогов. (Я просил, чтобы мне дали хотя бы только оператора и пленку без денег, так как все равно ехали, и хотел снять работу для Шуб, но отказались.) Нет мелиоративных работ, между тем в одной Воронежской губернии площадь новых прудов равна половине площади озера Ильмень.
Революция не снята веселой, строительство не снято совсем.
Зато на картину отпустили только 15 000.
Есть уже шаблон, как и что снимать.
Шуб умоляла не снимать больше спорта, ведь спортивное движение не стандартизировано.
Снимать каждый день индивидуальные прыжки это то же, что снимать каждый день французские булки.
Прекрасному работнику не из чего работать.
Время уходит у нас сквозь пальцы.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТОЛСТОЙ
Эсфирь Шуб выпустила картину, смонтированную из хроники на тему «Лев Толстой и Россия Романовых».
Льва Николаевича Толстого, заснятого на экран, осталось семьдесят метров. Поэтому монтажер находился в стесненном и трудном положении.
Идет спор — правильно ли сделала Шуб, показывая Льва Николаевича на фоне Романова. Может быть, Толстого нужно было дать на фоне рабочей России?
Я думаю, что эта точка зрения неправильна не только технически — ведь рабочая дореволюционная Россия почти не снята, — но и по соображениям вскрытия сущности Толстого.
«Возлюбленный брат», — писал Толстой Николаю II. Конечно, довольно смело для подданного назвать государя братом, но Столыпина Толстой братом не называл, он называл его по имени-отчеству. Слова «возлюбленный брат» по-своему почтительны, но это «дорогой кузен» в обращении одного государя к другому.
Кинематографически Шуб связала сад Толстого с двором Николая через костюмы дам и герб графа. Ясную Поляну Шуб раскрыла, проложив ее границы, показав деревню того времени. Вот почему так иронически звучит документальная надпись: «Дочь Толстого везет конфеты яснополянским детям».
Спорить с Шуб нужно не о выборе материала, а о методах его использования. Это тот же спор и те же вопросы, которые мы задаем Тынянову. Факт, лишенный датировки, эстетизируется и искажается. Москва вербного базара связана с приездом Толстого, как справедливо указал Эйзенштейн, методами художественной кинематографии. Убийствен для Николая кадр с пробой плуга, который рассматривается здесь как редкость, как будто это не плуг, а ракета для межпланетных сообщений. Ироничность кадра увеличена тем, что не сказано о том, что плуг — двухлемешный.
Паника в Зимнем дворце — неудача оператора, который не сумел справиться с условиями освещения. В результате получился комический эффект фигур — дрожащих и прыгающих в Тронном зале. Это событие неудачно снято, но с момента использования его иронического осмысления становится чисто игровой сценкой.
Шуб, несомненно, права, потому что торжественность и стройность царской жизни тоже результат определенной системы съемки, которую интересно решить на ином материале. Но игровая и неигровая лента — это не постное и скоромное кушанье, и спор идет не о том, оскоромилась Шуб или нет, а о методах воздействия.
Третьяков против эстетики и говорит не о конце стихов, а о конце эстетического воздействия вообще. Он требует газеты как газеты. Но такая газета существует. Сделать ее лучше можно и без Лефа. Интереснее вопрос о дифференциальных качествах, об эстетических кусках в газете, о создании в газете и для газеты новых эстетических приемов.
«Все спиртные напитки — суета сует», — говорит баптист у Диккенса. Его спросили: «Какие же именно из сует вы любите?» Баптист вздохнул и ответил: «Наиболее крепкие».
Брик доказывал в рабочей аудитории, что нужно читать газеты. Ему вежливо ответили: «Хорошо, утром мы будем читать газеты, а вечером — что?» Ему указали на то, что предложенная нам вещь выполняет не ту функцию, чем та вещь, которую она должна заменить.
В основе спор о документальном искусстве чрезвычайно сложен, и его нельзя решить иначе, как приняв во внимание диалектику художественной формы. Определенный прием, введенный как не эстетический, может эстетизироваться, то есть изменить свою функцию.
Эйзенштейн в своем «Октябре» работал главным образом вещами, сопоставляя их. Не будем сейчас спорить об удачности «Октября», но метод мышления вещевыми цитатами был нов, и лента была не игровая, а аттракционная. На аттракционном методе работает и Эсфирь Шуб, сопоставляя уже заснятый прежде материал. Здесь идет вопрос только о способе получения материала, а не о разности его использования.
ГОРЬКИЙ КАК РЕЦЕНЗЕНТ
Обычно под чисто литературными-стилистическими спорами лежат споры, основанные на разности мировоззрения. Знаменитый спор о «сих» и «оных» в русской литературе покоился на желании буржуазии, овладевшей литературой, заставить ее писать на своем языке. В то же время, споря о языке, критик Белинский почти в равной мере, как и Сенковский, ссылался как на образец на язык «большого света». Этой подоплекой споров о стиле, вероятно, можно объяснить целый ряд выступлений Горького в качестве рецензента. Горький рецензирует много и охотно и обыкновенно начинает с ошибок против языка. Насколько можно разобраться в горьковской терминологии, он считает нормой языка — язык художественной прозы [18]90-х годов. Чисто временные правила и навыки этого времени кажутся Горькому литературными догматами. В этом нет ничего удивительного, и мы уже видали в живописи попытку сделать передвижничество осью мира.
Традиционно и отношение Горького к литературным группировкам, представители которых работают другими способами. Горький утверждает, что они работают на возрождающееся мещанство, апеллируя к пролетариату, как в свое время принято было апеллировать к высшему свету. Пролетариат во многих частях своих переживает сейчас эпоху открытий, быстро пересматривая неизвестную ему еще литературу. Поэтому у самого пролетариата бывает увлечение театром МГСПС[416], сентиментальным романом и т. д. Но почему именно работающие в «Комсомольской правде», апеллирующие к рабочей аудитории Асеев, Маяковский, Третьяков должны нравиться возрождающемуся мещанству, совершенно непонятно. Здесь мы видим всего только рецензионный шаблон, приписывание своих литературных врагов к неприемлемому враждебному социальному лагерю. Так как увлечение Горького рецензиями все еще не прошло и он печатает даже по две статьи в одном номере газеты, то необходимо во избежание повторения ошибок указать общие законы жанра рецензий.
Рецензируя книгу, нужно прежде всего называть ее совершенно точно. Ругая на двух столбцах книгу Асеева «Разгримированная красавица», совершенно незачем переименовывать ее в «Развенчанную красавицу», иначе получается дурной пример для начинающих писателей. Это компрометирует культурный пафос рецензента. В редакциях за такие вещи обыкновенно увольняют.
Рецензируя библиографический справочник, как это сделал Горький в 211 номере «Известий», совершенно неправильно считать безграмотностью пропуск какой-либо фамилии, потому что, к сожалению, все библиографические издания имеют пропуски, в результате которых приходится давать им дополнения. В самой же рецензии Горького совершенно неправильно и ненужно переименовывать Ивана Вольнова в Ивана Вольного.
Писатель Горький прославлен вовсе не своим образованием. Сама непривычка к научному методу мышления и объясняет его запальчивость и раздражение на отдельные ошибки. Горький сердится на то, что составитель сборника указал пребыванием Лысой Горы — Харьков. Горький передвигает эту гору в Киев. Работа напрасная. В Киеве уже есть четыре Лысых горы — одна на левом берегу Днепра, вторая за Кирилловской церковью, третья на Печерске и четвертая за оградой Михайловского монастыря. Это не мешает Харькову иметь свою Лысую гору в Залопанской части города рядом с Холодной горой.
Еще один пример. Поправляя описку Асеева об амебах, сам Горький немедленно делает зоологическую ошибку.
Он пишет следующее.
«Актиния животное, это — морская лилия, для которой рак-отшельник служит двигателем, перемещающим его в пространстве».
Здесь Горький спутал два разных разряда животного царства: кишечнополостных (актиния) и иглокожих (морская лилия) (см. любую зоологическую хрестоматию).
На самом же деле актиния называется еще «морским анемоном». Возможно, что ошибка Горького вызвана именно тем, что он перепутал «морские цветы».
Можно оставить в стороне те ошибки Горького, в которых он сам признался письмом в редакцию «Известий», например вопрос о местонахождении статуи «Моисея» Микеланджело.
Но в результате на четыре действительных ошибки, сделанных Асеевым в книге, приходится шесть ошибок, сделанных Горьким в небольшой газетной статье.
Нельзя объяснить даже неумением пользоваться справочником и неопытностью общий тон горьковской статьи. Именно поэтому Горький должен был бы побороть свое раздражение и не ругать русского писателя неумным и малограмотным человеком.
Нельзя оскорблять замечательного поэта, много сделавшего для своей литературы. Если Горький не уясняет некоторых явлений в русской литературе, если, например, ему нравится не Асеев, а Ходасевич, то это не дает права ругаться. Вообще оскорблять людей гораздо хуже, чем пропускать их в библиографических справочниках.
Большое внимание уделяет так же Горький вопросу языка. Он дает рабкорам и молодым писателям целый ряд практических указаний о том, как писать.
Метод показа Горького рецензионный — он разбирает на глазах у публики работы писателей, которые, по его мнению, пишут неправильно, и на примере показывает, чего нужно избегать.
В настоящее время Горький увлекается сдвигологией, утверждая, что если одно слово кончается на «мы», а другое начинается на «ло», то между ними получится мыло.
Приведу сам текст горьковского утверждения:
«Он писал стихи хитроумно подбирая рифмы, ловко жонглируя пустыми словами» — автор не слышит в своей фразе хихиканья, не замечает «мыло» (М. Горький. «О начинающих писателях». «Известия». 1928. № 216).
К счастью, дело обстоит не так — оба слога, выделенные Горьким курсивом, не ударные. В живой речи они редуцированы, ослаблены. Мыло из них никогда не получится потому, что это не тот слог «мы» и не тот слог «ло» и вообще слово без ударения осуществиться не может.
Горький путает графику и фонетику. У него книжное представление о слове. Он буквенный писатель, а не словесный. Чтение самой небольшой книжки любого введения в языкознание, знакомство с работой хотя бы Бодуэна де Куртенэ, знать которую Горький обязан, избавили бы его от ошибок в рецензиях. Это не спорный вопрос и не вопрос Лефа, я думаю, что наши указания подтвердит Горькому не только любой лингвист, но и Бюро обслуживания.
Приведу цитату из введения в языкознание Д. Ушакова — учебного пособия для первого курса литвузов.
«Язык и письмо — два явления совершенно различные. С точки зрения школьного преподавания, в котором, естественно, одной из главных целей является обучение правописанию, а знакомство с самим языком или совсем отсутствует, или занимает небольшое место, — может казаться иначе: может казаться, что язык, так сказать, „писаный“ и язык „произносимый“ — одно и то же, что достаточно знать буквы, чтобы знать звук и т. д. Но это ошибочно. Письмо, каково бы оно ни было, не может никогда вполне точно передавать живые звуки, и не в этом его задача: чтобы быть удобным на практике, оно необходимо бывает условным, причем степень этой условности в разных правописаниях различна».
Между тем представьте результат горьковской рецензии. Рабкор — человек занятый — будет сидеть над своей рукописью и вытравлять из нее то, что реально не существует. Вместо научного знания языка он получит ложный след к учебе и потеряет на этом следу и время, и живое ощущение слова.
Вот почему общие рецензии Горького и его стилистические указания общественно гораздо вредней, чем его неудачное выступление против Николая Асеева.
НОВООТКРЫТЫЙ ПУШКИН
(М. Горький. «Рабселькорам и военкорам». О том, как я учился писать. Гиз, 1928, стр. 55)
Вопрос о массовой литературе сейчас является основным. Изданная Гизом книжка М. Горького представляет собою попытку написать массовое руководство по теории литературы. Это нечто вроде замены личного разговора с Горьким. Эта книжка в то же время должна служить связью между старым и прославленным писателем и новыми кадрами, которые должны нас заменить. Поэтому в ней особенно ясны все испытываемые нами затруднения и основные спорные вопросы сегодняшней культуры. Сам Горький говорит, что в его книжке есть немало спорного и много недоговоренного.
Очень спорным является та библиография, которую дает Горький. Он советует читать очерки гоголевского периода русской литературы Чернышевского[417], книгу в 400 страниц, давно написанную и мало доступную. Книжку Крайского «Как писать рассказы»[418], книжку мало авторитетную и чрезвычайно претенденциозную догматически, переполненную иностранной терминологией, курс В. Брюсова «Основы стихосложения»[419].
Ошибкой издательства является то, что все эти книги даны без года издания и без цены, что очень затруднит их выписку, кроме того, Горький советует читать «Очерки монистического миросозерцания» Плеханова. Книжки или статьи под таким названием, к сожалению, не существует.
Вся книжка Горького наполнена такими спорными местами. В ней упоминаются несуществующие книжки, как, например: «Записки ни павы, ни вороны, Сиповича Надворского» (стр. 17) вместо «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны».
Спорным или недоговоренным является также называние Горьким героя турецкой кукольной комедии Карапетом. Его зовут Карагезом и это, в сущности говоря, бесспорно. Но это сравнительно мелочные ошибки.
Основным спорным вопросом является вопрос учебы у классиков. Мы стоим на точке зрения изучения культуры, а не обучения у нее. Дело в том, что нам нужно построить не старую культуру, а новую, и ей научиться нельзя.
Мысль о том, что можно учиться у классиков, основана на мысли о неизменности и всегдашней ощутимости старой художественной формы. Мысль эта неверная. Нельзя противопоставить Пушкина Асееву, потому что Асеев ощутимый писатель, а Пушкин совершенно не ощутимый. И человек, восхищающийся сейчас Пушкиным, более всего похож на сторожа в деревне Обломовых. Этот сторож в пятницу доедал господский пирог. Впрочем, приведу точную цитату.
«…Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды».
Сам Горький убежден в том, что он воспринимает классиков. Из Пушкина у Горького приведены две цитаты, на стр. 40 и на стр. 41.
Приведем их.
1) Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова Пушкина: «Нет на свете мук сильнее муки слова».
2) «Холоден и жалок нищий наш язык», — сказал Пушкин в минуту отчаяния, должно быть, знакомого всем великим поэтам, потому что редкий из них не жаловался на «нищету языка».
К сожалению, обе эти цитаты взяты не у Пушкина, а у Надсона и обе из одной строфы. Приведу ее:
Напечатана она в стихотворениях Надсона на стр. 51, цитирую по 7-му изданию.
Вот вторая половина строфы:
«Нет на свете мук сильнее муки слова, тщетно с уст порой безумной рвется крик, тщетно душу жечь любовь порой готова, холоден и жалок нищий наш язык».
Корректор с инициативой или секретарь могли бы проверить цитату Горького, но, насколько я помню, статья перепечатана в книжке из «Известий».
Таким образом несколько сот тысяч человек прочли очень плохое стихотворение Надсона и восхитились им как очень хорошим стихотворением Пушкина. И это не случайность, как не случайность и то, что Горький требовал от Асеева восхищения перед статуей Моисея перед описанием храма Петра, в котором этой статуи нет.
Старое явление искусства не ощущается. Мы живем и вчувствоваемся в них по традиции. Для того чтобы на самом деле понять Пушкина, нужна очень большая работа, а тот Пушкин, которого всякий понимает, это Пушкин не настоящий, с неощутимой формой и легко переходящий в Надсона.
Ошибкой Алексея Максимовича Пешкова является то, что он не хочет познать самого себя. Он хороший писатель и как всякий хороший писатель произошел не от великой русской литературы, а от литературы младшей линии. Он вырос из французского бульварного романа, из газетного очерка. Связи с классиками у него нет, и в них он ничего не понимает, что совершенно не уменьшает его литературной значимости.
Алексею Максимовичу нужно было поделиться с рабселькорами своим реальным литературным опытом. Вместо этого он дал предметный урок на тему потери ощутимости форм старой литературы современным читателем.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭПИГОНА
(«Преступление Мартына». Роман Бахметьева. Изд. «ЗИФ»)
Традиционный психологический роман трудно поддается акклиматизации в советских условиях, так как его фабульные формулы не годны для оформления нового материала. Поэтому советский психологический роман болеет всеми болезнями и может даже погибнуть от насморка. Именно с этим родом литературных произведений должно происходить наибольшее количество недоразумений, и в этом не вина авторов. Просто: форма не по климату.
Для психологического романа основное — это человек не на своем месте. Психологизация полицейского романа Сю у Достоевского состоит прежде всего в смещении масок, в том, что преступники и проститутки начинают философствовать. Честный вор, т. е. элементарный оксюморон, — типичное зерно романной фабулы.
Если Джозефу Конраду нужно, чтобы определенное преступление было совершено идеальным англичанином, то Бахметьеву нужно, чтобы определенное преступление было совершено героическим партийцем.
Мотивировка, которую берет Бахметьев, довольно неудовлетворительная и опять-таки фабульно традиционна. Эта мотивировка в старых романах была следующая: человек в простом звании ведет себя героически. В результате оказывается, что он сын знатных родителей и это в нем сказывалась кровь.
Сейчас эта формулировка применяется с обратным знаком. В детской литературе она дается таким образом: сын знатных родителей ведет себя чрезвычайно героически; оказывается, что он подкидыш простого происхождения. Такими примерами забита халтурная часть детской литературы.
Нелепость применения в том, что современность ставит в ничто влияние крови и устанавливает ставку на значение социальной среды.
Бахметьев использовал фабульную схему несколько иначе. У него измена революционному долгу или непонимание революционного долга Мартыном объясняется тем, что Мартын по матери — интеллигентского происхождения, причем мать свою он даже никогда и не видал. Неловкость мотивировки, натянутость ее объясняется тем, что она цитатна и перенесена из чужих схем.
Далее Бахметьев попадает во власть старых фабул, потому что если вы вошли в чужой дом и поцеловали руку хозяйке, то вы открыли этим целый ряд поступков, попали в смысловой ряд, который вас, может быть, приведет к тому, что вы будете драться на дуэли.
Характеристику героя Бахметьев дает английскую, традиционную. Приведу параллель: одна характеристика героя Конрада, другая — Бахметьева.
«Ростом он был шесть футов, — пожалуй, на один-два дюйма меньше, — сложения крепкого и шел прямо на вас, слегка сгорбившись, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что заставляло думать о быке, бросающемся в атаку. Голос у него был глубокий, громкий, а держался он так, словно упрямо настаивал на признании своих прав». (Джозеф Конрад. Собрание сочинений. Т. V. «Лорд Джим». Изд. «ЗИФ», стр. 9.)
«Он был молод и выглядел богатырем, но его сила и молодость оставались обычно в тени. Он как бы прятал от людей и свои синие глаза, брызжущие дикою радостью существования, и свои плечи, развернутые упругими крыльями. У него был несомненно большой голос, но говорил он столь сдержанно, что только по глубокому звону на гласных можно было догадываться о безупречности голосовых его средств». (Вл. Бахметьев. Собрание сочинений. Т. III. «Преступление Мартына». Изд. «ЗИФ», стр. 7.)
Оговорюсь. Далее я буду говорить не о плагиате. Я буду говорить о случайном попадании писателя, имеющего неправильную литературную установку, в чужие фабульные схемы.
У Джозефа Конрада есть роман «Лорд Джим». Этот роман с точки зрения английской традиции построен неправильно, т. е. в нем есть 2 сюжетных центра. Первый из них мы и будем разбирать. Второй — не понадобится для параллели, но он, в сущности говоря, представляет самостоятельный роман. Итак, разберем первый эпизод.
Молодой идеальный англичанин попадает капитаном на старый пароход. Пароход везет паломников, людей совершенно беспомощных. Команда парохода плохая. Молодой человек все время чувствует свое превосходство над командой. Пароход терпит крушение: должен потонуть. Джим остается на капитанском мостике, команда бежит. Пароход вот-вот должен погибнуть, и Джим, по неясным психологическим побуждениям, по чувству самосохранения, которое вдруг прорывается через его долг капитана, прыгает в лодку и оставляет паломников на произвол судьбы. Дальше дело развивается так: пароход с паломниками случайно не гибнет, Джима судят в суде за нарушение профессионального долга, причем судьи в недоумении, потому что подсудимый симпатичен. В результате Джим уезжает к малайцам и там героически гибнет.
Содержание «Преступления Мартына» изложу словами Фадеева:
«…В Мартыне чрезвычайно развит эгоцентризм. Выступая где-нибудь, он думает о том, как сейчас выглядит он со стороны. Его занимают думы о подвиге, о способе выдвинуться. Для него характерен мелкобуржуазный индивидуализм.
В чем же преступление Мартына? Сопровождая беженцев, охранять которых поручено ему, он неожиданно под влиянием подсознательного инстинкта в момент ложной тревоги пытается бежать, покинув беженцев на произвол судьбы». (А. Фадеев. Наша литературная суббота. Что говорят писатели о романе Бахметьева «Преступление Мартына». «Вечерняя Москва», № 60, суббота, 10 марта 1928.)
Пароход заменился поездом, лодка — паровозом, паломники — беспомощными женщинами, но совпадения от этого не уменьшились. Приведу параллель:
«„Прыгай, Джордж! Мы тебя поймаем! Прыгай!“ — судно начало медленно опускаться на волне; водопадом обрушился ливень; фуражка слетела у меня с головы; дыхание сперлось. Я услышал издалека, словно стоял на высокой башне, еще один дикий вопль:
„Джо-о-ордж! Прыгай!“
Судно опускалось, опускалось под моими ногами, носом вперед…
Он задумчиво поднял руку и стал перебирать пальцами, как будто снимая с лица паутину; затем полсекунды смотрел на свою ладонь и, наконец, отрывисто сказал:
— Я прыгнул… — Он запнулся, отвел взгляд… — Оказывается, — добавил он». (Джозеф Конрад. Собрание сочинений. Т. V. «Лорд Джим». Изд. «ЗИФ», стр. 157.)
«Может быть! Но я подхожу к концу, Зина, не перебивай меня!.. Вагон наш прибавлял ходу, я видел, что он начинает двигаться сильнее меня. Я уже на локоть отстал от подножки… Какие-то ящики с грузом загородили от меня Уткина… Там, дальше, было черно, ветрено, пустынно… Мне кричали с площадки вагона: „Скорей! Скорей!“ Тогда я вцепился рукою за перильца над подножкою. Меня с силой толкнуло, сбило с ног, но перилец из своей руки я не выпустил…
— И ты… поехал, да? — шепотом спросила Зина». (Вл. Бахметьев. Собрание сочинений. Т. III. «Преступление Мартына». Изд. «ЗИФ», стр. 156.)
Совпадение увеличивается тем, что в обоих случаях инцидент дан в пересказе. Психология самолюбования, готовности на подвиг и внезапная неготовность к подвигу, которая отмечена Фадеевым у Мартына, чрезвычайно типична и для Джима.
Вообще, так как оба романа вышли в одном издательстве — «ЗИФе», то сравнения проделать очень легко, и все-таки я не говорю о плагиате. Плагиата нет.
Бахметьев просто написал чужой роман. Его человек — Мартын — просто не человек, а цитата; цитата вообще из английского романа. Его ситуация — банальна, и трагедия — романна. На этом пути, на пути создания больших полотен и живого человека, такие поражения — полуплагиаты и переизобретения — будут попадаться все время.
Ошибка Бахметьева не в том, что он читал или не читал «Лорда Джима» Конрада, а в том, что он события большевистской революции, совершенно специфические, пытался оформить старыми, традиционными приемами, — и поэтому он выдумал в Мартыне англичанина.
Мне передавали из Воронежа, что случай, аналогичный случаю с Мартыном, был где-то в этом районе. Это не меняет дела. Все построение вещи настолько традиционно, что старая, чужая, романная форма лишила даже фактический материал его специфичности.
Не нужно думать, что любая художественная форма годна для оформления любого материала.
Очень часто семантическая окраска приема настолько сильна, что она совершенно изменяет направленность материала.
Так, Л. Н. Толстой писал свою дворянскую агитку «Войну и мир» приемами натуралистической разночинской школы.
В результате вещь дошла не до того читателя, которому она была предназначена. Люди одного класса с Толстым — Норов и Вяземский — обиделись на Толстого, а интеллигенция, которую Толстой презирал, приняла его.
Вывод:
Мартын не живой человек. Он из папье-маше. Он взят напрокат из кладовых старой литературы. А в литкружках клубов, библиотек, писательских ассоциаций и школ Мартына изучают как революционный тип. Бессмысленная, вредная работа.
«103 ДНЯ НА ЗАПАДЕ» Б. КУШНЕРА
У нас много книг о путешествиях. Начиная от «хождений» монахов и дневников первых русских за границей, через путешествия к святым местам Норова и Муравьева, до сегодняшних путешествий в индустриальные страны.
Одна из наименее интересных книг, если относиться к книге как к сумме сведений, — это «Письма русского путешественника» Карамзина, потому что в этой книге факты вытеснены стилем.
Прототип Карамзина Стерн писал не путешествия, а пародии на путешествия и учил искусству ездить, видя только домашнее.
Но в русской литературе были и классические путешествия. Это еще не вполне разгаданное «Путешествие в Эрзерум» Пушкина, вокруг которого в иностранной прессе шли глухие слухи о политической сатире. Вопрос об этой ранней противоимпериалистической вещи сейчас разрешается Юрием Тыняновым.
Но русский, даже когда он западник, в XIX веке очевидно мало был приспособлен для описания Европы.
Боткин, Гоголь и Кукольник оставили нам описания очень условной романтической страны. Тургенев, проживший всю жизнь за границей, брал ее только фоном для прогулки героев, кроме отрывков «Человек в серых очках» и «Наши послали».
Всего поразительнее путешествие Белинского.
Белинский как будто не хотел ничего видеть и сопротивлялся всему виденному. Он пишет сам:
«Вечером прибыли в Кельн. Когда я сказал агенту, что решительно не намерен терять целый день, чтобы полчаса посмотреть на Кельнский собор, с ним чуть не сделался удар».
Тургенев пишет о Белинском прямо с раздражением:
«Помню, в Париже он в первый раз увидал площадь Согласия и тотчас спросил меня:
— Неправда ли? Ведь это одна из красивейших площадей в мире?
И на мой утвердительный ответ воскликнул:
— Ну и отлично! Так уж я и „буду знать“. И в сторону! И баста! — И заговорил о Гоголе».
Белинскому, вероятно, смотреть Францию было не для чего. У него не было к ней отношения барина, который лакомится, и не было отношения человека, который может посмотреть и сделать то же самое дома.
Наши писатели ездят сейчас за границу и тратят время и на Кельнский собор и не отодвигают площадь Согласия так решительно. Но ходят они за границей по специальным тропкам для иностранцев и смотрят то, что полагается смотреть.
В Берлине не видят его северной части. В Унтергрунде закрывают глаза, и если едут по Рейну, то отворачиваются от заводов, что делать на Рейне очень трудно, потому что можно отвертеть себе голову. Они смотрят на Лувр, а вещи покупают у Вертхейма и не понимают, что Вертхейма тоже нужно смотреть.
Одним словом, писатель, попавший за границу, похож на медведя в сказках во время полевых работ. Этот медведь работал в доле с мужиком, который сеял то репу, то рожь. А медведь никак не мог понять, где корешки и где вершки.
Борис Кушнер был за границей 103 дня не медведем и не русским писателем. Он ездил по делу, и у него был деловой подход к вещам. Для него «лимитрофы» — это транзитные страны, и он умеет дать характеристику государства, основанную на его географическом положении.
Чертежно дан Берлин. Точный, с рисунками, с уважением, которого обычно не имеет путешественник.
Но лучше всего описана Англия.
Кушнер сумел увидеть англичан низкорослыми. Сумел увидать почву между городами, лишенную травы, то, от чего отворачиваются. И увидел всю страну в самых пустых местах, разделенную заборами.
Главы «120 миль ланкаширского тумана», «О батисте и „Титанике“» и о машинах, обрабатывающих хлопок, дают совершенно точную, нетрадиционную Англию.
Книга Кушнера — это не только превосходный путеводитель и превосходное описание путешествия, это учебник для путешественников и учебник умения видеть.
Описание сделано с большим аппетитом строительства. И во всей книге нет ни иронии над чужой, технически лучше построенной жизнью, ни растерянности перед ней.
ЛЮДИ И БОРОДЫ
(Н. Чужак. «Правда о Пугачеве». Изд-во политкаторжан. «Памяти Николая Александровича Рожкова». Сборник статей. Изд-во политкаторжан. Москва, 1927)
Книга Чужака написана не о самом Пугачеве, она написана на тему: Пугачев и русская литература.
И лучше всего в книге о Пугачеве — Пушкин.
Оброчный мужик Пугачев (с точки зрения Пушкина) вышел у Чужака. Самого исторического Пугачева Чужак сумел передвинуть, но не построить. Чужаку удалось укрупнить Пугачева. Он отнесся к показаниям, данным на суде Пугачева, как к современным показаниям. Он ввел в пугачевщину практику революционера-большевика. И сделал еще одного Пугачева. Задача реабилитации Пугачева Чужаку удалась. На сравнительно небольшом материале Чужак понял несущественность самозванства Пугачева, но вопрос о Пугачеве настоящем Чужаком решен не был, так как материалы, необходимые для этого, еще не были обнародованы и не обнародованы даже сейчас.
Мы знаем о нем по газетным статьям, по слухам, по догадкам.
Есаул Пугачев, торговец дегтем, подрывник и знаток своеобразной, уже европеизированной казачьей техники, у Чужака модернизирован и лефизирован. Но все-таки чужаковский Пугачев, вероятно, наибольшее приближение к тому Пугачеву, которого еще построит историческая наука.
Статья Чужака о Рожкове в ссылке лучше его книги о Пугачеве.
В этой статье Чужак не работает определениями, а создает их.
Легко уличать человека в непоследовательности. Еще легче скрывать непоследовательность.
Трудно объяснить живого человека, но необходимо. Обычно живого человека объясняют через человека литературного. Проводят кривую живую линию к литературному многоугольнику. Даже слово живой так испортили, что скоро нужно будет говорить не живой человек, а дышащий человек.
Чужак как будто правильно нашел секрет рожковских колебаний.
«…Месяца за два до его конца мы встретились с ним у парадного подъезда Наркомпроса, и Н. А. стал излагать мне свою точку зрения на Пугачева. Последняя поразила меня своей рожковской простотой и деловитой ясностью. В уме скользнула аналогия…
…Мне скажут, что отношение мое к Рожкову — мало политическое и уж слишком какое-то… человечье. Может быть, это и верно. Но ведь задача моя была — сказать о Рожкове предельно так, как он сложился в моем представлении. И вот — простите — эту человечность Рожкова я никак не могу скинуть со счетов. В моменты драк политика, натурально, выпирает на передний план, — а схватываться нам с Рожковым приходилось, — в моменты же преобладания „органического“ просто-напросто странно было бы не попытаться охватить живой организм.
Я знаю: живого Рожкова у меня все-таки не получилось, да и вообще живого Рожкова нет, но я старался, уяснив, собрать хотя бы самые приметные его черты.
Вывод по самому больному вопросу такой:
Рожков, случалось, ошибался в оценке общей ситуации и в частностях и — ошибаясь — торопился на словах свернуть свои знамена. Но на деле… На деле он больше всего боялся, как бы не приняли его за саботажника, и „делал“ даже тогда, когда уже ничего нельзя было „поделать“. В этом он тоже ошибался. Тот, кто не ошибался никогда, сделает гораздо лучше…»
Этот живой Рожков — человек со своим делом и адресом.
Конечно, Чужаку ничего бы не стоило выпрямить его, выправить.
Так пугачевцы выправляли портреты Екатерины, пририсовывая к ним пугачевские бороды.
Забавно, что когда Пильняку понадобилось связать большевистскую революцию с пугачевщиной, то он дал одному из героев имя Пугачев и пририсовал к нему бороду, за что получил ироническое замечание от одного из критиков, участников революции: «Мы Пугачевых знаем, они бритые».
Работы Чужака прогрессивны тем, что он дает характеристики людей не стилизаторскими приемами.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
М. Горький в «Читателе и писателе» приводит целый ряд соображений о пользе грамотности. В этой же статье содержится несколько упреков по поводу Лефа.
Горький говорит, что мы пытаемся смутить молодых литераторов проповедью ненужности художественной литературы.
Это неточно. Мы проповедуем ненужность многих форм литературы и опровергаем противопоставление художественной литературе нехудожественной.
Мы считаем, что старые формы художественной литературы негодны для оформления нового материала и что вообще установка сегодняшнего дня — на материал, на факт, на сообщение.
Но мы, например, за отдельные вещи Тынянова (условно), в частности за его «Кюхлю», мы за книгу «В дебрях Уссурийского края», а я лично за книгу Горького о Толстом и за горьковские внефабульные вещи.
«Леф убеждает молодежь не учиться у классиков совершенно напрасно». Это непонятно. Фраза темная.
Но мы действительно убеждаем молодежь не учиться у классиков. Вместо этого мы советуем молодежи изучать материал. В частности, изучать литературу, а не учиться у литературы.
Только так ставя вопрос, можно говорить о новом, точном обобщении.
РЕВОЛЮЦИЯ МЕДИА
СЕМАНТИКА КИНО
Семантикой называется наука о значении слов. Слово «стихотворение» воспринимается, конечно, не только своим звуком. Иногда даже звук его почти не воспринимается, тогда оно играет роль условного знака, вводящего в сферу внимания целый ряд связанных между собою значений. Своеобразная семантика существует и в живописи. Отдельные моменты картины значимы не только по своей красочности, смысловой элемент вторгается в чисто живописную сторону и изменяет ее. Например, если в картине есть отдельная, незначительная в живописном, но важная смысловая деталь, то она может перевести взор зрителя и изменить центр картины. Само восприятие пространственности объясняется тем, что мы узнаем в картине предметы и дарим им на основании знания их обыкновенной сущности — объемность.
Если всматриваться в неопределенный силуэт или узнавать предмет, находящийся в отдалении, то в зависимости от того, как нами будет узнаваться предмет, мы разно будем помещать в пространство отдельные его части. Так называемая беспредметная живопись является скорей живописью с неопределенными значениями изображений[420]. Еще более значительную роль играют смысловые величины в кинематографии.
По новейшим взглядам, факт слияния отдельных сменяющих друг друга предметов в один движущийся объясняется не физиологией зрения, а нашей психикой[421]. Мы склонны считать предмет не переменяющимся, а изменяющимся; таким образом, если на экран проецировать буквы разного начертания, но одного значения, то мы увидим, как буква переливается, постепенно изменяет свое начертание. Если же мы будем проецировать на экран очень похожие по начертанию буквы, но имеющие разное звуковое значение, то моменты превращения будут нам гораздо более заметны.
Увеличивая расстояние между кадрами, делая снимки все более редкими, мы не разбиваем ощущения непрерывности движения, а только создаем трудность восприятия. В конце концов можно вызвать обморок у зрителя, который будет тратить слишком много психической силы на связывание бегущих мимо него отрывков. Кинематографическое движение чрезвычайно интересно с точки зрения восприятия движения вообще. Оно относится к реальности, как ломаная линия к кривой. Наше знание, что делает герой на экране, облегчает нам восприятие. Смысловое движение, определенный поступок заполняют как будто бы промежутки между кадрами, облегчают восприятие, поэтому чистое балетное движение в кинематографии страдает больше всего. На экране герой хорошо сморкается, но плохо танцует.
«Киноглаз» и «киноки» не хотят понять основной сущности кинематографии. Их глаза расположены на ненатуральном расстоянии от мозгов. Они не понимают, что кино — самое отвлеченное из искусств, близкое в своей основе к некоторым приемам математики. Кинематография нуждается в поступке, в смысловом движении так, как литература нуждается в слове, так, как картина нуждается в смысловых значениях. Без этого в ней трудно ориентировать зрителя, дать его взгляду одно определенное направление.
Тени в живописи — условность, но заменить их можно только другой условностью. Кино нуждается в накапливании условностей, они заменят падежные окончания языка.
Первоначальный материал кинематографии — не снимаемый предмет, а определенный способ его съемки. Только определенный подход оператора делает кадр ощутимым.
Но совершенно возможна такая работа писателя, когда он будет оперировать не со словом, а с более сложными кусками литературного материала. Вводя эпиграф, писатель противопоставляет целое свое произведение другому произведению. Вводя документы, отрывки из писем, из газет, писатель не перестает быть художником, а только изменяет сферу применения художественного принципа. «За что?» Льва Толстого — это несколько цитат из Максимова[422], но они выбраны и противопоставлены друг другу Львом Толстым. И он считает эту вещь своим произведением. «Киноки» здесь попадают у меня рядом со Львом Толстым. Дзига Вертов от Толстого отличается, кроме количества приемов, которыми он располагает, еще и меньшей сознательностью в работе. «Киноки» отказываются от актера и думают вместе с этим порвать с искусством, но сам выбор моментов заснимки есть уже волевой акт. Противопоставление одного момента другому, монтаж, есть уже работа, сделанная по принципу художественному, только обедненному.
В работах «киноков» киноискусство не выходит на новое поле, а только суживает свое старое. Они работают, как человек с замерзшими пальцами: не умеют брать мелкие предметы и принуждены довольствоваться работой над вторичной формой. Куски, вводимые «киноками», — традиционны. Выкидывая обычную уже сильно изношенную мотивировку смены частей, они не вводят новой. У них есть своя мотивировка, но она всегда одна и та же: пробег аппарата, голос движения. Материал «киноков» взят без учета семантики кинематографии, поэтому снимаемые вещи оказываются не связанными друг с другом, не повернутыми и не поставленными. На их кадрах вещи обеднены, потому что нет тенденционного, в художественном смысле этого слова, отношения к вещам.
Кинематография — искусство смыслового движения. Основным материалом кинематографии является своеобразное кинослово — отрезок фотографического материала, имеющий определенную значимость. Поэтому кинематографический материал по самой своей сущности тяготеет к сюжету, как к способу организации кинослов, кинофразы.
Места в кинокадре не равноценны. Отдельное смысловое изменение, заменяющее одну двухсотую величины кадра, резко изменяет всю его значимость, тем более резко, что все кругом него не изменилось. Этим широко пользуются классики американской кинематографии, повторяя целые сцены, изменяя их только в основном направлении.
Бессознательная кинематографичность, увлечение мнимой беспристрастностью, боязнь искусства обедняют кинематографию, не разрешая все же задачи о выходе из искусства.
1925ЭЙЗЕНШТЕЙН
В театре Эйзенштейн ставил вещи с сильно ослабленным сюжетом и с установкой на развертывание отдельных мест, которые он называл «аттракцион». Каждая фраза текста, реализуясь, становилась самостоятельной сценой.
Эйзенштейн представлял собой еще более законченный тип «режиссера-беспьесника», чем «беспьесник» Мейерхольд[423].
Первая кинопостановка Эйзенштейна «Стачка» не может быть названа чисто бессюжетной вещью. В «Стачке» сюжет есть — это история рабочего, который поддался на провокацию, но сюжет этот притушен и так заставлен развитием аттракционов, что вещь производит впечатление бессюжетной. В «Стачке» Эйзенштейн наметил и новую возможность для сюжета в кино. Основные линии композиции могут быть сосредоточены не только на личной судьбе героя, но и на сопоставлении монтажных моментов.
Подобно тому как поэт, составляющий книжку стихов из уже раньше написанных вещей, создает новую композицию, учитывая прежние вещи не как сложные формальные представления, а как материал, так кинематографический мастер может создавать сюжет монтажно.
Кино тем более должно пойти по этому пути потому, что первоначальный кинематографический материал неизменен, в нем нет художественного поступка, он нейтрален, так как он фотографичен, а фотография (в общем) имеет раз навсегда установленные отношения к снимаемому материалу[424].
Путь монтажного построения сюжета выбран был Киноглазом и развернувшими работы Кулешова конструктивистами[425].
Уже были сделаны по этому принципу несколько фильмов.
Кулешов, монтируя свои вещи, почти не нуждался в сюжете, и поэтому сюжет был у него не в центре внимания. Он не обосновывал им композицию, а только слабо мотивировал. Кулешову не важно, куда бегут люди в массовке.
Конструктивисты во главе с Осипом Бриком думали, что отказ от сюжетного искусства есть вообще отказ от искусства, не понимая, что здесь происходит только смена сферы, обрабатываемой эстетическими методами. Конструктивисты не смогли мыслить диалектически. В наш век эстетически переживается материал. Поэтому документальные вещи, мемуары, письма могут быть восприняты, как роман[426].
«Стачка» — хорошая мотивировка чисто кинематографического материала. Но в «Стачке» было много эстетического материала в старом и для нашего времени в дурном значении этого слова.
Шпана в свое время жила в кадушках. Очевидно, она в них спасалась от дождя. Эйзенштейн создает кадушечное кладбище, причем эти кадушки смотрят прямо в небо, как приборы для собирания атмосферных осадков. Бесконечные кинематографические наплывы, щегольское выделение «кинематографического почерка», бесцельные прыжки в воду и из воды — все это самоигральный эстетизм.
Этот эстетизм сейчас у Эйзенштейна проходит.
Должен оговорить, что в «Броненосце „Потемкин“» такого художественного материала, в старом, полугардинском[427] смысле этого слова, довольно много. Невероятно грациозно погибает матрос Вакулинчук, падая с реи и повисая на талях. Совершенно не нужна возня с брезентом, когда в этот брезент завертывают капитана.
Этого не было, и не нужно, чтобы это было.
«Броненосец „Потемкин“» сделан чрезвычайно умно, прежде всего чрезвычайно отчетливо взят не весь 1905 год, а именно «Броненосец „Потемкин“».
Сужено употребление кинематографического почерка. Во всей вещи три наплыва, и все они смысловым образом оправданы[428]. Монтаж хороший, доходящий, перебивки, как, например, перебивки напряженной сцены съемкой носа «Потемкина», чрезвычайно удачны.
Тут мне хочется прервать спокойный тон доказывания, что гениален не Эйзенштейн, а время и люди, которые создали товар, которым он работает. У Эйзенштейна есть, несомненно, собственный кадр, громадная находчивость, остроумие — это видно по львам, пробуждающимся от выстрелов, — его собственный, эйзенштейновский товар.
Работа с человеком, постановка массовых сцен не идеальны, не все получается; то, что получается, не всегда нужно, но обработка этого материала — сопоставления его — превосходна.
Вся сцена на лестнице построена классически, хотя и в нее ворвался ненужный эксцентризм в изображении двух калек. Но я понимаю, что Эйзенштейн этими калеками хотел подчеркнуть уступы лестницы.
Однако это сделано слишком грациозно.
Зато превосходно использована лестница, с ее площадками, тормозящими движение отныне знаменитой детской коляски.
Это до такой степени тактично, здесь материал так дожат до конца, так экономно использован, что, конечно, лестница Эйзенштейна стóит всех русских фильмов, до нее созданных. Русские фильмы вообще стоят недорого, и Эйзенштейну придется еще получить доплату.
Лучшие сцены в ленте те, в которых никто не работал. Это — пятая часть, составленная из пушек и крейсеров. Но, не вполне владея человеческим движением, примитивно, хотя и чрезвычайно остроумно пользуясь массовкой, Эйзенштейн блестяще умеет использовать человека не в движении, стоящего, опечаленного. Это заставляет Эйзенштейна создать массовые сцены из первых и крупных планов. Вещи Эйзенштейна первоклассны не только в кинематографии.
Что касается работы оператора Тиссэ, то, конечно, она превосходна во всей натурной части, составляющей девять десятых ленты.
Знаменитый рассвет, конечно, классически превосходен, но, может быть, слишком красив, недостаточно локализован для этой картины.
Громадным достоинством съемки картины является необыкновенная логичность операторских приемов. Правильно, смысловым образом оправданы панорамные съемки, съемки движущимся аппаратом, внефокусные съемки. Работа оператора не ощущается как нечто отдельное, она логично связана со всем смысловым построением вещи. Это величайшая похвала, какую только можно сделать оператору. Тиссэ снимает так, как человек должен дышать.
1926«СТАЧКА» ЭЙЗЕНШТЕЙНА И «БАГДАДСКИЙ ВОР»[429]
Кинематографический аппарат и приемы съемки подсказывают кадровый материал.
Ленты находятся под взаимодействием влияний техники кинематографической работы и социального заказа.
Социальный заказ — великий фактор искусства.
Он перетряхивает эстетические приемы и, вводя иной, создает новые формы.
Произведения, созданные по социальному заказу, часто переживают его.
Вред АХХРа[430] в том, что он (художники, его составляющие) обесценивает значение социального заказа, снижает его, отвечая на запрос реставрацией приемов одного из моментов русской живописи — реализма.
Не стану доказывать здесь, но считаю установленным, что живописный реализм есть только одна из систем условного обозначения предмета.
Она, может быть, более привычна для лиц, делающих заказ, но это решает дело только практически.
О практике беспокоится большое количество людей.
Социальный заказ формирует вещь, частью используя для ее создания старые приемы, находя для них новые мотивировки, частью создавая, как я уже писал, новые.
В «Стачке» много неизобретательного перенесения общих кинематографических мест.
Фотография может хорошо снимать блестящие черные поверхности и вообще любит плоскости полуотражающие.
Поэтому у Эйзенштейна есть:
1) Никому не нужный черный автомобиль, снятый ночью под дождем, и черные коляски полицейских.
2) Американские буржуа на гастролях, они у него изображают акционеров завода. Их роль: сидеть вокруг столика, верхняя доска которого блестит. Так как блестеть она может лучше при искусственном освещении (и данном не как солнечное), то заседание происходит ночью. Поэтому получается неувязка при перебивании этой сцены сценой (дневной) нападения конных городовых на массовку. Эстетический шаблон обнажился в своем противоречии соседним частям конструкции.
3) Эстетический шаблон (это не упрек), вызванный техникой наплывов, обременил всех сыщиков превращением в животных. Между тем этот прием равен приему «образа» или «сравнения», иногда каламбура, в литературе. Применение его вне неожиданности неправильно.
4) Эстетический шаблон в кино — это применение неожиданных натурщиков на второстепенные роли. Совершенно не мотивированы «карлики» на столе шпаны. Если в доме есть корица, то это не закон сыпать ее в суп.
5) Не буду повторять дальше начало.
Кино пригодно для передачи движения. Поэтому в нем прыгают. Но нужно прыжки мотивировать. Прыжки в сцене «митинга в воде» не мотивированы.
Социальное задание подсказывало — замаскированный митинг, то есть использование бытового купания. Кинематографический шаблон дал прыжки.
6) Американский шаблон — игра сыщиков и шпаны. Это цитата и своеобразная «Аэлита»[431].
7) Русский шаблон (вряд ли Эйзенштейна) — история соблазнения рабочего. Это рудимент сюжета, никому не нужный, так как действие разворачивается не благодаря предательству. Нужно было (и это, конечно, знал Эйзенштейн) дать работу охранки в массе, в технике, без выделения персонажа и без «карликов».
«Дворец и крепость»[432] должны быть удалены из «Стачки».
Работа Эйзенштейна прекрасный пример положительного значения социального заказа.
Все семь пунктов, мою указанные, вещь легко преодолимая[433].
В ленте есть, с одной стороны:
1) Удачно мотивированное использование старых кинематографических приемов,
2) новые приемы.
Мы все знаем американское «утро в фильме», начинающееся с играющего котенка и цыплят.
У Эйзенштейна одна картина тоже начинается с утенка[434].
Но это другой утенок.
1926ДОВЕРИЕ ВРЕМЕНИ
В то время, когда «Киногазета» пропагандировала «Броненосец „Потемкин“», мы получали от некоторых читателей протестующие письма. Им больше нравилась «Медвежья свадьба» и «Жена предревкома»[435].
«Броненосец „Потемкин“» по оценке протестантов предназначался для вторых экранов. На потраченные деньги уже махнули рукой. Ошиблись[436].
Почти каждый (плохой) современный сценарий начинается в 1919 году и кончается в 1926 году. Между 13 и 17 разрыв. Положение всегда распутывается сперва Февральской и вслед Октябрьской революцией.
Сценарии тем не менее плохи.
Если фильма кончается революцией, если до революции герои пребывают лет по десяти без работы, то значит надо фильмы делать не по-старому, а по-новому.
Будущее принадлежит, вероятно, «бессюжетной прозе» и бессюжетной фильме. Успех «Броненосца „Потемкин“» не случайный поэтому, а типовой.
Вот почему неправилен лозунг «назад к чему бы то ни было», так как этот лозунг предполагает не диалектическое отношение к явлениям искусства[437].
Искусство переходит на новый материал и на новые приемы его оформления.
Киноискусство, как наименее связанное традицией, оказалось в этом отношении передовым.
Работа Эйзенштейна связана с тем сдвигом, который сейчас должны переживать многие.
Гениальность сейчас состоит и в том, что нужно доверяться своему времени.
1926ПОГРАНИЧНАЯ ЛИНИЯ
I
Кино вступает во второй литературный период[438]. Первый характеризовался использованием сюжетных схем и общей композиции произведений слова. В кино, таким образом, использовались навыки новелл (с кольцевым построением).
Но явления быта, для того чтобы попасть в явления искусства, должны кроме факта своего существования иметь еще в искусстве усваивающие моменты. Так, пейзаж существовал всегда (если существует звук в пустой комнате), но попал в литературу только в XVIII веке.
Даже у Пушкина мы имели скорее намеки на пейзаж (я говорю про прозу), чем самый пейзаж. Дубровский попадает в лес. В лесу ничего не происходит. Это место — пейзаж. Герой видит только ручеек, увлекающий за собой листки.
«Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное».
Таков пушкинский пейзаж. Ручеек этот тек еще в XVIII веке. А повести Пушкина стилизованы на архаизмах.
Для восприятия пейзажа нужно было нечто вроде школы.
И даже для того, чтобы в кино проник пейзаж, природа должна была быть не только перед объективом, но и в традиции.
Традиция эта, впрочем, была литературная.
Потому что в природе нет «картин природы».
II
Второй период кино не будет подражателен. В нем кино станет фабрикой отношения к вещам.
Кино начнет работать с ассоциациями. На частном случае это будет сделано Эйзенштейном.
В кино входит образ. Такова сейчас генеральная линия.
«Генеральную линию» я видел в кусках. Расстояние между кусками, их несведенность уже дают понятие о сложности и теоретической значимости вещи.
Мы много снимали деревню. Для таких съемок на фабриках давали самую плохую аппаратуру и режиссеров. Жанр был скомпрометирован.
Деревенская лента заранее принималась как провинциальное народничество.
Когда Эйзенштейн решил снимать деревенскую картину, то один из руководителей кино сказал:
«Это каприз талантливого человека».
Но дело шло о другой ленте и о другом объекте.
Сейчас важна не просто деревня, а отношение к ней и путь ее изменения. В кино вообще нельзя снимать вещи, а нужно выяснить отношение к ним.
Индустриализация деревни — вот кинематографический к ней подход.
Эйзенштейн снимает деревню с точки зрения фабрики и снимает тенденцию деревни к превращению.
«Генеральная линия» — это стычка города с деревней.
Трактор, скомпрометированный в кино не меньше кровожадного белогвардейца, не просто вставлен в картину.
Над трактором смеются лошади. Когда он застрял.
Эйзенштейн, как это обычно (там тоже обычай) бывает в великих произведениях искусства, использовал приемы иного жанра.
Его картина снята в манере комической картины с патетическим ее восприятием.
Вещи не просто сняты, они не фотографии и не символы, они знаки, вызывающие у зрителя свои смысловые ряды.
Картина работает большими смысловыми массами. Не только найден азарт и пафос деревенской жизни, но он связан с темпом города.
Героизм работы показан на фоне машин.
В кусках много движения, больше, чем в готовом «Потемкине». Гроза и косьба в картине по съемке Тиссэ уже перекрывают знаменитый рассвет.
Картина вся на смысловом материале, но не узкосюжетная.
В ней нет той художественно-упадочной мотивировки сюжета, родством с которой сейчас так кичится кинематография.
Лента построена на реальных сведениях, а не на условиях.
В ней эксцентризм работает, как эксцентрик на распределительном валу дизеля.
Материал кусков датированный и адресованный.
Коровы Эйзенштейна и его машины имеют в СССР свое место жительства. Их можно погладить.
Факт не вытеснил анекдота.
Весь пафос развязки построен на сводке. Кино обращается в фабрику установок.
Для ленты Эйзенштейна надо готовить место в сознании нашего времени.
Картина будет простая, веселая. Это будет удивительно. После этой картины (даже кусков) «Броненосец» устарел[439].
Специальность установки (современная деревня) создала в кино возможность нового великого мастерства. До сих пор в кино снимали вещи. Фильма Эйзенштейна сделана на отношении к вещам.
1927О ЗАКОНАХ СТРОЕНИЯ ФИЛЬМ ЭЙЗЕНШТЕЙНА
НЕОБХОДИМАЯ ЦИТАТА
Хорошо напомнить одну редко приводимую цитату:
«Еще Гегель очень хорошо показал в своей „Логике“, что „форма“ предмета тождественна с его „видом“ только в известном и притом поверхностном смысле в смысле внешней формы. Более же глубокий анализ приводит нас к пониманию формы как закона предмета или, лучше сказать, его строения» (В. Ленин и Г. Плеханов против Богданова. Сб. статей. М., 1922. Стр. 55. Письмо Плеханова).
И сейчас часто мы встречаем не это безусловно правильное понимание формы, а старое позитивистское определение формы как «сосуда».
Это пренебрежение к анализу законов построения мешает нам оценить собственных классиков.
ЭЙЗЕНШТЕЙН И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Представитель сегодняшнего монументального стиля в советской кинематографии, строитель кинематографического Кремля, С. Эйзенштейн происходит из младшей линии русского сценического искусства. Работы Мейерхольда, Юрия Анненкова, театральные выступления фэксов[440], Сергея Радлова привели к синтезу циркового и театрального искусства, цирковое искусство передало в театр самодовлеющее значение номера, кусочность композиции, аттракционность и в то же время эксцентризм.
Через театр чужой Эйзенштейн шел к собственному, гораздо более значительному, театру Пролеткульта. Здесь прежний условный материал столкнулся на пьесах Третьякова с политическим заданием. Старые театральные формы отступали и начинали восприниматься пародийно. Труп прежнего сценического искусства был разрублен и уничтожен.
Эйзенштейн утверждает, что не может быть одновременно двух искусств — старого театра и кинематографа, что кинематограф и заменяет и вытесняет театр.
ПРИХОД ЭЙЗЕНШТЕЙНА В КИНО
Первые шаги Эйзенштейна в кинематографии — это пробный кусок переделки «На всякого мудреца довольно простоты». И три пробы на работу в Госкино для «Стачки». Сцена допроса, сцена сходки в лесу и сцена шпаны — знаменитая сцена, начинающаяся с повешенной кошки.
Сюжетная часть сходки первоначально существовала — была судьба рабочего, вовлеченного в провокацию. Но кинематографическая форма со своим монтажным построением создает новые внесюжетные организмы в себе самой. Монтажные куски возникают по иным требованиям. Взаимодействие задания, требующего работы масс, с техникой цирка (с его аттракционностью) и с традициями эксцентризма выдвинуло вновь находимые монтажные законы и создало новую форму Эйзенштейна.
В «Стачке» система аттракциона — кратких действенных моментов — использована для социальных характеристик. Гуси и прочая живность на территории завода показывают опасность иной стихии. Это та опасность, которую народ, для другого рода явлений, определил пословицей: «Солдат в отпуску — рубаха из портков (навыпуск)».
Аттракционность тесно связана в «Стачке» с эксцентричностью. Отдельные куски не входят в строение. Вся линия заговора шпаны (и не чрезвычайно характерная) почти не работает в общей композиции вещи.
ИЗОБРЕТЕНИЕ КАК ТВОРЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МУТАЦИИ
«Броненосец „Потемкин“» был задуман как «1905 год».
Работа должна была идти вдоль тем, по иллюстрационному методу. Съемки были начаты в Ленинграде. Снимали красиво.
Потом поехали в Одессу ловить погоду и крейсер. Поехали на эпизод.
Кинематография уже обрастает легендами, и я, как местный житель, в эти легенды верю.
Говорят, но о том одни администраторы знают, что погоды в Одессе не было. В Одессе был туман, а туман не снимают. Вот сидели и ждали.
Эйзенштейн, великий ошибатель, снял туман и рассвет. Дальше эпизод принял собственную форму. Материал вырастил свою конструкцию так, как частичка жидкости сама строит из себя каплю.
«Броненосец» и его история потребовали противопоставления берега, и он вырастил лестницу. Реальная одесская лестница выросла в лестницу Иакова, и так как на это нет смыслового ответа, то неудачный исторический выстрел «Потемкина», не имевший смыслового значения, внезапно кончился мраморными вскочившими львами.
Львы зарычали. Камень начал двигаться. Кинематографическая форма впервые приобрела поэтический характер, элементы конструктивные сделались элементами смысловыми.
И хотя мы знаем, вернее подозреваем, что бурление воды в «полном ходу» и в «самом полном» в «Броненосце» одно и то же движение, только короче взятое, мы воспринимаем его как другое движение. Режиссер начал переделывать вещь.
ПОПЫТКА С. ЭЙЗЕНШТЕЙНА ВЕРНУТЬСЯ К ИЛЛЮСТРАТИЗМУ
С. Эйзенштейну дали тему «Октября» — тему, в которой он должен был пойти по солнцу, вдоль событий, тему иллюстративную.
Здесь произошел разрыв между историей революции и методом съемки.
Иллюстратизм в искусстве почти невозможен.
Эйзенштейн в этот момент развивал свой метод превращения предметов. Метод создания однозначного кадра, подсказывающего зрителю весь ход дальнейших ассоциаций.
Здесь каждый предмет распадался, метафоризировался. Новый метод Эйзенштейна был не емок. Патетичность ему мешала, потому что здесь она не могла быть эксцентричной.
И Эйзенштейн создал ленту стиля «советского барокко». Казалось, что Октябрьскую революцию делали статуи. Статуи мифологические, исторические, бронзовые, статуи на крышах, львы на мостиках, слоны, идолы, статуэтки. Митинг скульптуры.
Митинг статуй среди посудного магазина.
Революция здесь была взята не тем методом. Выделение людей как выделение мальчишек, выделение солдата в папахе и одной из «ударниц» не удалось.
Эйзенштейн запутался в десяти тысячах комнат Зимнего дворца, как путались в них когда-то осаждающие.
По дороге режиссеру удалось добить эстетизм, истребить его. Он объелся вещами и перешел на Золя[441].
Это была борьба с Зимним дворцом, борьба со старой культурой.
По дороге было сделано много интересного. В том же плане, интеллектуальной, а не фотографической подачей вещей. Один проход Керенского, взятый то на «лицо» пленки, то на ее глянец, превращался в законченную характеристику героя.
Любопытно отметить, что благодаря этому поворачиванию адъютанты Керенского при проходе меняются местами: левый становится правым, а правый — левым.
Это совершенно незаметно для зрителя, даже квалифицированного, так как установка дана на симметрию прохода, а не на лица.
Весь проход — любопытнейший образец новой кинематографии.
ИСЧЕРПАННОСТЬ СТАРЫХ МЕТОДОВ МОНТАЖА И БОРЬБА С НИМИ
Старый логический монтаж, расчленяющий предмет, но в то же время логически обосновывающий всякую перемену точки зрения, сейчас очень хорошо разработан, но в то же время он перестал ощущаться.
Логический монтаж не заметен для сегодняшнего зрителя, он перестал быть художественной величиной.
Быть может, поэтому он сейчас особенно пригодится в научной кинематографии.
Появились зачатки нового, вновь ощутимого метода монтажа. Эйзенштейн называет этот монтаж — интеллектуальным. Это будет монтаж с ощутимостью смысловых переходов.
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Было бы несправедливо ставить Эйзенштейну в счет стоимость «Октября». «Октябрь» — это каталог изобретений, и многие из этих изобретений советская кинематография уже усвоила.
Только при вещах Эйзенштейна понятен и специфичен весь ряд произведений советской кинематографии. Это головной сорт. Кинематография Пудовкина, легче усвояемая, не может быть сейчас противопоставлена работам Эйзенштейна. Ее эстетические методы традиционны, а открытия слишком злободневны.
Впрочем, и от Пудовкина мы вправе ждать не только удач, но и сомнений и нового изобретательства.
Но Эйзенштейн сейчас представитель некомпромиссной формы.
Может быть, поэтому Эйзенштейн противопоставляет свое киноискусство как «большевистское» — «советскому»[442]. Вероятно, считая «советское» искусство во многом слишком компромиссным и часто не то импортным, не то экспортным.
1929КУДА ШАГАЕТ ДЗИГА ВЕРТОВ?[443]
Включение реального материала в произведения искусства — явление закономерное и неоднократно бывшее.
В «Мельмоте Скитальце», упомянутом в «Евгении Онегине», ужасы романа снабжены примечаниями: это, мол, было с тем-то и тем-то.
Получался своеобразный монтаж аттракционов, установка читателя была на кадр, на сообщение. Сюжет мотивировал трюк.
Трюк — это не только тогда, когда Гарри Пиль в белых гетрах прыгает с крыши на крышу. Трюк — это кусок материала, эстетически переживаемый.
Монтаж аттракционов (Эйзенштейна) — переход на материал.
Сосновский[444] в хорошей статье «Пафос сепаратора» поразился новому кадру с адресом, герою с фамилией.
Это будет в кино. И конечно, это относится не только к сепараторам. Это будет в литературе. Вероятно, это будет называться «роман».
Салтыков-Щедрин в письмах к Некрасову протестовал против того, что «тот называет мои статьи повестями и романами».
Пока история литературы изучает не произведения, а их названия.
Роман умирает давно.
Великая русская литература — большое несчастье для современности.
Потому что из-за нее ждут «большого полотна» и Кити Левину — комсомолкой.
Дзига Вертов прямой и крепкий человек. Кажется, что он в числе тех, которые воспринимают изменение искусства как конец его.
Он за внехудожественную, внеэстетичную кинематографию. Кажется, его группа против актера. Но так как неактер не умеет себя вести перед аппаратом спокойно, то возникает такая проблема: научить всех сниматься. Сложный способ забивания стенки в гвоздь.
Дзига Вертов сделал в советском кино много. Благодаря ему появились другие пути.
Мне пришлось видеть «Шагай, Моссовет!».
В этой ленте большинство кадров снято не Вертовым и не по его заданию[445].
Он берет хронику как материал. Но нужно сказать, что собственные кадры Вертова гораздо интересней того, что он нашел в хронике. В них есть режиссер. В них есть эстетический расчет и изобретение.
Лучшие кадры — поливка улиц, съемка поезда из-под колеса, новый и старый быт, снятый не без импрессионизма.
Талантливость Вертова — общая кинематографическая, и она несомненна.
Теперь идет вопрос о художественной тенденции ленты.
Монтаж быта? Жизнь врасплох? Не мировой материал. Но я считаю, что хроникальный материал в обработке Вертова лишен своей души — документальности.
Хроника нуждается в подписи, в датировке.
Просто стоящий завод или стоящие 5 августа 1919 года мастерские Трехгорной мануфактуры[446] — это разница.
Говорящий Муссолини меня интересует. А просто толстый и лысый человек, который говорит, — пускай он говорит за экраном. Весь смысл хроник в дате, времени и месте. Хроника без этого — это карточный каталог в канаве.
Дзига Вертов режет хронику. Работа его в этом отношении не прогрессивна художественно. Он, по существу, поступает так же, как и те наши режиссеры-постановщики, да будут украдены памятники с их могил, которые режут хронику, чтобы вставлять ее куски в свои картины. Эти режиссеры превратят наши фильмотеки в груды битой пленки.
Я хочу знать номер паровоза, который лежит на боку в картине Вертова[447].
Я хочу от Вертова того, что мы имели уже от Мэтьюрина. Конечно, Вертов взял на себя чрезвычайно тяжелую задачу: две тысячи метров без сюжета. Эту задачу нужно непременно укоротить на пятьсот метров. А всю работу нужно озаводить. Нужен сценарист. Нужен сюжет, но не основанный на судьбе героя. Ведь сюжет — это только смысловая конструкция вещи.
Это не стыдно.
Мне кажется, что работа Вертова нуждается не в компромиссе, а в более последовательном проведении принципа.
И прежде всего в аудитории.
У нас оставляют иногда режиссера года на два без экрана.
Потом удивляются: оторвался от масс.
Режиссер должен чувствовать своего потребителя. Зал кино. Вертов нуждается в прокате. Без проката нет идеологии: нет форменных достижений[448].
1926ПУДОВКИН
«Мать» — очень хорошая картина. Кинематографически она чрезвычайно профессиональна. Она в основной своей массе связана с классической школой кинематографии, которую возглавлял в СССР Кулешов.
Возглавлял потому, что сейчас он на других путях.
Путь Эйзенштейна, путь Чарли Чаплина сейчас тоже другой путь.
Но классическая кинематография с отчетливым делением планов, с выделением деталей, со всеми законами монтажа — все это еще много лет может работать.
Для русской кинематографии «Мать» — показатель зрелости.
Здесь учтен кадр, движения людей значимы, лишнего в кадре нет. Лента прозрачна и может быть учтена.
Понятно, например, почему сын не может положить в карман молоток после ссоры с отцом, а отец спокойно кладет в свой карман утюг.
Две выделенные крупным планом детали умело показывают взволнованность сына и привычность буйства для отца.
Вещи продуманные, показаны крупными планами. Детали доигрывают до конца. Так доигрывают утюг, оружие, перчатки офицера.
«Мать» — лента, вычисленная до конца.
Кадр, иногда знакомый нам по «Лучу смерти»[449], в создании которого Пудовкин принимал близкое участие, нашел свой дом, свою мотивировку. Рабочие стали русскими, организованность движения, массовка стала организацией, объясненной заговором. Заводские кадры, пробеги, снятые через фермы, стали нужными. Форма нашла свое социальное оправдание. Кадры полны осмысления. Вещь написана до конца осознанной грамматикой киноязыка.
Осмыслена — и это внесено в кино из живописи и фотографии — опорная точка съемки.
Вместо закона «мотивировки точки зрения смотрящим» введена мотивировка психологическая. Униженный снимается сверху, гордый — снизу. В живописи это не новость. Но введение осмысленного ракурса в кино есть новое достижение в деле создания кинематографической культуры.
Более нова последовательно введенная съемка с точки зрения смотрящего, внефокусная съемка, мотивированная взволнованностью. И снова ракурсные детали по их смыслу. Подошва внесенного в дверь на весь экран.
Работа Пудовкина полна зрелого мастерства.
Менее самостоятельны сильно прокрашенные декорации, в которых видно влияние немецкого кино. Очень интересно восстановление доброго имени наплывов.
Наплывы осмысленны, то как разоблачение (то, что внутри вида), то как наложение рисунка на рисунок.
Завод взят многими наплывами, причем накладывается силуэт на силуэт. Получается графическое построение.
Наплывы суда строят его и взяты объемно.
В этих частях фильмы есть изобретение.
Актеры работают в фильме очень хорошо. Движения их не случайны.
Превосходно выбраны люди.
Монтаж ритмичен, но иногда слишком заметен, акцентирован, что является недостатком, а не свойством школы.
Приемы Пудовкина хороши в пафосе, в напряженных моментах. Очень хорош вздох облегчения у подсудимого при словах «каторжные работы».
Менее удались иронические места фильмы. Иронически взяты революционеры-интеллигенты. Это не сработано. Они выглядят не бессильными, а плохо снятыми и плохо разыгранными.
После избиения рабочего-революционера идут партийцы, которые тихо ловят карасиков. Это неверно для 1905–1907 годов, и это вышло так, как понимается, поэтому в другом ключе. Некоторые моменты в фильме вышли, но традиционно. Например, «небо, на которое смотрел заключенный, когда его вывели из тюрьмы».
Оно слишком близко ассоциируется. «Природа» в ленте взята вообще не очень характерно, хотя и умело.
В общем: огромного мастерства зрелости и большого таланта фильма. Интересно отметить, что лучшая лента фильмы «Русь» оказалась лентой революционной.
Из этого, как и из опыта «Броненосца», можно сделать вывод, что революция в СССР — сейчас самый культурный заказчик.
1926К ФЕВРАЛЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ. КАРТИНА — ДОКУМЕНТ
В «Падении династии Романовых» (прежде — «Февраль») Э. Шуб нет доснятых кусков[450].
Весь материал: история, снятая не с нашей точки зрения, ибо методы съемки тогдашних картин тоже были не наши.
Между тем картина получилась современная. И не потому, что Николай Романов хотел, чтобы его сняли как величественного и доброго царя, а Керенский хотел быть снятым очаровательным. А помещик, тыкающий палкой в борозду, проведенную чужим трудом, позировал как добрый хозяин.
Нет, она потому наша, что монтажер, сопоставляя кадры, дал нам Николая Романова малорослым и вредным царем. Тираном-неудачником.
В трехсотлетие дома Романовых идут из Кремля золоченые люди.
Среди них — градоначальник. Он грозит кулаками толпе, очевидно, крича: «Шапки». Николай идет мелким и спутанным шагом.
Едут февральские восторженные и наивные грузовики.
Идут солдаты гарнизона, вооруженные офицерскими шашками.
Керенский взлетел в воздух, улыбаясь и держа в руке шапку. В сто лет не придумать такой манеры летать в воздухе!
Картина восстанавливает эпоху.
Ленты встали из коробок.
Из 60 000 метров просмотренного негатива и позитива собралась картина в 15 000 метров[451], кроме надписей.
Чистым выигрышем оказался получившийся в результате просмотра каталог лент.
Фильма интересна не только исторически.
Оказалось, что десять-одиннадцать лет тому назад хорошо снимали. Есть кадры эйзенштейновской силы. Манера старых операторов снимать длинными кусками, их спокойные панорамы, длинные шествия совпадали с тем, к чему опять идет кинематография.
Техника ленты в руках конструктивистки Э. Шуб так осмыслена, что вещь представляет собой и чисто кинематографический интерес.
А прошлое, как оказалось, за десять лет далеко ушло от нас. Мы отошли от него как два паровоза, идущие в разные стороны.
Глубокой стариной, восемнадцатым веком кажется русская провинция. Шляпки. Юбки. Гимназисты.
Это уже экзотика.
Лента обильно переклеена и снимками с подлинных документов.
Это — лучший вид надписей.
Надписи от экрана введены хорошо. Не лезут и не хвастаются.
Во всей ленте есть то, что редко удается современной кинематографии. Конструктор вещи не лезет в кадр, не захлебывается от собственной талантливости.
Лента является крупным кинематографическим событием нашего года. Год же в кинематографии явно не високосный. Но вещь удалась и объективно. Эсфирь Шуб показала себя человеком с собственным умением. Она показала, что можно идти и таким путем. Вообще то, что лежит в подвалах и фильмотеках, пропущенное через умелую моталку, подобранное по монтажным листам, интереснее того, что выпускается с фабрик.
Фотографически из всего материала слабей Февраль. Снято, очевидно, поспешно. Как будто дрожащим аппаратом.
В царские времена люди от скуки не торопились.
1927ЭСФИРЬ ШУБ
Маяковский называл свой очерк «Париж» «Записками Людогуся»[452].
Людогусь — это сам Владимир Владимирович, вытягивающий шею, чтобы увидать далекое.
За шутливым названием «Людогусь» лежит уверенность в себе.
Вот что писал Маяковский:
«Вы знаете, что за птица Людогусь? Людогусь — существо с тысячеверстной шеей: ему виднее!
У Людогуся громадное достоинство: „возвышенная“ шея. Видит дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших».
Людогусь любил вещи Эсфири Ильиничны Шуб.
В Лефе было много шуму и лязгу, не всегда строительного. Леф доходил до отрицания искусства, до противопоставления монтажа творчеству, в пользу монтажа. Но в этом шуме была своя логика, которую можно понять. Это не металл, но иногда это руда.
Кино записывает движения. При помощи кино можно записать драму, оперу, можно создавать драму и оперу. Можно создать даже киноискусство, и высокое киноискусство. Кроме того, кино — это память.
Вы представляете себе, как нам было бы интересно видеть в кино Пушкина, как ходит Александр Сергеевич по улицам. Не думать о том, что как хорошо сыграл актер Пушкина, не смотреть, как два актера сыграли по-разному, а увидеть самим. Это невозможно.
Но вполне возможно было бы нам в кино много видеть Горького, Блока, Маяковского.
Лев Николаевич Толстой снят в кино разнообразно. Существует хроника. Хроника страдает злободневностью. Плохо, что мы не снимаем хронику для будущего.
Леф говорил о том, как интересно в кино смотреть старые моды, как интересно смотреть события, развязки которых нам известны и неизвестны людям, ходящим по экрану. Это знание будущего, знание развязок создает исторический сюжет хроники.
Эсфирь Шуб работала на 3-й фабрике, около Брянского вокзала. Она монтировала картины Тарича, Рошаля и многих других.
Возникла мысль создать картину «Февраль», картину «Падение династии Романовых». «Романовых» снимали много. Картина получилась исключительно интересная.
Эсфирь Шуб сделала картину о Льве Толстом.
Картину попортили консультанты, суетясь со своими объяснениями. Но смотришь ее с волнением.
Когда архитектор создает архитектурное произведение, он пользуется до него созданными карнизами, капителями, рустовкой.
Человеческая работа вообще пользуется трудом всего человечества. Художественный труд обладает общностью.
Труд Эсфири Шуб обладает бóльшим количеством признаков самостоятельного труда художника, чем труд архитектора.
Исторические детали, из которых собирается ее лента, каждый раз более разнообразны, каждый раз однократны, в противоположность архитектурной работе.
Такие ленты, как «Падение династии Романовых», как «Испания», как лента о «Комсомоле — шефе электрификации», ближе всего подходят к работе художника-историка.
Из огромного количества материала — материала, обозримого только с огромным напряжением зрения, отбираются эпизоды, и один эпизод осмысливается другим.
Вещь получает глубину и дальность, ее видишь в перспективе.
Зритель сам становится «людогусем», видит общее, видит ход истории, смотря на то, как обучают военному шагу первых наших красноармейцев.
Я рецензировал все картины Эсфири Шуб и не буду повторять свои рецензии.
Работа углублялась, появлялись обобщения, создавался сюжет исторических событий, картина судила историю.
Мы снимаем мало, не снимаем для будущего. Человечество нас будет упрекать за то, что мы не засняли переход от предыстории к истории. Обрезки нашей хроники будут драгоценны.
Будут любить и наши парады, слаженные, красивые, но будут искать, как ходил советский человек, как шел рядом с ним ребенок, как вырастал этот ребенок, менялись улицы и правила движения на этих улицах.
Эсфири Ильиничне Шуб трудно помогать людям вытягивать свою шею.
А хроника, как вино: чем старее, тем сильнее.
Труд Эсфири Ильиничны был почти одинок. Ей работать трудно. Она работает и растет вместе с художественной кинематографией.
1940ИХ НАСТОЯЩЕЕ
Посвящается А. Курсу[453]
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КИНОКАДРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Здесь говорится о значении материала в узком смысле. Но главное содержание главы в том, что в ней выясняется отсутствие первичного сдвига в кино. Литература имеет слово; между словом и предметом лежит акт названия. Кино начинается с фотографии. Здесь нет художественного события. Эйзенштейн говорит, что это фабрика установок (отношение к вещам, предсказанным художником), но мы еще не имеем в кино «литературы», т. е. факта, данного не просто, а уже с обозначением характера восприятия.
То, что один актер, как Джекки Куган, может многократно сыграть вещь на одну и ту же тему, — младенец потерянный и найденный родителями — и даже, вернее, никогда не играет на другую тему, показывает, что качественное различие, ощутимое зрителем, лежит не в самой теме.
Вопрос идет о том, что является молекулой кинематографии, молекулой его художественной ощутимости, кирпичами кинематографического ощущения.
В литературе мы знаем — такая молекула, это — слово. Но как физик утверждает, что сам автор является целым миром со своим солнцем и планетами, вращающимися вокруг этого солнца, так и слово, конечно, не первично. В нем есть не только материя, но и энергия, форма.
Художественное слово обладает разностным ощущением, т. е. оно не то слово, которое употребляется в прозаической речи[454]. Оно — слово, мимо сказанное, определяющее предмет по необычайному признаку, отводящее впечатление в иной план. Кроме того, в силу своего своеобразного выбора и установки, оно находится часто в сфере осознанного звучания и осознанного произношения.
Поэтическое слово — это движение танца или движение, совершаемое в момент психического сдвига, а не движение человека, идущего на службу. Но может быть художественное произведение, в котором эстетическое разностное ощущение покоится вне слова, где слово пренебрежено, не ощущается или перестало ощущаться. Тогда столкновения переносятся на дальнейший материал, в самое слово.
Основное неравенство — есть неравенство смысловое.
Семантическая форма, основанная на значении слов, есть форма основная, наиболее часто употребляемая — художественное слово-понятие или слово-ореол, вызывающее слово-полупонятие. В других формах литературного произведения семантические величины связаны не со словом, а с целым, словами выраженным, положением, причем часть этого материала могла бы быть выражена и в несмысловой форме.
Я приведу пример: у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире» все вещи даны со сдвигом[455]. Правильно («прозаически») в «Войне и мире» воспринимает вещи только Вера Ростова. Привожу цитату из первой главы 1-й части тома второго.
Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но, как и от большей части ее замечаний, всем сделалось неловко.
Здравый смысл и обычное восприятие дискредитированы в Вере, и под этим этическим осуждением лежит осуждение эстетическое.
Приведу цитату из главы XI первой части первого тома:
Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу.
И следующая цитата из IX главы того же тома:
Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.
Вера в романе Льва Николаевича Толстого — уровень воды. Все остальное в романе написано «неправильно». И эти неправильности увеличены сотнями параллелей одного действия другому. Соня, верно и неизменно любящая Николая, служит мерилом сравнения для Наташи, которая любит то одного, то другого, как Душенька Чехова, только со знаком плюс при оценке автора. Жюли Карагина играет ту же роль полутени при Марии Болконской. Наполеон, иронически взятый, обнаженно спародирован на фоне обычного восприятия Наполеона. Кроме того, действующие лица расположены по родству гаммой, представляя как будто группу химических элементов. На этих разностных ощущениях и держится художественное построение вещи. Кроме того, действия даны с подкладкой, т. е. во время одного действия другое действие продолжается, окрашивая первое своим эмоциональным фоном. Так сделан знаменитый разговор под песню «Ах вы, сени, мои сени» между Долоховым и Семеновским офицером. Сам Толстой все время подчеркивает, что разговор прошел бы совершенно иначе, если бы не было этой подкрашивающей подкладки.
Другой пример. Происходит разговор между княжной Мари и ее отцом. Дело идет о предполагаемой смерти Андрея.
Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.
— А! Княжна Марья! — вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало.)
Я уже писал в других своих вещах, что, кроме всего этого, герои, с точки зрения которых дано то или другое действие, — обычно или случайно попавшие, или недоумевающие люди, или, наконец, люди, находящиеся в состоянии аффекта. Так даны разности смысловые вне чистого языкового материала, но, кроме того, ремаркированы всюду способы говорить действующим лицам, отмечены ударения их. Анна Михайловна говорит слово «Борис» с особым ударением. С неправильным ударением говорит князь Андрей слово «мальчишки». Денисов не выговаривает «р». Немцы неправильно говорят по-французски. Русские переходят с французского языка на русский, смешивая грамматические формы. Князь Ипполит почему-то рассказывает какую-то историю по-русски. Билибин специально занят звуковыми играми. Сама языковая ткань произведения, особенно в первой части, чрезвычайно выделена. Итак, на этом типически прозаическом произведении мы видим следующее: эстетическая ощутимость создается рядом разностей, путем создания специальной манеры говорить, обращения внимания на эту манеру. Путем остранения действия одного другим действием. И наконец, путем многократного восприятия одного и того же действия: например, салон Шерер служит для того, чтобы дать традиционную исторически придворную оценку событий. А салон Берг пародирует салон Анны Павловны Шерер.
В самих описаниях, даже зрительных, используется не только описание, а и противоречивость восприятия. Приведу пример, который считаю классическим.
Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах Во́йна впадает в Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединился дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат, кое-где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений зарождались беспрестанно сами собой, из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.
Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища.
Как видите, здесь взято не зрительное описание и не звуковое, а столкновение зрительных ощущений со слуховыми и разрешение их в одном представлении. Еще раз повторю фразу: «Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища».
В слове «странно» подчеркнуто столкновение планов.
Теперь вернемся к кинематографии.
Кинематография, в общем, развивается в параллели с литературой, т. е. работает тем же смысловым материалом, описанием, или, вернее, изображением поступков людей, их судьбы и окружающей их природы. Сам выбор материала кинематографии предсказан литературой.
Если бы кинематография появилась в эпоху Возрождения, тогда бы не пришло в голову фотографировать пейзаж. Съемки производились бы только в садах. А реквизит приема современной кинематографии перенесен из литературы: герои, данные, как портрет, нажимы на деталь взяты из натуралистической школы и даваемый крупными планами пейзаж — из романтической школы; — кинематография честно калькулирует литературу. Между тем в основе — это покушение с негодными средствами.
Мы имеем в достаточной мере прославленную картину «Поликушка» с Москвиным. В этой ленте честно снято то, что рассказывается у Толстого. Но Толстому, как прозаику, совершенно не нужны вещи такие, какие они есть. Ему нужны вещи такими, какими он их показывает. Только с большой натяжкой можно передать некоторые толстовские описания.
Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то, как по высокой траве, подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает (В. Ш. Он видит самого себя в зеркале и не узнает), барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое… Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и все представлялось ему в тумане.
Конечно, добросовестный съемщик этой вещи поставил аппарат и снял барыню, какими они бывают на фотографических карточках. Средний кинематографист думает, что слова мешают писателю, что писатель лучше сделал бы, если бы нарисовал. Между тем Льву Николаевичу Толстому, если бы он мог вставить в свой рассказ живую барыню, — эта барыня не нужна. Не нужны и фотографии барыни. Дать барыню при современной кинематографической технике со сдвигом можно, но ввести во все произведение отношение писателя к вещи, — очень трудно.
Формулирую: в кинематографическом произведении отношение между снимаемым предметом и кадром пока постоянно. В литературном произведении не постоянное, причем в этой разности и находится творческая воля художника.
Режиссер Пудовкин в своей талантливой вещи «Мать» попытался работать ракурсами и снимать униженного человека сверху и гордого снизу, т. е. дать отношение к человеку. И этот прием известен в живописи и фотографии. Конечно, или вероятно, он не может заменить литературной иронии, ассоциации слов — иероглифичность слова позволяет притянуть к предмету больший фонд восприятия, чем в кинематографии. Можно дать визжащее колесо на фоне говорящего старого князя с дочерью, показывая — то разговор, то колесо. Нельзя дать описание Бородина со столкновением звукового восприятия и зрительного и со зрительным восприятием звука. Нельзя вообще дать «Войну и мир» и дать прозаическую вещь, основанную на изменении пропорции представления и восприятия.
Попытка фэксов и Юрия Тынянова дать в кинематографическом произведении эквивалент равнозначения стилю Гоголя тоже пока не удалась[456].
Кинематографический кадр первичен. Кинематография пока лишена большей части той формы, той условности и обусловленности восприятия, которое имеет литературное слово. Добиваться «установки» — это будущность кино. С этого оно и начинается.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Экранная глубина и экранная непрерывность движения есть не физическое, а психологическое явление. Работа над созданием пластического кино сводится к нахождению знаков глубины — новой условности, а не к изобретению очков или какого-нибудь физического прибора.
Всем известно, что кинематографическая лента состоит из ряда отдельных снимков, на которых зафиксированы отдельные моменты движения. Обычно думают, что слияние этих моментов происходит оттого, что человеческий глаз сохраняет раздражение некоторое время. И считается таким образом, что основа кинематографического движения есть физиологическое слияние изображений.
Линке доказал, что стробоскопический эффект (эффект слияния изображений) имеет место и тогда, когда слияние зрительных впечатлений сетчатки отсутствует[457]. Есть прибор, называемый талтоскопом. Принцип этого аппарата состоит в том, что два или более сходных изображения поочередно проектируются на одном и том же экране. При достаточно частой смене картин мы получим не два чередующихся изображения, а одно изменяющееся. Например, мы можем увидеть круг, обращающийся в эллипс.
При описанных выше опытах с талтоскопом получается впечатление движущегося изображения даже тогда, когда эти изображения разделены настолько большим промежутком времени, что зритель видит, как между двумя последовательными картинами экран на мгновение темнеет. Если зритель видит, что экран темнеет, то, значит, в его глазу предыдущее зрительное впечатление успело совершенно исчезнуть. Слияние изображений есть явление не физиологическое, а психологическое. Мы соединяем предмет определенным психологическим усилием, мы воспринимаем его как движущийся благодаря определенному навыку. — Замена предмета — при отсутствии причинной связи замены — воспринимается как изменение того же самого предмета.
В своей основе кинематографическое движение так относится к движению реальному, как многоугольник с большим, но не бесконечно большим числом сторон относится к окружности, в него вписанной. Выравнивает кинематографическое движение наше знание о движении вообще. Мы воспринимаем кинематографическое движение не видением, а узнаванием[458]. Приблизительно так. Приведу пример: в лесу видно дерево, похожее на человека, чрезвычайно отдаленного. Но мы дорисовываем себе недостающее и видим костюм человека, орудие его, потому что мы как бы условились сами с собой видеть его человеком.
Итак, мы приходим к определению второго свойства кинематографического кадра.
Первое свойство было — отсутствие разностных отношений с предметом, снимаемым в кадре.
Второе свойство — это то, что кадр более означает предмет, чем его изображает. Это знак.
Теперь возьмем третье свойство кинематографического кадра — экранную глубину. Для анализа нужно сказать несколько слов о глубине живописной — о живописной перспективе.
У профессора Нечаева[459] приведен пример того, до какой степени неотчетливо неподготовленный человек воспринимает картину.
В киоте одной бабы он нашел лубочную картинку, которая изображала, как весна взяла мужика за чупрыну. «Что это такое?» — спросил он хозяйку. Она ответила: «Это усекновение головы Иоанна Крестителя». Мы имеем и другие примеры, — когда карикатурная деталь не могла пробить традиционность восприятия. Зритель получал традиционное ощущение и больше уж ничего не хотел. Он думал, может быть, что это та же буква, но с какими-то особенностями почерка.
Узнавание рисунка картины и даже фотографии связано с накоплением определенных условностей. Мы не видим глубину китайских картин, но она существует для китайца. Я отчетливо помню, что для меня в детстве пол в картине шел не в глубину, а занимал нижнюю часть, как забор.
Но мы приучиваем себя к нашей перспективе, и если она не имеет реального соответствия с предметами, то все-таки соответствует им настолько, что путем упражнения дает нам объемность представлений.
Нетрудно здесь сделать отступление в отступлении, но я должен все-таки сказать, что в картинах эпохи Возрождения отдельные детали бывали вписаны в другой перспективе, чем вся картина. Так написана тарелка в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, ковры на стенке в той же картине. Очень часто встречается в живописи при применении классической перспективы введение в картину нескольких горизонтов. Объясняется это обыкновенно тем, что некоторые традиционно воспринимаемые предметы кажутся неправильно нарисованными, если их взять в общем отношении со всеми частями картины. Они требуют, если переводить на кинематографический язык, съемку другим планом, новой точки аппарата.
Теперь посмотрим, что происходит со стереоскопическим эффектом, эффектом глубины в кинематографическом кадре. Мы не должны видеть в кадре глубину, потому что известно, как достигается стереоскопический эффект при нормальном зрении. Считается общепринятым мнение, что стереоскопичность восприятия достигается, главным образом, путем видения двумя глазами. Мы в кино видим одним глазом, глазом объектива. Поэтому экран должен быть плоский, и на самом деле глубина все-таки воспринимается. Между тем и воздушная перспектива, т. е. ощущение большей удаленности предмета, благодаря его неясности очертания, в кино тоже искажена. Причем искажена разнообразными способами, в зависимости от работы объектива. Существует целый ряд изобретений, основанных на принципе стереоскопа, которые дают полное ощущение пластических тел на экране, но и без их помощи мы на экране видим дорогу, видим женщину, иногда даже влюбляемся в женщину. Дело в том, что мы уже привыкли к экрану и, узнавая те предметы, которые на нем изображены, приписываем от этих предметов объемность этим изображениям. Декорация только тогда начинает жить на экране, только тогда получает глубину, когда в ней ходят, когда ее обыгрывают, когда ее подкрепляют тенями.
В этом отношении чрезвычайно показателен опыт, проделанный оператором Тиссэ, которому удалось в картине «Золотой запас»[460] преодолеть обычное, неприятное[461] восприятие зрителем. Макет не дает ощущения глубины, Тиссэ поэтому на макете показал тени от деревьев, находящихся вне макета.
Если в кино вы видите какой-нибудь предмет и не знаете его смысловой значимости, то вы не знаете и то, к какой части глубины экрана он относится. Я видел кадр, в котором торчала какая-то поперечная палка, а где — я не понимал. И только сообразив, что это верхняя часть стекла автомобиля, я поставил ее на место.
Экранное изображение чрезвычайно условно: оно состоит из ряда моментов, связанных ассоциативно с моментами реальными. Мы дорисовываем экран. Может быть, на экране мы видим цвет и то, что американцы отказываются от виража и дают ленту в одной окраске, — показывает нарастание условности в кино. Перед цветным кинематографом и кинематографом говорящим в качестве препятствия стоит не техника, а отсутствие необходимости. Говорящее кино почти так же мало нужно, как поющая книга. Книга, слова, листы почти не ощущаются при чтении, если только на них нет специальной установки.
Кинематография обладает своеобразным языком, своеобразными словами, и у нее начинает вырабатываться своя грамматика. Дальнейший ход работы кинематографии и состоит в накоплении условностей, которые позволяют ей втягивать зрителя все легче и легче в дальнейший ряд ассоциаций. То, что мы имеем в кинематографии, это еще не законы кинематографии. Это только отдельные опыты кинематографистов, отдельные приемы, созданные для частных случаев и распространенные на кинематографию вообще.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О том, как современный киномонтаж использует условность киноизобретателя
Мы находимся сейчас пока в эпохе монтажного кинематографа с выделением деталей крупными планами, сопоставлением этих деталей, которые пытаются заменить образную речь литературой. Мы считаем правилом кинематографии перебивку одного действия другим действием, а между тем это тоже только частный случай. Это первый ответ на задание. Действительно, это нам помогает не давать действия целиком, а только выделить одни его моменты, увеличивает алгебраичность кинематографии, делает еще более ломаной ту приблизительную ломаную линию, которая соответствует кривой реального движения.
Перебивка позволяет заменить кусок одного движения пропуском. Перебивка — мотивировка пропуска, но она не закон кинематографии, а прием кинематографии, ближайший технический ответ на техническое затруднение. Конечно, надо усовершенствовать аппарат, можно изменять технику кинематографии, но работа художника состоит не только в овладении новыми приемами техники, но и в художественном использовании технических затруднений. Поэзия основана на несовершенстве человеческой речи.
РАЗДЕЛ II. КИНО И КЛАССИКИ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава о том, что наиболее примитивны и наиболее далеки от литературы именно инсценировки классиков
«Коллежский регистратор»[462] — вероятно, хорошая картина, во всяком случае, картина прославленная, дающая большие сборы, но у литературных произведений, обращающихся в произведения кинематографические, — странная судьба.
В общем можно сказать, что в детской литературе в произведение для детей обращается произведение, написанное для взрослых и потом потерявшее свою социальную значимость: пример, Гулливер, написанный с явно памфлетной установкой на пародию, на жанр путешествия и т. д., «Робинзон Крузо» и сказки, созданные первоначально для взрослых. Сейчас сам обычай давать классиков читать молодежи как будто покоится на этом неосознанном явлении, и библиотекари говорили мне, что Тургенев совсем не нравится комсомольцам, но нравится пионерам. Автор, создающий свое произведение, если это произведение хорошо, обычно борется с предшествующим восприятием вещи, пытается нарушить канон, повернуть явление и дать его с новой точки зрения.
Весь роман Наташи в «Войне и мире» Толстого основан на этой борьбе с классическим шаблоном: верная любовь; у Наташи — любовь неверная, и Толстой так и записал в черновике: Наташа хочет замуж и вообще. После этого «вообще» недогадливый издатель Чертков поставил знак вопроса.
Кинематографические же переделыватели берут классическое произведение в период его осмысливания тогда, когда форма уже спекается, и рассказывают «Войну и мир» с точки зрения Веры Ростовой[463].
«Станционный смотритель», превращенный Оцепом[464] в «Коллежского регистратора», у Пушкина содержит следующие особенности: Дуня уже в 14 лет была большой специалисткой по поцелуям. Вот что пишет об этом безымянный рассказчик «Станционного смотрителя».
Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась… Много могу я насчитать поцелуев «с тех пор, как этим занимаюсь», но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.
Перед этим рассказывается содержание картинок на стене «в смиренной, но опрятной обители» «Станционного смотрителя»[465].
В этих картинках:
В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие.
Как видите, эта история блудного сына — история падения Дуни — дана в рассказе смотрителя, как параллель, причем смотритель подчеркивает это во фразе. Эта фраза в пересказе рассказчика взята была дополнительно в кавычки:
«Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою».
Тема заблудшей дочери связана с темой блудного сына. Деньги, которые бросил смотритель и растоптал, — он хотел потом подобрать, но было поздно. Сам смотритель ждет для Дуни гибель и плачет, слезы эти смотрителя были отчасти вызваны пуншем, коего он вытянул пять стаканов в продолжение своего повествования. В конце повести мальчик рассказывает, что Дуня:
Прекрасная барыня — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище».
Таким образом, тема блудной дочери в «Станционном смотрителе» дана как мера для отталкивания; дочка не погибает, погибает отец.
«Станционный смотритель» враждебен «Коллежскому регистратору», и все эти слезы, которые проливаются на сеансе, — они текут мимо Пушкина. Зритель впечатывает классику свое собственное банальное восприятие и любит имя классика, как мотивировку банальности, любит за то, что оно позволяет ему плакать не стыдясь и говорить — «Ведь я же настоящее искусство понимаю». Если случай с «Коллежским регистратором» довольно сложный, то гораздо проще можно понять реакционно-художественную сущность киноинсценировок классиков на примере «Каштанки» — Чехова, которая сейчас поставлена Ольгой Преображенской[466]. У Чехова рассказ «Каштанка» сделан так: во-первых, он разделен на главы с торжественными названиями: дурное поведение, таинственный незнакомец, новое, очень приятное знакомство, чудеса в решете, талант, беспокойная ночь, неудачный дебют. Хозяева у Каштанки — пьяница-столяр, который на нее не обращает никакого внимания, презирает ее, и мальчишка Федюшка; про этого мальчишку рассказывает Чехов, так сказать, со слов Каштанки следующее:
Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку… Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка.
Как видите, мальчик средних достоинств.
Каштанка попадает к клоуну и оказывается очень талантливой. Клоун над ней работает, хорошо к ней относится, клоуну она нужна. На дебюте Каштанки в цирке мальчик узнает Каштанку, и она, забывая хозяина цирка, учение, бросается к старым хозяевам.
В чем тут дело?
Здесь дело в собачьей преданности, взятой иронически. Чехов не в восторге от возвращения Каштанки; собачья преданность здесь взята иронически, отчасти здесь пародирован рассказ с наивными мальчиками и т. д.
Что делает киносценарист?
Прежде всего, он превращает Федюшку и столяра в положительных типов, в две голубые роли, как говорят в театре, — столяр в очках работает, строгает; Федюшка бегает по улице в поисках пропавшей Каштанки и попадает к шарманщику. «О, эти шарманщики». Пусть это будет единственным «О» в моей книге. «О, эти шарманщики», они бродят с собаками и обезьянами по советской кинематографии, застаиваясь, впрочем, большей частью в корзинах, Федюшка попадает к шарманщику, шарманщик его, конечно, бьет, но он возвращается к отцу, а потом к отцу возвращается и Каштанка.
Таким образом, замысел Чехова совершенно разрушен. Возвращение Каштанки, уравненное с возвращением ребенка, вызывает у зрителя слезы, а у Чехова это было сделано:
— Тятька! — крикнул детский голос. — А ведь это Каштанка!
— Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. — Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюйть!
В одной немецкой научной картине музей показан с точки зрения собачки, которая в него входит.
Ракурсы и линия горизонта давно интересуют живопись и должны интересовать кинематографию. Вопрос о перспективе всадника и о лягушечьей перспективе, т. е. о горизонте, поднимаемом и очень опущенном, подробно разработан мастерами. Конечно, Каштанку и ее своеобразное восприятие мира можно было передавать, начавши с горизонта Каштанки, но картина снята — так, поверху. Мы не имеем права требовать от режиссера, чтобы он был хорошим режиссером. Если ставят картину, если зал наполняется, то, вероятно, это все правильно. Но киноинсценировки — зло по двум причинам. Основная причина — это то, что художественно-литературное произведение создано из слов и никаким другим способом передано быть не может. Литературный пейзаж и литературное описание человека не может быть заменено ни фотографией, ни картиной, ни портретом. Пропуски, сдвиги в литературном произведении — это прием не технический, а художественный, и писатель описывает не все, потому что ему не нужно все описывать. Поэтому, вообще, от литературного произведения очень мало можно отвлечь для произведения кинематографического, но, как общее правило, кроме того, киноинсценировкой пользуются отсталые слои современной кинематографии. Не будучи в состоянии воспринимать явления искусства, они берут старое произведение искусства, которое в силу своей привычности уже перестало иметь боевой смысл и подверглось процессу окаменения. Поэтому ценность сюжетов киноинсценировок не находится ни в каком отношении с ценностью произведений, с которыми они связаны.
Тогда возникает вопрос личного порядка: а зачем вы инсценировали «По закону» Джека Лондона? Мне кажется, что здесь есть ответ следующий: инсценировал я его сознательно, и не инсценировал, а боролся с литературным произведением, т. е. расстояние между старым и новым его восприятием было мною учтено как элемент художественной формы.
Александров — сопостановщик Эйзенштейна — как-то раз со мной разговаривал. Я рассказывал ему, что Э. Шуб хочет снимать белорусскую жизнь без всякой инсценировки, и для того, чтобы показать настоящую избу, она хочет не делать ее в павильоне, а просто взять и распилить избу пополам. Александров мне на это ответил: «Это будет хорошо, если показать само распиливание». Он внес в самый показ реального материала игровой момент приготовления материала, реального материала. И вот это умение эстетически использовать реальный материал и есть основное умение группы Эйзенштейна.
Дзига Вертов делает из кино красные стихи; эти стихи нельзя назвать белыми по содержанию и по тому, что кадры все время рифмуются, но предполагается, что это уже не искусство, а конструкция. На самом деле, у него искусство продолжается, и современный день с установкой на факт, а не на конструкцию — это новый день того же искусства.
Один американец писал в Россию советы, как писать сценарии для американских фирм; он говорил: «Нам подошла бы „Капитанская дочка“ Пушкина по возможности на новом материале, но так, чтобы в конце — герои приезжали в Америку».
Если это сделать сознательно, если повесить на стены павильона, в котором будет разыгрываться эта новая «Капитанская дочка», гравюру старой «Капитанской дочки» с приличными надписями из Пушкина, т. е. если восстановить прием Пушкина в «Станционном смотрителе», то вещь может получиться. Причем хотя она и будет создана пародийно, ощущаться она может и не пародийно.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Глава о Льве Кулешове. Здесь вы прочтете об эксцентрическом сценарии, о помрежах и о веселости, лежавшей в глубине искусства. Попутно я защищаю «Парижанку» от известного теоретика искусства Садко[467]. Список его книг мною сейчас составляется
Моей школой сценариста, кроме фабрики, был коллектив Кулешова. У Кулешова уже имелся сценарий, написанный одним товарищем[468]. Меня позвали лечить этот сценарий, причем, так как я был в ссоре с производственной организацией, то лечить сценарий я должен был безыменно. Мы сидели в комнате Кулешова, в которой стоит отдельный счетчик и висят такие сильные электрические лампочки, что они напоминают ателье, где на полу стоит мотоциклет постоянно в разборе, а на круглом шкафу с лапками внизу — вверху сидит, поджав лапки, серый кот. В этой комнате столько народу, что в ней нужно было бы поставить скамейки, урны МКХ и посыпать пол песком. На тройном диване, с бородой и трубкой, лежит Тройницкий, на другом диване Галаджев, зарастающий бородой, Хохлова — высокая, с сухими волосами, эксцентричная, сдержанная; голубоглазый помреж Свешников, который на съемке все может достать и никогда не рассказывает, как он достал, точно, как у Эйзенштейна помощники выслушивают администрацию, но Сергею Михайловичу никогда своих разговоров не передают. И вот в этой компании с 100 % немцем Фогелем, который, говорят, поет дома «Вниз по батюшке, по Рейну», и с сухим, крепким Комаровым, мы писали эксцентрический сценарий[469]. Я переделывал его столько раз, что уже забыл его название. Я, вероятно, никогда не увижу его поставленным, или, по крайней мере, перед этим я под своим или чужим именем напишу сценарий, который сможет покрыть квадратуру всех съемочных площадок и заполнить кубатуру всех ателье. Но этот сценарий я люблю. Начинался он неплохо: человек стоит на платформе поезда, и поезд проходит мимо него пятнами своих освещенных окон. Этот кадр сейчас чаплиновский. Конечно, Чаплин его у меня не взял[470]. Мне жалко, что мы его не сняли сами. И мне жалко, что его у меня не утащили. В этом сценарии был мужчина, который любил женщину; женщину он эту не видел никогда, а знал только ее атрибуты: пудреницу, руку, туфли, кусок прически, и эти атрибуты составляли монтажную фразу. Появление одной части этой фразы, одного атрибута, вызывало появление всей фразы. Женщина же не появлялась совсем, до конца. В конце появилась для разочарования. Мужчина искал ее, и когда нашел с соперником, то загнал соперника в ванну, насыпал в ванну лапши, и варил врага в ванне, размешивая градусником. Должен признаться, что вот это так и было, и были еще там и другие невероятные вещи, а к чему это — я знаю, мне нужно. Вот на такой работе можно было научиться сценаристу, потому что актеры примеривали роль на себя, тут же и говорили, можно или нельзя это сыграть. Эта странная вещь кинематографически, сценарно была совершенно правильна. Может быть, для приемлемости ее нужно было найти не эксцентрический эквивалент (равнозначение) этим эксцентрическим действиям, т. е. сделать то, что часто делают поэты, которые превращают заумную запись в смысловую. Я цитировал в одной книге рассказ Александра Блока, который говорил, что у него была строка:
Разверзающая звездную месть.Эта строка не имела никакого смысла, он заменил ее строкой «ох, как страшно не пить и не есть», но сам для себя читал по-старому[471].
Математик Пуанкаре говорил, что математики убирают леса, по которым они добираются до своих выводов. Так убираются леса художественных построений; они оформляются, получают бытовую мотивировку, становятся материалом, но эксцентриада лежит в основе многих явлений. Мы не ощущаем эксцентриаду у Гоголя потому, что даже его «Нос» стал классическим, общепринятым и даже полезным. Но для современников Гоголя эти два носа — один, отрезанный от живого человека, а другой находящийся в сюртуке — были явлением весьма удивительным.
Вещи Андрея Белого, в начале, как он мне рассказывал, были созданы пародийно. Весь русский символизм, вся манера плана произошла от юмористических стихов Владимира Соловьева, и в самых планах Блока, в его драмах, черновиках, мы видим внезапно юмористический тон, — это не особенность символизма. На дне искусства, как зерно брожения, лежит веселость. Чрезвычайно подозрительно, не пародия ли даже и «Евгений Онегин». В его структуре пародийная черта чрезвычайно ясна: 1) посвящение, 2) запев — «пою герою моему и множеству его причуд», 3) юмористически игровые эпиграфы, 4) пародийный язык с нарочным усилением варваризмов, 5) пародийное примечание, которое тогда ощущалось очень ярко, т. к. манера давать примечания всерьез была развита широко. Все это показывает существование пародийного элемента во внешней стороне художественного произведения, 6) но подозрителен даже способ обрисовки героя:
И между тем луна сияла И томным светом озаряла Татьяны бледные красы И распущенные власы.Эти «власы» с ударением на конце и «красы» и вся картина имеют явственно пародийный оттенок и связаны с аналогичным местом в «Домике в Коломне», где пародийный момент дан явно[472].
Пародия как таковая может не доходить до зрителя и служить только внутренним толчком для произведения, для автора — его тайным ходом.
В «Парижанке», в постановке Чаплина, ирония обольстила товарища Садко. Ему показалось, что вещь сделана с искренностью, что вот Чаплину очень жалко героиню и что Чаплин взял такую банальную тему. Но само использование банального положения не делает вещь банальной потому, что мы можем взять, например, банальный жанр — оду — и развернуть его низким слогом, разговорным словарем, и мы получим такое историко-литературное явление, как Державин[473]. Мы можем ввести в поэму разговорный язык и получить прием Пушкина и т. д. Наконец, мы можем переставить значение типов, оставить общий рисунок их ходов. Так, Рети предложил переменить на шахматной доске места офицеров и коней, тогда бы вся конструкция игры изменилась, изменилась бы исходная позиция[474].
В «Парижанке» перемещены роли любовника и его богатого соперника. Сделано, в сущности говоря, то, что сделал Лесаж в одной своей маленькой новелле. В этом отрывке хромой бес показывает студенту на картину следующей сцены: женщина целует старика и протягивает руку для поцелуя молодому. Студент говорит, здесь нет ничего особенного: женщина целуется со старым мужем и протягивает руку молодому любовнику, а бес протестует, говоря: старый мужчина — это любовник, а молодой — это муж, который продает свою жену («Теория прозы»).
У Чаплина Менжу-богач заигрывает любовника; он очарователен, он импонирует женщине. Причем женщина, если любит кого-нибудь, а она взята у Чаплина с развитием кошки, то она любит своего содержателя, а не своего традиционного любовника. Это неравенство положений проходит через все монологи, причем монологи односторонни; с одной стороны речь, а с другой ироническая игра на саксофоне. И так как эти неравенства ролей, сдвинутость их, именно всего сильнее в дуэтах, то эти дуэты и есть самое сильное место кинопроизведения. Кроме того, подход, развернутый сильнее действенных мест, например чрезвычайно богато, хотя и традиционно, для людей, знающих французскую кинематографию, развернут праздник в ателье, тот праздник, на который «Парижанка» не попадает.
Мне, может быть, скажут, а кому это нужно, если это не понятно даже Садко? Это нужно кинопублике, которая представляет собой чисто типовое восприятие.
До зрителя чаплиновский сдвиг доходит сам по себе, подсознательно. Ему просто интересно смотреть, хотя явная ирония воспринимается им на 75 % всерьез.
Для Чаплина же характерно то, что он, как в обыкновенном искусстве, свою эксцентриаду в этой вещи совершенно зрелой довел до бытовой мотивировки и маскировки.
Вещь, которую я предложил Кулешову, не была принята фабрикой к чтению. Тогда, вместо нее, мы решились писать сценарий, основанный на наименьшей затрате средств, с наименьшим количеством действующих лиц, с одним павильоном, и с установкой на игру актеров.
РАЗДЕЛ III. КУЛЕШОВ
«ПО ЗАКОНУ»
Происхождение и анализ сценария
Фабрика у нас стояла часто, главным образом, из-за отсутствия денег; картины заключали в себе массовки на зимней натуре и дорогие костюмы. Деньги поступали с перебоями. При нашей сегодняшней технике кинематографии, или вернее, при технике администрирования, не принимается в учет вопрос о загружении всех цехов. Все режиссеры снимают, и так как картины однотипны и содержат приблизительно одинаковое количество павильонов и рассчитаны на одинаковое количество съемочных дней, то все сталкиваются на павильоне и задерживают друг друга. Потом все кончают снимать, павильон пустеет, плотники не заняты, осветители не работают. Лепной цех может быть загружен работой впрок, т. е. может делать архитектурные детали из папье-маше, но обыкновенно совсем бывает не загружен. Вся работа сосредотачивается на монтажной. В монтажной монтажники из 50 коробок, которые им приносит режиссер, делают шесть частей, шесть коробок. Провертывается необыкновенное количество материала, проверяются дубли, причем из наших операторов только немногие могут определить характер съемки по негативу, поэтому все печатается на позитиве, а потом проверяется на экране. Составляются части, части не лезут в коробки, режиссер начинает мечтать о второй серии, и, наконец, все смешивается, и получается картина. Павильон в это время стоит; т. к. выпуск картины происходит сразу, то и деньги поступают порывами. Расходуются деньги судорожно. При нашем финансовом положении неизбежны перебои в получении денег и простои фабрики. Денег иногда не было до анекдота, до того, что декорация стояла из-за того, что не на что было купить сажу на покраску штукатурки, и не было у кого занять, потому что и рабочим и служащим не было заплачено жалованье. Конечно, здесь не было злой воли, а была ошибка в составлении финансового плана на почве неправильного составления художественного плана. Между тем и в простойном виде фабрика представляла собой большой организм, могущий работать. И вот в один из таких простоев я предложил режиссеру Таричу снять картину, основанную на советском быту с тремя действующими лицами. Тарич был загружен «Крыльями холопа»[475] и не решился перебить темп работы, не решился выйти из установки на определенную эпоху. Тему я эту поэтому заложил и отдал потом Роому для картины, которую он сейчас снимает[476]. После браковки нашего сценария Кулешову предложили еще несколько сценариев, один из них — «Банковый билет» — представляет собою типичный сценарий для чтения, на американской натуре, со многими павильонами и со смешными надписями, причем в нем был типичный признак плохой комедии. Действующие лица все время смеялись. Кулешов от этого сценария отказался. Нужно было придумать какую-то неоспоримую вещь, доказать право хотя бы на эксперимент. Дорога эксперимента была предсказана тем, что у Кулешова установка взята была на актера, на психологическое положение. Мне, по соображениям павильонным, внутрифабричным, нужно было написать небольшой сценарий, который бы не занял у нас и так забитого павильона, причем, конечно, это задание было мое, а не администрации фабрики, в голову которой просто не укладывались сценарии необычного типа; поэтому необходим был сценарий с минимальным количеством действующих лиц. Я остановился на трех. Для того чтобы три действующих лица были изолированы от всех, необходимо создать зону этой изоляции — это может быть пустыня, снежный занос, разлив реки и невозможность выйти из квартиры, по каким-нибудь соображениям, у преступника, боящегося полиции и т. д.
Теперь, когда идея о сценарии с минимальным количеством действующих лиц привилась, то использованы, вероятно, будут все возможности и придуманы новые. «41-й», по сюжету Лавренева, основан на пустыне, являющейся мотивировкой маленького количества действующих лиц[477].
У нас был выбор двух вещей: Джека Лондона — «Кусок мяса» — воры, отравляющие друг друга и не могущие звать на помощь, или рассказ Джека Лондона же — «Неожиданное». «Неожиданное» лучше «Куска мяса» потому, что в нем есть натура, и натура, легко доступная в Москве. Снежная равнина, которую мы думали снимать с аэросаней. Мы предполагали, что картина будет стоить тысяч пять и даже обратились, после отказа в Совкино, выдать нам эти пять тысяч под нашу ответственность, чтобы мы сделали эту картину сами. Сценарий на тему «Неожиданное» оказался неподходящим для фабрики. Художественный совет Госкино, в лице известного сценариста, написавшего сценарий «Крестовик»[478], уверил, что такой сценарий поставить невозможно.
Сценарий пошел в ГПП[479]. Там его пропускали с трудом, тем более что Госкино не очень защищало сценарий и пропустило его только в порядке эксперимента. Пока шли разговоры, растаял снег, наступила весна. Появилась необходимость заменить натуру. Мы заменили «снежную равнину» разливом реки Юкон, другим способом задержки. Снимать реку, при юпитерах, плавающих на плотах, при подводке электрического тока, подвозке аэроплана для создания бури, конечно, это чрезвычайно удорожило постановку, но сейчас я думаю, что она самая дешевая русская картина.
Рассказ «Неожиданное» вы можете прочесть у Джека Лондона, но все-таки напомню вам его в нескольких словах.
Золотоискатели моют золото на Юконе, среди них женщина — англичанка-прислуга, перенявшая всю традиционность своих господ. Она живет каждым моментом, опираясь на традиции, не решая за себя. Один из компаньонов, моющих золото, во время обеда нападает на своих сотоварищей по работе и убивает двоих. Эдит и Ганс остаются в живых и связывают преступника. Чисто инстинктивно они могли бы его убить сразу, но Эдит запрещает это сделать потому, что это не по закону и что нужно его отдать в руки закона. Между тем снежная пустыня отрезает их от закона и оставляет лицом к лицу с вопросом, как поступить им вне традиции. Они связывают преступника и устраивают ему тюрьму, охраняя его сами с винтовкой в руках. Он измучен и просит: «убейте меня». Жизнь становится совершенно невыносимой, тогда Эдит придумывает выход: она и муж создали суд над убийцей, исполняя обязанность свидетелей, судей, присяжных. Присудили его к смерти и потом, надев на него шапку, чтобы у него не отморозились уши по дороге, и вызвавши в качестве свидетелей индейцев, повесили его на дереве, тщательно приготовивши петлю.
Вообще, Джек Лондон — писатель каннибальский. И его «Страшные Соломоновы острова» — это «Хижина дяди Тома» наоборот. Рабовладельчество, взятое восхищенным писателем, с точки зрения рабовладельца.
Дóма, в Америке, Джек Лондон демократ, он не хочет, чтобы его били палкой по голове, когда он плохо одет. К палке он очень привык и сам рассказывает, что даже теперь, когда он хорошо одет, если увидит полицейского, подымающего свою дубинку, то побежит, не думая ни о чем, в панике, как животное. Такова, так сказать, семейная жизнь белокурого американского писателя, Джека Лондона. Так как Джек Лондон отрицательно относится к палке, то его либерализм создает ему у нас славу писателя революционного.
В своих колониальных вещах Джек Лондон с удовольствием рассказывает, как храбрые европейцы бросают динамитом в негров. И вообще, его вещи проникнуты сознанием преимущества белого над цветным. Один белый побеждает тысячу негров, две тысячи китайцев и т. д. Если определить социальный тип пафоса Джека Лондона, то это пафос возникающего товарного, колониального капитализма. Благодаря тому что вещи его динамичны и что у нас колониальный вопрос и вопрос о цветных для рядового, политически малограмотного читателя не так реален, как для англичан и американцев, у нас зачитываются колониальными приключениями Джека Лондона, и вопрос о превосходстве не только белого человека над цветным, но даже собаки белого человека над цветным, как это видно из приключений Джека Лондона, — для нас все эти прелести представляются чисто стилистическими. На самом деле Джек Лондон, конечно, писатель чужой. Его шерифы, расстреливающие и вещающие, — это английские судьи с американским пейзажем, поэтому нужно было, переведя вещь на наше понимание, дать фон поступку Эдит и показать в ее неожиданной инерции — лавочника, поправляющего галстук во время землетрясения.
Наиболее сильное место сценария — праздник. Праздник — это кусок, которого нет у Джека Лондона; он состоит в том, что наступает Рождество; Эдит и Ганс, принимая в свою компанию Дейнина (привязав его к столбу хижины), празднуют рождение Христа. Дейнин дарит Эдит свои часы, горит елка, и Дейнин рассказывает о том, как он любил свою маму. Его судьи плачут. Основа этой сцены — один эпизод в романе Достоевского, в котором описывается, как сентиментально оттяпали голову пастуху благочестивые швейцарцы. Затяжкой сценария мне тянули Рождество: Рождество не может совпасть с разливом; тогда понадобилось заменить Рождество каким-то другим праздником. Думали о Пасхе, но во время Пасхи не горят свечи, наконец, нашли — день рождения, во время которого у англичан зажигают свечи. Зимняя натура Англии, о которой мечтает Дейнин, заменилась, сообразно с этим, цветущими яблонями. Эта замена, сделанная Кулешовым не хуже, а лучше первоначального варианта, но расчувствовавшийся Дейнин, с его подарками Эдит, был бы реальней, если бы Дейнин и Эдит были бы люди одного социального круга. Правда, при условиях 70-х годов прошлого столетия, при случайном рабочем Дейнине, при условии связанности людей в одном помещении и силе традиции — Дейнин, конечно, должен был смягчиться в праздник, но смягчиться ему было бы легче в общий праздник Рождества, чем в день рождения Эдит. Праздник же и кажущееся примирение совершенно необходимы в сценарии, как трамплин перед казнью. Потом я не хотел вешать Дейнина. Галаджев, которому принадлежат в сценарии несколько эпизодов, предложил дать возможность Дейнину сорваться с веревки. Для того чтобы сорваться, нужно было ввести белку, живущую на этом дереве. Дерево дуплистое и, — полусентиментальный мотив — Дейнин не срубил дерева потому, что пожалел белку, при постройке дома. Его вешают на этом же дереве, но ветка дуплистого дерева срывается. Но это было сентиментально уже по-английски, и на белку мы не решились. У нас Дейнин просто срывается. Я бы его отправил после того, как он сорвался, идти в хорошую погоду, при хорошем настроении, потому что человек остался без сомнения в выигрыше, но Кулешов взял инерцию мрачности и увел человека в дождь и бурю.
В монтаже картины, в ее метраж, несмотря на всю лаконичность сценария, не влезли некоторые детали. У нас Ганс стащил из кармана связанного Дейнина табак и курил сам, — в условиях пустыни кража табака действенней, чем кража золота, и это опорочило Ганса, которого мне все время хочется назвать Комаровым, по актеру, играющему роль. Этот эпизод с очень хорошей деталью Фогеля, лежащего в воде, не вошел в монтаж картины.
Что положительного дала проработка картины?
Натура, снятая Кузнецовым, — последний снег, когда снежное поле еще плотно, но уже покрыто ледяными корками; этот снег оказался снятым, буквально, ослепительно. Немногие зимние кадры в картине, пойманные по последнему знаку, очень хороши. Разлив, заливший дома, дал превосходный материал. Неожиданным материалом оказалось то, что заливает Юкон саму комнату дома, и законники затоплены, как крысы, сидящие на ветках деревьев под Астраханью во время половодья Волги. Этот момент я сценарно учел уже тогда, когда был решен вопрос о разливе, и ввел игру зайчиков на потолке залитого дома. Зайчики отражены рябью воды. Эти зайчики представляют собой последнюю игру Дейнина, связаны с его пребыванием на постели и мерцают на его лице, когда он говорит, перекидывая голову на подушки: «я так устал, я так устал».
Кулешов сделал из картины больше, чем я ожидал. Она оказалась сильнее, значительней и вызвала спор.
Почему? Потому что удар такой силы требовал уже совершенно определенного направления. Вещь перескочила через эксперимент, сделалась самодовлеющим событием и поэтому явно потребовала мотивировки.
Что показала эта работа? Она интересна в порядке составления натур, а не использования готовой, в порядке создания из деталей одной натуры, другой натуры. Юкон, снятый под Москвой, — настоящий, хотя на него и ездили на трамвае № 23.
Вещь доказала, насколько можно использовать актерскую работу в кинематографии.
На долю каждого актера приходится несколько сот метров чистой работы, и эту долю можно было бы еще увеличить, как мне кажется, путем дальнейшего оттеснения натуры. Кроме того, вещь сценарно написана с нарушением шаблонов: в ней нет параллельного действия.
Параллельное действие кинематографии так традиционно потому, что оно позволяет далеко идти в работе, сопоставляющей кинообразность, и позволяет легче стенографировать, так сказать, реальные действия, оставляя от них только несколько опорных точек. Поэтому перебивка действия сделалась в кинематографии правилом, и средний сценарист иначе не может мыслить. Но в таких вещах, как вещи Крюзе и Эйзенштейна, перебивок мы не имеем. У Эйзенштейна в «Броненосце „Потемкине“» есть единство места — действие происходит на броненосце и не сходит с него, действие происходит на лестнице и не перебивается ничем. Действие на лестнице кончается, и начинается действие на броненосце.
Возможность брать жизнь образчиками, кусочками, возможность бесконечного дробления Эйзенштейну в этой вещи не понадобилась.
Таким образом, кажется, что эйзенштейновский монтаж проще других монтажей, но, на самом деле, как я покажу в специальной главе, он сложный, или, во всяком случае, просто другой монтаж, другой способ построения вещи.
Монтаж «По закону» не ощутим, лишен традиционного почерка выделения деталей и т. д.; деталь выделяется не простым выделением плана: как в старых фильмах, передаются часы, часы крупно, рука крупно, стекла часов крупно, другие часы крупно и всякие такие приемы, которые стали уже модами 1922 года, а тем, что одно положение сравнивается с другим положением, и есть установка на смысловую деталь и действие; смысловая деталь сама выделяется.
Почему в «По закону» была взята не наша тема, не наш быт? Здесь сказалось желание изолировать тему, выделить от нее специфичность, работать как бы на стандартном материале — это уменьшает социальную зависимость вещи, хотя, конечно, мы не должны торговать стилем «рюсс» — это уменьшает в СССР воздейственность вещи, потому что если бы, например, тема была бы революционна, то можно было бы работать смысловым значением революции, сочувствием зрителя.
В оправдание свое должен сказать, что если бы работать у нас было легче, то Кулешов давно бы поставил «По закону» и ставил бы другую ленту на русском материале.
Без «Луча смерти» — вещи, сделанной на совершенно условном материале, — не было бы «Матери» Пудовкина, в которой он применил свой опыт и опыт Кулешова уже на бытовом материале[480].
В эксцентрическом театре Эйзенштейна социальная значимость была весьма условна и имела даже игровой характер, но без этого полупародийного театра не возникли бы патетические вещи Эйзенштейна. И Эйзенштейн в дальнейшей своей работе вряд ли остановится на одной патетике и, по всей вероятности, будет обновлять свой прием возвращениями в область эксцентриады и иронии. Главное возражение, которое делается против вещи, — это возражение против поступков Эдит и Ганса. Категорически заявляю, что я ничего общего с ними не имею и что Эдит и Ганс, как люди, мне не нравятся. Я думаю, что это подтвердит и Кулешов. Лично мне бы сейчас хотелось сделать вещь, более соприкасающуюся с сегодняшним материалом, потому что я хотел бы использовать давление времени как пролог и повод для создания новой художественной формы.
РАЗДЕЛ IV. ЭЙЗЕНШТЕЙН. ВЕРТОВ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
О том, что сюжет — понятие не бытовое, а конструктивное. Напрасно «киноки» от него отказались. В результате они перешли только от сложного кинопостроения к простому параллелизму, который тоже есть сюжетный прием. Но при этом приеме кадры используются не до конца. Нельзя вполне управлять установкой зрителя
«Киноки» во главе с Дзигой Вертовым против игровой ленты, причем здесь они отрицают и утверждают сразу несколько вещей. Они против игровой ленты, прежде всего, как против ленты сюжетной, причем сюжет им кажется чем-то пришедшим в кинематографию из литературы.
Привожу цитату из «Стенограммы Совета 3-х»[481] — Дзига Вертов:
…Картина психологическая, детективная, сатирическая, видовая (безразлично какая) — если у нее вырезать все сюжеты и оставить одни надписи — получим литературный скелет картины. К этому литературному скелету мы можем доснять другие киносюжеты — реалистические, символические, экспрессионистические — какие угодно. Положение вещей этим не меняется. Соотношение то же: литературный скелет плюс киноиллюстрации.
Таковы почти без исключения все картины наши и заграничные…
Таким образом, «киноки» первоначально протестовали против литературности в кинематографе и против кадра, параллельного надписи. Одновременно они были за кадр как таковой, считая, что кадр существует вне своей смысловой значимости, что его разрешение дается в пределах рамки экрана. Поэтому сюжет, как сложная организация кадров, как какая-то бытовая мотивировка их связей, казался им внекинематографическим. Между тем сюжет — это только частный случай конструкции. Это конструкция смысловых, бытовых положений. В основу сюжета обычно кладется судьба человека, и в историю одной человеческой жизни или одного момента человеческой жизни вкладывается обычно один сюжет. Но это только европейское понимание сюжета и европейское понимание сегодняшнего дня.
Для индусской поэтики, для поэтики персидско-арабских сказок сюжет есть нечто другое. В самой обычной детской песне сюжет состоит из передачи движения от одного действующего лица к другому действующему лицу с нарастанием движений. Так в детских сказках разбивают яйцо и тянут репку.
У Дзиги Вертова установка была на факт. Они были за факт против анекдота[482]. Верно учитывая первый характер кинематографического снимка, необобщенность и связанность его с фактом, они говорили: «мы будем делать свои произведения из монтажа фактов». В этом они совпали со многими параллельными явлениями в современном искусстве.
В других своих книгах я показывал, что успех дневника, путешествия, записной книжки писателя объясняется тем, что сегодняшний день писатель и зритель эстетически переживают факт, что сейчас есть установка на занимательность сказывания, на сообщение. Фельетонист нажимает на беллетриста, беллетрист вкомпановывает в свое произведение реальный факт. Появляются романы, смонтированные из фактов: так сделан роман Юрия Тынянова — «Кюхля». Из этого не следует, однако, что такие произведения будут лишены смысловой конструкции. Само пребывание двух фактов рядом, при условии существования у человека памяти, рождает их соотношения и, как только мы это соотношение начинаем сознавать, возникает композиция и начинают работать ее законы.
В последней работе Дзиги Вертова «Шестая часть мира» произошло любопытнейшее явление. Прежде всего, исчезла фактичность кадра, появились кадры инсценированные. Они оказались географически незакрепленными и обессиленными рядом с сопоставлением. Мы в этой ленте с интересом узнали, что в одной местности овец моют в морском прибое, а в другой местности моют их в реке. Это очень интересно, и прибой снят хорошо, но где он снят, не установлено точно. Также не установлена точно и стирка белья ногами; она взята, как курьез, как анекдот, а не как факт. Человек, уходящий на широких лыжах в снежную даль, стал уже не человеком, а символом уходящего прошлого. Вещь потеряла свою вещественность и стала сквозить, как произведение символистов.
И, как в прошлой вещи Дзиги Вертова — «Шагай, Совет», композиция вещи свелась к простому параллелизму: прежде и теперь, или там и у нас. Больше того, — отказавшись от композиции романной и драматической, Дзига Вертов перешел к композиции песенной и назвал вещь патетическим боевиком. Надписи оказались строго литературными и приподняты на цыпочки крупным шрифтом. Эти все крупные — «вижу», «вы, которые» — это напоминает мне «Слово о полку Игореве» в переложении Карамзина. И по-песенному понадобилось Дзиге Вертову повторение. «Шестая часть мира» вся построена на повторении в конце кадров, идущих в начале произведения. Это чисто песенный прием.
Что здесь причина неудачи «киноков»? Одна из причин — это боязнь дальних дорог. Мы почти все сейчас ходим на цыпочках. Превращая одно искусство в другое искусство, мы не позволяем ему по дороге умереть, сохраняем патетическую ценность старого искусства, держимся за богатых родственников.
В «Шагай, Совет» и в «Шестой части мира» есть сюжет, но только очень слабый. И фальшивость надписей в этих вещах очень тесно связана с бедностью сюжета, и все это сводится к неполному и неэкономному использованию кадра.
Когда мне дают надпись: ребенок, сосущий грудь, а потом показывают ребенка, сосущего грудь, я понимаю, что меня повернули назад к диапозитивам. Конечно, Дзига Вертов не так наивен, чтобы не понимать здесь параллелизма надписи и кадра. Но так как этот параллелизм для него песенный, героический, то он подкупает им и пытается усилить эмоциональную значимость кадра. Понадобился Дзиге Вертову и актер. И конечно, это совершенно правильно, потому что, хотя в основе кинематографии и лежит фотография, но самый момент выбора кадра и выбора момента, момент резки времени и пространства, сам этот акт есть акт художественный.
Чисто игровой характер имеет фотография буржуазии, которая разлагается и танцует фокстрот. Разлагается она плохо, буржуазия мелкая, вероятно, наша нэповская, сильно потоптанная. Фокстрот она танцует на ковре, а это неудобно. Танцует плохо. Обстановка тоже плохая. Вот «шоколадные ребята»[483], негры у Дзиги Вертова хорошо танцуют, потому что они не приглашенные для инсценировки, а настоящие работники. А в кино чрезвычайно полезна выборка движений, наиболее выбранных, наиболее построенных.
Часто в стихах поэт говорит: «этого нельзя стихами сказать» и спокойно продолжает говорить стихами. Если актер во время драмы перелезает через рампу, то это значит, что идет Лев Гурыч Синичкин и что актер сейчас будет играть в оркестре на цимбалах, но это не значит, что представление окончилось[484].
Работа Дзиги Вертова — искусство, а не конструкция. Его отказ от сюжетного построения только объединил его работу. Его установка на факт художественно правильна, но не доведена до конца. Получились просто стихи, красные стихи с кинорифмами. Его кадр, благодаря тому что художественность работы перенесена на лирический параллелизм, его кадр мало использован. Мы не успеваем видеть, как тунгусы, поевшие сырое мясо, вытирают губы и руки об землю, потому что при методе Дзиги Вертова показать такой момент — это показать сейчас же вытирание буржуазией губ каким-нибудь весьма утонченным полотенцем.
Экран у Дзиги Вертова во всех своих точках равноценен. У него нет подчеркнутой смысловой детали, и в то же время много чисто кинематографической работы — двойной, тройной, четверной, экспозиции, которая всеми поворотами своей ручки свертывается в обычную или слегка необычную кинематографию сегодняшнего дня. Приятно, когда зал видит на экране себя почти отраженным и аплодирует как будто сам себе[485]. А вот зал, который показан на экране и который на экране смотрит тот же кадр, который только что шел в просмотровом зале, — это мы видим и у Перестиани в «Красных дьяволятах». Это показывает нам, что Дзига Вертов повернулся на угол 730°, т. е. два раза повернулся вокруг самого себя и оказался повернутым только на 10°. Его пути совпали с путями художественной кинематографии. Но намерения Дзиги Вертова чрезвычайно плодотворны, и те, которые будут снимать настоящую хронику, которые будут указывать долготу, широту места и день съемки, те, которые будут снимать настоящие поля, будут обязаны своей выдумкой — выдумке мимо прошедшего Дзиги Вертова[486].
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В этих главах описывается Эйзенштейн. Я хочу в них восстановить главное, но не киноканонизированное прошлое этого человека. Главное в этом отрывке: мысль о происхождении новых приемов в искусстве
Он избегает слов «вдохновение», «искусство» и т. д. и выглядит по-особенному. Широкий, сейчас бритоголовый, толстоногий.
Если в нем есть какая-то художественная экзотичность, то это экзотичность эксцентрика в гражданском платье, в сущности говоря, эксцентричность новой машины.
Точно говоря: Эйзенштейн похож на шведский двигатель внутреннего сгорания, приспособленный для сельскохозяйственных работ.
Эйзенштейн начал свою работу в Пролеткульте. Ставил вещи чрезвычайно изумительные: пародийное «На всякого мудреца довольно простоты», «Слышишь, Москва»[487] и т. д. Сейчас эти вещи задним числом канонизированы, тем более что мало кто их помнит; театр был невелик и не очень полон. Во время же работы театра Пролеткульта самому человеку во время представления бывало жутковато, в особенности когда начинали стрелять под стульями. Если бы был заказан какому-нибудь человеководу — Пушкин, то вряд ли человековод догадался, что для того, чтобы получить Пушкина, хорошо выписать дедушку из Абиссинии.
Процесс создания вещи диалектичен, поддается научному анализу, но не решается путем тройного правила арифметики. Для создания героического стиля Эйзенштейна нужно было, чтобы Эйзенштейн прошел через монтаж эксцентрических аттракционов. Пародийная струя, сильная в основе Эйзенштейна, звучит в его первой кинематографической вещи «Стачка». Глуше — в «Броненосце „Потемкине“», но, вероятно, будет развернута инженером Эйзенштейном в конструкции его следующих вещей, потому что на дне инженерного мастерства в искусстве лежит веселость. Замысел «Генеральной линии», т. е. одновременное развертывание нескольких линий, нескольких культур, пространственно совмещенных в СССР, причем одна из этих линий — генеральная, этот замысел роднит вещь с «Тремя эпохами» Бастера Китона. Эксцентричность материала, по крайней мере, в замысле резкости сопоставления возвращается к Эйзенштейну. Он вставляет автомобильные гонки в сельскохозяйственную картину; туда же я хотел пристроить к нему корову, просвеченную рентгеном и движущуюся на экране, но Эйзенштейн отказался. Так снабжен собственным материалом, что подарить ему нечего.
Дело не в том, что Эйзенштейн работает приемами комического искусства; его вещи серьезны, но те леса, для создания новых теорем, о которых говорил Пуанкаре в своих математических работах, эти леса у Эйзенштейна сконструированы по принципам «юмористического жанра».
Нужно различать в приеме появление приема, первую целевую установку приема (она же может быть и установкой социальной) и последующую установку, которая может казаться противоречащей первому значению вещи. В основе какого-нибудь романа может лежать внеэстетическое задание, например заказ прославить какой-нибудь род (для Вергилия, для Ариосто) или для Льва Николаевича Толстого — доказать новую теорию военного действия с указанием в примечании преимущества артиллерии над всеми видами оружия, а также реабилитация крепостного права и доказательство того, что если мужики и бунтовали, то не всякие, а только особенные, из отдельных деревень, куда случайно заехала Мари.
Для такой специальной задачи или для задания Тургенева написать памфлетный роман часто приходилось создать своеобразные формы, или, вернее, материал этот требовал своеобразного оформления.
Эти формы потом приобретают новое значение. Оказываются удобными для эстетического воздействия и могут употребляться и с другими целями.
Возьмем элементарный пример: историю какой-нибудь буквы алфавита, например «а»; предположим, она происходит от географического изображения, в основу которого положена голова быка, но потом она употребляется в словах, не содержащих в себе ничего бычачьего:
Говорят еще — «американский монтаж». Боюсь, пришло время присоединить этот «американизм» к прочим, так беспощадно развенчанным т. Осинским.
Америка монтажа, как новую стихию, новую возможность, — не поняла.
Америка честно повествовательна, и она не «выстраивает свою монтажную образность», но показывает, что происходит. Ошеломляющий монтаж погонь не конструкция, а вынужденный показ, по возможности чаще, удирающего и преследователя.
Разбивка диалога на крупные планы — необходимость показать по очереди выражения лиц «любимцев публики». Без учета перспектив монтажных возможностей отсюда.
Я видел в Берлине Гриффита 14 года — «Рождение нации» — последние две части — погоня (как и всегда) и ничем формально не отличная от новейших аналогичных сцен. А за 12 лет можно было «заметить», что, кроме рассказывающих возможностей, такой, с позволения сказать, «монтаж» может иметь в перспективе еще и воздействия вне примитивно повествовательных. В «Десяти Заповедях», где не было специальной необходимости показывать в отдельности евреев, исход из Египта и Золотой Телец — монтажно — никак не даны, технически — одними общими планами. И нюансирование состояний массы, т. е. воздействие от массы — летит к чертям.
(Цитата из газеты «Кино», 10 августа 1926, статья Эйзенштейна «Бела забывает ножницы».)Здесь неправильна, с моей точки зрения, оценка Эйзенштейна. Он сердится или упрекает американцев в том, что происходит в искусстве постоянно и играет прогрессивную роль. В эйзенштейновской цитате можно различить два момента: первый момент — правильное указание на техничность возникновения монтажного приема, второй момент — констатирование того, что в американских условиях этот прием не осознан. Первый момент есть общий закон искусства: так создавались романные формы из необходимости развертывания сюжета. Второй момент — отсутствие сознания. Этот момент объясняется традиционностью американской кинематографии и постоянностью смысловых положений — поэтому определенный технический прием не был принужден отделиться от своего традиционного употребления.
В дальнейшем в своей статье я покажу, как эйзенштейновские погони и эйзенштейновская необходимость показывать публике «любимцев» хорошо создали новый прием кинематографии.
Мы, русские кинематографисты, поняли монтажный закон, и сознательность работы у нас больше, чем у немецких и американских работников той же профессии.
Эйзенштейн правильно указывает ошибку Бела Балаша, который знает только два рода кадров: живописный и литературный, т. е. движущийся сюжет и украшающий картину. Взаимоотношение частей — монтаж в нашем местном значении за границей менее осознан.
О том, почему Эйзенштейн начал с пародийного театра
Явление искусства возникает из техники сопоставления материала, причем первоначально принцип сопоставления материала может быть не эстетическим. Дальше явление эстетически осознается и становится канонизированным. Если допустить, что когда-нибудь амбейное пение — пение на два хора — действительно соответствовало двум группам поющих, то момент эстетической канонизации приема будет тот момент, когда хоры разделятся для пения. На примере, приведенном Эйзенштейном, — перебивки, которые должны были дать наилучшее изображение бегства, — создают общий прием монтажа.
Дальше происходит явление через игровую стадию. В примере с песней не удачно то, что самая песня — явление «искусства».
Более убедительны примеры из языка у детей.
Дети научаются говорить, и у них потом языковые явления переживают игровую стадию.
— Семка, а Семка, — сказал Тихон, — ты чей? — улыбаясь на самого себя, что он с таким мальчишкой занимается.
— Солдатов, — сказал мальчик.
— А мать где?
— В кобедне, и дедушка в кобедне, — щеголяя своим мастерством говорить, сказал мальчик.
(Цитата — «Тихон и Маланья» Толстого.)Мои дети (2-х и 4-х лет) заметили, что слово «Гога», имя третьего ребенка, и гуси имеют что-то общее между собой и несколько дней повторяли, страшно смеясь, — «Гога» — гуси. Они заметили словесные повторы.
Между появлением приема и его закреплением существует игровая стадия — это и есть одно из объяснений того факта, что искусство комическое самое передовое. Реагирование на новую форму смехом — это реагирование правильное, вернее, — всегда происходящее. Так что футуристы и экспрессионисты не имели научного права сердиться, когда в их картину тыкали зонтиками — это действие было правильно, как поведение коровы, укушенной бешеной собакой. Любопытно отметить, что новое явление искусства вызывает смех неподготовленной аудитории иногда совершенно неожиданно.
Во время первых лет революции в Большом драматическом театре шел «Отелло» — Шекспира[488]. Публика очень чутко реагировала на спектакль и хохотала в сцене, когда Отелло душит Дездемону, причем спектакль аудитории нравился. Явление такого смеха сложней и нелегко поддается рассказыванию. В числе подобных составных частей такого смеха есть и то, что люди смехом показывают понимание условностей искусства и освобождаются от его реальности.
В одном из номеров «На посту» приведено как аналогичный случай показание слесаря, который очень хвалит «Железный поток» — Серафимовича (вещь, полную ужасов и убийств). Читатель говорит библиотекарю, что он «очень и очень много смеялся, живот надорвал»[489].
В «Тысяча одной ночи» — и здесь мы близко подходим к явлениям монтажа, — рассказано так (есть обрамляющая новелла): Шехерезада рассказывает сказки своему мужу для того, чтобы удержать казнь. Эти сказки внутри произведения разбиты на группы различными приемами техники; связь кусков такая: люди или рассказывают нечто более удивительное, чем то, что рассказал первый, или люди рассказывают причины своего увечья, причем одинаковые увечья у нескольких людей; например, трое кривых — и их увечье — служат концом рассказа, результатом рассказа, а сходство одного с увечьем другого рассказывающего связывает два-три рассказа вместе.
Время, протекающее во время рассказывания, в средине произведения не учитывается, например происходит погоня, а в погоне вставлен рассказ, который продолжается на нашу меру несколько печатных листов. Царевичи его выслушивают и едут дальше. Но мы должны отметить, что обычно для связи рассказов между собой, т. е. для обрамляющей новеллы, берется мотив задерживания. Шехерезада задерживает казнь рассказами. В «Арджи-Барджи» статуи на ступенях задерживают восхождение царя, рассказывая сказки. В «Семи визирях» рассказами задерживается совершение казни. В «Рассказах Попугая» — попугай сказками задерживает измену жены своего хозяина. Мне кажется, что эти обрамляющие новеллы сравнительно позднего происхождения и принадлежат уже к эпохе кодификации сказок (собиранию). Счет в «Тысяча одной ночи» — счет ночей очень приблизительный, и тысячи сказок там нет. Второй том произведения, как это обыкновенно и бывает вообще, выпадает из рассказывания, и «Шехерезада» выпадает из внимания зрителя очень скоро. Обрамляющая новелла «Шехерезада» еще не представляет осознание приема задерживания. Но в средине «1000 одной ночи» есть рассказы про цирюльника, по прозвищу «Молчаливый». В литературе предмета рассказы эти знамениты тем, что в них определяется в разговоре цирюльника положение луны в пятницу определенного месяца, и существуют попытки по этой астрономической дате датировать хронологию сказок. Конечно, это место датирует только само себя. Кроме того, я думаю, что смогу доказать, что оно по́зднее в кодексе сказок и представляет из себя юмористическое осознание приема рассказывания. Только в этих новеллах (потому что это не сказки) рассказывание задерживает действие. Молчаливый цирюльник болтлив, он болтлив, как сказочник «1001 ночи». Он рассказывает, рассказывает, люди из-за него опаздывают на свидание, ломают ноги, их кастрируют, а он все время рассказывает про своих братьев, вставляя новеллу в новеллу, т. е. маленький цикл новелл о братьях цирюльника есть пародийное осознание сущности приема, получившегося в результате кодификации сказок.
Комическая форма была предсказана Эйзенштейном, когда он углубил путь, по которому начал идти Мейерхольд. Мейерхольд более традиционен, чем Эйзенштейн, и, переламывая произведение, обращая его каждый момент в самостоятельное произведение, Мейерхольд думает, что произведение не изменилось. Он находится в уверенности, что пароход может вернуться назад по следу своего дыма. Я упомянул о тех изменениях, которые сделал Мейерхольд в «Лесе» Островского[490]. Теперь возьмем монтажный лист, перечень части эпилога «Мудреца». У Эйзенштейна мюзикхольность современного театра, распадение его на отдельные моменты, материальность его не маскируются, а увеличиваются, и первое время — приемами комического искусства.
Школой монтажера являются кино и, главным образом, — мюзик-холл и цирк, так как, в сущности говоря, сделать хороший (с формальной точки зрения) спектакль, — это построить крепкую мюзикхольную — цирковую программу, исходя от положений взятой в основу пьесы. Дальше идет перечисление моментов, на которые распался «Мудрец» Островского.
1) Экспозитивный монолог героя. 2) Кусок детективной фильмы (пояснение п. 1 — похищение дневника). 3) Музыкально-эксцентрическое антре, невеста и три отвергнутых жениха (по пьесе одно лицо) в роли шаферов, сцена грусти в виде куплета «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Пускай могила» — (в замысле ксилофон невесты и игра на шести лентах бубенцов-пуговиц офицеров). 4, 5, 6 — три параллельных двухфразных клоунских антре (мотив платежа за организацию свадьбы). 7) Антре этуали (тетка) и трех офицеров (мотив задержки отвергнутых женихов) каламбурный (через упоминание лошади) к номеру тройного вольтажа на оседланной лошади (за невозможностью ввести ее в зал традиционно «Лошадь втроем»), 8) Хоровые агиткуплеты («У попа была собака» — под них каучук попа — в виде собаки — мотив начала венчания). 9) Разрыв действия (голос газетчика для ухода героя). 10) Явление злодея в маске — кусок комической кинофильмы (резка 5 актов пьесы, превращения — мотив опубликования дневника). 11) Продолжение действия (прерванного) в другой группировке (венчание одновременно с тремя отвергнутыми).
Я обрываю здесь перечень эпизодов в постановке. Здесь одновременно можно выяснить второй момент. Первый момент — это развертывание отдельных моментов, самодовлеющие номера, переход от номера к номеру пародийный. И вся вещь является только парадоксальной мотивировкой связи номеров. Второе явление — это развертывание произведения новым агитационным материалом, причем старый материал берется только как фон пародии.
«Мудрец» — Сергея Третьякова и Сергея Эйзенштейна — это уничтожение Островского при возвращении — это уничтожение противника, которое необходимо потому, что место, занятое противником, понадобилось. Рождаясь из техники, проходя через игривое осознание, имея привкус в этот момент комического явления, — искусство перед смертью еще раз переживает эпоху пародирования. Конечно, физических смертей здесь нет, но для того, чтобы появилась техника современного романа позавчерашнего дня, Стерн должен был уничтожить традиционный роман, который одновременно с ним пародировался и Фильдингом. Но без этого Гоголь не смог бы поставить «детство Чичикова» в конец первой части.
Эйзенштейновские постановки, особенно «Мудрец», были уничтожением старого материала, последним использованием реквизированного добра.
Несколько слов о монтаже
Интересно отметить, что наши мастера, как Кулешов, Вертов, учились на хронике, т. е. на материале, трудно поддающемся режиссерской обработке. Хронику резали, монтаж хроники выявил монтажные задания. Эйзенштейну пришлось учиться на перемонтаже заграничных картин, причем — вкладывать в действие людей новое содержание и неожиданно сопоставлять куски[491]. Эта работа — созидания нового канона кинематографии — очень полезна была для работников и довольно вредна для негативного материала. Но мы несколько забежали вперед, говоря об Эйзенштейне сегодняшнего дня. Еще несколько слов по этому случаю, потому что мы — кинематографисты, и если уже заехали в такую дальнюю экспедицию, то нужно снять все, что подвернется под аппарат; Шуб смонтирует.
Те приемы монтажа, которые созданы Гриффитом из чисто технических необходимостей показывания, у нас пока что восприняты как единственно возможные.
Самым типичным представителем этой русской классической школы кинематографии представляется мне Пудовкин с его прекрасной картиной «Мать», о которой я уже писал[492]. Пудовкин в своей небольшой, но ценной книге «Кинорежиссер» показал нам прием такого монтажа:
Что же сделал из этого материала один из американских режиссеров в картине «Сын Маэстро»[493]? На экране показаны следующие куски в такой последовательности: 1) Улица с движущимися автомобилями, человек, спиной к аппарату, переходит улицу; его закрывает проезжающий автомобиль. 2) Очень коротко мелькает испуганное лицо шофера, дергающего тормоз. 3) Также коротко лицо жертвы с открытым в крике ртом. 4) Снятые сверху, с места шофера, ноги, мелькнувшие около вращающегося колеса. 5) Скользящие заторможенные колеса автомобиля. 6) Круг около остановившегося автомобиля. Куски смонтированы в очень быстром, остром, ритме[494].
Но тут нужно отметить, что прием его, конечно, местный, и пример местный, потому что пока дано действие, в котором живо заинтересованы два действующих лица: шофер и человек, которого автомобиль раздавливает.
Таким образом эйзенштейновское замечание о местном значении американского монтажа для переменного показывания и здесь в силе. Монтаж — это явление общее, неизбежное в кинематографии — это то, чем она работает. Американское же монтирование с переменным показыванием, с изменением деталей — это сезонное направление кинематографистов, которое может быть заменено другим приемом. Для того чтобы показать езду, что лошадь едет, нет необходимости показывать то ее хвост, то ее уши, то копыта[495].
В частности, американцы там, где они пользуются монтажом деталей, пользуются не выделением деталей из картины крупным планом, а сопоставлением средних планов так, чтобы была заметна смысловая деталь, разнящая эти планы. Экран, на котором проектирован кадр, этот экран недооценен всеми точками своей поверхности. Возьмем для примера сравнение двух букв; перед нами «ш» и «щ»; предположим, что эти буквы взяты из разных гарнитур, разных шрифтов — тогда они отличаются друг от друга очень многим, но основное смысловое их различие — хвостик у «щ».
С этим явлением, вероятно, и связана статья о монтаже аттракционов, напечатанная Эйзенштейном в «Лефе» в 23 году.
Аттракцион (в разрезе театра) — всякий агрессивный момент театра, т. е. всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно-выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь в совокупности — единственно обусловливающие возможность восприятия идейной стороны демонстрируемого — конечного идеологического вывода. (Путь познавания — «через живую игру страстей» — специфический для театра.)
Чувственный и психологический, конечно, в том понимании непосредственной действительности, как ими орудует, например, театр Гиньоль: выкалывание глаз или отрезание рук и ног на сцене, или — соучастие действующего на сцене по телефону в кошмарном происшествии за десятки верст, или положение пьяного, чувствующего приближение гибели и просьбы о защите которого принимают за бред. А не в плане развертывания психологических проблем — где аттракционной является уже самая тема как таковая, существующая и действующая и вне данного действия при условии достаточной злободневности. (Ошибка, в которую впадает большинство агиттеатров, довольствуясь аттракционностью только такого порядка в своих постановках.)[496]
Сопоставляя план с планом, а не деталь с деталью, мы можем монтировать в совершенно иных направлениях. Самый монтаж Эйзенштейна, отдаленно или неотдаленно связанный с его монтажным аттракционом в театре, — и связанный не только словесно — этот монтаж смысловой и, скорее всего, среднепланный.
Глава, называемая: «Эйзенштейн и пилы». В ней разъясняется сегодняшнее значение тембра в искусстве
В театре Мейерхольда интересны не только постановки, но и намерения. Мейерхольд собирается, например, сейчас поставить «Ревизора». Обычно в мейерхольдовском театре текст заигрывается — произносится так громко, что его не слышно. Финальная сцена в «Лесе» с монологом Несчастливцева производила на меня впечатление, как будто бы пробуют освещение и парики, а в это время актер повторяет роль по тетрадке. Это объясняется тем, что всякое отдельное движение, всякое положение уже у Мейерхольда развивается в самодовлеющий номер, причем эти номера не подчинены друг другу, и общая конструкция вещи менее ощутима талантливым режиссером.
И так как театр Островского был целиком основан на материале, то Мейерхольд при возвращении к Островскому его уничтожил. Сейчас Мейерхольд хочет ставить «Ревизора», причем мы читаем, что из уважения к необыкновенной ценности текста Мейерхольд решил ввести на сцену громкоговорители, которые будут вмонтированы в общую конструкцию сцены. Конечно, реально нужны, ну, — два громкоговорителя в углах театра, потому что театр все-таки меньше, чем Советская площадь, но тут любопытно то, что уважение к Гоголю невольно вызывает у Мейерхольда выпячивание одного из материалов, причем основным материалом спектакля — и не текст, а его подчеркивание. Здесь дело не в Мейерхольде. Каждый творец в результате только, если он не Шаман с бубном, инженер, пользующийся техническими таблицами и имеющий заказчика и материал, т. е. имеющий два приказания, и Мейерхольд только развивает одно из положений стиля сегодняшнего времени.
Мы сейчас переживаем материал. В литературе мы пришли к дневникам писателей, к воспоминаниям и к путешествиям — то, что намечалось неоднократно уже в ходе истории литературы, в «физиологических очерках» времен Диккенса. То, что намеком мы имели и до этого в позднем Пушкине, переходящем к исторической прозе. Тогда движение не удалось, т. е. не вынеслось — в канонизированное искусство. Зато и тогда удалось развернуть материал и приемы старого авантюрного письма реальным материалом в синтезе романов Диккенса, Толстого, Достоевского. Сегодня это самое явление стучится к нам в двери, и мы не можем ответить, что нас нет дома. Нынешнее искусство живо материалом, а не конструкцией. Странное явление в эпоху конструктивизма, но сам конструктивизм — с установкой на фактуру — материал, на фотографию, — сам конструктивизм и есть в лучшей своей части — «материализм».
В музыке мы переживаем эпоху ощутимости тембра. Если читать историю греческой литературы, так тесно связанной с историей музыки, которая ее сопровождала, то мы натолкнемся на постоянную эмоциональную оценку тембра инструментов. Флейта была запрещена в каком-то государстве как инструмент чувственный. В моментах появления или канонизации новых смычковых инструментов, уже на европейской почве, мы снова находим эту оценку тембра, причем оценку, носящую в себе эмоционально-нервный элемент. Инструмент чуть ли не судят по уголовному кодексу. В более позднее время рассказы о струнах из человеческих кишок, связанные с именами разных скрипачей, показывают на эту же действенность тона. Сейчас, или недавно, мы в наших старых инструментах характер тембра ощущали гораздо менее, но зато сейчас мы переживаем увлечение экзотическими инструментами. Знаменитые гавайские гитары, которыми через граммофон увлекается весь мир, играют несложную музыку XVIII века, причем европейскую, но в данном случае тон делает музыку. Успех джаз-банда основан на ощутимости джазбандовского тембра.
И вот сейчас мы слышим, что в театре Мейерхольда будет поставлена «Кармен» под аккомпанемент 20 гармоник и 30 пил. Мы имеем, значит, победу тембров в музыке. Вопрос тембра, непосредственно бьющего на эмоцию, перевешивает вопрос об остальной музыкальной структуре. Вот в какой среде создана была теория Эйзенштейна, путаная, как движение стада, которое тем не менее все целиком идет по верному направлению. Основное в Эйзенштейне — установка на материал, причем материал сперва взят был чисто эстетический и даже экзотический, а потом прием оказался полезным и работающим для оформления нового внеэстетического, не традиционного материала. Тогда на дворе 1-й Государственной кинофабрики появились в качестве реквизита — маслобойки, бидоны, ведра.
Ливадийское имущество — ковры и хрусталь — этот бывший кинематографический материал крепко засел в подвальных складах.
«Стачка»
О «Стачке», как о «Броненосце», мне будет очень трудно писать. Столько написано, столько сказано, и нет промежутка времени, чтобы забыть наговоренное. «Стачка» имеет следующий основной признак: первый признак — это вещь без героя. Признак этот в вещи основной, но не первичный. Попытки создавать вещь без героя связаны с общей установкой нашего времени. Постановки профсоюзов по истории профессионального движения тоже создавались как безгеройные вещи, но вышли как вещи традиционно-сюжетные. В «Стачке» же есть сюжет, т. е. там можно найти судьбы одного героя, изменяющиеся в продолжение всей вещи. Рабочий становится провокатором, потом раскаивается; происходит стачка на определенном заводе, и мы видим судьбу мастера, судьбу директора, работу полиции, но тем не менее вещь оказалась бессюжетной. Эйзенштейн, верный своему времени, настолько развернул отдельные моменты, что примитивный сюжет, данный ему, был до конца заигран режиссерской работой. Сюжет существует, но не ощущается; ощущаются стачка, завод и старый эстетический материал, самоигральный материал экзотики, оставшийся у Эйзенштейна от прошлого. Этого эстетического материала: гротесков, шпаны, карликов — в вещи очень много. Причины его появления — характерность материала и установка Эйзенштейна на материал, но введение материала не мотивировано. Например, мы знаем, что шпана живала иногда в кадушках, в старых бочках; жила она так, потому что в бочке, если ее положить на бок, есть крыша; замечено это было, как всем известно, уже Диогеном. У Эйзенштейна бочки вкопаны жерлами вверх, и по свистку атамана снизу выскакивают из-под земли пружинными чертиками — люди. В зале это вызывает аплодисменты, но жить в такой кадушке было бессмысленно. Бытовое положение взято только как предлог для трюка. Возьмем дальше: полицейский соблазняет рабочего. Для того чтобы соблазнить его, пристав или жандармский полковник в ресторан вызывает карликов, которые потом, стоя на столе, поедают фрукты. А зачем рабочему карлики и каким образом пристав думал, что карлики могут рабочего соблазнить? Я подхожу к Эйзенштейну, конечно, с точки зрения реализма, но мне важно указать, что вот этот самый экзотический материал показывает путь, по которому шел Эйзенштейн к созданию своих кинематографических вещей. Эти карлики были нужны приблизительно так, как Пушкину — черный дедушка, а сами карлики — это случайный признак, оставшийся от основного факта происхождения — это черный цвет ногтей.
Вещь большого стиля, вещь, которую как будто бы соглашается признать своей революция, не могла быть создана в лоб, и без чисто формальной работы Кулешова, и без остроумнейших и как будто бы ненужных работ Эйзенштейна в Пролеткульте невозможно было бы создание нового кинематографа. В «Стачке» происходит совмещение планов аттракционного искусства — искусства, основывающегося на материале, с бытовой мотивировкой материала. Негатив накладывается на негатив, и мы видим точки несовпадения. Так не совпадают моменты купания рабочих в трусиках, шпана, про которую я уже говорил, автомобили, в которых едут (чтобы они блестели ночью), и т. д. Как путь, при всех своих недостатках, «Стачка» выше «Броненосца», потому что она означает не только, что она значит, но имеет запасное значение. Из «Стачки» можно вывести и «Броненосца „Потемкина“», и то, что мы подозреваем под «Генеральной линией».
«Броненосец „Потемкин“» — задача, а «Стачка» — теорема.
Создание новых форм далеко еще не закончено Эйзенштейном, потому что еще произойдет длительный путь усвоения рядовым зрителем новых приемов. Но «Стачка» показывает нам сущность надстройки в искусстве. Надстройка — это не коврик, постланный на земле, а это сложное сооружение, имеющее свои законы, конечно, чисто материалистические. Желание получать немедленный полезный продукт сегодня, сейчас — неуважение к лаборатории искусства — это не достойно людей производства.
«Броненосец „Потемкин“»
Заказ на «Броненосец „Потемкин“» был от Комиссии ВЦИКа[497]. Вещь эта юбилейная, предназначенная для чествования 1905 года. Предполагалось поставить картину «1905 год» — задание такое невыполнимое, потому что оно построено на внехудожественном принципе, на принципе исчерпывания материала. Техника исторического романа — произведения, очень связанного с материалом, такова: неисторический герой оказывает помощь или связан родством с историческим героем; и так становится посторонним свидетелем действия исторических событий. В зависимости от эпохи отношения зрителя к действию изменяются от полной традиционности (так написаны романы Вальтера Скотта) до остранения «Отечественной войны», которая так характерна для Толстого. Но выбор героя, случайность участия его в событии важны авторам исторических романов, потому что это дает возможность пропусков: они не должны все показывать.
В этом отношении интересен роман Алданова «Девятое термидора»[498]; в этом романе описывается то заседание, которое свергло диктатуру Робеспьера. Описана она с точки зрения человека, который не выспался и, все время засыпая, пропускает отдельные сцены заседания. Эта сонливость мотивирует пропуски, позволяет вещь описывать подряд (вещь все же нехорошая).
В первый период русская революционная литература отличалась тем, что даже поэты пытались создать произведения, параллельные теме, т. е. превратить ряд прозаических фактов в ряд фактов искусства, сохранив последовательность фактов. Много писали о Ленине, описывали его правильно. Но правильней всех оказалось, и больше всего дошло до широкого читателя — «Сами» Николая Тихонова[499] — вещь небольшого художественного значения, но дающая установку не на изображения, а на далекое полуошибочное восприятие индусским мальчиком — образа Ленина. В этом представлении искажено даже имя — не Ленин, а — Ленни, и это представление в искусстве и есть правильное. Забавно, что составители хрестоматий и т. п. люди, перепечатывая стихотворение, добросовестно восстанавливают текст, вместо Ленни пишут Ленин, т. е. совершают работу, обратную ходу работы автора.
Эйзенштейн начал снимать революцию по порядку. Задание было настолько трудное, что картину заранее считали клубной, не способной выдержать коммерческий экран, — это убеждение было еще на просмотре. Эйзенштейн снял Питер, работу прожекторов во время забастовки, разгром типографии и, наконец, дошел до одесских событий. В результате он выбросил все и сосредоточился на одном эпизоде, в сущности говоря, на двучленном эпизоде: на броненосце и на лестнице. Лестница эта сейчас так часто упоминается в рецензии, что ее пора бы разобрать и поместить в музей, но все-таки скажем о ней еще несколько слов, но перед этим скажем о значимости вещи. Значимость фактов, проходящих перед человеком, воспринимающим художественное произведение, является одной из составных частей художественной формы, которую он воспринимает. Задание вещи может быть такое, что в этом произведении все играет служебную роль, и важен только какой-нибудь определенный выход, но часто это только леса, по которым ходят при создании вещи.
Осип Максимович Брик, сличая журнальный текст «Отцов и детей» с этим же романом в собрании сочинений Тургенева, шаг за шагом проследил те изменения, которые здесь произошли. Роман имел ярко-памфлетную установку. Базаров плохо пах, был отрицательным героем и был обставлен аксессуарами отрицательного героя. Роман был принят, благодаря тому что художественная конструкция вещи не позволяла полностью осудить замысел Тургенева. Роман был принят не как памфлет, и Тургенев закрепил ошибку, он изменил тон романа, убрал прыщи с лица Базарова и даже в последней фразе, которую Базаров раньше говорил: «Погасите лампу» — (про свою смерть) — эта последняя фраза преобразилась так: «Дохните на лампаду, и она погаснет».
Салтыков-Щедрин очень сердился на то, что его вещи нравились вице-губернаторам, что помпадуры смеялись на свое собственное изображение и относились к карикатуре, как к забаве, т. е. что забавность произведения сделалась самодовлеющим фактором. Но это не единственный путь искусства. Бывают моменты, когда в произведении ярче всего ощущается целевая установка, и «Броненосец „Потемкин“», художественно очень богато сделанный, прежде всего оценился как вещь целевая. Когда в воду падает актер, одетый офицером, — публика аплодирует. Когда в воду падает актер, одетый матросом, публика не аплодирует. Когда после восстания нам уже показаны убитые офицеры — Вакулинчука, погибшего во время восстания, кладут на мол с надписью: «Погиб за ложку борща», то публика не возражает потому, что публика заражена художественно-целевой установкой автора.
Вещь Эйзенштейна «Броненосец» не понравилась «вице-губернатору», в этом ее главная особенность, ее прокламационность. Она воспринимается на Западе как письмо Коминтерна, и одной из заслуг Эйзенштейна является то, что он, как художник, не боялся включить в свое произведение новый смысловой материал.
По чисто формальным достижениям «Броненосец „Потемкин“» беднее «Стачки». Правда, в нем меньше эстетизма, меньше кинематографического почерка, меньше примитивного настаивания на аппарате, — игры с аппаратом, но зато там и меньше кинематографических патентов. Если не считать блестящих львов: трех каменных львов, лежащих, подымающихся и вставших, снятых Эйзенштейном в Крыму и превращенных на экране в одного льва, вскочившего и взревевшего в Одессе на выстрел «Потемкина». Эти львы работают основным недостатком киновосприятия: тем, что в кино мы не досматриваем изображения.
Я много раз судил перед самим собой и пересуживал Эйзенштейна и много раз разно решал для себя вопросы его значимости. Но вот такие отдельные, для себя сделанные, вещи, которые в то же время так хорошо работают в общей конструкции всего произведения, так хорошо заменяют реагирование всего города — все это решило вопрос за инженера-Эйзенштейна.
Человеческая масса в «Броненосце» берется двумя способами: или она берется идущими людьми — количественно, так, как саранча, а саранчу мерят квадратными верстами, или же она берется крупными планами вполне разобщенно. Но тут человек берется, как рог в хоре, т. е. на одной эмоции, как образчик, если бы это слово не было так затаскано, как маска.
Монтаж вещи очень своеобразен. С точки зрения классической школы монтажа он неправильный, иногда смысловые сопоставления не выходят или не доходят. Например, качается стол на корабле — пустой стол, за который не пришли матросы, — офицер покачал головой. Не вышло, не совпало. Второй пример: офицер, не уверенный в исполнении приказания, нервно бьет пальцем по рукоятке кортика, — священник постучал крестом по ладони руки. Эти сопоставления даны общими планами, и совпадение дается смысловое, а не графическое. Конечно, выделить эти куски в крупные планы и сделать их монтажно-совпадающими проще, чем сделать «Броненосец „Потемкин“». Но Эйзенштейн на это не пошел, потому что он сопоставляет план с планом, деталь с деталью, а не кусок с куском. Точно так же нет переходов от одного места действия на другое. Нет подоспевающей помощи, нет бегания от героя к герою; броненосец идет на эскадру, и мы не знаем, что происходит на эскадре. Действие происходит на лестнице и не перебивается броненосцем. Перед расстрелом есть перебивка — вставлен нос корабля, разрезающего воду. Я упомянул о ней не потому, что сейчас могу ее проанализировать, а потому, что ощущаю ее значительность, вероятно, она дана для передачи ощущения движения места действия, т. е. она закрепляет площадку действия, а не меняет ее. Одновременно, конечно, она служит и для цели торможения и натягивания ожидания зрителя. Вещи использованы до конца, причем иногда они все-таки аттракционны, так, как брал их Эйзенштейн первого периода. Например, матрос стоит, освещенный фигурной тенью решетки, тут может стоять матрос, может стоять офицер, вообще, это интересно снято. На лестнице же, — лестница использована со своеобразным сюжетом, т. е. построение сцен исчерпывает все ее возможности. На лестнице есть ступени, по которым идут солдаты; каждая ступенька — шаг; приступки, по которым идут калеки, с приступка на приступок. Эти калеки, конечно, родственники шпаны в первой постановке Эйзенштейна — «Стачка», но введены сюда не примитивно, а для показа предмета. В средине съемки Эйзенштейн придумал коляску с ребенком. Коляска работает на площадках лестницы, то катясь быстрей, то замедляясь на ней. Площадки здесь работают, как затруднение в драме, они дают надежду на благополучное разрешение. То, что казалось в кинематографии законом, — показывание образчиков здесь нарушено. Рассвет дан, как рассвет, продолжительно, и это удалось, так как рассвет работает чисто кинематографическим материалом — светом; сюда, впрочем, попал определенный элемент красивости. Мы видим белые колонны на берегу моря. Эти колонны стоят где-то в Одессе, действительно, очень красивы, но их красота какая-то сама на себя облизывающаяся, цитатная. «Кич», как говорят немцы.
«Генеральная линия»
Эйзенштейну после «Броненосца „Потемкина“» сразу предложили ставить другую революционную картину. Сам Эйзенштейн после «Броненосца „Потемкина“» хотел снимать Китай, т. е. резко переменить материал, и рассказывал с увлечением, что в Китае небо темнее предметов[500]. Китайскую тему обсуждали очень долго — месяцев шесть, а Эйзенштейн пока считался в почетном отпуску. Эти отпуски — своеобразный способ награды советской кинематографии, они напоминают рассуждение в каком-то юмористическом рассказе, что летчик побил рекорд и что теперь ему летать будет больше не на чем.
Движение Эйзенштейна на перемену материала воспринималось как чудачество. Побившись очень долго с китайской темой, в момент невозможности ехать в Китай Эйзенштейн заявил, что он хочет снимать деревенскую ленту. Деревенская лента у нас была совершенно скомпрометирована, потому что давалась тематически: поп, кулак, самогон, трактор, т. е. просто упоминание вещей. Тема эта была настолько скомпрометирована, что в государстве с стомиллионным крестьянским населением, при всей остроте вопроса о роли крестьянина в социалистическом строительстве, Эйзенштейну на его предложение поставить крестьянскую ленту ответили: «Это чудачество талантливого человека». И Эйзенштейну понадобился газетный нажим, развертывание своей точки зрения в печати, чтобы доказать право на существование пафоса сепаратора.
Лента Эйзенштейна сейчас снимается, кончается съемкой. Кусков я не видел, думаю, что она построена на принципах комического искусства с изменением восприятий материалов. Так Маяковского, в первый период его творчества, упрекали в сатириконизме, в том, что он работает все время приемами сатирического журнала.
РАЗДЕЛ V. ОБЗОР ТЕМЫ
Я не исчерпал даже обзора своей темы, анализа тех формальных достижений, того образования новых форм искусства из форм искусства техники, которые сейчас происходят в советской кинематографии. При великом множестве проваленных картин, при упреках, разоблачениях бесхозяйственности, бестолковости, — русская кинематография за последние несколько лет развилась блестяще. Это нельзя объяснить хорошо налаженной организационной работой, нельзя, конечно, объяснить и просто особой талантливостью русских кинематографистов. Очевидно, дело состоит в том, что на те запросы, которые были предъявлены русской кинематографии, не было готового ответа, и в поисках ответа были пересмотрены все художественные возможности. Сейчас русская кинематография для Запада уже величина, уже объект подражания, такой же, как были русский театр и русское декоративное искусство. И как на Западе сейчас танцуют поддельные русские танцовщицы, вероятно, через полгода — через год будут подделывать русских режиссеров. Из-за работы режиссеров, актеров, операторов отстали сценаристы. Это потому, что они испытывают на себе меньше давления техники и дальше отстоят от производства.
Советская кинематография — уже реальность, уже нечто созданное. Соревнование наших режиссеров перешло рамки русских московских интересов. Статьи и наши дискуссии будут цитировать когда-нибудь историки искусства, потому что даже ошибки Дзиги Вертова интересней книги Бела Балаша[501].
Кинематография существует в виде нескольких съемочных групп, в виде нескольких направлений.
Еще существует старая кинематография европейского типа, несколько устаревшая, но могущая с достоинством занимать экран.
Существует группа: Протазанов[502], Гардин[503], украинский Чардынин[504], Сабинский[505].
Существует группа Кулешова — первая осознавшая законы кинематографии — основательница русского кинематографического искусства[506]. Она работала, как это обыкновенно бывает, при создании новых форм искусства с условным материалом и ввела в светлое поле сознания то, что было в американской кинематографии только трудовыми навыками. Эта группа в лице Пудовкина сейчас скрещена с влиянием Эйзенштейна и смогла в вещи «Мать» дать бытовое наполнение найденным формам, психологически оправдать приемы и т. д. Пудовкин — хороший теоретик русского кино, и это помогает ему стать первым классиком советской кинематографии, использовавшим достижения своего времени и нашедшим работу для всех инструментов[507].
Сам Кулешов, как основной материал своего творчества, взял работу членов коллектива на установку на определенный кинематографический материал. Это увеличивает значение работы, так как продвигает вперед актерскую работу и делает коллектив Кулешова тем племенным хозяйством, из которого берут людей для улучшения кинопороды. Но это связало Кулешова в деле применения найденных форм с задачами сегодняшнего дня. Люди нервничают и стучат ножом по тарелке, чтобы им скорее подавали, но история искусства не всегда ресторан и приходится подождать. Одновременно Кулешову удалось начать работать по выяснению основного ядра кинематографического приема в деле освобождения, уменьшения знаков кинематографического алфавита и вступить на путь другого монтажа, другого пользования деталями.
Режиссер Роом, путаный и заменяющий систему работы тихим бешенством, освободился в своих последних работах от густой и несколько патологической окраски первых вещей и отвлек свой прием от его первоначального наполнения[508]. Путаясь бессознательно и, может быть, в силу своих театральных навыков, он первым пришел в русской кинематографии к длинным игровым кускам, выдвинул актера. Но в этом человеке менее всего инженерии, и он заваливает свои вещи изобразительностью так, как завалены подушками телеги беженцев.
Фэксы начали как последователи Кулешова; их материал — эксцентриада и «дивнии люди», как сказали бы в деревне. «Чудаки», как называют таких людей, в деревенской постановке царя Максимилиана[509] напомнили нам шпану в «Стачке» Эйзенштейна.
Фэксы не боятся каждый день нарушать кинематографические правила, идти на литературу — ставя «Шинель», разрушать как будто бы найденное правило сценария. Крепко соединенные своим оператором Москвиным, они входят в режущий край, в передовой отряд современной советской кинематографии.
Дзига Вертов со своей группой — один из наиболее героических людей сегодняшнего дня, и он оглушен шумом своей крови в ушах, как это и полагается герою; его общая установка, установка на вещь, на факт — установка Лефа (Левый фронт искусств), передового отряда людей, желающих писать по-сегодняшнему лучше плохо, чем по-вчерашнему хорошо; по терминологии Хлебникова — он изобретатель, а не приобретатель[510]. Свой успех он увеличивает живыми кадрами пафоса, но уничтожает документальность материала, которым работает. Он снимает шерсть Госторга, как поэму Гомера, когда сама шерсть требует иного оформления. И самыми лучшими кусками патетической «Шестой части мира» оказалось изображение того, как скатывают густое свалявшееся руно, покрывшее весь двор фактории Госторга. Здесь шерсть работает, как нечто, предназначенное для постройки брюк, а не предназначенное для фотографирования. И мне нравится начальный кадр «Шестой части мира», когда овец за хвост тянут в прибой купаться (потому что я знаю, что их купают для того, чтобы остричь, и, к сожалению, об этом не знает зритель), и вот Дзига Вертов не делает установку на технику вещи. Но Дзига Вертов своим напором, которым, может быть, заскочил дальше и, повернувшись дважды на 360°, оказался не повернувшимся, равен в отдельных частях своей картины немецким экспрессионистам.
Дзига Вертов счастливей другой группы конструктивистов — Гана[511] и Шуб. Ган не работает сейчас совсем, а Шуб состоит на египетской работе склеивания и исправления чужих, плохо снятых, часто враждебных картин[512].
Инженер Эйзенштейн — изобретатель и приобретатель, вместе остроумный, далеко видящий, ироничный и знающий, как делать патетику, — лучший человек сегодняшнего времени. Он не боится эпохи и использует ее заказ для создания новых форм, работает на свое время и работает на свое искусство, оставляя для себя свободу художественного приема, умея располагать его, не считаясь с простой последовательностью исторических фактов; он со своим сопостановщиком Александровым один из режиссеров понимает тесную связь кино со словом, будучи в то же время чистым кинематографистом.
Для того чтобы советская кинематография могла продолжать развиваться, нужно сделать установку на постановочные группы и на материал.
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЗРИТЕЛЯ
Мрачное настроение, которое овладело кинематографистами в начале года, сейчас несколько улучшается.
При оценке положения, очевидно, не приняли во внимание рост национальных киноорганизаций и роль РСФСРовских второстепенных киногруппировок.
Госкинпром Грузии дал Шенгелая в «Элисо»[513]. Очевидно, очень крупным событием будет «Арсенал» Довженко. Эта картина и украинского и всесоюзного значения, — она доказывает правильность ставки на развитие местных национальных культурных центров и отучает нас от мысли о «провинции». Советская кинематография перестает быть русской кинематографией и становится кинематографией Союза.
Мелкие киноорганизации, постоянно стесняемые и ограниченные в выборе репертуара, дают нам «Каторгу» Райзмана[514] — первоклассную кинематографическую продукцию.
Кинематографическая мысль продолжает работать. Еще не доказано, что лучше всего она работает в Совкино. Преимущество крупной организации сейчас в Совкино мало используется. Исследовательская работа могла бы вестись прежде всего в этом огромном учреждении. Но она ведется случайно, уже на самих картинах, и то, что должно было быть найдено чисто экспериментальным путем, ищется в самом процессе работы, задерживает ее. Плата за лишний переснятый материал, задержка в выпуске картин — это штраф за некультурность и недостаточную плановость.
Работа ГТК осуществляется тоже в дискуссионном порядке. Постоянно оспаривались удачи ГТК, его организационные достижения случайны. В ГТК работает Эйзенштейн[515], потому что он и все режиссеры не участвуют в коллективном руководстве художественной жизнью фабрики. Его лаборатория оторвалась от производства. С самодеятельными группами киноработников работает не занятый в производстве Ильин[516].
Совкино имеет грандиозный опыт по прокату. Совкино должно знать, как дышит зритель, через сколько времени можно вернуть картину на экран, какие картины любит Центральная Сибирь и как отражается общее состояние страны на наполнении зала. Отсюда надо сделать несколько шагов для того, чтобы идти к организации исследования современного зрителя.
Мы все еще представляем себе зрителя нерасчлененным, какимто общим. Для нас неожиданно, когда очередь на Гарри Пиля у кино «Горн» приходится разгонять конной милицией, для нас неожиданно, когда крестьяне в Новосибирске приезжают в город и ночуют в нем для того, чтоб увидеть «Баб рязанских»[517]. Для нас неожиданна полная коммерческая неудача «Матери» и «Конца Санкт-Петербурга» и полная удача восстановленной десятилетней «Пиковой дамы»[518].
Мы до сих пор не проверили, как реагирует на одну и ту же картину зритель разного района. Между тем есть ряд картин, которые не имели успеха на первом экране и имели долгий успех на втором экране. К таким картинам принадлежат, например, «Ветер»[519], «Светлый город»[520] и ряд других.
Крупное централизованное хозяйство может быть прогрессивным только тогда, когда оно основано не на повторении методов мелкого хозяйства. Монополия проката Совкино должна быть связана с исследованием зрителя, с определенной научной работой, с ясным представлением своего рынка.
В настоящее время мы живем предрассудками. Мы представляем себе какого-то мифического общего крестьянина, не знаем уровня его кинематографического развития и те методы монтажа, которые до него доходят.
Сейчас определенное внимание обращено на детскую ленту. Сценарии для детских лент заказаны. Но экспериментальной работы не ведется, или она ведется не в Совкино и недостаточно используется производственными организациями. Между тем оказывается, что детей до восьми лет вообще не стоит пускать в кинотеатры, так как они слишком устают и со второй части перестают воспринимать картину.
Если показывать восьмилетним, десятилетним детям детей младшего возраста, то это им неинтересно, для них это низшая раса. Дети интересуются детьми же, но старше их самих, и детьми активными, а не пай-мальчиками. И эта жажда активности приводит детей к Гарри Пилю. И не то плохо, что Гарри Пиль прыгает, а плохо то, зачем он прыгает.
Мы представляем себе, что для детей нужны картины с простым монтажом. Институт методов внешкольного образования производил опыт, давая детям записывать содержание картин после просмотра. Просматривалась первая часть «Его призыва»[521]. Были дети, которые на память записывали до восьмидесяти кадров подряд в монтажном порядке и, кроме того, все надписи в части, то есть дети не только запоминали сложное кинематогpaфическое построение, но и могли его расчленить. Некоторые дети досочиняли картины, рассказывая, что происходило в монтажно пропущенных кусках, и эти пропущенные места они восстанавливали тоже по кинематографическому методу. Этот эксперимент пока еще не использован, между тем его нужно продолжить, нужно его много раз повторить.
У нас существует колоссальный рынок Востока. Наше кино может использовать не только наш собственный Восток, но и Персию, Турцию, часть Китая, а мы не знаем, что хочет видеть крестьянин Туркестана. Не знают это и национальные организации. Кажется, в Туркестане имели особый успех «лошадиные оперы», то есть ковбойские драмы со скачками и выстрелами.
В старину недостаток исследовательской работы над зрителем пополнялся умением районированных прокатных контор. Сейчас исследовательская работа стала совершенно необходимой и на местах. Направляя картины «на глазок», мы не занимаемся сейчас и подготовкой зрителя.
Совкино с его монополией может систематизировать в определенных районах подачу картин. Если «Мать» не доходит до рабочего зрителя, данная внезапно, то, может быть, можно восстановить тот ход развития советской кинематографии, который привел нас к последним картинам. Мы должны подготовить зрителя к восприятию хорошей картины путем ознакомления его не только с боевиками и новинками, но и введением его в круг творческой работы кинематографистов, в самую сферу методов кинематографического мышления.
Кинематографисты за то, чтобы Совкино было органической частью планового хозяйства, а не только счастливым инкассатором советской кинематографии.
1928СТАНДАРТНЫЕ КАРТИНЫ И ЛЕНИНСКАЯ ПРОПОРЦИЯ
Хороший журналист Максим Горький любил говорить молодым рецензентам: «Не пишите для себя, не пишите для автора, пишите для публики».
Искусство считаться с публикой, работать на рынок, а не друг для друга — искусство высокое. У нас работают на себя. И когда проходит фабричная или кружковая мода на определенный прием, то мы считаем его изношенным и переходим к следующему. Благодаря этому у нас не могут создаться стандартные картины. Мы не понимаем, что зритель развивается и двигается с иной скоростью и любит привыкнуть. Таким образом, если понимают, что зритель привыкает к определенным кинокартинам, то отказываются понимать, что зритель привыкает к определенным киноактерам и киноположениям.
Здесь есть и вина прессы, которая поговорит о чем-нибудь и снашивает предмет, не надев его. Истребляет тему, еще не использовав. Так у нас считали истребленной тему гражданской войны. Сейчас считают истребленными семейные темы, несмотря на большой успех подражательной «Жены» Доронина[522]. Между тем и изобретательство в производстве не обязательно, это только начальный момент в производстве. Кинофабрики хотят каждый день выпускать велосипеды новой конструкции.
И в результате этого мы имеем недогруженные фабрики, долгую работу над сценарием и не понимаем грузоподъемности сценария, снимая то, что должно хватить на три варианта в одной картине. Сценарий переживает столько различных фаз, что каждая из них является самостоятельным произведением. Кончается работа над сценарием обыкновенно тогда, когда все измучатся и махнут рукой, тогда режиссер подбирает сценарий и делает то, что хочет. Благодаря соединению на фабрике людей по принципу найма, а не по принципу художественных группировок, нельзя создать элементарнейшей вещи — фабричного шефства.
Совершенно не нужно, чтобы молодые режиссеры с первого раза пускались на волю и чтобы их картины прыгали через угрозу попасть на полку, как через барьер. К чему эти скачки, в которых нет даже разбитых голов, потому что если голова разбита, а лента погублена, то все равно она склеивается знаменитыми мастерами братьями Васильевыми или их наследниками.
Режиссер-шеф должен отвечать за работу режиссера начинающего, и если они будут одной группировки, то здесь не будет художественного насилия.
При массовом производстве и производстве цеховом будет использоваться целиком художественная выдумка, которая сейчас бесплодно пропадает в монтажных картинах.
Современная же установка кинофабрики идет на отдельного режиссера, который производит каждый раз отдельные вещи и будто бы заново. Лео Мур[523] назвал как-то киноателье гостиницей для комнат, куда приезжают и откуда уезжают комнаты и декорации. К сожалению, сейчас, кроме того, кинофабрики — гостиницы для режиссеров. Отсутствие группового лица и художественности картины мешает создать фабрикам сборные программы, потому что на фабрике есть только отдельные комнаты, в отдельных комнатах отдельные хозяева, и собрать нечто из кусков никто не может. Между тем уже давно есть директива, совпадающая с технической необходимостью, — директива о создании сборной программы. Она была сформулирована Лениным в знаменитую пропорцию — в программу, состоящую из развлекательной ленты, хроники и научной[524]. Такая программа дает место научной ленте, приучает зрителя к ней, такая программа дает место хронике, дает смысловую нагрузку сеансу и в то же время позволяет не перегружать содержание развлекательного материала. Наши ленты сейчас по величине более одинаковы, чем галоши. Галоши бывают от первого до четырнадцатого номера, а ленты все от 1800 до 2000 метров. Бывают и свыше и нравятся публике, но те ходят без номера.
И вот режиссеры то вытягивают куцую тему, разбавляя ее хроникальными вставками — «А между тем ловили рыбу» — или просто затягивая ее бегущими облаками, то обращают фильму в каталог добрых намерений. Кто-то неведомый, не отмеченный ни в производстве, ни в прокате, как-то сказал, что серийные ленты надоели — и нет серийных лент, хотя они вовсе не надоели и хорошо идут. Составная программа избавляет нас от однометражности лент, изменяет кинематографическую технику, позволяет нагрузить фабрику, давая более компактное заполнение ателье. Наконец, составная программа позволяет делать то, что мы обязаны делать и не делаем.
Кино должно помочь селекционировать человеческий быт и человеческое движение. Нигде нет таких отсталых навыков, как в быту. Вероятно, мы даже пальто надеваем неправильно. Навыки переходят друг от друга, от поколения к поколению непроверенными, потому что быт не инструктируется и не может инструктироваться обычным способом. Мы снимаем заводы и снимаем их, обычно, пейзажно, но завод не нуждается в том, чтобы проверить себя в кино. Но у нас не снято, как нужно дышать, как подметать комнату, как мыть посуду, как топить печку, хотя в одной топке печей у нас такая бесхозяйственность и варварство, перед которым меркнет даже кинематография[525]. Нужно создать ленту в 40–50–100 метров, которая не передразнивала бы жизнь и не ловила бы ее врасплох[526] — потому что жизнь не воришка, — а натаскивала ее как молодого щенка.
Ленинская пропорция, кроме того, создает общественно значимое кино, иначе мы можем заниматься только консервированными вопросами: любовью, смертью и вообще вещами несезонными, потому что иначе кино дает ответ на общественный запрос через год, и ответ обыкновенно такой, что вызывает опять братьев Васильевых (между прочим, они не братья) и заставляет их переклеить ответ[527].
Если ленинская пропорция не осуществлена до сих пор, точно так же как не создана еще и стандартная лента, то причина одна — кинофабрики еще не существует, так как пока есть кустарные мастерские, изготовляющие разовый товар по случайным заказам[528].
1928РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО КИНО
С. М. Эйзенштейн готовился стать инженером; учился японскому языку; хорошо рисовал; работал на фронте как художник и режиссер самодеятельных красноармейских театров. Пудовкин был физиком; Довженко — живописцем и учителем; Козинцев[529], Юткевич[530], Кулешов были живописцами; Шенгелая[531] — поэтом; Эрмлер[532]— чекистом. Старых кинорежиссеров почти что не осталось. Советские кинематографисты пришли в бедные, устаревшие и совсем брошенные старые киноателье. Начинали все заново.
Эйзенштейн ставил в театре Пролеткульта пьесы С. Третьякова и пародийную переделку пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты»[533]. Григорий Александров[534], тогда студийный актер, должен был пройти над зрительным залом по проволоке. И прошел на репетиции, а на спектакле ему это запретила охрана труда — боялись и за актера и за зрителей, на которых он может упасть. Пьеса не имела никакого отношения к Островскому. Новое содержание еще не нашло свою форму. Брали старую форму и разрушали ее так, как дети ломают игрушку; в особенности если игрушка им не по возрасту.
Люди росли с необыкновенной, стремительной и веселой быстротой. К 1926 году советское кино уже создало мировые шедевры, среди которых были «Броненосец „Потемкин“» и «Мать».
Я помню день премьеры «Броненосца „Потемкин“» на Арбатской площади[535].
Площадь была совсем другая; на ней стояла небольшая церковь, за кинотеатром был рынок; были другие бульвары с булыжными мостовыми.
На премьере С. М. Эйзенштейн одел весь коллектив в матросскую форму. Фойе было украшено морскими флагами.
Мы сидели в зале, не ожидая успеха. Перед этим на просмотре в Совкино[536] один руководитель благожелательно сказал: «Картина, несомненно, годна для клубного проката». К ней отнеслись как к агитке.
И вот на экране встала волна, разбивающаяся об одесский мол. Потом пошли кадры как будто хроникальные. И родилась картина, которая захватила зал, захлестывая его волна за волной, вводя всех людей в другой мир, в мир революции 1905 года, переосмысленный как предчувствие будущей победы.
Через тридцать восемь лет после премьеры картина все еще на экране. В прошлом году она с успехом прошла в Риме. Она — гордость не только советской, но и мировой кинематографии.
Через несколько дней после премьеры я вечером пришел к Эйзенштейну. Он жил где-то на Патриарших прудах[537], вместе с М. М. Штраухом[538]. На двоих людей — на режиссера и на актера, тогда уже известного, — была одна комната.
Жилищный комитет, просмотревший картину, постановил: дать Эйзенштейну вторую комнату — и дал ее путем перемещения жильцов внутри дома. Сергей Михайлович показал мне комнату с гордостью. На потолке вокруг лампы были проведены разноцветные круги. Деревянные зелено-желтые жалюзи были подняты настолько, что пропорции комнаты изменились. Это была веселая комната счастливого человека, довольного человека: у него была лента, уже прославленная во всем мире, и собственная комната!
Я пришел в кинематографию из литературы. Пришел случайно. Меня позвали сделать надписи к картине «Бухта смерти». Снимал картину режиссер Абрам Роом[539]. Сценарий написал Борис Леонидов[540], военный журналист.
Шел 1926 год. Я попал на кинофабрику, начал крутить пленку, просматривать кадры, изменять надписями сюжет и удивляться великим возможностям киноискусства.
Потом я работал с Львом Никулиным[541] над картине «Предатель» на Третьей фабрике, которая находилась у теперешнего Киевского, а тогда Брянского вокзала. Фабрика была совсем крохотная. Декорации толпились в ней, как коровы, внезапно остановленные перед воротами. Мы берегли каждый метр свободной площади. В. Е. Егоров[542], прекрасный театральный художник, создатель декораций «Синей птицы» в МХАТ, показывал нам, как в кино делают пространство. На первом плане он ставил какую-нибудь укрупненную диковинку, например опущенный кусок флага или грандиозную ногу статуи; на заднем он повторял эту же диковинку в целом виде, но уменьшенную в десять раз; пересекал промежуток полосами света и получал даль.
Мы учились делать море из черного бархата и таза с водой, в котором отражался луч прожектора.
Советская кинематография была бедной. Советская кинематография уже и тогда была великой, потому что она была поднята грозовым фронтом Революции.
Шел 1926 год. Снималась «Мать» Пудовкина, «Шестая часть мира» Дзиги Вертова — я делал первый набросок ее сценария. Работали фэксы — Козинцев и Трауберг[543], снимали «Чертово колесо». Работали Протазанов[544], Кулешов.
Мне пришлось работать на Третьей фабрике с великим актером Л. М. Леонидовым[545]. Первоначальный сценарий «Крыльев холопа» был написан писателем К. Шильдкретом. Леонидов, прочитавший сценарий и посмотревший, как сделана в нем роль Ивана Грозного, сказал: «Я не могу рычать на экране. Дайте мне в руки какую-нибудь вещь. Покажите, что я делаю, чем заинтересован и к чему я стремлюсь». И мы придумали Ивану Грозному его дело. Он вместе с царицей имеет «белую казну», заинтересован в государственной торговле льном. Мы в кино были реалистами. Мы искали вещи и обстановку, которые определяют поведение человека, его походку, его отношения с другими людьми, его заинтересованность.
Картина «Крылья холопа» была снята режиссером Ю. Таричем[546], сейчас уже очень старым человеком. Снимали мы в селе Коломенском. Строили там избы. Одевали бояр в настоящие костюмы. Помню фамилию художника — мастера по костюмам — Воробьев[547]. Костюмы обнашивали. Бороды выращивали, а не приклеивали. Люди на экране оказались очень красивыми.
Время было наивное. Но это было время великих открытий. И мы ждали, что завтра произойдет чудо.
В кино режиссер имеет перед собой человека, такого человека, которого зритель может рассматривать. Человек этот не живой, а снятый. Но зато зритель живой. Он ходит среди снятых людей. Режиссер тоже живой. Он ведет за собой зрителя, он показывает ему мир по-своему. Он прокладывает в мире свои дорожки. Он то пригибается, то поднимается, смотрит то сверху, то снизу. Он заменяет всего человека его рукой, если рука в этот момент самое главное в действии.
Мы снимали. Уже появился Эйзенштейн и появился Пудовкин. Я говорю — появились, хотя у этих молодых людей прославившие их картины были третьими. Пудовкин снял картину «Механика головного мозга». Это была картина о теоретических идеях академика Павлова. Павлов посмотрел ее и сказал: «Я думал, что получится вульгаризация, а этого не получилось». Внимательность, заинтересованность делом, как бы подчиненность режиссера самой действительности — вот с чего начал Пудовкин. До этого он снял картину «Шахматная горячка», комедию, в общем, незначительную. Третьей картиной он снял «Мать» по Горькому. Сценаристом был Натан Зархи[548], лучший сценарист, которого я знал за свою жизнь, — погиб он молодым, случайно, при автомобильной катастрофе. Он был сценаристом, драматургом, любил музыку. Пьеса Н. Зархи «Улица радости»[549] — очень хорошая пьеса, но я думаю, что сценарий Зархи был лучше. Он не просто отразил на экране роман Горького, он нашел зрительные эквиваленты словесным построениям Горького. Он выразил те же идеи через действия актеров, через все вещи, через способ съемки.
Революция передана не только демонстрацией, не только стачками, но и весной. Улыбаются дети, летят птицы, вскрываются реки
Много раз в кино было показано, как герой во время ледохода переходит по льдинам. Это делали и американские режиссеры. (Кажется, в первый раз это было в романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»: там негритянка с ребенком на руках уходит от погони через ледоход.)
Но у Пудовкина и Натана Зархи через ледоход уходит человек, спасающий не себя, а свое дело, — уходит революционер на демонстрацию. Он освободился из тюрьмы для того, чтобы вырваться к революции. Он спасает не себя, а революцию. Он жаждет опасности. Его убивают. Красное знамя (ничего, что оно тогда было не красным, а серым, потому что кино не было цветным; сыгранное красное знамя — осмысленный игрою цвет или, вернее, созданный цвет) падает на землю.
Женщина, мать, подхватывает знамя, поднимает его. Солнце светит через редкую, грубую ткань, и это — солнце революции.
Это не символизм — это столкновение вещей, которые выражают идею, содержание.
Время создания советской кинематографии — это время чудес. Я буду еще много говорить об Эйзенштейне и о Пудовкине.
С Пудовкиным мне пришлось работать[550]. Это были счастливые дни, когда мы сидели за столом — Пудовкин, актер Б. Ливанов[551], оператор А. Головня[552], художник Уткин[553], режиссер М. Доллер[554] — и говорили об исторических людях так, как будто они живут сейчас, как о знакомых. Выясняли их характеры для себя, чтобы потом объяснить другим, и радовались храбрости и изобретательности восстания 1611 года. Мы думали о том, как люди носили шапки, и как шапки переламывали волосы, и какой был подъем рукава, и как надевали длинный рукав на руку, как двигались люди. Это было очень счастливое время.
В моих рецензиях того времени многое наивно. В них есть заинтересованность даже не мастера, а подмастерья, человека, видящего зорко, но близко. Но это история нашего кино.
Мы собирались в АРРК[555] (Ассоциация работников революционной кинематографии). Мы были не нарядно одеты, и зал, в котором мы смотрели картины, был не богат. Мы спорили о фильмах. Мы говорили друг другу прямо, что мы думаем. Говорили о самом важном. Старались быть по своему художественному просвещению вровень своему веку. И уходили на улицу. Тогдашняя, еще тихая, не многоэтажная Москва принимала нас как своих, и мы смотрели на прохожих как равные, как люди, им нужные, как люди одного времени и в то же время как люди будущего.
1963О ДЗИГЕ ВЕРТОВЕ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВСТУПЛЕНИЯ
Трудно отвязать память от причала молодости не только своей, но и от молодости поколения. Легли между нею и тобой туманы, книги. Много разных книг, но тумана больше всего… Лег приобретенный опыт, а опыт подсказывает, что главное можно передать через детали.
Однажды художник кино В. Егоров продемонстрировал мне, как можно показать на экране море, не загромождая ателье декорацией. Он поставил край борта, за ним положил на пол черный бархат и другой кусок черного бархата повесил как занавес. На черный бархат пола поставил таз с водой. На этот таз дали луч прожектора. Егоров сказал, что зритель по этому сигналу поймет все. Потом показал мне кусок. Я увидел ночь на море, и только одно место, освещенное, может быть, луной из-за облаков, сверкало и переливалось.
Это было не только море, это было море ночью.
Правду в искусстве можно передать только тщательно продуманной, найденной деталью. Продуманной, но не придуманной.
Мы знаем, что Дзига Вертов работал вначале вместе с Михаилом Кольцовым[556], большим советским журналистом. Он пришел в кино как секретарь Кольцова.
Кольцов был смелым журналистом, который на самолете того времени, не имеющем поплавков, на самолете ненадежном, перелетал из Москвы в Константинополь. Я сказал ему, что он мог упасть. Он ответил, что журналист об этом не должен думать. Журналист должен думать о статье.
В воспоминаниях своих Дзига Вертов пишет:
«В 1918 году Михаил Кольцов предложил мне работать в кино. Это было вскоре после постановления Московского Совета о введении контроля на кинопредприятиях, то есть период, предшествовавший национализации кинопромышленности. Мы начали выпускать „Кинонеделю“ — экранный журнал. Через несколько месяцев т. Кольцов перешел на другую работу, доверив мне руководство кинохроникой»[557].
Теперь представим себе Москву начала [19]20-х годов. Много красных кирпичных домов. Черные вывески с золотыми буквами. Много церквей. Улицы, мощенные булыжником. На улицах извозчики. По Страстному бульвару, по внешнему проезду его, мимо маленького одноэтажного дома идет Михаил Кольцов.
Через несколько лет в этом доме будут редакции шестнадцати журналов. Заведовать этими журналами будут два человека: Михаил Кольцов и Ефим Зозуля — старый журналист, тот, который стариком пришел потом в московское ополчение, пережил много боев и умер от заражения крови — у него была кровь старее, чем сердце.
В короткой кожаной куртке идет молодой человек в круглых очках. Такие очки были модны, их показал нам Гарри Ллойд в комических картинах. Человек в очках — Михаил Кольцов — идет мимо красной стены Страстного монастыря. На стену смотрит с высокого пьедестала, закутавшись в чугунный плащ, Пушкин. Памятник его стоял тогда на Тверском бульваре. С правой руки Пушкина — старая церковь. Между Пушкиным и Страстным монастырем — маленькая трамвайная станция, и здесь проходят трамваи. Чернью рельсы точно и далеко видны среди серого булыжника. Кольцов выходит на бульвар, проходит мимо церкви, мимо старых домов, мимо того дома, в котором жила Анна Керн, идет через проходной двор.
В Малом Гнездниковском переулке был лианозовский особняк с садом. Особняк тогда был двухэтажным (теперь он пятиэтажный). В нем просмотровые залы. В нем сидят люди, которые собираются переделать кинематографию.
Здесь и молодой Дзига Вертов. Он уже мечтает о создании нового искусства — хроникальной документальной кинематографии. Создавать ее надо на основании газетного опыта.
Газета имеет свой сюжет, — сюжет, основанный на столкновении событий, фактов. Сюжет этот как будто случайный, но он определен заданиями дня.
Сейчас газетный монтаж придет с Вертовым в советскую кинематографию. А еще через десятилетия он придет и в художественную кинематографию к Феллини, к картине «Сладкая жизнь», где в сюжете фильма от газетных полос остались газетные фоторепортеры: они бегут с аппаратами фиксировать ужасы дня; они похожи на фурий (евменид) — богинь мщения, преследующих виновных. Они были богинями судьбы. Теперь они бегут не с факелами, а с приборами для моментальной вспышки при фотографировании.
Сюжет в искусстве — разнооформляемая работа по выявлению сущности предмета путем сопоставления частей событийных, придуманных, или взятых из истории, или взятых из хроники сегодняшнего дня.
Тогда для документального кино сюжетом называлась короткая, имеющая начало и конец, запись факта, это кусок, вырезанный ножницами из ленты, обыкновенно он начинается приближением аппарата, а кончается затемнением.
Вот такие сюжеты потом Дзиге Вертову пришлось снова монтировать в последние годы жизни[558]. Он работал на Центральной студии документальных фильмов. Время для него попятилось.
МОДЫ ВРЕМЕНИ И ЗАКОНЫ ИСКУССТВА ВРЕМЕНИ
Первые снимки Дзиги Вертова. На них молодой, самоуверенный, счастливый человек, — человек, дышащий удачами времени. Ему казалось, что все начинается совершенно заново, что прошлого как будто и не было.
У того времени были свои моды.
Поэт и драматург Сергей Третьяков носил странный галстук из кожи. Этот ремешок — знак галстука, напоминание о нем, а не галстук: острие времени было направлено на отрицание, а не на утверждение.
Теоретик, ныне забытый, Алексей Ган утверждал, что вообще не будет никакого искусства, а будут народные праздники, процессии: на пути процессий будут стоять баррикады, идущие будут их разрушать, как бы заново принимая участие в революции.
Здесь все неверно.
Революционеры не столько разрушают баррикады, сколько возводят баррикады для того, чтобы бороться со старым, сильным: разбирает баррикады полиция; кроме того, этот трюк или аттракцион может быть использован только один раз.
Эпоха революции в искусстве как будто начиналась не с утверждения, а с отрицания. Эту ошибку Пролеткульта точно определил В. И. Ленин. Он сказал, что революция не отрицает прошлого, а изменяет его направленность: революция наследует все, что было великого в жизни и в искусстве.
Позднее «Леф», в котором работали Маяковский, Пастернак, Асеев, Бабель, отрицал искусство, печатные стихи, отрицал существование стихов стихами.
Молодой Маяковский еще до «Лефа» подписался под манифестом, в котором предлагал сбросить Пушкина с парохода современности.
Прошли десятилетия. Пароходы существуют только на глухих реках, даже для кинокартин нам иногда приходится заново их строить. Воды океанов, озер, больших рек заняты дизелями, ракетами, атомоходами, Пушкин жив.
Толстой доходил в отрицании даже до самоотрицания, говоря, что для истинного искусства ценны только две его вещи. Он писал: «При этом еще должен заметить, что свои художественные произведения я причисляю к области дурного искусства, за исключением рассказа „Бог правду видит“… и „Кавказского пленника“…»
Так писал великий человек в 1897 году. Он отрицал Софокла, Еврипида, Эсхила, Аристофана. В музыке признавал только несколько отрывков, но очень любил Шопена.
Искусство, двигаясь вперед, отрицает самоотрицание.
Искусство Возрождения отрицало искусство Средневековья, считал готику только варварством. Искусство Франции долго отрицало Шекспира.
Мейерхольд в 1921 году отрицал всю классическую драматургию. Он писал: «Где репертуар, который, встретив малый ограниченный круг, оскорбит надменные его привычки и заставит замолчать мелочную привязчивую критику? Где репертуар, способный одолеть непреодолимые преграды? Где трагедия, которая могла бы расставить свои подмостки и переменить обычаи, нравы и понятия целых столетий?»
Искусство первых лет революции жило во многом пародиями, эксцентрикой.
Так шли к цирку и к кино через цирк фэксы.
Так пародировал Островского Эйзенштейн. Так пародировал в надписи на стене монастыря старые молитвы талантливейший Сергей Есенин, человек, глубоко понимавший прошлое и потому яростно его целиком отрицавший.
В этом отрицании было и отречение, ненависть к религии, которая в этой ненависти еще продолжала существовать.
Искусство необыкновенно плотно, необыкновенно крепко. Но нам в искусстве, в сегодняшнем искусстве, надо было решать не только судьбу человека. Мы должны передать социальное поле напряжения, которое создают в мире новые явления. И вот это искусство сопоставления явлений, мышления кадром, мышление предметом — это новый способ понимания мира.
Этот способ создан был кинодокументалистом Дзигой Вертовым.
Дзига Вертов создал свой круг людей, и рядом он имел преданных сторонников, которые не изменили ему ни в годы долгих побед, ни в годы долгого непризнания.
В 1945 году в статье «Как я стал режиссером» Эйзенштейн вспоминает[559], как он думал «лет тридцать тому назад». Он рассказывает, как он шел от Мясницкой к Покровским воротам и как думал со всем жаром человека двадцати двух лет об искусстве. Он думал: «Убить! Уничтожить!» Он думал, что надо сперва познать тайны искусства, сорвать покровы и потом разбить старое искусство.
Дзига Вертов в третьем номере журнала «Леф» 1923 года написал:
Приятельски предупреждаю: не прячьте страусами головы, подымите глаза, осмотритесь — Вот? Видно мне, и каждым детским глазенкам видно: вываливаются внутренности, кишки переживаний из живота кинематографии, вспоротого рифом революции. Вот они волочатся, оставляя кровавый след на земле, вздрагивающей от ужаса и отвращения. Все кончено.Прибавлю, что этот кусок для большего ужаса набран разными шрифтами: корпусом, дубовым, другим жирным шрифтом.
Это объявление войны, попытка совершить смену вех.
Рядом Эйзенштейн напечатал «Монтаж аттракционов».
«В двух словах. Театральная программа Пролеткульта не в „использовании ценностей прошлого“ или „изобретении новых форм театра“, а в упразднении самого института театра как такового с заменой его показательной станцией достижений в плане поднятия квалификации бытовой оборудованности масс».
ДЗИГА ВЕРТОВ — РЕЖИССЕР
Сперва он был не режиссером. Его называли съемщиком. Предполагалось, что режиссер должен иметь дело с актерами. А человек, который снимает факт, не режиссер, а съемщик, он как бы помощник фотографа, он консультирует по выбору кадров и точек съемки.
В 1918 году Дзига Вертов выпускал киножурнал, который назывался «Кинонеделя». Он был автором текста. Так было в 1918 году.
В том же 1918 году он работает над исторической хроникой «Годовщина революции», в которой уже использован был различный материал сопоставлений.
Потом захотел вмешиваться в жизнь, захотел снимать «Киноправду». Но что такое «киноправда»?
«Правда» — это слово. Но слово — это еще не вещь или это уже не вещь. Слово — это обобщение.
В Библии, в 1-й и 2-й главах книги «Бытие», невнятно, с повторениями рассказывается, как создаются и не зараз и не по порядку сложности разные виды животных.
Слово не вещь, а обобщение разных вещей, разделение их на отряды, на некоторые отдельные обобщения.
Искусство, пользуясь словом, или рисунком, или скульптурой, выделяет общности, а потом уточняет элементы общности. Сами слова дают только общее; выделение частного происходит позднее.
Литература живет словом, а слово — это обобщение. Литература преодолевает общее, говорит: вот эта женщина — Анна Каренина, она аристократка, но она не только женщина определенного круга, не только жена, которая изменила своему мужу. Посмотрим судьбу именно этой женщины, и через нее мы увидим все или как потом про любовь говорил Маяковский: «Жизнь встает в ином разрезе, и большое понимаешь через ерунду».
Любовь для Маяковского — это его судьба, не ерунда.
И Анна Каренина, конечно, не ерунда, хотя Толстой много раз отказывался от этого рассказа о любви офицера к молодой женщине. Ему казалось временами, что это недостаточно серьезно. Он торопился кончить этот роман.
А в кино все единично. Сняли Самойлову в роли Анны Карениной[560]. Вот эта женщина и есть Анна Каренина. И дуб, снятый в кино, — вот этот дуб. Кино идет от частного к общему.
Кино для того, чтобы показать мир, обобщить мир, должно монтировать, потому что само мышление человека — это монтаж, а не только отражение. Ты видишь себя в зеркале, сравниваешь себя сегодняшнего с собой вчерашним и себя причесанного или лысого с собою же не причесанным, но кудрявым. Искусство — это сопоставление отражений, это размышление над миром. И вот почему так подчеркивал Сергей Михайлович Эйзенштейн слова «монтаж» и «аттракцион». Он будет монтировать вещи необыкновенные.
Были великие режиссеры, которые снимали обыденную жизнь, но у них в руках был угол съемки, степень приближения.
Они снимали человека в его обстановке и в своем методе видения.
Что же было нового у Дзиги Вертова?
Он захотел снимать жизнь врасплох, внезапно найденную жизнь как бы вне искусства, вне привычных восприятий. Это ошибка? Нет, это неточно понятое слово «изобретение».
«Записки охотника» — это тоже жизнь врасплох. Тургенев с Ермолаем идут охотиться. Они жизнь видят врасплох, мимоходом, думая о другом, стремясь к другому, и поэтому видят они заново.
Так показывает жизнь Гоголь, который не только дает Чичикову невероятное предприятие — скупку мертвых душ, но и перемежает рассказ о нем невероятными по широте описаниями России, лирическими отступлениями.
Многое начинается с ошибок.
Новое течение искусства часто начинается непримиримо, как будто заносчиво. Не надо думать, что нетерпимость — всегда только ошибка, отрицание во имя самого себя.
Все это началось как будто «вдруг».
Слово это необычайно, хотя применяется часто.
Толстой удивляется тому, что у Достоевского часто встречается слово «вдруг». У него много неожиданного, прямо противоположного тому, что должно было бы произойти.
Но что значит слово «вдруг»?
Слово «вдруг» имеет два смысла: «внезапно» и «вместе». Есть старый морской термин: «Поворот всем вдруг!» Это означает, что все корабли внезапно должны повернуться, внезапно для неприятеля и дружно между собой.
Великое значение Достоевского сейчас объясняется и тем, что в мире внезапно ощутилось новое великое «вдруг».
Сам Толстой писал в «Дневнике» 6 июля 1881 года: «Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет».
Она была уже в противоречиях жизни и «вдруг» появилась в противоречиях искусства.
Октябрьская революция не могла не случиться. Следует удивляться и исследовать причины устойчивости многих иных стран.
Но «вдруг» для них неизбежно.
Октябрьская революция создала другой строй в классовых сражениях, другую возможность неслучайных случайностей. Герои Достоевского и герои Толстого уже живут в системе двух нравственностей.
Осознание перемены вызывало стремление изменить всю систему искусства и создать новую систему нравственности, новое восприятие жизни, новый реализм.
В искусстве вдруг приближается весь мир вместе, но приближается неожиданно. Тем, что у Данте жизнь осмыслена адом, что у Толстого война осмыслена восприятием солдата, глазами невоенного человека Пьера Безухова и глазами Кутузова — военачальника, не верящего в военное искусство.
Надо было дать новое отражение, надо было увидеть новый мир, который повернулся «вдруг», повернулся так, как он никогда не поворачивался.
Что же сделал Дзига Вертов, кроме запальчивых, юношеских и не совсем оригинальных отрицаний самого искусства? Эти отрицания мы делали все «вдруг» или, во всяком случае, целыми группами, будем их называть «вдруговыми» группами, группами друзей, одинаково видящими.
Что он изобрел, что появилось у него заново — «вдруг»?
Почему имя его прожило десятилетия и его значение во времени возрастает?
Не все изменилось «вдруг», но вдруг изменилось значение оставшегося.
ДЛИННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ТОМУ, ЧТО НЕ БЫЛО СКАЗАНО
О Дзиге Вертове надо написать много книг, и тогда заключения к нему будут явственны.
Но книги еще не написаны[561]. Считается, что Дзига Вертов малопонятный.
Был когда-то в «Межрабпромфильме» свой кинотеатр с толковым директором. Прокатывали однажды картину, кажется «Багдадский вор». Она имела большой успех. Потом люди перестали ходить.
— Снимем картину, — сказали директору.
— Нет, — ответил директор, — это ходили те, которые знают, куда ходить и какие картины смотреть. А я обращусь к тем, кто ничего не знает.
Он продолжал держать картину при пустом зале две недели, увеличивая количество афиш вокруг театра. Потом показалась публика, потом публика наполнила зал, и при переполненном зале картина еще шла, кажется, четыре месяца.
Не надо думать, что первый интерес к явлению — это и последний интерес. И что все книги должны быть обязательно распроданы в магазине в три месяца. Мои книги хорошо покупаются — я не себя защищаю. Я защищаю великий принцип трудности порога восприятия.
Картины Дзиги Вертова первоначально не имели успеха, потому что их рассматривали как кинохронику. Потом они имели успех и у публики и в большой партийной прессе.
Были даже очереди у непрорекламированных картин, например у картины «Шестая часть мира»; она вышла в 1926 году. Она была посвящена экспорту и импорту Госторга. Она имела полный зал, но мы недотерпели с ней до нового прилива людей.
Расскажем коротко об истории картин Вертова, о необходимости их появления и об истории их успеха или неуспеха.
В 1920 году выпущена была его картина «Бой под Царицыном» всего только в трех частях. Картину монтировали, сперва подбирая по смыслу, как всегда это делалось.
Документальные картины уже сами по себе по методу съемки имеют короткие куски. Это возникает потому, что натуре нельзя сказать «остановись!». Она не нанята, она не закреплена.
Монтажница сперва монтировала, потом увидела, что куски очень маленькие, — она сочла их за обрезки и высыпала в корзину. Пришлось их доставать.
Сейчас короткий кусок мало живет в киномонтаже — предпочитают длинные куски. Вероятно, это происходит потому, что у нас звуковое кино, а звук имеет свое время.
Одно мгновение, один промежуток мигания глаз достаточен для того, чтобы увидеть, даже разглядеть.
Звук имеет свою продолжительность; он трудно накладывается на мгновение, если не понять, что звуки в музыке при своей продолжительности, сменяясь, накладываются один на другой воспоминаниями.
Короткий кусок подготовляет появление длинного куска; он сигнал для внимания.
В Киеве Дзига Вертов снял картину «Человек с киноаппаратом». Это была картина совсем без надписей. Она была без сюжета. Можно сказать, что эта картина о методе. В ней есть куски как будто не оправданные: разламывается на экране Большой театр. Куски на кадре то двигаются, то останавливаются. Это симфония зрения, это то, что называется «эксперимент».
Это было сделано в 1929 году.
После этого появилась картина «Симфония Донбасса». Я посмотрел эту картину в «Арсе» на Тверской улице. Картина сверкала, шумела.
Я вышел после сеанса и пошел не в ту сторону, в которую мне надо было пойти. Я был оглушен, как будто я рыба в реке и в реку бросили гранату.
А потом я увидел эту картину на Западе через несколько лет. Изменилась техника экспозиции, демонстрация картины. К звуку привыкли и научились регулировать. Я все услышал и все понял. А потом я узнал, что Чарли Чаплин передал Вертову[562] через Айвора Монтегю[563] письмо: «Я никогда не мог себе представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю „Энтузиазм“ одной из самых волнующих симфоний, которую я когда-либо слушал.
Мистер Дзига Вертов — музыкант. Профессора должны у него учиться, а не спорить с ним. Поздравляю. Чарльз Чаплин».
Успехи в те дни сгустились, они стали как будто ежегодными. Цепь кинолент о Ленине и «Ленинская киноправда» заключалась лентой «Три песни о Ленине». Сейчас, более чем через сорок лет после выхода фильма, сценарий и отзывы о нем опубликованы в книге «Три песни о Ленине» (М.: Искусство, 1971). Мы видим сценарий, кадры, надписи.
Теперь мы понимаем, для чего нужно иногда применять короткий кусок. Он соединяет своим повторением, делает каждый раз вновь узнаваемой всю картину, Ленина в картине мало, его мало сняли. Мы очень мало снимаем живых людей и почти не сняли Горького, Маяковского. Не сняли людей революции. Не сняли меняющиеся города. Мы пропустили свою историю. Я говорю только про кино. Фильм «Три песни о Ленине» имеет свой сюжет, свой кинематографический образ. Тут рассказывается о женщине в чадре, о том, как она ее сняла и как бы вышла из тюрьмы. Рассказывается это в песнях. Песни были собраны Вертовым. Я видел эти чадры. Те, которые я знаю, были сделаны из тонкого волоса; они были похожи на очень частую, густую сетку от москитов. Это как бы мешок. В одном месте мешок смят. Чтобы лучше видеть, женщина натягивала чадру, и чадра сминалась за несколько лет.
Вещи носили долго, и я видел чудо — новый документальный киносюжет, основанный на сопоставлениях, которые изменяли смысл повторения, как будто ожили сюжеты Плутарха, сопоставляющего судьбы героев Греции и Рима. Ожили сюжеты молодого Гоголя, осуществляющиеся путем сопоставления судеб людей, идущих по Невскому проспекту.
Дерево превращалось в камень, а камень Мавзолея Ленина обращался песнею в кибитку. Слово покорилось изображению. Песня вошла в монтаж.
Ленин лежит, его образ повторяется в коротких кусках, а люди в реке гóря проходят мимо него. А он лежит как будто отдельный, отдельным планом. И это песня.
Поговорим о надписях.
Надписи не только соединяли изображение и уточняли наше отношение к кадрам. Надписи как бы подытоживали впечатление зрителя. Зритель читает тихо, потом, когда разгоралась картина, голос надписей звучал все громче и громче. Это был голос хора — зрительного зала.
Зрительный зал как бы втягивался надписями в картину.
У раннего Дзиги Вертова надписи были крупные, короткие, разнообразно набранные. Это перешло в «Стачку» Эйзенштейна.
Надписи были монтажным моментом, разгадкой смыслового сталкивания кадров.
Это вернулось в «Трех песнях о Ленине».
Звучащее слово и надписи по-разному ощущались.
Они служили одному делу.
Как же звучало слово?
Можно ли снимать картину без актеров?
Все знают, что и профессиональный человек, особенно это видно в телевидении, напрягается перед аппаратом, становится неестественным.
Но сейчас существует мощное движение «прямое кино»: снимают невидимым аппаратом жизнь врасплох, и получается очень важное узнавание жизни.
Дзига Вертов применял другой прием, потому что у него не было того легкого аппарата и той высокочувствительной пленки, которая нужна для внезапной съемки. Дзига Вертов нашел другой способ: он снимал очень сильно занятого человека. Бетонщица Белик в «Трех песнях о Ленине» снята так: прежде всего она снята на работе, снята в самом разгоне работы, снята очень усталой. Вот что говорила бетонщица Белик:
«Работала я в пролете 34, подавали туда бетон на трех кранах. Сделали мы девяносто пять бадей… Когда вылили бадью и бетон растоптали, я вижу — упал щиток. Я пошла, подняла… Стала оборачиваться, когда этот самый щиток протянуло за каркас, да меня втащило… Я схватилася за лестницу, а руки мои сползают… Все испугались. Там была гудронщица, девочка, все кричала. Подскочил куркум, подхватил, вытащил меня, а я вся в бетоне (смеется), мокрая… Все лицо мокрое, гудроном руки попекло было…
Вытащили меня и бадью наверх… Я пошла в сушилку, сушилась возле печки — печка была такая маленькая — и обратно в бетонную. И опять стала три крана давать. И опять на своем месте и до смены, до двенадцати часов… (Пауза.) И наградили меня за то… (смущенно улыбается, отворачивается, стесняется, как ребенок, искренне) орденом Ленина за выполнение и перевыполнение плана… (Стыдливо отворачивается.)»
Женщина говорила, как бы уходя на отдых, но жест и состояние ее были состоянием рабочего человека. Ее жест совпадал с ее положением.
Уэллс видел эту картину. Ему не все перевели. Хотели перевести, говорили о синтаксических особенностях диалогов. Уэллс ответил, что до него доходит правдивость этих людей, и глаза, и смущение. Он уже прочитал их мысли, ему не нужен перевод.
То же сказали приглашенные на просмотр японцы, американцы. На следующих просмотрах были шведы, немцы.
Для «Трех песен о Ленине» записано множество текстов, песен, монологов, речей. Вошло в фильм 1300 слов, но вошли те, которые определялись зрительным монтажом, остановкой, раскрывались.
Кроме того, все эти слова были документальны. То, что говорила ударница, она могла сказать только на Днепрострое в тот самый день.
Документальный кусок, превращенный в кусок художественного произведения, не изменил своей документальности.
Так, скажем, бой при Бородино у Толстого остается в какой-то мере тем самым боем в 1812 году, хотя это творчество Толстого.
Дзига Вертов пришел к новой логике документальной киноленты. Это не единственный путь, но это гениальное достижение, и оно было потеряно. Мы его не отличили от многих других лент, и мы потеряли, не использовали замечательного документалиста-художника…
Сюжетным конфликтом в фильме Вертова было присутствие Ленина в жизни народа, в жизни, которая изменилась Октябрьской революцией.
Ленин и народ существовали вместе.
Развязкой была верность народа Ленину.
Сюжетные средства, изображение, песня, надписи сливались.
В документальной картине торжествовал человек. Это достигалось не тем, что он давался крупным планом, а тем, что он давался в крупном осмысливании, в участии, вместе с Лениным, на переломе тысячелетий.
Дзига Вертов писал про себя, что он создал паровоз в смысле нового двигателя для того, чтобы перевозить толпы людей. Но не создал рельсового пути — скажем, проката — простого, повторного.
Ему не было времени думать. Оказалось, что те годы — начало кинематографии, тот год, 1919-й, когда рядом с листком, на котором был записан монтажный план, спешно замерзал чай, — были годы счастья.
Опыт Вертова вошел в опыт советской кинематографии — не только в ее документальных картинах. Документальные картины часто становились картинами отчетными, работающими на заказчика, слишком определенного.
Такие картины бесславно погибали в смывочном цехе и возвращались обратно в первобытное свое состояние — в целлюлозу — в материал, теперь уже для этого дела оставленный.
Дзига Вертов вошел в большую документальную кинематографию и в большую художественную кинематографию.
Время идет, и время моет или уносит грязь.
Дзига Вертов каждым своим кадром, каждой своей мыслью шел вперед, и он не прошел мимо нас — мы продолжаем у него учиться. И когда он делал ошибки, это не было правилом. Нельзя забывать, что то искусство, к которому мы пришли, создано и его усилиями.
Я был в Италии во время выборов. В Милане над Миланским собором какой-то золоченой статуе был вложен в руки полосатый флаг: христианские демократы подтверждали свою связь с нацией и с христианством.
Свистели дороги так, как засвистели бы струны арфы, если быстро провести по ним ногтем. Со звуком чиркающей спички проносились друг мимо друга на разных полосах как будто удлиненные бегом машины. Они с прекрасной скоростью бежали мимо жизни, мимо полей, мимо озер, мимо старых городов, которые как будто с испуга забрались на горы. Они убегали от истории.
На остановках я видел, что в этих городах во время накала политической борьбы шли картины Дзиги Вертова и Эсфири Шуб; запомнил:
«Три песни о Ленине». «Падение династии Романовых».
За два года до этого я видел в рабочем клубе Турина ленты Вертова.
1976ОБ ЭСФИРИ ШУБ И ЕЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ ОПЫТЕ
Эсфирь Ильинична Шуб жила и училась в Москве. Дома тогда в основном были красиво-кирпичные, вывески — черные с золотыми буквами. Садовое кольцо зеленое, с бульварами, дома — с палисадниками, и все разной высоты.
Эсфирь Ильинична в юности бывала в доме А. Эртеля — автора книги «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». Мы почти забыли эту книгу, между тем если она не классика, то приближается к классике.
Музей новой западной живописи Шуб видела тогда, когда гидом в нем был сам хозяин коллекции Щукин[564]. Она знала живого Бахрушина[565]. Знала ту культуру купеческой Москвы, которая нам чужда и все же нами сохраняется и нам нужна: мы происходим не от какого-то одного ручейка старой культуры, а от всей культуры в целом.
И Маркс каждый год перечитывал греческие трагедии, как бы обновляя связи с древностью. Маркс поставил на докторской диссертации имя Прометея, принесшего людям огонь.
Пламя Прометея родственно тому огню, который мы зажигаем над могилой Неизвестного солдата. Пламя Прометея — это пламя изобретателей, воинов за справедливость. Справедливость тоже начинается многими ручейками, пока не становится широкой, как сибирские реки. Так же возникает и искусство. Оно рождается нами неосознанно — мы не успеваем подойти к месту рождения…
Много раз искал я в старых газетах описания, как были восприняты первые паровозы, электрический свет, радио, граммофон. Они поначалу были восприняты хроникой, отделом происшествий! Важное оценивалось не сразу.
Пользуясь преимуществом человека старого века, я напомню, как появилось кино. Оно появилось в маленьких, узеньких театриках, балаганчиках, пустующих магазинчиках. Редко сменялась программа! Звонки, извещающие о начале сеанса, звонили все время, чтобы зашел человек с улицы; часто маленький зал был совершенно пуст.
Великий изобретатель Эдисон недосоздал кино. Он взял панорамный ящик и ввел туда кинематографическую ленту, но не додумался соединить это с экраном, который уже существовал в то время для волшебного фонаря. Кино показалось ему аттракционом, и если его показывать на экране, то аттракцион будет скоро исчерпан, думал великий изобретатель.
Так рождается новое, не зная о своем бессмертии или по крайней мере о том, что оно повлияет на несколько столетий.
Хроникальные ленты, фиксирующие жизнь, появились рано. Последний русский император и его жена очень любили сниматься, и их снимали беспрерывно. Кинохроника «записывала» пожары, открытия выставок, но сама существовала как бы незамеченной.
Был в те времена владелец маленького кинодела — Дранков[566]. Он снимал картины такие же, как снимали тогда все: на пятистах метрах передавалось содержание «Войны и мира» или любого другого романа, на двухстах метрах изображалась история Степана Разина[567]. Это были ленты-аттракционы.
Дранков был человеком не очень способным, но обладающим способностью удивляться. Он снимал буквально все. Один раз снял собаку на улице, когда был ветер. Во время показа ролика он закричал: «Вы посмотрите, на ней шерсть шевелится! Это я снял, я!»
Снял, конечно, не он, а аппарат: сняли Люмьер, Эдисон, поколение изобретателей.
Поехал Дранков в Ясную Поляну и снял много кадров Льва Николаевича[568] и его окружения — крестьян Ясной Поляны, Софью Андреевну. Я работал над биографией Льва Николаевича Толстого[569] и как будто ее знаю. Но когда в книге Э. И. Шуб «Крупным планом» смотрел кадры, снятые Дранковым, я заново и по-новому думал о Толстом. Документы поражают, углубляют наше знание, в них переданы отношения людей друг к другу: и свободная старческая приветливость Толстого, и старческое желание Софьи Андреевны показать, что она с ним, что она жена великого человека.
Возможность беглой, неподготовленной съемки сохранила сущность взаимоотношений между людьми, сохранила жест, воздух вокруг человека, Толстого в его обстановке: ему то холодно, то неприятно, то он утомлен славой, то просто ласков.
Вначале, при зарождении советского кино, мы получали много лент с Запада, плохих лент. Мы их перемонтировали. Делали это хорошие люди — С. Васильев, Г. Васильев[570], Эсфирь Шуб. Они проматывали сотни тысяч метров пленки и не только узнавали чужую жизнь, но даже иногда понимали чужое искусство больше, чем те, которые его делали.
Революция в своих свершениях, в своих ожиданиях заново увидела мир, заново увидела хронику — то, что назвали документальным кино. В то же время оказалось, что мы снимали недостаточно: мало сняли Ленина, Горького, почти не сняли Маяковского, Блока; мы пропустили много ступеней изменения жизни.
Я смотрел недавно старую хронику и вдруг заметил, как по московской улице в летний день идут пионеры — идут длинной цепочкой, гуськом, один за другим. Они шли босиком. Теперь я хотел бы найти эти кадры: мы забыли размеры своей первоначальной бедности.
Прекрасный режиссер Л. Кулешов снимал картину «Приключения мистера Веста в стране большевиков». Сценарий написал Н. Асеев. Картина интересная, но самое интересное в ней — Москва. То, что не было подготовлено к съемке. Это осталось, это не может состариться. Чем это старее, тем это неожиданнее…
Эсфирь Ильинична рано овладела искусством монтажа и рано удивилась документальной картине, возможностям документального кадра.
Тогда все было ново: монтажный столик, запах кинематографического клея, возможность уменьшить кусок, возможность повернуть ленту на глянец или на мат. Мы впервые держали зафиксированную жизнь в своих руках. Но тут надо признаться, что первым и величайшим человеком, который увлекся кино и понял его возможности, был Лев Толстой.
Создавая одну из своих последних вещей — пьесу «Живой труп», Лев Николаевич все время думал о кинематографе и о вертящейся сцене. Для него старинное деление пьесы на акты было уже ненужным. Он хотел и смог тогда зафиксировать живую речь недоговоренных фраз.
Много сделала Эсфирь Ильинична Шуб в монтаже старых картин, она даже хотела заняться игровым кино. Рядом с ней работал С. М. Эйзенштейн. Они взаимообогащали друг друга.
Мы видим мир двумя глазами. Мы видим его довольно широко и, изменяя оси зрения, оцениваем его глубину; киносъемочный аппарат обладает одним глазом. Он не имеет нашей внутренней физиологической глубины, нашего опыта оценки глубины. Узость съемочного поля заставляет нас вычленять куски жизни — снимать то одно, то другое. Кроме того, когда мы глядим, мы работаем глазами, двигаем глазами, как бы обегая контуры вещи. Зрение наше, восприятие предмета включает в себя моторные элементы. Всего этого в самом кадре нет, если это не вложит в кадр художник.
С. М. Эйзенштейн и многие изобретатели говорили о широком плане, о широком кадре, потом много говорили о стереоскопическом. Пока это не привилось и вряд ли привьется. Потому что мы научились смотреть.
Каждый акт художественного восприятия вырабатывает конвенцию между изображением и восприятием.
Кинематографическая глубина уже вошла в наше сознание — мы ее воспринимаем по кинематографическим законам.
Взять кадр и понять его как элемент возможного художественного построения было не просто. Кроме того, кадр — я сейчас под словом кадр подразумеваю некое действие, снятое на киноленту, а не квадратик, фиксирующий единичную съемку, один момент, существование предмета в неподвижности, — всегда выбирает один момент события. Мы не можем заснять жизнь человека.
Я недавно смотрел картину[571], действие которой продолжалось столько же времени, сколько и демонстрация картины, — два часа. Женщина ждет, что ей ответят по поводу ее опухоли — подозревается рак. Она томится, она в нетерпении. Но это совпадение ее ожидания, каждый момент которого наполнен страхом, равного по времени времени сеанса, кажется условным. Ведь мы и в театре разрезаем действие, возводим на новый этап события в пространстве между актами. История продолжается два-три месяца — мы смотрим ее полтора-два-три часа. Но вернемся к Эсфири Шуб.
Молодая женщина в молодом искусстве видит молодые киноленты. В то время уже были картины, основанные не на игре, а только на фиксации факта. Советский режиссер, одно время забытый, Дзига Вертов явился создателем документальной ленты. Сейчас это одно из самых больших имен в истории мирового кинематографа.
Героем его картин оказался сам снимающий. Его воля, его характер, изменения его характера, его восприятие создавали как бы монологи действия.
Я работал с Эсфирью Ильиничной Шуб на маленькой кинофабрике около теперешнего Киевского вокзала. Тогда он назывался Брянским. Помню, когда Москва-река разливалась, вода подходила к нашей студии, и мы против наводнения возводили каменную стенку — закладывали низ дверей свежей кладкой. Сейчас трудно представить себе, что на такой маленькой студии режиссер Тарич смог снять картину «Крылья холопа», которая шла потом по всему свету. На этой фабрике работали Л. Кулешов, Г. Рошаль[572], молодой М. Донской[573]. Я работал в сценарном отделе.
Я рассказал Эсфири Ильиничне, что в Париже, по газетам судя, показывают ленту со старыми модами. Сперва моды показывали как рекламу, а через десять лет их уже можно было показывать как комическую ленту. Тут конфликт создавался временем. Нет ничего смешнее вчерашней и позавчерашней моды — она не логична. Ее свежесть воспринимается потом как причуда. Рассказал об этом Шуб и потом предложил ей сделать картину «Февраль», не снять, а взять и склеить старую хронику о Февральской революции с сегодняшней и посмотреть, что произошло тогда и как мы на это смотрим сейчас. Начали об этом говорить — и Эсфирь Ильинична нашла поворот темы: решила снимать картину «Падение династии Романовых».
Пока шли суд да дело, Шуб приступила к работе, но не на Третьей, а на Первой фабрике, где ателье оказалось побольше. Это было бывшее фотоателье со стеклянным потолком. В этом крошечном ателье был снят «Броненосец „Потемкин“».
Работал в Совкино я с покойным Павлом Андреевичем Бляхиным[574], сценаристом, автором одной из первых советских кинокартин «Красные дьяволята». Эсфирь Ильинична пришла со своей заявкой, но как делать ленту по этой заявке, было еще непонятно. Работать было очень трудно. Сперва казалось, что в Ленинграде нет ленинградской хроники времен революции. Долго искали хронику, потом кое-что нашли на складе, в сыром подвале на Сергиевской улице. Здесь ржавели коробки с пленками.
Пленки перевезли на Владимирскую улицу в отделение Совкино, и Шуб сушила их на веревке, как белье.
Поиски продолжались. Нашли старую царскую хронику. Это были смотры гвардейских полков, флота, были съемки, которые пытались делать внутри дворца. Но так как во дворце для съемок помещение темное, а «юпитеров» тогда еще на документальной съемке не было — да и вообще не было подводки такой мощности, — то снимали с большой выдержкой восемь-десять кадров в секунду. В результате царь и все прочие люди бегали и прыгали. Пленку, из уважения к царской особе, не демонстрировали, но и не уничтожили, а уложили в коробки. В таком виде она дошла до наших дней.
Начали искать дальше. В это время выяснилось, что Амторг закупил кем-то проданную за границу советскую хронику. Там оказалось много материала, среди которого Шуб отыскала шесть кусков — кадры Ленина.
Вообще, мы неразумно относились к пленке. Пленка состоит из трех частей: целлюлозы, фотографического слоя, в этом слое содержится серебро. Эти две части пленки реально существуют. Третья, самая драгоценная, появляется в результате работы оператора — это изображение. Многим казалось, что изображение, если оно старое, уже не важно, оно как бы невесомо. Смывают серебро, а серебра оказывается весьма немного. Из целлюлозы делают мячики для пинг-понга. Тоже небольшой доход. Но при таком использовании киноленты теряется документ: то, что невосстановимо. Кажется, что эти куски не нужны, а потом оказывается, что они драгоценны. По ним можно было бы восстановить, как выглядели старые города, люди…
Иногда мы отправляем экспедиции выбрать натуру. А съемки этой натуры уже были, и вы могли бы посмотреть эту натуру, никуда не выезжая, у себя на студии. И тут о том, что стало интересным в ленте Эсфири Шуб.
В «Падение династии Романовых» вошли те кадры, о которых я только что рассказывал, — кадры, снятые внутри дворца. Они комически раскрывали торжественное шествие людей с орденами и лентами. Это была как бы самопародия.
Работа Э. И. Шуб вызвала споры. Дзига Вертов и Е. Свилова[575], то есть основные «киноки», создатели «Киноглаза», одобряли такую ленту. Другие утверждали, что Шуб создала только перелистывание кинодокументов, что материал не организован.
Хочется заметить, что у Э. И. Шуб есть и превосходство над системой монтажа Дзиги Вертова. Дзига Вертов превращает материал в зрительно-ритмическую единицу. Это короткие куски без точного документального адреса.
Метод Эсфири Шуб был другой. Она давала возможность рассмотреть предмет, не лишая явление его документальной полноценности. Одновременно мы должны сказать, что, например, уникальные кинодокументальные куски с Лениным или с Толстым вообще не должны подлежать монтажной резке. Зритель хочет и имеет право рассмотреть все, что сохранилось на пленке.
Эсфирь Шуб начинала документальную кинематографию, и мы не можем судить о ней на основании последующего опыта. Она его предварила, она начала так, как начинал Дзига Вертов. Люди умны ее опытом, а не только своим — они как бы стоят на ее плечах
Всего Эсфирь Шуб сделала двенадцать картин за двадцать лет (с 1927 по 1947 год). Великолепно было начало ее творческого пути: «Падение династии Романовых», «Великий путь», «Россия Николая II и Лев Толстой» — эти три ленты сделаны за два года. В них проведен один и тот же метод монтажа, сравниваются разнохарактерные, разнозвучащие, но реально существовавшие явления.
Три первые картины Эсфири Ильиничны Шуб основаны на вновь найденном материале. Их писала революция. Мы видим старую Россию, снятую так, как она хотела, чтобы ее снимали: парадной, торжествующей, нарядной. И в то же время мы видим другую Россию — бедную, угнетенную, ненавидящую царя. В ленте «Россия Николая II и Лев Толстой» на тихой своей усадьбе старик Толстой противопоставлен чудовищной силе царской России. И вот эти противопоставления и являются новым качеством сюжета. Не личного сюжета, а сюжета столкновения мировоззрений.
Мы видим и то, что Лев Николаевич не в ладах со своей женой. Она хочет позировать перед киноаппаратом, она хочет, чтобы была показана их «золотая свадьба» — любовь стариков. Это законное желание. Но Толстой не этого хочет, у него другие заботы. Не потому, что он плохо относится к Софье Андреевне, а прежде всего потому, что он не хочет делать личные отношения предметом любопытства кинозрителей. Он живет на экране потому, что мало обращает внимания на аппарат — так занят своими думами, своими заботами; рядом живет обреченная, до последнего момента не понимающая, что срок ее уже отмерен, царская Россия.
В ленте «Великий путь» показана реальная стадия революции. Бедность, необычность войска и создание Красной армии. Это лента не только становление нового государства, но и социалистических отношений в нем.
Ленты Эсфири Ильиничны Шуб — не прошлое, хотя они так называемые «немые» ленты. Хорошо бы их восстановить сейчас, дав им простой сопровождающий комментарий.
Когда-то Лариса Рейснер[576] рассказывала мне, как в Афганистане показывали американские картины. Она говорила, что так же их показывали и в Индии.
Идет благополучная американская картина, а профессиональный рассказчик, который привык рассказывать сказки на базарах, говорит:
— Этот белый человек плохой. Вы его знаете! Посмотрите, какая у него бесстыдная жена. Посмотрите, как они обижают друг друга. Не верьте белому человеку!
Аудитория очень хорошо принимала этот рассказ.
К лентам Эсфири Шуб должен был бы быть, конечно, другой текст. Рассказать бы, как жил Толстой, чем недовольна была Софья Андреевна, как жили крестьяне, которых мы видим на экране, что об этой жизни пишет сам Лев Николаевич Толстой в дневниках.
Когда-то Чехов в рассказе «Крыжовник» говорил, что у нас в литературе должен быть человек, который бы молотком стучал в наши двери и напоминал бы, как плохо и глупо живет человек.
И Эйзенштейн и Пудовкин говорили, что слово не должно быть только разговором — оно должно пересматривать, пересказывать по-новому то, что мы видим.
Всегда трудно говорить про умершего человека — был ли он счастлив или несчастлив. Как художник, Эсфирь Ильинична Шуб должна была быть счастлива. Она жила в великое время и была в это время большим тружеником не только для себя. Она помогала кинорежиссерам монтировать картины, осмысливала с ними творческие возможности монтажа. Говорила, что монтаж не только соединение кусков и показ течения действия, — монтаж вскрывает противоречие кусков жизни.
То, что знают художники, то, о чем говорил Толстой, — для того, чтобы показать красное, надо вокруг дать зеленое; то, о чем говорил Станиславский, — чтобы показать громкое, надо сперва показать тихое, — все это целиком относится к киноискусству. Киноискусство это не только показ жизни — это анализ жизни. Киноискусство — это отображение жизни, но не зеркальное ее изображение. Жизнь — это противоречие. Или, как говорил Чернышевский: «Сама ходьба — это ряд падений, задержанных человеком». Он идет, наклоняясь вперед, он упал бы, если бы не выдвинул ногу. Другого способа идти нет.
Великая противоречивость искусства была в лентах Э. И. Шуб.
Товарищество в искусстве это не только дружба — это содружество, это обмен мнениями. Эсфирь Ильинична Шуб была настоящим другом Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Владимира Маяковского. Маяковский спорил за нее, отстаивал ее права, доказывал, что авторские права в документальном кино должны существовать. Это не было услугой друга — это было делом человека, который понимает, что такое искусство, как широко его влияние на людей.
Эсфирь Ильинична Шуб воспитывалась в старых институтах. Она легко и радостно не только пришла на стезю революции, она подарила революции новый жанр искусства. Она была другом людей, именами которых сейчас называют музеи.
Книга Э. И. Шуб «Крупным планом» могла бы быть переизданной, хотя прошло более десяти лет со времени ее написания. Десять убыстренных лет! Но в ее книге, кроме рассказа о работе, сохранился справедливый и дружеский рассказ о деятелях кино. Сейчас я работаю над книгой об Эйзенштейне[577] — и лучший, точный портрет Сергея Михайловича написан Эсфирью Шуб.
1969ДВОРЕЦ, КРЕПОСТЬ И КИНЕМАТОГРАФ
Художник работает хорошо, когда исходит из материала, и всегда плохо, когда исходит из традиции. Сценарий «Дворец и крепость» чрезвычайно традиционен, вся первая часть его как будто убежала из какой-то другой картины. Напрасно бегала, ей и там было хорошо.
Я, конечно, никого не обвиняю в плагиате — общие места не плагиатируются.
Незачем делать фильму из погони всадников за тройкой, танцев мужичков, барина на колонном крыльце и т. д. Весь этот материал мертв. Счастливые же мужички, танцующие на лугах, кроме того, что они не умеют носить платья, виновны еще в том, что они не агитационны. Вина во всем этом, конечно, лежит не на П. Щеголеве[578], который как историк не обязан понимать законы кинематографии, да и искусства вообще, а на талантливой Ольге Форш[579].
Теперь перейдем ко второй, более содержательной и бесконечно более нужной, части. Вся первая часть только печка в трех актах, от которой танцует русская кинематография.
Не всякий, даже трагический, случай годен для кино. Рассказ о том, как человек двадцать лет сидел в тюрьме, ужасен, правдив, но не кинематографичен. Сценарист и режиссер поняли это, употребив сразу три способа оживления действия. Первый способ — любовная интрига, которая, однако, не смогла сдвинуть с места ни дворца, ни крепости. Второй способ дал больший результат. Кроме Бейдемана[580], в драме действует Нечаев. Нечаев борется, изменяет свою судьбу, и потому он кинематографичен. Настоящая работа сценариста должна была идти в сторону развития роли Нечаева и народовольцев.
Третий способ, которым пытались заменить действие в драме, — был прием перебивания одной сцены другой.
Здесь творцы драмы показали свое полное кинематографическое бессилие. Перебивание одной сцены другой само по себе не дает движения, возможны два случая действительного перебивания.
1. Одно действие явно связано с другим, время отмерено, и перебивание создает тогда напряженность. Пример такого перебивания — жизнь Александра и подготовка покушения на него. 20-летнее сидение Бейдемана и царствование Александра II связаны между собою исторически, но они не динамичны и для параллельного монтажа не годны.
2. Вторая возможность перебивания состоит в том, что даются два действия, между собою как будто не связанные, тогда перебивание создает настроение загадки. Этот прием часто применялся в романах Диккенсом, а сейчас не редок в авантюрных фильмах.
Несоблюдение этих элементарных правил и делает смену «крепости» «дворцом» утомительной и ненужной.
В композиционном отношении удачна картина смерти Александра II. Здесь история выручила своей драматичностью, своей уже готовой постановочностью, сценариста и режиссера.
Неудачное покушение, радость императора, спасшегося от казни, создает подготовку впечатления, ступень ко второму взрыву и в этом моменте удачно сливаются драматизм истории и динамичность кино. Играют в этот момент все актеры очень хорошо.
Теперь о самом главном — о зрелище.
Начнем с похвал. Прекрасны гримы, все до гримов самых второстепенных лиц. В них проявлено громадное чутье и избегнут шарж. Таких гримов, за исключением гримов крестьян, западный кинематограф не знает.
Но ведь и вся фильма требует какого-то оформления. «Дворец» и «Крепость» это определенные архитектурные данные, что, казалось бы, должно облегчить объемное построение фильмы. Постановщик как будто и не знает о подобном задании, элементарном для Запада. Фильма производит какое-то плоскостное впечатление, впечатление набора открыток. Я не говорю о технических ошибках, они неизбежны при нашей бедности. Но и у нас есть солнце, и крепость заслуживает более интересных снимков. Отсутствие разнообразия ракурсов, умения использовать детали и делает фильму местами скучной.
Во всей фильме удачно, монументально сняты только манжеты П. Щеголева. Очень хороший снимок. Вот, как и надо было бы снять равелин.
Не использованы детали, которые сами шли в руку, например не снят механизм курант, фотографически очень интересный и могущий дать хоть намек на течение времени, которое без того изображалось только ростом бороды Бейдемана.
А между тем удачно снятая деталь, удачно введенный материал в кино все: одно из наиболее ударных мест фильмы — это момент, когда Александр III играет на громадной трубе (кажется, геликоне). Эта дурацкая труба, неожиданность ее появления делает второстепенную деталь фильмы убийственно смешной, агитационной.
Для нас Александр III прежде всего «рубль», его лицо мы знаем по монетам.
Поэтому «рубль» (традиционное лицо), играющий на геликоне (непривычное положение), больше поражает нас, чем вид царя, совершающего жестокости.
В этом плане и нужно было вести историческую часть картины. Сейчас она дана не остро и в то же время ее достоверность спорная.
Фильма делает из Бейдемана сознательного революционера. Между тем это скорее был экзальтированный мальчик. Бейдеман пришел в Россию с негодным револьвером, он не был страшным противником для царя. Чудовищная жестокость Александра II исторически была еще отвратительнее, чем то, что показала нам фильма.
Сценарий лишил революционеров характера, сам Нечаев обращен в мечтательного подвижника. Между тем тип русского нигилиста, завоевавшего сперва русский роман, а потом вместе с рабочим создавшего русскую революцию, стоит не трафаретного описания. Исторический Нечаев не нуждается в сглаживании своей биографии и в обращении ее в Павленковское житие.
Русская кинематография имеет много несчастий: ее угнетает техническая бедность, хозяйственная неурядица, не нужно обременять еще русское кино тяжестью ложной победы.
1924«СТЕПАН РАЗИН» В КИНО
Беседа с Е. Вейсман и В. Шкловским
За границей сейчас тоже делают фильм о Степане Разине под названием «Wolga, Wolga!»[581]. Нам удалось познакомиться с либретто этого фильма. В нем Разин сражается не против всей царской, феодально-крепостнической России, а «за честь и свободу Тихого Дона».
Те «деятели» донской контрреволюции, которые, уцелев от разгрома во время гражданской войны 1918–1920 годов, сбежали за границу, первые благословят такое «исправление» истории классовой борьбы в Московском государстве.
Мы поставили перед собой широкую и трудную задачу написать сценарий для историко-революционного звукового фильма о народной революции XVII века и о ее вожде Степане Тимофеевиче Разине.
Роман вместителен беспредельно, но в звуковом фильме может быть не более 2400 метров пленки. Исторический материал о разинщине даже в основных его фрагментах не поместится в один фильм. Поэтому режиссеры Правов и Преображенская, которые будут снимать этот фильм[582], дирекция «Мосфильма» и мы решили делать фильм в двух сериях.
Материалы о разинщине нельзя превращать в драматизированную хронику, в схематическое пособие для школьных учебников. Фильм должен быть не только исторически верным, но и интересным. Он будет сюжетным. Он предназначается для широчайшей аудитории. Он должен быть народным фильмом.
Добиться простоты этого фильма — значит прежде всего изучить и понять всю сложность социальных отношений в Московском государстве XVII века.
Ленин в своей речи при открытии памятника Степану Разину в 1919 году, Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом раскрыли классовую сущность и особенности этого крестьянского в основном движения.
Почти все исторические материалы о разинщине были собраны и обработаны русскими буржуазно-дворянскими историографами — главным образом С. Соловьевым, которого потом пересказывали Н. Костомаров, Ключевский и др. Они, повинуясь классовым интересам, оклеветали движение Разина, сведя его только к разбою, к «хождению за зипунами».
Они создали и ложный образ Разина, как пьяного, жестокого и озорного казака-налетчика. Они же ввели в употребление и презрительную кличку, которая еще до сих пор нередко слышится у нас: Стенька Разин.
Мы должны прежде всего отразить разинщину в фильме не как замкнутый подход казацкой голытьбы и не как «чисто русское явление», но как широкое по социальному составу участников, многонациональное, революционное движение. В XVII веке вспыхнул не просто «бунт Стеньки Разина», а велась планомерная гражданская война, где с обеих сторон были свои штабы, силы, армии и стратегические планы.
Мы должны также «деканонизировать» и образы представителей господствующих классов тогдашней эпохи, созданные буржуазными историографами и писателями, в первую очередь царя Алексея Михайловича, по прозвищу «Тишайшего», который всю свою жизнь провел в войнах и в подавлении революционного движения внутри страны. Веками формировавшиеся штампы-идеи и штампы-образы должны быть разрушены.
Первая серия нашего сценария о Разине охватывает время от Персидского похода Разина (1668) до взятия Разиным Астрахани (1670). Вторая серия — от взятия Астрахани до казни Разина (1672).
В первом фильме будет показан процесс превращения самого Разина из атамана небольших казацких отрядов в народного вождя и формирование сил вокруг штаба Разина. Во втором фильме мы покажем подъем разинщины, победу Разина под Самарой, причины его разгрома под Симбирском и предательство кулацко-атаманской верхушки на Дону во главе с Корнилой Яковлевым.
Но как же быть с персидской княжной? Неужели вы повторите в своем киносюжете эту нехитрую историю, о которой поется в старинной песне:
…И за борт ее бросает В набежавшую волну…? —не без иронии спрашивали нас некоторые товарищи.
Да, — отвечали мы. — Все это будет. Мы не можем отстранить от себя эту легенду, которая издавна поражала народное сознание.
Слова «старинной» песни сочинены не так уже давно, в 70-х годах прошлого века Д. Садовниковым, и, конечно, эта песня не претендовала раскрыть историю происхождения легенды о персидской княжне, впервые записанной голландским парусных дел мастером Стрюйсом, современником Разина. Песня Садовникова только повторила Стрюйса и песни русского фольклора.
Изучив материал о разинщине, мы почувствовали себя вправе пойти на некоторые исторические догадки. Они не нарушают черт тогдашней исторической действительности. Конечно, они необходимы только для фильма.
Разин после боя с персидским флотом плывет к русским берегам, в «гирло» Волги. Он плывет вместе с бурей, она срывает со стругов паруса. Разин велит подымать на мачты награбленные куски шелка. Под такими парусами казаки влетают в бухту, и застава, которая должна была встретить их выстрелами, опускает мушкеты. «Чего не стреляете по лиходеям»? — кричит на стрельцов пятидесятник Фрол Дура. Отвечают ему стрельцы: «Заколдовал Степан Разин ружьишки наши!»
Разинцы вступают в Астрахань со всеми товарами, которые они «пошарпали» в Персии. Главный товар — шелк.
Тогдашняя Астрахань была городом фантастическим. Огромный караван-сарай — перевалочный пункт всей русско-персидской торговли. Она имела громадное влияние на все умы, и не только на Алексея Михайловича. На торговлю с Персией смотрели, как на рычаг, при помощи которого можно было произвести совершенное изменение в торговых сношениях целого мира.
В 1667 году царь, по соглашению с персидским шахом, торговлю с Персией поручил вести армянской компании. В самой Астрахани был учрежден так называвшийся «гилянский» двор для персидских купцов.
Мы не хотим преувеличивать роли торгового капитала в те времена, в фильме будут отражены и другие события, происходившие в вотчине феодала Морозова и на железоделательном заводе под Тулой голландского концессионера Петра Марселиса. Но в первом фильме астраханский эпизод строится нами «на шелку». Это имеет под собой все исторические основания.
Как известно, Астраханью, до взятия ее Разиным, управлял воевода — князь Прозоровский с митрополитом Иосифом.
Напрасно русские буржуазные историки нас уверяют, что воевода и митрополит были вялыми и мягкими в борьбе с Разиным по богомольности и природному русскому добродушию.
Прозоровский происходил из рода крупнейших феодалов и ростовщиков и он, кроме молебнов, успешно занимался коммерцией вместе с митрополитом. Воевода часто задерживал уплату жалованья астраханским стрельцам, а митрополит обращался с лаврской казной, как со своею собственной. Оба они казенные деньги пускали в оборот, покупали у персов шелк, были дольщиками в армянской компании. Персидские купцы бывали их частыми гостями и комиссионерами.
Этим объясняется жадность Прозоровского и митрополита к шелку и тот необъясненный буржуазными историками случай, когда воевода беспрепятственно впустил в город армию разинцев, покрытую кровавой славой персидских походов, вооруженную не только ружьями, но и пушками.
Разин первый раз Астрахань взял в плен шелком, а не оружием.
Казаки фунт шелка продавали по 18 денег, обходился же он казне по 1 руб. фунт при нормальной торговле и продавался ею по полтора рубля. Скупив у разинцев шелк за баснословно дешевую цену, воевода и митрополит стали пытаться возвратить Разина на разбойные дела и снова на Персию. Это подтверждается историческими документами. Дальше идут наши догадки. Воевода и митрополит установили связь с пленной персидской княжной, находившейся в казацком лагере, любимой Разиным.
Княжна, может быть по любви, склоняла Разина к новой поездке в Персию. Там шах мог отвести казакам земли для поселения на вечные времена. Княжна поддерживала связь с Прозоровским и митрополитом, вольно или невольно выполняя шпионские задания.
В такой ситуации вопрос был решен Разиным иначе. Он, узнав о предательстве княжны и о намерениях астраханского воеводы, бросил княжну в Волгу и, побуждаемый массой, все более притекавшей к нему в лагерь с севера, из метрополии, — взял штурмом Астрахань, сбросил Прозоровского и митрополита с колокольни и объявил казакам и народу о походе на Москву.
Вот сюжетная схема одного из начальных и главных эпизодов разинского движения, которую мы вводим в первый фильм.
Теперь становится понятным, в частности, и наивный рассказ голландского мастера Стрюйса о княжне и Разине, которого он видел под Астраханью.
В работе нам помогают: Академия наук СССР (Историко-археографический институт — консультация по первоисточникам) и Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (иконографические материалы о разинщине).
1935КАКИМ БЫЛ ПУГАЧЕВ?
I
В сценарии Ольги Форш было увлекательно показано грозное и вдохновенное восстание Пугачева.
Исторически Пугачев был намечен Ольгой Форш очень интересно.
Он не был по-современному политически грамотен.
Народ любил Пугачева за удаль, за смелость и не очень настаивал на царском его происхождении. Но не нужно так тщательно снимать с Пугачева обвинение в самозванстве, как это сделано в картине.
О пугачевском восстании писал Пушкин. Гринев описывает пугачевцев, поющих песню «Не шуми, мата зеленая дубравушка».
«Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом».
Песню, которую пели пугачевцы, Пушкин называл не разбойничьей, а бурлацкой.
Сразу после этой картины Пушкин показал Пугачева насмешливым и непритворно веселым.
Восстание будет разбито, люди казнены, но народ бессмертен. Чувство этого бессмертия жило в полках народной армии Пугачева.
Лента, которую задумала Ольга Форш, показывала насмешливое непризнание народом екатерининского правительства.
Очень хорошо была задумана сцена, когда сжигали дом Пугачева и место посыпали солью, бабы растаскивали эту соль, потому что на соли лежал царский акциз и соль была дорога.
Пушкин отмечал, что воззвания Пугачева были написаны хорошо и понятны народу, а манифесты Екатерины были даже по языку народу чужды.
Народ иронически относился к клеветническим выдумкам Екатерины, которыми она хотела опорочить восставших.
Все это — замечательный материал для картины, но это не снято.
Превосходно задуманная сцена, когда писарь читает бумагу с проклятием и голосом превращает эту бумагу в панегирик Пугачеву, снята так неотчетливо, что о смысле можно только догадываться.
Пугачев принимает парад. Перед ним церемониальным маршем проходят солдаты екатерининских полков, еще не понимая, что происходит и где они находятся. Ненавидя Емельяна, ведут свои роты офицеры.
Восхищается Емельяном баба, которая когда-то объявила, что жив император Петр III. Она знает, что на троне сидит Емельян, но думает о том, что царь не настоящий только тогда, когда смотрит на Софью. Для нее Емельян лучше любых петров третьих.
Софья колеблется между враждой к мужу, который ей изменил, и восторгом перед мужиком, который победил дворян. Человек, который принимает парад, для нее герой. Обе женщины знают, что Пугачев не император.
В сценарии были и ошибки. Не показано расслоение казаков, а это очень важно. Стремясь показать Пугачева послушным орудием в руках богатых казаков, автор искажает характер вождя крестьянского восстания.
II
К. Скоробогатов[583], играющий Пугачева, — хороший актер. Он вызывает к себе симпатию. Зритель, смотря на него, любит Емельяна.
Но Пугачев, снятый режиссером Петровым-Бытовым[584], — обреченный человек. У этого человека большое мужество, он не плачет, но полон чувства жертвенности.
В ленте нет оптимизма сценария.
Даже когда пугачевцы веселятся, они делают это как будто только для вида. Между ними и зрителем чувствуешь незримый оркестр, потому что все это — опера.
Салават Юлаев — предводитель восставших башкир, человек, сумевший вооружить свою армию, сумевший научить ее сражаться, — в ленте наивный, красиво одетый полудикарь, любящий Пугачева.
Башкиры не были дикарями. Среди них были разведчики руд, и на месте нынешнего Магнитогорска стояла в XVIII веке башкирская домница, которая была разрушена по приказанию царского правительства.
Екатерининские генералы удивлялись умению Пугачева сражаться. Пугачевцы применяли навесной огонь и для этого переделали лафеты.
Они строили укрепления из снега и льда. Это было ново даже для Европы. Они поставили пушки на полозья, передавали письма при помощи воздушных змеев, маскировали артиллерию в бою.
Революционная война изменила тактику и стратегию.
В ленте война элементарна, боевые эпизоды повторяют друг друга.
Война дана однообразно, как кавалерийская атака, с размахиванием саблями.
Хлопуша показан хриплоголосым зверем-великаном. Непонятно, за что Пугачев назначил его атаманом.
Из описания путешествия Палласа мы знаем, что хлопушей в приуральских местах называли пест для разбивания руды. Судя по прозвищу и по документам, Хлопуша происходил из уральских рабочих.
На Урале стояли самые большие в мире домны. Здесь была передовая металлургия. Россия вывозила железо в Англию. Уральское, так называемое «соболиное железо» было мировой маркой.
Завод, показанный в ленте, и какие-то обнаженные, поросшие волосами люди — все это вряд ли верно.
Металлический знак, который вешали рабочие на табельную доску, в пугачевской армии был почетным пропуском.
Рабочие, как известно, создавали для Пугачева новые типы вооружения. Пугачевское восстание не могло кончиться победой, но оно не было так хаотично, как это показано в ленте.
Всех событий, связанных с Пугачевым, в одной картине, конечно, не покажешь, но отбор того, что следует показать, надо начинать не во время постановки, а до начала съемок.
Постройки на картине нарочиты, очень заметна бутафория.
Хорошо выбраны, хорошо загримированы казацкие старшины, но у них нет ролей и характеров, они отличаются лишь бородами.
Хорошо придумана роль Софьи, но артистка Брянцева ведет роль нерешительно.
Екатерина характеризована в фильме только тем, что она плохо говорит по-русски, хотя известно, что у старой императрицы было и много других недостатков.
Филимон — друг и спутник Пугачева — мог бы стать образом, который запомнили бы зрители. Но этого не случилось. Даже хорошо построенные сцены, где Филимон раскрывает измену, не доходят до зрителя, потому что недоиграны их участниками.
Самое большое возражение, которое можно сделать против ленты, — это то, что Пугачев не величествен.
Только раз, в сцене появления в крепости, когда дворяне устраивают засаду и Пугачев речью заставляет солдат перейти на свою сторону, — мы видим его героем.
В «Капитанской дочке» во всех главах есть эпиграфы.
Я проверил все эпиграфы, относящиеся к Пугачеву.
Оказалось, что в них строчкой выше или строчкой ниже Пугачев назван царем. К главе десятой дан такой эпиграф:
Заняв луга и горы, С вершины, как орел, бросал на град он взоры. За станом повелел соорудить раскат И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.Первая (пропущенная) половина первого стиха содержит слова:
Меж тем российский царь…«Россияда» Хераскова, из которой заимствован был эпиграф, всем была известна.
Глава шестая имеет эпиграф:
Вы, молодые ребята, послушайте, Что мы, старые старики, будем сказывати.На этом Пушкин обрывает эпиграф. Дальше в песне говорится:
Про Грозного царя про Ивана Васильевича…Вещи, из которых взяты эпиграфы, были хорошо известны читателю, и он дочитывал их.
Пушкин сто лет тому назад решился изобразить Пугачева царственным, могучим, добродушным, поэтическим.
Картина показывает только трогательность и беспомощность Пугачева, и это, безусловно, ошибка.
Второй ошибкой картины является то, что она задумана как чередование трагического и веселого, а дана только в одном плане.
Некоторые эпизоды как будто даже начинали получаться в ленте, но автор не дотянул, не развил их в нужной мере. После победы под Казанью крестьяне расходятся на полевые работы.
Зрителю надо показать, чем это вызвано: поспел хлеб.
В ленте этого не сделано, и эпизод испорчен.
Пугачев уговаривает крестьян вернуться, и они как будто возвращаются. Это исторически неверно, Пугачев поставил обводные караулы, чтобы армия не расходилась, но крестьянские отряды все же разошлись.
Сцена казни Пугачева построена исторически неверно.
Пугачев стоит на месте казни. На заднике декорации нарисована старая Москва. Здесь надо было бы дать Замоскворечье с Болотом, но нарисован почему-то Кремль, и нарисован плохо.
На фоне этой стенописи Пугачев стоит, держа в руках две свечи. Протягивая зрителям то одну, то другую свечу, он говорит о будущей революции.
Такая простота — хуже воровства, потому что она похищает у зрителя то, что могло бы дать ему искусство.
III
Зритель любит историю своей родины, любит Пугачева и сам додумывает те ситуации, которые видит на экране, смеется там, где может быть смешно, и дорисовывает для себя своего Пугачева.
Зритель много дает взаймы этой картине.
Фильм «Пугачев» нельзя считать удачей нашей кинематографии. И в этом повинен не только режиссер.
Режиссеру надо было в одну картину поместить все о Пугачеве. Положение крестьян, крестьянское восстание, его успехи и причины поражения, расслоение внутри лагеря Пугачева, национальную политику, отношения башкир с заводскими крестьянами, помощь, которую заводы оказывают Пугачеву, колонизацию башкирских земель русскими помещиками, личную историю Пугачева и еще многое, что длинно даже для перечисления.
Сценарист написал сценарий, а режиссер решил снять ленту о Пугачеве вообще, перечислил эпизоды при помощи киноаппарата, не раскрывая их сущности.
Картин надо делать больше. Тогда в каждой картине будет всего меньше, да лучше.
1937ФИЛЬМА О САККО И ВАНЦЕТТИ
Фильма о Сакко и Ванцетти должна быть сделана. Основным затруднением темы является то, что мы не можем снять Америки, и таким образом нужно построить сценарий так, чтобы его можно было делать из павильонной картины и американской хроники, в частности хроники демонстрации за освобождение Сакко и Ванцетти и американской технической хроники.
Схему можно установить следующую.
Рядовые американские революционеры (итальянцы по происхождению) — Сакко и Ванцетти — уходят на демонстрацию. У одного из них остается жена, и он обещает ей вернуться к вечеру. Одновременно происходит какое-то ограбление. Сакко и Ванцетти арестовываются на демонстрации. В качестве сюжетного материала для развертывания демонстрации предлагаю взять куски рассказа Короленко «Без языка».
Сакко и Ванцетти оказываются в тюрьме. Там их обвиняют в убийстве и сразу же сажают в камеру смертников. В противоположной камере сидит настоящий убийца, профессиональный бродяга, обвиняющийся только в бродяжничестве. Он должен быть осужден на 2–3 месяца. Он знает о Сакко и Ванцетти, и их решетка фиксирует его внимание. На исходе своего срока он объявляет, что настоящий убийца — он. Его заставляют взять это признание обратно, сажают в карцер, в сумасшедший дом. Слух о признании бродяги распространяется через перестукивание по трубам в тюрьме и через передачу проходит на заводы. Разные заводы и разные машины реагируют на это.
Примечание. Первую демонстрацию взять из Короленко потому, что там мы можем показать ее на фоне парка.
Здесь начинается показ американских машин. Электрические силовые установки на Ниагаре, сложность трансмиссий, и все это оканчивается электрическим стулом.
Тут нужно показать не машины вообще, а злобные — классово-направленные машины. Оживление в городе передается телефонной станцией. Телефонные установки питаются от аккумулятора, в цепь которого включается амперметр. Когда в городе что-нибудь случается, то увеличивается количество телефонных разговоров, и стрелка амперметра резко идет вправо.
Весь показ жизни города должен быть дан т. о. технически. Для того чтобы преградить возможность оправдания Сакко и Ванцетти, настоящий убийца казнен, но не по этому делу, а по другому.
Тут нужно показать как-нибудь тактично электрический стул, не действуя на физиологию зрителя, а показывая, что город ожидает казнь Сакко и Ванцетти, нужно показать, что при включении такой сильной установки, как электрический стул, в цепь, во всем городе или одном квартале мигает свет, и показать, как на это мигание реагируют разно классово-настроенные люди. Эти мелкие бытовые детали комнатного характера вскрывают человеческую сущность происходящего.
Пока Сакко и Ванцетти еще живы, возникает возможность показать продолжительность времени, в продолжении которого они судятся, сидят. Я думаю, это можно будет показать, дав комнату надсмотрщика тюрьмы. Если мы семь раз покажем его жену, рассматривающую модный журнал с разными модами, то мы этими модами покажем течение времени с точки зрения постороннего незаинтересованного человека. Это несомненно дойдет до зрителя, потому что за границей при покупке картины — год выпуска картины всегда определяется по мужским модам.
Усилия рабочих спасти Сакко и Ванцетти приводят к тому, что появляется сообщение — милость губернатора. Губернатор решил допустить свидание Сакко с его женой и разрешил разговор. Один вопрос его в четыре слова и одно слово ее в ответ. Происходят газетные подготовки, пари по вопросу о том, что скажет этот человек, уже 5 лет сидящий в тюрьме. Газеты делают разные предположения, репортеры стоят около тюрьмы. Здесь можно использовать маленький рассказ А. Барбюса. Сакко спрашивает: «У власти ли еще в России рабочие?» Жена отвечает «Да», и свидание прерывается.
Ротационки ожидают срочных сообщений репортеров. Репортеры узнают, и начинается бег ротационок. Но на другой день все газеты выходят с белыми пропусками на месте этой сенсации. Ни одна газета не напечатала вопроса Сакко.
Идут демонстрации. Показать 12 часов, одновременно показывающих разное время. Показать 12 разных ландшафтов и показать 12 одинаковых демонстраций в защиту Сакко и Ванцетти.
В результате судьба их решается. Приговор дан — казнить, но происходит забастовка, нет тока. Устанавливается временно электрическая станция допотопного вида. Тюремщики сами являются «любителями-электротехниками», но сбегает палач.
Я думаю, что все-таки все должно кончаться казнью и боем с толпой, которая пытается прорваться к тюрьме. Должно мигнуть электричество, которое заменит момент самой казни.
Так как дело идет не только о судьбе двух людей, а о борьбе классов, то я думаю, что такой конец не будет создавать безысходного настроения.
Реально снятая лента должна включать в себе 50–60 % монтажных моментов из хроники, в частности из хроники технической, и от 40–50 % игровой.
1927«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВИЛЬЯ!»
О ленте фирмы «Метро-Голдвин-Майер» (Америка), показанной на советском фестивале.
Да здравствует советская кинематография!
Да здравствует революционное искусство, единственное, которое побеждает!
Да здравствует правда!
Да здравствует оружие, стреляющее в правильно поставленную цель!
Да здравствует история, которая перенаправляет выстрелы!
Я видел ленту Джека Конвея «Да здравствует Вилья!»[585]. И вспоминал «Октябрь» Эйзенштейна.
Самокатчик катился на помощь большевикам вместе с отрядом самокатчиков.
Это не самокатчик «Октября».
Это молодой трубач Панчо Вилья. Он падает и трубит перед смертью.
Президент останавливается перед большими дверями.
Он идет к ним, — так, как Керенский шел в «Октябре» по лестнице, стоит перед ними, как тот.
Тысячи людей двигаются, как у нас.
Да здравствует советская кинематография, ведущая кинематография мира, создающая кино у себя и перенаправляющая чужие выстрелы!
Театральные представления с движущимся зрительным залом, разговоры двоих у края кадра, который стал рампой, сменились быстрым бегом кинематографического, не связанного условностью сценической площадки, движением.
Лента хитра. В ней представляется президент Мадера на постаменте из Панчо Вилья.
Но лента Джека Конвея создана советским ветром, и Панчо скачет от наших границ, скачет для нас, скачет для всего мира.
Его не получат американцы в попутчики.
Но лента хитра.
Ненавистно имя американца в Мексике.
Люди любят «Панчо Вилья».
И пыль его конницы — защитная пыль для американца.
Есть и будет любовь к молодому революционеру, бездомному корреспонденту, храброму, бывалому и бескорыстному. Им представлена в ленте Америка.
Он принимает симпатии и переадресовывает их своей стране, с которой он, вероятно, в ссоре.
Он представляет зрительный зал, для которого разыгрывается эта пьеса.
Для него партизаны берут город со стороны Южных ворот, хотя им мешает река. Но пусть репортер не ошибется.
Они рады его выручить.
Под видом преданности смешного и героического партизана к вождю проведено решение спора американского капитала с английским в пользу Нью-Йорка.
И для того чтобы выиграть этот спор, использована и атака мексиканских партизан и методы советской кинематографии.
Месть за отца вывела Панчо в партизаны, у него не может быть союзником генерал, у него не может быть союзником и президент-либерал.
Но сценаристу и режиссеру нужно вернуть Панчо домой. Он должен очистить место. Для этого они разыгрывают с превосходным актером сцену из жизни другого Панчо.
Панчо Санчо.
Тот попал губернатором на сухопутный остров, ему было трудно, ему не нравился стол и быт.
Его в насмешку вооружили двумя связанными щитами вместо панциря.
Но Сервантес был честнее.
У него Санчо Панса не только скучал на своем острове, он судил, и когда ушел с острова осмеянным, то время его губернаторства вспоминалось как время мудрости и справедливости.
Но время великодушия прошло.
Чем дискредитирует Панчо Вилья во дворце сценарист Бен Хект?
У Панчо жмут ботинки, и он не догадался позвать сапожника.
Ему тесен мундир и чужды люди, которых он не догадается прогнать, он не знает, что делать с финансами.
Панчо должен уйти из дворца.
Перед этим много раз показано, что он слишком много стрелял, много любил, его за это били и раз и два, и все подряд.
Панчо должен быть вахмистром, его дело наносить кавалерийский удар для славы американцев.
Он умирает от случайного выстрела.
Он не знает, как умирать.
Тогда он спрашивает репортера, что́ должен говорить великий человек, умирая?
И сценарист говорит Вилье те слова, которые он должен был сказать.
Эта развязка — разгадка ленты.
Но лента прекрасна. Превосходно движутся массы, превосходна логика революционного наступления, находчивая, неистребимая, находящая для себя оружие, и логика нашей кинематографии, хорошо выученной на Западе, логика Октября сметает все разговоры о том, что Панчо должен передавать свое умение, свой талант воина другим людям.
В ленте Панчо — победитель.
Его поступки оправданы, потому что они выражены голосом, созданным для Панчо, а не для президента с черной бородой.
Правда, историческая правда, говорит нашим голосом с экрана.
1935«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
Ленин описан Горьким. О Ленине есть поэма Владимира Маяковского. Сохранились рисунки и скульптуры, сделанные с живого Ленина. Ленина помнят многие современники. Жар ленинского слова, его движения на трибуне, высокий и внятный голос, ясность мысли и речи, простота и скромность в быту — все это помнится многими.
Лучшее о Ленине в поэзии — поэма Маяковского. Маяковский не ставил своей задачей показать самого Ленина непосредственно; он показывал Ленина в счастье и горе народа. Поэтическое произведение, при всей силе своих изобразительных средств, и не должно пытаться заменить собой скульптуру и живопись.
От эпохи Ленина осталось довольно много киноснимков. Эти снимки были сделаны в то время, когда кино было технически чрезвычайно бедно. Говорят, что многие из них сняты не на 16 и 18 кадров, а на 14, то есть в единицу времени, секунду, сделано только 14 снимков.
Эти куски неоднократно входили в киноленты о Ленине. Неоднократно их включали в звуковые кинокартины, где они демонстрировались на 24 кадра. Это убыстряло движение, ускоряло ритм.
Таким образом, киноленты, которые мы видели, тоже не давали нам подлинного движения Ленина.
Очень трудно воссоздать образ Ленина.
Советское искусство давно поставило перед собой эту задачу.
Дело Ленина со смертью его не прекратилось.
Ленин лежит на Красной площади, его можно увидеть. Памятник над ним — наша трибуна. На этой трибуне стоит товарищ Сталин, перед этой трибуной проходит история. В нашу эпоху у людей, сделанных Лениным, у людей, судьба которых определена его гением, Ленин — живое имя, живой образ.
Поэтому в дни празднеств двадцатилетия Великой октябрьской социалистической революции все в нашем искусстве сосредоточилось вокруг попытки дать народу образ живого Ленина.
Ленин со своеобразием своего движения, Ленин — человек горячего и спокойного вдохновения, человек, не ставящий преграды между собой и другим человеком, герой, проживший без пьедестала, герой, не умерший для сознания современников, — очень труден для актерского воспроизведения.
Актер Б. В. Щукин[586] — великий мастер. По физическим данным своим: по росту, ширине груди, по складу черепа — он не напоминает Ленина.
Щукин начал работу свою над образом Владимира Ильича, пытаясь собрать все то, что сохранилось в портретах и в кинолентах. Это была напряженная, необычайной ответственности работа. Успешность работы Щукина волновала не только его одного и его сотоварищей по фильму: Щукину стремились помочь самые неожиданные люди. В разгар работы над ролью пришел неизвестный юноша, всю жизнь коллекционировавший портреты Ленина, и предложил актеру свою коллекцию.
Портрет закрепляет характерную позу. Но между моментами, выбранными для портрета, лежат годы, лежит целая человеческая жизнь. Щукину минутами трудно двигаться от одной ленинской позы до другой. И все же несомненно, что образ Ленина на экране получился. Получился герой, не думающий о себе, вобравший в себя волю миллионов. Появление Ленина в картине поражает отсутствием торжественности.
Удача Щукина так велика, что она несколько заслонила несомненную удачу режиссера Михаила Ромма и сценариста Каплера.
Все горение, все напряжение фильма сосредоточены в сценах, где есть Ленин. Даже в тех кусках, где Ленина нет на экране, режиссер сумел показать Ленина в Октябре. Последние сцены, недавно доснятые, увеличили значимость ленты, увеличили полновесность образа Ленина.
Сюжет сценария простой.
Через несколько дней, во время, предсказанное Лениным, власть в стране перейдет в руки пролетариата. Старый мир осужден. Но есть еще старое государство, оно еще сила, оно может еще совершать преступления, оно может вредить Ленину.
Это ощущение того, что мертвый мир может погубить мир живой, создает напряженность ленты, создает простыми и доходящими до зрителя средствами.
Мы видим Ленина в его непоколебимой уверенности в будущем.
Мы видим рядом с ним Сталина, партию, рабочий класс. Они превращают будущее в настоящее.
Мы видим Ленина на заседании ЦК, когда он громит штрейкбрехеров Октября. В звуке его голоса презрение и ненависть к предателям Троцкому, Каменеву и Зиновьеву.
В ленте реально виден Ленин. Поэтому мы должны говорить здесь не только об удаче народного артиста Б. В. Щукина, но и об удаче всего народного советского искусства.
Образ Ленина в фильме замечателен тем, что мы неизменно ощущаем взаимодействие между вождем и народом. Мы чувствуем, как дорог Ленин народу, как неразрывно во всем спаян он с ним. С какой бережностью относится к Ленину каждый рабочий!
В ленте мы видим то, о чем писал Маяковский:
Он земной, но не из тех, кто глазом упирается в свое корыто. Землю всю охватывая разом, видел то, что временем закрыто. Он, как вы и я, совсем такой же, только, может быть, у самых глаз мысли больше нашего морщинят кожей, да насмешливей и тверже губы, чем у нас. Не сатрапья твердость, триумфаторской коляской мнущая тебя, подергивая вожжи. Он к товарищу милел людскою лаской. Он к врагу вставал железа тверже. 1938О НОВЫХ ПУТЯХ КИНО
В 1927 году Маяковский писал:
«Пользуюсь случаем при разговоре о кино еще раз всяческим образом протестовать против инсценировок Ленина через разных похожих Никандровых[587]. Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения — и за всей этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли»[588].
Маяковский не был против театра и не выступал против актера.
В кино он настаивал на том, чтобы как можно больше снимали революционную хронику.
Но сам он писал сценарии для игровых картин.
В сценариях этих делалась попытка перенести поэтические образы на экран.
Поэтому Маяковский протестовал не против появления актера на экране в роли Ленина, а против подмены актера человеком, похожим на Ленина.
Никандрова сняли в фильме «Октябрь».
Этот человек внешне действительно был похож на Ленина, но он был «мертвый», он позировал. Было очень неприятно видеть, как непохож похожий человек.
Внешнее сходство при отсутствии попытки передать внутренний строй человека производило впечатление неуважения.
Ленина на экране и в театре изобразить трудно.
Алексей Каплер[589] — автор сценария «Ленин в Октябре» — пошел по очень простому и, мне кажется, верному пути.
Он дал образы рабочего и жены рабочего, он показал, как люди относятся к Ленину. Каплер окружил Ленина любовью, он как бы впустил в ленту зрителя с его отношением к Ленину.
Ядро ленты представляют сцены, в которых мы видим, как накануне Октябрьской революции Ленин скрывается от агентов Временного правительства. Зрителю страшно за судьбу Ленина.
Классически традиционно разработана схема. Готовится налет на квартиру Ленина. Он об этом не знает. В его квартире медлят.
Зритель знает, что Ленин не был арестован перед Октябрьской революцией, все равно он взволнован.
Почти во всех пьесах, во всех сценариях о Ленине образ вождя показывали в эпизоде, на мгновение. Каплер решился всю ленту построить на образе Ленина.
Ленина ищут враги. Ленин работает. Опасность, окружающая вождя, создает эмоциональное отношение. Появляется дополнительное ощущение в различии между поведением гениального человека и той опасностью, которая над ним нависла.
Удача картины «Ленин в Октябре» — во многом удача драматургии.
Хорошо придумано медленное узнавание Ленина женой рабочего.
Эпизоды вне квартиры Ленина слабее.
Эмоционально действует, но вряд ли правильно разрешена история с шофером. Кстати, как будто бы грузовики тогда не ходили на дутых шинах, а литую шину проколоть нельзя. Весь эпизод с шофером сценарно нужен, но построен плохо.
Очень хорошо построен эпизод с солдатом, который диктует Декрет о земле. В этом эпизоде непосредственно Ленина нет, но эпизод находится на уровне картины. В нем присутствует Ленин как тема.
Хорошо придуман эпизод, когда филеру сообщают приметы того человека, которого он должен разыскать.
Образ Ленина в ленте вообще несколько раз рассказывается, рассказывается разными людьми по-разному. Это очень хорошо найдено, но не всегда хорошо сыграно. В частности, филер пришел из другой ленты не перегримировавшись.
Качество режиссерской работы в картине неравномерно.
Щукин могучий актер. Охлопков выдерживает свою роль и усиливает роль Щукина.
Представитель Временного правительства, филер, студенты, люди на улице торопятся «сняться к сроку».
Щукин по росту, по ширине груди, по голосу не похож на Ленина.
Он хорошо знает Ленина по кинохронике, по портретам.
В игре ему приходится идти от одного изображения жеста Ленина к другому.
Щукин играет смело, крепко.
Он превосходно передает контур ленинской фигуры, смело работает, показывая спину, походку.
Одновременно в ленте актер показывает внутреннее движение. Он передает негодование, интеллектуальное презрение Ленина к предателям.
Щукин выделяется отдельным могучим образом из общего фона картины.
Сценарий и режиссер дали возможность актеру сыграть.
Ленин сыгран в первый раз.
Это очень много.
Революционный Петроград восстановлен достаточно убедительно. Правда, Зимний был тогда другого цвета, он был багрово-красный, а у Смольного не было тех будочек, которые потом поставил архитектор Щуко, но в общем облик города восстановлен.
Режиссер поднял картину, показал, что в семье советского искусства кино по-прежнему впереди.
Удача «Ленина в Октябре» — это удача драматурга, актера, режиссера.
Возьмем другую ленту: «Волочаевские дни»[590].
Братья Васильевы сами сценаристы своих картин.
«Чапаев» был законной удачей Васильевых.
«Чапаев» — творческое изобретение. Эта лента построена на ряде сюжетно завершенных эпизодов, показывает рост человека.
«Чапаева» как ленты сейчас почти нет. Лента целиком вошла в сознание страны.
Не умаляя заслуг Васильевых, мы знаем, что ленте предшествовала работа писателя Д. Фурманова. Он первый рассказал о Чапаеве. Он анализировал характер партизана и глубоко, умно показал рост человека.
В «Волочаевских днях» Васильевы работали одни. Сами написали сценарий, как пишут сейчас многие.
Сценарий этот не влезает в одну серию. Может быть, он влезет в две. Но это не сценарий двухсерийного фильма. Это сценарий, написанный режиссерами без учета драматургических законов и киноограничений.
Тема, которую подняли Васильевы, чрезвычайно сложна. Она растянута во времени (начало интервенции на Дальнем Востоке в 1918-м, конец в 1922 году). В нее должны войти сотни людей.
Сюжет позволяет авторам не идти вдоль темы.
Сюжет ограничивает материал и показывает тему в виде основных взаимоотношений людей.
«Волочаевские дни» показаны на экране наполовину. Другая половина осталась за экраном.
Все помнят замечательный эпизод с японцем, который купается в котле, поставленном на костер. Эпизод замечательный, он превосходно задуман, прекрасно сыгран. Для того чтобы эпизод совершенно дошел до зрителя, надо было показать, откуда котел и что стало потом с котлом. Ведь котел опоганен японцем. Это нужно для того, чтобы не получился просто рисунок на тему «черт в аду».
Нужно было углубить эпизод, показать его реалистическую сущность. На все это у режиссеров не было места, не сделан драматургический расчет.
Эпизод с партизанами, уничтожающими отряд японцев в лесу, прекрасно задуман. Тишина, кукует кукушка… Методами обычной войны нельзя найти противника.
Для этой сцены нужен покой и время. Нужно показать тишину леса. Но у авторов нет времени.
Хорошо начинается линия георгиевского кавалера, не захотевшего петь «Боже, царя храни». Хорошо начата линия стариков, не пожелавших дать японцам коней. Но линии потеряны. Не потеряна только история с портсигаром.
Портсигар был подарен старику, которого потом расстреляли. Портсигар становится символом мести и памяти. Но построить сценарий на вещах пробовали много раз, и уже можно перестать пробовать.
Получился в ленте японец — прекрасно работает Свердлин.
Хорошо работает Дорохин[591] — предводитель партизан. Актер так верит своей роли, что, хотя у него нет той дополнительной краски, которая есть у Свердлина[592], они равны по силе.
Но актеру нет места в фильме. Лента спешит.
Когда армия идет в наступление на японцев и прожекторы японцев освещают наших людей, то опытный человек понимает, что где-то в покрытой бархатом монтажной корзине лежат многие снятые куски. Они выпали, не «влезли»…
Васильевы не стали хуже, чем были во время «Чапаева».
Они превосходные выдумщики, их выдумки доходчивы, народны.
Хорошо заметает метла след японцев.
Но японцы в войне показаны отрывочно.
Существовал в России писатель Одоевский, человек великого таланта, очень образованный, но дилетант.
Он написал рассказ о великом художнике Пиранези. Художник рисовал фантастические замки, вещи его были гениальны, но он жил среди великой, не им построенной культуры.
Одоевский говорит его устами:
«Часто в Риме ночью я приближаюсь к стенам, построенным этим счастливцем Микелем, и слабою рукою ударяю в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться, — или в Пизе вешаюсь обеими руками на эту негодную башню, которая, в продолжение семи веков, нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться».
Нам, людям великой эпохи, эпохи построек, о которых не мечтал даже Пиранези, не надо забывать в искусстве о границах, о строгом умении ограничивать себя для того, чтобы вдохновение было свободнее.
Благодаря тому что был разрыв между писателями и кино, наши сценарии ушли к беллетристике или к поэзии. Они предназначены для чтения, а не для постановки. Мы не проверяем их с часами в руках, и в результате мы сами должны их сокращать, «резать».
Что нам нужно сейчас? Нам нужно киноруководство, авторитетное, знающее и вдохновенное.
Я проверил путь одного сценария — «Девушка с характером» Геннадия Фиша. Сценарий прошел через девятнадцать отзывов, причем один и тот же человек давал по три отзыва — то положительных, то отрицательных.
Это тоже мучение, может быть, более обидное, чем мучения Пиранези, потому что у того остались хотя бы офорты.
Нельзя провести вдохновение через девятнадцать инстанций, помех.
Люди, которые принимают наши сценарии (редакторы, консультанты), дают указания. От их указаний зависит осуществление вещи, иногда значительнейшей. Людей этих много, они сменяются, но за дело, за фильмы, не отвечают.
Искусство жаждет воплощения.
У Гомера описано, как души Аида собрались вокруг жертвенника крови и как Одиссей копьем ограждает его.
Души хотят жизни, воплощения.
Автор киносценария жаждет просторов, работы с режиссером, он хочет жизни на экране, чтобы увидели его образы, его героев. А тут отгоняющие безыменные консультанты.
Для того чтобы было великое киноискусство — на фабриках должно быть весело.
Для того чтобы было великое киноискусство — должен быть киноактер.
Киноактера должен любить зритель, должен знать его.
Любовь к киноактеру часто заменяет длинную экспозицию вещи — зритель знает, кого он увидит на экране.
У нас есть Черкасов, Свердлин. У нас должно быть несколько сот киноактеров.
Тот план, который мы делаем, должен быть утроен, для того чтобы его можно было выполнить.
Вместо того чтобы снимать картину, которая не может целиком увидеть экрана, братья Васильевы должны были на ту же тему снять три картины.
Емкость кинопроизведений учитывается неверно. В один стакан стараются влить полтора стакана. Вода выливается в блюдечко, из блюдечка воду вливают в стакан, вода переливается, и это переливание из пустого в переполненное называют переделкой сценариев.
Стране нужны сюжеты, нужны вещи, где может работать живой актер. Нужны вещи, в которых бы решались глубокие политические и этические задачи. Решения должны быть не просты. Надо, чтобы зритель думал над образом актера.
Эти ленты должны дать наш быт, Москву, 1938 год, семьи, любовь, ревность, труд, счастье и несчастье. Это должны быть ленты о нас.
Построим сюжет просто. Посмотрите «Ленина в Октябре» — как доходят до зрительного зала простые вещи.
Но в ленте, как показал нам «Ленин в Октябре», нужны не только образы, но и положения.
Не будем подражать и пародировать друг друга. Лента «Балтийцы» тоже доходит до зрителя, но доходит своим смысловым заданием, делая эмоциональный заем у зрителя, а не обогащая его. Не будем суживать жанровое разнообразие нашего искусства.
Мы уже создали вещи, которые были неизвестны Америке и Европе. Наши вещи дали революции, миру образцы человеческого поведения. Но этого мало.
Нужно вдохновенно ограничить себя.
Ленты на кинофабрике должны помогать друг другу. Циничное отношение к количеству павильонов, к метражу, циничное отношение к времени сценариста, которого принуждают к переделкам, должно быть заменено спокойным, деловым, экономным решением.
Нам надо наконец научиться снимать хронику.
Наша хроника донашивает старую аппаратуру, она с трудом справляется с засъемкой самых важных событий. Быт, изменения его она снимать не в силах. Мы можем пропустить для кино реконструкцию Москвы, пропустить изменение лица деревни.
Ясная Поляна уже стоит вся под черепицей, под Днепропетровском, в колхозах, появились тротуары. Кто напомнит ближайшим потомкам, кто нам самим напомнит, как выглядел мир вокруг нас? Кто нам покажет вещи, которые быстро меняются вокруг нас, меняются сейчас? Кто нам документально покажет социальные сдвиги в стране?
Посмотрите, как в ленте Эсфири Шуб «Страна Советов» после боев, после военного строя мужчин 1917–1922 годов появляется женщина — ей открыт путь всюду, вплоть до кремлевской трибуны.
Вы помните в этом фильме московскую колхозницу, снисходительно ласково говорящую о мужчинах? Помните, как она выглядит на экране, как она чувствует аудиторию? Этого человека в нашей художественной кинематографии вы не видели.
Для того чтобы хорошо снимать, надо снимать много, надо много пробовать. Для того чтобы много снимать, надо снимать грамотно. Грамотность в кино идет от основы — от драматургии, от сценария. Кинематографией должны руководить кинодраматурги.
Ошибкой «Волочаевских дней» является то, что на эту тему надо было снять три разные картины.
У нас не простой, а «перестой» кинематографии. Нужно вперед!
Нужно веселое, ежедневное вдохновение ремесла.
1938ПАМЯТНИК РЕВОЛЮЦИИ
ПАМЯТНИК НАУЧНОЙ ОШИБКЕ
I
Обостренное внимание, направленное сейчас на так называемый формальный метод, и неприязненность этого внимания легко объяснимы.
Человек, который утверждает или утверждал, что классовая борьба не простирается на литературу, тем самым нейтрализует определенные участки фронта.
Говорить о ненаправленности сегодняшнего искусства невозможно. И, как будто, само собой интерес изучения в истории литературы переходит к наиболее направленным, так сказать, публицистическим эпохам.
В то же время оказывается, что и ненаправленность искусства, его разгруженность там, где она существовала, преследовала свои весьма реальные и направленные цели.
В то же время так называемый формальный метод нельзя рассматривать как реакцию против революции.
Наши первые работы появились в промежутке между четырнадцатым и семнадцатым годами.
Первые работы формалистов были направлены на создание типологии и морфологии литературного произведения.
В начальной стадии научного литературоведения подобная работа была необходима, но недостаточна, так как она представляла собою даже не анатомию литературных произведений, а протокол их вскрытия.
Абстракция литературного ряда от других социальных рядов была рабочей гипотезой, полезной для первоначального накопления и систематизации фактов.
Энгельс писал, что при изучении природы, истории или человеческой духовной деятельности взгляд исследователя сначала схватывает только общую картину многообразных соединений и взаимодействий.
…несмотря однако на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, но все же недостаточен для объяснения частностей, составляющих ее, а пока мы не знаем их, нам неясна и общая картина. Для того чтобы изучить эти частности, мы должны изъять их из естественной или исторической связи, рассматривая каждую порознь, исследуя ее свойства, ее частные причины, действия и т. д.[593]
Ошибкой явилось не рабочее отделение ряда, а закрепление этого отделения. Способ работы заключался в том, что я брал далекие примеры из литератур разных эпох и национальностей и доказывал их эстетическую однозначимость, т. е. изучал произведения как замкнутую систему, вне ее соотнесенности со всей системой литературы и основным культурообразующим экономическим рядом.
Эмпирически в процессе изучения литературных явлений выяснилось, что каждое произведение существует только на фоне другого произведения, что оно понятно только в литературной системе.
Я включил это наблюдение в свое построение, не сделав из него основных выводов.
Это было ошибкой.
II
Возникновение литературных форм — массовый социальный процесс. За «Вечерами забавными», «Вечерами меланхолическими», «Вечерами сельскими», за «Вечерними часами» следуют «Вечера славенские» Нарежного и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя.
Сравни также накопление однотипных псевдонимов в поэзии 1860-х годов: «Обличительный поэт», «Скорбный поэт», «Темный поэт», «Новый поэт» и даже «Новый поэт L-й».
Б. Эйхенбаум пытался произвести ревизию формального метода. Ревизия эта началась с правильной замены названия «формальный» метод названием — «морфологический» метод. Это избавляло от двусмысленности самого выражения «формальный» и в то же время точнее указывало на способ анализа.
Поворотным пунктом в эволюции метода явились чрезвычайно важные работы Тынянова, который ввел в литературоведение понятие о литературной функции — равнозначности литературных элементов в разное время.
От первоначального, уже наивного, определения, что произведение равняется сумме приемов, здесь осталось очень мало. Части литературного произведения не суммируются, а соотносятся. Сама литературная форма при кажущейся своей однозначности оказывается одноформенной, но не однозначной.
Стала ясна невозможность изолированного изучения отдельных приемов, так как все они соотнесены между собой и со всей литературной системой.
Переходная точка зрения была не проста и сопровождалась у меня рядом рецидивов старого построения.
Главная трудность заключалась в определении взаимоотношений между литературным рядом — вообще между рядами так называемой культуры — и рядом базисным.
III
В романе Жюля Ромэна «Доноого-Тонка» в городе, построенном из-за ошибки ученого, был поставлен памятник научной ошибке.
Стоять памятником собственной ошибке мне не хотелось.
Поэтому я попытался перейти к историко-литературным работам.
Первой моей исторической работой была книга «Материал и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“».
В книге меня интересовал вопрос о законах деформации исторического материала, обусловленных классовой принадлежностью автора. Целевая установка Толстого вела его к созданию дворянской агитки, к изображению победы дореформенной России дореформенными средствами.
Война 1812 года была в задании Толстого противопоставлена Крымской кампании.
Это было предложение произвести не реформу, а возвращение.
Современники Толстого понимали эту тенденцию романа. Любопытно отметить, что в карикатуре «Искры» (1868, № 16) пишущий Толстой изображен перед камином, на котором стоит статуэтка Наполеона, но не первого, а третьего. В этой карикатуре Л. Толстой изображен спиной к зрителю. Лицо писателя еще не известно, но тенденция его ясна.
Далее идет очень важный вопрос об усвоении романом инерционных литературных форм. Я мало показал в книге (собираюсь это сделать сейчас), что весь беллетристический арсенал, которым пользовался Толстой, все положения романа были известны раньше по произведениям Ушакова («Последний из князей Корсунских»), Загоскина («Рославлев»), Булгарина («Петр Выжигин»), Вельтмана («Лунатик»), Петра Сумарокова («Кольцо и записка»).
Но у Льва Николаевича все эти традиционные ситуации имеют новую функцию и даны взаимодействиями, взятыми из поэтики натуральной школы. Роман иначе сопоставляет привычные романы и дает их в ином лексическом плане. Авторское намерение не было вполне выполнено. Классовые читательские группировки являются своеобразными резонаторами литературного произведения. Задание автора написать роман против разночинцев, так сказать, роман противореформенный, не удалось. Целевая установка автора не совпала с объективной ролью его произведения.
IV
Изучение литературной эволюции должно быть производимо при учете социального контекста, должно быть осложнено рассмотрением различных литературных течений, неравномерно просачивающихся в различные классовые прослойки и различно ими вновь создаваемые.
Эти предпосылки определили собою мою последнюю работу о «Матвее Комарове, жителе города Москвы».
Мне казался невыясненным вопрос о внезапном появлении русской прозы в 1830-х годах.
Отыскивая ее истоки, я установил ее связь с прозой 18 века. От Вельтмана через «Кащея Бессмертного», от Даля через сказку «О воре и бурой корове» я пришел к Михаилу Чулкову. От Толстого с его народными сказками, с его попыткой работать на мужика я пришел к Комарову.
Проза 18 века имела массовый характер. Было много книг с довольно большими тиражами и с переизданиями. Проза эта обслуживала низший слой дворянства, купечества и часть крестьянства, тяготеющего к мещанству.
Поднятие русской прозы, вероятно, объясняется поднятием класса, который она обслуживала. Русская проза в 1830-х годах не появилась заново, а изменила свою функцию.
V
При изучении этих вопросов нужно помнить, что темп эволюции различных идеологических надстроек не должен непременно совпадать с темпом развития базиса.
Маркс в недописанном «Введении к критике политической экономии» отмечал эти несовпадения.
6… неравное отношение развития материального производства, напр., к художественному. Вообще понятие прогресса не следует брать в обычной абстракции… Но подлинно затруднительный пункт, который следует здесь обсудить, заключается в следующем: каким образом производственные отношения, как правовые отношения, испытывают неравномерное развитие.
Следовательно, напр., отношение римского частного права (к уголовному и публичному праву это относится меньше) к современному производству[594].
Так, например, в буржуазной Англии сохранились в неприкосновенности многие формы феодального законодательства. Во Франции же после революции старое римское право было приспособлено к новейшим капиталистическим отношениям.
Иногда это приспособление делается путем пародирования.
Так спародированные формы пушкинского и лермонтовского стиха были приспособлены Некрасовым и поэтами «Искры» (Минаевым, Курочкиным и др.) для создания обличительной гражданской поэзии. Не отдельное произведение, не отдельный образ соотнесены с социальным рядом, а литература как система.
Можно думать, что классическими произведениями часто называются именно те, которые утратили свою первоначальную целенаправленность, стали целиком инерционными формами.
Цензора старого времени хорошо это понимали. Цензор Ольдекоп (1841) был за трагедию. Он писал следующее:
Вообще трагедию можно, подобно опере и балету, считать самой безвредной отраслью драматического искусства.
И в другом месте:
Если трагедии предоставить более обширное поле, этим уменьшится влияние комедии. Публика, видевшая «Короля Лира», с меньшим участием будет смотреть «Ревизора». Нашед в трагедии удовольствие чисто литературное и художественное, она не будет с такой жадностью искать намека в комедии.
Совершенно ясно, что трагедия, в частности греческая трагедия и трагедия Шекспира, в свое время имела резкую направленность. Но позднее (ко времени Ольдекопа) трагедия сделалась «литературным удовольствием».
При учете значения учебы у классиков несомненно нужно учитывать этот характер «литературного удовольствия», связанного с самым понятием классичности.
VI
Возникновению новой формы предшествует процесс количественного накопления в инерционной форме (в ее, так сказать, неответственных местах) элементов, просачивающихся из соседних социальных рядов.
Процессы совершаются скачком, превращением отклонения в качество нового жанра. Сама старая форма, существуя и не изменяясь формально, изменяется функционально.
«Толстовка» первоначально костюм (охотничий) дворянина. Такой костюм носил и Толстой, и Тургенев. Этот же костюм уже на выходах Толстого (там, где должен был быть сюртук) стал «толстовкой». И это уже другой костюм, хотя он тот же самый. «Толстовка» у советского служащего — это, так сказать, третья форма, третье изменение функции. Дело осложняется еще тем, что «толстовка» находится под влиянием френча и пиджака.
Появление новой формы не уничтожает совсем формы инерционной, но только изменяет (обычно сужает) сферу ее применения. Так отжившие в высокой литературе жанры волшебной сказки и рыцарского авантюрного романа переходят в литературу детскую и лубочную.
Литературная эволюция должна быть осознана не как непрерывный поток, не как наследование определенного имущества, а как процесс со сменой взаимоборствующих форм, с переосмыслением этих форм, со скачками, разрывами и так далее.
Литература должна изучать непрерывность меняющейся системы способов социального воздействия.
Обычное представление о формальном методе застыло на первоначальной стадии, когда определялись элементарные понятия, подбирался материал и утверждалась терминология.
Для меня формализм — пройденный путь, пройденный и оставленный назади уже за несколько этапов. Важнейшим этапом был переход на учет функции литературной формы. От формального метода осталась терминология, которой сейчас пользуются все. Остался также ряд наблюдений технологического характера.
Но для изучения литературной эволюции в социальном плане абсолютно негодна социологическая кустарщина.
Необходим переход к изучению марксистского метода в целом.
Конечно, я не объявляю себя марксистом, потому что к научным методам не присоединяются. Ими овладевают и их создают.
О ФОРМАЛИЗМЕ[595]
У Осипа Мандельштама есть книга «Путешествие в Армению». В этой книге он рассказывает о том, как он зашел в музей. В музее были картины французских художников, написанные мелкими мазками. Эти мазки, если ближе к ним подойти, производят впечатление мозаики, но если отойти немного, то они должны дать впечатление живого цвета. Когда Мандельштам вышел из комнаты с картинами, он увидел реальный мир разбитым на мазки, увидал его как будто через теннисную сетку. То, что было на картинах методом, стало содержанием восприятия и было перенесено на реальность. Метод восприятия действительности сделался заменой действительности и лег между восприятием и воспринимающим.
Когда человек воспринимает явления природы через явление искусства, он теряет реальное сознание предмета. Об этом явлении, чрезвычайно разнообразно существующем, я и хочу рассказать. Почему это формализм?
Были такие художники, писатели, звали их «пустынниками». Первым из них был Жуи[596]. Они пересказывали жизнь, которая перед ними проходит, описывали предметы в алфавитном порядке. Они считали, что самое важное — это реальное перечисление различных предметов.
Бальзак тоже описывал предметы. То, что у Жуи хватало на одну страницу, у него могло стать содержанием всего романа. И когда Сенковский переводил Бальзака, то он превращал бальзаковский роман в небольшую повесть и печатал в одном номере; в примечании внизу он говорил, что роман освобожден от ненужных подробностей, которые его обременяли. Бальзак совершенно реально передавал свой мир. Он овеществляет мир. Он передает человека через накопление предметов, как ростовщик собирает вещи.
Все искусство было искусством подробностей. Это был совершенно особый мир, с особым ощущением вещей, вновь появившихся. Наследниками этого мира, но уже мертвого, оказались формалисты. Условия, которые создали глубокое восприятие реальной картины мира, прошли. Мы оказались перед старым миром. У многих из нас было ощущение, что этот мир можно переделать.
Мы считали, что формы нет, и думали, что сюжет, который мы не воспринимаем, конструкция, которую мы не воспринимаем, — только предлог для появления трюка. Когда фэксы входили в кино, они видели не мир (они были совсем молодые), а эксцентрического актера, который может «остранить» этот мир.
Мы уверяли, что искусство двигается само по себе совершенно изолированно, а в литературе развивается история какого-нибудь одного приема. Это ощущение распада мира, эта методология мира, не имеющего связи, была основной мировоззренческой ошибкой. Что из этого получилось? Изучая классическую литературу, мы брали вещи пародийно. Мы думали, что мир почти не воспринимаем, что воспринимаются вещи.
В кино это превращалось в работу иероглифами. Пудовкин, когда снимал весну, то делал весну из улыбки ребенка, воды и птиц. И мы настаивали на иероглифическом восприятии, как и на иероглифическом мышлении. В кино актер снимался в зависимости от того, как снимался предмет. Актер снимался путем изменения аппарата. С героем было совершенно нечего делать. В театре пародировали старые театральные вещи. Художник думал, что идет вопрос о преодолении враждебной эстетики. На деле он был сторонником той же эстетики, но с отрицательным знаком. Он ее пародировал. Вот это восприятие и называется формализмом.
Я думал тогда, что предметы не изменяются, что монтируются лишь неподвижные вещи. Я мыслил историю литературы, историю искусства внеисторично. Я говорил, что искусство существует отдельным и предельным.
Был один писатель. Его считали большим писателем. Пушкин, Гоголь, Толстой — это Вельтман. Он за два года до выхода «Ревизора» написал «Неистового Роланда». По сюжету он настолько близок к «Ревизору», что Гоголя обвиняли в плагиате. Содержание его — в том, что актер, который должен играть в шиллеровской вещи маркиза Позу, надел мундир, звезды и едет на представление. В этой местности ждут ревизора. Лошади разбили коляску, и человека в генеральском мундире внесли к казначею, врагу городничего, у которого есть молодая жена и падчерица. Актер бредит кусками роли, и его принимают за того самого ревизора… Чиновники являются к нему, дают взятки и т. д., и начинается соперничество мачехи и падчерицы, а кончается тем, что его уводят в сумасшедший дом.
За Вельтманом приходит Гоголь и начинает вычеркивать искусственные мотивировки. Ненужно, чтобы он говорил кусками роли. Нужна внутренняя мотивировка. И у него появляется единое дыхание вместо этого колоссального количества маленьких надстроечек. Он делает «Ревизора». «Ревизор» живет 100 лет, а «Неистового Роланда» знаю я один.
Теперь приходит Мейерхольд. Он является, как общество спасания на водах, он «спасает» плохую пьесу средствами театра. Начинает спасать всеми способами, ему доступными. Причем конструкция вещи им не ощущается. Большая форма не нужна, как в явлении барокко, и каждый отдельный кусок развертывается самостоятельно. Причем он переживает не впечатление от произведения, а свою полемику с вещью. Если диалог, то его нужно сделать монологом. Если монолог, то его нужно сделать диалогом, и все внутренние мотивировки нужно заменить, причем совершенно все равно как их заменить. Формы он не ощущает, поэтому его в наказание зовут формалистом. Поэтому спектакль рассыпается; неизвестно, когда его кончить.
Такая вещь происходит и в «Женитьбе» Гарина и Локшиной[597]. Картина неплохо снята, но она основана на представлении, что Гоголь — плохой драматург, что его-де смотреть нельзя. Первичного анализа произведения нет. Из гоголевского замысла остается приблизительно одна седьмая, а вместо этого начинается развертывание явлений искусства другого рода. Все это не имеет никакого самостоятельного значения, потому что обессмыслено. Многие думают, что чем смешнее исказить, тем лучше. Теряется представление о сюжете, а ведь сюжет делается для того, чтобы лучше вскрыть героя. В картине же не вскрывают героя, а перекраивают его.
Есть удачные куски. Вытянут кусок Гоголя, которого мы не слыхали, а потом снова начинают портить. Начинается так называемый «классовый анализ»: «а в это время поднималось купечество». Об этом орут на улице две тетки и т. д. Вы Гоголя читали и понимаете, что произведение не может выдержать всего этого. Шутка дошла до вырождения.
* * *
Я написал сценарий «Капитанской дочки». Я сделал героем Швабрина, а не Гринева. Тарич снял. В неудаче виноват я.
В одном я был прав. До нас дошли черновики Пушкина, в которых оказалось, что в первом варианте был героем Швабрин, а не Гринев. Следовательно, я шел правильно, и я нашел верные исторические факты. Но у Пушкина вещь была сделана тоньше, чем у меня, я начал нагружать ее солью, камнями, я начал ее разлагать на имена существительные.
Мы не умели широко писать. Это есть и в литературе. Возьмите рассказ Габриловича «Прощай». Люди садятся на корабль. Перечисляются все предметы каюты первого класса, все предметы второго класса, третьего класса. Потом все едят. Перечисляется все, что они съели. Потом их качает и перечисляется, чем их рвет. Произведение разлагается совершенно механически на эти имена существительные.
Возьмите Катаева «Время, вперед!». Там идет состязание, а художник все внимание отдает предметам, метафорам и т. д. Все сделано на клею, на лаке и обито старым материалом.
Чрезвычайно талантливый писатель Всеволод Иванов написал «Похождения факира». Это искажение Гектора Мало[598], искажение французского романа путешествий. Автор сначала превосходно работает с сюжетом, но постепенно начинает накапливать предметы, причем пародирует Стерна, может быть, через меня, пародирует Рабле. И получается пародия.
* * *
Мы часто говорили, что формалисты положили оружие в 1924 году и т. д. Однако я-то чувствую себя изменяющимся, но формализм продолжает существовать как система выбирать вещи, как препятствие брать основные темы.
Эта методология примата, установленного приема, которая существует, как эхо, она мировоззренчески ограничивала писателя, она искажала действительность.
Формализм был защитным средством для людей, не могущих поднять новую тематику. Причем часто было недоверие к основной теме, и кругом этой темы делали гарнир, который должен был непосредственно преодолеть эту тему.
Как было это у меня? «Сентиментальное путешествие» было для меня выигрышем. Первая книга, которая дается каждому человеку. У каждого писателя есть первый запал. Это очень личное отношение к революции человека, который видел, как люди умирают, и об этом написал. Причем мне не приходило в голову думать, как я это напишу. Но легче пахать паханое поле, — я начал писать историческую книжку. Я написал «Толстого» — теоретическую книжку и довольно долго не писал беллетристики. Я потерял голос, причем я потерял и голос теоретический, я сделался начетчиком. Когда я работал над книгой «Чулков и Левшин», мне стало жалко выбрасывать материал. У меня не было ощущения превосходства над материалом, что вот как хочу, так и сделаю, сам материал найду. Когда я был молод, я смотрел так: ну что такое факты? Если надо, я его изменю. Теперь такое отношение исчезло.
Вы представляете себе, что идет поезд в снегу. Снег большой. Поезд двигается, он нагребает все больше и больше снега, паровоз становится, у него дым из ушей, — занос.
Вот передо мной теоретические трудности накапливались, накапливались и привели меня к тому, что я замолчал. Я продолжал существовать дальше в кино. У меня было ощущение, что мне мешает звук. Но вот я занялся «Марко Поло», занялся историей «Беломорканала» и мало-помалу изменился.
Когда началась дискуссия о формализме, то я не нашел себя на своем старом месте, на месте обиженного.
* * *
Что я сейчас делаю? Я сперва работал по Беломорстрою, потом решил работать над пятилеткой. Начал читать газеты подряд за 7 лет и составлять аннотации по каждому номеру. Потом я прочел все очерки того времени. Потом я увидел самого себя. Я увидел себя со стороны, это очень интересно. Потом я написал план. У меня здесь есть превосходство — я знаю, чем что кончается.
Я положил газетные биографии на места и сделал дискуссионную книгу листов на 10, которая еще не вышла. Я сейчас пытаюсь написать сценарий о Кривоносе. Материал этот железнодорожный, очень интересен.
Я сделал сценарий о Пушкине для Эсфири Шуб. Пушкин весь объяснен явлениями искусства и непосредственно от них зависит. Великолепные памятники, статуи царскосельские, поднятая монферановская колонна и великолепная смерть Пушкина, когда его тело увозят в снега, прячут, а в это время читают «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Но Пушкин, который говорит, что он пишет не для удовольствия почтеннейшей публики, Пушкин, который зависит не от литературы, а сам создает литературу, — у меня этого не было.
Вместе с режиссером я теперь это переделал.
Делаю я «Степана Разина» пять лет. Очень трудно. Но в кино еще труднее, чем в литературе. В литературе легче. Я хозяин над этим листом бумаги и я хочу написать книгу о современности.
ВЗРЫХЛЯТЬ ЦЕЛИНУ
Речь тов. Шкловского
— Я взял слово первый, как первый, упоминаемый в докладе т. Ставского[599], и еще потому, что я не собираюсь ни прятаться, ни говорить, что споры о формализме меня не касаются.
Та фраза из моей книги «Теория прозы», которую процитировал т. Ставский, была написана мной в 1923 году. Книга переиздана в 1929 году. Тогда я был с этой фразой согласен.
После этого у меня были статьи, которые назывались «Памятники научных ошибок». Была книга «Материал и стиль в романе Льва Николаевича Толстого „Война и мир“», но на эту книгу, насколько помню, я рецензии не имел.
Затем у меня была большая книга «Чулков и Левшин», не свободная от исторических ошибок. Но на эту большую книгу я рецензии не имел.
В журнале «Знамя» я напечатал в этом году две повести. На одну из них была рецензия.
Я принимаю участие в коллективных работах. В частности, работаю над «Людьми железнодорожной державы»[600]. Я с трудом поднимал на эту работу Андрея Платонова и горжусь тем, что он написал такую вещь, как «Красный Лиман».
Трудно, трудно, когда эхо твоего голоса живет дольше твоего голоса. Я виноват. Я виноват в том, что, как крестьянин с сохой, который ищет мягкой земли и не поднимает целину, я после своих формальных работ не имел мужества для того, чтобы написать серьезные большие книги, заставить издательства их обсудить и не уклоняться от работы над такой книгой, как «Приключения монастырского служки».
Необходимо нам, критикам, писать теоретические работы, а не собирать статьи. Писать на большом уровне настоящие книги, с настоящим теоретическим сердцем.
Какую же ошибку делали формалисты и в чем основное несчастье формализма? Первым теоретическим шагом формализма была попытка отделиться от жизни и выделить себе «сетльмент искусства», куда бы не входил социализм. Это было сделано, может быть, бессознательно, но во всяком случае было сделано. Сегодняшний формализм, как мне кажется, является формализмом двух значений одной вещи. Форма построения предмета не оказывается законом его построения. Люди уходят на мягкую землю и вместо того, чтобы поднимать целину, пашут там, где было распахано.
Партия требует от нас поднять целину, а мы не сумели использовать помощь партии и продолжали ковыряться в том, что было раньше. Мы отыгрывались старым умением и старыми навыками. В этом сам вопрос формализма, который не имеет своей законченной идеологии, но является результатом того, что человек не сделал идеологию своей художественной походкой.
Мы брали предмет, явление остановленным, не понимая, что если образ повторяется, то он изменяется, становится другим. Мы, диалектики искусства, не понимали, а нарезанное для исследования искусство было нами неправильно описано.
Мне первым сказал об этом Александр Блок. Он сказал: «То, что вы говорите про искусство, правильно, но так знать, как вы говорите, поэту вредно».
Я думал, что Блок понимает меньше меня, но он понимал так, как Толстой. Помните в «Войне и мире» Наташа Ростова заехала к дядюшке. Он превосходно пел русскую песню. Пел, не думая о музыке, желая передать слова, и тогда рождалась мелодия. Стремление рассказать приносит форму, как дар. Этого мы не понимаем. В этом внутренние ошибки людей, которые писали для себя отдельно и для читателя отдельно. Раньше писали отдельно для дореволюционного читателя, а потом стали писать отдельно для нового читателя. Это создавало формализм.
«Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна был понятен потому, что Эйзенштейну был понятен ход броненосца. И приемы «Броненосца „Потемкина“» легли в «Октябре» складом. Мы тогда Эйзенштейну ничего не разъясняли, потому что это нам понравилось.
Этому «забавному» отношению к искусству можно противопоставить отношение Толстого, который свои вещи давал переводить на французский язык, потом давал другому переводчику перевести с французского на русский и сравнивал. Он хотел при помощи слова освободить мысль от слов, передать ее совершенно точно.
Что же делать нам, товарищи?
Прежде всего нужно писать для себя, и если не умеешь писать для себя, то не пиши.
Нужно сговориться с собою начисто.
Что еще нужно?
Нужно поднимать настоящие вопросы. Я не хочу обвинять издательства, хотя они боятся авторов. Если вы зайдете в Гослитиздат и увидите программу выполнения, вы убедитесь, что хорошее выполнение только по классикам. Классиков сработали на 200 процентов. А вот нужно, чтобы мы работали на 200 процентов.
У меня есть написанная работа по теории романа, с которой я согласен. Но когда я приношу ее в редакцию, то из нее вырезают кусочки — про Бальзака, про Пушкина, а прав я или неправ, я не знаю.
Сегодня я узнаю о том, что в 1929 году я неправильно писал.
Нет у нас книг по Пушкину, нет биографии Пушкина, нет теории литературы и истории литературы. Она вся спряталась в примечаниях.
Мы не «инженеры», а мы гайки навертываем. Нужно требовать от себя инженерных знаний.
Мы сидели с Маяковским за одним столом, спорили об одном и том же, а пути наши разошлись, потому что у него была «путевка», он знал, для кого писал.
Дело не в том, что у Кирсанова в одном стихотворении все начинается буквой «м». Можно и с «м» сделать хорошо. Мало ли в фольклоре игровых моментов.
У него нет путевки. У него нет того жезла, который дают железнодорожнику. А вы ему «м» зачеркиваете.
Мне жалко, что мы так непринципиально, мелко ошибаемся. В кино есть ошибочное направление. Но вот я смотрю, как переживают люди картину в кино. У Эйзенштейна бóльшая ответственность за искусство, чем у нас.
Возьмите людей «Железнодорожной державы». Люди хорошо пишут. Люди научились говорить. Люди хорошо думают. Стенограммы их выступлений (на которые так это поплевывает Эренбург) из года в год улучшаются. Это не стенографистки научились лучше записывать: это люди изменились. У людей голос изменился. Я спрашивал одного машиниста — старика 60 лет, он 45 лет работает, у него орден, — почему он продолжает работать на паровозе, почему не уходит на пенсию. Он ответил:
— У меня жена старая, товарищи старые и сам я постарел. А вот когда я сижу на паровозе, то радуюсь я: ту гору, которую раньше паровоз брал, задыхаясь, он берет теперь не переводя дыхания. Я молодею на паровозе. И что же, я от этой молодости пойду в свою домашнюю старость?
У него чувство ощущения здоровья страны. С таким чувством, при таком подходе у него не будет формализма. (Аплодисменты.)
РАЗГОВОР С ДРУЗЬЯМИ (О ФОРМАЛИЗМЕ В КИНО)
I
У Золя есть книга о художнике[601], который пытался преодолеть условность краски. Год за годом работал он. Он писал городской пейзаж, писал цветы.
Когда умер ребенок, художник писал труп ребенка, стремясь передать точное свое ощущение.
Импрессионисты хотели уйти от условного цвета, от линии, которой нет в природе, пытались передать действительность чистой, несмешанной краской, стремились уйти от условного воздуха мастерской, к солнцу и воздуху.
Работа без контура, работа с чистой краской была методом преодоления условностей.
Так работал Синьяк.
На юге, в Сочи, есть музей импрессионистов. Мандельштам осматривал его.
Он написал:
«Кукурузное солнце светит в картинах импрессионистов»[602].
«Солнце, сделанное из закругленных мазков, похоже на плотное зерно выпуклой чешуи кукурузного початка».
Люди стремились преодолеть условность.
Художник-формалист воспринимает у художника-реалиста не реальность, а метод передачи реальности.
Он уничтожает работу художника и делает метод, созданный в усилии прикоснуться к действительности, новой преградой между искусством и действительностью.
Мандельштам выходит на улицу.
«Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце — завернутым в серебряную бумагу.
Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок: и все это было напихано в веревочную сетку».
Формалист воспринимает не мир через искусство, а способ выражения вместо мира.
Еще раз метод восприятия действительности сделался заменой действительности и лег между восприятием и воспринимающим.
II
Я пытаюсь проследить конкретное выражение формализма в кино и показать, какой именно мир пытались воспроизвести формалисты, с каким миром они полемизировали.
«Наполеон говорил, что наука до тех пор не объяснит главнейших явлений всемирной жизни, пока не бросится в мир подробностей. Чего желал Наполеон — исполнил микроскоп. Естествоиспытатели увидели, что не в палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие вопросы физиологии, а волосяные сосуды, а клетчатка, волокна, их состав. Употребление микроскопа надобно ввести в нравственный мир, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии».
Так говорил Искандер (Герцен) в статье «Капризы и раздумье», напечатанной в 1846 году.
Мир вещей, мир, в котором взаимоотношения между людьми передавались вещами, — это мир послереволюционной литературы Франции.
Существовали тогда книги, являющиеся подражанием книгам Жуи. Сам Жуи написал «Пустынника Антенского», написал «Гильома Чистосердечного», «Гвианского пустынника». Его подражатели создали «Лондонского пустынника», «Пустынника Сен-Жерменского предместья» и наконец «Русского пустынника». Книги эти давно забыты и не имеют сейчас самостоятельного художественного значения, но они подготовляли появление Бальзака.
К книгам этим прилагались сзади таблицы, в которых по алфавиту указывалось, о чем написано в очерках.
Это была фактография.
«Пустынники» считали, что в мире самое важное — реальное перечисление вновь появившихся предметов. Над Жуи надгробную речь говорил Жюль Жанен, великий фельетонист, соперник большинства русских писателей того времени.
Жюль Жанен в некрологе о Жуи говорил о том, насколько более ёмок метод Бальзака, насколько количественно больше дает он сведений о мире в сравнении с вещами Жуи.
Русским переводчикам Бальзака, людям другой культуры, Бальзак казался слишком мелочным, слишком переполненным подробностями.
Сенковский сокращал Бальзака.
Толстой говорил о Бальзаке гораздо позднее с полемическим задором.
Полностью Бальзака не понимали. Казалось, что Бальзак дает реальную картину своего времени, своего мира, но что этот мир — мир вещей. Люди боролись за вещи, накапливали вещи. Антикварные лавки, комнаты ростовщиков стали обычными местами действия романов.
Золя не прервал традиции Бальзака. Он изменил, демократизировал, так сказать, вещи, расширил их круг, ушел от сокровищ на рынок и даже на железную дорогу.
Этот мир существовал до революции. Он был выражен великими писателями.
Но мир начал страдать бесплодием сюжетов.
Честертон заменяет в своем романе сюжеты мистификациями.
У него в романах и новеллах специальные конторы создают сюжеты для развлечения клиентов.
Еще прежде него сюжет ушел в последнее свое прибежище — мир преступления и там опять встретил вещи — улики.
Сущность и драма формалистов состоят в том, что они не были наследниками старой культуры, хотя она и досталась им.
У нас было ощущение, что старый мир ломается, но мы не столько переделывали этот мир, как его пародировали.
Мы брали старую, распавшуюся, по нашему мнению, литературную форму и создавали нечто на ее основе.
Казалось, что старые мотивировки и связи отжили, вся вещь бралась как мертвая, ее не ставили, а переставляли, изменяя в первую очередь логику отношения частей так, чтобы оно заменилось парадоксом.
III
Мы не выражали новых отношений, а только пародировали старые. Поэтому мы не смогли создать подлинно великого искусства.
В романе античности за скитаниями героев мы видим весь тогдашний мир до Абиссинии включительно.
Эти романы и рыцарские романы более позднего времени представляют собою своеобразное изображение реальности.
Роман «О великом хане» — так называли путешествие Марко Поло.
Марко Поло обновлял путешествие, обновлял реальностью, и в то же время видно, как борется он со старыми шаблонами, со старыми описаниями сражений и речей перед сражениями.
Дон Кихот, начитавшись рыцарских романов, выехал в мир иных отношений. Он выехал уже в государство, в котором торговали и сражались по-новому.
Его традиционное восприятие старого мира, его архаизм создает сюжет произведения.
Сервантес видел своего героя, видел столкновение эпох, поэтому он мог создать произведение для будущего.
Эпохи отличаются друг от друга различием мироощущения.
Времена меняются, литература и искусство переживают время, которое их создало.
И если новый художник живет дыханием старого мира, если он пользуется новым только для воспоминаний старого, то он становится формалистом.
Я расценивал прежде Стерна как писателя чистой формы.
Иначе думал Пушкин, который упрекал Стерна в жестоком знании, в жестоком и последнем реализме.
Мир сентименталистов был отображением того момента, когда человеческое самосознание писателя опередило формы общественной жизни, которые его окружали.
Искусство, как паровая машина, иногда является на противоречащем ему базисе, потому что время в себе заключает внутреннее противоречие.
Стерн сентиментален как Робеспьер.
Мир, который окружает Руссо, не самый главный, — главнее мир будущего, мир внутри Руссо. Поэтому, преодолевая окружающую действительность, Стерн не замечает феодальной Франции.
Он иронизирует над старой ученостью, носология в «Тристраме Шенди» и длинные споры с католической наукой реальны для мира Стерна.
Трагического сентиментализма Радищева у Стерна быть не могло, потому что стерновское мироощущение наступало, оно овладевало чувствами и могло иронизировать.
Мир был неправильным, потому что в нем не возобладало чувство над историей.
История была за Стерна.
Пародийность стернианских отступлений поэтому реалистична.
Буржуазная революция оказалась революцией не для всех.
Человек, поставленный в необходимость совершать преступления, стал темой романа.
Французская революция создала тип разочарованного молодого человека.
Но одновременно появился новый реальный мир — мир не прошлого, а настоящего.
Бальзак ощущает мир как только что сейчас созданный; он видит, что походка женщин изменилась от панели.
Мир новых вещей.
Мир всемирных выставок, фабрик, которые производят вещи в любом количестве, мир огромный, долгий — это мир Бальзака.
IV
Метод передачи мира перечислением вещей одно время овладел целым рядом советских писателей.
Возьмемте, например, вещь Габриловича «Прощанье».
Эмигранты садятся на корабль.
Перечисляются все предметы каюты I класса, потом все предметы кают II класса, III класса.
В той же последовательности перечисляются (по классам) предметы, которые едят люди.
Начинается качка, и люди в обратной последовательности выблевывают все предметы, ими съеденные, и все это опять перечисляется.
Олеша Юрий сильней; он на самом деле видит вещь, показывает ее, разрушая обычный масштаб, давая малое как большое, большое как малое.
Но и для Олеши смерть — это потеря вещей, потеря, данная перечислением.
Художник не может охватить сюжетом вещи.
То есть он не может показать изменения жизнеотношений.
Олеша переходит на систему декларации. Он рассказывает о своих эмоциях по поводу того, как он не может охватить мир.
Так у Канта теория познания обратилась в рассказ о том, почему мир непознаваем.
Замечательный писатель Всеволод Иванов, описывая человека, видит его кругом. Он легко и просто, как будто по праву рождения наследованное, получил умение строить сюжет.
Но в «Похождениях факира» идут сейчас его герои, среди пустяков минуя большие города.
Перечисления, пародийные как у Стерна, разнообразные как у Рабле, даются в романе.
Но этому стаду вещей нечего делать. Автор не спорит с ними, не восхищается ими, он только удивляется разнообразию мира пустяков.
Много лет тому назад ехал я на крестьянской телеге по грязи около шоссе.
Я уговаривал возницу поехать по шоссе.
Он ответил, что лошадь не кована и некованым ногам на шоссе «щекотно».
Писатель съезжает с темы набок, у него щекотливые ноги.
Всеволод Иванов написал пьесу «12 молодцов из табакерки».
Тут ему удалась Демидова, но эпоху он прежде всего хочет дать удивительной, давая парадоксальные столкновения кусков, лишая переходы высокой логики — и вещь становится утомительной.
Со старым искусством нельзя двигаться, но люди думают, что можно найти какой-то другой, еще не изношенный участок старого искусства.
Они уходят от Толстого к Гектору Мало, к Майн Риду.
А дело за окном!
V
Я считал также, что сюжетов больше нет совсем, что сюжет — это только мотивировка для появления трюков.
Мы говорили, что за вещью, вне ее — нет ничего.
Но вещи мы не видали, как не видали краски. Мы видели стыки красок и в литературе больше всего любили черновики.
Так была поставлена в Пролеткульте вещь Эйзенштейна «На всякого мудреца довольно простоты». Любое место пьесы развертывалось, пародировалось, но пьеса не существовала.
Не существовал и мир.
Мир не существовал как целое, в нем воспринимались предметы пародийного искусства. Так молодые фэксы пускали в гражданскую войну своих условно одетых актеров. Они не могли взять эпоху без подтекстовки ее условностью.
Так при передаче европейского слова китайцы подбирают к каждому слову иероглиф, звучание которого похоже на этот слог.
Возьмемте типичную формалистическую вещь того времени «Спящую красавицу», сценарий Григория Александрова (постановка братьев Васильевых).
Тема — гражданская война. Все происходит в театре. По существу говоря, идет ироническое обыгрывание театрального реквизита.
На барабанах делают пельмени, коровы стоят в ложах, на облаках сушат портянки.
Есть и трагический гротеск — человек прячется в голове Черномора.
По существу говоря, перед нами опера, только спародированная.
От сюжета остались одни следы, женщина роли не имеет.
Искусство оказалось запертым тематически.
Искусство потеряло человека. В его непрерывности актера в кино стали снимать как самовар, изменяя ракурсы.
Автор сделался единственным человеком среди вещей. Так у Свифта на «Летучем острове» люди захотели заменить слова показыванием вещей. Они носили вещи с собою и на улице, расстанавливая реквизит, вели длинные формалистические разговоры.
В кино годились не все вещи, не все люди.
Посмотрите, как в довольно банальной ленте Абрама Роома «Бухта смерти» оживает почерк художника, когда он населяет пароход уродами.
Новый острый тон возвращает художнику ощущение действительности, которое потеряно для него в своем простом обычном виде. В гениальную «Стачку» Эйзенштейна врывается показ шпаны.
Шпана живет в бочках.
Бочки эти перевернуты острием вверх, хотя даже котенку понятно, что от дождя можно скрыться только в бочке или в ящике, положенном набок.
Но эффект появления уродов, мгновенное появление сотни людей из-под земли, так велик, что всякое правдоподобие отступает в монтажную корзину.
Режиссер Ахметели в Тифлисском театре ставит «Разбойников» Шиллера.
На сцене огромный дуб, на дубу сидят какие-то беспризорные пацаны из-под вагонов. Это задний план сцены.
Когда нужно вывести разбойников с диалогами, то из боковых кулис выходят разбойники в бархатных плащах. Театрально-шиллеровские люди.
Дело просто, те люди на задней сцене условно-реальны, но это не люди данной драмы. В эту драму вводятся условные театральные люди, и так как у художника нет целостного восприятия спектакля — то глаз его все это не режет и глаза его не слезятся.
VI
Посмотрите Джойса.
Это явление другого масштаба, чем первая вещь Васильевых, но вся вещь идет как старый человек на костылях; ее ведут под руки старые сюжеты, она движется, опираясь на тень прежнего искусства.
Греческий трагик говорил, что судьба человека подобна тени дыма.
Там это было только мерилом отчаяния говорящего эти слова. Сейчас это точное изображение искусства Джойса.
Работая на тени иного мира, не мира нас окружающего, мы пытались изобразить наш мир иероглифами вещей.
Эйзенштейн мог единым дыханием связно, понятно для всех передать трагедию броненосца «Потемкина», трагедию безоружной революции, на лестнице.
Октябрьская революция изображена Эйзенштейном в ленте «Октябрь».
И «Октябрь» — огромная лента, эта лента живет.
Ее изобретение мы видим в американской ленте «Вива Вилла».
Но лента, как я говорил много раз, страдает вещизмом.
Капельдинеры говорили в Зимнем дворце, что при первом взятии Зимний дворец пострадал меньше, чем при съемке.
Это потому, что большевики боролись с временным правительством, а не с мебелью.
Все понятия разлагаются как бы в непрерывную дробь вещей, но этим методом нельзя передавать даже начало нового мира.
Между тем великое искусство — это искусство связанное, искусство реалистических мотивировок.
Сюжет гоголевского «Ревизора», столетие постановки которого мы сейчас празднуем, этот сюжет — не нов, он есть у французов, у итальянцев, у украинцев, из русских писателей есть он у Полевого и у Вельтмана.
Вещь Вельтмана «Неистовый Роланд» предшествовала вещи Гоголя «Ревизор», но Вельтману, для того чтобы показать, как приняли не-ревизора за «Ревизора», нужен ряд искусственных мотивировок.
Актер, который играет маркиза Позу, в мундире с театральными звездами едет по местечку. В местечке ждут ревизора. Лошади разбивают актера, его вносят в дом казначея, он бредит кусками ролей, говорит о государе; его принимают за ревизора, дают ему взятки, происходит соперничество между падчерицей и женой казначея на почве борьбы за любовь ревизора.
Все это есть у Гоголя, но мотивировки у него другие.
Не нужно бреда, не нужно мундира, даже не нужно, чтобы соперничество шло между мачехой и падчерицей. Все внешние мотивировки заменяются внутренними.
Вместо системы маленьких надстроечек является система единой эмоции — и вот ревизор живет сто лет, а «Неистового Роланда» знаю, кажется, я один.
Мотивировки, внутренняя связь вещей, сюжет, дающий в произведении изменение жизнеотношений, — вот что делает произведение великим.
Всеволод Эмильевич Мейерхольд — человек большой, он приходит к «Ревизору» и уничтожает пьесу. В пьесе он видит ряд деталей, он превращает монолог в диалог, диалог в монолог, переставляет каждую отдельную вещь, он не ощущает большой формы произведения и поэтому, в наказание, его называют формалистом.
Гарин — крупный актер. Комедия, поставленная им, «Женитьба» имеет все признаки таланта, но он не ставит пьесу, а спасает ее, развертывая отдельные детали и не беря общей формы.
Социальные мотивировки людей, живущих без событий, вскрытие мира, в котором событие — это «Шинель», заменяются патологическим раскрытием характера Подколесина.
Вместо этого мы видим Подколесина, который болен, у него дурные привычки, его действительно надо женить.
Эта история отдельного Подколесина, а не Подколесиных, а между тем удача была рядом, потому что Гарин — большой актер.
Постановщики пользуются Федотовым; отдельные куски картины сделаны прямо по картинам Федотова, но федотовского мироощущения нет. Федотовский офицер превращается в водевильного героя.
Нужно не склеивать вещи из классических произведений, а понимать, что происходит в классическом произведении. В то же время в фильме идет социологизирование вовсю.
Дается спор дворянства с купечеством, причем не хватает ситуаций, не хватает реплик, и сцена строится методами «Синей блузы»[603].
Эпоху же дают музыкальными ящиками, трубками, повозками. Произведение теряет ценность, в мастерски построенном спектакле появляется плохо сделанная роль служанки.
Начинается ковырянье в носу, чесанье задов, как маскировка эстетического лака вещи.
Вы знаете, как двигается паровоз в снегу?
Инерция разгона, сила машин могут отодвинуть снег грудью паровоза, но снег уплотняется — и наконец движение невозможно.
Мы остановились потому, что в искусстве искали для себя отдельных кварталов с собственными законами.
Я хотел жить у себя дома в искусстве, с самим собою, с вещами и с веселыми уродами.
Искусство хитрило со мной, оно подсовывало мне факты, анализируя которые, мы получали стройную систему.
Так, у Герцена один губернатор временно замещал и место председателя палаты, и своего врага.
Он продолжал писать председателю палаты ядовитые письма и сам на них отвечал.
Мир ограничивался.
Охлопков мечтал о сценарии, в котором бы кто-нибудь ездил на жирафе. Жирафа — это трюк на один раз.
Так как все равно что снимать и все равно что ставить, то легче всего двигаться по чужому, прежде созданному произведению. Старый сюжет тут играет роль честертоновской конторы по доставлению случайностей скучающим, состоятельным гражданам Англии.
Старый материал пьесы начинает переделываться, возвращается к черновикам.
Тридцать тысяч курьеров, которые отыскивали Хлестакова, заменяются каким-нибудь другим числом, взятым из черновика.
Все диалоги превращаются в монологи, появляются неговорящие герои, разрушаются форма произведения и смысл его.
Способный режиссер И. Савченко снял картину «Гармонь».
Про эту картину можно много не говорить, тов. Савченко — человек талантливый. Про его первую картину можно промолчать.
«Гармонь» была веселая картина, хотя и растянутая.
Объявили, что это новый жанр, советская оперетта.
Савченко взял новую тему, которая называется «Месяц май».
Тема вещи: женщину принуждают к аборту.
Женщина — рекордсмен, муж ее — тренер. Идет вопрос о том, чего она должна добиваться: ребенка или мирового рекорда?
Можно ли пожертвовать ребенком для мирового рекорда?
К этой ленте Савченко прикладывает методы оперетты.
Он не смотрит, что он делает.
Он не понимает, что аборт — не тема для оперетты.
Люди поют и декламируют о том, о чем обыкновенно они шепчутся.
Лента делается с примитивностью опереточного сюжета, подкрепленного голым тематизмом «Синей блузы».
Молодые ребята, прямо с купанья, толпой, бегут к женщине и посреди площади кричат, требуя, чтобы она сделала аборт.
Им отвечают криком женщины с балкона.
Женщины некрасивые, ребята злые, все неверно, придумано.
И художник очень нелегко и совсем не сразу понял, в чем его ошибка.
VII
Мы знаем старую культуру. Но мы не были ее наследниками, мы ее пародировали, чтобы ее увидать.
Дело не в том, чтобы вырезать из картин отдельные кадры. Дело в том, чтобы увидеть новый мир.
«Чапаев» — вещь связная и нетрадиционная, вещь новая. В ней бывший партизан решает вопрос, кем должен быть командир, каким должен быть командир.
У «Чапаева» есть биография, есть прошлое. Я вижу, почему у него друг ветеринар, почему он сам знает военное дело.
Этот человек в движении.
Нужно не жертвовать умением, нужно перестраивать свое умение, увидать сегодняшний день, изображать его не подстановками.
Какой-то царь попросил, чтобы ему объяснили геометрию поскорее.
Ученый ему ответил, что в науке нет царского пути.
Нет льготного пути, входа по контрамаркам в новый мир для старых писателей.
Жертвы нет. Маяковский ошибался, когда думал, что нужно отказываться от имени, от личности.
Сейчас вся работа подписная.
Один из стахановцев говорил, что для того, чтобы понять, как нужно рубить уголь, нужно раскладывать слой так, как будто ты сам его складывал.
Сегодняшнее отношение к миру именно связное. Художественный метод расширился, вошел в быт.
Прошло то время, когда мы думали, что в искусстве можно работать искусством, делать золото из золота.
Мы начали борьбою со старым эстетическим искусством и попались на том, что создали другую эстетику, эстетику некрасивого, эксцентричного, но не реального.
Борьба с формализмом — это борьба за ощутимый мир, за метод как метод, а не метод как содержание искусства.
Эстетизм запирает человека, и он летает как муха внутри пустого графина.
Путь к новому простому искусству — путь наверх. Простое — сложно. Федотов говорил:
«Будет просто, когда сделаешь раз со сто».
VIII
Нужно начинать заново.
Удача есть.
В вещи Герасимова «Семеро смелых» — уже новый диалог.
Люди говорят для себя, а не для того чтобы двигался сюжет.
Лента, при всей условности, при всех детских ошибках сюжета, — новая для нас.
Но нужно изменять голос.
У Горького была статья.
Наступала на немцев французская рота, шла большая стрельба.
Спасаясь от смерти, люди легли.
Живые лежали среди мертвых.
Тогда начальник с французской верой в слово сказал:
Мертвые встаньте, родина приказывает!
Это та широта фразы, которую ценили даже во второстепенной французской литературе Горький и Менделеев.
Нам нужно освобождаться от формализма, от бытовой, сегодня уже не правдивой, фразы.
Нужно помнить о народной гордости великороссов, нужно не бояться показа удачи.
В быту фраза становится полноценнее, договореннее.
Гоголевская фраза, фраза гоголевского героя доведена до судорожных попыток схватить воздух перед попыткой говорить.
Зощенко спросил меня:
Что же делать? Как изменилась фраза синтаксически?
Я ответил ему:
Она договорилась, она литературнее прежней.
Я думаю, что когда Зощенко в своей «Голубой книге» расширяет горизонт до охвата мира, то ему не хватает второй гоголевской стихии, гоголевской тройки, гоголевского высокого разговора.
Гоголь понимал страну, понимал ее по-своему планово, понимал в огромном историческом развороте трагедию русского отставания.
Вот что писал Гоголь:
«Вот уже полтораста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родною нашею крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовою станциею, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: „Нет лошадей!“ Отчего это? Кто виноват?»
Без этого широкого плана нет Гоголя.
Это может остаться в черновике, но Толстой говорил в «Живом трупе», что нельзя красное сделать без зеленого.
Комичное существует рядом с трагическим, в противопоставление ему.
Зощенко — реалист, ему нужен гоголевский широкий голос.
Эти зощенковские люди — современники, они изменяются, у них есть своя тройка удачи.
Мы преодолели вековое отставание, и сейчас нельзя написать реалистическую книгу без широкого размаха.
В наших лентах слишком много иронии и очень мало счастья. Моему Марко Поло в книге сразу же под сорок.
Лев Толстой прожил не одну, а три жизни художника.
Разве будущее не перед нами?
Надо рождаться вновь.
Дело не в жертве.
Не нужно бояться.
Начинаешь писать часто неохотно, с середины приходит вдохновение, когда приносят корректуру — думаешь, что хуже тебя никто не писал.
В листах книга поправляется, и через несколько лет тебе напоминают твою старую книгу с укором. Мы сейчас сидим над черновой корректурой своей жизни.
Но, когда написали в «Правде» статью о формализме, я там не нашел себя в том месте, где я должен был бы быть, чтобы обидеться.
Я вижу через гору времени, через горы наших сегодняшних неудач, через боль подагры от солей старого искусства, — вижу новое время.
Не нужно жертвы!
Нужно ощущение жизни и человека, который вместо старого труда, похожего на разрубленный труп, целостно воспринимает творческие процессы, трудится творчески, гордится своим трудом, подписывает его.
Лев Толстой рассказывал о том, как он не понял движения человека, что-то делавшего с камнями.
Он подошел ближе. Оказалось, что человек точит о камень нож. Человеку нужен был не камень, а острота ножа.
Нам, в нашем искусстве, нужно не ощущение метода, не установка на выражение, не подчеркивание усилия по преодолению материала, а связное ощущение.
Когда растапливают сплав или прибавляют в один металл другой, то все время происходит изменение электропроводности сплава.
Но бывает момент скачка в этой кривой.
Это происходит тогда, когда уже не медь, например, растворяется в олове, а при прибавке меди олово начинает быть подчиненным меди.
Мы переживаем сейчас внутреннее качественное изменение.
Этот перелом, который мы ощущаем, законен.
ПРОСТОТА — ЗАКОНОМЕРНОСТЬ[604]
I
Валентин Катаев в интервью уверял, что во Франции любой мальчуган создает метафоры лучше, чем Юрий Олеша.
Путешественники часто ошибаются. Я думаю, что метафоры французского мальчугана неожиданнее для Катаева, он всякую метафору языка приписывает говорящему. И на каждого говорящего француза приходится очень много метафор.
Но дело не в этом. Дело, конечно, в том, что ошибка Катаева направленная. Катаев отказывается от метафор Олеши, сам уходя от метафор.
II
О простоте писал Пушкин.
«Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: не выхваляйте мне Бюффона; этот человек пишет — благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное — гордое, пылкое и пр. Зачем просто не сказать лошадь.
Замечу мимоходом, что дело шло о Бюффоне, великом живописце природы. Слог его, цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы. Но что сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут: дружба, не прибавив: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Дóлжно бы сказать: рано поутру, а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба. Как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее».
Спор о метафоре, о стиле, о придаточном предложении, о плавности стиля в XVIII веке был политическим спором. Из-за стиля люди бросали друг другу тяжелые обвинения, и иногда эти обвинения принимались противниками.
Обиняк, перифраза тогда шли из Франции, и Шишков обвинял людей, пишущих метафорическим стилем, в государственной измене.
«Каждый народ имеет свой состав речей и свое сцепление понятий. Но хотеть Русской язык располагать по французскому, или теми же самыми словами и выражениями объясняться на Русском, какими Французы объясняются на своем языке, не то ли самое значит, как хотеть, чтобы всякой круг знаменования Российского слова равен был кругу знаменования соответствующего ему Французского слова?» (стр. 36–41).
Вот что возразил Шишкову Макаров:
«Сочинитель рассуждения о слоге утверждает (стр. 305), что каждой народ в составлении языка своего умствовал по собственным своим понятиям, весьма различным от другого народа, подает оружие на себя; ибо в отношении к обычаям и понятиям мы совсем теперь не тот народ, который составляли наши предки; следовательно хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям нынешним, умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы» (Сочинения и переводы П. Макарова. М., 1817, изд. 2-е, т. I, ч. II, стр. 28 и 29).
Макаров принял бой в открытую. «Ныне уже нельзя блистать одним набором громких слов, гиперболами, или периодами, циркулем размеренными. Ныне более требуют силы и остроумия. Если бы сам Цицерон жил в наше время, то не стал бы забавлять читателей антитезами на двух или трех страницах. Фокс и Мирабо говорили от лица и перед лицом народа или перед его поверенными таким языком, которым всякой, если умеет, может говорить в обществе» (Соч. и перевод. М., 1817, т. I, ч. II, изд. 2-е, стр. 38 и 39).
Макаров, друг Карамзина, понимал политическое значение спора.
Спор о высоком, низком и среднем стиле был спор о мировоззрении.
Существовал реликтный, феодальный строй, который имел свой язык, свой не по происхождению, а по присвоению. Свою философию. Рядом существовала складывающаяся уже новая жизнь с иными производственными отношениями и иным языком. Запретить эту систему было невозможно. Казалось, что она будет существовать, не расширяясь. Ей был положен предел — обыкновенные дела. Она не должна была перестраивать философию и историю реликтную, инерционную, которая не должна была определяться новыми отношениями. На этой почве создалось учение о стилях. Причем люди, дворяне, в деловых отношениях пользовались низким стилем. Высокий стиль существовал для них и для группировок, с ними связанных, как за́мок, в который можно было удалиться.
Мещанская комедия и низкий стиль — это притязания нового способа мышления, нового класса — буржуазии — определять, решать и перестраивать все человеческие отношения на новых основаниях. Так, в голландской живописи, в церковных сюжетах Иисуса, Марию и Иосифа одевали в современное голландское платье.
Нельзя говорить о «простоте», не раскрывая термина. Что это за простота? Какая простота? Для кого простота? Для карамзиниста «прост» разговорный язык их общества. Иначе думает арзамасец граф Блудов.
«Слог самый простой не есть язык обыкновенных разговоров, так же как самый простой фрак, не есть еще шлафрок» (Е. Ковалевский, «Граф Блудов и его время», СПб., 1866, стр. 242).
«Простота» Пушкина иная, чем «простота» Карамзина. Греч прямо ссылается, как на норму, на язык реформированного чиновничества.
«Простота» языка Толстого иная, иного мировоззрения простота. Они просты по разным законам. «Просто» же «простота» — это упрощение. Это идеалистическая ошибка.
Нужно говорить нам не вообще о простоте, а об определенной простоте и определенной метафоричности, принимая во внимание целевую установку стилевого средства.
Дело идет не о простоте только, — о форме. Если форма является законом построения предмета, а не внешности предмета, то эта форма проста.
III
Стиль Гоголя прост, хотя он метафоричен. Мы часто в литературе занимаемся историей удач. Займемся хотя раз историей неудач. Неудач у самых крупных людей.
Был писатель Александр Вельтман. О нем хотел писать статью Пушкин. О нем в письмах упоминает Достоевский, который читал его по ночам, не отрываясь. О нем много раз писал Белинский. Посмотрим историю рецензии Белинского на одного и того же писателя.
Вот отрывок из рецензии, напечатанный в 1834 году:
«Каким живым, легким, оригинальным талантом владеет г. Вельтман. Каждой безделке, каждой шутке умеет он придать столько занимательности, прелести. О, он истинный чародей, истинный поэт. Поэт в искусстве, поэт в науке».
В 1836 году тон не изменился:
«Кому не известен талант г. Вельтмана. Кто не странствовал с его „Странником“ по всем странам мира, древнего и нового, — словом, везде, куда только влекла его прихотливая и причудливая фантазия автора».
На книгу 1838 года в конце рецензии Белинский, говоря о романе Вельтмана «Сердце и думка», вспоминает Гоголя:
«Прочтите „Коляску“ Гоголя: там смешны герои почти того же круга, но вы не заметите в авторе желания смешить; он не описывает, а создает вам лица, не смешные, а действительные, и потому именно смешные, что слишком действительные. Впрочем и в этом романе г. Вельтмана виден его оригинальный игровой талант — только художественности, творчества желали бы мы побольше».
Вельтман не исписался. Писал он очень долго, и книги его до конца были интересны, может быть еще затейливее. Но вот что написал Белинский в 1843 году по поводу книги «Повести А. Вельтмана»:
«Г. Вельтману суждено играть довольно странную роль в русской литературе. Вот уже около пятнадцати лет, как все критики и рецензенты, единодушно признавая в нем замечательный талант, тем не менее остаются положительно недовольными каждым его произведением. По нашему мнению (которое, впрочем, принадлежит не одним нам), причина этого странного явления заключается в странности таланта г. Вельтмана».
Есть у Вельтмана повесть, которая была напечатана в июньской книжке «Библиотеки для чтения» (1835). Перепечатана она была в 1836 году в книге «Повести Александра Вельтмана» под названием «Неистовый Роланд».
Тут я должен напомнить, что «Ревизор» Гоголя вышел в 1836 году.
Повесть написана вся диалогом и производит впечатление (в некоторых своих главах) пьесы сведенными в текст ремарками. Содержание повести такое:
В одном городе ждут ревизора. А в этот город приехала труппа актеров. Она должна играть пьесу «Неистовый Роланд». Актер в костюме едет на спектакль. «На нем был синий сюртук, три звезды светились на груди». Лошади разбивают бричку с актером перед домом казначея. Актера вносят в дом. Он бредит отрывками роли. Его принимают за ревизора.
У казначея есть две дочки от первого и второго брака. Отрывки бреда принимают за признание в любви. Дочки спорят, к кому относятся признания. Спорит и мачеха. Каждая приписывает объяснение себе. Чиновники являются представляться. Они столпились в зале.
«Но вот дверь в гостиную отворилась, все вздрогнули, вытянулись…
Вышел казначей.
— Тс, — произнес он тихо. — Его высокопревосходительство не могут принимать теперь, они уснули».
Дальше актер бредит о государе: «А где государь?
— Не нам, мелким людям, а вашему превосходительству довлеет знать сие, — отвечал казначей, почтительно поклонясь.
— Как можно, чтобы государь дал тебе команду надо мной? — вскричал снова больной.
— Не смею и думать, ваше высокопревосходительство, я человек подкомандный, всеми распоряжается сам председатель…»
На сходство между вещью Вельтмана и вещью Гоголя указывали много раз, указывал, например, сам Вельтман.
Гоголь, как на источник вещи, указывает на разговор с Пушкиным. Сам сюжет очень обычный и в то время обрабатывался много раз. Между вещью Вельтмана и вещью Гоголя сходство не только в теме.
Мы будем говорить о разнице.
Может быть, это приведет нас к выяснению вопроса о неудаче Вельтмана.
У Вельтмана мотивировки искусственные, сложные, и анекдот остался анекдотом, да еще осложненным.
Вещь построена на случайности.
Актер случайно был одет в генеральский мундир, и случайно отрывки из роли показались речью ревизора.
У Гоголя Хлестаков в штатском. Хлестаков именно совершенно не похож на ревизора. Хлестаков не бредит и не обманывает — он оправдывается. Речь его — речь ревизора только для городничего.
Соперничество женщин вызвано не тем, что мачеха хочет обидеть падчерицу, а тем, что мать молодится.
Вещь, форма вещи, логична, проста. Нет случайных анекдотов. Даже когда городничий надевает на голову картонку вместо шляпы, эта ошибка показывает его растерянность и нужна для следующей ошибки, хотя это не символ.
У Гоголя изобретательность спрятана, снята, заменена правдоподобием. Формула его произведения проста, поэтому произведение не распадается, поэтому оно начисто вытеснило вещь Вельтмана, не стойкую, основанную на случайности.
Весь Вельтман, у которого форма не была законом построения произведения, весь Вельтман распался, не уцелел.
IV
Мы должны говорить о реализме формы, может быть, о том, что произведение «реалистично» тогда, когда его форма — закон его построения, когда она не орнаментальна. Метафоры Валентина Катаева в романе «Время, вперед!» не реалистичны. И от них Катаев правильно отказывается.
Закон построения этих метафор (я это сказал неотчетливо в своей статье о Катаеве) не обусловливает их форму. Роман бронирован метафорами. Элементарность, спортивность темы, элементарность состязания закрыты метафоричностью стиля.
Метафоры Тараса Бульбы просты. Они закономерны. Они едины с сюжетом вещи, с героями ее.
Сюжет «Зависти» Олеши не реалистичен. Он случаен. Произведение построено не по его закону. Поэтому конец «Зависти» распадается.
Это сюжет Вельтмана, а не сюжет Гоголя.
Онегинская строфа арифметически сложна, чрезвычайно сложна хотя бы последовательностью рифм. Но онегинская строфа при помощи хода рифм ведет последовательность мысли, порядок рифм связан сюжетом строфы одним движением. Строфа не оформляет, а строит. Пушкинская строка и пушкинская строфа состоят из мысли. Фразы, а не стопы ее составляют. Ее формы — это закон ее построения, и пушкинскую строфу можно и нужно назвать простой.
Прост в лучших вещах Маяковский. В его стихах движется не скованная интонация, она свободна потому, что создана со строкой одним дыханием — мыслью. Его голос прост. Подражатели не просты. «Эхо не есть голос, хотя и похоже на голос, ибо оно не двигнуто теми же устами». Так писал Гоголь.
О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
I. ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ
Александр Блок был высок ростом, голубоглаз, светловолос. Он говорил всегда тихим и спокойным голосом. Он читал стихи так, как будто видел их перед собой написанными, но не очень крупно. Читал внимательно, как будто не зная еще содержания следующих строчек, прочитывал, а не читал.
В первые дни войны 1914 года я встретился с Блоком на улице. Мы ходили долго, говорили о том, что идет война, что она будет жестока, долга и что она втягивает нас. Блок читал вести о войне так, как читал стихи. Он оставался поэтом, лириком, поэтом известным и любимым немногими. Те, кто любил его, не ощущали будущее так, как он.
Беседу с Блоком во время Октябрьской революции записал Маяковский. Горели костры. Блок говорил о революции и одновременно о том, что сгорел в деревне его дом с большой библиотекой.
Но поэтический голос Блока изменился в революции. Было написано стихотворение «Скифы». Написал Блок поэму «Двенадцать», самую сильную из всех вещей, когда бы то ни было им созданных.
Прежде Блок ходил по городу, заходил в трактиры, смотрел на людей, оглушающих себя водкой и пивом, смотрел на пьяниц с глазами кроликов. Его прогулки были прогулками по чужому городу. Он — отдельно, город — отдельно. Содержанием стихов был рассказ о том, что город непохож на поэта.
Перед последней поэмой Блок ходил по городу с другим настроением. Дело для него было не в сгоревшем доме.
Дело в городе, ветре, который над ним дует, дело в истории.
Блок жил и перерешал для себя большие вопросы. Он думал о том, что большинство его знакомых стали правыми эсерами, что они ждали полуреволюции и стали контрреволюционерами, как только пришла революция полная. Он думал в своей пьесе «Катилина» о том, что спор Цицерона с Катилиной надо решить в пользу Катилины, что надо пересмотреть все прошлое.
«Двенадцать» — поэма всем известная. Блок никогда не читал ее сам. Он мог ее слушать, но голоса для того, чтобы прочесть то, что сам написал, Блок не имел. Поэма «Двенадцать» оказалась очень большим грузом. Он поднял груз, донес его, но надорвался. Он кончил свою длинную литературную дорогу подъемом. Но это был конец жизни. Блок продолжал писать прозу, думал о будущем, оставался спокойным.
Я видел его еще раз. Это была одна из последних встреч. Кажется, это было первого мая, когда на миноносцах, стоящих у моста Революции, был поднят красный флаг, когда украшенная колонна на Дворцовой площади казалась переломленной. Над городом стояло большое солнце; фабрики не работали, и дым не подымался из труб. Солнце стояло в большом пустом воздухе. Трава была не топтана. Город был пуст, — люди ушли на демонстрацию.
Блок говорил о Шекспире, о «Короле Лире». Для него главным вопросом был вопрос о культурном наследии. Он работал в театре, говорил с актерами, любил поэзию Маяковского.
Тогда существовали люди, думающие, что новый человек не будет даже думать, что мысль — это несчастье прошлого. «Новый человек», — думали они, — должен был просто самотеком «вытечь» из новых условий.
История казалась им книгой лжи и штрафным журналом.
Блок в странном конце «Двенадцати» (он сам удивлялся ему) хотел по-своему выразить то, что история продолжается, что новый человек имеет все богатство ее.
II. О МАЯКОВСКОМ И О ЛЮБВИ
У Маяковского революция не пересекала жизнь. Она дала ему интонацию, широту и окраску голоса. Она пришла для него ожиданно, как восход солнца.
До революции Маяковский проталкивался в литературу. Его одаренность была видна сразу. Газеты говорили о его трагической маске, о могучем голосе, но все время не признавали поступь Маяковского. А он был груб, он наступал. Буржуазные газеты знали, знала кадетская «Речь», во имя чего наступает Маяковский. Они скоро поняли, что к нему не приложим обычный способ обуздывания талантливого человека.
Талантливый человек входил в литературу с протестом. Когда-то к Наполеону вбежала прусская королева.
— Милосердие, император, — сказала она, — милосердие.
— Садитесь, — ответил Наполеон.
В мемуарах он записал: «Я сказал ей садитесь потому, что сидящая женщина не может быть патетична».
Так обращались до революции с молодежью.
Говорили, — садитесь, вот вам место в наших журналах, вот вам благосклонная рецензия, будьте как все.
Маяковский прошел жизнь, не садясь. Он ощутил историю и во имя ее пересоздал стих.
Я, осмеянный у сегодняшнего племени, Как длинный скабрезный анекдот, Вижу идущего через гору времени, Которого не видит никто.Дальше шли стихи: «В кровавом венце революций грядет 16-й год». Он ошибся только на год.
Маяковский вошел в революцию, как человек, который ждал ее прихода.
Пушкин в конце жизни занялся исследованием русского стиха, ссылался на Тредьяковского, Радищева, Востокова, говорил, что нужно стих приблизить к народному.
Вопросы о реформе стиха подымались в России обычно людьми революционно настроенными. Так говорил об этом Пушкин, который указывал, что реформаторство Радищева в стихе связано с его неуклонной революционностью. Русский стих, которым созданы великие произведения, вырастая, все еще не мог преодолеть наложенных на него когда-то правил, из которых он вырос.
Почувствовал другой стих Блок, но решил новый русский стих Маяковский, решил просто, не думая об этом.
Революция развязала его именно потому, что у нее были свои задачи и лозунги, у нее были слова, которых нельзя было изменять, которые должны были лечь в стих.
Так Маяковский, ставший поэтом революции, пересоздал русское стихосложение. Он писал в Роста, он писал рекламы, он писал поэмы, возвращаясь к ним с опытом агитационного стиха.
Не всегда у великого поэта есть великие соседи.
Не всегда теория успевает за практикой в искусстве.
Среди лефовцев — друзей Маяковского — были люди убежденные, что поэзия в революции отживет, что поэзия умрет. Были пролеткультовцы, которые говорили, что революционному народу не нужно образности, что вообще в искусстве исчезнет вымысел, будет только документ. Были люди, которые упрекали великого поэта революции в том, что он пишет о любви.
Маяковский был поэтом и рассказывал о любви. Рассказывая об этой любви, он оставался революционером.
Эта была борьба за будущего человека, который шире, а не ýже человека вчерашнего. Борьба за будущее, борьба за мир настоящего и освоение истории — содержание послеоктябрьской литературы.
Маяковский начал работать в революции, писать для нее.
Города пустели.
Потухли печи, трубы отопления стали холодными.
В московской комнате Маяковского был ледяной мраморный камин, в углу одно окно.
Комната суживалась к окну и действительно была похожа на лодочку.
В этой лодочке плыл Маяковский через бурные годы.
Сугробы стояли в Москве окаменелыми волнами на два аршина над землей.
Валил дым, на полу «Роста» писал Маяковский плакаты, писал стихи о революции, о борьбе с разрухой.
Любовь его большая, долгая. Он представлял любовь с воскрешениями. В его стихах рассказывается о том, как он погибает, уходит из земли, возвращается снова и снова продолжает ту же любовную тему.
Я не пишу хроник. Поэтому вспоминаю о другом.
В начале лета да и сейчас еще у подъезда Художественного театра стоят очереди на «Анну Каренину».
Милиция регулирует очередь.
Раз милиционер закричал толпе: «Граждане, будьте же культурными, нельзя же всем попасть в один театр».
Почему Анна Каренина, которая любила одного, а имела сына от другого, почему Анна Каренина, муж которой не такой уж злой, но неприятный, почему умершая под колесами поезда Анна Каренина нужна сейчас народу, который весь хочет попасть в один театр?
Любовная тема вернулась в нашу литературу, стала одной из основных тем, но она вернулась совершенно по-новому.
Люди, которые стояли рядом с Маяковским, думали, что эти темы сняты.
А они возвращаются потому, что человек после революции стал еще больше человеком, расцвел, стал более требовательным. Ему нельзя сказать, что женщина, которая любит, не равна ему по состоянию. Этого вопроса нет, он снят жизнью. Но вопрос любви остался. Жадность к жизни усилилась. Сперва для поэтов только сама революция в целом была темой (так часто песни поются о самой песне), а потом революция стала не только темой искусства, а содержанием и требованием всей его жизни.
Вот этот путь через отрицание к утверждению, через войну к миру, через революцию к жизни — большой путь для поэта. У нас есть большие поэты. Был Хлебников, большой экспериментатор, много давший Маяковскому. Революция в самом Хлебникове вызвала такие вещи, как «Ночь в окопах». Преждевременная смерть не дала Хлебникову возможности вырасти вместе с революцией, перейти от исключительных вдохновенных строк, от вдохновенных обломков к большим, для всех понятным вещам.
Существует простота пошлости, простота романса и существует вторая простота, простота формулы, простота коперниковской системы, простота плана пятилеток, которую понимают все. Путь настоящей поэзии и прозы — путь к этой второй простоте. И Маяковский ее достиг.
III. О ГОРЬКОМ И О ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИИ ПИСАТЕЛЕЙ
Многие старые писатели молчали в первые годы революции. Горький продолжал старую свою линию, потому что это была линия революции.
Одна из лучших его книг — книга о Толстом. Она написана была в первые годы революции в темном доме, стоящем над круглым однобоким Кронверкским проспектом, охватывающим парк и Петропавловскую крепость.
Тихий город без дыма и без правильного городского движения лежал внизу, как арена.
Пустая Нева, сверкающий купол Исаакиевского собора и под куполом галерея с решеткой.
Оттуда можно видеть наступающего врага.
Мир смотрел на эту арену боя.
Горький писал о Толстом, Владимир Ильич Ленин ждал эту книгу и даже досылал за ней.
Революция дала Горькому окончательное понимание Льва Николаевича, дала ему площадку, с которой можно было увидеть великого писателя.
У Горького — великого революционера — было величайшее ощущение прошлого.
Революция, будущее было связано для Горького с реальной жизнью.
Веря в будущее, он и до революции был патриотом, он любил рассказывать об особенных русских людях, талантливых самородках из народа.
У Горького было ощущение, что надо не потерять культуры прошлого.
Он сам узнал культуру сразу, ему нужно было искать недостающие звенья, поэтому его никогда не оставляла мысль о сводных изданиях, о принятии, суммировании всей мировой литературы, которая понадобится вся сразу.
Он пересматривал и записывал Толстого, для того чтобы редкая судьба и редкий характер гениального человека не потерялись для страны и мира.
Горький говорил, что писателю надо не пропускать нашей современности, он знал, как трудно будет нашим потомкам примириться с тем, если наша великая эпоха останется мало или плохо изображенной.
У Горького было ощущение удачливости страны, поэтому он любил людей, переоценивал их иногда и сердился на них, если они оказывались не удачливыми, если они не побеждали жизни.
Жизнь Клима Самгина — это пересмотр, суммирующий пересмотр старого мира, это оценочная комиссия человеческих характеров, пересмотр судеб. «Жизнь Клима Самгина» недоверчивая книга. Горький знал, что от старого принять можно далеко не все, он изучал характер околокультурного человека, который все видел, был рядом с великими событиями, а сам остался пуст. Горький любил литературу, любил Маяковского и был поссорен с ним злой волей врагов.
Горький знал, как трудно писать. Старый мир должен быть пересмотрен, закрывать на него глаза, считать его несуществующим — это трусливая ложь.
Нужно научить людей чувству превосходства над старым.
Поэтому Горький любил Зощенко, который многим казался писателем, говорящим о мелком.
Недавно напечатан в «Звезде» новый рассказ Зощенко. Рассказ называется «20 лет спустя». «Двадцать лет спустя» Зощенко очень хорошо написал. Раньше он писал, как у нас говорится, сказом. У него был герой, маленький человек, живущий плохо, не понимающий того, как он живет. Читатель Зощенко испытывал превосходство над его героем. Он читал и узнавал о герое больше, чем сам герой про себя говорил. Иногда героя Зощенко отождествляли с Зощенко. Это неверно. Герой был неважный. На героя Зощенко сердился. Сам Зощенко рассказывал, что этот герой не может зажечь электричество в своей комнате, — уж очень неприглядно живет!
В то же время Зощенко писал живые и замечательные новеллы, с необыкновенным чувством языка, писал чрезвычайно доходчиво. Его новеллы хороши. Они известны всем, их рассказывают в беседах.
Я видел Зощенко на публичном вечере. Он читал свой рассказ совершенно спокойно. Аудитория смеялась все больше и больше. Рассказ транслировался в эфир. Смеялись радисты, и, наконец, не выдержал и удивился на свой рассказ сам Зощенко.
Теперь герой Зощенко вырос. Он строит, он начинает жить, он становится большим. Он тоже, как люди в проезде Художественного театра, хочет всей жизни, хочет большой любви. Электричество загорелось, жизнь оказалась большой.
Всеволод Иванов увидел жизнь большой сразу.
Он увидел ее от Иртыша до Москвы и Индии.
Всеволода Иванова — новеллиста, автора рассказов «Дите», «Долг», автора экзотических рассказов и простой повести «Бронепоезд» — очень любил Горький.
Новая литература вбирает в себя старую, но рождена новой жизнью.
Богданов, Переверзев думали, что человек рождается непосредственно из своего окружения. Богданов думал, что мысль — это проклятие человечества.
Эти люди классовую психологию подменяли классовыми инстинктами, они мыслили нашу жизнь, как муравьиную жизнь, а человека, как деталь пейзажа.
Эти люди оформляли свои мысли под разными названиями, были «пролеткультовцами», «кузнецами».
В самой основе их психологии лежит представление о том, что культура находится в простейшей зависимости от своего базиса.
Революционный выбор прошлого был непонятен им. Они не могли понять будущего, как план, будущее было для них, как карта, лежащая в колоде.
Поэтому у них не было ощущения выбора в своей истории, преодоления и использования прошлого.
Эта мысль в самой своей основе глубоко нереволюционная. Психология человека, судьбы его, его борьба казались им уже ненужными. Нe будет любви, не будет системы меняющихся жизнеотношений, — думали они.
Всеволоду Иванову писать трудно, но очень интересно, потому что у него очень реальное ощущение мира, у него есть черты горьковской жадности к конкретности жизни, он совершает сложный отбор элементов для будущего своего творчества.
Он весь в лесах, как большая стройка.
У Бабеля иначе. Бабель начал писать рано, печатался еще до революции и замолкал на десятилетия. Он нам дал одесские рассказы и книгу о конармии. Сейчас Бабель снова пишет. У него большие литературные промежутки. Много раз мы слышали его, он рассказывал о разных вещах. Если бы он записал половину того, что он рассказывает, это были бы очень большие вещи.
Нельзя сказать про Бабеля, что он пишет. Он переправляет свою старую тему, его тема частная, у него еще нет общей темы. Одна из прежних вещей Бабеля, пьеса «Закат», плохо сыгранная в театре, — очень большая вещь.
Но Бабель не может оторваться от прежних удач, он как-то не самоотвержен в искусстве, он заперт в теме.
Он может зря пропустить много лет. Настоящих лет.
IV. О ШОЛОХОВЕ
Шолохов не пропустил настоящего.
У некоторых из нас, бывших «серапионовцев», время начала революции было временем увлечения Гофманом. Оно объяснялось тем, что жизнь, новая жизнь после революции казалась нам фантастикой. Мы изображали историю гротесково потому, что прошлое казалось нам прежде всего странным. Ирония и то, что я в своей поэтике назвал остранением, искусство видеть мир непривычным и как будто от себя отодвинутым, — это не высокий путь искусства. Когда у нас появилось чувство времени, чувство непрерывности истории, чувство ответственности за нее, когда мы почувствовали, что наша история имеет своим выводом Октябрьскую революцию, — стало ясным, что история и настоящее не могут быть изображены гротесково.
Вот о большом, простом и пишет Шолохов. Поэтому он у нас любимый писатель.
«Тихий Дон» и «Поднятая целина» вещи всем известные. Эти книги каждым хорошо и сильно прочитаны; они растворены уже среди читателей. Шолохов решает не за своих читателей, а решает вместе с ними. Он отказался в своем искусстве от экзотики, хотя и пишет о казаках.
Когда-то Ленин, выходя из заседания, увидел плакат. На нем было написано «царству рабочих и крестьян не будет конца».
Он удивился тому, как мало понимают люди, сочинившие этот плакат, в революции, как не понимают они, что классовое общество умрет, что в социалистическом обществе не будет крестьянства и не будет рабочих, не будет пролетариата в том виде, в котором он был при капитализме.
Плакат провозглашал неподвижность жизни.
Мы присутствуем при глубочайших изменениях в психологии людей.
Из богдановской, пролеткультовской и переверзевской «системы» понимания людей выходило, что люди навеки приращены к своему хозяйственному бытию.
Если бы это было так, то мир не двигался бы, у людей не было бы выхода из их судьбы.
Мы, современники пятилеток, видим, как меняются люди, как изменяются, например, крестьяне.
Реальнейший крестьянин определенного села или станицы изменяется целиком, его навыки, реальные поля, которые вокруг него лежат, лошадь, которую он имеет, быки, хлеб, который он ест, все это изменяет свое отношение.
У Шолохова «Поднятая целина» — это вещь, наполненная конкретностью. Каждый казак имеет свое лицо, ничего не пропущено, не упрощено.
Вещь об изменении психологии классов некоторые плохие писатели пытались создать на пренебрежении к этой психологии, на пропуске ее.
Просто приехал трактор, повернул, срезал межу.
Столетиями писатели от Сервантеса до Бальзака и Толстого изображали неподвижность крестьянской психологии.
Шолохову удалось показать реального крестьянина-казака во всей сложности его семейных отношений, показать, не лишая его психологии, и показать это в то же время в изменении психологии, коренном пересоздании всей его системы мыслей и поведения.
Реализм Шолохова — вторая простота, большая простота настоящего социалистического искусства.
V. О ФОЛЬКЛОРЕ И НОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Рядом с нами живут братские народы; живут таджики с грандиозной стихотворной культурой, уходящей в тысячелетия, живут украинцы, грузины. На Дальнем Востоке живут народы, некоторые из них имеют еще только фольклоры, а не литературу. Старые литературы, старые романы создавались в странах, где уже миновали времена фольклора. Они опирались на воспоминания. В нашей стране фольклор не умер. Он здесь, он рядом с нами. Отношение между фольклором и новой литературой еще не решено, но в фольклоре — сила нашей литературы.
Маяковский иногда думал, что надо отказаться от имени. Он написал поэму «150 000 000» и не подписал ее. Он говорил, что сто пятьдесят миллионов — имя автора его поэмы. На самом деле: наше время, наш труд стали авторскими. У нас подписывают труд бетонщика, труд человека, который складывает кирпич, труд комбайнера.
Наша страна — страна имен и в то же время страна общего и совместного труда. Профессиональный писатель останется, но рождается и новый тип писателя.
Книга Белякова о его полете — настоящая книга с хорошими образами, с ощущением трудностей и воздуха полета.
С Северного полюса Кренкель пишет телеграммы, которые читаешь с волнением, как вещи художника.
Учитель с Чукотки пишет книгу, хорошую книгу.
Это не означает, что у нас не будет специалистов-писателей, — они, конечно, будут, — но у нас искусство всюду, даже, действительно, в траве.
Тематика этой не фольклорной и не профессиональной литературы очень широка.
Это не документальные книги, а книги-документы о непропущенной жизни.
VI. О НИКОЛАЕ ОСТРОВСКОМ
В Библии существует книга Иова.
Вероятно, это одна из самых старых частей этого древнего и разнохарактерного свода.
Иов был богат, у него было много детей. Судьба у него все отняла.
Наконец, горе коснулось кожи Иова: он заболел проказой. Иов спорит с богом, он не верит в справедливость мира.
Это очень древний спор, очень сильное начало пересмотра человечеством старой своей веры.
Иов спорит за себя.
Человечество запомнило Иова, горести его казались предельными.
Но в истории человечества нет горя больше, чем горе Николая Островского. Молодой, сильный, он был парализован. Он не мог глотать пищу, он ослеп. Этот ослепший человек писал книгу, и для того, чтобы буквы ложились в строку, он придумал прорезать в фанерке узкую щель и еле движущимися пальцами вписывал через эту щель слова своего романа на бумагу.
Судьба Островского, его мужество поразили не только нашу страну, но и весь мир.
Мы видим, как вырастает человек, конец романа показывает огромные запасы мужества у этого человека.
27 сентября 1935 года Островский написал для книги «День мира» письмо о том, как он живет.
В Сочи море, солнце, цветы, всего этого он никогда не видел. Где-то недалеко живет Сталин, он никогда его не увидит.
Островский писал спокойное письмо о солнце и пробуждении во тьме.
Он писал о своем дне, о дне человека, который ест при помощи зонда, который не видит, не двигается.
В письме рассказывалось о том, как приходит к нему архитектор. Островскому строят дачу. Архитектор рассказывает о том, как выглядит море и горы из этой дачи. Люди пишут Островскому о том, как они живут. Приходит к нему сценарист, рассказывает о сценарии картины, которую Островский никогда не увидит. Но в письме не было отчаяния, не было даже любования своим горем.
Книга Островского — большая книга с неожиданным героическим концом, который показал, как серьезно и значительно, как внутренне органично все то, о чем в ней рассказывается. Эта книга о новом человеке.
Когда он умер, то к нему пришли молодые, и шли мимо его гроба долгими сутками.
Их молодость увеличивалась, когда они на него смотрели, они чувствовали огромный запас своей силы и огромность своих обязанностей.
В почетном карауле стояли писатели, друзья.
Караул сменялся.
В почетный караул становились также и слепые, становились безногие. Они становились, свидетельствуя, что они будут бороться так, как Николай Островский.
Книга Островского — большая книга. Борьба за дрова для города и борьба с поляками, и борьба с троцкистской оппозицией, описанные в ней, проникнуты одной волей большевика.
Книга и судьба Островского говорят о человеке после Октября. Он стал более индивидуален, чем прежде, но он сильнее может опереться на свое время, у него есть ощущение счастья другого человека, своего согражданина и соплеменника. В этом — корни того оптимизма, который пронизывает трагическую жизнь и трагическую книгу Николая Островского.
VII. ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
У Алексея Толстого и у Тынянова есть одна особенность, отличающая их от старых романистов. Старый романист, когда писал об истории, переплетал ее жизнь с жизнью второстепенного героя. Изображалась история великого человека, но она была отделенной от частной жизни.
Вальтер Скотт вплел в жизнь французского короля историю шотландского стрелка тем, что их гороскопы имеют сходное положение звезд.
Мериме в «Хронике Карла IX» отказался от изображения смысла событий и переходил на изображение весело живущего дворянина с его частной жизнью.
Старый исторический роман опирался на промежутки в истории, наш новый исторический роман кажется, на первый взгляд, лобовым. Мы изображаем основные исторические события. Мы изображаем Пушкина в его основном деле, в писании стихов, пишем биографию стихотворений, а, беря тему Петра Первого, пишем биографию сражений и дел.
Может быть, это объясняется тем, что у нас содержание романа — это не борьба отдельного человека с прозой жизни во имя какой-то высшей поэзии. Для нас работающий человек не выключен из жизни. Он живет. У нас отношение к работе такое, какое было раньше только у поэта к стихам. Поэтому мы можем изображать человека не в некоторых «особенных» моментах его жизни, не во время вспышек его гения, а в большой непрерывности. Мы уважаем и прошлое за настоящее.
Наши романы, может быть, кажутся иногда неуклюжими, как первая электрическая машина. Они, может быть, неправильно рассчитаны, но они правильно угаданы. Наш писатель должен прийти в нашу жизнь, внеся самого себя. Поэтому у нас может писать хорошо тот, у кого большая жизнь, который хорошо ее знает.
Новое рассказывает новый исторический роман. Алексей Толстой — человек с большой писательской судьбой. У него большой талант, большое уменье наполнять конкретностью вещи.
В одном его рассказе говорится о том, что длинная кошка прошла по спинке дивана. Кошка ему не так уж нужна. Она прошла между делом. Но у него такое искусство видеть вещи, такое реальное осязание вещи в ее жизненной сущности, что кошка действительно становится длинной и всего длиннее тогда, когда идет по очень узкому краю мебели.
В послеоктябрьском искусстве Алексей Толстой начал с фантастических вещей, но знают его больше всего по «Петру». С этим царем не могли справиться старые романисты. Они то ужасались, то писали парадные портреты.
Алексей Толстой приблизил к нам этого человека, замечательного по своему дарованию, верящего в то, что Россия все может, как это заметил когда-то Иван Тургенев.
Тынянов, на мой взгляд, сильнее в истории и не работает в ней аналогиями.
Юрий Тынянов — литературовед, исследователь, ставший романистом. Его романы «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» переоценивают старую русскую традиционную литературу, выдвигают новых героев, заставляют иначе прочитывать книги. Эти романы написаны специалистом-исследователем, а между тем читаются школьником, потому что у школьника сейчас есть необходимость переоценки исследования и школьнику не нужно упрощать прошлого.
Сейчас Тынянов дал первый том своего романа «Пушкин».
Пушкинское ощущение полноценности передового европеизма и непрерывности русской истории — тема книги Тынянова.
Юбилей Пушкина был днем пересмотра культуры прошлого.
Трагедия Пушкина была оценена, как историческая неизбежность отрыва гения в будущее.
Один наш поэт говорил:
— Я не могу уйти в прошлое, в великий девятнадцатый век русской литературы, потому что прошлое скажет мне: — Куда ты пришел? Я само иду в то время, в котором ты живешь, я там.
Много еще в нашей литературе скрытого жара, огня для новых превращений прошлого и овладения настоящим.
ПИСЬМО С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНУ
<2 июня 1932 года>[605]
Дорогой Сергей Михайлович.
Как я узнал, наши общие знакомые в меньшей ссоре с Вами, чем их лакеи. Но мне хочется Вам сейчас писать теоретические вещи, может быть даже и несвоевременные.
Мы переживаем эпоху увлечения Художественным театром, театром чистой эмоции[606].
Спор, известный еще в Индии, спор о том, должен ли испытывать художник эмоцию, которую он вызывает[607], вероятно, имеет два ответа.
Сейчас настаивают на том, что это уравнение имеет один корень[608].
Ваш путь очень сложный, Вы шли от метода вызывания эмоции через ее телесное проявление, которое Вами передавалось, повелительными и обходными путями[609].
Сейчас вспоминаю Ваши фотографии последней ленты, мне кажется, что Вы на другой дороге[610].
Дорога очень просторная.
Вещи как будто освобождены друг от друга, кусок потерял непосредственный адрес.
Это путь классического искусства, про которое очень легко сказать, как оно создано сегодняшними условиями, и трудно сказать, почему оно их опережает[611].
От отстраненной[612] эксцентрической передачи обыкновенного Вы перешли к самому трудному, отказавшись от патетики и передавая сложное новое как никакое, передав как будто бы оценку зрителю.
Ваш вчерашний путь сегодня мне кажется узким.
Люди Вам верят, что Вы великий художник. Но как всем известно, люди любят видеть новое таким, каким они себе его представляют. У них есть стандарт на гения.
По этому стандарту работает, к сожалению, Пастернак.
Его «Охранная грамота» — защитный цвет[613].
Очевидно, Вам придется пережить сложнейший период ломки голоса, он у Вас даже установился, но о нем еще не знает зритель. Вот простит ли он Вам классицизм, а если не простит, то это значит, что ему придется подождать.
Те огорчения, которые Вам, возможно, придется испытать, они органичны, конечно, их нужно избегать, но удивляться на них не нужно.
В. Б. ШкловскийО БОЛЕЗНИ СИЛЬНЫХ — О БАРОККО. О КОНЦЕ ЕГО[614]
МОСКВА ЛЕТОМ
Трамвай уже пустой, ночной и прозрачный, проносится по краю блестящего асфальта, обстроенного тенью, — деревьями, про которые знаешь, что они зеленые.
(Человек, которому я что-то не доделал, в отзыве ответил мне, что я пишу, как немецкий экспрессионист второго сорта[615].
Сорт «Б», так сказать.
Задумчивое «Сам съешь» висит над русской литературой.)
Перепадают дожди, облака над Москвой длинные, они проходят, побывав на закате, идут, как с футбола.
Они проходят за высокими узкими, очень красивыми подъемниками для бетона.
Когда остаешься в Москве летом и заблудишься несколько раз в перестраиваемых переулках и потеряешь знакомые углы… Когда заблудишься в Москве, в которой переменилась даже почва, в которой узнаешь улицу по деревьям (их не надстраивают) — тогда появляется мысль о времени.
Она живет рядом с мыслью о «которых».
«Которые», а также «что» и после него запятая, а также точка, тут много мертвого гарта, бабашек, они не буквы, они вкладываются в набор, чтобы держать его и не вылезать.
Футуристы хотели освободить русскую речь от знаков препинания, пустить ее плыть иначе.
Ведь знаки препинания — это не законы мышления и не законы природы. Их давно нужно сломать, мертвые перегородки, дающие течь смыслу, но и подменивающие смысл.
Я знаю, что о «сих» писал Сенковский[616], и не боюсь.
ПИСЬМО СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ ЭЙЗЕНШТЕЙНУ
Друг, современник.
Хозяин десяти лет советской кинематографии. Мастер.
На Камергерском переулке, который назван проездом Художественного театра, работает сейчас Станиславский.
Год тому назад или два это имело для меня интерес исторический.
Вот он придумывает, что чичиковский Селифан, внесший чемоданы в дом Коробочки, весел потому, что он попал в тепло[617].
А Коробочка выбежала, встревоженная, она думала, что в дом ударила молния.
У Станиславского в книге концы бегут в разные стороны, какой-то альманах постановок[618], но в театре есть логика в расположении кусков.
Он знает, что кусков не существует.
Связи, которые придумывает Станиславский, часто мнимы и противоречивы — Селифан радуется тому, что он попал в тепло, в дом Коробочки ударила молния.
Одна мотивировка осенне-зимняя, другая летняя.
Но эта тяга на подчинение куска куску делает Станиславского человеком сегодняшнего дня.
Всеволод Эмильевич Мейерхольд может еще догнать трамвай, и никто лучше его не говорит на репетиции, и нет театра театральнее театра Мейерхольда.
Но рассыпается мир в руках Мейерхольда.
Режиссер заглушает слова.
Игра удваивает игру, не входя в игру[619].
Так в грузинском Театре им. Руставели играют «Разбойников»[620].
Разбойники на ветвях дуба одеты как пацаны, но когда нужно говорить, то на сцену входят другие разбойники в бархатных плащах.
Спектакль не помещается во времени, актерам некогда сказать свои монологи, и бокал искусства наполнен пеной.
Редко у Мейерхольда выплывают среди уничтоженной драмы изумительные куски потопленного в театре мира драматургии.
Старый спор, его знали еще индусы, спор, известный Дидро, об актере и об эмоции[621] — это тот же новый спор о куске и о главном.
Мне пришлось работать с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом и с молодым беллетристом Ю. Германом[622]. В<севолод> Э<мильевич> давал изумительные указания, но вся логика их была в одном куске, в одном телесном выражении, и, усиливая деталь, он не прочитывал ее.
Он величайший постановщик, но он не чтец.
До зрителя дошел осколок драматургии, разговор архитектора с бюстом Гёте.
Он как-то прорвался. Бюст, что ли, был большой.
Мейерхольду, большому человеку, мало иметь одну жизнь и одну удачу.
У Л. H. Толстого жизней было, по крайней мере, три.
У нас в кино кусок, аттракцион, трюк, кадр были то, чем мы думали и заставляли думать других. Мы показывали нарочно размонтированные картины, мы были правы по-своему, ломая перегородки, срезая их. Так достают, может быть, сахар из свеклы[623].
Вы прошли от метода вызывания эмоции через телесное проявление к интеллектуальному кино[624].
Вы только что увлекались Золя[625].
Но Золя — ведь он тоже великий перечислитель и называтель вещей. В этом натурализм барочен.
Вы работали методом эксцентрики. Шпана «Стачки»[626] еще выкрикивает что-то у Бабеля, у Павленко[627].
Ваша лестница с уродами стала сама собранием правил.
Ваше восстание в «Октябре» было героическим боем с посудой.
Вы ворвались во дворец и не справились с количеством вещей, которые там были.
Кресты, слоны, голые женщины, закрытые сверху, и рядом биде, и поцелуи на мраморе — вещи имели два адреса, два подданства, они не были едины.
Вы победили Керенского, но так развели мост Зимнего дворца, что у искусства уже не было сил взять Зимний дворец.
Художественное ударение и смысловое разошлись.
Вы великий художник. Правда, люди любят видеть новое таким, каким они сами его себе представляют.
Люди, которых вы вели за собою, давят, мешают.
Но время барокко прошло, прошло время интенсивной детали.
Наступает непрерывное искусство.
Люди, связанные с искусством детали, с ослабленным сюжетом, они по таланту, по художественному качеству сейчас все еще наиболее сильные люди в искусстве Союза.
Но уже сейчас видны признаки ослабления художественного качества.
Становясь менее нужными, они становятся менее сильными, и тут не поможет непризнание нового и указания ошибок у тех, кто сейчас, хотя и без полной удачи, стремится к цельной композиции, не суживает свою тематику и не облегчает ее условности.
<1933>[628]О КЛАССИЦИЗМЕ ВООБЩЕ И О КЛАССИКАХ В КИНО[629]
Скажем прямо, мы знаем, что многие наши друзья на Западе удивляются, видя колонны на фотографиях новых зданий в Москве и слыша о том, как у нас в кино инсценируются классики. Путь от «Броненосца „Потемкина“» к «Петербургской ночи», к «Грозе»[630], путь от татлиновского фантастического проекта «Памятника III Интернационалу»[631] к гостинице Моссовета на Охотном Ряду[632] кажется путешествием в позавчера.
Я по художественным своим убеждениям, как, вероятно, читатель знает, принадлежал и принадлежу к той группе, которую на Западе принято называть левой.
Поэтому я думаю, что мои объяснения того, что у нас происходит, должны быть интересны для читателя.
Интересно для читателя должно быть то, что у нас постановки русских классиков начались с левого театра Мейерхольда.
Мейерхольд на классическом произведении «Ревизор» Гоголя сделал одну из любопытнейших своих постановок[633].
В своей статье я, не сравнивая себя с Мейерхольдом хотя бы потому, что я его моложе, буду говорить о своем сценарии для звукового кино «Ревизор»[634].
Кстати о Мейерхольде. Упоминание о его возрасте не является укоризной, тем более что Мейерхольд и сейчас, имея автомобиль, иногда гоняется, очевидно, для собственного удовольствия, и притом с успехом, за трамваями. Поэтому старая пословица: «О, если бы молодость умела и старость могла» — к Мейерхольду не приложима.
Он умеет и может.
Другая оговорка. Гостиница Моссовета, похожая, на мой взгляд, на этажерку из плохого дома, с мятой бронзовой арматурой внизу, которая просто профессионально плохо сделана, с фризами, балюстрадой, балконами, вазами — все это вместе кажется мне во всех планах ошибкой.
Теперь будем говорить о правильном.
Наша страна была страной неграмотной. Это не новость, но не ново и то, что солнце восходит с востока, и тем не менее окна нужно строить на солнечную сторону.
Наша страна была построена на северную сторону. Ее фасад выходил на Ледовитый океан, у нее не было дорог, и была великая литература, которую она не читала.
Жена Достоевского сама разносила экземпляры книг по магазинам, Достоевский сам ездил получать деньги.
После смерти его собрания сочинений расходились в 600 экземплярах в год. Несколько поправило дело, когда эти книги были приложены к «Ниве»[635].
Раньше этого у нас не разошелся Гоголь и Лермонтов. Есть издание Пушкина, вернее, было, которое вышло при его жизни и разошлось только сейчас («Братья-разбойники»)[636]. Только сейчас Академия наук допродала описания путешествий XVIII века, изданные полтораста лет тому назад и чрезвычайно интересные по своему содержанию[637].
Перед самой революцией сборники наших лучших поэтов расходились в 1000 экземпляров.
Свои теоретические вещи я начал издавать в 1914–1916 годах в пятистах экземплярах[638]. В 1918 году я напечатал «Поэтику» уже в 40 000[639]. Сейчас у нас тиражи такие, что ограничивает их только бумага. Классиков у нас на рынке купить нельзя. У меня самого хорошая библиотека, но я не могу купить новых изданий классиков, потому что они пропадают сейчас же — я не успеваю.
Когда один журнал приложил Л. Н. Толстого к своему тиражу, это сделал «Огонек»[640], то почта не смогла справиться с заказами.
Сейчас мы ждем юбилея Пушкина[641], нашего национального поэта. Все книжники убеждены, что страна может быть насыщена только несколькими миллионами комплектов полных собраний сочинений.
У нас на заводах, я это видал сам на Шарикоподшипнике, читают историю музыки, и рабочие заказывают «Историю архитектуры». Люди в несколько лет расширяют свой горизонт до края мира.
Они узнают о музыке. Путиловский завод говорит о памятнике Чайковскому. Они узнают о Шекспире, о греках, колоннах, капителях, о всей мировой культуре.
Старый читатель узнавал об этом мало-помалу, наш читатель и зритель получил все почти сразу.
Я помню в 1918 году, а может быть, даже в 1917-м, я был с кугекмором Ларисой Рейснер, должность которой расшифровывалась так — Комиссар морских сил республики, — в Кронштадте.
Шел «Ревизор». Для меня «Ревизор» — пьеса, которая меня интересует, как она поставлена и как играют актеры. Зрители на антрактах совещались — удастся ли Хлестакову убежать или нет[642]. В переводе на восприятие иностранного зрителя это равнялось бы разговору в театральном зале о будущей судьбе Гамлета.
Наш зритель воспринимает искусство как только что созданное. Поэтому для него только исторический интерес, что колонны существуют давно и что кому-то они надоели. Наш читатель и зритель никому не передоверяет своих вкусов и заново пересматривает инвентарь искусства.
Он прочитал Пушкина, и Пушкин его заинтересовал. Он читает Гоголя и доволен. Он устраивает очереди на классиков, и в деревне спорят о героях Гончарова, которые нам надоели еще в гимназии.
Этот новый человек многочисленен и самоуверен. У каждого из них биография, которой хватило бы на население небольшого города начала столетия. Это люди чрезвычайно быстро растущие и иначе воспринимающие жизнь, чем когда-то воспринимали ее мы.
Мне пришлось читать биографии метростроевцев[643]. Оказалось, что среди бетонщиков у нас много людей, которые прошли рабфаки. Оказалось, что у большинства рабочих есть свое мнение о том, как нужно проводить тот или иной технологический процесс, и каждый из них представляет всю работу в целом.
Дом гостиницы Моссовета на Охотном ряду — плохой дом, но тенденция, которая создает обрадованность существованию тех ордеров Виньолы[644] и архитектурных деталей, которые нам надоели, — это великая взволнованность. Там, под асфальтом, идет новая линия метро. Там работает татарин Фаяс Замалдинов, который сам рассказывает, что из Красной армии он бегал, потому что не понимал, за что он дерется, а сейчас он инспектор по качеству. Там работает плотник Филатов, сезонник, который три года тому назад пришел с земляками строить и чинить по деревянному делу, а сейчас изобретатель, много раз премированный, и вот сейчас, сегодня — член райсовета.
На Западе сейчас многие и легко отрекаются от культуры. Гёте и Шиллер кажутся не очень нужными[645]. У нас ощущение, что мы счастливые наследники всей мировой культуры, и боязнь что-нибудь пропустить.
Происходит просмотр прошлого и пересмотр его.
Мы, часть нашей страны, тоже пересматриваем, что же мы сами сделали. Большая форма и разум старого искусства нас, левых художников, мало интересовали. Нам не интересно было, конечно, будет ли арестован Хлестаков, и заодно не так мы сильно интересовались и проблемой взяточничества в николаевскую эпоху. Поэтому у нас в ходу был термин, мною созданный, который звучит по-русски так: отстранение — это значит делание предмета непривычным, в этом мы видели основу искусства. Мы не ценили сюжета и считали идеалом бессвязность мюзик-холла, создавали высокое искусство из аттракционов[646]. Но так как мы были людьми своей страны и врагами прошлого, с которым у нас были свои, но очень большие счеты, так как мы отождествляли себя со своим сегодняшним днем, то у нас бывали такие удачи, как «Броненосец „Потемкин“», в котором аттракцион, подробность, действующая непосредственно на зрителя, подчинялся великому аттракциону революции.
Мы работали в кино методами новыми, и в новом искусстве работали иероглифом[647], пытались создать интеллектуальное кино.
Я считаю, что на своем участке, в свои годы мы победили. Я считаю, что среди тех классиков, которые должен усвоить пролетариат и усваивает, и усвоит, находятся Эйзенштейн и Довженко.
Но очень часто в театре мы забивали большой план, и в кино во взятии Зимнего дворца С. М. Эйзенштейн так разводил мост, так снимал посуду и статуи, что гóлоса на взятие дворца уже не хватало.
В архитектуре для нас под сложным влиянием наших супрематистов и, в частности, Малевича, и под влиянием передовой французской и голландской архитектуры и американской технической конструкции создался аскетический, противоэстетический стиль.
Мы отменили карниз, колонну, рустовку стен, орнамент. Отменяя эстетическое, мы нарушили конструкцию — углы наших домов стали мокнуть, и голос в наших зданиях, не встречая раздроби орнамента, скользил, как скользят иногда автомобили на льду.
Голос загудел, слово расплылось, искусство от простоты и аскетизма стало невнятно[648].
Наше поколение, которое еще может бегать за трамваем, должно уметь понять и свои ошибки, потому что трамваи сменяются быстроходными аэропланами и поспевать будет все труднее.
Наш широкий читатель только сейчас узнает Толстого, Шекспира, Данте. Киршона он узнал раньше Шекспира[649], Фадеева раньше Толстого[650], иногда этим объяснялся успех второстепенного писателя.
Так удивляются люди человеку, приехавшему из чужой страны.
Но стрáны великого искусства открываются, требования растут все сильнее.
Мы не любили сюжета, потому что старый сюжет для нас был изжит.
Мейерхольд и Эйзенштейн — великие художники, но в их искусстве есть элемент пародийности. Иногда они живут явлением обнажения старого приема, и, отрицая старый театр, живут отрицанием его.
Новый зритель пришел, требуя сюжета, требуя конструкции. Новый зритель пришел, счастливый богатством искусства, которое он увидел. Вот он и потребовал первый киноинсценировку.
Кроме того, он открыл у себя свободное время.
Он только что сражался, он только что научился читать. И как когда-то, в эпоху Великой французской революции, буржуа открывал у себя чувства, открывал свои чувства на время, так наш читатель открыл так называемую душу навсегда[651].
У нашего поколения есть свои герои.
Маяковскому, человеку богемы и революционеру, казалось, что революция прежде всего требует от него, чтобы он становился на горло собственной песне. Он подчинял себя великому рабству во имя человечества и строил для свободного человечества тяжелые, грузные водопроводы[652].
Он вычеркивал личное, он уходил из поэмы любви, его друг Асеев лирическое стихотворение назвал «Лирическим отступлением»[653].
Новый читатель, новый зритель пришел, требуя любви, он любит все, для него в первый раз восходит луна на небо, он переживает свой новый романтизм. Горько сказать, но ему не были нужны те жертвы, которые для него были принесены Маяковским[654].
Наша литература сегодняшнего часа иногда сентиментальная, мы увлекаемся иногда джазом[655], и в Горловке[656] увлекаются тем, что цветы, когда они цветут, — пахнут.
Я помню запах цветов в Берлине. Берлин пах, как ванильное мороженое, но пахла восточная часть Берлина, северная часть Берлина пахла пылью и копотью[657].
Цветы в Горловке пахнут не так, как цветы в Берлине, и советский сентиментализм, и вазы над домами, похожие на рюмки, и мрамор домов, несколько наивный, и широта улиц — законны. Когда в Москве ломали китайгородскую стену[658], то ломали ее днем и ночью, а там, под землею, в плывунах шел щит.
Он шел для того, чтобы проложить советское метро.
Там был пожар. Плывуны залили туннель. Потом люди спустились в еще теплую от пожара жижу, наладили щит. Щит пошел вперед, как вперед выходят манжеты из рукава.
Снова повысилось давление в щите. Щит шел первый день 4 сантиметра, второй день 10 сантиметров. Люди выходили из шахты и видели, что над ними каждый день меняется город.
Ночью горели прожекторы и к рабочим присоединились добровольцы для того, чтобы сломать стену.
Представьте себе, что рядом идут два человека, они идут по одной улице. Но один идет в кафе, а другой на вокзал, чтобы ехать вокруг света. Они идут рядом. Мы знаем, что в Лондоне идет под землею 19 щитов, а у нас сейчас только два, но пойдет 25, и едем мы вокруг света. И поэтому наши классики и наши колонны и не похожи на классиков и колонны — это классики и колонны — станции отправлений. <…>[659]
<1934–1935>[660]КОММЕНТАРИИ
Революция и фронт
Книга «Революция и фронт» написана за три месяца — с июня по август 1919 г. — по заказу издательства З. Гржебина (видимо, для замышлявшейся тогда серии «Летопись революции», в которой предполагались также мемуарные книги видных деятелей-меньшевиков, эсеров и большевиков — таких, как Ф. Дан, М. Либер, А. Луначарский, Л. Мартов, А. Потресов, Н. Суханов, В. Чернов и др.). Однако вышла только в 1921 г. и без издательской марки (снятой, по позднейшему свидетельству Шкловского, З. Гржебиным из «осторожности»).
При работе были использованы разыскания В. И. Миллера, подготовившего в сотрудничестве с одним из авторов этих строк в 1989–1990 гг. первый вариант комментариев. Большую помощь при работе над всеми вошедшими в настоящую книгу произведениями оказали А. Б. Арсеньев, В. А. Гончаров, Д. И. Зубарев, А. И. Коняшов, Я. В. Леонтьев, М. Ю. Любимова, Л. А. Мнухин, А. Е. Парнис, А. И. Серков, Л. Г. Степанова, В. Г. Сукач, И. В. Чубыкин, F. Bourgholtzer, V. Pozner, M. Schruba, которым мы выражаем искреннюю признательность.
Мы сохраняем особенности написания Шкловским топонимов, комментируя только те из них, которые впоследствии были изменены; вариативные транскрипции нами не отмечаются. Все даты до 14 февраля 1918 г. указаны по старому стилю. К сожалению, многие лица, упомянутые Шкловским, не поддаются идентификации и такие фигуры, как, к примеру, «вольноопределяющийся Белинкин» или «фельдфебель Бунчужный», остаются неоткомментированными (как, впрочем, и имена общеизвестных исторических и культурных деятелей).
Александр Галушкин, Владимир НехотинРЕВОЛЮЦИЯ (В) ЖИЗНИ
Комментарии: А. Галушкин, И. Калинин, В. Нехотин
С. 25. …мой брат, служивший штабным писарем. — Очевидно — Шкловский Николай Борисович (1891–1918).
«Семишники» — от обиходного названия двухкопеечной монеты.
С. 27. Послереволюционные листки, все эти «Гришки и его делишки»… — Скорее всего, имеется в виду «Веселая книжка про любовные делишки конокрада Гришки», изданная в 1917 г. под псевдонимом «Херсонский»; с подобными сочинениями выступали тогда и известные литераторы (Л. Никулин, Ф. Шкулев, Р. Менделевич).
…Ваньки Ключника. — Герой народной песни (обработка текста В. Крестовского, 1861), соблазнивший свою госпожу-княгиню и за это убитый.
…погибли в Пруссии, под Львовом и при знаменитом «великом» отступлении… — Отступление русской армии в 1915 г., когда она вынуждена была оставить часть Австро-Венгрии, занятую в 1914 г., а также Польшу, Литву, Курляндию и часть Белоруссии, входившие в состав России. Львов был сдан 22 июня 1915 г.
С. 28. …колпинцы… — Рабочие Ижорского завода под Петербургом.
…«Доставить в Михайловский манеж». — В Михайловском манеже и в близлежащих зданиях располагался гараж броневого дивизиона.
…казак убил пристава… — Пристав Крылов был действительно зарублен казаком; по одним данным — казаком М. Филатовым, по другим — подхорунжим Филипповым.
С. 29. …каиновой репутации. — За 12 лет до Февральской революции, в декабре 1905 г., лейб-гвардии Семеновский полк участвовал (с особой жестокостью) в подавлении вооруженных волнений в Москве.
…волынцы… — Учебная команда (которая готовила солдат к отправке на фронт) лейб-гвардии Волынского полка, вышедшая из казарм в 7 часов утра 27 февраля. Ее участию в Февральской революции посвящено немало произведений, см., например, в стихотворении М. Кузмина «Волынский полк» (1917) и романе А. Солженицына «Март Семнадцатого» (1986–1987, из цикла «Красное колесо»).
…в своеобразной оппозиции «Вечернего времени». — Газета правой ориентации (редактор А. А. Суворин; 1911–1917), периодически критиковавшая царскую администрацию, но отнюдь не призывавшая к свержению монархии; такова была в февральские дни и позиция значительной части столичного офицерства.
…в конце 1918 года я подымал в Киеве панцирный дивизион против гетмана… — Эта деятельность, о которой Шкловский подробнее пишет во второй части «Сентиментального путешествия», отражена в романе М. Булгакова «Белая гвардия» (1925–1927); Шкловский послужил прототипом одного из героев романа — Шполянского.
С. 30. …к одному знакомому литератору. — Речь идет о Брике Осипе Максимовиче (1888–1945) — литературоведе и критике, члене ОПОЯЗа. В ряды РКП(б) Брик вступил не позднее начала 1918 г.
…встретил знакомого доцента… — Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938) — языковед, член ОПОЯЗа.
…стоял близко к академистам… — Члены монархического студенческого «Союза академистов», выступавшего против революционного движения студенчества под лозунгом «Школа — для науки». После Октябрьского переворота Е. Поливанов вступил в РКП(б).
Близость Волынских казарм к Таврическому дворцу… — В Таврическом дворце размещался Временный комитет Государственной думы.
С. 31. Линде Федор Федорович (1881–1917) — специалист по математической логике, меньшевик-интернационалист; комиссар Особой армии Юго-Западного фронта. Был убит в ночь на 24 августа 1917 г. солдатами взбунтовавшегося 444-го полка. Герой стихотворения О. Мандельштама «Когда октябрьский нам готовил временщик…» (1917) и прототип комиссара Гинце в «Докторе Живаго» (1955) Б. Пастернака.
…знаменитой ноты Милюкова. — Нота тогдашнего министра иностранных дел П. Милюкова, разъяснявшая позицию Временного правительства по вопросу о войне, была отправлена правительствам стран Антанты 18 апреля. Милюков подчеркивал, что нет оснований думать «об ослаблении роли России в общей союзной борьбе», и заверял о «всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы». Это заявление вызвало массовое недовольство. 20 апреля в Петрограде прошли демонстрации рабочих и солдат, положившие начало апрельскому кризису и приведшие к отставке Милюкова. Первым на демонстрацию вышел Запасной батальон лейб-гвардии Финляндского полка, руководимый Ф. Линде.
Суханов (Гиммер) Николай Николаевич (1882–1940) — экономист и публицист; в то время — меньшевик, активный участник Февральской революции.
«Летопись» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал, основанный М. Горьким; выходил в Петрограде в 1915–1917 гг.
…я читал в редакции доклад по поэтике… — Доклад, скорее всего, был прочитан в 1916 г. в кружке молодых писателей, организовавших вокруг «Летописи» литературное общество, в кружок входили также Л. Рейснер, О. Брик, В. Маяковский, В. Полонский, М. Левидов.
С. 32. …у капитана Соколихина… — Очевидно, Соколихин Николай Николаевич (1887–?), штабс-капитан.
… анархистах-коммунистах. — Точнее, анархо-коммунисты — сторонники одного из направлений в русском анархизме, идеология которого была разработана еще П. Кропоткиным. После 1917 г. анархо-коммунисты заняли ведущее положение в российском анархизме и даже сотрудничали с большевиками (до разгрома их объединений в Москве в апреле 1918 г.).
Самокатчики в Лесном держались довольно долго. — К утру 28 февраля только соединения мотоциклистов оказывали сопротивление восстанию.
Богданов Федор — рядовой команды Михайловского гаража.
С. 33. …на Марсовом поле… — Мемориал, где были торжественно захоронены 180 человек, погибших во время Февральской революции.
С. 34. …метались музы и эринии… — В древнегреческой мифологии Музы — покровительницы наук, поэзии и искусства, Эринии — богини мщения.
С. 35. …солдаты пулеметных полков и школ Стрельни и Ораниенбаума. — Части, дислоцированные в Стрельне и Ораниенбауме, вступили в столицу утром 28 февраля.
Временное правительство уже существовало. — Временное правительство было образовано позже, в ночь с 1 на 2 марта, однако к тому времени уже действовал Временный комитет Государственной думы, который в те дни иногда называли правительством.
С. 36. …приказа № 1… — Приказ Петроградского Совета узаконил стихийно возникшие солдатские комитеты и установил подчинение воинских частей во всех политических выступлениях Совету и своим комитетам. Приказ наделял солдат гражданскими правами, ставил их вне службы в равное положение с офицерами, воспрещал грубое обращение с солдатами и взамен титулования («ваше благородие», «ваше высокородие» и т. п.) вводил обращение по званию («господин прапорщик», «господин полковник» и т. п.).
…Родзянко был популярен в частях. — Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — крупный помещик, лидер партии октябристов (в качестве которого возглавлял некоторое время Государственную думу). В 1917 г. — глава Временного комитета Государственной думы, который в глазах солдатской массы был одним из органов революционной власти.
Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) — российский и грузинский политический деятель, один из лидеров меньшевиков; в то время — член Временного комитета Государственной думы и председатель Петроградского Совета.
…воззвания к народам всего мира. — 8 ноября 1917 г. большевистское правительство направило послам Великобритании, Франции, США и др. ноту с предложением о заключении перемирия на всех фронтах и начале переговоров о мире; спустя неделю, не получив никакого ответа, большевики объявили о начале переговоров с Германией.
…приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами… — От имени Моонзундского архипелага — группы островов в Балтийском море. Позднее, в сентябре-октябре 1917 г., германский флот, захватив острова, предпринял неудачную попытку прорваться к Петрограду.
С. 36–37. …комитетов в частях еще не было… — Шкловский не точен: солдатские комитеты стали возникать вскоре после Февральской революции и постепенно сложились в достаточно стройную систему — от ротных, батарейных и т. п. до армейских и фронтовых. Командование считало главной задачей комитетов повышение боеспособности армии; солдаты же видели в комитетах защитников своих интересов перед командованием. На заседаниях комитетов обсуждались основные проблемы политической жизни страны; на практике низовые комитеты занимались бытовыми нуждами солдат (их питанием, обмундированием, отпусками и т. п.) и культурно-просветительной деятельностью.
С. 38. Я увидел… Керенского на его генеральной истерике; когда он после статьи в «Известиях», направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать — «доверяют ли ему». — В «Известиях» Петроградского Совета было напечатано несколько статей с критикой отношения А. Керенского к лицам царской фамилии, а 25 марта появилась информация об освобождении им из-под ареста генерала Н. Иванова. На следующий день Керенский выступил на заседании Солдатской секции Совета и, объяснив свою позицию, произнес страстную речь о русской революции. Его выступление было встречено аплодисментами, и он был на стуле вынесен из зала; секция подтвердила доверие Керенскому.
Приехал Ленин. — 3 апреля, после десятилетней эмиграции, Ленин вернулся в Россию; Шкловский оказался в числе встречавших его на Финляндском вокзале.
…во дворец Кшесинской… — В особняке балерины М. Кшесинской (ул. Б. Дворянская, 2–4) после Февральской революции разместились ЦК и ПК РСДРП(б), экспедиция газеты «Правда» и др. организации большевиков, сделавших дворец центром своей деятельности.
Филоненко Максимилиан Максимилианович (1885–1960) — с июля 1917 г. комиссар Временного правительства при Ставке Верховного главнокомандующего. Впоследствии эмигрировал во Францию, где стал адвокатом (в частности, в 1937–1938 гг. выступал на процессе Н. Плевицкой по делу о похищении генерала Миллера); профессор Свободного университета в Брюсселе.
С. 39. …после 3-го — 5-го… — Имеются в виду изменения в настроении части солдат Петроградского гарнизона после событий 3–5 июля в Петрограде, когда большевики, используя недовольство неудачами на фронте, пытались организовать государственный переворот. Эта попытка закончилась провалом, и многим большевистским лидерам (в том числе и Ленину) пришлось опять уйти в подполье.
С. 40. …после апрельского выступления Финляндского полка… — Солдаты этого полка были инициаторами Апрельской демонстрации (20–21 апреля), требовавшей немедленного заключения мира и передачи власти Советам.
С. 41. …почтенную академию имени Фабия Кунктатора… — Намек на тактику постепенного истощения противника, применявшуюся римским полководцем Фабием Максимом Кунктатором (275–203 до н. э.) во Второй Пунической войне.
…бывший в п. с. — р. … — Аббревиатура от «партии социалистов-революционеров» (эсеров), ниже не раскрывается.
С. 42. …мира «без аннексий и контрибуций»… — Этот лозунг широко использовался большевиками.
…перед июньскими полками… — Части, участвовавшие в июньском наступлении русской армии 1917 г., о котором Шкловский пишет ниже.
С. 43. Малый Совет солдатской секции, борясь своей весьма благонравной газетой с приехавшим Лениным, поместил в ней свою резолюцию, что он считает ленинскую пропаганду столь же вредной, как всякую контрреволюционную пропаганду. — Неточность: своей газеты солдатская секция тогда еще не имела, упомянутая же резолюция принадлежала Исполнительной комиссии солдатской секции Петросовета и была опубликована 16 апреля одновременно в нескольких газетах. Ленин ответил статьей «Наши взгляды» в «Правде».
Ленин приехал объясняться в Совет. — Упоминаемое заседание солдатской секции состоялось 17 апреля.
Завадье Владимир Захарович — член Исполкома Петроградского Совета, один из лидеров эсеровской фракции.
Либер (Гольдман) Михаил Исаакович (1880–1937) — один из лидеров Бунда и меньшевиков, в 1917 г. член Исполкома Петросовета.
В Киеве… Совета рабочих депутатов среди живых не значилось… — Неточность: по крайней мере формально, Киевский Совет рабочих депутатов был образован 3 марта 1917 г.
…завода Гретера… — Точнее: завод Гретера, Криванека и К°.
С. 44. …вагон-микст… — Вагон смешанного класса (например, такой, где одни купе — мягкие, а другие — жесткие).
Моисеенко Борис Николаевич (?–1918) — старый эсер, организатор убийства великого князя Сергея Александровича в 1905 г., после Октябрьского переворота — один из инициаторов создания Военной комиссии ЦК эсеров.
Савинков в армии распоряжался как власть имеющий. — Б. Савинков в то время был комиссаром Юго-Западного фронта, позднее — комиссаром Временного правительства при Ставке главковерха.
С. 45. …бундисты… — От названия «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России» (Bund на идиш — союз), социал-демократической организации, близкой к меньшевизму.
…меньшевики… плехановского толка. — Часть меньшевиков-оборонцев во главе с Г. Плехановым, выступавшая за «войну до победного конца».
…«зверь из бездны»… — Образ из Апокалипсиса (11:7).
…штирнеровцами. — Т. е. руководствовавшимися сугубо личными, эгоистическими мотивами (от имени немецкого философа М. Штирнера, автора книги «Единственный и его собственность», 1845).
С. 46. Я знал эту дорогу. — В конце 1914 — начале 1915 г. Шкловский перегонял броневики из Петрограда на Юго-Западный фронт.
…к утру были у Черновиц… город… сильно польский… — Черновцы, долгое время находившиеся в составе Австро-Венгерской империи, были в 1916 г. заняты русскими войсками в ходе так называемого Брусиловского прорыва.
Политическая группировка была домашняя и упрощенная… кадеты-циммервальдовцы… — На фронте представления о позициях политических партий были туманными: так, кадеты выступали за войну «до победного конца», а социалисты, участвовавшие в Циммервальдовских конференциях 1915–1916 гг., — за скорейшее ее прекращение.
С. 47. …в ротах по сорок штыков… — По штатам военного времени, в роте пехотного полка должно было насчитываться 200–215 человек.
…«Дикой дивизии»… — Так называли Кавказскую туземную конную дивизию, составленную из горцев-мусульман; в мирное время они освобождались от военной службы.
С. 48. …о Станиславове. — Точнее: Станислав (Станислау); ныне — Ивано-Франковск.
С. 49. …первого «батальона смерти»… — Это движение возникло в дни июньского наступления 1917 г. Отдельные части объявляли себя «батальонами смерти», провозглашавшими «борьбу до последнего за честь, свободу и землю великой Родины»; военнослужащие этих частей имели право носить отличительные знаки (в частности, изображение черепа на фуражках вместо кокарды).
Кстати, вспоминаю о женских батальонах; несомненно, что это было высиженное в тылу и сознательно придуманное оскорбление для фронта. — Шкловский не точен: эти воинские части начали формироваться стихийно с мая 1917 г., и только 29 июня положение о них было утверждено Военным министерством.
С. 50. …«юзы» и «морзе»… — Модели телеграфных аппаратов.
Черемисов Владимир Андреевич (1871 — после 1937) — генерал-майор, с августа 1917 г. — командующий 8-й армией (до этого — 12-м армейским корпусом), затем главнокомандующий Северным фронтом; впоследствии эмигрировал, жил в Дании и во Франции.
С. 51. …61-я дивизия, кажется… — 467-й Кинбургский полк входил в состав 117-й пехотной дивизии.
С. 52. …Александропольский полк… занимал позиции довольно необыкновенные. — Речь идет о 161-м Александропольском полке 41-й пехотной дивизии, который, по характеристике Л. Корнилова, был «настроен неопределенно и неустойчиво».
С. 53. …некий капитан Чинаров… неоднократно ездил в австрийский штаб… — Позднее, 17 июня 1917 г., штабс-капитан Чинаров был арестован Л. Корниловым за контакты с войсками противника.
…немецкое руководство к братанию… — Инициатива братания, охватившего фронт в апреле-мае, исходила от русских солдат, стремившихся «революционизировать» войска противника и надеявшихся таким образом найти путь к миру. Австро-германское же командование увидело в братании возможность вывести русскую армию из войны, чему и должны были способствовать упоминаемые Шкловским «руководства».
…неким прапорщиком К., который потом оказался казанским провокатором. — Речь идет о прапорщике М. А. Капралове (?–1918), арестованном Л. Корниловым вместе с Чинаровым; сведения о его провокаторстве не установлены. После провала корниловского мятежа Чинаров и Капралов были освобождены.
Стогов Николай Николаевич (1873–1959) — генерал-лейтенант, в то время командир 16-го армейского корпуса, позднее — начальник штаба Юго-Западного фронта; впоследствии эмигрировал, жил во Франции.
С. 54. …полк… был расформирован. — 161-й полк не был расформирован, хотя из его состава были «изъяты» наиболее активные солдаты и офицеры-большевики.
С. 55. …проспиртован духом Совета насквозь… — В то время большинство Петроградского Совета поддерживало меньшевиков и эсеров, выступавших за наступление на фронте.
Потом поехали, кажется, к уржумцам. — 465-й Уржумский полк.
С. 57. …кажется, Якутского 41-го полка. — Речь идет о 42-м Якутском полке 11-й пехотной дивизии.
С. 59. …доктора Шура… — Неустановленное лицо. Возможно, речь идет о Шуре Григории Израилевиче (1880–?) либо о Шуре Федоре Мовшевиче (1862–?).
С. 60. …жилище Пер Гюнта. — Герой одноименной пьесы Г. Ибсена (1867), ведший отшельническую жизнь в лесу.
…лез в «Муравьевы»… — Имеются в виду авантюристические наклонности Муравьева Михаила Артемьевича (1880–1918), в 1917 г. — эсера, затем — левого эсера и военачальника Красной армии, после левоэсеровского мятежа в июле 1918 г. поднявшего антибольшевистское восстание в Симбирске.
С. 61. …стадом безумных свиней… — Евангельский образ (Мф. 8: 30–32).
С. 63. …пишу в Троицын день 1919 года. — В 1919 г. Троицын день приходился на 8 июня. Под Петроградом в это время шли тяжелые бои с войсками Н. Юденича.
Лaxma — северо-западный пригород Петрограда.
С. 63–64. …не то финны, не то какие-то анонимные бельгийцы… — Добровольческие финляндские части участвовали в наступлении Н. Юденича на Петроград в апреле 1919 г. Об участии бельгийских соединений в наступлении нам не известно; возможно, Шкловский имеет в виду добровольческий Шведский белый легион.
С. 65. …Лембич из «Русского слова». — Лембич Мечислав Станиславович (1890–1932) — журналист и издательский деятель, один из самых популярных военных корреспондентов времен Первой мировой войны. «Русское слово» (1895–1918) — ежедневная либеральная газета, издававшаяся в Москве И. Сытиным.
Галич был только что занят… — 27 июня, частями 8-й армии.
…кажется, Заамурской дивизии — зеленые канты… — У солдат 1-й Заамурской пограничной дивизии полевые погоны были обрамлены зелеными кантами.
…Даниила Галицкого. — Князь галицко-волынский Даниил Романович (1201–1264).
С. 66. …пустота торричеллиева… — Безвоздушное пространство, втягивающее в себя жидкость (от имени его первооткрывателя итальянского физика и математика Э. Торричелли).
С. 68. …на полупонятной мне галицийской мове… — Западный (галицийский) диалект украинского языка.
Все же ведь танки раздавили трон Вильгельма. — Танки применяли войска Антанты в ходе наступления на Германию летом 1918 г.; после понесенных поражений в Германии произошла так называемая Ноябрьская революция, в результате которой была установлена парламентская республика (подавлена в январе 1919 г.). Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) — германский император и прусский король в 1888–1918 гг., свергнутый в результате революции.
С. 70. …хозяин-русин… — Русины — славянское население Закарпатья; до революции — австрийские подданные.
С. 75. …«новожизненцы»… — Сотрудники либо сторонники газеты «Новая жизнь», издававшейся в 1917–1918 гг. в Петрограде и Москве и в 1917 г. стоявшей на интернационалистических, левоменьшевистских позициях; преследовалась и Временным правительством, и советской властью.
Корнилов привез Георгиевский крест… — Сохранился приказ по 8-й армии от 5 авг. 1917 г.: «Помощник комиссара Временного правительства… младший унтер-офицер Западного броневого автомобильного дивизиона — Виктор Борисович Шкловский… награжден Георгиевским крестом 4 степени…» Награду вручал генерал Л. Корнилов.
…о тарнопольском разгроме… — 6 июля германские войска перешли в контрнаступление, и к исходу дня фронт был прорван. 12 июля русские войска сдали Тарнополь, поставив под угрозу располагавшиеся южнее другие русские армии, тоже начавшие отступать.
…3-го и 5-го выступили и растерянно замялись большевики. — Имеются в виду события 3–5 июля в Петрограде, см. примеч. к с. 39.
…в районе Тарнополя недели две тому назад ушло самовольно два полка, потом еще один, потом еще один не пошел куда нужно, и подмытый фронт рухнул. — В поражении под Тарнополем командование обвинило революционизированных солдат. Ставка докладывала Временному правительству: «Развращенные большевистской пропагандой, охваченные шкурным интересом, части явили невиданную картину предательства и измены Родине. 607-й Млыновский полк (6-й гренадерской дивизии) был первым полком, позорно бежавшим с позиции, обнажив важный участок и дав противнику сделать прорыв, который в настоящее время достиг 120 верст в ширину». Об этом же телеграфировал в Петроград и Б. Савинков: «Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. Были случаи, когда отданное приказание… обсуждалось часами на митингах…» Однако некоторые их этих обвинений (в частности, в адрес Млыновского полка и всей 6-й гренадерской дивизии) были впоследствии после длительного разбирательства опровергнуты.
С. 77. …Кауфмановский лазарет. — Лазарет Общины сестер милосердия имени генерал-адъютанта М. фон Кауфмана.
Халил Бек — речь идет о Халилове Микаэле (Магомете) Магометовиче (1869–?), дагестанце, служившем в национальных горских кавалерийских частях, с 1913 г. — полковнике.
…Черновицы эвакуируют. — Город был оставлен русскими войсками в ночь на 21 июля.
С. 78. Я не люблю книги Барбюса «Огонь»… — Роман французского писателя А. Барбюса (1916), посвященный Первой мировой войне, издан на русском языке в 1919 г. с предисловием М. Горького; в том же году вышло еще четыре его издания.
…Ватерлоо у Стендаля… — В романе «Пармская обитель» (1839).
…Рогатинский полк, имевший около 400 штыков… — С января 1917 г. штаты русского пехотного полка должны были составлять около 3,5 тыс. человек.
С. 79. …голос так называемых интернационалистов. — Подразумеваются все противники продолжения войны.
…пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожив аппарат командования и его суррогат — комитеты. — Эти обвинения Шкловского, адресованные первому советскому главковерху Николаю Васильевичу Крыленко (1885–1938), не вполне справедливы. После Октябрьского переворота вся власть в частях перешла к комитетам, ставшим «аппаратом командования». Именно стремление сохранить комитетскую систему создания Красной армии послужило одной из причин разногласий Крыленко с Лениным весной 1918 г., приведших к его уходу из военного ведомства.
С. 80. Пошел в Таврический дворец… хотел сказать, что армия гибнет… — Шкловский неоднократно принимал участие в заседаниях Петроградского Совета, но это его выступление не опубликовано.
С. 81. В это время и творились всякие государственные совещания… — Речь идет о Государственном совещании, проходившем в Москве 12–15 августа 1917 г. Целью совещания было сплочение всех сил, поддерживавших Временное правительство. Правые круги связывали с Государственным совещанием надежды на установление военной диктатуры во главе с генералом Л. Корниловым, который, выступая на совещании, требовал введения смертной казни в тылу, ограничения прав солдатских организаций и т. п.
…три сотни своих текинцев… — Текинский конный дивизион, набранный из туркмен-добровольцев, составлял конвой Л. Корнилова.
С. 82. …в Могилев-Подольский, обратно в свою армию. — В Могилеве-Подольском находилось управление 8-й армии.
…все комиссары были собраны в Могилев… — В Могилеве размещалась Ставка Верховного главнокомандующего.
Я приехал в Могилев. — Здесь речь идет о Могилеве-Подольском.
С. 83. …приказы по армии временно должны быть подписанными мною и комитетом. — Соответствующий документ на деле был не «приказом», а постановлением армейского комитета 8-й армии от 29 августа 1917 г., принятым «ввиду особых исключительных условий момента, связанных с контрреволюционным выступлением генерала Корнилова, и во избежание попыток в армии провокации или явных выступлений на сторону изменника Родины Корнилова».
Приказ вышел аховым, хуже «номера первого». — См. примеч. к с. 35.
Каледин Алексей Максимович (1861–1918) — генерал, с мая 1916 г. командовал 8-й армией Юго-Западного фронта.
С. 85. «Окопная правда» — орган большевиков 12-й армии Северного фронта; газета выходила в 1917–1918 гг.
С. 86. …оказавшемся «пистолетом». — Возможно, эвфемизм вместо матерного «п…здуном» (болтуном, бахвалом).
С. 88. …Щербачев — командующий фронтом… — Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857–1932) — генерал-лейтенант: впоследствии эмигрировал, жил во Франции. Штаб Румынского фронта номинально возглавлялся румынским королем, а фактически Щербачевым, именовавшимся «помощником главнокомандующего Румынским фронтом».
…орден Михаила 1-й степени… — Румынской награды с таким названием не существовало; вероятно, речь идет об ордене Карла I.
Вьенцегольский… — Точнее: Ведзягольский Кароль (1885 — после 1965), эсер, в то время комиссар от Временного правительства 8-й армии, немногим позднее ставший соратником Б. Савинкова; впоследствии жил в Бразилии.
С. 89. …выбрали представителей на Демократическое заседание. — Созывалось в Петрограде 14–22 сентября с целью ослабления общенационального кризиса и укрепления Временного правительства.
С. 90. Представитель латгальского народа… — Латгальцы — этническая группа латышей; скорее всего, это ошибка и речь идет о других народностях, действительно живших в Петербургской губернии вепсах либо ингерманландцах.
…знаменитое собрание о коалиции. — Главным на Демократическом совещании был вопрос о принципах формирования Временного правительства: будет ли оно состоять только из членов партий, представленных в Советах, или же вновь станет коалиционным, с участием и буржуазных партий. Эсеро-меньшевистская резолюция, допускавшая коалицию с буржуазией, была отклонена.
Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — один из основателей партии эсеров и ее теоретик; в то время входил в состав эсеро-меньшевистского ВЦИКа.
С. 91. Верховский Александр Иванович (1886–1938) — эсер, в то время военный министр Временного правительства.
Таск (Таско) Ефрем Яковлевич — меньшевик-оборонец, военный комиссар 7-го Кавказского армейского корпуса.
С. 92. …среди грузинских футуристов. — Речь идет либо о символистской группировке «Голубые роги» (Т. Табидзе, П. Яшвили и др.), либо о будущих членах русско-грузинского футуристического объединения «41°», оформившегося только в начале 1918 г. (А. Крученых, И. и К. Зданевичи, И. Терентьев и др.). В книге «Жили-были» Шкловский вспоминал только встречу в Тифлисе на обратном пути из Персии с Т. Табидзе и П. Яшвили.
Александрополь — в советский период Ленинакан.
С. 93. …в пункте Земского союза… — Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам был одной из основных общественных организаций, созданных в 1914 г. для содействия армии и правительству. Помимо оборудования госпиталей, санитарных поездов и т. п., Земский союз организовывал в прифронтовой полосе «питательные пункты» (столовые).
…так звали персидскую армию. — В состав русских войск в Персии входил не только 7-й Отдельный Кавказский армейский корпус, но и 1-й Кавказский кавалерийский корпус.
С. 94. …пустынное при халдеях… — Халдеи — семитические племена, жившие в первой половине I тыс. до н. э. в Месопотамии.
С. 95. …турки только с невероятными усилиями могли проникнуть к нам, как они и сделали в 1914 году. — В декабре 1914 г. Турция, выступавшая на стороне Германии, предприняла попытку окружить и уничтожить главные силы русской Кавказской армии, расположенные у Сарыкамыша Карсской обл. (бывшей в то время в составе России). Во время этого наступления турки понесли огромные потери (было много замерзших и обмороженных).
…в Персии, занятой русскими войсками уже 10 лет. — Русские войска были введены в Северную Персию в 1909 г., в период Персидской революции, однако и до этого в составе шахских войск существовала Персидская казачья бригада, в которой служили и русские офицеры.
С. 96. …перепутаны с Англией всякими договорами… — В 1907 г. было заключено секретное англо-российское соглашение, одним из пунктов которого был раздел влияния в Персии.
С. 97. …погонщик кричит: «Хабарда!»… — «Берегись!» (перс.).
С. 98. Азербайджан и часть Курдистана… татары… айсоры-несториане… — Имеются в виду Иранский (Южный) Азербайджан (русский Азербайджан официально именовался Бакинской губернией, а его коренное население — не азербайджанцами, а кавказскими татарами) и Курдистан — область на стыке Ирана, Ирака и Турции, в которой проживают курды. Ассирийцы (или айсоры) — народ арамейского происхождения. Исповедуют несторианство — христианское учение, основанное в Византии Несторием, константинопольским патриархом в 428–431 гг., утверждавшим, что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии воспринял божественную природу. Несторианство осуждено как ересь на Эфесском соборе в 431 г.
…краевого Совета. — Краевой Совет Кавказской армии («арком») — высший орган солдатских организаций Кавказского фронта (по сути, фронтовой комитет), в который входили русские войска в Персии.
…дело шло к Учредительному собранию. — Выборы во Всероссийское Учредительное собрание намечались на 12 ноября, но прошли в этот день только в половине избирательных округов. В остальных округах выборы проходили в декабре 1917-го и даже в начале января 1918 г.
…солдата-толстовца, который внезапно оказался дельным человеком. — Приверженцы учения Л. Толстого проповедовали «всеобщую любовь» и «непротивление злу насилием»; отказывались от несения военной службы.
…театр каторжников в «Мертвом доме». — Имеются в виду «Записки из Мертвого дома» (1861–1862) Достоевского.
С. 99. Персидскую революцию производили купцы и армяне. — Речь идет о персидской революции 1905–1911 гг., одной из движущих сил которой являлась молодая национальная буржуазия. В ходе революции была провозглашена конституция и созван парламент (меджлис). Революция была подавлена совместными усилиями Великобритании, царской России и персидских властей.
С. 100. Синко (Симко) Исмаил-ага (?–1918) — курдский хан и военачальник.
Великий князь Николай Николаевич в ту эпоху, когда строил себе дворец на Ленкоранской долине и замышлял создать в Армении казачество… — Великий князь Николай Николаевич (1856–1929) после снятия с поста главнокомандующего российскими войсками во время Первой мировой войны был назначен наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказской армией; в своей политике поощрял создание местных добровольческих дружин самообороны.
…принимал участие в резне христиан… — В 1915 г. курды участвовали в геноциде армянского народа.
«Дашнакцутюн» (буквально — «Союз») — крупнейшая армянская политическая партия (с 1890 г. по сей день); по идеологии была близка к русским эсерам.
…говорили на арамейском языке. — Арамейский был разговорным языком Палестины во времена Христа.
…горными аширетными ассирийцами… — Т. е. представляющими то или иное ассирийское племя («аширет»). Ниже Шкловский употребляет понятия «аширетный» и «горный» айсор как синонимы.
…в Ванском вилайете… — Вилайет — административно-территориальная единица Турции. Ванский вилайет, расположенный вокруг озера Ван, исторически был населен в основном армянами.
…родственные им яковиты… — Сирийское ответвление монофизитства — христианского учения, возникшего в Византии в V в. и в 451 г. осужденного Халкидонским собором. Монофизиты трактовали соединение двух природ во Христе как поглощение человеческого начала божественным. Свое имя яковиты получили от имени основателя учения Иакова Цанцала (Эль-Барадея).
С. 101. …патриарху Востока и Индии, Мар-Шимуну… Предание выводит род патриархов от Симона, брата Господня. — «Мар-Шимун» и означает «Святой Симон», тем самым каждый из этих патриархов носит одинаковое имя — то же, что и основатель этой иерархии — двоюродный брат Христа Симон (Мф. 13: 55; Мр. 6: 3).
Шрифт, изобретенный ими, лег в основу монгольского алфавита, а кажется, и корейского. — Монгольская письменность была создана на основе уйгурского алфавита, а монгольский и уйгурский алфавит послужили источниками корейского фонетического алфавита «чоным». Уйгурская же письменность возникла на основе согдийской — мертвого языка северо-восточной группы иранских языков, восходящего к арамейскому (западносемитскому) прототипу. К западносемитским относилось и сирийское письмо, одна из разновидностей которого в свою очередь была разработана несторианами. Несторианская письменность через христианских миссионеров распространилась до Средней Азии и Китая; около 1840 г. на основе несторианской разновидности сирийского письма была создана письменность, которая применяется ассирийцами Ирака и Ирана.
Может быть, они и были народом Иоанна Индийского… — На Первом вселенском соборе, прошедшем в 325 г. в Никее, присутствовал «Иоанн Перс, епископ всей Персиды и великой Индии»; позднее появились предания о затерянном где-то на Востоке царстве Пресвитера Иоанна (этой легенде посвящена книга Л. Гумилева «Поиски вымышленного царства», 1970).
Шед Вильям Амброуз (1865–1918) — богослов (работал в Принстонской теологической семинарии) и миссионер; в то время исполнял обязанности консула США в Урмии.
…сели в бест… — Т. е. воспользовались правом убежища, в данном случае — на территории дипломатической миссии; «бест» — основанное на старинном персидском обычае право неприкосновенности некоторых мечетей, гробниц мусульманских святых, домов высших духовных лиц; «севшего в бест» светская власть не могла брать силой.
…Ага-Петроса Элова… — Здесь и ниже речь идет об ассирийском генерале Ага-Путрусе Эллове (так принято транскрибировать его имя в современной литературе) (1880–1932).
С. 102. …у кардухов (Ксенофонт, кн. 4). — Кардухи — древнейшее население северного междуречья Тигра и Евфрата. Впервые упоминаются древнегреческим историком Ксенофонтом, писавшим, в частности: «Кардухи, покинув жилища и захватив жен и детей, убежали в горы… И когда последние отряды греков уже затемно спустились с вершин в деревни… тогда кардухи, собравшись, напали на шедших последними… Эту ночь провели в деревнях. А кардухи жгли на окрестных горах яркие костры и не теряли друг друга из виду» (Анабазис. Кн. 4, 1, 8–10).
Никитин Василий Петрович (1885–1960) — русский ученый-востоковед, в то время — вице-консул России в Урмии.
С. 103. …нашим нештатным драгоманом. — Драгоман — переводчик из местного населения при дипломатических представительствах на Востоке.
С. 104. В восьмидесятых годах они пытались создать свое государство. — Речь идет об одном из восстаний курдов за свою независимость, произошедшем в Персии в 1880 г. во главе с шейхом Обейдуллой.
С. 105. …с ненавистью к курдам… у армян понятной. — См. примеч. к с. 100.
С. 106. Персы были шииты, последователи Гусейна, курды были сунниты… — Шииты — второе по численности течение в исламе (после суннитов), признающее единственными законными преемниками Мухаммеда только Али и его потомков, в том числе Хусейна (626–680). Сунниты же не признают имамата как института посредников между Аллахом и людьми после смерти Мухаммеда, особой природы Али и прав его потомства на имамат.
С. 107. …как тосковал в Палестине Гоголь, пережидая дождь на скучной станции Назарет. — В письме В. Жуковскому от 28 февраля 1850 г. Гоголь вспоминал, как два года назад «…в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, забыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции».
С. 108. Пятикранник назывался полутуманом… — От названия персидской золотой монеты «туман», находившейся в обращении до начала 1930-х гг.
С. 109. Банкиры-сарафы… — Сараф (араб.) — меняла; это слово употребляется по всему Востоку.
Вадбольский Николай Петрович, князь (1869–1944) — генерал-лейтенант, командир 7-го Отдельного Кавказского армейского корпуса, позднее — командующий белоказачьими войсками на Кавказе; впоследствии эмигрировал, жил в Югославии.
С. 111. Приехали широколицые забайкальцы. — В Забайкальском казачьем войске служили русские, буряты и эвенки.
С. 113. …сводку о Демократическом совещании. — Речь идет не о Демократическом совещании, а о Предпарламенте (Временном Совете Российской республики), заседавшем 7–25 октября 1917 г.
С. 114. Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) — российский предприниматель, сахарозаводчик; с мая по октябрь 1917 г. был министром иностранных дел Временного правительства.
…в романе Уэллса посылал бессмертный изобретатель каварита с Луны. — Речь о романе Г. Уэллса «Первые люди на Луне» (1901). Каварит — непроницаемое «для всех форм лучистой энергии» вещество, изобретенное героем романа Кейвором.
С. 115. …после телеграммы о перемирии… — С предложением о перемирии Турция обратилась к главнокомандующему Кавказским фронтом и Закавказскому комиссариату в самом начале декабря 1917 г., и последний согласился на него 4 декабря.
…правительство Закавказское… — В ноябре 1917 — марте 1918 г. функции местного правительства в Закавказье, не признавшем большевиков, играл Закавказский комиссариат в Тифлисе во главе с меньшевиком Е. Гегечкори. Этот комиссариат был образован меньшевиками, эсерами, дашнаками и мусаватистами.
Таск собрал съезд… — Речь идет о II краевом съезде Кавказской армии, проходившем в Тифлисе 10–23 декабря 1918 г.
…Учредительное собрание не было еще разогнано… — Учредительное собрание, подготавливавшееся с марта 1917 г., собралось в Петрограде 5 января 1918 г. в Таврическом дворце, на нем присутствовало 410 депутатов (преимущественно эсеры). Делегаты отказались принять ультимативное требование большевиков о признании декретов съездов Советов, и собрание было разогнано в пятом часу утра 6 января.
…борьбу с Калединым как представителем русской реакции. — Атаман казачьего Войска Донского А. Каледин в то время возглавил антибольшевистское движение на Дону.
С. 116. Штольдер Николай Николаевич (1867–1918) — войсковой старшина (казачье звание, эквивалентное подполковнику), с 1914 г. — инструктор Персидской казачьей бригады.
С. 118. …служили — на правах вольнонаемных, что ли, — молокане… — Русские сектанты-молокане (как и упоминаемые ниже духоборы) были принципиальными противниками любого насилия и обычно отказывались даже брать в руки оружие.
…белая арапия… — Старорусское название жителей Аравии, арабов (в отличие от «черных арапов», негров). Фантастические рассказы о Белой Арапии долгое время ходили в народе.
С. 120. Лица у них не закрыты. — Особенность быта курдов: курдские женщины не знали обычая укрывания лица.
С. 122. Пржевальский Михаил Алексеевич (1859–1934) — генерал-майор, в то время главнокомандующий Кавказским фронтом.
…из Киева от Казачьей рады… — Видимо, речь идет о Раде казачьих частей Юго-Западного фронта.
…черноморцы. — Солдаты Черноморского конного полка, входившего в состав 1-го Кавказского кавалерийского корпуса.
С. 123. Центрокаспий — Центральный исполнительный комитет Каспийской военной флотилии.
Пенкайтис Виктор Иванович — член Военно-морского революционного комитета при ЦИК, помощник комиссара Главного морского штаба.
…в передаче нашего Каспийского флота англичанам. — Часть кораблей Каспийской военной флотилии, оставшаяся в Баку после антибольшевистского переворота 31 июля 1918 г., вслед за которым в город вошли английские войска.
С. 124. Петроградское правительство уже заключило перемирие с турками. — Неточность: Эрзинджанское перемирие с Турцией было заключено 5 декабря 1917 г. Закавказским комиссариатом и командованием Кавказского фронта.
Эрн Николай Францевич (1879–1972) — генерал-майор; в то время — полковник, обер-квартирмейстер штаба 7-го Отдельного Кавказского армейского корпуса; впоследствии генерал-лейтенант армии Парагвая.
…весть о мирном предложении России… — См. примеч. к с. 115.
Венгрия пала. — Венгерская Советская Республика, установленная в результате революции в марте 1919 г., в августе того же года была подавлена войсками Антанты.
С. 126. Коньяк Шустова или Сараджева… — От имен наиболее известных производителей коньяка в дореволюционной России: промышленно-торгового товарищества «Н. П. Шустов с сыновьями», владевшего с 1899 г. коньячным заводом в Ереване, и промышленника Д. Сараджева (Сараджишвили), начавшего первым в России производить коньяк.
«Чох, чох якши» — «Все, все хорошо» (тур.).
…в той группе, которая когда-то заняла с бомбами Оттоманский банк… — В 1896 г. группа боевиков партии Дашнакцутюн захватила в Стамбуле Оттоманский банк и, угрожая взорвать здание, потребовала провозгласить автономию армянских районов Турции. Полиции удалось схватить боевиков, но по ходатайству иностранных дипломатов наказание было заменено высылкой из страны.
С. 127. Впоследствии его обманом заманил к себе курд Синко и убил. — Убийство Беньямина Мар-Шимуна 3 марта 1918 г. с ветхозаветной тавтологичностью еще три раза будет описано Шкловским.
С. 130. …к авантюрам в стиле принца Вид. — Немецкий принц Вильгельм Вид (князь Вильгельм I) в 1914 г. был назначен странами Антанты правителем Албании, объявившей о своей независимости после Первой Балканской войны; однако правление его было недолгим (шесть месяцев до начала Первой мировой войны) и фиктивным (Албания фактически оставалась протекторатом Антанты). После начала Первой мировой войны Вид бежал из Албании.
…евреи русского Кавказа говорят на каком-то татарском наречии. — Большинство горских евреев Кавказа и татов (индоевропейской по происхождению народности, живущей на Кавказе и исповедующей иудаизм) говорили на татском языке (наречие персидского языка).
Когда англичане взяли Иерусалим… — Иерусалим тогда был турецкой территорией, английские войска взяли город 9 декабря 1917 г. (н. с.).
С. 131. Правда, мы разрушили храм Соломона тогда-то, но после мы же восстановили его. — В 586 г. до н. э. вавилонский царь Навуходоносор II разрушил иудейскую святыню — храм Яхве (Соломонов храм) в Иерусалиме; храм впоследствии был восстановлен. Древние ассирийцы (аккадцы), потомками которых считали себя упоминаемые Шкловским айсоры, строго говоря, представляли весьма близкий, но не тождественный вавилонянам (шумерам) народ.
С. 135. …до Петровска… — Точнее: Петровск-Порт, ныне Махачкала.
С. 136. Немцы… предложили… немедленное очищение Персии… — Целью переговоров в Мосуле было определение демаркационных зон между русскими и германо-турецкими войсками на территории Персии; переговоры шли на основании Эрзинджанского перемирия.
С. 137. Халил-паша (Халил-Кут, 1882–1957) — турецкий генерал-лейтенант, командующий 6-й армией, части которой были посланы на подмогу турецкому 4-му армейскому корпусу.
…при отходе от Эрзерума… — Речь идет о взятии Эрзерума, крупнейшего центра Турецкой Армении, русскими войсками под командованием Н. Юденича в январе 1916 г.
Нашим пришлось испытать Брест до Бреста. — Имеется в виду Брестский мир — мирный договор между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией, заключенный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске (ныне Брест). Согласно ему, Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, части Белоруссии и Закавказья, получала контрибуцию в 6 млрд марок. Эти унизительные условия были приняты Советской Россией только с целью сохранения советской власти. Договор был аннулирован советским правительством в ноябре 1918 г. после начала революции в Германии.
С. 141. Образование Закавказского правительства… — И здесь, как и выше, речь идет о Закавказском комиссариате (см. примеч. к с. 115).
Когда на фронтовом съезде оказалось, что большевики имеют свыше половины голосов, то съезд раскололся, а меньшая половина была признана национальными властями правомочной. — На II краевом съезде Кавказской армии среди 350 делегатов было 160 большевиков. Большевики и левые эсеры имели на съезде большинство, и съезд потребовал установления в Закавказье советской власти; они составили большинство и в новоизбранном Краевом совете Кавказской армии. Однако 27 декабря 1917 г. правая часть Краевого совета при поддержке Закавказского комиссариата захватила его помещение и провозгласила себя Краевым советом, после чего левая часть Совета объявила себя Военно-революционным комитетом Кавказского фронта, перебралась в Баку и оттуда руководила отводом войск с фронта в тыл, созданием частей Красной армии и т. д.
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) — генерал-лейтенант царской армии; в апреле 1918 г. был избран гетманом Украины и главой «Украинской державы».
…армянские войска — правда, наспех собранные дружины — поразительно быстро потеряли Эрзерумскую крепость. — После отхода русских войск в феврале 1918 г. из Персии и Турецкой Армении соединения Армянского особого армейского корпуса, сформированного на основе добровольческих дружин при русской армии, некоторое время пытались удержать Эрзерум, однако уже 12 марта 1918 г. турецкие войска заняли город.
Спектакль «Россия» кончался… — Аллюзия на главку «La Divina Comedia» «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1918) В. Розанова.
С. 142. Елизаветполь — в советский период Кировабад, ныне Гянджа.
Кто-то резал русских переселенцев в Муганской степи. / Русский центр в Тифлисе, маленький захудалый центрик, хотел послать в Мугань вагоны с оружием. — Речь идет о нападениях на села русских переселенцев, совершенных после отхода русских войск из Ирана и Закавказья иранскими и местными мусульманскими группировками в конце 1917 г. Им и пытался противостоять тифлисский Закавказский русский национальный совет.
С. 144. …русский «Анабазис», или, вернее, «Катабазис»… — Иронически обыгрывается название произведения Ксенофонта, описывающего отступление греческих войск из окрестностей Вавилона в 401 г. до н. э. Приставка «ката» на древнегреческом означает обратное движение, возвращение.
С. 145. Послали броневой поезд куда-то разоружать солдат… — Речь идет о так называемых Шамхорских событиях 9–12 января 1918 г., когда мусаватисты, поддержанные бронепоездом грузинских меньшевиков, напали на станции Шамхор на эшелоны с частями, возвращавшимися с Кавказского фронта; было убито около 2 тыс. и ранено несколько тысяч русских солдат.
С. 146. …эпохи Селевкидов. — Т. е. царской династии, правившей в 364–312 гг. до н. э. на Ближнем и Среднем Востоке.
С. 148. Продавали какую-то газету, где были напечатаны расписки в получении немецких миллионов, подпись — Зиновьев, Горький, Ленин. — Речь идет о так называемых «документах Сиссона» (по имени американского журналиста Э. Сиссона, приобретшего и опубликовавшего их в конце 1918 г.; некоторые из них печатались и в российской прессе начала 1918 г.). Эти документы стали одной из самых громких фальсификаций в русской истории, осуществленной знаменитым впоследствии польским писателем Антоном (Фердинанд Антоний) Оссендовским (1878–1945). Однако, хотя упоминаемые Шкловским «расписки» являются фальсификацией, факты финансовой поддержки Германией деятельности большевиков до и после Октябрьского переворота ныне научно установлены.
У Козлова… — Ныне Мичуринск.
С. 149. …англичане потопили крейсер «Память Азова». — В ходе подготовки второго наступления Н. Юденича на Петроград английский флот в ночь на 18 августа 1919 г. атаковал Кронштадт и потопил судно «Память Азова», служившее базой для подлодок.
Заметки о казарме
Опубликовано в газете «Новая жизнь» (24.05.1917), по тексту которой печатается.
Как предотвратить развал фронта
Опубликовано в газете «Новая жизнь» (3.10.1917), по тексту которой печатается.
Бои на Днепре
Опубликовано в «Красной газете» (3.09.1920. № 195. С. 2), по тексту которой печатается.
На врангелевском фронте
Опубликовано в «Красной газете» (7.10.1920), по тексту которой печатается.
В пустоте…
Опубликовано в альманахе «Часы. Час первый» (Петербург, 1922. С. 64–88), по тексту которого печатается.
Что поют на фронте
Опубликовано в газете «Жизнь искусства» (31.08.1920), по тексту которой печатается.
Маленький фельетон. Плац
Опубликовано в газете «Голос России», Берлин (11.04.1922), по тексту которой печатается.
Сказка о синем шакале
Опубликовано в журнале «Новый огонек», Берлин (1923. № 3. С. 18).
ПИСЬМА М. ГОРЬКОМУ (1917–1923)
Примечания и подготовка текста А. Ю. Галушкина. Письма В. Б. Шкловского печатаются по оригиналу из Архива A. M. Горького ИМЛИ РАН.
ГС — Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе: (1914–1933). — М., 1990.
ЛН — Горький и советские писатели: Неизданная переписка. — М., 1963. — (Литературное наследство. Т. 70).
СП — Шкловский В. Сентиментальное путешествие. — М., 1990.
1
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–1). Написано на почтовой открытке, адресованной: «Петроград. Шпалерная ул. Ред. „Новой жизни“. Алексею Максимовичу Пешкову». Обратный адрес: «Из действующей армии».
2
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–3). Датируется по содержанию.
3
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–2). На обороте адрес: «Петербург. Кронверкский, 23. А. М. Пешкову — Максиму Горькому».
4
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–16). Датируется по содержанию.
5
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–4). Датируется по содержанию.
6
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–18).
7
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–19)
8
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–22). Написано на почтовой карточке, адресованной: «Deitschland. Schwarzwald. St. Blasion. Aleksey Peschkov»; этот адрес рукой неустановленного лица перечеркнут и написан другой (по которому с начала апреля 1922 г. и жил Горький): «Berlin. Kurfurstendamm. 303.207». В Берлине письмо получено, судя по штемпелю, 7 апреля.
9
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–20).
Тема и образы этого письма позднее были использованы Шкловским для фельетона «Пробники» (1924, вошел в ГС. С. 186–187), позднее переработанного в письмо 2-е во втором издании его книги «Zoo, или Письма не о любви» (Л., 1924).
10
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–15).
11
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–17). Датируется по содержанию; встречающиеся в тексте письма цифры, очевидно, обозначают дни работы Шкловского над письмом; обозначение при последней цифре (26) «вторник», как нам представляется, ошибочно (26 апреля 1922 г. было средой).
12
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–5).
13
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–23).
14
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–21). Датируется по содержанию.
15
Печатается по автографу (КГ-п 89–2–7).
16
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–9). Написано на почтовой открытке с рисунком и пояснительной надписью Шкловского: «Открытка случайная, из „Книги“». Датируется по содержанию.
17
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–14). В верхнем углу письма пояснительная надпись рукой Горького: «В. Шкловский». Датируется по содержанию.
18
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–6). Датируется по содержанию.
19
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–13). Написано на почтовой карточке, адресованной: «Saarow (Mark) Am Fursten wale Nem Sanatorium. Herr Maxim Gorky». Датируется по почтовому штемпелю. На обороте карточки воспроизведение скульптурной работы Антонио Коррадини с надписью рукой Шкловского: «Бой русских с кабардинцами». На карточке пояснительная надпись рукой Горького: «В. Шкловский».
Письмо написано в связи со спором между Горьким и Шкловским о том, как правильно склонять имя Чарли Чаплин: поводом к спору послужил выход статьи Шкловского о Чаплине (в сборнике: Чаплин. Берлин, 1923). Об этом Шкловский вспоминал в письме Е. К. Николаевой от 7 марта 1941 г.: «<…> я поссорился с Горьким из-за того, можно ли сказать „Чарлю Чаплину“. Он говорил, что нельзя. Быть может, так. Но фразы и слова, говорил один француз, надо бросать как кошек из окна. Пускай они сами встают на ноги» (ЦГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 429).
20
Печатается по второму машинописному экземпляру с подписью (КГ-п 89–1–8). Написано на бланке фирмы «Руссторг».
21
Печатается по автографу (КГ-п 89–1–12). Датируется по содержанию.
РЕВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ
Комментарии: А. Галушкин, И. Калинин
Ссылки на настоящее издание даются в «Комментариях» без указания источника; в сокращенном виде даются и ссылки на основной корпус архивных материалов Шкловского, хранящийся в ЦГАЛИ, с 1992 г. РГАЛИ (ф. 562, оп. 1), — указываются только номера единиц хранения.
Автор этих строк приносит глубокую благодарность всем, кто оказывал содействие в его работе: А. Д. Алексееву, Н. А. Богомолову, Н. И. Клейману, А. И. Коняшову, А. Е. Парнису, Н. И. Харджиеву, А. П. Чудакову, М. О. Чудаковой. Особая благодарность — сотрудникам ЦГАЛИ СССР за неизменно благожелательное отношение к подготавливаемому изданию; С. И. Богатыревой, И. И. Слонимской, Е. В. Шагинян и В. В. Шкловской-Корди, предоставившим возможность ознакомиться с материалами Шкловского, хранящимися в их личных архивах.
Александр ГалушкинУсловные сокращения (действуют для разделов 2, 3, 4)
АГ Архив А. М. Горького, Москва.
АШ личный архив В. Шкловского (хранится у В. В. Шкловской-Корди, Москва).
ГЛМ Рукописный отдел Государственного литературного музея, Москва.
ГММ Рукописно-документальный отдел Государственного музея В. В. Маяковского, Москва.
ГПБ Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. M. E. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.
ГС Шкловский В. Гамбургский счет. Л., 1928.
ЖИ Жизнь искусства.
ЗШЛ Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М., 1985.
ИМЛИ Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького, Москва.
ИРЛИ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом), Ленинград.
ЛГ Литературная газета.
ЛФ Литература факта. М., 1929.
НЛ Новый Леф.
НЛП На литературном посту.
ОТП I — ОТП II Шкловский В. О теории прозы. М., 1925; М., 1929.
ПИЛК Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
ПЧЗ Шкловский В. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927.
СП Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М.; Берлин, 1923.
CC I — СС III Шкловский В. Собр. соч. в 3 т. М., 1973–1974.
ТС I — ТС III Тыняновский сборник. Рига, 1984; Рига, 1985; Рига, 1988.
ТФ Шкловский В. Третья фабрика. М., 1926.
УП Шкловский В. Удачи и поражения Максима Горького. Тифлис, 1926.
ХК Шкловский В. Ход коня. М.; Берлин, 1923.
ЦГАЛИ/РГАЛИ Центральный государственный архив СССР, Москва/Российский государственный архив литературы и искусства.
ЭОЛ Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987.
Воскрешение слова
Отд. изд.: СПб., 1914.
Написано на основе доклада «Место футуризма в истории языка», прочитанного Шкл. 23 дек. 1913 г. в «Бродячей собаке» (см.: Парнис А., Тименчик Р. Программы «Бродячей собаки». — Памятники культуры. Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 221). Об обстоятельствах устройства этого доклада вспоминал в 1939 г. (с некоторыми неточностями и хронологическими сдвигами) Б. Пронин: «Помню первое, необычайно яркое выступление Шкловского. Тот же Кульбин[661] как-то появился с сияющими глазами и говорит: „Я встретил сейчас в трамвае юношу в студенческой тужурке, — этот юноша необычайный, он студент 1-го или 2-го курса, фамилия его — Шкловский, это настоящий человек искусства, и я с ним сговорился, что он на днях в „Собаке“ должен сделать реферат о стихосложении“. Вечером пришел юноша — полугимназист, полустудент, с пышной шевелюрой, которого называли Витя. Мы его угощали легким вином и решили, что он будет читать реферат „Воскрешение слова“, он был студентом 1-го курса. Помню, что я тогда деловито записывал текст повестки и было решено — в какой день, и тут был настоящий блеск! Все наши не знали — как быть, но для меня было свято: раз Кульбин сказал, что это замечательный человек — человек с будущим — так это и есть! Но потом этот реферат захватил всех, и я помню восторженные лица Гумилева и Кузмина. Потом были яркие прения, и Кульбин говорил ему: „Это Ваше боевое крещение“ (ГММ). Из сохранившихся черновых набросков Шкл. к этому докладу приведем некоторые тезисы: „Задача данного реферата объяснить приемы молодого искусства и показать, что их происхождение вовсе не в желании быть причудливыми. <…> Сумасшедшие (= футуристы. — А. Г.) это ясновидящие, они больными нервами чувствуют приближающуюся катастрофу. <…> Вы отрицаете новое искусство, не зная его, во имя старого, которое не понимаете. Нам не нужно старых форм для выражения наших чувств. <…> Из узких дворов небо кажется другим. Поезд на мосту требует новых ритмов. <…> Мы не кривляемся. Футуризм не кружковщина. <…> Перевернуть картину, чтобы видеть краски, видеть, как художник видит форму, а не рассказ. Слово сковано привычностью, нужно сделать его странным, чтобы оно задевало душу, чтобы оно останавливало. Эпитет как подновление слова. Мы снимаем грязь с драгоценных камней, мы будим спящую красавицу. Самоценность слова. Возвращение слову лица и души“» (384).
По-видимому, сразу после доклада Шкл. приступил к работе над «Воскрешением слова» (ср.: Лившиц Б. Освобождение слова. — Дохлая луна. М., 1913). В ней приняли участие А. Крученых (запись 1934 г. Шкл. в альбоме А. Крученых «В. Шкловский. 1914–1934» — 391) и университетский товарищ Шкл. С. Бернштейн, о чем рассказывал в своих воспоминаниях его брат: «Первым литературным знакомством — это я запомнил — был Виктор Шкловский. Он пришел к брату — это было в начале 1914 года — с рукописью своей первой книжки „Воскрешение слова“, связанной с работами Потебни» (архив И. Бернштейна (А. Ивича). Хранится у С. Богатыревой, Москва). История издания кн. известна со слов автора (с. 33. Ср.: Литературная Россия. 1985. 4 янв. № 1). Кн. вышла не позднее мая 1914 г. (см.: Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольфа по литературе, наукам и библиографии. 1914. № 5. С. 83); некоторые экземпляры, по воспоминаниям Шкл., были украшены рисунками О. Розановой и А. Крученых (рукопись кн. «Жили-были». — АШ).
Выход «Воскрешения слова», как и другие устные и печатные выступления Шкл. 1914–1915 гг., послужили импульсом к организации того научного содружества, которое позднее сформировалось как ОПОЯЗ. В неопубл. главах ТФ Шкл. вспоминал: «Я выпустил, издав в типографии в доме, где я жил, мне тут верили, на 16 рублей свою первую книжку „Воскрешение слова“. <…> С книжкой в 32 страницы цицеро я явился к Бодуэну де Куртенэ. <…> Он сказал мне, что сам не понимает этого вопроса, и направил меня к своему ученику Льву Якубинскому. <…> День, когда мы встретились с Львом Петровичем, был хорошим днем[662]. Мы говорили друг с другом по теории час-два в день. Лев Петрович объяснил мне разницу между поэтическими и прозаическими функциями языка. <…> Стало нас двое» (44). Во второй половине 1914 г. к Якубинскому и Шкл. присоединился Е. Поливанов: «Пришел Евгений Поливанов. <…> Нас стало трое. Уже была война» (44), — а в начале 1916 г. и О. Брик: «<…> в странный и смутный 16 год Брик присоединился к нашей работе. Нас стало четверо. Он написал статью о повторах» (44). Ср.: Брик Л. Из воспоминаний. — Альманах с Маяковским. М., 1934. С. 79.
Предпосылки футуризма
Впервые — Голос жизни. СПб., 1915. № 18. С. 6–10. Статья, содержащая множество концептуальных и текстуальных совпадений с «Воскрешением слова», тем не менее представляет собой прекрасный пример поиска новых формулировок, метафорических сравнений, дополнительного эмпирического материала, через которые Шкловский пытался выразить свои основные тезисы.
Вышла книга Маяковского «Облако в штанах»
Впервые — Взял. Барабан футуристов. Пг., 1915. С. 7–9.
Первая ст. Шкл. о Маяковском и один из первых откликов на «Облако в штанах». С поэзией Маяковского Шкл., по воспоминаниям В. Милашевского (в его кн. «Вчера, позавчера». Л., 1972. С. 59–60), был знаком уже летом 1913 г. — по первой же книге поэта «Я» (вышла в мае 1913 г. в Москве). Личное знакомство Шкл. с Маяковским состоялось осенью того же года — через Н. Кульбина (устное свидетельство Шкл., окт. 1983 г.). В 1913–1914 гг. Шкл. начинает выступать на футуристических вечерах; на одно из выступлений Шкл. Маяковский ссылается в ноябре 1914 г. в ст. «Война и язык» (Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1955. С. 327). Местом постоянных встреч со второй половины 1915 г. становится квартира О. и Л. Бриков в Петрограде; здесь и родилась идея издания «Облака в штанах» (вышло в сент. 1915 г.) и «Взял» (вышел в дек. 1915 г.) (Брик Л. Ук. соч. С. 64, 72). Выход «Взял» и ст. Шкл. были сочувственно отмечены С. Бобровым (Второй сборник Центрифуги. М., (1916). С. 90. Подп.: Г. Лубенский).
По свидетельству Э. Триоле, Шкл. восторженно принял в 1916 г. «Войну и мир» Маяковского (Triolet Е. Majakovski. Poéte russe. Paris, 1939. P. 51); отношение к некоторым пореволюционным произведениям поэта было сдержаннее: поэмам «150 000 000» (см.: Катанян В. Маяковский. Литературная хроника. М., 1985. С. 537) и «Владимир Ильич Ленин» (с. 297–298), пьесе «Мистерия-буфф» (с. 82) и др., — притом, что общая оценка Маяковского оставалась неизменно высокой (см., напр., дарственную надпись Шкл. Маяковскому на своей кн. «Розанов» (Пг., 1921): «Владимиру Маяковскому, сверхпоэту 150 000 000 степени» — ГММ).
О поэзии и заумном языке
Впервые — Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1. Пг., 1916. С. 1–15. Печ. по: Поэтика. Пг., 1919. С. 13–26.
Ст. закончена — как и другие материалы первого «Сборника…» — не позднее июля 1916 г. (письмо О. Брика С. Боброву от 1.7.1916. — ЦГАЛИ, 2554.1.16); цензурное разрешение от 24.8.1916. Первые наброски были сделаны тремя годами ранее — очевидно, сразу после появления «Декларации слова как такового» А. Крученых (июнь 1913 г.). Этот первый вариант, называвшийся «О заумном языке», носил посвящение: «Посвящаю первому исследователю этого вопроса поэту Алексею Крученых. Камень, отвергнутый строителями, ляжет во главу угла» (63); в тексте его встречаются ссылки на замечания университетских товарищей Шкл. — В. Бурлюка и С. Бернштейна. В начале 1915 г. Шкл. обнародовал некоторые положения работы в ст. «Предпосылки футуризма» (Голос жизни. 1915. № 18), сопровожденной в журн. предисл. Д. Философова «Разложение футуризма»; дальнейшая работа над ст. шла в основном по линии подбора новых примеров.
В рец. на первый «Сборник…» Д. Философов отметил работу Шкл.: «<…> прочтя статью Шкловского о заумном языке, я, по крайней мере, начинаю „методически“ понимать задачи футуризма. Могу судить и оценивать его не со стороны, а с точки зрения самой задачи, поставленной футуристической поэзией» (Магия слова. — Речь. 1916. 26 сент. № 265). Благожелательно отозвались о «Сборнике…» Д. Выгодский (Летопись. 1916. № 10) и А. Смирнов (Русская мысль. 1917. № 1), критически — журн. «Русские записки» (1916. № 10). Ст. Шкл. оспорил в своей рец. Б. Эйхенбаум, указавший на неточность многочисленных примеров (из Лермонтова, Фета, Шиллера): «Материал, приводимый Шкловским, говорит только о том, что заумный язык есть психологический факт <…>» — и заключавший: «<…> футуризм есть явление порядка скорее психологически-языкового, чем эстетического» (ЭОЛ, с. 327). Положения этой работы Шкл. критиковались и позднее — в том числе и близкими к ОПОЯЗу B. Виноградовым, Г. Винокуром, В. Жирмунским; последний, напр., в 1919 г. писал о «некоторой односторонности» и «неправильном истолковании» вопроса о звуках поэтической речи у Шкл., объясняя это, в частности, временем написания ст. (ЖИ. 1919. 10 дек. № 314).
Потебня
Впервые — Биржевые ведомости. 1916. 30 декабря (утренний выпуск). Печ. по: Поэтика: Сборники по теории поэтического языка (вып. 3). Пг., 1919. В этой статье содержится часть базовых положений, которые впоследствии станут известны благодаря главному манифесту Шкл. «Искусство как прием».
Искусство как прием
Впервые — Сборники по теории поэтического языка. Вып. 11. Пг., 1917. С. 3–14. Перепеч.: Поэтика. Пг., 1919. С. 101–114; ОТП I, с. 7–20; ОТП II, с. 7–23; в кн. Шкл. «О теории прозы». М., 1983. C. 9–25. В сокр.: Из истории советской эстетической мысли. 1917–1932. М., 1980. С. 334–342. Печ. по ОТП II.
Написано между дек. 1915 г. (см.: ОТП II, с. 13) и дек. 1916 г. (цензурное разрешение от 24.12.1916). Ст. стала «манифестом формальной школы» (ЭОЛ, с. 385), определившим платформу ОПОЯЗа конца 1910-х — середины 1920-х гг. Значение этой работы в становлении новейшего литературоведения неоднократно анализировалось в научных трудах, посвященных формальной школе (В. Эрлих, К. Поморска, И. Амброджио, Э. Томпсон, Э. Джеймсон, А. Ханзен-Лёве, П. Штейнер и др.).
Из филологических очевидностей современной науки о стихе
Впервые — Гермес. Ежегодник искусства и гуманитарного знания. Сб. 1. Киев, 1919. С. 67–71.
Эта статья — помимо еще одной теоретической и стилистической вариации идей, представленных в «Искусстве как прием», — содержит также интересные и развернутые комментарии редактора «Гермеса» Владимира Николаевича Маккавейского (1893–1920?), поэта-символиста и переводчика. В 1914 г. он дебютировал переводом книги Райнера Марии Рильке «Жизнь Марии» и публикацией оригинальных стихов в альманахе «Аргонавты». Объединил вокруг себя группу киевских постсимволистов, группировавшихся вокруг журнала «Гермес». В околореволюционные годы был, по свидетельствам мемуаристов, центральной фигурой поэтической жизни Киева. В 1918 г. выпустил в Киеве единственный сборник стихов «Стилос Александрии: Сонеты и поэмы» в собственном оформлении, оставшийся практически незамеченным. В 1919 г. в «Гермесе» опубликовал «псевдотрагедию» «Пьеро-убийца».
Изучение теории поэтического языка
Впервые — Жизнь искусства. 1919. № 273.
О заумном языке. 70 лет спустя
Впервые — Русский литературный авангард. Материалы и исследования. № 4 / Под ред. Марцио Марцадури, Даниелы Рицци и Михаила Евзлина. Dipartimento di Storia dell Civilta’ Europea, Universita’ di Trento, 1990. С. 253–259.
РЕВОЛЮЦИЯ ВРЕМЕНИ
Комментарии: А. Галушкин, И. Калинин
Ход коня
ХК, с. 9–11 (В качестве предисл. к кн.).
Кн. ХК была подготовлена к печати не позднее авг. 1921 г., выход ее предполагался: первоначально в издательстве «Алконост» (объявление в сб. «Искусство старое и новое». Пг., 1921), затем — «Эрато» (см.: Петербург. 1922. № 2. С. 21). 14 или 15 марта 1922 г. Шкл. был вынужден эмигрировать из России; 16.3.1922 г. он сообщает Горькому из Финляндии: «У меня с собой рукопись „Ход коня“» (АГ, КГ-п 89–1–18). В июне 1922 г. Шкл. приезжает в Берлин, и уже в июльском номере журн. «Новая русская книга» издательство «Геликон» анонсирует ХК. В письме жене конца 1922 г. Шкл. писал о высылке рукописи ХК для издания в России (449); это издание не состоялось. 20 янв. 1923 г. он сообщает ей же: «Вышли мои книжки. X. к. не очень хорошая книга» (450).
Полемика вокруг ХК началась еще до выхода кн. в свет. 2–7 авг. 1921 г. рукопись ХК была отрецензирована в ЖИ К. Фединым; заинтересованно отозвавшись о теоретико-литературных поисках формалистов, он выступил против использования в художественном творчестве принципа «обнажения приема», который, по его мнению, применил в ХК Шкл. (Мелок на шубе — Федин К. Собр. соч. в 12 т. Т. 10. М., 1985. С. 289–294). «Большинство статей первого сборника, — писал о ХК С. Карцевский, — говорит именно об условности искусства. Сюжет как нельзя более своевременный, и сторонники формального метода хорошо делают, что заставляют русскую публику задуматься над вопросами, о которых она забыла думать». Но автор, по мнению рецензента, слишком радикален в решении этого вопроса, Шкл. «<…> склонен искать нутро искусства не в чем ином, как именно в обнажении приема, в немудром сплетении веревочек марионеток, в картонности театральных мечей. <…> Мы досадуем на Л. Толстого, твердящего нам, что луна на сцене это просто дыра в полотне, а кровь только клюквенный сок. Мы досадуем за то, что он разрушает иллюзию. Ведь мы же условились считать дыру луной, а клюквенный сок кровью, и воспринимаем все это в условном плане. Выйти из этого плана (все равно куда — приметить ли клюквенный сок или же стать зрителем подлинного убийства) это значит выйти за пределы искусства. „Мерцающая иллюзия“ должна быть сохранена» (По поводу двух книг. — Воля России (Прага). 1923. № 4. С. 79–80). Другой рецензент подчеркивал (фельетонно обыгрывая) организованность всех материалов ХК вокруг образа «я»: «„Ход коня“ — типичнейший и элементарнейший роман. Все основные элементы романа, восходящие к традициям Сервантеса, Стерна, Фильдинга, Диккенса, — налицо. <…> Герой романа „Ход коня“ — „я“. <…> Можно без преувеличения сказать, что облик „я“ удался Шкловскому великолепно, и в русскую литературу он смело может войти сотоварищем Онегина, Печорина, Рудина и иже с ними, то есть именно ненавистным автору ненаучным эпохальным типом» (Шах конем. — Дни (Берлин). 1923. 4 февр. № 81. Подп.: Кир. Кириллов). См. также рец. Р. Гуля (Новая русская книга (Берлин). 1923. № 1).
Особое место посвятил ХК в ст. «Формальная школа поэзии и марксизм» Л. Троцкий (впервые — Правда. 1923. № 166. 26 июля). Троцкий признал за формализмом «вспомогательное, служебно-техническое значение» для искусства, но, поверхностно интерпретируя некоторые декларации ХК, охарактеризовал эстетическую концепцию формалистов как «антимарксистскую» и «идеалистическую». Сравнивая формализм с футуризмом, Троцкий писал: «<…> в то время, как последний более или менее капитулировал перед коммунизмом политически, формализм изо всех сил противопоставляет себя марксизму теоретически. <…> Попытка освободить искусство от жизни, объявить его самодовлеющим мастерством обездушивает и умерщвляет искусство. Самая потребность в такой операции есть безошибочный симптом идейного упадка». «Формальная школа, — заключал Троцкий, — есть гелертерски препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства. На формалистах лежит печать скороспелого поповства» (Троцкий Л. Литература и революция. 2-е изд. М., 1924. С. 123–139). Ст. Шкл. «Ответ Льву Давидовичу Троцкому» сохранилась не полностью (отр., посвященные критике Троцким Р. Якобсона — 72); бо́льшая часть ее вошла в ст. «Всеволод Иванов» (с. 278–281). См. также «ответ» Б. Эйхенбаума — в ст. «В ожидании литературы» (впервые — Русский современник. 1924. № 1; вошло в его кн. «Литература». Л., 1927).
Сверток
Впервые — ЖИ. 1921. 15–18 янв. № 655–657 (с подзаголовком «Индусская поэтика»). Печ. по ХК, с. 12–17.
Петербург в блокаде
Найти первую публикацию этого очерка в ЖИ не удалось, отсутствует она и в наиболее полной библиографии, составленной Ричардом Шелдоном «Viktor Shklovsky: An International Bibliography of Works by and about him» (Ann Arbor, 1977), и в «Новых материалах к библиографии В. Б. Шкловского», собранных А. Ю. Галушкиным и опубликованных в журнале De Visu (1993. № 1. С. 64–77). Таким образом, на сегодняшний момент первой публикацией этого текста приходится считать сборник ХК.
«Улля, улля, марсиане!»
Впервые — Искусство коммуны. 1919. 30 марта. № 17 (под назв. «Об искусстве и революции» и с эпиграфом, взятым в ХК как назв.). Печ. по ХК, с. 36–41.
Ст. является несколько запоздавшим откликом Шкл. на занятие футуристами руководящих постов в петроградском Отделе изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса: в янв. 1918 г. во главе его встал Д. Штеренберг, в течение 1918 г. в Отдел вошли Н. Пунин, В. Татлин, Н. Альтман, И. Школьник, А. Карев и др.; в ноябре — дек. 1918 г. и в янв. — февр. 1919 г. в деятельности ИЗО принимают участие В. Маяковский и О. Брик. Первое, по-видимому, выступление Шкл. по этому поводу, оставшееся не разысканным, известно по журн. отклику (янв. 1919 г.), в котором приведена цитата из него: «По странной случайности, футуризм сделался официальным искусством Советской России… А искусству это обходится дорого, так как передовые художники силятся родить то, что еще не выношено, стремятся связать то, что не связано: искусство и политику» (цит. по: Випера В. Времена и нравы. — Парус (Харьков). 1919. № 1. С. 14). Ср. с декларациями «левой» фракции Союза деятелей искусств (В. Маяковский, О. Брик, Н. Альтман, Н. Пунин, А. Карев и др.[663]), весной 1917 г. выступавшей против огосударствления и политизации искусства и какого-либо руководства им со стороны правительства (Лапшин В. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М., 1983. С. 90–100 и след.), а также с «Манифестом летучей федерации футуристов», требовавшим «отделения искусства от государства» (март 1918 г., подписано Маяковским, Д. Бурлюком, В. Каменским — Газета футуристов. 1918. № 1).
На критику Шкл. в том же номере «Искусства коммуны» ответил Н. Пунин: «Интернационал такая же футуристическая форма, как любая другая творчески созданная новая форма… <…> Разве коммунистический Третий Интернационал не есть та форма, которая создает еще свое содержание? Я спрашиваю, какая разница между Третьим Интернационалом и рельефом Татлина или „Трубой марсиан“ Хлебникова? Для меня никакой. И первое, и второе, и третье — новые формы, которыми радуется, играет и которые применяет человечество». В целом Пунин охарактеризовал ст. Шкл. как «плод недоразумения». Ср. с оценками полемики В. Кряжиным (Футуризм и революция. — Вестник жизни. 1919. № 6–7. С. 72) и Ф. Калининым (О футуризме. — Пролетарская культура. 1919. № 7–8. С. 41–42), не дифференцировавшими позиций Шкл. и Пунина. Р. Якобсон и П. Богатырев позднее интерпретировали полемику Пунина и Шкл. как свидетельство теоретических расхождений ОПОЯЗа и Московского лингвистического кружка (МЛК) (Богатырев П., Якобсон Р. Славянская филология в России в годы войны и революции. Берлин, 1923. С. 31).
Но точка зрения Шкл. получила неожиданные «подтверждения» — 10 апр. 1919 г. специальным постановлением Петросовета было решено: «<…> ни в коем случае не передавать организацию первомайского празднества в руки футуристов из Отдела изобразительных искусств» (Петроградская правда. 1919. 10 апр. № 79), а в дек. Г. Зиновьев дал такую оценку его деятельности: «Мы позволили одно время нелепейшему футуризму прослыть чуть ли не официальной школой коммунистического искусства. <…> Этому пора положить конец» (цит. по: Грядущее. 1920. № 1–2. С. 28). В февр. 1921 г. — в связи с общей реорганизацией Наркомпроса — ИЗО был ликвидирован.
Спустя почти год А. Эфрос комментировал события 1918–1919 гг.: «<…> футуризм стал официальным искусством новой России. Его жизнь в республике Советов казалась парадоксом. Он пришел к власти с другого конца. Спор за власть был решен не предпочтением, оказанным искусству, а предпочтением, оказанным людям. „Футуризм“ был не нужен, но „футуристы“ были нужны; реализм, наоборот, был нужен, но не нужны были реалисты. Одни принимались, другие отрицались не в качестве художников, а именно в качестве общественных единиц искусства, каких-то граждан от эстетики» (Концы без начал. — Шиповник. № 1. М., 1922. С. 114). Позднейшая оценка Шкл. своей ст.: с. 276, а также: СС III, с. 97.
Самоваром по гвоздям
Первопубликация не установлена. Печ. по ХК, с. 42–45.
Сохранился один из предварительных (по-видимому) вариантов этой ст.: приведем его полный текст:
«Самовар и гвозди
Если взять самовар за ножки, то им можно вбивать гвозди, но не это его прямое назначение.
Если взять Пушкина, то из него можно надергать революционные места, а можно также нащипать контрреволюционные, но это все не существенно в Пушкине.
Лучше завернуть в стихи селедку, чем втягивать их в политику.
Посмотрите на Моисея: когда он рассердился на евреев, он не стал драться скрижалями, а разбил их о камень.
Тот, кто хочет создать революционное искусство, так же ошибается, как тот, кто хочет построить революционный фрезерный станок.
Искусство никогда не было классовым и никогда не было программным.
Если в произведение искусства и попадает как материал какое-нибудь политическое построение, то тем самым оно перестает быть действенным.
Поэтому совершенно не стоит рассматривать „Евгения Онегина“ под углом зрения вопроса о крепостном праве. Не стоит также драться стихами и учить стихами драться других. Для войны есть фронт, а для обучения всеобуч.
Вот произошла революция.
Для революционного искусства приготовили место, раскопали грядки, полили их деньгами.
Пришли поэты и стали писать. Те, кто способней, те под новых, а те, кто не способней, те под старых, были даже такие, которые писали под П. Я. и Ионова[664]. А в общем стихи не изменились. И это видят даже те критики, которые разбирают их по старинке, по образцу XVIII века, строчка за строчкой да еще с проверкой на действительность.
Не только всякому, даже не обучающемуся в семинарии, но даже обучающемуся в студии Пролеткульта видно, что никакого революционного искусства нет, а я знаю, что его и быть не должно.
А главное, не нужно.
Я десять лет пробыл в гимназии, и каждое утро я пел „Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое“, а и тогда не мог и сейчас не могу сказать эту молитву наизусть. Она заполировала меня и стекала, как с гуся вода.
Если заклеить стены плакатами, напечатать стихи на продовольственной карточке, набить стихи „Интернационалом“, оттиснуть его на носовых платках, то организм так приспособится, что не увидит и не услышит ничего.
Ни одно живое существо не может жить в своих выделениях, на этом основана прививка; не может жить в атмосфере тысячекратного повторения молитва, не может жить и „Интернационал“.
Во имя пропаганды уменьшите ее.
Оставьте не записанными стихами облака и воду. Давайте на фронте воевать, в книгах и газетах говорить о революции, и не будем заказывать никому революционного искусства.
Все равно еще ни разу в мире не было Рождества раньше Благовещения» (67).
Этот вариант, предназначавшийся для ЖИ (на тексте — пометы члена редколлегии Е. Кузнецова) и предположительно датируемый весной 1920 г., связан с другими полемическими выступлениями Шкл. против Пролеткульта того же времени; о невозможности создания особой, «пролетарской» литературы Шкл. говорил, напр., на диспутах «Беседа о пролетарской культуре» в Вольной философской ассоциации 21.3.1920 (в полемике с А. Белым — Ежегодник РО ПД на 1978 год. Л., 1980. С. 42) и 18.4.1920 — в петроградском Пролеткульте (см. журн. отчет: Грядущее. 1920. № 7–8. С. 23).
Крыжовенное варенье
Впервые — ЖИ. 1919. 1–2 ноября. № 282–283. Перепеч.: Художественная мысль (Харьков). 1922. № 4. С. 13–14. Печ. по ХК, с. 46–50.
Штандарт скачет
Впервые — ЖИ. 1920. 11–12 сент. № 554–555. Печ. по ХК, с. 51–55.
Ст. вызвала одобрительный отзыв Ю. Анненкова (Злокачественная опухоль. — ЖИ. 1920. 14 сент. № 556) и критическое «Письмо в редакцию» Л. Никулина, требовавшего оградить самодеятельные театры от «нападок эстета левого толка» (Петроградская правда. 1920. 19 сент. № 209). Ответ Шкл. Л. Никулину: Необходимые разъяснения. — ЖИ. 1920. 25–26 сент. № 566–567. Приводим текст этих разъяснений полностью:
«Прочитав письмо Л. Никулина в газете „Правда“ от 19 сентября с.г., о моей статье „Штандарт скачет“, считаю необходимым сообщить следующее.
„Их благородием“ я никогда не был. В царской армии служил солдатом. В Красной армии служил добровольцем и был ранен.
„Эстетом“ я также никогда не был. Ни в „Синем журнале“, ни в „Сатириконе“, ни каких в других буржуазных журналах и газетах не сотрудничал, чего не могу сказать о товарище Никулине.
По существу, остаюсь при старом мнении, что обращение внимания на театр и театр любительский, в ущерб школьному делу — ошибочно».
Соглашатели
Впервые — ЖИ. 1920. 22 апр. № 430. Печ. по ХК, с. 56–58.
Написано по поводу спектакля «Легенда о Коммунаре» (по пьесе П. Козлова), шедшего в пролеткультовском Петроградском рабочем революционном героическом театре (рук. — А. Мгебров) с февр. 1920 г.
Драма и массовые представления
Впервые — ЖИ. 1921. 9–11 марта. № 688–690. Печ. по ХК, с. 59–63.
Папа, это — будильник!
Впервые — ЖИ. 1920. 10–12 дек. № 628–630. Полемическое изложение ст. — Вестник театра. 1921. № 78–79. С. 3 (под шапкой «Печать»). Печ. по ХК, с. 64–67.
Премьера «Зорь» состоялась 7 ноября 1920 г. в Москве, Шкл. побывал на спектакле в 20-х числах ноября. С критикой Мейерхольда Шкл. выступал и в дальнейшем: «Особое мнение о „Лесе“ (ЖИ. 1924. № 26), „Учитель Бубус“ в Театре имени Мейерхольда» («30 дней». 1925. № 2. Подп.: В. Ш.), «Пятнадцать порций городничихи» (Красная газета (веч. вып.). 1926. 22 дек. № 307) и др.
Коллективное творчество
Впервые — ЖИ. 1919. 17 сент. № 244. Печ. по ХК, с. 68–73.
Написано в полемике с некоторыми положениями концепции «коллективного творчества» («коллективизма творчества» и т. п.), разрабатывавшейся наиболее активно в те годы теоретиками Пролеткульта. Ср.: Maurer К. Viktor Śklovskij’s Essay «Kollectivnoe tvorcestvo». — Poetica. 1967. Bd. I. S. 104–108.
В свою защиту
Впервые — ЖИ. 1920. 10 февр. № 367. Печ. по ХК, с. 74–75.
Ответ на критику ЖИ В. Быстрянским[665], упрекавшим газ. в «весьма отвлеченном, далеком от жизни характере» (имелись в виду, в частности, ст. Шкл. о Стерне): «Ближе к жизни, господа, довольно вам копаться „в хронологической пыли бытописания земли“ — работайте не для любителей-эстетов, а для масс» (На темы дня: Ближе к жизни! — Петроградская правда. 1920. 27 янв. № 18. Подп.: В. Б.). См. ответ В. Быстрянского Шкл.: Вместо ответа. — Там же. 1920. 22 февр. № 41. Подп.: В. Б.
О психологической рампе
Впервые — ЖИ. 1920. 7 мая. № 445. Печ. по ХК, с. 76–79.
Критика театральной концепции Пролеткульта («творческий театр» П. Керженцева); отклик на ст. К. Державина, посвященную П. Керженцеву и В. Тихоновичу. «Стремясь к идеалу — „все — актеры“, теоретики общенародного театра мечтают об упразднении не только технической, но и психологической рампы, — писал, в частности, К. Державин. — Уничтожение сцены и зрительного зала как самостоятельных единиц — вот та точка, к которой стягиваются здесь нити конечных заключений о природе и технике грядущего соборного действа» (Московские отклики. — ЖИ. 1920. 30 апр. № 438).
О громком голосе
Впервые — ЖИ. 1920. 8–9 мая. № 446–447. Печ. по ХК, с. 80–83.
О «великом металлисте»
Впервые — ЖИ. 1919. 31 мая — 1 июня. № 151–152. Печ. по ХК, с. 84–89.
Пространство в живописи и супрематисты
Впервые — ЖИ. 1919. 23–24 июля. № 196–197 (под назв. «Пространство в искусстве и супрематисты»). Вариант: Искусство (М.). 1919. 5 сент. № 8. Печ. по ХК, с. 90–100.
Некоторые положения данной работы были сформулированы Шкл. в выступлениях на Первой Государственной свободной выставке произведений искусств в Петрограде, см. газ. отчеты: ЖИ. 1919. 6 мая. № 129; Красная газета. 1919. 6 мая. № 98; ЖИ. 1919. 23 мая. № 144.
О фактуре и контррельефах
Впервые — ЖИ. 1920. 20 окт. № 587. Печ. по ХК, с. 101–107.
Памятник Третьему Интернационалу
Впервые — ЖИ. 1921. 5–9 янв. № 650–652. Печ. по ХК, с. 108–111.
Проект памятника был открыт для осмотра в здании Свободных мастерских (бывш. Академия художеств) 8 ноября 1920 г.
Иван Пуни
Впервые — на нем. яз.: Der Futurismus (Berlin). 1922. № 5–6. S. 6. Печ. по ХК, с. 112–114.
С русским художником-авангардистом И. Пуни (1894–1956) Шкл. познакомился в марте 1915 г. на выставке «Трамвай В» (СС I, с. 199); берлинские встречи с Пуни отражены Шкл. в кн. «Zoo» (СС I, с. 199–201). См. также: И. Пуни. «Современная русская живопись» (Берлин. 1923. С. 8, 27). В 1923 г. Пуни переехал в Париж, откуда сообщал Шкл.: «<…> вообще, кажется, мне сейчас полегчало, а все это время было очень тяжело <…>» (от 29.4. 1925–676). В 1960–1970-х гг. ст. Шкл. неоднократно перепечатывалась и переводилась в каталогах выставок И. Пуни во Франции, ФРГ, Швейцарии и др.
Параллели у Толстого
Впервые — ЖИ. 1919. 22–23 нояб. Печ. по ХК, с. 115–125.
Дополненный Толстой
Впервые — ЖИ. 1919. 4–5 окт. № 259–260. Изложение ст. — Вестник театра. 1919. № 37. С. 8 (под шапкой «Печать»). Печ. по ХК, с. 126–132.
Премьера «Первого винокура» (реж. Ю. Анненков) состоялась 13 сент. 1919 г.; спектакль стал одним из первых опытов «циркизации» театра, продолженным в 1920–1923 гг. экспериментами С. Радлова, С. Эйзенштейна, Вс. Мейерхольда, А. Таирова и ранних фэксов (см.: Золотницкий Д. Зори театрального Октября. Л., 1976. С. 234–239).
«Народная комедия» и «Первый винокур»
Впервые — ЖИ. 1920. 17–19 апр. № 425–427. Печ. по ХК, с. 133–137.
Театр «Народная комедия» был открыт 8 янв. 1920 г.; ко времени появления ст. Шкл. были уже показаны первые его спектакли, вызвавшие полемику в ЖИ: «Невеста мертвеца, или Сватовство хирурга» (8 янв.), «Обезьяна-доносчица» (17 февр.), «Султан и черт» (16 марта) (см.: Золотницкий Д. Ук. соч. С. 239–265; Lövgren Sergej Radlov’s Electric Baton: the «futurization» of russian theater — Theater and literature in Russia. 1900–1930. Stockholm, 1984). О «Народной комедии» Шкл. писал также: с. 113–115; в ст. «Шекспир на подмостках Железного зала» (ЖИ. 1920. 19–21 ноября. № 610–612). На близость экспериментов С. Радлова к взглядам на театр Ф. Маринетти (см.: Манифесты итальянского футуризма. М., 1914. С. 72–77) Шкл., по-видимому, обратил внимание только в 1923 г. (см. его кн. «Литература и кинематограф». Берлин. 1923. С. 31–32).
22 янв. 1922 г. «Народная комедия» была закрыта; позднее С. Радлов согласился с критикой Шкл., признав неразработанность «словесной стороны» в своем театре (Словесная импровизация в театре. — В его кн. «Статьи о театре». Пг., 1923).
Искусство цирка
Впервые — ЖИ, 1919. 4–5 ноября. № 284–285. Перепеч.: Художественная мысль (Харьков). 1922. № 5. С. 9. Печ. по ХК, с. 138–141.
О цирковом искусстве см. также у Шкл.: «Цирк и искусство» (Огонек. 1926. № 24), «Прекрасный, как зебра» (Цирк. 1926. № 2).
О вкусах
Впервые — ЖИ. 1920. 15 сент. № 557. Печ. по ХК, с. 142–145.
По поводу «Короля Лира»
Впервые — ЖИ. 1920. 21–22 сент. № 562–563. Печ. по ХК, с. 146–151.
21 сент. 1920 г. в БДТ состоялась премьера «Короля Лира» (реж. А. Лаврентьев); к этой дате ЖИ поместила ст. А. Блока («Жестокое предостережение»), С. Радлова, М. Кузмина, А. Беленсона и данную ст. Шкл. Параллельная разработка опоязовской концепции героя — в работе Шкл. о «Дон Кихоте» (вошло в ОТП).
Старое и новое
Впервые — ЖИ. 1920. 2 апр. № 146. Печ. по ХК, с. 152–154.
Написано по поводу ст. П. Сторицына «Искусство плаката» (ЖИ. 1920. 23 марта. № 406) и рец. Э. Голлербаха на № 1 журн. «Изобразительное искусство», изданного ИЗО Наркомпроса (там же). П. Сторицын, в частности, писал, что «почти официальное признание» футуризма после революции не уничтожило «пропасти» между ним и зрителями; Э. Голлербах в своей рец. резко оценил направление журн. («повторяются задания газеты „Искусство коммуны“»), ст. в нем Н. Пунина, О. Брика, К. Малевича и репродукции с картин Д. Штеренберга, В. Татлина, К. Малевича и др. («ребяческая, если не просто шарлатанская живопись»). См. ответ Э. Голлербаха Шкл.: Камень вместо хлеба. — ЖИ, 1920. 24–26 апр. № 432–434.
О Мережковском
Впервые — ЖИ. 1920. 8 окт. № 577. Печ. по ХК, с. 155–158.
Комическое и трагическое
Впервые — ЖИ. 1921. 26 февр. — 1 марта. № 679–681. Печ. по ХК, с. 159–167.
Рец. на премьеру 30 янв. 1921 г. в «Народной комедии» пьесы С. Радлова «Любовь и золото».
Подкованная блоха
Впервые — Голос России (Берлин). 1922. 9 авг. № 1027. Печ. по ХК, с. 168–173.
Рыбу ножом
Впервые — ЖИ. 1921. 19–24 июля. № 780–785. Печ. по ХК, с. 174–179.
Написано по поводу водевиля Н. Евреинова «Самое главное» в «Театре революционной сатиры» (премьера — 20 февр. 1921 г., реж. Н. Петров, оформл. Ю. Анненкова). Отд. изд.: Пг., 1921. Фельетон направлен против излишне прямолинейного, по мнению Шкл., проведения в пьесе авторских концепций «театра для себя» и «театротерапии». Ср. у близкого ОПОЯЗу В. Казанского: «Как бы блестящи они (театральные новации. — А. Г.) ни были, они служили Евреинову только средствами борьбы с старой системой театра и поводом для демонстрации нового театропонимания», — и конкретно о «Самом главном»: «Такая реализация идеи „театра для себя“ мне кажется не раскрывающей самого ее ядра, а лишь скользящей по ее поверхности» (Казанский Б. Метод театра (анализ системы H. H. Евреинова). Л., 1925. С. 8, 57).
Я и мое пальто
Впервые — ЖИ. 30 дек. 1920 — 1–2 янв. 1921. № 646–648. Печ. по ХК, с. 180–187.
Камень на нитке
Впервые — ЖИ. 1921. 9–14 авг. Печ. по ХК, с. 188–195.
Свободный порт
Первопубликация не установлена. Печ. по ХК, с. 196–201.
Кухня царя
Впервые — ХК, с. 202–203 (в качестве послесловия к кн.).
В ХК Шкл. впервые печатно заявил о желании вернуться на родину. Уже 3 апр. 1922 г., через две недели после побега, он пишет Горькому: «Выживать же меня из России никому не нужно <…> Если бы я верил в русский суд, я поехал в Москву» (АГ, КГ-п 89–1–22). В окт. 1922 г. пишет жене: «Я хочу вернуться в Россию. <…> Я устал от Берлина и разлуки. <…> Жить без родины нельзя. Может быть, это без тебя» (449). По-видимому, тогда же Шкл. подает заявление во ВЦИК, о чем он сообщал жене в ноябре того же года: «Один мой знакомый (через Романа (Якобсона. — А. Г.)), Павел Николаевич Мостовенко[666], был в Москве и подал заявление о необходимости окончить мое дело. Он говорил об этом с Каменевым, Луначарским и, кажется, с Зиновьевым. Заявление подано Енукидзе и должно идти во ВЦИК. Дело стоящее. Я здесь вырождаюсь. Прошу Мариэтту (Шагинян. — А. Г.), Всеволода Иванова и всех прочих поехать в Москву выяснить дело, протолкнуть его у Енукидзе. Необходимо переговорить с Троцким. Натурально, я здесь очень сильно полевел. То же поручено сделать (хлопотать) Брику, но я знаю его рассеянность <…> Я виновен перед революцией. Она всегда такая. Я ошибся в темпе, я путался в ее ногах. Я не узнал ее» (449). Вопрос о возвращении обсуждался в переписке Шкл. в течение всего его пребывания за рубежом; в конце 1922-го — начале 1923 г. он пытался организовать нелегальный приезд в Берлин жены (освобожденной из заключения в сент. 1922 г.), но, по невыясненным обстоятельствам, этот приезд не состоялся. В июне 1923 г. он пишет ей: «Люсик, очень тяжело без родины. В России без меня разваливается мое дело, разваливается и уже остановилось. Леф халтурит, ОПОЯЗ молчит. В Госполитуправлении обещали меня не арестовывать. Я обязан работать и хочу в Россию. Люсик, родной мой, жена моя, русская культура не вывозима. Без работы жить нельзя» (450). В конце сент. — начале окт. 1923 г. Шкл. уехал из Берлина. В одном из последних своих писем из Берлина он писал М. Горькому: «15(-го) уезжаю в Россию. Паспорта еще нет. Делаю все самым глупым образом. Знаю, что не так, и все-таки делаю. Сейчас пишу Вам и пою: „Мой друг, о дай мне руку“. Слова песни установил с трудом.
Итак, я еду, и остальное зависит от крепости моих костей. <…>
Придется лгать, Алексей Максимович. Я знаю, придется лгать. Не жду хорошего.
Прощайте. „Пока“, как говорят, когда говорят плохо. Прощайте, Дука, я очень люблю Вас» (АГ, КГ-п 89–1–12).
Памятники Русской Революции
ЖИ. 1919. 28–29 июня. № 175–176, с. 2.
О новом искусстве
Журнал «Юный пролетарий». 1921. № 3–4. С. 19–20.
Старый запах
ЖИ. 1919. № 321. 19 дек.
Издание текста классиков
ЖИ. 1919. 6 июня. № 156.
План одного приблизительного подсчета
ЖИ. 1919. 27 авг. № 226, с. 1.
Репертуар школьного театра
ЖИ. 1919. 30–31 окт. № 280–281.
Купол Исаакиевского собора
ЖИ. 1919. 21 авг.
Эмиграция культуры
ЖИ. 1919. 18 дек.
К теории комического
Журнал «Эпопея». 1922. № 3. С. 57–67.
Шекспир на подмостках Железного зала
ЖИ. 1920. 19–21 нояб. № 610–612.
Театр на Мойке, 61
ЖИ. 1921. 15–17 июня.
Гондла
Журнал «Петербург». 1922. № 2. С. 22.
На высоком берегу
«Петербург». 1922. № 2. С. 14.
Тоска островитян
«Петербург». 1922. № 2. С. 15.
Книги в России
Газета «Голос России». 1922. 11 июня.
Литераторы и литература в Петербурге
Газета «Голос России». 1922. 31 мая.
Серапионовы братья
«Книжный угол». 1921. № 7. С. 18–21.
Первая ст. о серапионах, опубл. не позднее 15 ноября 1921 г. (обоснование даты: ПИЛК, с. 441) и ставшая, по позднейшему признанию одного из членов группы, ее «метрическим свидетельством» (Е. Полонская. Начало 20-х годов. — Простор. 1966. № 6. С. 144). Ранее — 1 ноября — было напечатано лишь информационное сообщение об организации группы (в числе членов которой был назван и Шкл.): Общество Серапионовых братьев. — Летопись Дома литераторов. 1921. № 1. С. 7. Немногим позднее появилась вторая ст. о серапионах, написанная М. Шагинян (ЖИ. 1921. 29 ноября. № 819; вошло в ее Собр. соч. В 9 т. Т. 1. М., 1971).
Днем рождения группы ее члены считали 1 февр. 1921 г.; в нее вошли М. Зощенко, Е. Полонская, И. Груздев, Л. Лунц и др. слушатели студии переводчиков при издательстве «Всемирная литература» (февр. — дек. 1919 г.), перешедшие затем в студию Дома искусств (с дек. 1919 г.). В конце 1920–1921 г. к ним присоединились В. Каверин, К. Федин, Вс. Иванов и Н. Тихонов (не упомянутый Шкл. в данной ст.). Шкл. преподавал в студии «Всемирной литературы» «теорию литературы» (ЖИ. 1919. 20 июня. № 168), в студии Дома искусств — «теорию художественной прозы» (ЖИ. 1919. 30 дек. № 330); 19 и 26 окт. 1921 г. в Доме искусств состоялись два вечера серапионов, которые вел Шкл. (Летопись Дома литераторов. 1921. № 1. С. 7).
Вопрос об издании сб. молодых писателей, затронутый в данной ст., Шкл. поднимал еще в середине 1920 г., предлагая его издательству «Алконост» (ПИЛК, с. 447. Ср.: Белов С. Мастер книги. М., 1979. С. 51). К апр. 1921 г. эту идею поддерживает М. Горький (Литературное наследство. Т. 70. С. 375–376), включивший в предварительный план сб. молодых и рассказ Шкл. «В пустоте» (там же. С. 376). Альманах вышел только в апр. 1922 г. (ПИЛК, с. 447) и был отмечен рец. А. Вороненого, Ю. Тынянова, Е. Замятина, И. Эренбурга и др. В перечне произведений серапионов, помещенном в сб., были указаны и кн. Шкл.
Вопрос о влиянии Шкл. (и формальной школы) на серапионов неоднократно обсуждался современниками и исследователями литературы. В студии Дома искусств вместе со Шкл. преподавали Тынянов и Эйхенбаум (Дом искусств. 1921. № 1. С. 70–71); некоторые серапионы принимали участие в работе ОПОЯЗа, перенесшего с дек. 1919 г. свои заседания в Дом искусств (в числе членов ОПОЯЗа называли Л. Лунца, М. Слонимского, Е. Полонскую, см.: ЖИ. 1919. 21 окт. № 273; Печать и революция. 1922. № 5. С. 393). Неменьшее значение имели и постоянные контакты Шкл. с серапионами, запечатленные в известных воспоминаниях В. Каверина, К. Федина, М. Слонимского, Е. Полонской, В. Познера, К. Чуковского и др. Современники часто ставили знак равенства между взглядами серапионов и формалистов (см. напр.: Лежнев И. О романе и всеобуче. — Россия. 1923. № 7). Вопрос этот исследован в современных работах: Piper D. Formalism and the Serapion Brothers. — The Slavonic and East European Review. 1969. № 47; Sheldon R. Śklovsky, Gorky and the Serapion Brothers. — The Slavic and East European Journal. 1968. Vol. 12. № 1. Влияние идей Шкл. (в первую очередь — о сюжетосложении) в наибольшей степени коснулось ранней прозы Л. Лунца, М. Слонимского и В. Каверина (последний, в частности, в своих воспоминаниях о Шкл. признавался: «<…> в те годы многие теоретико-литературные гипотезы Шкловского были мне близки, и в своей прозе я старался следовать его советам». — АШ). Особую остроту вопрос о членстве Шкл. в группе обрел после вынужденной эмиграции писателя в 1922 г. Отвечая на ст. П. Когана (Красная газета. 1922. 23 сент. № 215) и П. Лебедева-Полянского (Московский понедельник. 1922. 28 авг. № 11) о серапионах, Л. Лунц тогда утверждал: «<…> Виктор Шкловский — серапионов брат был и есть!» (Об идеологии и публицистике. — Новости (М.). 1922. 23 окт. № 3). В 1922–1923 гг. Шкл. неоднократно пишет о серапионах (с. 148–149, 179–181), в 1924 г. — в последний раз анализирует их творчество в рамках группы (с. 370–376).
Евгений Замятин
«Петербург». 1922. № 2. С. 20.
Вопрос о судьбе авантюрного романа в России, по-видимому, затрагивавшийся в устных беседах в кругу опоязовцев и серапионов в 1920–1921 гг. (см.: с. 140; ЭОЛ, с. 35), впервые печатно изложен в этой рец. Шкл. (янв. 1922), предварившей почти на год известную работу Л. Лунца «На Запад!» (датируется дек. 1922 г., опубл.: Беседа (Берлин). 1923. № 3). С пропагандой авантюрного романа Шкл. выступает и позднее (см. с. 192, а также его отчеты о его выступлении в ГИИИ — Русский современник. 1924. № 2. С. 276–277, в Доме печати — Вечерняя Москва. 1924. 22 ноября. № 268). Однако на оживление этого жанра в 1923–1925 гг. несомненно большее влияние, чем декларации Шкл., Лунца и др., имела программа «создания революционной романтики» и «коммунистического Пинкертона», выдвинутая Н. Бухариным (см., напр., его выступление на V съезде РКСМ 13 окт. 1922 г. — Правда. 1922. 14 окт. № 232); эта программа и стала своеобразным «социальным заказом», вызвавшим к жизни произведения М. Шагинян, В. Катаева, В. Каменского, М. Козырева и др., на которые ссылался позднее Шкл.
Федор Сологуб
«Петербург». 1922. № 2. С. 19–20. Подп.: В. Ш.
Анна Ахматова
«Петербург». 1922. № 2. С. 18.
Гипертрофия скептицизма
Журнал «Русский современник». 1924. № 1. С. 325 (без назв.).
Письмо о России и в Россию
«Новости литературы» (Берлин). 1922. № 2. С. 97–99.
Ст. предшествовал доклад Шкл. о жизни русских писателей в Петрограде, сделанный 15 сент. 1922 г. в берлинском Доме искусств (см.: Голос России (Берлин). 1922. 20 сент. № 1063). См. также его ст. «Литераторы и литература в Петербурге» — там же. 1922. 31 мая. № 978. Вторая часть ст. написана по поводу стих. фельетона И. Логинова «„Литературные портреты“: Виктор Шкловский», написанного в оскорбительном для Шкл. тоне: «Всегда во всем специалист: / То „демократ“, то литератор, / То учредиловский бомбист, / То боевик-организатор. / Он „по-ученому“ взрывал / В тылу железные дороги, / Чернов, буржуй и генерал — / Все ждали от него подмоги» и т. п. (Петроградская правда. 1922. 4 июля. № 146; ошибочно приписано Шкл. И. Садофьеву).
Оглум
«Голос России». 1922. 15 окт.
Пробники
Впервые — «Последние новости» (Л.). 1924. 19 марта. № 11. С изм. и доп. вошло во 2-е (Л., 1924. С. 65–67) и 3-е (Л., 1929. С. 101–103) изд. кн. «Zoo». Печ. по первопубликации.
Тема фельетона впервые намечена в письме Шкл. Горькому от 15 апр. 1922 г., в котором как «пробничество» он охарактеризовал свою политическую деятельность: «Мой роман с революцией глубоко несчастен. <…> Мы, правые социалисты, „ярили“ Россию для большевиков. Но, может быть, и большевики только „ярят“ Россию, а воспользуется ею „мужик“» (АГ, КГ-п 89–1–20).
Гибель «Русской Европы»
«Последние новости» (Л.). 1924. 7 апр. № 14.
РЕВОЛЮЦИЯ ФАКТА
Комментарии: А. Галушкин, И. Калинин, В. Познер
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
Впервые — ГС, с. 5 (в качестве предисл. к кн.).
В кн. ГС вошли материалы, печатавшиеся в периодике 1923–1928 гг., но современниками она была отмечена особо. Еще до ее выхода Ю. Тынянов писал Шкл.: «Украл в Изд-ве писат(елей) лист твоего Гамбурга. Хорошо, ясный голос. Символисты и проч. для тебя как Карамзин для Вяземского. Ты пишешь „без подходов“, чего требовал Мусоргский» (723). Позднее в ст. о Шкл. Тынянов отнес ГС к новому этапу его творчества (ПИЛК, с. 570). Восторженно принял ГС постоянный оппонент Шкл. К. Чуковский, в конце 1928 г. писавший Шкл.: «Прочтя теперь — с преступным запозданием — Ваш „Гамбургский счет“ (и перечтя раз десять подряд изумительный отрывок „Дрова“) и прочтя Ваши статьи о Толстом (книги я еще не читал), я вдруг увидел, что если есть в России сейчас нужный мне (моей душе) писатель, это Виктор Шкловский, писатель крепкий и вечно растущий и на десять голов переросший того, известного мне до сих пор Виктора Шкловского, которого я не слишком любил (как читатель) за жестокую и прямолинейную (как казалось мне тогда) схоластичность мышления, за ненавистную мне догматику в подходе к таким живокровным (для меня) организмам, как книги. Я счастлив, что я ошибся, что средневековье Вашей души давно миновало — и теперь каждая строка Ваших писаний стала мне насущно нужна. <…> Странно: когда я читаю теперь Ваши книги, я не слышу Вашего голоса и не вижу Вашего лица. Тот Шкловский, к-рый лезет из книг, перерос того, которого я знаю 18 лет» (755).
В печати ГС был отрецензирован О. Бескиным (Итог счета. — Читатель и писатель. 1928. 14 окт. № 41), В. Державиным (Критика (Харьков). 1928. № 4), Л. Повицким (Семь дней (Ташкент). 1928. № 17) и журн. «Печать и профсоюзы» (1928. № 7. Подп.: А. Ф.). Рецензенты писали о необоснованности «счета» Шкл. к современной литературе, основанного на узкоформальном подходе. «<…> Шкловскому надо переучиться и, отказавшись от „гамбургского счета“, усвоить обыкновенную арифметику и алгебру социальных явлений», — утверждал О. Бескин.
В 1949 г., в ходе кампании по «борьбе с космополитизмом», ГС был подвергнут критике как «абсолютно буржуазная, враждебная всему советскому искусству книга», «теоретический корень всей этой антипатриотической системы оценок» (Симонов К. Задачи советской драматургии и театральная политика. — Новый мир. 1949. № 3. С. 184); ответы Шкл. на критику, сохранившиеся в нескольких вариантах, остались неопубл. (141). См. об этом же в ст. Шкл. «Гамбургский счет» и «По большому счету» (Вопросы культуры речи. Вып. 6. М., 1965. С. 130); там же изложена и история рождения самого выражения «гамбургский счет», восходящего к устному рассказу Ивана Поддубного.
В наст. изд. из ГС не вошли разделы «Кино» (почти полностью — в ЗШЛ) и «Пробеги и пролеты» (цикл путевых очерков), а также рассказы «Дрова» и «Подписи под картинками» из раздела «Литература».
Какую литературу считал настоящей А. Пушкин
Впервые — НЛ. 1927. № 5. С. 5–7 (без назв., в составе коллективной «Записной книжки Лефа». Подп.: В. Ш.). Печ. по ГС, с. 9–12.
Несколько слов о Вячеполонском
Впервые — НЛ. 1927. № 3. C. 41–42 (в составе коллективной ст. Н. Асеева, О. Брика, В. Маяковского, А. Родченко, С. Третьякова, Н. Чужака и др. «Протокол о Полонском (выписка из стенограммы заседания сотрудников журнала „Новый Леф“ от 5/III 1927 г. Пункт 2-й текущих дел)»). Печ. по ГС, с. 13–14.
«Протокол…» явился ответом Лефа на ст. В. Полонского «Заметки журналиста. Леф или блеф?» (впервые — Известия. 1927. 25 февр. № 46 и 27 февр. № 48), посвященную НЛ. Полемика была продолжена на диспуте «Леф или блеф» 23.3.1927, в котором приняли участие Л. Авербах, Н. Асеев, О. Веснин, М. Левидов, В. Маяковский, И. Нусинов, В. Полонский и др. Выступление Шкл. на диспуте, судя по стенограмме, носило сдержанно-корректный характер: «Линию Полонский — Воронский при всем желании (?) приходится признать литературно-реакционной. Она не позволяет проявиться новым литературным формам. Письма Родченко[667] он называет письмами случайного человека. Не всегда Полонский может понять писателя, который располагает другими литературными тенденциями, чем он. Он не плохой человек, но литературно отсталый человек» (ИМЛИ, 18.1.17). Это выступление диссонировало с общим тоном дискуссии и последовавшей за диспутом полемики (см.: Полонский В. Критические заметки. Блеф продолжается. — Новый мир. 1927. № 5; Асеев Н. Поход твердолобых. — НЛ. 1927. № 5, а также стих. В. Маяковского «Венера Милосская и Вячеслав Полонский» — в том же номере НЛ).
Заготовки I
Впервые — НЛ. 1927. № 4. С. 7–8 (без назв., в составе «Записной книжки Лефа». Подп.: В. Ш.). Печ. по ГС, с. 15–17.
Сказочные люди
ГС, с. 18–19.
Ст. составили опубл. ранее ст. «Сказочные люди» (НЛ. 1927. № 7. С. 9; в составе «Записной книжки Лефа». Подп.: В. Ш.) и предисл. к кн.: Петровский Д. Повесть о Хлебникове. М., 1926. С. 3–4.
О красоте природы
Впервые — НЛ. 1927. № 4. С. 43–45 (под назв. «Митина любовь» Ивана Бунина). Печ. по ГС, с. 20–23.
Ст. написана в связи с изданием повести Бунина в СССР (Л., 1926). Ср. о Бунине замечания 1924 г.: с. 200.
Голый король
Впервые — Советский экран. 1926. № 8. С. 13 (под назв. «Лариса Рейснер»). С сокр. — ЗШЛ, с. 146–147. Печ. по ГС, с. 24–26.
В защиту социологического метода
Впервые — НЛ. 1927. № 3. С. 20–25. Печ. по ГС, с. 27–36.
Написано на основе доклада, прочитанного 6.3.1927 на «Диспуте о формальном методе»; в диспуте приняли также участие Ю. Тынянов, Б. Томашевский, Б. Эйхенбаум, Г. Горбачев, Л. Сейфуллина и др. (см. отчеты: Красная газета (веч. вып.). 1927. 8 марта. № 63; НЛ. 1927. № 4. С. 45–46). Критика Шкл. вульгарно-социологических построений В. Переверзева была оспорена Переверзевым и его учениками (Фохт У. Под знаком социологии. — Литература и марксизм. 1928. № 1; Переверзев В. Социологический метод и формалисты. — Там же. 1929. № 1, и др.). Параллельные собственные литературно-социологические эксперименты Шкл. — в его историко-литературных книгах (Матвей Комаров, житель города Москвы. Л., 1929; Чулков и Левшин. Л., 1933), в исторической прозе 1920–1930-х гг. Анализ «Капитанской дочки» послужил основой для сценария одноименного фильма (1929, реж. Ю. Тарич).
Некоторые исторические факты, приведенные Шкл. в данной ст., откорректированы современной наукой.
Душа двойной ширины
ГС, с. 37–41.
Ст. составили опубл. ранее в составе «Записной книжки Лефа» заметки: «Душа двойной ширины» (НЛ. 1927. № 4. С. 17–18. Подп.: В. Ш.), «Куда идет Горький», «Андрей Белый» и «О жанрах» (НЛ. 1927. № 6. С. 8–10. Подп.: В. Ш.).
Экстракт
Впервые — НЛ. 1927. № 4. С. 30–31 (под назв. «В защиту социологического метода (экстракт)»). Печ. по ГС, с. 42–44.
Заготовки II
ГС, с. 45–52.
Цикл составили: ответ Шкл. на анкету «Ваши пожелания художественной литературе» (Журналист. 1925. № 5. С. 31 — три первые заметки) и заметки из «Записной книжки Лефа» (НЛ. 1927. № 7. С. 7–9, без назв. Подп.: В. Ш.). В наст. изд. в «Заготовках II» опущены материалы внелитературного характера (быт современной деревни и т. п.).
Десять лет
Впервые — Октябрьская газета (однодневная газ. ФОСП). 1927. 8 окт. (под назв. «Десять лет назад»). Печ. по ГС, с. 57–59.
Бессмысленнейшая смерть
Впервые — Журналист. 1926. № 2. С. 14–15. В сокр. — Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969. С. 162–164 (под назв. «Путь вразрез»). Печ. по ГС, с. 60–62.
Зорич
Впервые — Журналист. 1925. № 6–7. С. 16–17 (под назв. «А. Зорич»). Печ. по ГС, с. 63–67.
Ст. явилась одной из первых советских работ о фельетоне (ср.: Шафир Я. От остроты к памфлету. М., 1925; Журбина Е. О современном фельетоне. — Печать и революция. 1926. № 7). В 1927 г. под маркой ГИИИ вышел сб. «Фельетон» — сост. И. Груздева, Е. Журбиной, В. Сержа и Вл. Шкловского и предисл. Ю. Тынянова и Б. Казанского.
Крашеный экспонат
Впервые — Журналист. 1927. № 2. С. 31–32 (с подзаголовком «По поводу статьи Зорича „Я за краски“!»). Печ. по ГС, с. 68–75.
Ст. Зорича была посвящена вопросу о соотношении «художественного вымысла» и «фактов» в фельетоне: «Я лично являюсь сторонником свободного, беллетристичного изложения факта, даже в тех случаях, когда речь идет о конкретных людях и совершенно конкретных действиях этих людей, подлинные имена которых мы называем в печати. <…> Эти факты я имею право облечь в фельетоне в литературную форму <…> И мне кажется, что такой вымысел, такая литературная вольность, которые не искажают смысла фактов, излагаемых в фельетоне, — могут и должны в нем допускаться» (Журналист. 1926. № 11. С. 7). В спор о «красках» вступили М. Кольцов (солидаризировавшийся со Шкл.), А. Зуев, Н. Погодин, Г. Рыклин (Фельетон. С. 49–52). «Насчет красок ты прав, — писал Тынянов Шкл. — Зорич, если бы не писал в газете, был бы Чехонте» (722).
Бабель
Впервые — Леф. 1924. № 2. С. 152–155 (под назв. «Исаак Бабель»). Печ. по ГС, с. 76–84.
Ст. написана между янв. (публикация в «Лефе» рассказов Бабеля) и авг. 1924 г. (когда вышел № 2 «Лефа»). 24 ноября того же года Шкл. принял участие в диспуте «О героях Бабеля» (см. изложение его в записи Д. Фурманова: Литературное наследство. Т. 74. С. 594–595). В 1925–1926 гг. Шкл. перерабатывает данную ст. в одну из глав кн. «О современной русской прозе» (работа не окончена — это и вызвало появление авторского примечания в ГС). Отр. из этой ст. были напечатаны в «Нашей газете». 1926. 12 июня. № 133 (под назв. «Бабель. К выходу книг „Конармия“, „История моей голубятни“ и других»). Приведем наиболее интересные рукописные фрагменты, корректирующие в значительной степени ст. 1924 г.: «Литературные произведения Бабеля представляют собой небольшие куски прозы со слабо выраженным сюжетным построением. Вся установка их дана не на сюжет, а на факт, обычно на его жестокость или „неслыханность“, и на стиль, в узком смысле слова, на способ описания. Как сюжетные построения вещи Бабеля при всей своей миниатюрности включают в себя вводные эпизоды. Это не означает, что Бабель умеет в малом дать многое, наоборот, это означает, что в силу отсутствия сюжетного построения Бабелю и в малом слишком просторно. Ему нужны бесчисленные случаи, чтобы заполнить свою вещь. <…> Бабель не разнообразен в способе писать. Он выбирает материал, позволяющий ему применить полубиблейский и перегруженный стиль. В работе своим материалом Бабель неточен и не способен детализировать. Каждому писателю положен свой предел, но пределы красочного Бабеля особенно строго ограничены. <…> Попытаемся формулировать особенности бабелевского стиля. Романтический пафос, достигаемый употреблением нарядных слов и перечислением нарядных предметов. Введение в литературу ряда запрещенных тем и образов „низкого характера“. Включение этих образов в эмоциональные ряды, построенные иногда по образцу романтического Гоголя, и достижение этим расхождения смыслового и интонационного ряда во фразе. Своеобразный выбор романтических тем и персонажей, мотивирующих этот прием. Всем этим достигается двойственность восприятия вещи. <…> Хороший ли писатель Бабель? Хороший. Культурный. Талантливый. Но он поднимает вещи за один край. Его способ изображения напряжен и беден. Он вымощен восторгом и отчаянием. <…> Ему нужно одно: стилистическое художественное хладнокровие и раскрытые — на вещь, а не разорванные от крика — глаза» (75). Сходно оценивал Бабеля Шкл. и позднее: см. его выступление в редакции журн. «Настоящее» (Настоящее. 1928. № 6–7. С. 6), отзыв 1932 г. (с. 452–454), ст. «О прошлом и настоящем» (Знамя. 1937. № 11. С. 284).
Современники и синхронисты
Впервые — Русский современник. 1924. № 3. С. 232–237. Печ. по ГС, с. 85–96.
Положения этой ст. дискутировались в печати; Г. Лелевич связал выводы Шкл. с «идейным разложением» буржуазии (Гиппократово лицо. — Красная новь. 1925. № 1), Н. Осинский оспорил оценку рассказов Вс. Иванова, объяснив его сюжетные «парадоксы» «натуралистской манерой писать» (Литературные заметки. — Правда. 1925. 28 июля. № 170). Ст. Шкл. — как и произведения Б. Пильняка и Е. Замятина, также помещенные в «Русском современнике», вызвала резкий отзыв М. Горького, писавшего, в частности, А. Тихонову: «Как сторонник „формального метода“ Шк(ловский) все глубже погружается в нигилизм, в скучнейшее „мещанство“ — и все более плохо думает о том, что пишет» (от 23 окт. 1924 г. — Горьковские чтения. 1953–1957. С. 48).
Начатки грамоты
Впервые. — Леф. 1924. № 1. С. 151 (без назв.). Печ. по ГС, с. 97–99.
В первоначальном издании рецензия имела другое начало: «Пьеса эта уже была в Лефе удачно, хотя и вскользь, прорецензирована т. Левидовым в статье „О театре масок“. Но на моем столе она лежит еще неубранным трупом».
Точки над «и»
Впервые — Леф. 1924. № 1. С. 152–153 (без назв.). Печ. по ГС, с. 100–103.
Рец., по-видимому, явилась (несколько запоздавшим) откликом на ст. А. Горнфельда о формалистах и, в частности, — о «Письме к Роману Якобсону» Шкл. (Новое искусство и его идеология. — Литературные записки. 1922. № 2; Формалисты и их противники. — там же. 1922. № 3). По поводу этих публикаций Ю. Тынянов и Б. Эйхенбаум в авг. 1922 г. направили А. Горнфельду личные письма и «Письмо в редакцию» за подписями Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума и Б. Томашевского (ПИЛК, с. 505–506) с протестом и против оценки автором работ Шкл. Отклик Шкл. из несохранившегося письма Эйхенбауму адресат передавал А. Горнфельду: «Горнфельду скажи, чтобы он меня не перешучивал. Меня его статья оскорбила. Передай ему, что верная дружба не изменила мне, что я и сейчас знаю, как сделана любовь. Она сделана, как Нюренбергская дева. А печку я поставлю в Берлине. Если он приедет, я дам ему у нее место» (ЦГАЛИ, 155.1.489).
Рецензия на эту книгу
ГС, с. 104–111.
В ст. вошли заметки, опубл. ранее в составе «Записной книжки Лефа» (НЛ. 1928. № 3. С. 20–21. Подп.: В. Ш.).
Журнал как литературная форма
Впервые — Журналист. 1924. № 11. С. 40–41. Печ. по ГС, с. 112–117.
Ст. связана с планировавшейся ОПОЯЗом в середине 1920-х гг. работой по истории русского журнала (еще в авг. 1923 г. в наброске к «истории русской литературы» Шкл. оговорил за собой тему «русский журнал»: письмо жене от 7.8.1923 — 450). Своеобразным опытом Шкл. в «журнальной форме» стал журн. «Петербург», два номера которого вышли под его редакцией в дек. 1921 — янв. 1922 г. (см. рец. С. Боброва — Печать и революция. 1922. № 2. Подп.: Э. Бик). Предложенный этим изд. тип тонкого иллюстрированного журн. с богатым литературным материалом (в «Петербурге» печатались А. Ахматова, Н. Тихонов, В. Ходасевич, М. Зощенко, Л. Лунц, Ю. Тынянов, М. Шагинян и др.) Шкл. и позднее считал наиболее перспективным для современной журналистики (см. об этом в его заметке «Подписи под картинками». — Журналист. 1925. № 11. Подп.: В. Ш.; в выступлении на диспуте об иллюстрированном журн. — там же. 1926. № 4). «Главное мое возражение против современных толстых журналов, — писал Шкл. о „Красной нови“, „Новом мире“, „Сибирских огнях“ и др., — это то, что они очень похожи друг на друга. <…> Прежде журналы отличались, главным образом, по своим политическим установкам. Сейчас, в условиях существования одной партии, они должны отличаться по ориентации на разного читателя, по свойству самого литературного материала и по тематике» (НЛП. 1928. № 20–21. С. 95). В 1929 г. в форме журнала выпустил свою кн. «Мой временник» Б. Эйхенбаум.
Светила, вращающиеся вокруг спутников, или Попутчики и их тени, или «влиятельные особы»
Впервые — Журналист. 1924. № 13. С. 20–21 (под назв. «Светила, вращающиеся вокруг спутников, или Попутчики и их тени»). Печ. по ГС, с. 118–121.
Ст. полемизирует с понятием литературного «попутничества»[668], вокруг которого в 1923–1924 гг. развернулась оживленная дискуссия (см., напр., полемику между Л. Троцким, Н. Бухариным, А. Воронским и др. и напостовцами в стенограмме особого совещания при ЦК РКП(б) от 9.5.1924 — в сб. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». М.; Л., 1925. С. 56–137). Конкретным поводом к ст. Шкл. послужили материалы первых номеров журн. «Октябрь» (орган МАПП) и «На посту» за 1924 г. — со ст. Г. Лелевича, произведениями А. Безыменского, А. Тарасова-Родионова и др. О творчестве упоминаемых Шкл. писателей Г. Лелевич, напр., писал, что Н. Тихонов «не пошел навстречу пролетарской литературе и потому покатился в болото голого, ненужного версификаторства», Вс. Иванов «за истекший год не только не приблизился к точке зрения рабочего класса, не только не приблизился к революции, но и наоборот, еще дальше отошел от нее», у В. Маяковского в «Про это» «вместо грозного бранного клича получился издерганный истерический вопль» (На посту. 1924. № 1. Стб. 82, 86, 90). На ст. Шкл. Г. Лелевич ответил в том же номере «Журналиста» ст. «Голос из ямы». Общую оценку «попутнической» дискуссии Шкл. дал в своем отклике на резолюцию ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы»: «Этот спор, создав группы напостовцев и попутчиков, сбил границы литературных группировок. Исчезло литературное общественное мнение. Как крапива росла хрестоматия. От литературы ждали короткого ответа, как от солдата в строю. Сегодня напостовцы демобилизованы и могут начать писать. Попутчики вернутся из полетов. О них можно будет писать не как о больных» (Журналист. 1925. № 8–9. С. 33).
Борьба за форму
Впервые — Молодость. <Сб. 1>. М., 1927. С. 297–300. Печ. по ГС, с. 122–126.
Подписи к картинкам
Печ. по ГС, с. 127–137.
Дрова
Впервые — Огонек. 1923. № 37. Также входили в ПО, с. 28–31. Печ. по ГС, с. 138–140.
Нечто вроде декларации
Впервые — Советский экран. 1926. № 1. Печ. по ГС, с. 153–145.
5 фельетонов об Эйзенштейне
Впервые — Советский экран. 1926. № 3. Печ. по ГС, с. 146–151.
О киноязыке
Впервые — Вечерняя Москва. 1926. 15 июня. Печ. по ГС, с. 152–156.
Голос из-за сценариев
ГС, с. 157–159.
Поэзия и проза в кинематографии
Впервые — Сб. «Поэтика кино» (М.: Кинопечать, 1927. С. 137–142). Печ. по ГС, с. 160–164.
Ошибки и изобретения
Впервые — Новый Леф. 1927. № 11–12. С. 29–33. Печ. по ГС, с. 165–173.
О рождении и жизни фэксов
Впервые — в кн.: Недоброво В. ФЭКС. Григорий Козинцев. Леонид Трауберг. М.; Л., 1928. Печ. по ГС, с. 174–178.
Сергей Эйзенштейн и «неигровая» фильма
Впервые — НЛ. 1927. № 4. С. 34–35. Печ. по ГС, с. 179–182.
Проселок
Впервые — Огонек. 1925. 13 сент. № 38. С. 15–16. Печ. по ГС, с. 185–192.
Деревня скучает по городу
Впервые — Журналист. 1925. № 8–9. Печ. по ГС, с. 193–195.
На самолете
Впервые — Огонек. 1925. 19 июля. № 30. С. 12 («На самолете „Лицом к деревне“»). Печ. по ГС, с. 196–198.
Что за хмарой
Впервые — Огонек. 1925. 2 авг. № 32. С. 14. Печ. по ГС, с. 199–201.
Деревня 1925 года
ГС, с. 202–214.
Трикотажные места и льняные поля
Впервые — Лен-пенька. 1925. № 22. Печ. по ГС, с. 215–219.
60 дней без службы
Впервые — НЛ. 1927. № 6. С. 17–32. Печ. по ГС, с. 220–237.
«60 дней без службы», первоначально опубликованный в НЛ, представлял собой текст, включавший в себя также и часть, посвященную поездке по Аджаристану, которая в составе ГС стала представлять собой отдельную статью.
Аджаристан
Впервые — НЛ. 1927. № 6. С. 17–32. Печ. по ГС, с. 238–248.
* * *
СТАТЬИ, ВЫШЕДШИЕ В ЖУРНАЛАХ «ЛЕФ» И «НОВЫЙ ЛЕФ»
Ленин, как деканонизатор
Леф. 1924. № 1. С. 53–56, по тексту которого печатается.
О писателе и производстве
Впервые — НЛ. 1927. № 1. С. 29–33 (назв. «О писателе»). Вошла в кн.: Техника писательского мастерства, 1927. С. 13–16, а также сб.: Литература факта / Ред. Н. Чужак. М., 1929. С. 189–194, по тексту которого печатается.
Под знаком разделительным
НЛ. 1928. № 11. С. 44–46, по тексту которого печатается.
О самом знаменитом писателе
НЛ. 1928. № 8. С. 24–30. Вошла в кн.: Матвей Комаров: житель города Москвы, 1929. Печатается по первому изданию.
Китовые мели и фарватеры
НЛ. 1928. № 9. С. 27–30, по тексту которого печатается. Первые две части статьи (под назв. «Тогда и сейчас») вошли в сб.: Литература факта.
О Пильняке
Леф. 1925. № 3. С. 126–136, вошло в кн.: Пять человек знакомых, 1927. С. 69–91. Печатается по первому изданию.
Несколько слов о четырехстах миллионах
НЛ. 1928. № 3. С. 41–44, вошла в сб.: Литература факта, 1929. С. 246–248, а также в кн: Поденщина, 1930. С. 97. Печатается по первому изданию.
Причины неудачи
НЛ. 1928. № 4. С. 27–36, по тексту которого печатается.
Факт быта и факт литературный
Вечерняя Москва. 1929. 14 декабря, по тексту которого печатается.
По поводу картины Эсфири Шуб
НЛ. 1927. № 8–9. С. 52–54, по тексту которого печатается.
Документальный Толстой
НЛ. 1928. № 10. С. 34–36. Вошло в кн.: Поденщина, 1930. С. 165–169. Печатается по первому изданию.
Горький как рецензент
НЛ. 1928. № 9. С. 42–44. Вошел в кн.: Поденщина. С. 196–192. Печатается по первому изданию.
Новооткрытый Пушкин
НЛ. 1928. № 11. С. 47–48. Вошел в кн.: Поденщина. С. 181–185. Печатается по первому изданию.
Преступление эпигона
НЛ. 1928. № 4. С. 36–39. Вошла в сб.: Литература факта. С. 130–135, по тексту которого печатается.
«103 дня на Западе» Б. Кушнера
НЛ. 1927. № 11–12. С. 71–72. Вошла в кн.: Поденщина. С. 193–196, и сб.: Литература факта. С. 248–250, по тексту которого печатается.
Люди и бороды
НЛ. 1928. № 8. С. 37–38. Вошла в сб.: Литература факта. С. 258–260, по тексту которого печатается.
В заключение
В сб.: Литература факта.
РЕВОЛЮЦИЯ МЕДИА
Комментарии: А. Галушкин, И. Калинин, В. Познер
Условные сокращения
ГС Гамбургский счет. Издательство писателей в Ленинграде, 1928.
ЖБ Жили-были. М.: Советский писатель, 1964.
ЗаСЛ За сорок лет. Статьи о кино. М.: Искусство, 1965.
ИК журнал «Искусство кино».
ЛГ «Литературная газета».
ЛиК Литература и кинематограф. Берлин: Русское универсальное издательство, 1923.
П Поденщина. Издательство писателей в Ленинграде, 1930.
СЭ журнал «Советский экран».
Семантика кино
«Киножурнал АРК». 1925. № 8. С. 5.
Эйзенштейн
Впервые — Эйзенштейн. Броненосец «Потемкин». М.: Кинопечать, 1926. С. 5–9. Вошло в «ЗаСЛ» (с. 36–38). Печатается по тексту первой публикации.
Доверие времени
Газета «Кино». 1926. 29 июня, по тексту которой печатается.
Пограничная линия
Впервые — газета «Кино» (1927. 22 марта). Вошло в «П» (с. 100–104) и «ЗаСЛ» (с. 109–111). Печатается по тексту «П».
О законах строения фильм Эйзенштейна
Впервые — «СЭ» (1929. № 6–7). Вошло в «П» (с. 105–112), по тексту которой печатается.
Куда шагает Дзига Вертов?
«СЭ» (1926. № 32. С. 4), по тексту которого печатается.
Пудовкин
Газета «Кино» (1926. № 36), по тексту которой печатается.
К февральской годовщине
Газета «Кино» (1927. 12 марта), по тексту которой печатается.
Эсфирь Шуб
Журнал «ИК» (1940. № 1–2, с. 93), по тексту которого печатается.
Их настоящее
М.; Л.: Кинопечать, 1927. Со значительными сокращениями и стилистической правкой вошло в «ЗаСЛ» (с. 43–56, 65–87, 93–96). Печатается по первому изданию.
К вопросу об изучении зрителя
Впервые — «СЭ» (1928. № 50). Вошло в «П» (с. 89–94), по тексту которой печатается.
Стандартные картины и ленинская пропорция
Под названием «Ленинская пропорция» опубликовано в «СЭ» (1928. № 41). Вошло в «П» (с. 156–160), по тексту которой печатается.
Рождение советского кино
Написано в 1963 г. для «ЗаСЛ» (с. 25–30), по тексту которого печатается.
О Дзиге Вертове
Опубликовано в книге «Дзига Вертов в воспоминаниях современников» (М.: Искусство, 1976. С. 171–183), по тексту которой печатается.
Об Эсфири Шуб и ее кинематографическом опыте
Опубликовано в «ИК» (1969. № 5. С. 109–116), по тексту которого печатается.
Дворец, крепость и кинематограф
Опубликовано в «Зрелища» (1924. № 76. С. 14.), по тексту которого печатается.
«Степан Разин» в кино
Опубликовано в «Литературной газете» (20.08.1935. № 46. С. 5), по тексту которой печатается.
Каким был Пугачев?
Опубликовано в газете «Кино» (1937. № 54). Вошло в «ЗаСЛ» (с. 158–163), по тексту которого печатается.
Фильма о Сакко и Ванцетти
Опубликовано в журнале «СЭ» (1927. № 37. С.4), по тексту которого печатается.
«Да здравствует Вилья!»
Опубликовано в «Литературной газете» (28.02.1935. № 12).
«Ленин в октябре»
Опубликовано в журнале «Смена» (1938. № 1. С. 27–28), по тексту которого печатается.
О новых путях кино
Опубликовано в журнале «Знамя» (1938. № 3. С. 264–271). Вошло в «ЗаСЛ» (с. 163–170), по тексту которого печатается.
ПАМЯТНИК РЕВОЛЮЦИИ
Комментарии: А. Галушкин, И. Калинин
Памятник научной ошибке
Литературная газета. 1930. 27 января. № 4 (41). С. 1.
О формализме
Литературный Ленинград. 1936. 26 апреля. № 20 (165). С. 3.
Взрыхлять целину
Литературная газета. 1936. 15 марта. № 16 (579). С. 3.
Разговор с друзьями (о формализме в кино)
Звезда. 1936. № 8. С. 185–198.
Простота — закономерность
Литературная газета. 1933. 5 июня. № 26 (254). С. 2.
О прошлом и настоящем
Знамя. 1937. № 11. С. 278–288.
Письмо C. М. Эйзенштейну
Подготовка последующих трех текстов и примечания к ним А. Ю. Галушкина.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрамович Д. И.
Аввакум
Авенариус Р.
Аверченко А. Т.
Авзоний
Адонц Г. Г.
Айхенвальд Ю. И.
Алданов М. А. (Ландау)
Алейников М.
Александр I
Александр II
Александр III
Александр Македонский
Александров Г. В.
Алексей Михайлович, царь московский
Альбала А.
Альтман Н. И.
Амфитеатров А. В.
Андерсен Г. Х.
Андреев Л. Н.
Андреева М. Ф.
Анненков П. В.
Анненков Ю. П.
Анненский И. Ф.
Ариосто Л.
Аристотель
Аристофан
Асеев Н. Н.
Афанасьев А. Н.
Ахматова А. А.
Ахметели А. В.
Ахшарумов Н. Д.
Бабель И. Э.
Багрицкий Э. Д.
Баженов В. И.
Байрон Дж. Г.
Бакунин М. А.
Балаш Б.
Бальзак О. де
Бальмонт К. Д.
Баранов-Россинэ В. Д.
Барановская В. В.
Барбюс А.
Барский В. Г.
Бассалыго Д. Н.
Батюшков К. Н.
Батюшков Ф. Д.
Бахметьев В. М.
Бахрушин А. А.
Бебутов В. М.
Бедный Д.
Безыменский А. И.
Бейдеман М. С.
Бекетова М. А.
Белинский В. Г.
Белицкий Е. Я.
Белый А.
Беляков А. В.
Бенуа А. Н.
Беренштам Ф. Г. (Бернштам)
Бернштейн С. И.
Бетховен Л. ван
Бичер-Стоу Г.
Блок А. А.
Блох М. Ф.
Блудов Д. Н.
Блюм В. И. (Садко)
Бляхин П. А.
Богатырев П. Г.
Богданов А. А.
Бодлер Ш.
Бодуэн де Куртенэ И. А.
Боккаччо Дж.
Болотов А. Т.
Бонди С. М.
Боратынский Е. А.
Боткин В. П.
Брем А. Э.
Брик О. М.
Брокгауз Ф. А. («словарь Брокгауза»)
Бруни Л. А.
Брюнетьер Ф.
Брюсов В. Я.
Брянцева А. В.
Будберг М. И. (Закревская-Бенкендорф)
Буденный С. М.
Булгаков М. А.
Булгарин Ф. В.
Бунин И. А.
Бурлюк Д. Д.
Бухарин Н. И.
Быстрянский В. А.
Бюффон Ж.-Л. де
Вагинов К. К.
Вагнер Р.
Вадбольский Н. П.
Вакулинчук
Ван Гог В.
Ванцетти Б.
Васильевы братья (Г. Н. и С. Д. Васильевы)
Ведзягольский К.
Вейдт Г. В. К. (Фейдт)
Вейсман Е.
Векслер А. Л.
Вельтман А. Ф.
Вёльфлин Г.
Венгеров В. С.
Венгеров С. А.
Вергилий (Публий Вергилий Марон)
Вересаев В. В.
Верн Ж.
Вертов Д. (Кауфман Д. А.)
Верхарн Э.
Верховский А. И.
Веселовский А. Н.
Виардо П.
Вигель Ф. Ф.
Вид В. (князь Вильгельм I)
Вилламовиц-Мёллендорф У. фон
Виньола Дж. ди
Вишняк А. Г.
Войтоловский Л. Н.
Волынский А. Л.
Вольтер
Воронский А. К.
Востоков А. Х.
Врангель П. Н.
Вульф А. Н.
Вундт В.
Выгодский Д. И.
Вяземский П. А.
Габрилович Е. И.
Галаджев П. С.
Галич А. И. (Говоров)
Гамсун К.
Ган А. М.
Ганнибал А. П.
Ганслик Э.
Гапон Г. А.
Гардин В. Р.
Гарин Э. П.
Гарт Б.
Гаршин В. М.
Гастев А. К.
Гваренги
Геббель Ф. К. (Хеббель)
Гегель Г. В. Ф.
Гейне Г.
Гельмгольц Г. фон
Геннади Г. Н.
Георги (Конисский), архиепископ
Герасимов М. П.
Герасимов С. А.
Гераклит
Герман Ю. П.
Герцен А. И.
Гёте И.-Ф.
Гильдебрандт А. фон
Гильфердинг А. Ф.
Гинцбург И. Я.
Гиппиус В. В.
Гиппиус З. Н.
Гладков Ф. В.
Глазунов А. И.
Гнедов В.
Гоголь Н. В.
Голенищев-Кутузов П. В.
Голлербах Э. Ф.
Головня А. Д.
Гольберг Л. (Хольберг)
Гомер
Гонгора Л. де (Гонгора-и-Арготе)
Гонкур братья (Гонкур Ж., Гонкур Э.)
Гончаров И. А.
Гончарова А. В.
Горнфельд А. Г.
Горький М. (Пешков А. М.)
Гофман Э. Т. А.
Граммон М. (Grammont Maurice)
Грановский А. М.
Гребнер Г. Э.
Гревс И. М.
Гретер Я. (завод Гретера)
Гржебин З. И.
Грибоедов А. С.
Григорович Д. В.
Григорьев Н. А., атаман
Гримм Я.
Грин А. С.
Гринман И. А.
Гриффит Д. У.
Гроссе Э.
Гроссман-Рощин И. С.
Груздев И. А.
Гумбольдт А. фон
Гумилев Н. С.
Гуро Е. Г.
Гутенберг И.
Гучков А. И.
Гюго В.
Гюйо Ж. М.
Д’Аламбер Ж. Л.
Даль В. И.
Даманская А. Ф.
Даниель А.
Даниил Романович, князь Галицкий
Данте Алегьери
Дантес Ж. Ш.
Делакруа Э.
Дельвари Ж. (Кучинский Г. И.)
Дементьев Н. И.
Державин Г. Р.
Державин К. Н.
Джером Клапка Джером
Джойс Дж.
Джотто ди Бондоне
Дзержинский Ф. Э.
Дидро Д.
Диккенс Ч.
Диоген Синопский
Довженко А. П.
Доллер М. И.
Донской М. С.
Доронин М. И.
Дорохин Н. И.
Дорошевич В. М.
Дорэ Г.
Достоевский Ф. М.
Дранков А. О.
Дроздов А. М.
Дункан А.
Дуров В. Л.
Дурова Н. А.
Дыбенко П. Е.
Дюма А.
Евреинов Н. Н.
Еврипид
Егоров В. Е.
Екатерина I
Екатерина II
Ермак Тимофеевич, атаман
Есенин С. А.
Жанен Ж.-Г.
Жаров А. А.
Жирмунский В. М.
Жуи В.-Ж. Э. де
Жуков И. Н.
Жуковский В. А.
Завадовский М. М.
Завадье В. З.
Загоскин М. Н.
Зайцев Б. К.
Замятин Е. И.
Зорич А. (Локоть В. Т.)
Зархи А. Г.
Зархи Н. А.
Зеленин Д. С.
Зелинский Ф. Ф.
Зиновьев Г. Е.
Зозуля Е. Д.
Золя Э.
Зотов Н. М.
Зощенко М. М.
Иакинф (Бичурин Н. Я.), архимандрит
Иван IV Грозный
Иванов Вс. Вяч.
Иванов Вяч. И.
Иванов-Разумник Р. В.
Игнатий Богоносец
Иезекииль
Иеремия
Икскуль фон Гильденбанд В. И.
Иловайский Д. И.
Иммерман К. Б.
Иоанн Индийский
Иоанн Креститель
Иосиф, митрополит
Ирецкий (Гликман В. Я.)
Ириней Лионский
Каверин В. А. (Зильбер)
Казин В. В.
Каледин А. М.
Калинин М. И.
Кальдерон (Кальдерон де ла Барка П.)
Каменев Л. Б.
Каменский В. В.
Кант И.
Кантемир А. Д.
Каплер А. Я.
Карамзин Н. М.
Карев А. Е.
Карл Великий
Карлейль Т.
Катаев В. П.
Катенин П. А.
Катилина
Керенский А. Ф.
Керженцев П. М. (Лебедев)
Керн А. П.
Киплинг Р.
Кирсанов С. И.
Киршон В. М.
Китерман Б.
Китон Б. (Китон Дж. Ф.)
Клюев Н. А.
Ключевский В. О.
Ковалевский Е. П.
Коган П. С.
Коген Г. (Kohen H.)
Козинцев Г. М.
Козырев М. Я.
Колумб Х.
Кольцов А. В.
Кольцов М. Е. (Фридлянд М.)
Комаров М.
Комаров С. П.
Конан Дойль А.
Конвей Дж.
Коновалов Д. Г.
Конрад Дж.
Корнилов Л. Г.
Короленко В. Г.
Костомаров Н. И.
Краевич К. Д.
Крайский А. П.
Краснов П. Н.
Кренкель Э. Т.
Кривонос М.
Криммер Э. М.
Крученых А. Е.
Крыленко Н. В.
Крылов И. А.
Крюзе Дж. (Круз)
Ксенофонт
Куган Дж.
Кузнецов Е. М.
Кузмин М. А.
Кукольник Н. В.
Кулешов Л. В.
Курилко М. И.
Курочкин В. С.
Кусиков А. Б.
Кутузов М. И.
Кушнер Б. А.
Кшесинская М. Ф.
Кюхельбекер В. К.
Лавренёв Б. А.
Лагарп Ф. С.
Ладыжников И. П.
Лажечников И. И.
Лаппо-Данилевская Н. А.
Ларин Б. А.
Лебедев В. В.
Лебедев Н. А.
Левидов М. Ю.
Левшин В. А.
Лелевич Г.
Лембич М. С.
Ленин В. И.
Леонардо да Винчи
Леонидов Б. Л.
Леонидов Л. М.
Леонов Л. М.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Лесаж А.-Р.
Лесков Н. С.
Лессинг Г. Э.
Летауер Э. Э.
Либединский Ю. Н.
Либер М. И.
Ливанов Б. Н.
Ливий Тит
Лившиц Б. К.
Линде Ф. Ф.
Линдер М.
Ллойд Г.
Локк Дж.
Локшина Х. А.
Ломоносов М. В.
Лонгфелло Г. И.
Лондон Дж.
Лукомский Г. К.
Луначарский А. В.
Лунц Л. Н.
Лурье А. С.
Львов П. И.
Людвиг Э.
Люмьер братья (Л. Ж. и О. Л.)
Лялевич М. С.
Ляпунов П. П.
Маврин С. И.
Майн Рид (Рид Т. М.)
Макаров П. И.
Макаров С. О.
Маккавейский В. Н.
Малевич К. С.
Малларме
Мало Г.
Мандельштам О. Э.
Марино Дж.
Марков А. В.
Маркс К.
Марло К.
Мариетт Дж.
Марселис П. Г.
Марцадури М.
Мар-Шимун XIX Беньямин
Масютин В. Н.
Махно Н. И.
Маяковский В. В.
Мгебров А. А.
Мейерхольд В. Э.
Мейман Э.
Мельников-Печерский П. И.
Менандр
Менделеева Л. Д.
Мережковский Д. С.
Мериме П.
Мертенс Ф. Л.
Метьюрин Ч. Р.
Микеланджело Буонарроти
Миклашевский К. М.
Милюков П. Н.
Минаев Д. Д.
Мирабо О. Г. Р.
Митурич П. В.
Моисеенко Б. Н.
Мольер
Монтегю А.
Монферран О.
Мопассан Г. де
Морозов Д. А.
Москвин А. Н.
Москвин И. М.
Мостовенко П. Н.
Мстиславский С. Д.
Музиль Н. И.
Мур Лео (Мурашко Л. И.)
Муравьев А. Н.
Муссолини Б.
Надсон С. Я.
Наживин И. Ф.
Наполеон
Недоброво Н. В.
Некрасов Н. А.
Немирович-Данченко В. И.
Нечаев А. П.
Нечаев С. Г.
Никандров В. Н.
Никитин В. П.
Никитин Н. Н.
Николай I
Николай II, российский император
Николай Николаевич, великий князь
Никулин Л. В.
Нобель А.
Норов А. С.
Нума Помпилий
Овидий Публий Назон
Овсянико-Куликовский Д. Н.
Огнев Н. (Розанов М. Г.)
Одоевский В. Ф.
Озаровский Ю. Э.
Окс В. Б.
Олеша Ю. К.
Олигер Н. Ф.
Ольдекоп Е. И.
Ончуков Н. Е.
Орлов А. А.
Осинский Н. (Оболенский В. В.)
Остолопов Н. Ф.
Островский А. Н.
Охлопков Н. П.
Охотницкая Н. П.
Оцеп Ф. А.
Оцуп Н. А.
Павел I
Павел, апостол
Павленко П. А.
Павлов И. П.
Павлова А. П.
Панаева-Головачева А. Я.
Пастернак Б. Л.
Пат и Паташон (Шенстрём К., Мадсен Х.)
Пенкайтис В. И.
Переверзев В. Ф.
Перестиани И. Н.
Перовский А.
Петлюра С. В.
Петников Г. Н.
Петр I
Петр III, император российский
Петражицкий Л. И.
Петрарка
Петров-Бытов П. П.
Петровский Д. В.
Пикассо П.
Пиль Гарри (Пилль Г. А.)
Пильняк Б. А.
Пиотровский А. И.
Пиранези Дж. Б.
Плавт Тит Макций
Платонов А. П. (Климентов)
Плеханов Г. В.
Плиний Мл.
Плутарх
По Э. А.
Погодин А. Л.
Познер В. С.
Покровский Е. А.
Полевой Н. А.
Поливанов Е. Д.
Поло М.
Полонская Е. Г.
Полонский В. П.
Пономарев М. П.
Потапов А. Н.
Потебня А. А.
Правов И. К.
Преображенская О. И.
Пржевальский М. А.
Пришвин М. М.
Прозоровский И. С.
Протазанов Я. А.
Прутков К.
Пуанкаре А.
Пугачев Е. И.
Пудовкин В. И.
Пуни И. А.
Пушкин А. С.
Пчельников П. Н.
Пяст В. А.
Рабинович И. М.
Рабле Ф.
Радек К. Б.
Радищев А. Н.
Радищев Н. К. (Чуковский)
Радклиф А.
Радлов С. Э.
Радлова А. Д.
Рафес М. Г.
Разин С. Т.
Райзман Ю. Я.
Расин Ж.-Б.
Раскольников Ф. Ф.
Распутин Г. Е.
Растрелли Б. Ф.
Ратцель Ф.
Рафалович С. Л.
Рейснер Л. М.
Ремизов А. М.
Репин И. Е.
Рети Р.
Рибо Т.
Ринальди А.
Рихтер З. В.
Ричардсон С.
Робеспьер М.
Роден О.
Родзянко М. В.
Родченко А. М.
Рождественский В. А.
Рожков Н. А.
Розанов В. В.
Розанов И. Н.
Розанова О. В.
Розен Г. В.
Роллан Р.
Ромэн Ж.
Романов Е. Р.
Романов Николай Николаевич, великий князь
Роом А. М.
Ростан Э.
Рошаль Г. Л.
Руссо Ж.-Ж.
Рыбников П. Н.
Сабинский Ч. Г.
Савинков Б. В.
Савченко И. А.
Садовников Д. Н.
Садофьев И. И.
Сакко Н.
Сакулин П. Н.
Салтыков-Щедрин М. Е.
Самойлова Т. Е.
Сарду В.
Саянов В. М.
Свердлин Л. Н.
Светлов М. А.
Светозаров Б. Ф.
Свешников Б.
Свилова Е. И.
Свифт Дж.
Северянин И.
Сейфуллина Л. Н.
Сёлли Дж.
Семенов Г. М.
Семенов М. Н.
Сенкевич Г.
Сенковский О. И.
Серафимович А. С.
Сервантес М.
Симон (Симеон), апостол
Синайский В. А.
Синко (Симко) Исмаил-ага, курдский хан
Синьяк П.
Сиповский В. В.
Сирано де Бержерак Э. С.
Скоробогатов К. В.
Скоропадский П. П.
Скотт В.
Скшетуский Н.
Словацкий Ю.
Слонимский М. Л.
Соболевский А. И.
Соколихин Н. Н.
Соловьев В. Н.
Соловьев В. С.
Соловьев С. М.
Сологуб Ф. К.
Сорокин П. А.
Сосновский Л. С.
Софокл
Спенсер Г.
Срезневский И. И.
Ставский В. П.
Сталин И. В.
Станиславский К. С.
Стендаль
Степанов Н. Л.
Стерн Л.
Стивенсон Р. Л.
Стогов Н. Н.
Сторицын П. И.
Стрейс Я. Я. (Стрюйс)
Сумароков П.
Сунь Ятсен
Суханов Н. Н.
Сушкова Е. А.
Сю Э.
Сюлли Прюдом
Тамара, царица Грузии
Тарич Ю. В.
Таск Е. Я.
Татлин В. Е.
Твен М.
Терещенко М. И.
Тик Л.
Тимур (Тамерлан)
Тиссэ Э. К.
Тихонов Н. С.
Тихонравов Н. С.
Толстая С. А.
Толстой А. Н.
Толстой Л. Н.
Томон Т. де
Трауберг Л. З.
Тредиаковский В. К.
Третьяков С. М.
Триоле Э.
Троцкий Л. Д.
Тургенев И. С.
Тынянов Ю. Н.
Тэн И.
Тэффи (Лохвицкая Н. А.)
Тютчев Ф. И.
Успенский Г. И.
Уткин А. А.
Уткин И. П.
Ушаков В. А.
Ушаков Д. Н.
Ушаков Н. Н.
Уэллс Г.
Фадеев А. А.
Федин К. А.
Федотов А. Ф.
Феллини Ф.
Феррари Е. (Ревзина О. Ф.)
Фет А. А.
Фидлер Ф. Ф.
Фильдинг Г.
Филоненко М. М.
Филонов П. Н.
Философов Д. В.
Фиш Г. С.
Флобер Г.
Фогель В. П.
Фокин М. М.
Фокс Дж.
Фореггер Н. М.
Форш О. Д.
Фофанов К. К.
Франс А.
Фрейд З.
Фриче В. М.
Фурманов Д. А.
Фэн Юйсян (Фын Юй-Сян)
Халилов М. М. (Халил Бек)
Халил-паша (Халил-Кут)
Харциев В. И.
Хект Б.
Херасков М. М.
Хлебников В.
Хлопуша (Соколов А. Т.)
Хмельницкий Б.
Ховин В. М.
Ходасевич В. М.
Ходасевич В. Ф.
Хохлова А. С.
Христиансен Б.
Хусейн ибн Али (Гусейн), имам
Цицерон
Чаадаев П. Я.
Чайковский П. И.
Чаплин Ч.
Чардынин П. И.
Чекан Е. В.
Чекрыгин В. Н.
Чемберлен Н.
Черемисов В. А.
Черкасов Н. К.
Чернов В. М.
Чернышевский Н. Г.
Чертков В. Г.
Честертон Г. К.
Чехов А. П.
Чехов М. А.
Чинизелли Г.
Чужак Н. Ф.
Чуковский К. И.
Чулков Г. И.
Чулков М. Д.
Чхеидзе Н. С.
Шагинян М. С.
Шайкевич В. В.
Шаляпин Ф. И.
Шатобриан Р.
Шахматов А. А.
Шацкий С. Т.
Шведчиков К. М.
Шевченко Т. Г.
Шед В. А.
Шекспир У.
Шенгелай Г. Н.
Шиллер Ф.
Шильдкрет К. Г.
Ширяевец А.
Шишков А. С.
Шишмарев В. Ф.
Шкловская-Корди В. Г.
Шкловский А. В. (дядя Ш.)
Шкловский Вл. Б. (брат Ш.)
Школьник И. С.
Шолохов М. А.
Шопен Ф.
Шпенглер О.
Штейнгель Ф. Р. (барон Штейнгель)
Штеренберг Д. П.
Штирнер М. («штирнеровцы»)
Штольдер Н. Н.
Штраух М. М.
Шуб Э. И.
Щеголев П. Е.
Щепкин М. С.
Щерба Л. В.
Щербатский Ф. И.
Щербачев Д. Г.
Щукин Б. В.
Щукин С. И.
Эдисон Т. А.
Эйзенштейн С. М.
Эйнштейн А.
Эйхенбаум Б. М.
Эйхлерова А. Л.
Элов Ага-Петрос
Эмин Ф. А.
Эмпедокл
Энгельс Ф.
Эренбург И. Г.
Эркман-Шатриан (Шатриан А., Экрман Э.)
Эрмлер Ф. М.
Эрн Н. Ф.
Эртель А. И.
Эсхил
Эфрос А. В.
Юденич Н. Н.
Юткевич С. И.
Языков Н. М.
Якобсон Р. О.
Яковлев К. Н.
Яковлев К. Я., атаман
Якубинский Л. П.
Над книгой работали
Виктор Шкловский
Собрание сочинений. Том 1. Революция
Дизайнер Д. Черногаев
Редактор И. Калинин
Корректор С. Крючкова
Верстка Д. Макаровский
Адрес издательства:
123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229–91–03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
сайт: nlobooks.ru
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
facebook.com/nlobooks
vk.com/nlobooks
twitter.com/idnlo
Новое литературное обозрение
Примечания
1
Фильм «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский». Творческое объединение «Экран» (1977). Режиссер Юрий Белянкин.
(обратно)2
Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 68.
(обратно)3
Первая часть этой книги, «Революция и фронт», а также ряд газетных публикаций, посвященных социальным реалиям между февралем и октябрем 1917 г., входят в состав данного тома.
(обратно)4
Панченко О. Виктор Шкловский: текст — миф — реальность (к проблеме литературной и языковой личности). Szczecin, 1997. С. 25.
(обратно)5
Шкловский В. Указ. соч. С. 73.
(обратно)6
Hansen-Lve A. A. «Бытология» между фактами и функциями // Revue des tudes slaves. 1985. T. 57. Fasc. 1. P. 91.
(обратно)7
Steiner P. Russian Formalism: A Metapoetics. Ithaca; London: Cornell University Press, 1984. P. 265.
(обратно)8
См.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 62–63.
(обратно)9
Ср.: «Революцию нельзя судить, ей надо помочь и прыгнуть вперед, чтобы весом усилить ее вес и скорость» («Памятник Третьему Интернационалу», 1921).
(обратно)10
Об этом см.: Калинин И. История как искусство членораздельности // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 103–131.
(обратно)11
Кайуа Р. Война и сакральное // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 277.
(обратно)12
Ср.: «И в странном быту, крепком, как пластинчатая цепь Галя, долгом, как очередь, самое странное, что интерес к булке равен интересу к жизни, что все, что осталось в душе, кажется равным, все было равным» («Сентиментальное путешествие»).
(обратно)13
Ср.: во время праздника «дозволяются любые эксцессы, так как именно от эксцессов, растрат, оргий и насилий общество ожидает своего возрождения. Со взрывом и изнеможением оно связывает свои надежды на новую силу» — Кайуа Р. Указ. соч. С. 278. Единственным феноменом, который, с точки зрения Кайуа, может сравниться с праздником по грандиозности социальной мобилизации, является война.
(обратно)14
Lukcs G. ber den Dostojewski Nachlass // Moskauer Rundschau. 1931. March.
(обратно)15
Ср.: «Широкие массы довольствуются рыночным искусством, но рыночное искусство показывает смерть искусства… Века расцвета искусства не знали, что значит „базарная мебель“» («Воскрешение слова»).
(обратно)16
О «романтическом антикапитализме» в этом расширенном и ушедшем от оценочности Лукача смысле см.: Sayre R., Lwy M. Figures of Romantic Anticapitalism // New German Critique. 1984. Vol. 32. P. 42–91.
(обратно)17
В состав второго тома эта книга войдет целиком.
(обратно)18
Комментарии из кн.: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990; а также из журналов: De Visu. 1993. № 1; De Visu. 1993. № 11.
(обратно)19
Комментарии из кн.: Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985.
(обратно)20
Комментарии из кн.: Шкловский В. «Еще ничего не кончилось…» М.: Пропаганда, 2002.
(обратно)21
Речь идет о позиции Петроградского Совета. Совет поддержал создание Временного правительства в марте, но поддержка была условной, связывалась с выполнением определенных требований, поддержка «постольку поскольку» Временное правительство выполняет соглашение с Советом. В ходе Апрельского кризиса выяснилось, что соглашение первого этапа революции не работает. Поэтому одни стали требовать коалиционного правительства, а другие — полного взятия власти Советами.
(обратно)22
Здесь можно привести отчет о выступлении Шкловского в Петроградском совете после его возвращения с фронта. Цит. по: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году: в 4 т. М.: РОССПЭН, 2003. Т. 4. С. 64–66.
«Отчет газеты „Голос солдата“ о заседании солдатской секции
В Таврическом дворце 21 июля под председательством В. З. Завадье состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета р. и с. д. Порядок дня был назначен следующий: доклад делегатов Петроградского Совета р. и с. д., помощника комиссара одной армии Виктора Шкловского о событиях, происходивших на фронте в дни наступления и затем отступления. Доклад Центрального [Исполнительного] Комитета о текущем политическом моменте. Вопрос об организации Петроградского гарнизона и расформировании некоторых полков.
Доклад Шкловского. Помощник комиссара Виктор Шкловский (рядовой броневой команды) во время последнего наступления шел во главе полка, принимал участие в штыковом бою, был ранен навылет в живот и награжден за храбрость Георгиевским крестом. Появление Виктора Шкловского на трибуне было встречено шумными и продолжительными аплодисментами.
Армия, в которую я был послан, не бежала, а лишь отступила вследствие того, что оказался обнаженным один из ее флангов. Противник, главным образом австрийцы, был очень слаб и бежал от одного артиллерийского огня, но, к сожалению, вследствие преступной агитации бежали и некоторые части нашей армии, а в ближайшем тылу царила паника. В тылу делалось все, вплоть до бросания гранат, чтобы вызвать эту панику. Кто же может спасти армию? Только демократия. Авторитет Петроградского Совета р. и с. д., а также Центрального [Исполнительного] Комитета очень велик. В армии популярен голос демократии. Когда один из полков под давлением преступной агитации отказался наступать, я пришел в этот полк, переговорил с солдатами, и полк пошел в наступление и геройски исполнил возложенное на него обязательство. Докладчик констатирует безотрадный факт. На фронте некоторые корпуса по числу людей меньше некоторых запасных батальонов тыла. И потому в армии существует озлобление против тыловых солдат. Пополнение фронта необходимо, но пополнение должно состоять из вполне обученных солдат, иначе пополнения эти могут принести только вред фронту. Были случаи, что плохие пополнения вносили дезорганизацию в прекрасные полки.
Австрийская армия не существует. О наступлении Виктор Шкловский говорит следующее: австрийская армия почти не существует, по крайней мере в той части фронта, где ему приходилось быть. Наши разведчики заставы вступали в бой с целыми полками австрийцев в горах и выходили из этого неравного боя победителями. 12-й наш корпус во время боя захватил больше неприятельских пулеметов, чем было у нашего корпуса. Германские солдаты теперь не те, что были раньше. Кроме того, на нашем фронте германцев, в сравнении с нами, незначительное число. Наши солдаты идут в наступление смело, но неумело. Не дождавшись окончания артиллерийской подготовки, они часто переходят в наступление, берут 9 рядов проволочных заграждений, проявляют безумную отвагу и несут большие потери. Все это свидетельствует, что в тылу солдатам не дают достаточной воинской подготовки. Воевать, рассчитывая на один энтузиазм, на одни красные знамена и комиссаров, нельзя. Война — это большое промышленное предприятие, которое, прежде всего, требует умелой организации.
О смертной казни. Далее докладчик говорит о смертной казни. Смертная казнь у нас фактически существовала и до введения ее распоряжением правительства. Выражалась смертная казнь в том, что в окопах, при неравных силах, гибли наши лучшие сыны родины, лучшие полки, в то время как остальные покидали окопы и уходили глубоко в тыл. Это была самая ужасная казнь. Казнь лучших людей, лучших граждан родины. Мы не должны позволять, чтобы так продолжалось дальше. Мы должны обеспечить жизнь лучших солдат, лучших полков, и это только можно сделать при условиях строгой воинской дисциплины, поддерживаемой иногда репрессиями вплоть до смертной казни.
Офицерский состав. Докладчик заявляет, что офицерский состав на фронте ни в коем случае не контрреволюционен. Конечно, под влиянием последних неудач, во время которых погибло много офицеров, существует некоторое озлобление. Сильное озлобление на фронте наблюдается против большевиков и членов партии народной свободы. В одну армию приехал член Временного комитета Государственной думы, но мы вынуждены были его предупредить, что не можем гарантировать ему жизнь, если он начнет появляться в полках как представитель своей партии.
Братание и публичные дома. Тяжелое впечатление производит на солдат часть доклада Виктора Шкловского, в которой он говорит о братаниях на фронте. Ему пришлось видеть специальные руководства для братания, разработанные Германским штабом. Достаточно охарактеризовать братание тем, что между русским и неприятельским расположением неприятелем устраивались публичные дома. Дальше в разложении армии идти было некуда. Мы не знаем, насколько развратилась армия нашего противника. Я не допускаю, что австрийская армия болеет более, чем наша армия. Докладчик протестует против того, что будто бы на фронте имеются большевистские полки. Это неверно. Там имеются кучки бывших городовых и жандармов, вкрапленные в воинские части и развращающие эти части. Так называемые большевистские полки до революции были самыми черносотенными полками. Вообще надо заметить, что на фронте социалистов мало, даже несмотря на то, что из газет там, главным образом, имела распространение „Правда“. Других газет было очень мало на фронте, и [их] почти совсем не получали солдаты. В заключение докладчик призывает представителей Петроградского гарнизона к жертвам. Возможно, что всему Петроградскому гарнизону придется уйти на фронт.
Докладчику В. Шкловскому, ввиду тяжелого ранения, от которого он еще не совсем излечился, очень трудно говорить. Бледный он покидает трибуну, члены собрания устраивают ему овацию.
Резолюция. По предложению председателя солдатской секции В. З. Завадье по поводу доклада помощника комиссара армии В. Шкловского единогласно принята следующая резолюция:
Заслушав сообщение т. В. Шкловского, помощника комиссара Н-ской армии, солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д. приветствует своего представителя, геройски выполнившего свой революционный долг и шедшего во главе полка в штыковую атаку и за ранение и подвиг награжденного Георгиевским крестом. Вместе с ним собрание приветствует в лице т. Шкловского армейские комитеты и флотские организации в их самоотверженной и беззаветной обороне революции и родины и еще раз подчеркивает, что только усилиями этих революционных солдатских организаций можно создать боеспособную армию».
(обратно)23
Больше всего в Херсоне стояло греков. — В составе экспедиционного корпуса Антанты, высадившегося на Черноморском побережье в ноябре 1918 г., были также и греческие войска.
(обратно)24
…с атаманом Григорьевым. — Войска атамана Григорьева штурмом взяли Херсон в мае 1919 г.
(обратно)25
…левого с. — р. Полякова… — Упоминаемый Шкловским Поляков — очевидно, М. П. Поляков, член николаевского подпольного временного комитета РКП(б).
(обратно)26
…наступали на Алешки… — С 1928 г. Цюрупинск.
(обратно)27
Кавказская туземная конная дивизия, более известная как «Дикая дивизия», — кавалерийская дивизия, одно из соединений русской армии, сформированная 23 августа 1914 г. На 90 % состояла из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья.
(обратно)28
Врангель пришел внезапно. — Наступление войск генерала Врангеля из Крыма началось 6 июня 1920 г.
(обратно)29
…хирург Горбенко… — Горбенко Михаил Дмитриевич (1870–?) — хирург, ординатор губернской земской больницы в Херсоне.
(обратно)30
Фамилия раненого была Горбань. — Возможно речь идет о С. И. Горбане, деятеле эпохи Гражданской войны на Украине.
(обратно)31
Об этом см.: Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пг.; Берлин, 1922.
(обратно)32
Урмия — область на севере Ирана, в которой с 1915 г. находились русские войска (1-й Кавказский кавалерийский корпус, 7-й Отдельный Кавказский армейский корпус). Осенью 1917 г. Шкловский приехал в Урмию в качестве помощника военного комиссара Временного правительства, участвовал в организации эвакуации войск в Россию (см.: СП. С. 90–138).
(обратно)33
В апреле 1920 г. Шкловский выехал из Петрограда в Херсон, чтобы встретиться со своей женой, В. Г. Шкловской-Корди, находившейся там с мая 1919 г. 6 июня 1920 г. войска Врангеля развернули массированное наступление с целью выхода из Крыма и овладения прилегающими к нему территориями. Только 24 июня врангелевское наступление было остановлено Красной армией на линии Херсон — Никополь. Шкловский не успел принять участия в боевых действиях, так как вскоре после начала наступления в результате несчастного случая был ранен (см. письмо 3-е). В ночь на 7 августа Красная армия форсировала Днепр и перешла в наступление.
(обратно)34
Соловей — шутливое прозвище Ивана Николаевича Ракицкого (1883–1942) — художника, близкого друга Горького, долгое время жившего у него дома. Купчиха — прозвище художницы Валентины Михайловны Ходасевич (1894–1970). Мария Игнатьевна Будберг (урожденная Закревская, 1892–1974) — секретарь и друг Горького.
(обратно)35
Разбор строения романов Диккенса вошел в позднее вышедшую работу Шкловского «Развертывание сюжета» (Пг., 1921).
(обратно)36
По устному свидетельству Шкловского нам летом 1983 г., в поездку по Украине Шкловский отправился с рекомендательным письмом Горького, позднее утерянным.
(обратно)37
Мария Федоровна Андреева (1868–1953).
(обратно)38
В Большом Гостином дворе в Петрограде (ныне — Невский проспект, д. 35) размещались торговые ряды. Питерцы «гостинодворцами» называли приезжавших на торговлю в город купцов и др.
(обратно)39
Жак — Яков Львович Израилевич (?–1942), близкий друг Шкловского в 1910–1930-х гг., одно время — секретарь М. Ф. Андреевой.
(обратно)40
Ср. в написанном немногим позднее, в феврале 1922 г., «Письме к Роману Якобсону»: «Потоп кончается. Звери выходят из своих ковчегов, нечистые открывают кафе. Оставшиеся пары чистых издают книги. Возвращайся» (ГС. С. 145–146).
(обратно)41
Ср. в «Сентиментальном путешествии», где этот образ применен по отношению к организованным при участии Горького издательствам З. И. Гржебина и «Всемирная литература», петроградскому Дому искусств (СП. С. 196).
(обратно)42
Библейский эпизод (Суд 16 15–21).
(обратно)43
Горький уехал из России 16 октября 1921 г.
(обратно)44
Перечисленные Шкловским писатели — постоянные адресаты Горького, к которым он обращался с просьбой о помощи голодающим в 1921 г. (Б. Шоу, Г. Уэллс), с протестом против процесса эсеров в 1922 г. (А. Франс) и др. Уже 16 апреля 1922 г. Горький пишет Г. Уэллсу (см.: Архив А. М. Горького. М., 1960. T. VII. С. 72), а 30 мая Р. Роллану (Там же. С. 333–334) о своем намерении издавать журнал «Путник». Позднее этот замысел реализовался в журнале «Беседа» (В. Ф. Ходасевич, впрочем, вспоминал, что идея «Беседы» принадлежала Шкловскому, см. очерк «Горький» в его кн.: Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1982. Т. 1).
(обратно)45
В оригинале — без кавычек, но очевидно, что Шкловский имеет в виду газету «Новая жизнь», издававшуюся при ближайшем участии Горького в апреле 1917 — июле 1918 г. и закрытую Советской властью. Шкловский был корреспондентом «Новой жизни» и напечатал в газете несколько статей в 1917–1918 гг.
(обратно)46
В 1919–1926 гг. Г. Е. Зиновьев (1883–1936) был председателем Исполкома Коминтерна.
(обратно)47
Организация работников искусств в Петрограде (1919–1922), в деятельности которой Горький принимал активное участие до своего отъезда из России. Располагалась в бывшем доме Елисеева на Мойке, д. 59 (ныне — Невский пр., д. 15), в котором для деятелей искусств было устроено общежитие.
(обратно)48
Книге «Развертывание сюжета» предшествовали работы Шкловского «„Тристрам Шенди“ Стерна и теория романа» (Пг., 1921) и «Розанов» (Пг., 1921). Эти работы мыслились Шкловским как части большого труда под названием «Сюжет как явление стиля». Книга под таким названием не была закончена; в переработанном виде эти работы вошли в вышедшую позднее книгу Шкловского «О теории прозы» (М., 1925).
(обратно)49
Был ли издан перевод — установить не удалось.
(обратно)50
В начале 1920-х гг. Шкловский высоко оценивал ранние рассказы Михаила Леонидовича Слонимского (1897–1972), в частности — его цикл «Советские небылицы» (публиковались в журнале «Мухомор», 1922, № 2, 6, 7), произведения из сборника «Шестой стрелковый» (Пг., 1922).
(обратно)51
Рассказ Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963) «Дите» после долгих цензурных затруднений был опубликован в петроградской «Красной газете» (1922. 9, 12 февраля).
(обратно)52
В то время Лев Натанович Лунц (1902–1924) и Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия Зильбер, 1902–1989) были студентами историко-филологического факультета Петроградского университета, Каверин учился также параллельно и в Институте восточных языков.
(обратно)53
В ноябре 1921 г. Константин Александрович Федин (1892–1977) перенес тяжелую операцию по поводу двенадцатиперстной кишки в Обуховской больнице в Петрограде.
(обратно)54
Михаил Михайлович Зощенко (1894–1958).
(обратно)55
Точное название: «Мелодика русского лирического стиха»; книга вышла в начале 1922 г. в Петрограде.
(обратно)56
Варвара Васильевна Шайкевич (1886–1953) — жена А. Н. Тихонова, многолетнего издателя Горького.
(обратно)57
Шутливое прозвище М. И. Будберг, находившейся в то время в Эстонии.
(обратно)58
Речь идет о брошюре Г. И. Семенова (Васильева) «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 гг.», вышедшей в феврале 1922 г. в Берлине (далее — Семенов). Григорий Иванович Семенов (Васильев) — в 1917–1918 гг. входил в руководство Военной организации ЦК партии эсеров, готовившего с конца 1917 г. антибольшевистский переворот. Шкловский, бывший, по некоторым свидетельствам, членом партии меньшевиков (см. показания А. Р. Гоца на процессе эсеров // Известия. 1922. 22 июня, а также: Семенов. С. 24), после возвращения в начале 1918 г. в Петроград из Ирана примкнул к этому заговору и вошел в организацию в качестве руководителя Броневого отдела (см. показания Г. И. Семенова и Келлера на процессе // Известия. 1922. 15 и 18 июня, а также: Семенов. С. 16; Воспоминания В. И. Игнатьева // Красная книга ВЧК. 2-е изд., уточн. М., 1990. Т. 2. С. 97–98). После разгрома петроградской организации в августе — сентябре 1918 г. Шкловский (очевидно, так и не принявший участия в террористических актах эсеров) бежал из Петрограда в Поволжье, куда был перенесен центр предполагавшегося восстания (см. об этом, в частности, в показаниях И. Дашевского на процессе // Известия. 1922. 29 июня; более полный текст: Красный архив. 1927. № 20. С. 155; а также: Семенов. С. 34). После разгрома Колчаком Уфимской директории — эсеровского правительства, главного претендента от этой партии на власть — и в связи с общим «левением» в рядах эсеровской партии Шкловский в конце 1918 г. принимает решение отойти от политической борьбы. В начале 1919 г. он выходит из подполья и приезжает в Москву; за политическую благонадежность его перед Я. М. Свердловым поручается Горький (см.: СП. С. 181, 195). В феврале 1919 г. в Саратове прошел процесс над эсерами, после которого члены партии были амнистированы, а деятельность партии возобновлена. Однако, уже с конца 1921 г. начинается подготовка к крупнейшему политическому процессу 1920-х гг. — процессу над правыми эсерами.
4 июня 1921 г. Ленину был представлен составленный ВЧК план «работы по ликвидации белогвардейских организаций на вторую половину 1921 года и первую половину 1922 года», который включал в себя проведение «массовых операций по изоляции» эсеров и меньшевиков в феврале — апреле 1922 г. (см.: Сценарий «доликвидации»: Плановость в работе ВЧК — ГПУ // Независимая газета. 1992. 8 мая). С некоторыми отклонениями план этот (судя по всему, Лениным в полном виде не утвержденный) в отношении эсеров был проведен в жизнь. 28 декабря 1921 г. по докладу председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского ЦК постановил: «Предрешить вопрос о предании суду Верховного трибунала ЦК партии социалистов-революционеров» (В. И. Ленин и ВЧК: (1917–1922). М., 1975. С. 546). Тогда же в декабре Оргбюро ЦК поручает Отделу пропаганды подготовить серию брошюр, разоблачающих эсеров и меньшевиков (см.: Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. М., 1975. C. 11); не лишним будет напомнить, что книга Семенова датирована 2 декабря 1921 г. См. также письмо Ленина наркому юстиции Д. И. Курскому конца февраля 1922 г., в котором рекомендуется в целях «усиления репрессий против политических врагов советской власти <…> в особенности меньшевиков и эсеров» организовать «образцовые» политические процессы в Москве, Петрограде и др. (Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 396).
Таким образом, книга Г. И. Семенова носила явно провокационный характер; оглашение Семеновым (а также его женой, Л. Коноплевой, по сведениям компетентного исследователя, направившей заявление в ЦК РКП(б) и давшей показания в ЧК — см.: Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. 4-е изд. М., 1986. Кн. 2. С. 207) фактов террористической деятельности эсеров в 1918 г. послужило поводом к началу массовых арестов среди эсеров и подготовке к процессу. Членами партии эсеров эти выступления и получили оценку как «провокаторские»; в зарубежной социалистической печати неоднократно писалось и об отсутствии должной правовой базы процесса, так как его проведение противоречило амнистии эсерам по Саратовскому процессу (см., напр.: Чернов В. Иудин поцелуй // Голос России (Берлин). 1922. 25 февраля; Мартов Ю. Первое предостережение // Социалистический вестник (Берлин). 1922. № 7; Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания // Архив русской революции (Берлин). 1924. Кн. XIII. В связи с эсерами имя Г. И. Семенова позднее фигурировало и на процессе «антисоветского правотроцкистского блока», на котором А. И. Рыков и Н. И. Бухарин «свидетельствовали» о причастности эсера Семенова к несостоявшимся покушениям на И. В. Сталина, Л. М. Кагановича и т. п. (см.: Известия. 1938. 3, 5 и 8 марта).
(обратно)59
На основании сведений Семенова и Коноплевой, Президиум ГПУ сообщил 27 февраля 1922 г. об имеющихся в его распоряжении новых данных о террористической деятельности эсеров 1918 г.: «Ввиду того, что имеющиеся в распоряжении ГПУ материалы с несомненностью устанавливают преступления партии с. — р. перед пролетарской революцией. Центральный комитет этой партии и ряд ее активных членов предаются суду Верховного трибунала» (Известия. 1922. 28 февраля). По свидетельству Шкловского, за ним пришли 3 или 4 марта (см. письмо 7-е); почти неделю он скрывался в Петрограде, уходя от преследования и избегая засад (описание одной из них, устроенной на квартире Ю. Н. Тынянова, см.: Каверин В. Эпилог. М., 1989. С. 8–31), после чего вынужден был бежать из Петрограда по льду Финского залива за границу. В обвинительном заключении от 23 мая 1922 г. Шкловский был упомянут как привлеченный по делу, но «неразысканный» (см.: Обвинительное заключение по делу Центрального комитета и отдельных членов иных организаций партии социалистов-революционеров по обвинению их в вооруженной борьбе против Советской власти, организации убийств, вооруженных ограблений и в изменнических сношениях с иностранными государствами. М., 1922. С. 107).
(обратно)60
Книга Шкловского «Революция и фронт» писалась с июня по август 1919 г. — очевидно, по заказу издательства З. И. Гржебина для серии исторических мемуаров «Летописи революции», участие в разработке которой принимал и М. Горький (в этой серии были изданы воспоминания А. В. Луначарского, Ю. Мартова, В. М. Чернова, В. С. Войтинского, П. Б. Аксельрода и др.). «Революция и фронт» вышла в 1921 г. в Петрограде без указания марки издательства; по устному свидетельству В. Б. Шкловского нам (январь 1984 г.), Гржебин снял свою марку «из осторожности».
(обратно)61
В деятельности этого творческого содружества писателей, организовавшегося в феврале 1921 г. при петроградском Доме искусств, Шкловский принимал самое активное участие, а с его членами (Вс. В. Иванов, К. А. Федин, М. М. Зощенко, И. А. Груздев, Е. Г. Полонская, Н. С. Тихонов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, М. Л. Слонимский) его связывали и дружеские отношения.
(обратно)62
Речь идет о книгах: Иванов Вс. Цветные ветра. Пб., 1922; Зощенко М. Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Пб., 1922. Повесть В. А. Каверина «Пятый странник» опубликована в альманахе «Круг» (Вып. 1. М.; Пб., 1923). Книга Шкловского «Эпилог», посвященная событиям в Северном Иране после отъезда оттуда автора, вышла в феврале 1922 г. в Петрограде.
(обратно)63
Николай Семенович Тихонов (1896–1979) присоединился к «Серапионовым братьям» в 1922 г.
(обратно)64
Зиновий Исаевич Гржебин (1869–1929) — художник, издательский деятель. Книга, о которой пишет Шкловский, вышла в январе 1923 г. не у З. И. Гржебина, а в берлинском издательстве «Геликон». Первая часть ее представляет собой переиздание «Революции и фронта», вторая — «Письменный стол» — написана в Райволе и Берлине и издана впервые (в переработанном виде в эту часть вошла и книга «Эпилог»).
(обратно)65
Книга «Ход коня», состоящая из статей об искусстве, рассказов и очерков, вышла в январе 1923 г. в Берлине в издательстве «Геликон». Ранее Шкловский безуспешно пытался издать ее в России (см. наш комментарий: ГС. С. 490).
(обратно)66
На ул. Шпалерной (с 1918 г. — ул. Воинова) в Петрограде располагалась первая в России следственная тюрьма (Дом предварительного заключения). Жена Шкловского, В. Г. Шкловская-Корди (1890–1977), действительно была арестована (см. письмо 7-е).
(обратно)67
Николай Степанович Гумилев (1886–1921) был расстрелян в августе 1921 г. По некоторым свидетельствам, он был связан с эсеровским подпольем через друга и сослуживца Шкловского, поэта Л. В. Бермана, также проходившего в 1922 г. по процессу эсеров (см.: Сажин В. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 92–93).
(обратно)68
Речь, очевидно, идет о книге «Эпилог».
(обратно)69
Гржебин З. И.
(обратно)70
Андреева М. Ф. и Шайкевич В. В.
(обратно)71
Очевидная описка. Письмо ранее датировано 24 марта.
(обратно)72
Варвара Ивановна Икскуль фон Гильдебрандт (урожденная Луговина, по первому мужу Маврина, 1850–1929) — баронесса, коллекционер, писательница, общественный деятель. Бежала из Петрограда так же, как и Шкловский, по льду Финского залива (см.: Ходасевич В. «Некрополь» и другие воспоминания. М., 1992. С. 191). Сообщение об аресте В. Г. Шкловской-Корди 22 марта 1922 г. — спустя неделю после побега Шкловского — было помещено в берлинской газете «Голос России» (1922. 9 апреля).
(обратно)73
Очевидно, намек на собственное сотрудничество с эмигрантской эсеровской газетой «Голос России» (Берлин), начавшееся с публикации 11 апреля 1922 г. в ней политического фельетона «Плац».
(обратно)74
Популярный иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в Петербурге в 1910–1916 гг. (редакторы З. Н. Журавская и А. Коган).
(обратно)75
Речь идет об эпизоде гл. XL части «Юность» повести Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» (1852–1857).
(обратно)76
Ср. в «Письме вступительном» во втором издании «Zoo».
(обратно)77
Домашнее прозвище Горького.
(обратно)78
Владимир Алексеевич Пяст (настоящая фамилия Пестовский, 1986–1940) — поэт, один из жильцов Дома искусств.
(обратно)79
Упоминаются: Николай Борисович Шкловский, участвовавший в заговоре эсеров (см.: Семенов. С. 24) и расстрелянный в 1918 г. (СП. С. 156); Евгения Борисовна Шкловская, умершая от голода в 1919 г. (СП. С. 192).
(обратно)80
Очевидно, Шкловский вольно пересказывает статью Л. Д. Троцкого «На путь строительства социализма!», в которой предлагалось отдать под концессии некоторые территории России (Правда. 1920. 8–10 декабря).
(обратно)81
«Война и мир», т. III, ч. II, гл. ХХV.
(обратно)82
Этих слов в Полном собрании сочинений Ленина найти не удалось; возможно, что имеется в виду выступление Ленина на заседании ЦК 11 января 1918 г., в котором по поводу Брестского мира было сказано: «Конечно, мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать» (Речи о войне и мире // Ленин В. И. ПСС. Т. 35. С. 257). Впервые это выступление было опубликовано в 1922 г. в 15-м томе Собрания сочинений Ленина.
(обратно)83
Речь идет об издательстве З. И. Гржебина (1919–1923), петроградском Доме ученых (с 1920 г.) и издательстве «Всемирная литература» (1918–1924), в организации и деятельности которых Горький принимал активное участие.
(обратно)84
Имеется в виду основная для мировоззрения Горького антиномия «Восток-Запад», с наибольшей, пожалуй, остротой выраженная в его статье «Две души» (Летопись. 1915. [№ 1]). См. также его брошюру берлинского периода «О русском крестьянстве» (Берлин, 1922).
(обратно)85
Организация восстания в Кронштадте в официальной советской партийной печати приписывалась, в частности, эсерам. Во время восстания в Петрограде среди эсеров были проведены аресты.
(обратно)86
Вира — денежный штраф в пользу князя за убийство человека в Древней Руси.
(обратно)87
Разделение писателей-«Серапионов» на два крыла впервые было намечено Шкловским в статье «Серапионовы братья» (см.: ГС. С. 141) и было поддержано затем Е. И. Замятиным (Серапионовы братья // Литературные записки. 1922. № 1; О современной русской прозе // Русское искусство. 1923. № 2/3).
(обратно)88
Вопрос о сотрудничестве с «Красной новью», первым советским «толстым» литературно- художественным журналом, выходившим с июня 1921 г., обсуждался в среде «Серапионов» достаточно остро и связывался с нарушением политической нейтральности, заявленной, в частности, в манифесте группы (Лунц Л. Почему мы Серапионовы братья // Литературные записки. 1922. № 3). Ко времени написания письма Шкловского из «Серапионов» в «Красной нови» особенно активно печатался Вс. Иванов, по одному разу опубликовались М. М. Зощенко и H. H. Никитин, один раз со стихами выступил и Н. С. Тихонов. Главный редактор «Красной нови» А. К. Воронский писал Горькому 27 апреля 1922 г.: «Опираюсь я на Пильняка, Вс. Иванова, Зощенко, Ник. Никитина, Зуева и другую молодятину» (Архив А. М. Горького. М., 1965. Т. Х. Кн. 2. С. 10). Ср. также обращение к «Серапионам» в письме Шкловского к М. С. Шагинян: «Не ссорьтесь, братцы. Если ссоритесь о том, нужно ли писать в „К<расной> н<ови>“, то мой совет, если нечего есть, писать и печатать где угодно. Но лучше в „Правде“, чем в „Накануне“» (от 25 июня 1922 г. Архив М. С. Шагинян. Хранится у Е. В. Шагинян).
(обратно)89
Оммаж — церемония, оформлявшая в средневековой Европе заключение вассального договора между сеньором и вассалом, сопровождалась также дачей клятвы верности.
(обратно)90
Очевидно, речь идет или о недошедшем до нас частном письме Шкловского, или о его статье «Письмо о России и в Россию», первая часть которого посвящена, в частности, «Серапионам» (опубликована в октябре 1922 г., вошла в ГС. С. 148–149).
(обратно)91
Над книгой «О современной русской прозе» Шкловский работал с августа-сентября 1922 г. по 1926 г.; книга осталась неоконченной, отдельные главы ее публиковались в качестве самостоятельных статей в периодике 1924–1927 гг. (см. комментарий в ГС. С. 508–509).
(обратно)92
Отзывы о творчестве «Серапионов» разбросаны в многочисленных письмах Горького к М. Л. Слонимскому, В. А. Каверину, К. А. Федину, Л. Н. Лунцу. Статью «Серапионовы братья» Горький написал в марте 1923 г. (впервые опубликована на французском языке, русский текст см.: ЛН. С. 561–563).
(обратно)93
Роман Осипович Якобсон (1896–1982) в то время — близкий друг Шкловского. Впервые после побега Шкловский встретился с ним в Праге в октябре 1922 г.
(обратно)94
Павел Николаевич Мостовенко (1881–1939) — советский дипломат, сотрудник посольства в Чехословакии, друг Р. О. Якобсона.
(обратно)95
Иван Павлович Ладыжников (1847–1945) — издательский деятель.
(обратно)96
Речь идет о книге «Литература и кинематограф», вышедшей в 1923 г. в Берлине.
(обратно)97
См. «замысел» его в письме 11-м.
(обратно)98
В Герингсдорфе Горький жил с конца мая по 25 сентября 1922 г.
(обратно)99
Ефим Яковлевич Белицкий — издательский деятель. В 1922 г. работал в издательстве «Эпоха», был представителем журнала «Беседа» в России.
(обратно)100
Речь идет о цикле из 23 рисунков Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967) «Улицы революции» (позднее получившем название «Панель революции», 1922).
(обратно)101
Имеется в виду книга Горького «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» (Пб., 1919; с дополнениями переиздано в 1921 г. в Берлине). Восторженные отзывы об этой книге см. у Шкловского также в СП (с. 199–200), в статье «Новый Горький» (ГС. С. 207–209) и мн. др.
(обратно)102
Ср. в воспоминаниях Горького о Толстом: «Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек» (Горький М. ПСС. М., 1973. Т. ХVI. С. 267).
(обратно)103
Николай Авдиевич Оцуп (1894–1958) — поэт, эмигрировал в конце 1922 г. Натан Исаевич Альтман (1889–1970) — художник. Артур Соломонович Лурье (1892–1966) — композитор, эмигрировал в 1922 г.
(обратно)104
Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982).
(обратно)105
В это время Шкловский составлял сборник «Очерки по поэтике Пушкина» (вышел в 1923 г. в Берлине в издательстве «Эпоха»), в который вошли статьи П. Г. Богатырева, Б. В. Томашевского и самого Шкловского.
(обратно)106
Осенью 1922 г. Шкловский написал статью «Роман тайн» (последнее название), которую в конце 1922 г. выслал жене для публикации в России. Статья была опубликована в № 4 журнала «Леф», вышедшем в начале 1924 г.
(обратно)107
Петр Петрович Крючков (1889–1938) — в то время уполномоченный советского постпредства в Берлине по русско-германскому торговому и книгоиздательскому акционерному обществу «Книга» (позднее — «Международная книга», 1921–1931). С декабря 1921 г. исполнял обязанности литературного секретаря Горького.
(обратно)108
Фамилия читается предположительно. Очевидно, имеется в виду работа врача Н. Ишлондского «Этюды сексуальной биологии», первая часть которой — «Произвольное изменение пола и искусственное омоложение по проф. Э. Штейнаху» — вышла в 1923 г. в Берлине. Горький в это время интересовался идеями Э. Штейнаха.
(обратно)109
Петр Григорьевич Богатырев (1893–1971) — литературовед, фольклорист. В 1921–1940 гг. — в научной командировке в Чехословакии. В ноябре 1922 г. прожил несколько дней в Берлине.
(обратно)110
Описание визита Шкловского и П. Г. Богатырева к Горькому см. в позднейших воспоминаниях Шкловского: О Горьком // Знамя. 1937. № 6. С. 260.
(обратно)111
Осенью 1922 — летом 1923 г. Шкловский пытается неоднократно организовать нелегальный приезд В. Г. Шкловской-Корди в Берлин. Активно помогали ему в этом Я. Л. Израилевич, Э. Шиман, Е. В. Равдель и др. Однако это устроить не удалось. H. H. Берберова называет одной из главных причин возвращения Шкловского в Россию разлуку с женой (Берберова Н. Курсив мой // Октябрь. 1988. № 11. С. 168).
(обратно)112
Владимир Борисович Шкловский (1889–1937?) — литературовед, переводчик, библиограф. Краткие сведения о нем см.: Галушкин А. Четыре письма Виктора Шкловского // Странник: Литература, искусство, политика. М., 1991. Вып. II. С. 77–78.
(обратно)113
Крючков П. П.
(обратно)114
Р. О. Якобсон в это время находился в Берлине.
(обратно)115
В. В. Маяковский пробыл в Берлине с октября по ноябрь 1922 г.
(обратно)116
Это связано, очевидно, с перспективами издания произведений «Серапионов» за рубежом (в частности, в «Книге», сотрудником которой был И. П. Ладыжников), о которых неоднократно упоминается в «берлинских» письмах Шкловского. Ср. об этом же в письмах Горького к М. Л. Слонимскому середины 1922 г. (ЛН. С. 376, 379–380, 383).
(обратно)117
Речь идет о реакции Горького на скандальное выступление Шкловского, которое, как опасался Горький, могло дискредитировать журнал «Беседа» (Шкловский входил в его редколлегию). Вспоминая о подготовке первого номера журнала, В. Ф. Ходасевич писал: «Было уже приступлено к составлению первого номера, когда разыгрался „скандал“ <…>. 12 февраля, в берлинском Клубе писателей состоялся доклад поэта С. Рафаловича, приглашенного нами в „Беседу“. Шкловский возражал докладчику в совершенно недопустимой форме. Горький был этим крайне раздражен, о чем до сведения Шкловского было доведено через С. Г. Каплуна-Сумского (директора издательства „Эпоха“. — А. Г.] и через сына Горького. Шкловский прислал свои извинения» (Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 29. С. 207). Процитировав «извинения» Шкловского, Горький писал Ходасевичу: «Все это меня нисколько не утешает и не изменяет моего отношения к скандалу» (Там же. С. 206). После этого скандала Шкловский в качестве сотрудника «Беседы» в письмах Горького не упоминается.
(обратно)118
Рафалович Сергей Львович (1875–1943) — поэт. Выступил с докладом о футуризме не 12-го, как указывает Ходасевич, а 9 февраля 1923 г. [на] «пятнице» в берлинском Доме искусств, см.: Новая русская книга (Берлин). 1923. № 2. С. 39.
(обратно)119
Шкловский в это время был влюблен в Эльзу Триоле.
(обратно)120
Речь идет о трех «письмах» из книги «Zoo, или Письма не о любви», опубликованных в первом номере «Беседы». О них Горький писал Ходасевичу: «Первые два — мне решительно не нравятся, но „Холод“ я очень прошу Вас прочитать. Мне нужно знать Ваше мнение к воскресенью. „Холод“, разумеется, требует серьезнейших поправок и, кое-где, сокращений» (Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 29. С. 206).
(обратно)121
См. примеч. 1 к письму 14-му.
(обратно)122
Я. Л. Израилевич.
(обратно)123
Очевидно, речь идет о писателе Борисе Константиновиче Зайцеве (1881–1972), находившемся в то время в Берлине.
(обратно)124
Фридрих Эдуардович Криммер (1888–?) — экономист, знакомый Горького и Шкловского.
(обратно)125
«Рассказ о безответной любви» был опубликован в № 3 «Беседы», вышедшем в сентябре — октябре 1923 г. Шкловский познакомился с ним в рукописи (см. упоминание в статье Шкловского «Новый Горький», писавшейся в Берлине до выхода № 3 «Беседы»: «Еще неопубликованный хороший рассказ „О любви безответной“» // Россия. 1924. № 2. С. 198).
(обратно)126
Иван Альбертович Пуни (1894–1956) — художник, близкий друг Шкловского. В 1921–1923 гг. жил в Берлине. Его отъезд в Прагу был вызван болезнью жены, К. Л. Богуславской-Пуни, находившейся там в связи с работой в одном из чешских театров.
(обратно)127
Об этом чтении, возможно, Шкловский упоминает в письме от 25 марта 1923 г. жене: «Помирился с Дукой, за то, что ему понравилась моя книга. Это подкупает» (ЦГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 450). Отдельным изданием «Zoo» вышло только летом 1923 г.
(обратно)128
Речь идет о второй поездке в Дрезден, состоявшейся в апреле 1923 г.
(обратно)129
Елена Константиновна Феррари (псевдоним Ольги Федоровны Голубевой, 1899–1939) — поэтесса, берлинская знакомая Горького и Шкловского. Речь, очевидно, идет о ее стихотворениях, предназначавшихся для 2-го номера «Беседы» (см. письмо Горького Феррари от 24 апреля 1924 г. — ЛН. С. 574). См. также рекомендательное письмо Шкловского И. М. Зданевичу в Париж (Гейро Р. Три письма Виктора Шкловского // Литературное приложение. № 5 [к газете «Русская мысль» от 25 декабря 1987 г.]).
(обратно)130
Роман «Петербург» в так называемой берлинской редакции вышел в 1922 г. в Берлине.
(обратно)131
«Воспоминания о Блоке» Белого печатались в журнале «Эпопея» с апреля 1922 по июнь 1923 г.
(обратно)132
Речь, очевидно, идет о сказке из недошедшего до нас цикла «Рассказы игрушечного мастера», над которым Шкловский работал в 1923 г. Отзыв о нем Горького сохранился в его письме В. Ф. Ходасевичу: «Был Шкловский <…>. Пишет сказочки. Не плохо» (письмо от 21 августа 1923 г. // Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 30. С. 192). По-видимому, к этому циклу принадлежит и опубликованная «Сказка о синем шакале» (Новый Огонек (Берлин). 1923. № 3).
(обратно)133
«Zoo» вышло в издательстве «Геликон» во второй половине июля 1923 г.
(обратно)134
Речь идет о переводе сборника «Серапионовы братья» (перечисленные ниже Шкловским произведения «Серапионов» были как раз опубликованы в этом сборнике) на немецкий язык. Очевидно, статья Шкловского предназначалась для его отдельного немецкого издания, которое в свет не вышло.
(обратно)135
См. примеч. 7-е к письму 12-му. Марья Игнатьевна — Будберг М. И.
(обратно)136
«Руссторгфильм» — посредническая фирма по закупке и продаже в СССР зарубежных фильмов, в которой Шкловский работал до своего отъезда.
(обратно)137
Николай Николаевич Никитин (1885–1963) — член содружества «Серапионовы братья», с мая по сентябрь 1923 г. был вместе с Б. Пильняком за границей (Германия, Бельгия, Великобритания); с конца июня — в Берлине.
(обратно)138
Письмо написано накануне предполагавшегося отъезда Шкловского в Россию 15 сентября 1923 г. Судя по письмам В. Г. Шкловской-Корди, он выехал только месяц спустя, в начале октября.
(обратно)139
Триоле Эльза Юрьевна (урожденная Каган, 1896–1970) — родная сестра Л. Ю. Брик, героиня «Zoo», любовная переписка которой со Шкловским легла в основу книги.
(обратно)140
Речь идет о первой книге Э. Триоле «На Таити». История ее создания известна по нескольким источникам; обобщенная версия такова: Шкловский использовал в книге «Zoo» письмо Триоле, посвященное ее пребыванию на Таити. Горький, познакомившись с книгой или в рукописи, или в чтении Шкловского в Саарове (см. примеч. 2-е к письму 17-му), отметил его литературные достоинства и написал об этом Шкловскому (см.: Архив А. М. Горького. М., 1960. T. VIII. С. 395). Это письмо, а также последовавшее знакомство с Горьким, убедили Триоле начать писать. Книга «На Таити» вышла отдельным изданием в 1925 г. в Москве, рецензенты отмечали творческую зависимость Триоле от Шкловского (см., напр., отзыв А. З. Лежнева — Жизнь искусства. 1926. № 26).
(обратно)141
Джимми (шимми) — модный в 1920-х гг. танец.
(обратно)142
Горнфельд А. Муки слова. СПб., 1906. С. 41.
(обратно)143
Отсылка к «Воспоминаниям» И. Гончарова не совсем точна.
(обратно)144
Имеется в виду «Скучная история» А. Чехова.
(обратно)145
Очевидно, «Община художников», возникшая в 1910 г. в Петербурге на базе «Нового союза передвижных выставок».
(обратно)146
Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. (СПб., 1913). С. 3.
(обратно)147
В рукописи ст. заканчивалась: «Их путь правилен, и если они погибнут, не дойдя до цели, то погибнут в великом предприятии» (64).
(обратно)148
Мировоззрение Карлейля во многих отношениях может быть сопоставлено с позицией Шкловского, оказываясь близким его ранней критике буржуазной культуры. Оно складывалось в эпоху господства в духовной жизни Англии ассоцианистской психологии, утилитаризма в этике и индивидуалистической политической экономии. Такого рода философию Карлейль называл «механической философией прибыли и убытка». В работах «Признаки времени» (1829) и «Характеристика нашего времени» выразилась его критическая позиция по отношению к общественным учреждениям, современной ему общественной философии; Карлейль считал современное ему общество больным, утверждает, что люди слишком озабочены своим «я», слишком носятся со своими проблемами. Люди ничего не делают интуитивно, из глубины своей сущности, все руководствуются затверженными рецептами. Основные публикации Карлейля, которые могли быть известны Шкловскому: Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тейфельсдрека, кн. 1–3. M., 1902; Этика жизни. Трудиться и не унывать! СПб., 1906; Теперь и прежде. М., 1906; Памфлеты последнего дня. СПб., 1907; Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб., 1908.
(обратно)149
«me Hercule» — лат. клятва «Клянусь Геркулесом!» Скорее всего, взята из романа Генрика Сенкевича «Quo vadis», вышедшего на русском языке в 1896 г., в котором эта клятва часто воспроизводится.
(обратно)150
Культ «старого Петербурга» перерос в целое движение. Его основу составила группа художников — К. Сомов, М. Добужинский, племянник А. Бенуа Е. Е. Лансере, а также архитекторы и исследователи архитектуры (И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, В. А. Щуко, В. Я. Курбатов и Г. К. Лукомский).
(обратно)151
Ученый, поэт и проповедник Симеон Полоцкий (1629–1680) составил царю специальную докладную записку о состоянии иконописного дела в стране. Из этого документа мы узнаем следующие, весьма характерные подробности о положении иконописи тех лет. Симеон Полоцкий подробно объясняет затем высокое значение иконописания и распространяется о том, как оно возникло и развивалось по указанию Церкви, Соборов, византийских императоров и русских царей. Но, однако, продолжает он, с течением времени «В толикое честное художество совниде некое безчинство… оскудеша в епископиях зографи мудрии и размножишася отпущения; мазари буии наполниша не токмо торговые шалаши и простаков дома, но и церкви и монастыри… От неискусных и беззазорных иконописцев многое неистовство обретается на иконах» («Беседы о почитании икон святых»).
(обратно)152
Стихотворение Хлебникова — вероятно, самый ранний вариант стихотворения, был опубликован в 1914 г. в первом томе издания «Первого русского журнала русских футуристов»:
Крылышкуя золотописьмом негчайших жил В кузов пуза кузнечик уложил Много верхушек приречных вер. Тарарапиньпинькнул Зинзивер О неждарь вечерней зари Не ждал… Озари! О любеди!.. (обратно)153
См.: «Поэтика» Аристотеля, глава 22: «А возвышенный и свободный от грубоватости слог пользуется чуждыми обыденной речи словами. Чуждыми я называю глоссу, метафору, растяжение и все, что выходит за пределы обыденного говора. Но если соединить все подобного рода слова вместе, то получится загадка или варваризм. Если (предложение состоит) из метафор, это загадка, а если из глосс — варваризм».
(обратно)154
Матаня (этимология неясна, по некоторым данным происходит от мордовского языка и означает «милый», «ухажер») — старое название частушки или ее жанровая разновидность. Возникла в Поволжье и оттуда распространилась по всей России. Со словом «Матаня» исполнители частушек обращались к своим возлюбленным, при этом словом «Матаня» они называют как девушек, так и юношей. Оно так часто звучало и в запеве, и в припеве, что по нему и была названа вся жанровая разновидность.
(обратно)155
Имеется в виду поэтическое соревнование Вяч. Иванова и В. Брюсова, обменявшихся одноименными и написанными одним размером стих. посланиями (издано в 1914 г. под назв. «Carmina Amoebaea»).
(обратно)156
Из стих. цикла Вяч. Иванова «Лира и ось», адресованного В. Брюсову.
(обратно)157
Крученых А. Декларация слова как такового (1913). — Нумерация тезисов намеренно спутана Крученых. — Сост.
(обратно)158
Намек на некоторые выступления К. Чуковского с футуристами (см., напр., отчет: День. 1913. 8 ноября. № 303) и на его ст. «Футуристы» (1914) — Чуковский К. Собр. соч. В 6 т. Т. 6. М., 1969. С. 234.
(обратно)159
Иванов Вячеслав. По звездам. СПб., 1909. С. 148.
(обратно)160
Ст. Гринмана в ук. журн. не публиковалась; очевидно, имеется в виду: Всеволодский-Гернгросс В. Закономерность мелодии человеческой речи (Голос и речь. 1913. № 3. С. 12).
(обратно)161
Кн. фр. лингвиста М. Граммона, вышла в 1913 г. в Париже. Отр. из нее был переведен для первого «Сборника…» Вл. Шкловским.
(обратно)162
Гельмгольц Г. Учение о звуковых ощущениях как физическая основа теории музыки. СПб., 1875. С. 519. Пер. М. Петухова. (Цит. ошибочно приписана Гёте А. Белым в своей кн. «Символизм». М., 1910. С. 151, откуда, очевидно, и была заимствована Шкл. Источник цитаты у Белого указан В. В. Нехотиным.)
(обратно)163
Пер. И. Введенского.
(обратно)164
Вошло во все изд. его кн. «Из жизни идей». Т. II.
(обратно)165
Любопытна попытка Ф. Ф. Зелинского дать другое объяснение происхождению звуковых образов: «„Как тилисну (ее) по горлу ножом“, — говорит у Достоевского каторжник („Зап. из М. д.“, II, гл. 4); есть ли сходство между артикуляционным движением слова „тилиснуть“ и движением скользящего по человеческому телу и врезывающегося в него ножа? Нет; но зато это артикуляционное движение как нельзя лучше соответствует тому положению лицевых мускулов, которое инстинктивно вызывается особым чувством нервной боли, испытываемой нами при представлении о скользящем по коже (а не вонзаемом в тело) ноже: губы судорожно вытягиваются, горло щемит, зубы стиснуты — только и есть возможность произнести гласный и и языковые согласные т, л, с, причем в выборе именно их, а не громких д, р, з сказался и некоторый звукоподражательный элемент». Сообразно с этим Зелинский определяет звуковые образы как слова, артикуляция которых соответствует общей мимике лица, выражающей вызываемое ими чувство. (Ф. Зелинский, статья «Вильгельм Вундт и психология языка» — Из жизни идей, т. II, изд. 3-е, СПб., 1911, с. 185–186.)
Любопытно сравнить также Lautbilder Вундта с тем, что Жуковский, разбирая басни Крылова, называл «живописью в самых звуках» (В. А. Жуковский, Соч., т. V, с. 341; издание Глазунова).
(обратно)166
«Психология народов» (нем.); рус. пер.: М., 1912 (под назв. «Проблемы психологии народов»).
(обратно)167
Пер. А. Острогорской.
(обратно)168
Пер. О. Химона.
(обратно)169
«Глоссы» — языки звучали на церковных собраниях апостольских времен. Апостол Павел (1-е послание к Кор., гл. 14) говорит о проповедниках «на языках», что никто не понимает их, что их речь является невразумительной (об этом же писал Ириней Лионский: Коновалов Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. С. 175).
(обратно)170
См. об этом: Крученых А. Взорваль (СПб., 1913). С. 27.
(обратно)171
Харциев Василий Иванович — педагог, филолог. Учился в Харьковском университете по историко-филологическому факультету. Преподавал русский язык в Харьковском реальном училище. Деятельный член Харьковского общества грамотности и педагогического отдела историко-филологического общества, в «Трудах» которого напечатал ряд педагогических статей. Принимал наиболее деятельное участие в разборке посмертных трудов А. А. Потебни и редактировал III т. его «Из записок по теории словесности» (Харьков, 1905).
(обратно)172
Точная цитата: «совместное существование в каждом художественном произведении противоположных качеств, именно определенности и бесконечности очертаний» (цит. по: Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. С. 171).
(обратно)173
Впервые статья «Лирика, как особый вид творчества» была опубликована в сб. «Вопросы теории и психологии творчества», т. II, ч. 2. Харьков, 1909.
(обратно)174
Овсянико-Куликовский Д. Язык и искусство. СПб., 1895. С. 35.
(обратно)175
Он же. Лирика как особый вид творчества. — В его Собр. соч. Т. VI. Изд. 3-е. СПб., 1914.
(обратно)176
По-видимому, ироническая контаминация назв. сб. В. Брюсова «Пути и перепутья» (т. 1–3. М., 1908–1909) и «Зеркало теней» (М., 1912) — и намек на кн. ст. Вяч. Иванова «Борозды и межи» (М., 1916).
(обратно)177
Не совсем точные отсылки к ст. И. Анненского «Бальмонт-лирик» (в его «Книге отражений». М., 1906) и к кн. А. Белого «Луг зеленый». М., 1910. С. 117.
(обратно)178
Авенариус Р. Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил. СПб., 1899. С. 8.
(обратно)179
Петражицкий Л. Введение в изучение права и нравственности. 3-е изд. СПб., 1908. С. 136 и др.
(обратно)180
Белый А. Символизм. М., 1910. С. 594–595.
(обратно)181
Сб. по теор. поэтич. яз. Выпуск первый. С. 38.
(обратно)182
Сб. по теор. поэтич. яз. Выпуск второй. С. 15–23.
(обратно)183
Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.
(обратно)184
Шкловский Виктор. Воскрешение слова. 1914.
(обратно)185
Отр. с этого предложения до слов «семантическое изменение» (с. 70) впервые появился в «Поэтике».
(обратно)186
У Шкл. ошибочно: Владимир.
(обратно)187
Цит. изложение работы Г. Спенсера «Философия слога» А. Веселовским — Веселовский А. Собр. соч. Т. I. СПб., 1893. С. 445.
(обратно)188
Далее в первопубликации: «Андреем Белым, бар. Гинсбургом, Чудовским, Бобровым и другими».
(обратно)189
Ввиду особой сложности и деликатности вопроса должно предложить учету читателя, что тупиком является не проблема в себе, но ее, по мнению автора, неправомерная у Потебни постановка. Различение «что?» от «как?» в той же мере необходимо науке (правоспособно методологически), в какой переживанию (потреблению) искусства нужна, наоборот, воля к их неразличимости, — эмоционально точнее, — как безразличие к возможности их различить. Что же до концепций, отметаемою является пара: что? — содержание, как? — форма; утверждаемою же — что? — форма, как? — материал. Замена, разумеется, порядка не только терминологического, тем более что сама дифференциация у нас ощущается, что ли, как отдистиллирование. Равным образом, аналитически продвинут вперед (вглубь?) и ныне живой взгляд на искусство как «особую форму мышления», для современника означающий проблему особой категории сознания (H. Kohen). — Прим. ред.
(обратно)190
Сделанный перечень мы позволяем себе пополнить указанием на александрийцев, Плиния младшего и Авзония, Школу trobar clus и любовные Кодексы, индивидуальности трубадура Каркобрю, Гонгоры, Марино, неоалександризм плеяды, наконец штили Ломоносова и целиком всего Малларме, связанного с Провансом и чрез фелибров [Фелибры — литературное движение, созданное с целью возрождения провансальской литературы. Начало движения «фелибров» восходит к так называемой «авиньонской школе», в которой объединились поэты, пишушие на провансальском (окситанском) языке и стремившиеся к возрождению словесности и культуры французского Юга. Одним из основателей движения считается поэт Жозеф (Джозе) Руманиль, выпустивший в Авиньоне в 1852 г. антологию «Провансальцы», представлявшую стихи поэтов, пишущих на различных диалектах окситанского языка] и конгениальностью. (Мы не говорим уже о темноте Эсхила, Эмпедокла, Гераклита, орфических отрывков и прочего, ценного гл. обр. содержанием.) Учитываемая (как очевидный недостаток) либо неучитываемая вовсе темнота этих авторов ожидает своего исследователя в типе Вёльфлина, Фидлера или Гильдебрандта от филологии. Объяснять ее причудами усталого барокко или психологизмом odi profanum значит не объяснять никак, ибо усталые многоразличны, отметение же нежелательного потребителя годится, пожалуй, в первоусловия работы, но никак не в первопринципы ее существа, лежащего не столько в сообщаемом, сколько в технике сообщения, себя, а не некий сюжет потребителю сообщающей. Ясно, что поименованные явления вправе обидеться на безликость начала, объединившего их в одну категорию: не потому, что категория эта им нужна, а потому, что, может быть, и выделять-то их в особую группу темных совсем не следовало, ибо темны не они одни, а вернее не все ли вообще поэты? да еще критики их темноты. Кто вам сказал, что вы понимаете Пушкина? Статистика утверждений, что Онегин убил Ленского, что совпадает с подлинным смыслом слов поэта! Пора заняться выдвигаемою нами проблемой особого подлинно-поэтического смысла, статистике неподвластного. Если стихотворение можно пересказать своими словами, для чего было его писать? возможность такого пересказа означала бы либо, что это не стихи, либо что любой рассказчик поэт, т. е. что все говорят на том поэтическом языке, небытию коего поэзия (по Малларме — корректив наличных видов речи) и обязана своим существованием. А пока это не всем ясно; даже такие авторитеты, как Вилламовиц, переводя темного Эсхила, делают его «по возможности еще более понятным нам, чем он был афинянам» (называвшим его темным не в осуждение!) Jahrb. fr die geistige Bewegung Verlag der Bltter f. d. Kunst, Brl. 1910, статья К. Гильдебрандта. S. 66. Не скучно учесть и пару авторитетных суждений другого врага темноты, знатока Прованса Шишмарева, очевидно заразившегося темнотою своего предмета, ибо «Лирика и лирики позднего Средневековья» (240–241): «искусственность основного положения (темной школы trobar clus) результат переоценки формы, обусловленный бедностью содержания поэзии», а на стр. 469: «едва ли также следует — видеть в trobar clus результаты необходимости прикрыть изысканной формой бедность содержания лирики». — Прим. ред.
(обратно)191
Александр Ширяевец (настоящее имя Александр Васильевич Абрамов; 2 апреля 1887, село Ширяево, Симбирская губерния — 1924, Москва) — русский поэт, писатель, драматург. Один из представителей новокрестьянских поэтов.
(обратно)192
Григорий Николаевич Петников (1894–1971) — русский поэт, переводчик, издатель. В 1913 г. увлекся поэзией и примкнул к футуристическому движению. В 1914 г. совместно с Николаем Асеевым основал в Харькове издательство «Лирень», вплоть до 1922 г. публиковавшее книги и сборники футуристов.
(обратно)193
«Все, что может быть каноном, является исходным пунктом дифференциальных ощущений. В поэзии геометрически застывшая система ритма: слова подчиняются ему, но не без некоторых нюансов, не без противоречий, ослабляющих строгость размера; каждое слово хочет удержать свое собственное слоговое ударение и долготу и расширяет отведенное ему пространство в стихе или немного суживает его… Благодаря ударениям и паузам, необходимым по смыслу, происходит постоянное нарушение основной схемы: эти различия оживляют строение стихов; а схема, помимо своих ритмических формальных впечатлений, исполняет еще функцию — быть масштабом отклонений и вместе с тем основой дифференциальных впечатлений» (Философия искусства. СПб., 1911. С. 105–106). — Прим ред.
(обратно)194
Ощутимость эмпирическим я, особой жизни того или иного органа, психологически учитываемая в отношении всего организма как недомогание с точки зрения органа означает индивидуальную его, органа, жизнь. Палец ощущается, т. е. живет, особо, когда он болит и именно своею болью выпадением из автоматической гармонии сознания противопоставляет себя ему как индивидуальность, как объективное без его помощи, вне нужды в нем, чрез протест против этой нужды. Так учитывать интерсубъектное бытие объективированного сознания, т. е. искусства, помогает и гегельянская теория творчества Геббеля и взгляд самого Гегеля на индивидуальность эмпирического я живущую ложно, как грех о подлинном бытии последнего космического синтеза. — Прим. ред.
(обратно)195
Ясно, что формами в нашем (вышеизлож. прим. 1) смысле перечисленные элементы не являются. За очевидно нарочитою пестротой перечня учитывать их в одном плане можно лишь как различные (и притом разнокатегорические) моменты в формации синтеза. Надо ли говорить, что как наше слово «момент», так и выражение «ступенчатое построение» закономерности временных соотношений (последовательности) не разумеют. — Прим. ред.
(обратно)196
Связь этого движения с эволюцией форм жизни многообразна, временами любопытна, не всегда налична, а отсюда в общем виде для науки внеучетна. Будь это не так, будь реальность искусства реальностью не формальной, не формы, но какой-то все той же житейской материальности, чрез форму переодетой, но не (по Шиллеру) «истребленной», — два года революции успели бы что-нибудь дать, превзойти нашего единственного барочного, вчерашнего Маяковского, одноголосого, как припев старообрядцев, всемирного в размере булочной Филиппова, но как она в себе совершенного, несмотря на то что одним из восьми академических бликов половинного цилиндра от porte cochére (Paris) отражает коллектив, как отражал городового на перекрестке. Это не было бы опровержением материальности искусства (доказательством его формальной природы), подвергни мы сомнению и житейскую новизну созданного переворотом, скажи мы, что нет новых содержаний, но, как известно, человечество целиком переродилось (см. консп. моего эллиптич. доклада: «Революция форм бытия и эволюция форм в искусстве» (Киев: Революц. искусство, 1919. С. 7). — Прим. ред.
(обратно)197
Мы решили воспроизвести и этот комментарий редактора журнала, следующий сразу за эссе Шкловского, поскольку он хорошо иллюстрирует одновременно материальный и медиальный контексты постреволюционной циркуляции текстов.
(обратно)198
Имеется в виду реорганизация ОПОЯЗа, который в 1919 г. выпустил сборник избранных статей «Поэтика. Сборники по теории поэтического языка» (Вып. 3. Пг., 1919) и приобрел институциональную базу в лице Отделения словесных искусств Государственного института истории искусств (ГИИИ).
(обратно)199
Эта статья была написана В. Шкловским по моей просьбе для сборника, посвященного зауми. К сожалению, она прибыла в Италию с большим опозданием, когда сборник вышел уже из печати, и была опубликована в итальянском переводе в журнале «il verri» (1986, n. 9–10). Тем временем Шкловский умер.
Эта статья, до сих пор неопубликованная по-русски, одна из последних работ Шкловского. Представляет собой большой интерес, что Шкловский в конце своей долгой, замечательной жизни вновь возвращается к теме зауми, которой посвятил в 1914 г. «Воскрешение слова», свою первую статью, являющуюся фундаментальной для истории формализма и заумного футуризма. (Марцио Марцадури)
(обратно)200
Л. Лунц и Н. Никитин в то время — слушатели литературной студии Дома искусств.
(обратно)201
Древнеиндийский сборник нравоучительной прозы.
(обратно)202
Многие экстремальные подробности постреволюционного быта позднее будут воспроизведены в СП.
(обратно)203
Написано по поводу вступления футуристов на руководящие посты Наркомпроса по искусству.
(обратно)204
Из воззвания В. Хлебникова, М. Синяковой, Г. Петникова и Н. Асеева (1916). Цит. из него же была взята как общий эпиграф к ст. Шкл. и Н. Пунина: «Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства».
(обратно)205
Ранее эта характеристика была отнесена Шкл. только к «скифам» — Гермес. Ежегодник искусства и гуманитарного знания. Киев, 1919. С. 71.
(обратно)206
Комедия «Третейский суд».
(обратно)207
Кн. Д. Овсянико-Куликовского, вышла в 1906–1911 гг.
(обратно)208
Пересказ записи в дневнике от 15 мая 1824 г.
(обратно)209
Поставлено в авг. — сент. 1920 г. в Ростове-на-Дону (при участии самого Хлебникова) и в 1976 г. в Риме. См. также сн. 1 в наст. изд. в комментариях к статье «Гондла».
(обратно)210
Премьера — 7 ноября 1918 г. в Москве (реж. Вс. Мейерхольд), пьеса шла три дня; новая постановка — 1 мая 1921 г., там же (реж. Вс. Мейерхольд и В. Бебутов). О борьбе вокруг второй постановки «Мистерии-буфф» см.: Февральский А. Первая советская пьеса. М., 1971. С. 89–109.
(обратно)211
См. отзыв Шкл. об этой пьесе А. Ремизова — ЖИ. 1919. 14 окт. № 267.
(обратно)212
Из «Ревизора» (действие I, явление 2).
(обратно)213
Понятие эстетики Н. Евреинова, считавшего «театральный инстинкт», «инстинкт преображения», определяющим в жизни человека и рассматривавшем в своих многочисленных работах различные формы его реализации вне сферы театрального искусства («театрализация жизни»).
(обратно)214
Иронически использовано назв. кн. Н. Евреинова (Театр для себя. Т. 1–3. СПб., 1915–1917).
(обратно)215
Герой нескольких публикаций журн. «Сатирикон» 1908–1910 гг., провинциальный поэт-графоман.
(обратно)216
«Вампука, невеста африканская» — пародийный спектакль в театре «Кривое зеркало» (1909 г.; муз. В. Эренберга, реж. Р. Унгерн), назв. которого стало синонимом ходульности, выспренности.
(обратно)217
Сцена в спектакле, перекликающаяся с эпизодом из «Зигфрида» Вагнера (в кузнице Миме).
(обратно)218
Пиотровский А. Единый художественный кружок. — Известия (Пг). 1921. 26 февр. № 43. См. ответ А. Пиотровского Шкл.: Не к театру, а к празднеству. — ЖИ. 1921. 19–22 марта. № 697–699 (обе ст. вошли в его кн. «За советский театр». Л., 1925).
(обратно)219
Ироническая отсылка к назв. одной из гл. кн. Н. Евреинова «Театр для себя»: «Каждая минута — театр».
(обратно)220
Под псевдонимом «Браунинг № … такой-то» один из журналистов напечатал в «Красной газете» ругательный фельетон про Дом искусств [Псевд. «Браунинг № 215 475» подписывал свои стихи В. Князев, его фельетон о маскараде в Доме искусств: Красная метла: I. Маскарад на помойке. — Красная газета. 1921. 6 февр. № 26].
(обратно)221
Далее в ЖИ: «Мы находимся в царстве необходимости, через нас идет наша дорога в будущее».
(обратно)222
Г. Чулковым был осуществлен перевод пьесы, Вс. Мейерхольдом и В. Бебутовым — «композиция текста».
(обратно)223
Имеются в виду его «Заметки собирателя» в кн.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: Изд. 2-е. Т. I. M., 1909.
(обратно)224
Написано в ответ на статью Быстрянского в «Правде».
(обратно)225
Пьеса А. Шницлера.
(обратно)226
Неточный пересказ заключительной сцены пьесы Островского «Свои люди — сочтемся!».
(обратно)227
Массовое представление «К мировой Коммуне» (в честь II Конгресса Коминтерна) состоялось 19 июля 1920 г. у портала бывш. Фондовой биржи (реж. К. Марджанов, Н. Петров, С. Радлов, В. Соловьев, А. Пиотровский; ок. 4 тыс. участников).
(обратно)228
Решение об отливке в бронзе работы скульптора М. Блоха (участник Передвижных выставок, работавший в 1918–1919 гг. по заказам Петросовета) было принято в марте 1919 г.; ко времени публикации ст. Шкл. было решено установить его перед Дворцом труда (см.: ЖИ. 1919. 28 мая. № 148). 3 окт. 1919 г. ЖИ сообщала о намерении М. Блоха отложить отливку «Великого Металлиста».
(обратно)229
Далее в ЖИ: «это судьба всякой массы».
(обратно)230
Вундт В. Основы физиологической психологии (т. II, гл. 14: «Зрительное представление пространства») (1874, рус. пер. 1880–1881).
(обратно)231
Сходные наблюдения можно найти в кн. Т. Рибо «Эволюция общих идей» (1897, рус. пер. 1898).
(обратно)232
Пример из кн. Э. Меймана «Лекции по экспериментальной педагогике» (1907, рус. пер. 1909–1910).
(обратно)233
Далее в «Искусстве»: «Искусство осознало себя. Мы поняли, что изображение в искусстве — только один из его путей, один из возможных материалов. Супрематисты сделали в искусстве то, что сделано в медицине химиком. Они выделили действующую часть средств».
(обратно)234
Ироническая отсылка к назв. 4-го тома Собр. соч. С. Венгерова: «В чем очарование русской литературы» (Пг., 1919).
(обратно)235
Ст. в ЖИ заканчивалась: «Революцию нельзя судить, ей надо помочь и прыгать вперед, чтобы весом усилить ее вес и скорость».
(обратно)236
То есть отбирал у родовых землевладельцев их уделы и передавал их опричникам, «деконтекстуализируя» связанную со средневековой удельной традицией родовую аристократию.
(обратно)237
Речь идет о знаменитом стихотворении Ш. Бодлера «Падаль», 29-е стихотворение из сборника «Цветы зла».
(обратно)238
Стихотворение А. Блока «На железной дороге» (1910).
(обратно)239
К постановке художником Анненковым «Первого винокура» Льва Толстого в Эрмитажном театре. Анненков ввел в толстовский текст свои дополнения.
(обратно)240
По-видимому, речь идет о посвященных разбору «Гамлета» страницах романов Гёте «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» и «Годы учения Вильгельма Мейстера».
(обратно)241
Имеются в виду ст.: Кузнецов Е. Пути и перепутья (ЖИ. 1920. 20–22 марта. № 403–405); Соловьев В. «Султан и черт» (ЖИ. 1920. 23 марта. № 406); Радлов С. Театр народной комедии. Ответ друзьям (ЖИ. 1920. 27–29 марта. № 410–412).
(обратно)242
Турецкий народный театр кукол.
(обратно)243
Анненков Ю. Веселый санаторий. — ЖИ. 1919. 1–2 ноября. № 282–283.
(обратно)244
При жизни Блока осуществлена постановка «Розы и Креста» в Костроме (сезон 1920/21 г.).
(обратно)245
Спектакль в Государственном петроградском драматическом театре, апр. 1920 г.
(обратно)246
Намек на «Секцию исторических картин», созданную в 1919 г. по инициативе М. Горького, ее целью была, по словам Горького, «инсценировка истории общечеловеческой культуры в форме театральных представлений и картин для кинематографа» (ЖИ. 1919. 25 сент. № 251).
(обратно)247
Смоляков И. — комический актер и антрепренер.
(обратно)248
Ганслик Э. О музыкально-прекрасном (1854; рус. пер. 1895).
(обратно)249
Очевидно, имеются в виду ст. Э. Голлербаха в ЖИ о скульптуре из слоновой кости, истории «Янтарной комнаты» и др. (июнь — сент. 1919 г.); «Старые годы» — журн., выходивший в 1907–1916 гг. и выступавший, в частности, за охрану и изучение памятников русской дворянской культуры.
(обратно)250
Вольный пересказ «Предисловия» Ф. Брюнетьера к своей кн. «Учебник истории французской литературы» (1898).
(обратно)251
Постановка пьес «Павел I», «Николай I» и «Александр I» осуществлена Петроградским драматическим театром позднее, в февр. 1921 — янв. 1922 г.
(обратно)252
Неточно приведены: строки из стих. Д. Мережковского «Двойная бездна» (1901) и назв. его ст. «Бес или Бог?» (1908).
(обратно)253
Далее в ЖИ: «Да эти словечки и не связаны с „Юриями Милославскими“ Мережковского, его роман пересыпан ими как сахаром, иногда же они спутаны ниточками, соединяющими анекдоты».
(обратно)254
Из романа «История Тома Джонса, найденыша». Пер. А. Кронеберга.
(обратно)255
Шкл. посетил гастрольный спектакль «Сверчок на печи» (инсц. Б. Сушкевича) 2 или 4 авг. 1922 г.
(обратно)256
Намек на эмигрантского поэта и критика Ю. Офросимова (1894–1967), откликнувшегося на спектакль восторженной рец. (Руль (Берлин). 1922. 5 авг. № 511).
(обратно)257
Отд. изд.: М.; Берлин, 1922.
(обратно)258
Намек на кн. В. Жирмунского «Религиозное отречение в истории романтизма» (М., 1913).
(обратно)259
Водевиль в театре «Кривое зеркало» (пост. Н. Евреинова).
(обратно)260
Параклет — гл. герой комедии, доктор Фреголи — одна из его «личин».
(обратно)261
Мейерхольд, которого я не люблю, создал школу режиссеров, интересующихся мастерством сцены, создал техников. Евреинов в искусстве не создал ничего: он просто подпудрил старый театр.
(обратно)262
Беленсон А. Искусственная жизнь. Пг., 1921.
(обратно)263
Имеется в виду пьеса Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины» (1915).
(обратно)264
Скорее всего, речь идет о Рапальском договоре с Веймарской республикой (16 апр. 1922), согласно которому обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и экономических отношений, обязывались содействовать развитию торгово-экономических связей. Германское правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советскими организациями. Карл Радек, который в этот момент был членом Исполкома Коминтерна, играл важную роль в заключении этого договора.
(обратно)265
Речь идет о памятнике Александру III работы Паоло Трубецкого, открытом в 1909 г.
(обратно)266
Синайский Виктор Александрович (1893–1968) — советский скульптор и педагог. В 1917–1920 гг. учился в петроградской Академии художеств. Преподавал в ней же (с перерывами) в течение 1921–1951 гг. В. А. Синайский известен не только как скульптор, но и как мастер декоративного рельефа. В Ленинграде он принимал участие в оформлении строящихся архитектурных ансамблей. Участвовал в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды (бюст Ф. Лассаля, гипс, 1918, не сохранился; вариант — гранит, 1921, Русский музей).
(обратно)267
Курилко Михаил Иванович (1880–1969) — русский советский художник театра, сценограф, архитектор.
(обратно)268
…приходится заказывать. — Эта одновременно курьезная и политически вызывающая опечатка стала причиной «Письма в редакцию», которое Шкл. поместил в следующем номере ЖИ. 1919. 1 июля. № 177, с. 3. Приводим текст этого письма:
«Товарищ редактор!
В помещенной в № 175 газеты „Жизнь искусства“ статье моей „Памятники Русской Революции“ при ее переписке произошла ошибка.
Вместо слов: „Сейчас же пролетарское искусство приходится заказывать“, ошибочно написано: „…революцию приходится заказывать“.
Прошу Вас исправить досадную ошибку».
(обратно)269
Марков Алексей Владимирович (1877–1917) — русский этнограф, фольклорист, диалектолог, медиевист, историк литературы.
(обратно)270
Печатается как дискуссионная.
(обратно)271
Футуризм — от латинского слова futurum — будущее.
(обратно)272
Nihil — ничто.
(обратно)273
Через два года Е. Замятин напишет отзыв на двухлетний юбилей этого издания, во многом откликающийся на позицию Шкл.
«„Вестник литературы“
Весною „Вестник литературы“ праздновал двухлетний юбилей. В былые годы „двухлетний юбилей“ вызвал бы улыбку. Но в наше время, когда иные издания, как „Литературная газета“ Союза писателей, умирают еще до появления на свет Божий, — в наше осадное время месяцы нужно считать за годы, и двухлетний юбилей — это почти двадцатипятилетний.
„Вестник литературы“ объединил на своих страницах главным образом писателей, убеленных сединами. Сравнительно редко там появляются статьи авторов молодых, статьи актуального содержания. Большая часть страниц „Вестника литературы“ отводится прошлому: воспоминания А. Ф. Кони, воспоминания Льва Дейча, воспоминания В. И. Немировича-Данченко, воспоминания о Некрасове Е. А. Некрасовой-Репиной, историко-литературные документы и письма. Едва ли не в каждом нумере „Вестника литературы“ — некрологи: таково наше время; памяти отошедших — иногда почти целиком посвящаются целые нумера журнала (обширный материал был дан о Л. Андрееве, С. А. Венгерове, Ф. Д. Батюшкове, А. А. Измайлове и др.).
Весь этот „пассеизм“, быть может, зависит не столько от вкусов редакции, сколько от обстоятельств нынешней нашей литературной жизни: „большая“ литература — в состоянии анабиоза и консервируется в письменных столах авторов; на книжном рынке появляется преимущественно „малая“ — злободневная, сегодняшняя, политическая, агитационная. А этот род литературы — вне критики.
Впрочем, роли руководящего критического органа „Вестник литературы“ не играл бы ни при каких обстоятельствах: он бесконечно далек еще даже от литературного „Мира искусства“ и весь целиком в „передвижничестве“. Статьи „Вестника литературы“, при всей их честности и прочих качествах, — обыкновенно облечены в одежды застарело-провинциальные, часто полны режущих слух клише. Это ясно говорит о том, каков эстетический критерий журнала.
В последних нумерах введен новый отдел — „Летопись Дома литераторов“. Это несколько оживило журнал и значительно подняло его литературный уровень. В этом отделе печатаются наиболее ценные и подходящие по объему материалы, прочитанные на литературных вечерах „Дома литераторов“. Здесь воспроизведена превосходная речь Александра Блока (на торжественном пушкинском заседании в „Доме литераторов“), где, между строк, поэт говорит о причинах нынешнего своего молчания; здесь напечатана статья Вл. Ходасевича о Пушкине — „Колеблемый треножник“, стихи М. Кузмина, Н. Гумилева и пр.
Как бы ни оценивать литературные достоинства и вкусы журнала — заслуга его перед литературой в эти небывало трудные для нее годы — несомненна. И несомненна энергия редактора-издателя „Вестника литературы“ А. Е. Кауфмана, сумевшего с января 1919 г. выпустить около 30 нумеров журнала. „Вестник литературы“ вправе был отпраздновать двухлетний юбилей: для частного издания двадцать пять месяцев в наши дни — это не меньше прежних двадцати пяти лет (1921)». Цит. по: Замятин Е. И. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. Беседы еретика. М.: «Дмитрий Сечин», «Республика», 2010).
(обратно)274
Речь идет о статье К. И. Чуковского «Из воспоминаний о Л. Н. Андрееве», опубликованной в № 11 «Вестника литературы» за 1919 г., с. 2–5.
(обратно)275
Статья «Новое поэтическое стойло» (Вестник литературы. 1919. № 11. С. 13–14).
(обратно)276
Ежедневная петроградская политическая и литературная газета. С 1871 г. «Петербургскую/Петроградскую газету» издавал Сергей Николаевич Худеков (1837–1928). С 1880-х гг. «П.г.» стала типичной представительницей бульварной прессы. Страницы ее заполнялись главным образом происшествиями, сенсационными слухами, анекдотами, легким чтением. С марта 1917 г. газета выступала с поддержкой Временного правительства и за войну «до победного конца»; вела ожесточенную борьбу с большевиками и доказывала необходимость диктатуры. Закрыта 22 ноября 1917 г.
(обратно)277
В действительности им было издано 7 томов. См.: Великорусские народные песни, изданные профессором А. И. Соболевским. СПб., 1895–1902. Т. 1–7.
(обратно)278
Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова (тома 1–5, 1910–1913) вышло в серии «Академическая библиотека русских писателей», редактор — Д. И. Абрамович.
(обратно)279
Щербатской (Щербатский) Федор Ипполитович (1866–1942) — востоковед (буддолог, индолог и тибетолог), академик Российской академии наук (1918). Один из основателей русской школы буддологии. Перевел и издал ряд памятников санскритской и тибетской литературы.
(обратно)280
Василий Васильевич Гиппиус (1890–1942) — русский поэт и переводчик, литературовед, профессор кафедры русской литературы Пермского университета (1924–1930), профессор, заведующий кафедрой русской литературы Ленинградского университета (1937–1942).
(обратно)281
Леонардо да Винчи называл арку — крепостью, сила которой в единении двух слабостей. Ср., «Арка есть не что иное, как сила, созданная двумя слабостями, ибo арка в сооружениях состоит из двух четвертей круга; каждая из этих четвертей круга, очень слабая сама по себе, стремится упасть, но так как одна противится падению другой, то две слабости превращаются в единую силу» — Цит. по: Гастев А. А. Леонардо да Винчи. М., 1982. С. 23.
(обратно)282
Неточная цитата: в «Шинели» у Н. В. Гоголя: «И закрывал себя рукою бедный молодой человек…»
(обратно)283
Виктор Яковлевич Гликман (псевдонимы Ирецкий, Старозаветный, Ириксон) (1882–1936) — русский писатель, журналист, критик. Заведовал библиотекой Дома литераторов (1918–1922) в Петрограде, что и обыгрывается находящимся в вынужденной эмиграции Шкл. в связи с поиском книги. В ноябре 1922 г. выслан из СССР, жил в Берлине.
(обратно)284
Театр народной комедии возник в 1920 г. Этот театр, выступавший в Железном зале Народного дома (первоначально, с момента строительства в 1899–1901 гг. назывался «Заведение для народных развлечений императора Николая II», в 1919–1920 гг. Народный дом им. К. Либкнехта и Р. Люксембург, с 1920-го Государственный Народный дом), имел целью возрождение техники площадного театра в условиях революционной современности. С этой целью Радлов впервые в истории русского театра привлек в театр циркачей, обогативших технику театрального актера неведомой ему дотоле физической ловкостью и акробатической техникой (см.: Радлов С. Э. Десять лет в театре. Л.: Прибой, 1929).
(обратно)285
Ходасевич Валентина Михайловна (1894–1970) — советский живописец, театральный художник и график. О ней см.: Радлов С. Э. Десять лет в театре. С. 174–182.
(обратно)286
Дикенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба».
(обратно)287
Театр создал режиссер Павел Вейсбрём в 1917 г. В репертуаре молодого коллектива были исключительно поэтические представления: «Пир во время чумы», «Маскарад», пьесы Блока, Ремизова, Гоцци. В 1920 г. на сцене ростовского кафе «Подвал поэтов» состоялась премьера пьесы В. Хлебникова «Ошибка смерти». Сам Велимир Хлебников присутствовал и на репетициях «Театральной мастерской» и непосредственно на премьере. С 1920 г. «Театральная мастерская» работала при подотделе искусств Донского областного отдела народного образования в качестве передвижного театра драмы. В 1921 г. «Театральной мастерской» была поставлена драматическая поэма «Гондла» Николая Гумилева. Автор, проездом оказавшись в Ростове, познакомился с труппой и пообещал посодействовать в переезде театра в Петроград. В сентябре 1921 г. театр перебрался в Петроград. Петроградский губернский политико-просветительский отдел взял театр под свое покровительство. 8 января 1922 г. в зале «Владимирского клуба» на Владимирском проспекте, д. 12, начались спектакли «Театральной мастерской». Спектакли открылись пьесой Гумилева, публика требовала «Автора!!!», но Гумилев к этому времени уже был расстрелян.
(обратно)288
Пьеса Петра Михайловича Невежина (1841–1919). Начал писать с 1880 г. Его первые поставленные пьесы — «Блажь» и «Старое по-новому» — были написана в сотрудничестве с А. Н. Островским. Наибольшей популярностью пользовались его драмы «Вторая молодость» и последняя пьеса «Поруганный» (1916).
(обратно)289
В очередной раз Дункан приезжает в Россию в 1921 г., когда нарком просвещения РСФСР А. Луначарский официально предложил Дункан открыть танцевальную школу в Москве, пообещав финансовую поддержку.
(обратно)290
Рассказ Вс. Гаршина «Attalea princeps».
(обратно)291
Речь идет о Бенедикте Спинозе.
(обратно)292
Жуков Иннокентий Николаевич (1875–1948) — скульптор-самоучка, педагог-новатор, литератор, видный деятель скаутского движения в России и один из основателей пионерского движения в СССР. В 1917–1921 гг. преподавал в гимназии Читы и служил инструктором Отдела единой школы в Минпросе Дальневосточной Республики.
(обратно)293
Речь идет об Эльзе Триоле, сестре Лили Брик.
(обратно)294
Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. Пг.: ОПОЯЗ, 1922.
(обратно)295
Козырев Михаил Яковлевич (1892–1942?) — писатель-сатирик, автор романсов. С 1920 г. Михаил Козырев входит в группу писателей, объединившихся при кооперативном издательстве «Никитинские субботники», и становится секретарем одноименного литературного общества. На заседаниях выступают С. Городецкий, П. Антокольский, М. Булгаков, В. Вересаев, В. Звягинцева, О. Мандельштам, М. Пришвин и др. В своей поэзии Козырев экспериментировал, в то же время ему принадлежат популярные городские романсы и советские песни «Газовая косынка», «Недотрога», «Называют меня некрасивою…», «Эх, Андрюша», «Мама».
(обратно)296
Бобышов Михаил Павлович (1885–1964) — театральный художник, живописец, график и педагог. Как театральный художник начал работать в Петербурге с 1911 г. Одновременно рисовал для журналов. Оформил спектакли для Академического малого оперного театра, Ленинградского театра комедии, Государственного академического театра оперы и балета, московских Оперного театра имени К. Станиславского и Малого театра, а также театров Киева, Софии. Автор многих живописных и графических работ. Преподавал в Петроградском техническом училище (1912–1918), Ленинградском художественно-промышленном техникуме (1924–1928), во ВХУТЕИНе и Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры при Всероссийской академии художеств.
(обратно)297
Речь идет о книге Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1924), которую Тынянов закончил летом 1923-го (первоначально ее название было «Проблема стиховой семантики»).
(обратно)298
Печ. под. псевд. В. Каверин.
(обратно)299
Псевд. Н. Чуковского, близкого к серапионам, но не входившего в группу.
(обратно)300
Имеется в виду запись в дневнике Л. Толстого (ПСС. Т. 46. С. 121). Ср.: ЭОЛ, с. 55.
(обратно)301
Чуковский К. Ахматова и Маяковский. — Дом искусств. 1921. № 1; перепеч.: Вопросы литературы. 1988. № 1.
(обратно)302
Ср.: СС III, с. 23–24, 66.
(обратно)303
Ср. из «Сент. пут.»: «В Питере при нэпе на окнах магазинов вывешивали много надписей. Лежат яблоки, и над ними надпись „яблоки“, над сахаром — „сахар“. Но крупней всего одна надпись: БУЛКИ ОБРАЗЦА 1914 ГОДА (выделено автором. — И. К.)» (цит. по: Шкловский В. Еще ничего не кончилось. М.: Пропаганда, 2002. С. 194).
(обратно)304
Замятин Е. Серапионовы братья // Литературные записки. 1922. № 1. Переопубл. нами: Литературное обозрение. 1988. № 2.
(обратно)305
Летопись Дома литераторов. 1921. № 4.
(обратно)306
По-видимому, речь идет о Ф. Нансене, приезжавшем в Россию в 1920–1921 гг. по делам Международного Красного Креста, помощи голодающим Поволжья и др.
(обратно)307
Кинорежиссеры Л. Трауберг и Г. Козинцев входили в то время в группу ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера).
(обратно)308
От назв. популярной в XIX в. мелодрамы В. Дюканжа «Тридцать лет, или Жизнь игрока».
(обратно)309
Имеются в виду кн. Н. Лебедева «По германской кинематографии» (М., 1924) и Н. Никитина «Сейчас на Западе» (Л.; М., 1924).
(обратно)310
Очевидно, упоминается З. Г. Гринберг (1889–1949) — член коллегии Наркомпроса, работавший в 1919 г. в Петрограде и назначенный в 1921 г. представителем Госиздата в Берлине.
(обратно)311
Цит. из ук. ст. «Как пишутся у нас романы», принадлежащей B. Одоевскому.
(обратно)312
Цит. письмо М. Погодина С. Шевыреву по кн.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Т. III. С. 14.
(обратно)313
Полонский Вячеслав Павлович (настоящая фамилия Гусин; 1886–1932) — российский, советский критик, редактор, журналист, историк. Был редактором журналов «Красная нива», «Красный архив» и «Прожектор», главный редактор журналов «Новый мир» (1926–1931), «Печать и революция» (1921–1929).
(обратно)314
Подразумевается, по мнению М. Чудаковой (Знамя. 1987. № 6. С. 35), Н. Ангарский, руководитель изд-ва «Недра».
(обратно)315
Речь идет о сб. Гос. академии художественных наук; в заметке использован отзыв о них Б. Эйхенбаума, писавшего Шкл. 22.3.1927: «Достань московскую „Ars poetica“ (бумага! шрифт!) и положи на столе рядом с нашей ватерклозетной „Поэтикой“ 1919 г. <…> Фрачники они, а не ученые! У нас Виноградов — и тот лучше» (782).
(обратно)316
В. Полонский, редактор журн. «Печать и революция» и «Новый мир», автор ряда работ о М. Бакунине, и И. Сельвинский (см.: НЛ. 1927. № 2. С. 46).
(обратно)317
Успенский В. П. — в то время директор-распорядитель «Киноиздательства РСФСР».
(обратно)318
Карикатура Кукрыниксов в № 14 НЛП за 1927 г.; Шведчиков К. М. (1884–1952) — партийный деятель, возглавивший в начале 1925 г. акционерное общество «Совкино», монопольно ведавшее кинопрокатом.
(обратно)319
Далее в НЛ: «Основная ошибка писателей и хроникеров „На посту“ в том, что они мыслят людей стационарно, а не функционально. Знаменитое дерево советской литературы [Рисунок в № 3 НЛП за 1926 г. („Дерево современной литературы“)], выпущенное прошлым летом, когда старшие мальчики уехали, — тому доказательство. Там каждый писатель закреплен на ветке, как музеи и церкви в путеводителе по Москве. Это просто, но не имеет ничего общего ни с одной научной системой.
Диалектическое изменение писателя не понято. Хотя, казалось бы, революция показала много примеров не „измены“ писателя, а изменения его значимости и его установки. Один путь Мейерхольда и Эйзенштейна мог бы научить людей диалектике художественной формы.
Режиссер и сценарист знают сейчас, что без Октябрьской революции русская лента была бы иной и была бы хуже. Работать на современном и революционном материале или на историческом в современном его понимании любопытней, чем создавать прокатные буржуазные ленты, которые не принуждают человека к изобретательству. Это я доказываю своей работой, своими разговорами с молодежью и статьями.
Изменение, которое я в себе констатирую, не сегодняшнее, но для меня, как теоретика, понятное.
Неумение людей видеть, где хвост и где голова, мне тоже понятно. Оно позволяет этим людям в искусстве ползти назад без угрызения совести».
(обратно)320
Из доклада, читанного в Ленинграде 6/III 1927 г.
(обратно)321
Кн. В. Переверзева «Творчество Гоголя» впервые вышла в 1914 г.; Шкл., по-видимому, использует 3-е изд.: Иваново-Вознесенск, 1926.
(обратно)322
Шкл. ссылается на работу Г. Меерсона «Ранняя буржуазная революция в России (пугачевщина)», основанную в цит. отр. на данных кн. Д. Багалея «Очерки из русской истории» (т. II. Харьков, 1913).
(обратно)323
Из пушкинских «Замечаний о бунте» (1834).
(обратно)324
Воронский А. Полемические заметки // Красная новь. 1924. № 5.
(обратно)325
Автор и точное название первого произведения не установлены; под назв. «Параша-сибирячка» с 1840-х гг. переводилась на рус. яз. повесть Ксавье де Местра «Молодая сибирячка» (1815).
(обратно)326
Ссылка на кн. Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники». Т. II. СПб., 1884.
(обратно)327
«Пропущенная глава» «Капитанской дочки».
(обратно)328
Работа не опубл., см. о ней: ЗШЛ, с. 375.
В следующем номере (НЛ. 1927. № 4. С. 30–31) Шкловский опубликовал тезисы, суммирующие его аргументы, высказанные в данной статье. Приводим здесь этот текст полностью:
«В защиту социологического метода
В. Шкловский
(Экстракт)
В дополнение к статье в прошлом номере и для облегчения полемики сообщаю формулировку своих возражений т. Переверзеву, заранее извиняясь перед ним за то, что мои возражения короче его книги и поэтому менее точно сформулированы.
Возражение первое (характера общего).
Так как литературные произведения в своей технике изменяются довольно быстро и во всяком случае претерпевают за 10 лет часто очень серьезные изменения, то для выяснения влияния на них социального базиса нужно исследовать этот базис в том же масштабе, т. е. в той степени разделительности, которая соответствовала бы реальным изменениям литературного материала.
Возражение второе (характера общего).
Конечно, литературная заимственность есть явление социальное, если мы будем называть социальным все, происходящее в обществе. Но факт переживания определенным литературным явлением тех социальных условий, которые его создали, есть социальный факт особого рода. И жанр должен быть исследован в специфических своих условиях.
Возражение третье (характера частного).
Утверждение т. Переверзева, что в 30-х годах XIX века дворяне только начинали привыкать к деньгам, что они переживали момент перехода от натурального хозяйства к денежному, я считаю просто неверным. А принимая во внимание масштаб литературных изменений, я считаю рассматривание Гоголя (дворянина, так легко соглашающегося на перенос из 6-й книги в 8-ю) как просто „дворянина“, считаю это заявлением настолько общим, что оно не может быть использовано ни для какого анализа.
Возражение четвертое (характера частного).
Указание т. Переверзева на то, что медный подсвечник на щегольском столе Манилова есть факт, прямо вскрывающий социальную сущность Манилова, я считаю возможным опровергнуть тем, что ввод этого подсвечника представляет собою обычный прием комичного, и материал здесь, следовательно, находится в деформированном состоянии.
Все эти утверждения мои сводятся к тому, что я считаю сегодняшнюю работу товарищей, оперирующих социологическим методом, чрезвычайно общей и недооценивающей специфического характера материала.
Что же касается нашей завтрашней работы, в частности работы над историей литературных гонораров и над историей тиражей книг, то мы не утверждаем, что этими работами вопрос о взаимоотношениях литературного и внелитературного ряда будет разрешен.
Но это работы, которые необходимо сделать. Необходимо вдвинуть в сознание новые факты. Я прошу поэтому товарищей не сердиться на нас за то, что мы принялись за работу, которую они не сделали сами, очевидно, по недостатку времени, ушедшего частично на создание хрестоматий и прочую научно-популяризаторскую работу».
(обратно)329
Оригинал письма И. Тургенева — на нем. яз.
(обратно)330
По-видимому, имеются в виду опыты советского ученого Б. Завадовского.
(обратно)331
Источник цит. не установлен.
(обратно)332
Ст. в рукописи заканчивалась: «Какой голос должен быть у беспартийного? Я думаю, что колоратурное сопрано или контральто, потому что мужские голоса сейчас закреплены за коммунистами, остальные сочувствуют или ищут места, где тембр голоса неопределенен. Поэтому Леонов и занимается лишними людьми, потому что не лишние люди слишком определенны, но то, чем занимается Леонов, не очень важно. <…> Так в Спарте басами и баритонами обладали доряне, а периэки [Доряне — древнегреческое племя, завоевавшее Спарту; периэки — неполноправная часть населения Спарты, имевшая личную свободу, но лишенная политических прав] — пресимпатичными, но неопределенными голосами. Проблема беспартийности — это проблема голоса. Сейчас получаются вещи совершенно неосознанные. Напр., можно проводить красный террор или можно воевать, но нельзя сочувствовать войне, т. е. есть вещи, которые требуют не сочувствия, а делания или противоделания, и вопрос о голосе подошел к такому моменту, когда он уже не может быть выполнен в этом тембре» (49).
(обратно)333
Скрытая цитата из К. Маркса — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 736.
(обратно)334
Очевидно, имеется в виду кн. Я. Шафира «Газета и деревня» (2-е изд. М.; Л., 1924), в которой были приведены результаты исследования понимания крестьянами языка современных газет.
(обратно)335
Ср. сходные наблюдения Р. Якобсона в рец. на «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1959. № 1–2. P. 274.
(обратно)336
Реж. Д. Бассалыго в 1925–1926 гг. поставил два фильма о Средней Азии и Ближнем Востоке («Мусульманка», «Глаза Андозии»).
(обратно)337
Фильм «Поэт и царь» (1927) реж. В. Гардина.
(обратно)338
Пьеса С. Третьякова.
(обратно)339
Бабель сейчас изменился, но эта статья лучшая из тех, которые я могу о нем написать.
(обратно)340
Яковлев К. (1846–1928) — русский советский актер.
(обратно)341
Ст. в рукописи заканчивалась: «Книги Бабеля очень хорошие книги нарядного стиля. Бабель сделал хорошо, что ходил в атаку с буденовцами. Я не знаю, за что я упрекаю его. В самой сущности романтики заложена ирония. Иногда писателя из-за этого разгадывают дважды по-разному. Нарядный и иностранный, он русский писатель. <…> Самое лучшее в Бабеле то, что его книги близки к (прекрасно. — зач.) нарядно написанным заметкам „военного корреспондента“. Читатель разгадает Бабеля по-своему, вложив в него свой пафос» (75).
(обратно)342
Речь идет о стих. «Мой отец — простой водопроводчик…» (1923).
(обратно)343
Имеется в виду рассказ Л. Андреева «В подвале» (1901).
(обратно)344
Лелевич Г. 1923 год // На посту. 1924. № 1.
(обратно)345
Далее в первопубликации: «Я тщательно старался в этом отрывке не сводить концы с концами».
(обратно)346
Имеется в виду петроградское отделение ТЕО (Театральный отдел) Наркомпроса и сменившее его в конце 1919 г. Петроградское Театральное отделение (ПТО); материалы деятельности Шкл. в ПТО сохранились в фонде К. Сюннеберга — ИРЛИ, 474, 444.
(обратно)347
«Озеро Люль» — пьеса А. Файко, поставленная Вс. Мейерхольдом (премьера — 7.11.1923).
(обратно)348
В петроградском Театре политических инсценировок в 1921 г. шли пьесы Шкл. «Наследство дикаря» и «Парижская коммуна».
(обратно)349
Примеч. И. Срезневского к публикации «Сна» в Полн. собр. соч. Л. Толстого. Т. 3. М.; Л., 1928.
(обратно)350
О. Сенковскому вскоре посвятил свою работу В. Каверин (Барон Брамбеус. Л., 1929). См. рец. Шкл. «Боязнь методологии». — ЛГ. 1929. 27 мая. № 6.
(обратно)351
Далее в первопубликации — отзыв о журн. «Россия».
(обратно)352
В первопубликации: «У Тихонова — Лелевич. У Никитина — Тарасов-Родионов».
(обратно)353
Цит. из ст. В. Красильникова «Поэтический молодняк» (НЛП. 1927. № 20. С. 68–69), раскавыченная в ГС; и потому часто приписываемая Шкл.
(обратно)354
В первопубликации — «Октябрь».
(обратно)355
Далее в первопубликации: «У Достоевского есть такая история. Ходит человек по казармам и буянит, а другой ходит за ним и все повторяет: „И все он врет“. Ну, что делать такому человеку, если не будет первого? Пока что выдвигание пролетарской поэзии привело к забвению того, что в „поэзии самое важное — поэзия и в стихах — стихи“. А это очень странное забвение, особенно для молодого писателя. Хороший рабочий, стоя у станка, вероятно, газету не читает. Поэт тоже не должен пользоваться газетой как подстрочником».
(обратно)356
В первопубликации — Родов.
(обратно)357
По мнению М. Чудаковой, эти строки Шкл. «целят» в «Дни Турбиных» Булгакова (см. «М. А. Булгаков — драматург и художественная культура его времени». М., 1988. С. 86).
(обратно)358
Фридрих Ратцель (1844–1904) — немецкий географ и этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики. Профессор Лейпцигского университета (с 1886 г.). Ратцель Ф. Народоведение. Т. 1–2. СПб., 1903.
(обратно)359
Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза), организация, созданная на 1-м Всероссийском учредительном съезде железнодорожников в 1917 г.
(обратно)360
Вернон Дороти — популярная актриса американского немого кино.
(обратно)361
Сходная идея впервые появляется в главах «Письмо Тынянову» и «О свободе искусства» в книге «Третья фабрика», которая писалась в то же время: «Относительно быта искусство обладает несколькими свободами: 1) свободой неузнавания, 2) свободой выбора, 3) свободой переживания (факт сохраняется в искусстве, исчезнув в жизни)» (М.: Круг, 1926. С. 99).
(обратно)362
«9 января» (Вячеслав Висковский, 1925) рассказывает о событиях 9 января 1905 г. («Кровавое воскресенье»).
(обратно)363
«Минарет смерти» (Вячеслав Висковский, 1925): по замыслу этот фильм должен был иллюстрировать узбекский феодальный деспотизм, но был жестоко раскритикован за ориенталистские клише.
(обратно)364
Из трех процитированных фигур режиссером был лишь Протазанов. Владимир Егоров (1878–1960) был художником. Он начал работать в Художественном театре и продолжал свою деятельность в кино начиная с 1915 г. («Портрет Дориана Грея», Всеволод Мейерхольд). Лев Кулешов признавал его роль в отображении предметов на переднем плане; именно его имеет в виду Шкловский в своем первом «фельетоне», говоря о предметах, выделяющихся на фоне черного бархата. Моисей Алейников (1885–1964) был директором студии «Русь», которая затем превратилась в «Межрабпом-Русь». Все трое дебютировали в 1910-х гг.
(обратно)365
Концепция «натурщика» была теоретически сформулирована Львом Кулешовым, который в 1919–1920 гг. разработал специальную систему упражнений, направленную на идеальное владение телом перед камерой (см. его «Справку о натурщике», текст 1920 г.: Искусство кино. Цит. соч. С. 34–35). Эйзенштейн противопоставлял ему концепцию «типажа», в которой делался упор на физические данные непрофессиональных актеров. Делая вид, что он забыл этот термин, Шкловский подчеркивает тем самым свою дистанцию по отношению к этой концепции.
(обратно)366
Владимир Барский (1889–1936), который в фильме Эйзенштейна сыграл роль капитана броненосца «Потемкин», был режиссером на Грузинской студии Госкинпром, где он снял несколько фильмов на революционную тематику, а также экранизировал «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Через год после публикации этого текста он поставил фильм «Казаки» по повести Л. Толстого на основе сценария Шкловского (фильм вышел на экраны в 1928 г.).
(обратно)367
Речь идет о фильме «Еврейское счастье» («Менахем Мендель», 1925) по мотивам рассказов Шолома Алейхема (реж. А. Грановский, опер. Э. Тиссэ). Фильм также включает сцену на Одесской лестнице, увековеченную в «Броненосце „Потемкине“»: Менахему Менделю снится, что он стал профессиональным сватом и там встречается с невестой.
(обратно)368
«1905» — первоначальное название «Броненосца „Потемкина“» и оригинальное название сценария.
(обратно)369
«Парижанка» Чарли Чаплина (1923) вышла на экраны в Москве 8 июня 1926 г. в двух кинотеатрах: «Эрмитаж» и «1-й Госкино-Художественный». Этому предшествовала хвалебная критика, появившаяся 4 июня в газете «Вечерняя Москва». Этот фильм имел колоссальный успех (пять недель на экранах), оказался в центре дебатов и оказал значительное влияние на киноиндустрию. Лев Кулешов снимал свою «Журналистку» (1927) после просмотра этого фильма Чаплина, уделив особенное внимание взаимоотношениям между сценарием и реальным материалом.
(обратно)370
Речь идет о сценарии фильма «Фунтик», который был попыткой ввести в СССР жанр эксцентричной комедии. Главный персонаж Игоря Ильинского был молодым провинциалом, безнадежно влюбленным в женщину, которую он замечает из окна поезда.
(обратно)371
Игра слов: кадр и план являются кинематографическими терминами, но здесь они соотносятся с политикой набора кадров и организацией производства. Шкловский будет защищать свободу творчества во всех инстанциях советского кинематографа вплоть до 1929 г.
(обратно)372
Наравне с Кулешовым и Роомом Шкловский защищает тогда необходимость уменьшить себестоимость кинематографической продукции. В тот же год для них обоих он пишет сценарии с минимальным набором актеров и декораций: «По закону» и «Третья Мещанская». См. развитие этой идеи в статье «Экономьте солнце!», опубликованной в июне 1926 г. (Советский экран. 1926. № 3).
(обратно)373
Спор о советской комедии, ее неудачах, принципах, различных жанрах (сатира, юмор, бурлеск и т. д.) начался на страницах кинематографических изданий в 1925 г. и достиг своего апогея в 1927 г. Его основными протагонистами были Барнет, Брик, Шпиковский, Соколов и Быстрицкий.
(обратно)374
Киномастерская ФЭКС, которой с 1921 г. руководили Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, выпустила, начиная с 1924 г., несколько комедий («Похождения Октябрины», «Красная газета», «Мишки против Юденича», «Чертово колесо»). ФЭКС дал как свою игровую школу, так и независимый коллектив, бросивший настоящий вызов традиционному кино. Их включение в состав фабрики «Ленинградкино», официально произошедшее в июле 1926 г., прошло не без конфликтов. См. об этом статью Шкловского «О рождении и жизни фэксов».
(обратно)375
«Пат и Паташон» — датский бурлескный многосерийный фильм, в котором играли Харальд Мадсен (толстяк-коротышка) и Карл Шенстрём (долговязый). Лау Лауритцен часто сам снимал фильмы, производимые его студией «Палладиум». В период с начала 1920-х гг. по конец 1930-х гг. было снято порядка сорока фильмов, многие из которых вышли на экранах в СССР.
(обратно)376
Фильм «Наше гостеприимство» (Бастер Китон, 1923) вышел в Москве 20 мая 1927 г., и затем снова появился на экранах 28 июня. Гарри Пиль (1892–1963) — немецкий актер и режиссер, подражатель Дугласа Фэрбенкса-старшего, известный своими приключенческими фильмами, в которых он сам исполнял сложные трюки. Его имя непрестанно мелькает в советской прессе 1920-х гг. Актер был постоянной мишенью для нападок «левых» критиков и кинематографистов.
(обратно)377
Гарри Пиль (1892–1963) — немецкий актер, режиссер, основатель киностудии «Гари Пиль-фильм», постановщик приключенческих и детективных фильмов.
(обратно)378
В фильме «Три эпохи» (Бастер Китон, 1923) пародируются многие сцены из «Нетерпимости» (Гриффит, 1919). Этот фильм вышел в СССР в 1925 г.
(обратно)379
Эта связь кинематографического изображения со словом и монтажом, который здесь представляется как грамматика, затем развивается в работе «Их настоящее» (1927) и довольно близка к тому, что предложит в «Искусстве кино» (1929) Кулешов: «Если имеется мысль-фраза… она выражается, выкладывается кадрами-знаками, как кирпичами. <…> Так и кадрами, которые подобны условным обозначениям, как буквы китайского алфавита, даются образы и понятия. Монтаж кадров является постройкой целых фраз» (Л.: Теа-кино-печать, 1929. С. 100). Эта линейная концепция монтажа стала объектом нападок со стороны Эйзенштейна («За кадром»). Такой монтаж, понимаемый как синтаксический и этимологический инструмент, можно сравнить также с пониманием монтажа у Эйхенбаума, который в статье «Проблемы киностилистики», написанной для сборника «Поэтика кино», развивает концепцию монтажа как инструмента стилистического (построение кадров в кинофразе и кинопериоде) и семантического (построение кинометафоры).
(обратно)380
«Нетерпимость» (1916) — один из наиболее значительных фильмов Д. — У. Гриффита, действие которого происходит параллельно в древнем Вавилоне, Иудее, средневековой Франции и Америке начала XX в.
(обратно)381
Гриффит Дэвид Уорк (1875–1948) — американский режиссер и сценарист. Один из родоначальников киноискусства, постановщик фильмов «Рождении нации» (1915), «Сердце мира» (1918), «Сломанные побеги» (1919) и др.
(обратно)382
АРК, основанный в 1924 г., включал в себя большое число профессиональных кинематографистов, которые были разбиты по профсекциям. Деятельность АРКа включала в себя показы фильмов с последующими дебатами; ассоциация также издавала журнал «Кино-фронт», затем «Киножурнал АРК», для которого писал и Шкловский. До его поглощения РАППом (Российская ассоциация пролетарских писателей) в конце 1920-х гг. АРК (ставший потом АРРК) был вполне открытым местом для обмена мнениями.
(обратно)383
«Северное сияние» (Николай Форрегер, 1926) — фильм, посвященный жизни народов Большого Севера, частично снятый в Сибири и Мурманской области, а также в студии, в которой было искусственно воссоздано северное сияние.
(обратно)384
См.: Зелинский Ф. Ф. Теория судебного красноречия // Цицерон. Полн. собр. соч. / Пер. В. А. Алексеева и Ф. Ф. Зелинского. СПб., 1901. Т. 1; он же. Художественная проза и ее судьба // Из жизни идей. СПб., 1911. Т. 2.
(обратно)385
Эти идеи Эйхенбаум развивает в ст.: «Иллюзия сказа» (1918) и «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (1919).
(обратно)386
Эйзенштейн приводит словесное выражение… — Неточно. См. статью Эйзенштейна «Четвертое измерение в кино» (Избр. произв. в 6 т. Т. 2. С. 46).
(обратно)387
Константин Леонтьев (1831–1891) представил анализ творчества Толстого, в котором утверждал, что писатель в конце концов отказался от описания деталей, присущего реалистическому стилю: «Анализ, стиль и веяние. О романах графа Л. Н. Толстого» (СПб., 1890).
(обратно)388
Спектакли «Ревизор» (по пьесе Гоголя, 1926) и «Горе уму» (по пьесе Грибоедова, 1928) Шкловский считал творческими неудачами Мейерхольда, поскольку в них режиссер стремился реабилитировать классику. Эта точка зрения резко контрастировала с нападками советской критики, которая, напротив, упрекала Мейерхольда в том, что он искажает классику, превращая реализм в мистический символизм.
(обратно)389
Владимир Киршон (1902–1938): драматург, один из руководителей РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и ее журнала «На посту». В 1928 г. он опубликовал крайне агрессивный памфлет против политики студий («На кинопосту». М.; Л.: Московский рабочий, 1928). Начиная с осени 1927 г., во время подготовки партконференции, состоявшейся в марте 1928 г., члены Лефа в своей критике «Совкино» по некоторым пунктам присоединились к РАПП.
(обратно)390
Знаменитая фраза, произнесенная Петром Столыпиным в Государственной думе 10 мая 1907 г.
(обратно)391
В первоначальном издании в журнале «Новый Леф» эта фраза отсутствует.
(обратно)392
Вместо этой концовки в первой публикации была другая: «С. Эйзенштейн продолжает, несмотря на свой успех, свое творческое наступление. К сожалению, он потерял темп в работе, в силу своей производственной изолированности. Эйзенштейн целиком продукт советской коллективистической действительности. Он создался в общем фронте левого искусства вместе с его удачами и поражениями. Самая большая опасность для него стать отдельным Чаплиным или Абель Гансом» (Новый Леф. 1927. № 11–12. С. 33).
(обратно)393
«Первый винокур» (1919) — постановка Ю. Анненкова в Эрмитажном театре (по Л. Н. Толстому).
(обратно)394
Фореггер (Грейфентурн) Николай Михайлович (1892–1939) — режиссер, балетмейстер. Организатор и руководитель мастерской «Мастфор» («Вольная мастерская Фореггера»). Премьера буффонады В. Масса «Хорошее отношение к лошадям» — 5 февр. 1922.
(обратно)395
«Парижская коммуна» — фильм о событиях Парижской коммуны вышел под названием «Новый Вавилон».
(обратно)396
Шкловский использует игру слов «установка» и «остановка». Главный смысл этой игры состоит в том, чтобы подчеркнуть момент производства и организации, в противоположность лозунгу схватывания «жизни врасплох», выдвигавшемуся Вертовым и его группой.
(обратно)397
Шкловский заимствует терминологию Кулешова об «отборе материала для экрана», но применяет ее по-новому, обращаясь к образам из «Генеральной линии»: бык-производитель и селекционное зерно.
(обратно)398
Речь идет о фильме «Ухабы» (Абрам Роом, 1927), сценарий которого был написан Шкловским на основе темы, предложенной рабкором. См.: Шерсть, стекло и кружева // Кино. 1927. 9 августа. № 32. С. 2.
(обратно)399
«Генеральная линия» — первоначальное название фильма «Старое и новое» (1929), работу над котором С. Эйзенштейн и Г. Александров начали в 1926 г. и прервали, приступив к съемкам «Октября».
(обратно)400
Сергеев Федор Андреевич, более известен как «товарищ Артем» (1883–1921) — русский революционер, советский политический деятель. Член РСДРП(б) с 1902 г., основатель Донецко-Криворожской советской республики.
(обратно)401
В. В. Оболенский, более известный читателям под псевдонимом Н. Осинский, в июле 1927 г. поместил в «Правде» свою статью «Американский автомобиль или Российская телега?», в которой представил сравнительный анализ состояния автомобилестроения и обеспеченности машинами стран Европы, США и СССР. При этом результаты сравнений свидетельствовали не в пользу Советского Союза. Не желая мириться с подобным пренебрежением к развитию советского автомобилестроения, Н. Осинский пытался развенчать ряд предрассудков, которые, как он полагал, служили психологической основой этого пренебрежения. В своей статье он доказывал абсурдность мнения о том, что «автомобиль есть буржуазный, а не рабоче-крестьянский экипаж» в силу своей дороговизны.
(обратно)402
Все статьи этого раздела вышли в журналах «Леф» и «Новый Леф», так или иначе вписываясь в проблематику борьбы за новое искусство, — производственное, фактографическое, внесюжетное, основанное на особом способе фиксации факта. В этот раздел входит только одна статья, напечатанная уже после закрытия журнала «Новый Леф», но отстаивающая те же позиции — «Факт быта и факт литературный» (Вечерняя Москва. 1929. 14 декабря).
(обратно)403
Отзовисты — группа радикальных большевиков в РСДРП, возникшая после революции 1905 г. Отзовисты настаивали на полном отказе от легальных форм массовой партийной работы и отзыве депутатов — социал-демократов из Третьей Государственной думы.
(обратно)404
Первая волна переименований пришлась на 1918 г. К первой годовщине Революции в Петрограде был переименован практически весь центр. Следующая волна переименований последовала в 1923 г.
(обратно)405
Все изложенное в этой статье об отношении между писателем и производством относится к той стадии писательской профессии, когда неоперившийся рабкор, отрываясь от «сохи» или «станка» (пусть это врач, крестьянин, инженер, рабочий — все равно), втягивается в «большую литературу». Дальнейшую проработку этого вопроса см. в заключительной статье настоящего сборника — «Продолжение следует». — Ред. [Примечание редактора сборника «Литература факта» Н. Ф. Чужака].
(обратно)406
См.: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. Ср. также позднее воспоминание Шкл.: «Тынянов начинал работу над книгой „Архаисты и новаторы“. Я предлагал другое название, которое выразило бы его мысль еще ясней: „Архаисты — новаторы“» (Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. М.: Советский писатель, 1970).
(обратно)407
Рафес Моше (Моисей Григорьевич; 1883–1942), видный деятель Бунда. В 1927–1928 гг. — заведующий иностранным отделом ТАСС. В конце 1920–1930-х гг. Рафес был руководителем художественного отдела «Совкино», а затем Комитета по кинематографии.
(обратно)408
Матвей Комаров русский писатель XVIII в., автор широко известной в свое время лубочной книги «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы» (1782). Шкловский посвятит ему книгу: Матвей Комаров, житель города Москвы. М., 1929.
(обратно)409
Федор Александрович Эмин (в период турецкой службы — Магомет-Али Эмин; 1735–1770) — русский писатель, журналист. В течение 9 лет, которые он прожил в России, им было издано более 25 книг переводов и своих собственных сочинений разного рода, среди которых встречаются 3 тома «Российской истории» и назидательная книга «Путь ко спасению».
(обратно)410
Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) — русский писатель, поэт-символист и прозаик, переводчик украинской поэзии. Прославился формальными «экспериментами» над стихотворной речью. Издал 20 томов своих сочинений. Персонаж анекдотов в литературных мемуарах и пособиях по стиховедению.
(обратно)411
Отец Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин; 1777–1853) — архимандрит Русской православной церкви (в 1802–1823 гг.); востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из основоположников русской синологии, первый русский китаевед, получивший общеевропейскую известность. Речь идет о следующей его работе: Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение. Сочинение монаха Иакинфа. СПб., 1840.
(обратно)412
Это часть коллективной дискуссии, прошедшей на страницах НЛ. Текст дискуссии начинается так: «Товарищи! Сшибайтесь мнениями! Тема: „Одиннадцатый“ Д. Вертова, „Октябрь“ Эйзенштейна и Александрова. На ринге: О. Брик. В. Перцов. В. Шкловский».
(обратно)413
От АХРР — Ассоциация художников революционной России; с 1928 г. — АХР, Ассоциация художников революции — крупное объединение советских художников, графиков и скульпторов, являвшееся, благодаря поддержке государства, самой многочисленной и мощной из творческих групп 1920-х гг. Основана в 1922 г., распущена в 1932 г. и явилась предтечей единого Союза художников СССР.
(обратно)414
В 1929 г. Леф был переименован в Реф («Революционный фронт искусства»), который формально являлся новым объединением.
(обратно)415
В 1927 г. на киностудии «Совкино» Шуб снимает свой первый кинофильм под названием «Великий путь». «Мой фильм „Великий путь“ я делала уже в более благоприятных условиях. В этом мне помогла в первую очередь политическая и общественная оценка моего первого фильма „Падение династии Романовых“, но немалую роль для меня сыграла в условиях студии и Совкино помощь в этом вопросе со стороны Владимира Маяковского и Сергея Эйзенштейна. Я получила право считаться автором фильма „Падение династии Романовых“, получила звание режиссера и мне была предоставлена возможность снимать, вернее, доснимать, для моего очередного фильма — „Великий путь“ — к десятилетию Великой Октябрьской революции. Кроме того, для меня была закуплена хроника текущих событий в Европе и в Америке. <…> В ноябре 1927 года „Великий путь“ был показан на экранах Москвы и всего Советского Союза. Фильм был хорошо оценен партийной и советской прессой и многими зарубежными товарищами. Он был отмечен Агитпропом ЦК» — Шуб Э. Жизнь моя — кинематограф. М., 1972.
(обратно)416
Театр был создан в 1923 г. литератором и режиссером Сергеем Ивановичем Прокофьевым как театр Московского губернского совета профсоюзов (МГСПС).
(обратно)417
Впервые «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского были опубликованы в журнале «Современник» в 1855–1856 гг.
(обратно)418
Алексей Петрович Крайский (1892–1941) был ремонтным рабочим, железнодорожным служащим, продавцом и стал писать, по собственному признанию, «из протеста к социальной несправедливости». С 1926 г. член РАППа. Много внимания уделял воспитанию начинающих авторов, вел литературные кружки при Коммунистическом университете, журнале «Резец», на крупнейших ленинградских заводах — Кировском и «Большевике». Его перу принадлежали рассказы, пьесы, руководства для начинающих писателей. Скорее всего, Шкл. имеет в виду его книгу «Что надо знать начинающему писателю», изданную в 1927 г.
(обратно)419
Шкл. неточно называет его книгу «Основы стиховедения». М.: ГИЗ, 1924.
(обратно)420
Беспредметная живопись противопоставляется традиционной фигуративной живописи. Сам этот термин использовался группой Малевича. На страницах того же «Киножурнала АРК», двумя номерами позже, Малевич будет развивать противоположную идею, согласно которой кино, будучи неспособным избавиться от фигуративности, так и останется на уровне живописи передвижников. См.: Малевич К. И ликуют лики на экранах // Киножурнал. 1925. № 10. Тынянов же в свою очередь подхватывает идею Шкловского в «Об основах кино» двумя годами позднее.
(обратно)421
Здесь аллюзия на фи-феномен, который был открыт в 1912 г. гештальт-психологом Максом Вертгеймером. Он позволяет объяснить непрерывность видимого движения (в частности, в кино) способностью нашего мозга мысленно увязывать отдельные мгновения в единое непрерывное движение. Это объяснение не сразу утвердилось по отношению к концепции об инерции зрения. Шкловский возвращается к этому вопросу в работе «Их настоящее», упоминая работы феноменолога Пауля Фердинанда Линке.
(обратно)422
Рассказ «За что?» (1906) Льва Толстого черпает свой сюжет в одной из глав монументального труда Сергея Максимова «Сибирь и каторга» (1871), который был посвящен одному польскому политзаключенному, сосланному в Сибирь после подавления восстания 1830 г. Документы, с которыми работал Толстой, и изменения, которые он внес в исходную сюжетную линию, выходят далеко за рамки того, что подразумевает здесь Шкловский, обращающийся к анализу этого позднего рассказа Толстого в своих последующих работах (глава «Очерк и анекдот» в книге «О теории прозы», 1929). Эта статья также была перепечатана в сборнике Лефа «Литература факта» (Москва, 1929).
(обратно)423
Деконструкция пьесы путем разработки независимых фрагментов у Эйзенштейна и Мейерхольда подробно рассматривается в книге «Их настоящее», в главе «Эйзенштейн и пилы».
(обратно)424
Шкловский здесь возвращается к рассуждению, развитому в статье «О законах кино» (Русский современник. 1924. № 1. С. 245–252). Это видение «фотографического» как «технического», «нейтрального» было пересмотрено им в течение 1926 г.
(обратно)425
На протяжении этих лет несколько групп заявляли о своей связи с конструктивизмом, в особенности сторонники неигрового кино, близкие к Лефу, — в частности, Эсфирь Шуб. Эти положения были теоретически развиты Осипом Бриком на страницах журнала «Новый Леф». Шкловский неоднократно настаивает (в частности, в «Их настоящем») на этой генеалогии, которая может казаться странной. Роль Кулешова как крупного теоретика, своего рода отца-основателя, была признана его учениками и членами его бывшего коллектива в предисловии к изданию в 1929 г. его труда «Искусство кино». Однако кинематографисты неигрового кино, как и «киноки», не ссылались на это наследие.
(обратно)426
Одновременно Шкловский писал предисловие к (так и ненапечатанному) сборнику, посвященному современной русской прозе, где он настаивал на этом радикальном изменении парадигмы в современной ему литературе, опираясь на примеры, взятые из Белого, Пильняка, Бабеля и др. Та же идея развивается во введении в книгу «Удачи и поражения Максима Горького» (Тифлис, 1926).
(обратно)427
Владимир Гардин (1877–1965), режиссер, снявший множество фильмов в 1910-х гг., показан здесь как представитель традиционного сюжетного кино и его шаблонов — вероятно, из-за своего фильма «Крест и маузер» (см. «Горе от шпаги» и «Их настоящее»). Шкловский уже разоблачал эту тенденцию в своей рецензии на фильм «Стачка», где был упомянут другой режиссер, Александр Ивановский, и его фильм «Дворец и крепость». Год спустя Шкловский нападал на Гардина в своей статье о фильме «Поэт и царь».
(обратно)428
Злоупотребление наплывом как шаблоном кинематографического языка Шкловский разоблачал в статье о «Стачке». Хотя ранее он видел в этом первый шаг для необходимого накопления условностей, присущих кинематографическому языку, см. «О законах кино».
(обратно)429
Этот документ из Фонда Эйзенштейна (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 22) озаглавлен «„Стачка“ Эйзенштейна и „Багдадский вор“». Быть может, к Шкловскому обратились также, чтобы услышать его мнение о прокате в СССР фильма, где Дуглас Фэрбенкс был продюсером и исполнителем главной роли. Если только не понимать эту отсылку метафорическим образом, Шкловский говорит здесь о кинематографических шаблонах, от которых отступает Эйзенштейн и типичным выразителем которых, по его мнению, является «Багдадский вор».
(обратно)430
АХРР: Ассоциация художников революционной России, 1922–1928. Эта могущественная ассоциация вписывается в традицию русской реалистической живописи конца XIX в. Первый председатель группы, Павел Радимов, был также последним председателем Товарищества передвижных художественных выставок («передвижники»). Исаак Бродский, Митрофан Греков, Алексей Вольтер, Евгений Кацман, а также Борис Кустодиев считались ее членами. В АХРР постепенно влились несколько других художественных групп.
(обратно)431
«Аэлита» (Яков Протазанов, 1924). Этот первый фильм, снятый Протазановым после его возвращения из эмиграции, был плохо принят «левой» критикой, которая увидела в нем нагромождение шаблонов.
(обратно)432
Фильм «Дворец и крепость» (Александр Ивановский, 1924) повествовал о противостоянии революционера и царской полиции.
(обратно)433
Из этой фразы видно, что данный текст являлся чем-то вроде внутренней, предназначенной исключительно для самой студии рецензии. Этот тип документов обычно включал пронумерованный перечень пунктов, которые подлежат изменению.
(обратно)434
В сохранившейся копии эти кадры уток и других мелких животных находятся в начале третьей части.
(обратно)435
В то время журналом «Кино» руководил Александр Курс, близкий к Лефу приятель Шкловского. Передовая статья первого номера за 1926 г., подписанная Сергеем Третьяковым, была посвящена «Броненосцу „Потемкину“». «Кино», как и «Советский экран», активно занимался продвижением фильма, детально рассказывая о прокате («Потемкин» опережает по доходам прокат «Робин Гуда» с Фэрбенксом в главной роли), сообщая о поездке Эйзенштейна и Тиссэ в Берлин. В конце января 1926 года в «Кино» были опубликованы многочисленные статьи о фильме, особенно в течение первых двух недель, которые последовали за его выходом на экраны (№ 4 и № 5). Эти статьи, в целом весьма хвалебные, подписанные Роомом, Соколовым, Перцовым, Незнамовым, сопровождались разоблачением «третьесортного американского товара» и коммерческого кино советского производства. Образец последнего «левая» критика видела в «Медвежьей свадьбе» (Константин Эггерт, 1926) — экранизации новеллы Мериме «Локис», вышедшей в прокат на той же неделе, что и «Потемкин». Эта чрезвычайно успешная экранизация была представлена как советский фильм, сделанный по «голливудским» рецептам. «Жена предревкома» (Александр Иванов-Гай, 1925): популярная мелодрама, сюжет которой соединял контрреволюционный заговор, муки совести большевика, любовь и предательство на фоне Гражданской войны.
(обратно)436
См.: Великий перелет и кинематография // Кино. 1925. 8 декабря. № 38. С. 3, перепечатано в «Поденщине», с. 161–164, примеч. 4. Эта статья появилась летом 1926 г., когда до СССР докатилось эхо берлинского успеха фильма Эйзенштейна, который и стал причиной нового взлета и продвижения фильма внутри страны (в Москве фильм показывался в здании театра Мейерхольда). См. № 20–26 того же журнала «Кино», который публиковал выдержки из немецкой печати. Со своей стороны, «Советский экран» восхвалял Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса по случаю их приезда в Москву в июле 1926 г.
(обратно)437
Нарком просвещения Анатолий Луначарский в 1923 г. начал широкую полемику своим призывом «Назад к Островскому», который воспринимался как атака против авангарда в пользу восстановления традиционных эстетических форм. В этой полемике нашли выражение самые разнообразные позиции — в виде теоретических и критических статей, которые, в частности, публиковались на страницах Лефа, но также в виде спектаклей, намеренно искажающих пьесы знаменитого драматурга. Отголоски этой полемики, которая представляла собой принципиальный спор относительно поддержки властью новых форм искусства, будут раздаваться в течение всего десятилетия.
(обратно)438
Шкловский перенимает это понятие у Эйзенштейна, который в знаменитой статье «Бела забывает ножницы» (1926) писал: «Понимание кино сейчас вступает во „второй литературный период“. В фазу приближения к символике языка. Речи. Речи, придающей символический смысл (то есть не буквальный), „образность“ — совершенно конкретному материальному обозначению — через несвойственное буквальному — контекстное сопоставление, то есть тоже монтажом» (Избр. произв.: В 6 т. Т. 2. С. 277). В предисловии к русскому изданию книги немецкого оператора Гвидо Зебера «Техника кинотрюка» (1929) Эйзенштейн еще ближе к Шкловскому: «Если в первом литературном периоде кинематограф опирался на сюжетно-фабульный драматический или эпический опыт литературы, то есть заимствовал у литературы элементы конструкции в целом, то в отличие от него второй литературный период использует литературу по другой линии — по линии опыта ее в технологии материалов, которым орудует литература. Здесь кинематография на первых порах пользуется опытом литературы для выработки своего языка, своей речи, своей словесности, своей образности».
(обратно)439
После этой картины… «Броненосец» устарел. — Шкловский повторяет мысль С. Эйзенштейна: «По пути „Потемкина“ дальнейшей продвижки нет» (см. статью Эйзенштейна «Наш Октябрь. По ту сторону игровой и неигровой». — Кино. 1928. № 12).
(обратно)440
…театральные выступления фэксов… — Речь идет о спектаклях «Женитьба» (1922) и «Внешторг на Эйфелевой башне» (1923).
(обратно)441
Он объелся вещами и перешел на Золя. — См. ответы С. Эйзенштейна на вопросы анкеты журнала «На литературном посту» (1928. № 1. С. 71–73, и Избр. произв.: В 6 т. Т. 5. С. 525–529).
(обратно)442
…противопоставляет свое киноискусство как «большевистское» — «советскому». — Неточно. С. Эйзенштейн сравнивал «общереволюционную проблематику» с «партийной», впервые поставив этот вопрос в статье «Чего мы ждем от партсовещания по вопросам кино» (СЭ. 1928. № 1).
(обратно)443
Шкловский использует термин, выбранный Вертовым в качестве названия своего фильма: «Шагай, Совет!» Кирилл Шутко, написавший об этом фильме в журнале «Советский экран», озаглавил свою статью «Шагайте все!» (1926. 10 августа. № 32. С. 3).
(обратно)444
Лев Сосновский (1886–1937): журналист, сотрудник газеты «Правда». В своей статье под заголовком «Пафос сепаратора» (13.06.1926. С. 1), превозносил будущий фильм Эйзенштейна, сценарий которого он прочел. Он приветствовал новых героев, которых, по его мнению, способно представить только кино: живых героев «с точным адресом» (в данном случае — это деревня Маклочно Гдовского района Ленинградской области). Сценарий был написан на основе документальных рассказов начинающего писателя Олега Давидова «Маклочане» (Изд-во «Прибой», 1926). Сосновский противопоставлял эту работу традиционным литературным произведениям, показывающими «село в общем», чаще всего с нотками ностальгии или романтизма имея в виду, в частности, С. Есенина и Л. Сейфуллину, автора популярного романа «Виринея» (1924). «Это будет героиня без любовной истории», радовался Сосновский. В сценарии крестьянка Евдокия Украинцева стала на экране Марфой Лапкиной (по имени крестьянки, которую Эйзенштейн, верный своей теории типажа, выбрал для фильма).
(обратно)445
В печати возникла полемика, так как режиссер Николай Лебедев распознал в монтаже Вертова многочисленные фрагменты своего фильма «Через Европу», снятого по заказу «Культкино». См.: Кино-фронт. 1927. № 4, и Кино-фронт. 1927. № 7–8. С. 32. См. также: Tzivian Yu. (ed.). Lines of Resistance. Dziga Вертов and the Twenties. Pordenone: Cineteca dei Friuli, 2004. Р. 244.
(обратно)446
Фабрика «Трехгорная мануфактура» (или просто «Трехгорка»), основанная в 1799 г., была одной из наиболее крупных текстильных фабрик Москвы. Полная остановка производства на «Трехгорке» между мартом 1919 г. и августом 1920 г. стала символом экономической катастрофы страны.
(обратно)447
Измаил Уразов пункт за пунктом ответил на аргументы Шкловского в статье «Он шагает к жизни, как она есть» (Советский экран. 1926. № 32. С. 4–5), вновь подтвердив принципы Вертова и настаивая на отсутствии любого «эстетического расчета». В конце он приводил номер паровоза (353), который, как он заверял, вполне читается на экране!
(обратно)448
Большинство фильмов Вертова столкнулось при выходе на экран с весьма серьезными трудностями. Прокатчики, и в особенности «Совкино» (которое обладало в РСФСР монополией), были заранее убеждены, что эти фильмы не найдут своего зрителя. Фильм, однако, широко поддерживался в печати, особенно в «Правде», «Кино» и «Советском экране».
(обратно)449
«Луч смерти» — художественный фильм, поставленный кинорежиссером Львом Кулешовым при участии Всеволода Пудовкина и по сценарию последнего.
(обратно)450
«Падение династии Романовых»: монтажный фильм, созданный Эсфирью Шуб (1894–1959) исключительно на основе архивных документов, в частности съемок для императорского двора. Члены Лефа считали, что он открывает более радикальный путь, чем метод Вертова в неигровом кино. Шуб участвовала в обсуждении, опубликованном в последнем номере «Нового Лефа» за тот же год, а ее фильм послужил точкой отсчета и основанием для теоретических размышлений группы.
(обратно)451
Тогдашняя прокатная версия наверняка была более короткой. Длина копии, хранящейся сегодня в Красногорском архиве, составляет 1820 м.
(обратно)452
В результате двухмесячного пребывания за границей, в Германии и во Франции, осенью 1922 г. Маяковский написал, кроме стихотворений «Германия» и «Париж. Разговорчики с Эйфелевой башней», восемь очерков. Шесть из них были напечатаны в газете «Известия ВЦИК» (в том числе «Париж (Записки Людогуся) (24 декабря 1922 г.)».
(обратно)453
Александр Курс (1892–1937) — писатель и журналист, близкий к Шкловскому и Кулешову, для которого он написал сценарий фильма «Журналистка» (1927) и «Великий утешитель» (1933). Сам выбор названия работы «Их настоящее» является намеком на название сибирского журнала по искусству и литературе «Настоящее», который основал и редактором которого между 1927 и 1929 гг. был Кулешов. Курс входил в Кинематографическую комиссию Центрального комитета партии и в силу этого некоторое время возглавлял Общество друзей советской кинематографии (ОДСК), созданное в 1925 г. Начиная с этого момента журнал «Кино» становится органом ОДСК, а Курс — его главным редактором, начиная с № 25 от 8 сентября. Под руководством Курса журнал открывает свои двери для авангардистов и для теоретического обоснования нового видения кинематографа, ориентирующегося на кино «факта». Для журнала пишут Сергей Юткевич, Павел Незнамов, Владимир Ерофеев, Алексей Ган, Лев Кулешов, Абрам Роом и другие. В этот период можно также найти много статей, подписанных членами Левого фронта искусства (Леф), в частности Сергеем Третьяковым, Осипом Бриком, Владимиром Перцовым, поэтом Николаем Асеевым и Виктором Шкловским. Курс посвятил кинематографу небольшую книжку «Самое могущественное» (М.; Л.: Кино-издат, 1927), в которой он полемизирует со Шкловским и формалистами, противясь пониманию фильмов Чаплина как прогрессистских. Затем Курс уезжает в Сибирь. И в результате наговора в 1929 г. лишается своего поста в редакции журнала «Настоящее», издававшегося в Новосибирске. Он возвращается в Москву, где работает сценаристом в «Межрабпроме» и «Союзмультфильме» вплоть до своего ареста в 1937 г.
(обратно)454
Здесь смысл эпитета «прозаический» отличается от смысла, который ему дается в работе Шкловского «Поэзия и проза в кинематографии» (См.: Эйхенбаум Б. (ред.) Поэтика кино. М.; Л.: Теа-кино-печать, 1927. С. 137–142), и отсылает нас к различению, которое встречается в «Воскрешении слова», между поэтической (или художественной) речью и речью практической (или прозаической).
(обратно)455
Шкловский начал публиковать свой анализ романа Толстого в журнале «Новый Леф» (№ 10. С. 20–24). На следующий год эта работа вышла отдельной книгой: Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М.: Федерация, 1928.
(обратно)456
Экранизацию «Шинели» по сценарию Тынянова (который также использует для этого другой рассказ Гоголя — «Невский проспект») осуществили в 1926 г. Леонид Козинцев и Григорий Трауберг. Тынянов, публикуя свой сценарий, предпослал ему небольшое предисловие, объясняя, что в этом сценарии он стремился дать кинематографу «аналог гоголевского стиля в кино».
(обратно)457
Пауль Фердинанд Линке (1876–1955) с экспериментальной и феноменологической точек зрения интересовался визуальным восприятием движения, ставя различные эксперименты, чтобы понять оптические эффекты стробоскопов (Linke P. F. Die stroboskopischen Erscheinungen als Täuschungen des Identitätsbewusstseins und das Problem des Sehens von Bewegungen. Leipzig: W. Engelmann, 1907). Он защищал идею о том, что впечатление от движения связано с тем фактом, что субъект предполагает идентичность объекта, наблюдаемого во время этого движения. Упомянутый Шкловским прибор и ошибочно названный им «талтоскопом», это, по всей видимости, тахистоскоп («taktus» значит «быстрый»). Возможно, Шкловский познакомился с этими работами, не переведенными на русский язык, в Академии художественных наук (ГАХН), которой как раз заведовал тогда феноменолог Густав Шпет, а многие секции и лаборатории (хореологическая лаборатория, физико-психологическая секция) пристально наблюдали за тем, что делалось в Германии. Вопрос об объяснении непрерывного восприятия движения уже поднимался в статье «Семантика кино» и, конечно же, отсылает нас к фи-эффекту, который противопоставлялся теории инерции зрения.
(обратно)458
«Видение»/«узнавание» — это базовая оппозиция ранней теории Шкловского, в которой поэтический язык ассоциировался с процедурой видения. Тем не менее, ставя кино на сторону узнавания, Шкловский никоим образом не принижает его как искусство. Напротив, он развивает идею о том, что семантическое значение образа, позволяющее нам узнавать на экране предметы реального мира, является как раз тем, что позволяет кинематографу развивать условности, а значит, усложнять свой язык.
(обратно)459
Александр Петрович Нечаев (1870–1948) — психолог и философ, профессор Санкт-Петербургского университета, автор работ по экспериментальной психологии и памяти.
(обратно)460
«Золотой запас» (Владимир Гардин, 1925) — приключенческий фильм, в основу которого была положена легенда о пропавшем золоте адмирала Колчака.
(обратно)461
В последующих изданиях этот эпитет был заменен на «плоскостное»: на самом деле, здесь это неприятное ощущение связано с недостатком глубины декораций, которое автор и пытается выразить.
(обратно)462
«Коллежский регистратор» (известный также под названием «Станционный смотритель») является экранизацией повести Пушкина. Юрий Желябужский снял его в 1925 г. вместе Иваном Москвиным, актером МХАТа. Этот фильм стал объектом нападок «левых» кинорежиссеров и критиков.
(обратно)463
В своей статье «Литература и кино» (1926) Борис Эйхенбаум выражает ту же идею о повторной утилизации литературных произведений, потерявших свою остроту (см.: Эйхенбаум Б. Литература: теория, критика, полемика. Л.: Прибой, 1927).
(обратно)464
Федор Оцеп — один из сценаристов этой экранизации, совместно с Валентином Туркиным. В последующих изданиях, поскольку Оцеп покинул СССР, его имя было заменено на формулировку «…в кино».
(обратно)465
Шкловский воспроизводит здесь классический анализ Михаила Гершензона, показывающий, что история блудного сына, представленная на картинах, украшающих «обитель станционного смотрителя», для отца Дуни выполняет роль интерпретативного фона, толкующего события его собственной жизни. См. об этом: Гершензон М. Мудрость Пушкина. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1919.
(обратно)466
Ольга Преображенская (1881–1971) — актриса и режиссер, начала свою карьеру до революции. Фильм «Каштанка» был снят в 1926 г. Шкловский говорит о ее фильме «Бабы рязанские» (1927) в статье «Шерсть, стекло и кружева».
(обратно)467
Садко — псевдоним критика театра и кино Владимира Блюма (1877–1941). Аллюзия на его библиографию и известность здесь, конечно же, ироничны.
(обратно)468
Возможно, речь шла о сценарии Михаила Левидова для фильма «Три величества» или о сценарии Натана Зархи «Павел I».
(обратно)469
Сергей Тройницкий (1882–1948) — историк искусства, с 1918 по 1927 г. являлся директором Эрмитажа. Петр Галаджев (1900–1971) — график, кинодекоратор, актер мастерской Кулешова. Сыграл в большинстве его фильмов 1920–1930-х гг. Александра Хохлова (1891–1985) — актриса и режиссер, жена Кулешова. Борис Свешников был ассистентом Кулешова, потом работал с Пудовкиным, Савченко и Эйзенштейном на картине «Иван Грозный». Владимир Фогель (1902–1929) — самый известный актер мастерской Кулешова, играл в фильмах «По закону» (Кулешов, 1926) и «Третья Мещанская» (Абрам Роом, 1927), снятых по сценариям Шкловского. Сергей Комаров (1891–1956) — актер, после распада мастерской Кулешова начал снимать сам («Поцелуй Мэри Пикфорд», 1926; «Кукла с миллионами», 1928).
(обратно)470
Сцена из «Парижанки» (1923) Чаплина.
(обратно)471
Речь идет о стихотворении 1905 г. «Там, в ночной завывающей стуже…», которое Блок цитирует в статье «Безвременье» (1906). Это стихотворение совершенно определенно порывает со стилистикой романтического стихотворения. Тем не менее комментаторы Блока, опираясь на его черновики и воспоминания современников, приходят к выводу, что речь идет об оригинальной версии, тогда как замена строки «разверзающая звездную месть» явилась уступкой декадентской и мистической направленности символистской поэзии той эпохи. В современных изданиях Блока эта версия представляется как «вариант». См.: Блок А. Полное собрание сочинений. М.: Наука, 1997. Т. 2. С. 649.
(обратно)472
Речь идет об отрывке из «Домика в Коломне» (1830), где Пушкин смеется над романтическими штампами и пишет, что «бледная Диана // глядела долго девушке в окно. // (Без этого ни одного романа // Не обойдется; так заведено)».
(обратно)473
Тынянов развивает эту тему в работе «Ода как ораторский жанр», которую он как раз пишет в это время. См. переиздание в: Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 227–252.
(обратно)474
Похоже, что эта мысль уже выдвигалась другим известным шахматистом того времени — кубинцем Хосе Раулем Капабланкой. И того и другого снимали за игрой во время чемпионата 1925 г., проходившего в Москве. Капабланка даже сыграл самого себя в «Шахматной горячке» (Николай Шпиковский, Всеволод Пудовкин, 1925).
(обратно)475
Действие фильма «Крылья холопа» (Юрий Тарич, 1926) разворачивается в эпоху Ивана Грозного. Шкловский значительно переделал сценарий этого фильма.
(обратно)476
Речь идет о «Третьей Мещанской».
(обратно)477
В фильме «Сорок первый» (Яков Протазанов, 1927), снятом по повести Бориса Лавренёва, на небольшом острове сталкиваются лицом к лицу красноармеец и офицер белой армии.
(обратно)478
Шкловский иронизирует здесь, потому что Лев Гольденвейзер (1883–1859) никогда не был известной личностью, как и фильм — «Крестовик» (1926), снятый театральным режиссером Василием Сахновским на «Третьей фабрике» в тот же период, что и «Крылья холопа». Позднее Гольденвейзер работал в различных цензурных органах и художественных советах «Совкино», и даже был заведующим литературного отдела, где часто спорил со Шкловским. Он написал в соавторстве несколько ничем не примечательных сценариев и впоследствии перешел (или его перевели) на киностудию в Сибири.
(обратно)479
ГПП (Главполитпросвет) был основан в 1920 г. Во главе этой организации стояла Надежда Крупская. Начиная с 1924 г. в нем будет создан отдел по кинематографу (Художественный совет по делам кинематографа), который сначала будет осуществлять контроль за сценариями до съемки фильмов, а затем и контроль над уже отснятым материалом. ГПП достаточно быстро начнет конкурировать с ГРК (орган Главлита, ответственный за одобрение сценариев). Этот конфликт разрешится в октябре 1926 г., когда ГРК лишится прерогатив цензуры.
(обратно)480
«Луч смерти» (1925) — приключенческий фильм Льва Кулешова по сценарию Пудовкина, который был также одним из ассистентов Кулешова. В фильме смешиваются политика и научная фантастика. «Мать» (1926) — первый фильм, снятый Пудовкиным, по одноименной повести Максима Горького.
(обратно)481
«Совет трех» был органом группы «Киноки». В него входили Вертов, его брат — оператор Михаил Кауфман и его жена — монтажер Элизавета Свилова. См.: Киноки. Революция // Леф. 1923. № 3. С. 136.
(обратно)482
Этот девиз был заявлен в статье Осипа Брика «Факт против анекдота» (Вечерняя Москва. 1925. 14 октября. С. 3: «Когда нет интересных фактов, — их выдумывают, получается анекдот. Наше время перегружено интересными фактами. Нам анекдоты не нужны».
(обратно)483
«Шоколадные ребята» — группа негритянского джаза Сэма Вудинга. С 23 марта по 6 мая 1926 г. выступала в Москве. Возможно, благодаря Мейерхольду, который слушал их в Париже. Один из спектаклей на английском назывался «Chocolate Kiddies». Их концерты, включающие в себя акробатические и эксцентрические номера, скетчи и танцы, произвели очень сильное впечатление на представителей московского авангарда. Кауфман снял отрывок их выступления для «Шестой части мира», но на этапе монтажа Вертов поместил их на Бродвей, тем самым представив их выступление как невинный развлекательный спектакль для буржуазной публики.
(обратно)484
«Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» — известный водевиль Дмитрия Ленского (1839). В 1924 г. Николай Эрдман переделал пьесу для Театра Вахтангова (постановка Рубена Симонова). В спектакле пародировались театральные представления о революции с их неизбежным «восстанием угнетенного народа» и танцами «свободного труда». Отрывок из этой постановки можно найти в: Уварова Е. Д. Москва с точки зрения. Эстрадная драматургия 1920–1960-х годов. М.: Искусство, 1991. С. 214, 362.
(обратно)485
В фильме «Человек с киноаппаратом» (1927) Вертов как раз использует этот прием, показывая и зал, и публику.
(обратно)486
За незначительными различиями, весь этот отрывок о работе Вертова и «киноков», начиная с абзаца «Таким образом, „киноки“ первоначально протестовали против литературности в кинематографе…», был опубликован отдельно под названием «Киноки и надписи» // Кино. 1926. 30 октября. № 44. С. 3.
(обратно)487
«Мудрец», пародия на пьесу Островского, и «Слышишь, Москва?», пьеса, написанная Сергеем Третьяковым, были поставлены Эйзенштейном в Театре Пролеткульта в 1923 г.
(обратно)488
«Отелло» в 1920 г. поставил Андрей Лаврентьев, воспитанник МХАТа.
(обратно)489
«Железный поток» (1924) Александра Серафимовича — революционная эпопея о гражданской войне. Серафимович был членом РАППа и редактором журнала «На посту», который противопоставлял себя «Лефу» и с энтузиазмом приветствовал этот роман. Говоря вполне серьезным тоном о смехе этого читателя-слесаря, Шкловский заодно смеется и над автором.
(обратно)490
С начала 1920-х гг. Шкловский негативно отзывался о работе Мейерхольда в театре, хотя и признавал его новаторство. См., например, его критическую статью о постановке «Леса» Островского: Шкловский В. Особое мнение о «Лесе» // Жизнь искусства. 1924. № 26. С. 11.
(обратно)491
Эйзенштейн участвовал в переделке монтажа фильма «Доктор Мабузе, игрок» (Фриц Ланг, 1922), который делала Эсфирь Шуб. В советском прокате фильм вышел под названием «Позолоченная гниль», сначала в 1922 г., а потом еще и в 1924 г. в Москве. См. об этом: Bulgakowa O. Eisenstein und Deutschland. Berlin: Henschelverlag, 1998. P. 115–122. На русском эта же работа: Киноведческие записки. 2002. № 58. С. 144–152.
(обратно)492
См. об этом статью Шкловского «Пудовкин», вышедшую в сентябре 1926 г. и публикуемую в настоящем издании.
(обратно)493
Русское название фильма «Daddy» (M. Hopper, Jacky Coogan, 1923). Фильм вышел в России в 1925 г.
(обратно)494
Пудовкин В. Кинорежиссер и киноматериал. М.; Л.: Кинопечать, 1926. С. 20.
(обратно)495
Похоже, что этот пример был позаимствован у критика Влада Королевича, который, сожалея о незначительном внимании, которое отводится актеру в советском кино, предлагал такую пародию на раскадровку: «1. Ноги гражданина, едущего верхом. 2. Ноги лошади. Крупно. 3. Хвост лошади. 4. Конец хвоста лошади. 5. Копыта лошади. 6. Гвозди на копытах. Наплыв. 7. Пыль на гвоздях. Наплыв. 8. Туфли ждущей гражданки. 9. Туфель и сапог. Нетерпение. Наплыв. 10. Пятки удаляющегося гражданина. 11. Отдельно слеза, падающая на туфель. 12. Слеза на туфле. Наплыв» (Королевич В. Самая дешевая вещь // СЭ. № 40. 1926. С. 13).
(обратно)496
Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // Леф. 1923. № 3. С. 71.
(обратно)497
ВЦИК должен был готовить празднование 20-летия революции 1905 г. и поэтому дал свое согласие на первый сценарий Нины Агаджановой-Шутко, члену Коммунистической партии. Эйзенштейн развил один эпизод этого сценария в «Броненосце „Потемкин“», который был представлен делегатам XIV Съезда партии в Большом театре в декабре 1925 г. Только потом фильм вышел на экраны, видимо, не позднее января 1926 г.
(обратно)498
Роман Марка Алданова «Девятое Термидора» вышел в 1923 г. в Берлине.
(обратно)499
Стихотворение 1920 г. Николай Тихонов (1896–1979) входил в группу «Серапионовы братья», к которой был близок Шкловский.
(обратно)500
В конце лета 1926 г. Эйзенштейн откажется от этого проекта, зародившегося в связи с событиями в Гуанчжоу (сценарий в трех частях был написан Сергеем Третьяковым), в пользу того, что станет потом «Генеральной линией». См. интервью с Эйзенштейном (Кино. 1926. 10 августа. № 32. С. 1), в котором он возлагает ответственность за это на колебания в Госкино.
(обратно)501
Книгу Бела Балаша «Der sichtbare Mensch» (1924) на русский язык перевел Кирилл Шутко. Она вышла в издательстве «Пролеткульт» в 1925 г. под названием «Видимый человек: Очерки драматургии фильма» и параллельно в Ленинграде под названием «Культура кино» под редакцией и с вступлением Адриана Пиотровского. Первый перевод был переиздан в: Киноведческие записки. 1995. № 25. С. 61–111, с введением Пиотровского (С. 127–128). В отличие от Шкловского, Борис Эйхенбаум с похвалой отзывается о Балаше и соотносит с ним многие понятия в своей работе «Проблемы киностилистики».
(обратно)502
Яков Протазанов (1881–1945) — до революции известный режиссер («Пиковая дама», 1914), который в 1924 г. вернулся в СССР, и сразу же заставил о себе заговорить фильмом «Аэлита» (1924). Затем он начинает специализироваться в жанре комедии («Застройщик из Торжка», 1925).
(обратно)503
Владимир Гардин (1877–1965) — специалист по адаптации классики («Анна Каренина», «Крейцерова соната», 1914), после революции заведовал Государственной школой кинематографии, где совместно со студентами снял несколько агитационных фильмов («Серп и молот», 1921). Шкловский негативно отзывался о его творчестве в статьях «Крест и маузер» (1925) и «Поэт и царь» (1927).
(обратно)504
Петр Чардынин (1878–1934) — один из успешных актеров и режиссеров 1910-х гг. (его фильмография насчитывает более 200 фильмов, среди которых самый известный — «Забудь о камине», 1917). Он тоже вернулся из эмиграции и был призван «укрепить ряды» молодой советской украинской кинематографии — отсюда этот эпитет Шкловского.
(обратно)505
Чеслав Сабинский (1885–1941) — сначала декоратор, потом в дореволюционный период режиссер мелодрам, приключенческих фильмов и экранизаций классиков. После 1917 г. он снял несколько агитационных фильмов и в 1927 г. — «Катерину Измайлову», по Лескову, к которому Эйхенбаум писал титры.
(обратно)506
Таким «званием» наградят эту группу ученики Кулешова — Комаров, Оболенский, Фогель и Пудовкин в предисловии к его «Искусству кино» (1929): «Мы делаем картины — Кулешов сделал кинематографию».
(обратно)507
Пудовкин, многим обязанный своему учителю Кулешову с теоретической точки зрения, выпустил свое первое сочинение «Кинорежиссер и киноматериал» тремя годами раньше «Искусства кино». Работа Пудовкина, сразу же переведенная на немецкий и английский язык, в СССР почти сразу стала учебником. В последующие годы Пудовкин сблизился с Эйзенштейном в своем понимании монтажа как «конфликта», а не как «простого сцепления». Шкловский изменил столь лестное мнение о влиянии Пудовкина в статье «Ошибки и изобретения», что не помешало ему сотрудничать с ним в 1930-е гг.: в 1939 г. они будут вместе работать над фильмом «Минин и Пожарский».
(обратно)508
Первые фильмы Абрама Роома (1894–1976) упрекали в некоторой «патологичности», особенно «Гонка за самогонкой» (1924), «Бухта смерти» (1926) и «Предатель» (1926), сценарии которых перерабатывал Шкловский. Именно поэтому Эйзенштейн в небольшой статье, неизданной на то время, в его отношении говорил о «нервозности… которая помогает ему находить удовольствие в том, что отвратительно» («„Луч“ и „самогонка“»). Спор на эту тему в прессе противопоставлял две противоположные точки зрения относительно жестокости сцен пыток в «Бухте смерти» и в более широком смысле — об уместности кровавых сцен на экране: Кровь на экране // Советский экран. 1927. № 32. С. 4.
(обратно)509
Григорий Козинцев начал свою карьеру в Киеве в 1919 г. театральной постановкой «Царь Максимилиан», произведением, которое входило в популярный репертуар «балаганных театров». Когда на следующий год он приехал в Петроград, ему хотелось обновить его мизансцену, и он обратился к писателю Алексею Ремизову, который и написал свой собственный вариант, но также он обращался и к Шкловскому.
(обратно)510
Шкловский здесь отсылает нас к заявлению футуриста Хлебникова в «Трубе марсиан» (1916).
(обратно)511
Алексей Ган (1893–1942) — теоретик, декоратор, график, оператор, постановщик. Начал работать редактором культурной рубрики газеты «Анархия» (1917–1918), куда он также привел Родченко и Малевича. Сотрудничал с Театральной студией Народного комиссариата просвещения, где попытался навязать свое понимание «массовых действий». Спутник Эсфири Шуб до конца 1920-х гг., он был одним из основателей конструктивизма (1922), некоторое время издавал журнал «Кино-фот» (1922–1923), пробовал снимать документальные фильмы («Остров пионеров», 1924). В последующие годы мало-помалу исчез с московской художественной сцены, обратившись к дизайну, в частности к графике. Похоже, что именно Ган написал манифест последней группы конструктивистов — группы «Октябрь» (1928). Ярый сторонник театральной формы «массовых действий», в 1930-х гг. пытался развить свою деятельность в Сибири. Но в 1935 г. был арестован и в 1942-м — расстрелян.
(обратно)512
Эта статья, написанная в конце 1926 г., предшествовала выходу фильма Эсфири Шуб «Падение династии Романовых».
(обратно)513
«Элисо» — фильм, снятый режиссером Николаем Шенгелая по мотивам одноименного рассказа Александра Казбеги в 1928 г.
(обратно)514
«Каторга» (1928) — фильм Ю. Райзмана по сценарию С. Ермолинского. Райзман Юлий Яковлевич (1903–1994) — режиссер. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий СССР. Постановщик фильмов «Круг» (1927, с А. Гавронским), «Земля жаждет» (1930), «Летчики» (1935), «Последняя ночь» (1937), «Машенька» (1942), «Коммунист» (1958), «Твой современник» (1968), «Частная жизнь» (1982), «Время желаний» (1984) и др.
(обратно)515
В ГТК работает Эйзенштейн… — ГТК — Государственный техникум кинематографии. Вырос на базе основанной в Москве 1 сентября 1919 г. Государственной киношколы, которая в 1922 г. была реорганизована в Государственные мастерские повышенного типа, в 1925 г. — в ГТК, в 1930 г. — в Государственный институт кинематографии (ГИК). Эйзенштейн читал лекции в инструкторско-исследовательской мастерской при ГТК в конце 1920-х гг.
(обратно)516
Ильин Василий Сергеевич (1892–1971) — деятель русской и советской кинематографии. Работал архитектором и актером на кинофабрике А. Ханжонкова. С 1917 г. занимался главным образом организаторской и педагогической работой.
(обратно)517
«Бабы рязанские» (1927) — фильм О. Преображенской и И. Правова.
(обратно)518
«Пиковая дама» (1916) — фильм Я. Протазанова.
(обратно)519
«Ветер» («Ошибка Василия Гулявина», «Атаманша Лелька», 1926) — фильм Л. Шеффера и Ч. Сабинского по одноименной повести Б. Лавренева.
(обратно)520
«Светлый город» («Красный платок», «Случай с письмом», 1928) — фильм О. Преображенской и И. Правова по мотивам рассказа М. Роги «Красный платок».
(обратно)521
«Его призыв» («23 января», 1925) — фильм Я. Протазанова по сценарию В. Эри, поставленный к первой годовщине со дня смерти В. И. Ленина.
(обратно)522
«Жена» (1927) — фильм М. Доронина. Доронин Михаил Иванович (1885–1976) — режиссер, актер, оператор. Работал в кино с 1916 г. Поставил фильмы «Руки прочь» (1924), «Камергер его величества» (1924), «Как Петюнька ездил к Ильичу» (1924), «Бывшие люди» (1926), «Вторая жена» (1927) и др.
(обратно)523
Лео Мур (Леонтий Мурашко, 1889–1938) в течение своего пребывания в США до революции работал администратором и ассистентом режиссера у Гриффита. По возвращении в СССР он был ассистентом Кулешова на съемках фильма «Мистер Вест». В 1925–1928 гг. самостоятельно снял пять фильмов (в большинстве не сохранившихся), параллельно занимался кинокритикой и написал несколько небольших книг об американском кино.
(обратно)524
В своих «Директивах по киноделу», касающихся составления кинопрограмм и направленных в январе 1922 г. в Наркомат просвещения, Ленин предлагал, чтобы в дополнение к «увеселительным картинам» (которые не должны были содержать «ни похабщины, ни контрреволюции») обязательно демонстрировались фильмы «пропагандистского характера под фирмой „Из жизни народов всех стран“» (17 янв. 1922. Впервые напечатано в 1925 г. в журнале «Кинонеделя» № 4). Но только в конце 1929 г. по этому вопросу было выпущено распоряжение Совнаркома, которое делало обязательной демонстрацию, помимо художественного фильма, кинохроники и «политпросветского» фильма (употребление термина было довольно расплывчатым и могло относиться также и к научно-популярным и образовательным фильмам). См.: ГАРФ. Р-5446 (СНК). Оп. 11. Д. 2496. Однако это распоряжение было уже со следующего года благополучно позабыто, а приверженцы документального кино, получившие ярлык «фактографов», были отодвинуты в сторону.
(обратно)525
Это лефовское заявление отсылает к представлению об искусстве как жизнестроении. Этот призыв неожиданно получил официальную поддержку на мартовской партконференции 1928 г., а также в следующем году, когда образовательное кино стало считаться приоритетным. Неожиданным образом эта платформа была реактивирована в самом конце 1930-х гг.
(обратно)526
Полемический намек на лозунг Вертова, который призывал к схватыванию «жизни врасплох».
(обратно)527
«Братья» (на самом деле однофамильцы) Сергей и Георгий Васильевы, прежде чем начали работу над «Чапаевым» (1934), в 1920-е гг. руководили мастерской перемонтажа зарубежных фильмов «Совкино». Шкловский работал там в 1925–1926 гг.
(обратно)528
Эта статья появилась в номере, посвященном защите документального кино, который открывался чрезвычайно резкой статьей Кирилла Шутко «Неосуществляемая пропорция», где он уповал на новую киноаудиторию, которую будет привлекать не имя актера, а название ледокола или совхоза.
(обратно)529
Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973) — режиссер, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР. Совместно с Л. Траубергом поставил все фильмы ФЭКС, а также «Одна» (1931), «Юность Максима» (1935), «Возвращение Максима» (1937), «Выборгская сторона» (1939). Постановщик фильмов «Пирогов» (1947), «Белинский» (1951), «Дон Кихот» (1957), «Гамлет» (1964), «Король Лир» (1970). Литературные произведения издаются в Собрании сочинений в 5 томах (Л.: Искусство, 1982–1986).
(обратно)530
Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) — режиссер, художник, теоретик кино. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий СССР. Доктор искусствоведения. Постановщик фильмов «Даешь радио!» (1925, с С. Грюнбергом), «Кружева» (1928), «Златые горы» (1931), «Встречный» (1932, с Ф. Эрмлером), «Человек с ружьем» (1938), «Яков Свердлов» (1940), «Пржевальский» (1951), «Отелло» (1955), «Рассказы о Ленине» (1958), «Ленин в Польше» (1966), «Сюжет для небольшого рассказа» (1969), «Маяковский смеется» (1975), «Ленин в Париже» (1981) и др.
(обратно)531
Шенгелая Николай Михайлович (1901–1943) — режиссер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Постановщик фильмов «Гюлли» (1927, с Л. Пушем), «Элисо» (1928), «Двадцать шесть комиссаров» (1932), «Золотистая долина» (1937), «Родина» (1939) и др.
(обратно)532
Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967) — режиссер. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР. Постановщик фильмов «Катька — Бумажный ранет» (1926, с Э. Иогансоном), «Дом в сугробах» (1928), «Парижский сапожник» (1928), «Обломок империи» (1929), «Встречный» (1932, с С. Юткевичем), «Крестьяне» (1935), «Великий гражданин» (1938–1939), «Она защищает Родину» (1943), «Великий перелом» (1945) и др.
(обратно)533
Эйзенштейн ставил… пьесы С. Третьякова и пародийную переделку… «На всякого мудреца довольно простоты». — Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) — поэт, писатель, сценарист. Автор сценариев фильмов «Элисо» (1928), «Соль Сванетии» (1930), «Хабарда» (1931). Принимал участие в театральных экспериментах Эйзенштейна, который поставил его пьесы «Слышишь, Москва?!», «Противогазы» (1924). «Мудрец» — первая самостоятельная постановка С. М. Эйзенштейна в Первом Московском театре Пролеткульта по пьесе А. Н. Островского (в переработке С. М. Третьякова) — острое агитобозрение с цирковыми и мюзик-холльными элементами и кинофельетоном «Дневник Глумова». Опыт постановки был обобщен Эйзенштейном в программной статье «Монтаж аттракционов» (1923).
(обратно)534
Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич (1903–1984) — режиссер, сценарист. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий СССР. Сотрудник и ассистент С. Эйзенштейна во всех его фильмах до 1933 г. Постановщик фильмов «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947), «Встреча на Эльбе» (1949), «Композитор Глинка» (1952), «Русский сувенир» (1960) и др.
(обратно)535
…день премьеры «Броненосца „Потемкин“» на Арбатской площади. — Первый просмотр фильма состоялся в Большом театре на торжественном заседании, посвященном 20-летию революции 1905 г. Общественная премьера «исторической кинофильмы „Броненосец „Потемкин““ (1905 год)», как писалось в пригласительном билете, «имела быть 28-го декабря 1925 года в помещении 1-го Госкинотеатра (б. Художественный). Арбатская площадь, 22».
(обратно)536
«Совкино» — созданное в 1922 г. Постановлением СНК РСФСР Всероссийское фотокинематографическое акционерное общество «Советское кино», в ведении которого была монополия кинопроизводства и проката.
(обратно)537
Он жил где-то на Патриарших прудах… — В те годы Эйзенштейн жил на Чистопрудном бульваре, д. 23.
(обратно)538
Штраух Максим Максимович (1900–1974) — актер. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии. Лауреат Государственных премий СССР. Работал с С. Эйзенштейном в театре Пролеткульта, участвовал в создании его фильмов как ассистент и актер («Броненосец „Потемкин“», «Октябрь», «Старое и новое»).
(обратно)539
Роом Абрам Матвеевич (1894–1976) — режиссер, сценарист. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственных премий СССР. Постановщик фильмов «Что говорит „Мос“, сей отгадайте вопрос» (1924), «Гонка за самогонкой» (1924), «Бухта смерти», «Предатель» (оба — 1926), «Третья Мещанская» (1927), «Ухабы» (1928), «Привидение, которое не возвращается» (1930), «Нашествие» (1945), «Гранатовый браслет» (1965), «Преждевременный человек» (1971) и др.
(обратно)540
Леонидов Борис Леонидович (1892–1958) — кинодраматург. Сценарист фильмов «Красные партизаны» (1924), «Золотой запас» (1925), «Бухта смерти» (1928), «Сорок первый» (1927, с Б. Лавреневым) и др.
(обратно)541
Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) — писатель, кинодраматург. Лауреат Государственной премии СССР. Сценарист фильмов «Скерцо дьявола» (1917), «Бог мести» (1918), «Мир хижинам — война дворцам» (1919, с Б. Леонидовым), «Предатель» (1926, с В. Шкловским) и др.
(обратно)542
Егоров Владимир Евгеньевич (1878–1960) — художник театра и кино, один из основоположников кинодекорационного искусства. Народный художник РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. В кино работал с 1915 г., оформив более ста фильмов.
(обратно)543
Трауберг Леонид Захарович (1902–1990) — режиссер, сценарист, киновед. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственных премий СССР. Самостоятельно поставил фильмы «Актриса» (1943), «Шли солдаты» (1958), «Мертвые души» (1960, ТВ), «Вольный ветер» (1961). Автор книг «Фильм начинается…» (1977), «Дэвид Уорк Гриффит» (1981), «Мир наизнанку» (1984) и др.
(обратно)544
Протазанов Яков Александрович (1881–1945) — режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. В кино работал с 1907 г. Наиболее значительные фильмы: «Пиковая дама» (1916), «Отец Сергий» (1918), «Аэлита» (1924), «Сорок первый» (1927), «Бесприданница» (1937) и др. Постановщик популярных комедий «Закройщик из Торжка» (1925), «Процесс о трех миллионах» (1926), «Праздник святого Йоргена» (1930).
(обратно)545
Леонидов (Вольфензон) Леонид Миронович (1873–1941) — актер, режиссер, педагог. Народный артист СССР. Доктор искусствоведения. Снимался в фильмах «Крылья холопа» (1926), «В город входить нельзя» (1929), «Гобсек» (1936) и др.
(обратно)546
Тарич Юрий Викторович (1885–1967) — режиссер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Постановщик фильмов «Морока» (1925), «Первые огни» (1925), «Крылья холопа» (1926), «Капитанская дочка» («Гвардии сержант», 1928) и др.
(обратно)547
Помню фамилию художника… Воробьев. — Вероятно, имеется в виду художник С. Н. Воробьев, оформлявший фильмы «Отец Сергий» (1918), «Скорбь бесконечная» (1922), «Ледяной дом» (1928), «Праздник святого Йоргена» (1930) и др.
(обратно)548
Зархи Натан Абрамович (1900–1935) — драматург, сценарист, теоретик кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Написал сценарии фильмов «Особняк Голубиных» (1925), «Мать» (1926), «Конец Санкт-Петербурга» (1927), «Города и годы» (1930, с Е. Червяковым) и др.
(обратно)549
«Улица радости» (1932) — одна из наиболее известных пьес Н. Зархи.
(обратно)550
С Пудовкиным мне пришлось работать. — В 1939 г. по сценарию В. Шкловского Пудовкин поставил фильм «Минин и Пожарский».
(обратно)551
Ливанов Борис Николаевич (1904–1973) — актер. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР. Снимался в фильмах «Октябрь» (1927), «Дезертир» (1933), «Частная жизнь Петра Виноградова» (1935), «Дубровский» (1936), «Депутат Балтики» (1937), «Минин и Пожарский» (1939), «Адмирал Ушаков» (1953) и др.
(обратно)552
Головня Анатолий Дмитриевич (1900–1982) — оператор, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Герой Социалистического Труда. Работал в кино с 1925 г. Наиболее значительные работы осуществил в содружестве с В. Пудовкиным.
(обратно)553
Уткин Алексей Александрович (1891–1965) — художник. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Оформлял дореволюционные русские фильмы на фабрике «Пате» и в ателье А. Ханжонкова. Художник фильмов «Степан Халтурин» (1925, с В. Егоровым), «Девятое января» (1925), «Веселые ребята» (1934), «Аэроград» (1935), «Последняя ночь» (1937), «Минин и Пожарский» (1939), «Встреча на Эльбе» (1949) и др.
(обратно)554
Доллер Михаил Иванович (1889–1952) — режиссер. С 1926 г. работал с В. Пудовкиным как ассистент и сорежиссер.
(обратно)555
Мы собирались в АРРК… — АРК (Ассоциация революционной кинематографии), позднее АРРК (Ассоциация работников революционной кинематографии) — первая общественная организация советских кинематографистов, созданная по инициативе и силами «Киногазеты», которая и сообщила об учреждении АРК 19 февраля 1924 г. АРРК существовала до 1935 г.
(обратно)556
…Дзига Вертов работал вначале вместе с Михаилом Кольцовым… — Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1942), известный писатель и журналист, возглавлял секцию кинохроники в Московском кинокомитете Наркомпроса, организованном в марте 1918 г.
(обратно)557
Вертов Дзига. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966. С. 133.
(обратно)558
Вот какие сюжеты потом Дзиге Вертову пришлось снова монтировать в последние годы жизни. — Дзига Вертов работал над отдельными номерами киножурнала «Новости дня» в 1944–1954 гг.
(обратно)559
В 1945 году в статье «Как я стал режиссером» Эйзенштейн… — Речь идет о статье С. М. Эйзенштейна, включенной в тематический сборник «Как я стал режиссером» (М.: Госкиноиздат, 1946. С. 276–292). Статья вошла в кн.: Эйзенштейн С. Избранные статьи (М., 1956. С. 355–362) и в Избр. произв. в 6 т. (Т. 1. С. 97–104).
(обратно)560
Сняли Самойлову в роли Анны Карениной. — Речь идет о фильме «Анна Каренина» (1968) А. Зархи.
(обратно)561
Но книги еще не написаны. — В советском киноведении творчеству Вертова посвящены две монографии: Абрамов Н. Дзига Вертов. М.: Изд-во АН СССР, 1962; Рошаль Л. Дзига Вертов. М.: Искусство, 1962.
(обратно)562
…Чарли Чаплин передал Вертову через Айвора Монтегю… — Отзыв Ч. Чаплина о фильме «Энтузиазм» («Симфония Донбасса») был опубликован берлинской газетой «Фильм-Курир» и перепечатан многими киноизданиями мира.
(обратно)563
Монтегю Айвор (1904–1984) — английский режиссер. сценарист, теоретик кино. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
(обратно)564
…хозяин коллекции Щукин. — Речь идет о коллекции картин С. И. Щукина, легшей в основу Первого музея новой западной живописи (1918). В настоящее время картины из этого собрания хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина и Гос. Эрмитаже СССР.
(обратно)565
Бахрушин Алексей Александрович (1865–1929) — русский промышленник, меценат, основатель театрального музея в Москве (1895).
(обратно)566
Дранков А. О. — журналист и фотокорреспондент, начавший в России систематические съемки и выпуск на массовый экран отечественной кинохроники (1908).
(обратно)567
…история Степана Разина. — Имеется в виду первая русская игровая картина «Понизовая вольница» («Стенька Разин», окт. 1908), представляющая собой одночастевую пантомиму на сюжет популярной песни «Из-за острова на стрежень» (сц. А. Гончарова, реж. В. Ромашков, операторы А. Дранков, Н. Козловский; роль Степана Разина исполнял Е. Петров-Краевский).
(обратно)568
Поехал Дранков в Ясную Поляну и снял много кадров Льва Николаевича… — К юбилею писателя А. Дранков снял и выпустил на экран документальный фильм «День восьмидесятилетия Л. Н. Толстого» (1908).
(обратно)569
Я работал над биографией Льва Николаевича Толстого… — См.: Шкловский В. Лев Толстой. М.: Мол. гвардия, 1963.
(обратно)570
…хорошие люди — С. Васильев, Г. Васильев… — Васильев Георгий Николаевич (1899–1946), заслуженный деятель искусств РСФСР, и Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959), народный артист СССР, — режиссеры, лауреаты Государственных премий СССР. Совместно поставили фильмы «Подвиг во льдах» (1928), «Спящая красавица» (1930), «Личное дело» (1932), «Чапаев» (1934), «Волочаевские дни» (1937), «Оборона Царицына» (1942), «Фронт» (1943).
(обратно)571
Я недавно смотрел картину… — Речь идет о фильме Аньес Варда «Клео от пяти до семи» (1962).
(обратно)572
Рошаль Григорий Львович (1899–1983) — режиссер. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР. Постановщик фильмов «Господа Скотинины» (1926), «Петербургская ночь» (1934, с В. Строевой), «Семья Оппенгейм» (1938), «Дело Артамоновых» (1941), «Мусоргский» (1950), «Сестры» (1957), «Восемнадцатый год» (1958), «Хмурое утро» (1959) и др.
(обратно)573
Донской Марк Семенович (1901–1981) — режиссер. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий СССР. Постановщик фильмов «В большом городе» (1927, с М. Авербахом), «Детство Горького» (1938), «В людях» (1938), «Мои университеты» (1939), «Радуга» (1943), «Сельская учительница» (1947), «Мать» (1955), «Супруги Орловы» (1977) и др.
(обратно)574
Бляхин Павел Андреевич (1887–1961) — писатель. Сценарист фильмов «Красные дьяволята» (1923), «Во имя бога» (1925), «Иуда» (1929). С 1926 г. возглавлял производственно-художественный отдел «Совкино», затем работал в Главреперткоме.
(обратно)575
Свилова Елизавета Игнатьевна (1900–1975) — режиссер документального кино, ассистент по монтажу всех фильмов Д. Вертова.
(обратно)576
Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) — писатель, публицист, критик.
(обратно)577
Сейчас я работаю над книгой об Эйзенштейне… — См.: Шкловский В. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973 (2-е изд. — 1976). Фрагменты из книги публиковались в «ИК» (1970. № 1–3, 5, 11, 12).
(обратно)578
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) — историк литературы и общественного движения, пушкинист.
(обратно)579
Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961) — писатель. Сценарист фильмов «Дворец и крепость» (1924, с П. Щеголевым по мотивам собственного романа «Одеты камнем» и повести П. Щеголева «Таинственный узник»), «Пугачев» (1937).
(обратно)580
Михаил Степанович Бейдеман (1839–1887) — русский революционер.
(обратно)581
Фильм был снят в Германии в 1928 г. режиссером Виктором Туржанским. Полное название «Wolga-Wolga. Die Ballade vom Stenka Rasin».
(обратно)582
И. К. Правов и О. И. Преображенская совместно поставили фильмы «Бабы рязанские» (1927), «Последний аттракцион» (1929), «Тихий Дон» (1931), «Вражьи тропы» (1935), «Степан Разин» (1939), «Парень из тайги» (1941). В 1933 году считались наиболее «кассовыми» режиссерами «Мосфильма». «Степан Разин» — экранизация одноименной книги Алексея Чапыгина. В титрах имена Е. Вейсмана и В. Шкловского отсутствуют.
(обратно)583
Скоробогатов Константин Васильевич (1887–1969) — актер. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР. Снимался в фильмах «Пугачев» (1937), «Разгром Юденича» (1941), «Александр Попов» (1949), «Пирогов» (1947), «Дорога правды» (1956) и др.
(обратно)584
Петров-Бытов (Петров) Павел Петрович (1895–1960) — режиссер, кинодраматург. Постановщик фильмов «Водоворот» (1927), «Каин и Артем» (1928), «Чудо» (1934), «Разгром Юденича» (1941) и др.
(обратно)585
«Viva Villa!» — американский вестерн 1934 г., режиссера Джека Конуэя. В 1935 г. фильм номинировался на премию Американской киноакадемии в четырех категориях: за «лучший фильм», «лучший помощник режиссера», «лучший звук» и «лучший адаптированный сценарий», победу одержал в одной номинации «лучший помощник режиссера» (Джон Уотерс).
(обратно)586
Щукин Борис Васильевич (1894–1939) — актер. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР. Играл в фильмах «Летчики» (1935), «Поколение победителей» (1936), «Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 году» (1939).
(обратно)587
В это время готовился к выпуску фильм «Октябрь», в котором роль В. И. Ленина, появляющегося в финале, исполнял рабочий металлургического завода города Лысьва В. Н. Никандров, привлекший постановщиков своим внешним сходством с Лениным.
(обратно)588
См.: Маяковский В. О кино [1927] // Маяковский В. Полное собрание сочинений в 13 т. Т. 12. Статьи, заметки и выступления. Ноябрь 1917–1930. М.: ГИХЛ, 1959.
(обратно)589
Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979) — кинодраматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Сценарист фильмов «Женщина» («Делегатка», 1929), «Три товарища» (1935, с Т. Златогоровой), «Шахтеры» (1937), «Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 году» (1939), «Она защищает Родину» (1943), «Котовский» (1943), «Две жизни» (1961) и др.
(обратно)590
«Волочаевские дни» — историко-революционный фильм, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1937 г. режиссерами братьями Васильевыми.
(обратно)591
Дорохин Николай Иванович (1905–1953) — актер. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственных премий СССР. Снимался в фильмах «Последняя ночь» (1937), «Волочаевские дни» (1938), «Ошибка инженера Кочина» (1939) и др.
(обратно)592
Свердлин Лев Наумович (1901–1969) — актер. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР. Снимался в фильмах «На верном следу» (1925), «Мечтатели» (1934), «Волочаевские дни» (1937), «Всадники» (1939), «Его зовут Сухэ-Батор» (1942), «Фронт» (1943), «Жди меня» (1943), «Далеко от Москвы» (1950) и др.
(обратно)593
Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии до науки. М., 1924. С. 53.
(обратно)594
Маркс К. К критике политической экономии. Пг., 1922. С. 87.
(обратно)595
Из доклада в Доме кино. Печатается по живой записи.
(обратно)596
Виктор-Жозеф Этьен де Жуи (1764–1866) — французский писатель, член Французской академии (1764–1846). До революции долго состоял на военной службе в Гвиане и Индии. Во время Империи и Реставрации Жуи пользовался широкой популярностью. Больше всего этому способствовал целый ряд бытописательных книг: «L’Hermite de la Chaussée d’Antin», «L’Hermite en Province», «L’Hermite de la Guyane» и др.
(обратно)597
«Женитьба» — утраченный кинофильм 1936 г. по пьесе Н. Гоголя. Первая режиссерская работа актера Эраста Гарина и его жены, режиссера, сценариста и актрисы Х. Локшиной. Копия фильма не сохранилась. Восстановлен на основе монтажных листов, сохранившихся кадров из фильма и фотографий, сделанных во время съемок.
(обратно)598
Гектор Мало (1830–1907) — французский романист. С большим успехом вел литературный фельетон в «Opinion nationale», пропагандировал там же физический труд и английскую систему воспитания; эти взгляды он изложил в своей книге «La Vie moderne en Angleterre». Среди романов Мало особенно известны написанные для подростков и переведенные на многие языки романы: «Ромен Кальбри» (1869, рус. пер. 1870, 1959), «Без семьи» (1878, рус. пер. 1886, 1954) и «В семье» (1893, рус. пер. 1898). Два последних премированы Французской академией. Повесть «Без семьи» сделалась во Франции классической детской книгой, по которой в школах изучают родной язык.
(обратно)599
Ставский Владимир Петрович (1900–1943) — советский писатель, литературный функционер. Генеральный секретарь СП СССР в 1936–1941 гг. В этом же номере «Литературной газеты», в значительной степени посвященном резкой критике формализма, было опубликовано вступительное слово Ставского на общемосковском собрании писателей «О формализме и натурализме в искусстве».
(обратно)600
Знатные люди железнодорожной державы / Худ. А. Житомирский. М.: Тип. «Гудок», 1936. Издание содержит портреты и биографические справки о рабочих и служащих железных дорог. Перечислены успехи трудящихся: от преодоления скоростного предела машинистом Петром Кривоносом до изобретения снегоуборочной машины инженером Матвеем Гавриченко.
(обратно)601
Речь идет о романе Э. Золя «Творчество» (1886).
(обратно)602
См.: Мандельштам О. «Путешествие в Армению».
(обратно)603
«Синяя блуза» — советский агитационный эстрадный театральный коллектив, отражавший самые различные темы — от общеполитических и международных до мелочей быта, представляя новое революционное массовое искусство. Существовал с начала 1920-х до 1933 г.
(обратно)604
Статья печатается в порядке обсуждения.
(обратно)605
Датируется по почтовому штемпелю на конверте.
(обратно)606
Очевидно, в этих строках содержится реакция на поставленные в конце 1920-х — начале 1930-х гг. во МХАТе спектакли по произведениям мировой классики: «Дядюшкин сон», «Воскресение», «Отелло», а также на возобновление в январе 1932 г. «Дней Турбиных» (см. раннюю оценку булгаковской пьесы как произведения «реакционного» по форме: ГС. С. 390). В декабре 1931 г., после непосредственного обращения К. С. Станиславского к правительству, было принято решение о переводе МХАТа в непосредственное подчинение ВЦИК, а в январе 1932-го — о переименовании в МХАТ СССР.
(обратно)607
Шкловский имеет в виду учение об эмоции (раса) и ее сценическом воплощении (бхава), лежащее в основе эстетики классического индийского театра и изложенное, в частности, в санскритском трактате по драматургии «Натьяшастра» (ок. II–IV в. н. э.).
(обратно)608
Подразумевается «система Станиславского».
(обратно)609
Речь идет о ранних театральных опытах Эйзенштейна и его эстетической теории, изложенной в знаменитой статье «Монтаж аттракционов» (впервые — Леф. 1923. № 2) и сказавшейся в его первом фильме «Стачка» (1925). Применительно к кинематографу эта теория была разработана в статье «Монтаж киноаттракционов» (1924, впервые опубликована Н. И. Клейманом в книге: Из творческого наследия С. М. Эйзенштейна. М., 1985. Ранее с многочисленными искажениями и в виде текста A. Э. Беленсона — в книге последнего «Кино сегодня: Кулешов — Вертов — Эйзенштейн», М., 1925). Позднее Эйзенштейн так определял свои установки первой половины 1920-х гг.: «Аттракцион 1923. Чувственный. Раздражитель на безусловный рефлекс непосредственного действия».
(обратно)610
Имеются в виду (по мнению Н. И. Клеймана) фотографии из неоконченной картины С. Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!». Оценка фильма, данная заочно Шкловским, совпадает с мнением современных исследователей, расценивающих «Мексику» как фильм, поворотный в творческой эволюции режиссера (см., напр.: Мейлах М. Б. Изобразительная стилистика поздних фильмов Эйзенштейна. М., 1971. С. 26, 34). Впоследствии Шкловский — уже после знакомства с фильмом — только утвердился в своей оценке: «Новая художественная система еще не до конца создана, но так грандиозна, что побеждает зрителя. От „Мексики“ к „Александру Невскому“ и „Ивану Грозному“ идет путь художника» (Шкловский B. Жили-были. [2-е изд.]. М., 1966. С. 492).
(обратно)611
Скрытая отсылка к К. Марксу, см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 736.
(обратно)612
Написание термина «остранение» здесь и ниже именно таково.
(обратно)613
«Охранная грамота», публиковавшаяся в 1929–1931 гг. в «Звезде» и «Красной нови», отдельным изданием вышла в 1931 г.
(обратно)614
Публикуемый ниже текст представляет собой вторую, значительно переработанную редакцию двух первых главок статьи «О людях, которые идут по одной и той же дороге…», одна из которых написана на основе письма С. Эйзенштейну (см.: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 448–449). Вторая редакция написана для книги «О советской прозе». Над этой книгой Шкловский работал во второй половине 1932 — начале 1933 г. (см.: Там же. С. 536–537); издание ее не было осуществлено, очевидно, в связи с «дискуссией о формализме» 1933 г.
(обратно)615
Речь идет о письме Ю. Н. Тынянова Шкловскому, содержавшем резкий отзыв о статье «О людях, которые идут по одной и той же дороге…»: «Ты требуешь, чтобы все были деловее, спокойнее, не писали кусками etc, etc. (Кусками-то ты сам пишешь.) <…> Ты, милый, желаешь кому-то, какому-то новому времени или грядущему рококо — уступить своих знакомых под именем барокко. В их списке я заменяю тебя. Это действительно конец барокко. <…> Описание же „Москва летом“ — совершенно, даже с точками, взято из немецких экспрессионистов второго разбора» (не позднее 9 августа 1932 г.; частично приведено: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 535). В письмах к жене Шкловский так оценивал эту ссору: «Только что поссорился по почте с Юрием Тыняновым. Он обиделся на мою статью. Так очищается горизонт от событий» (от 9 августа 1932 г. — РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 458); «Писал я тебе про ссору с Юр<ием> Т<ыняновым>? Я прав» (от 11 августа — Там же). По устному свидетельству Н. И. Харджиева, Шкловским на тыняновское письмо был написан резкий ответ, который Харджиевым не был отправлен.
(обратно)616
О. Сенковский в 1830-х гг. неоднократно высмеивал употребление в литературном языке местоимений «сей» и «оный» (см., напр.: Библиотека для чтения. 1835. T. 8. Отд. 6. С. 26–34). Об этих выступлениях иронически отзывался Н. В. Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (1836), писали В. Г. Белинский и Н. И. Греч (об откликах последних см. в книге Шкловского «Чулков и Левшин», Л., 1933. С. 241–244); позднейшая исследовательская литература описана в комментариях М. И. Шапира в кн.: Винокур Г. О. Филологические исследования. М., 1990. С. 322. Возможное объяснение аллюзии к этим спорам 30-х гг. XIX в. в следующей цитате: «<…> Карамзин начал свою „Историю“ со слова „сей“, т. е. он совершил стилистическую измену, которая, понятно, была связана с общим поворотом системы его убеждений. После „Истории“ Карамзина осуждали его бывшие друзья» (Чулков и Левшин. С. 226. Отзыв Г. Винокура: Ук. соч. С. 99). Таким образом, в комментируемом тексте можно обнаружить и постоянную в текстах Тынянова, Эйхенбаума и Шкловского параллель между литературой 1810–1830-х гг. и 1910–1930-х гг., и устойчивую самоидентификацию Шкловского с «новатором» — сентименталистом (в противовес «архаисту» Тынянову).
(обратно)617
Речь идет о постановке «Мертвых душ» в инсценировке М. А. Булгакова (премьера — 28 ноября 1932 г.; художественный руководитель К. С. Станиславский). Отзыв Шкловского о «Мертвых душах» примыкает к полемическим выступлениям 1920-х гг. против Булгакова, творчество которого у Шкловского прочно ассоциировалось с «инерционностью», «старой формой» (см.: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 299–301, 331, 390). Новая работа Булгакова во МХАТе, приобретшем статус государственного учреждения, стала для Шкловского еще одним из симптомов наступления традиционалистского, «классического» искусства. Общую оценку отношения формалистов к Булгакову, творчество которого оказалось в «мертвом поле» опоязовской системы координат, см.: Чудакова М. О. М. Булгаков и опоязовская критика: (Заметки к проблеме построения истории отечественной литературы XX века) // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 231–235.
(обратно)618
Речь идет о книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», впервые вышедшей в 1926 г. и в 1931–1933 гг. дважды переизданной.
(обратно)619
Этот отзыв примыкает к неизменно критическим выступлениям Шкловского 1910–1920-х гг. в адрес В. Э. Мейерхольда, еще ждущим своей интерпретации, см.: «Папа, это — будильник!»; Особое мнение о «Лесе» // Жизнь искусства. 1924. № 26; «Учитель Бубус» в Театре имени Мейерхольда // 30 дней. 1925. № 2. Под п.: В. Ш.; Предисловие [к книге «О современной русской прозе»] // Гамбургский счет. М., 1990. С. 194–195; Пятнадцать порций городничихи // Красная газета. 1926. 22 декабря. Веч. вып.
(обратно)620
Премьера спектакля «In tirannos!» по «Разбойникам» Ф. Шиллера в тбилисском Театре им. Ш. Руставели состоялась 9 февраля 1933 г. (режиссеры С. Ахметели, Ш. Агсабадзе). Шкловский посетил спектакль 9 апреля 1933 г., о чем писал на следующий день жене: «Вчера был в грузинском театре на „Разбойниках“. Очень пышно, балетно даже. Хотя я выдержал только половину» (РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 459). Летом 1933 г. спектакль был показан на гастролях театра в Москве и Ленинграде, критика отмечала «уклон к формализму», см.: Февральский А. Театр имени Руставели: Очерк развития. М., 1959. С. 167.
(обратно)621
Отсылка к знаменитому «Парадоксу об актере» Дидро.
(обратно)622
Шкловский говорит об инсценировке романа начинающего тогда прозаика Юрия Павловича Германа (1910–1967) «Вступление». Роман был опубликован в 1931 г. и получил впоследствии положительную оценку М. Горького в «Правде» (от 6 мая 1932 г.). На основании приводимых ниже писем можно предположить, что Шкловский был привлечен к работе по инициативе Театра им. В. Э. Мейерхольда. 20 июля 1932 г. Шкловский сообщает жене: «Очень просили написать пьесу и деньги совали. Выдержал, не взял, хотя театр был Мейерхольда» (РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 457). На следующий день ей же: «Да простит меня милосердный бог: взялся писать пьесу Мейерхольду» (Там же). 15 сентября: «Пьеса идет, но в нее влез новый соавтор — режиссер» (Там же). 22 сентября: «Сегодня иду на читку пьесы по моему сценарию» (Там же). Судя по позднейшим воспоминаниям Ю. Германа, работа Шкловского свелась к написанию «сценария», на основе которого Германом и была написана пьеса (Герман Ю. П. О Мейерхольде // Герман Ю. П. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1975. Т. 2. С. 537). Премьера спектакля состоялась 28 января 1933 г. Об участии Шкловского в работе над пьесой упоминалось и в печати, см.: Юзовский Ю. «Автора, автора!..» // Юзовский Ю. О театре и драме.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 89. Впервые — Рабис. 1933. № 3.
(обратно)623
Ср. с ранним отзывом об опытах К. С. Малевича и его последователей: «Супрематисты сделали в искусстве то, что сделано в медицине химиком. Они выделили действующую часть средств» (цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 497).
(обратно)624
Теорию «интеллектуального кино» («экранизация понятий») Эйзенштейн начал разрабатывать в 1928 г., основываясь на творческом опыте фильма «Октябрь». Наиболее полно она сформулирована в статье «Перспективы» (Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 35–44. Впервые — Искусство. 1929. № 1/2); опытом ее практической реализации должна была стать экранизация «Капитала» К. Маркса.
(обратно)625
В 1928–1929 гг. Эйзенштейн руководил инструкторско-исследовательскими мастерскими Государственного техникума кинематографии, где под его руководством учащиеся (среди них были Г. Н. и С. Д. Васильевы, Г. В. Александров, М. М. Штраух, A. A. Попов) занимались анализом двадцати романов Э. Золя. Результаты этих исследований были использованы Эйзенштейном позднее в главе «Пафос» (1946–1947) книги «Неравнодушная природа» (см.: Эйзенштейн С. Избр. произв. Т. 3. С. 91–117).
(обратно)626
Речь идет о фрагментах из фильма, эстетическую «шаблонность» которых Шкловский подчеркивал еще в 1925 г. «„Стачка“ Эйзенштейна и „Багдадский вор“» (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 22, опубликована в наст. изд.).
(обратно)627
Имеются в виду некоторые эпизоды из произведений этих писателей начала 1930-х гг.: рассказов И. Бабеля «Конец богадельни» и «Иван-да-Марья» (первый имел подзаголовок «Из одесских рассказов», отсылавший к раннему, 1921–1923 гг., бабелевскому циклу; опубликованы соответственно в № 1 и 4 журнала «30 дней» за 1932 г.) и романа П. Павленко «Баррикады» (М., 1932).
(обратно)628
Датируется предположительно на основе упоминающихся в тексте фактов и других косвенных свидетельств маем 1933 г.
(обратно)629
Статья представляет собой предисловие к литературному сценарию «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя (см. подробнее примеч. 6). Судя по некоторым упоминаниям в тексте, предисловие написано для иностранного читателя; возможно, Шкловский готовил сценарий для публикации в советских журналах «International literature» или «Revue de Moscu», в которых печатались не только переводы, но и его оригинальные произведения, см.: Cities and rivers // International literature. 1933. № 1; Peter Pavlenko // Ibid. 1936. № 12; Les Etapes de la mode en URSS // Revue de Moscu. 1935. № 4.
(обратно)630
Фильмы «Петербургская ночь» (режиссеры Г. Л. Рошаль, В. П. Строева; по повестям Ф. М. Достоевского «Белые ночи» и «Неточка Незванова») и «Гроза» (режиссер В. М. Петров; по пьесе А. Н. Островского) вышли на экран в 1934 г. и пользовались большим зрительским успехом. О сценарии первого из них Шкловский писал еще в 1932 г., см.: Петербургская ночь // Кино. 1932. 12 июля. Ср. отзыв об этих фильмах В. Г. Лидина в выступлении на Первом съезде писателей: «Если несколько лет назад замечательным стилем советской кинематографии являлись „Броненосец „Потемкин““, „Мать“, „Конец Санкт-Петербурга“, „Потомок Чингисхана“ — вещи с громадным философским началом, то сейчас мы видим постановки, которые означают не движение вперед, а повторение пройденных путей. „Гроза“, „Белые ночи“, „Иудушка Головлев“ являются не развитием языка кино, а повторением пройденных этапов <…>» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. М., 1934. С. 217. Репринт: М., 1990).
(обратно)631
См. ранний восторженный отзыв Шкловского об этой работе В. Е. Татлина: «Памятник Третьему Интернационалу».
(обратно)632
Строительство гостиницы Моссовета (ныне — гостиница «Москва») началось в 1932 г.; первая очередь завершена в 1935 г. Здание первоначально проектировали молодые архитекторы Л. И. Савельев и О. А. Стапран, задумывавшие его в конструктивистских формах. Однако новые эстетические директивы поставили архитекторов перед необходимостью переделки проекта. В этой «переделке» и принял активное участие А. В. Щусев, уже в начале 1933 г. писавший: «Стало очевидно и явно, что одни функционально рационалистические и конструктивистские установки в архитектуре не в состоянии ответить на многообразные требования, предъявляемые жизнью. <…> Стало очевидно, что для осуществления задания правительства необходимо обеспечить архитектуре возможность дальнейшего творческого развития путем углубленной проработки и использования наследия прошлых веков. <…> Потребовалось знакомство с работами великих мастеров прошлых эпох и изучение методов их подхода к творческой работе» (Конец архитектурной схоластики // Советское искусство. 1933. 26 марта). Эклектический характер гостиницы, по позднейшему определению, с которым трудно не согласиться, — своеобразный «компромисс, результат того, что процесс формирования здания пришелся на рубеж, отделявший годы нигилистического лженоваторства от периода обращения к классическому наследию» (Соколов Н. Б. А. В. Щусев. М., 1952. С. 51).
(обратно)633
Ср. отзыв об этом спектакле Мейерхольда 1926 г. в статье Шкловского, указанной в примеч. 6 к пред. статье.
(обратно)634
Работа над сценарием «Ревизор» была начата Шкловским не позднее сентября 1934 г. по заказу «Украинфильма» (см.: Письмо Шкловского М. В. Загорскому // РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 410; материалы обсуждения «Ревизора» на Киевской кинофабрике — Там же. Ед. хр. 827); ранее (или одновременно?) «Украинфильм» заказал сценарий по «Ревизору» М. Булгакову. После публикации текста сценария Шкловского (в свое время был напечатан лишь отрывок: Литературная газета. 1934. 20 сентября) станет возможным проанализировать полемичность этой работы по отношению и к булгаковским «Мертвым душам», и к «Ревизору» Мейерхольда — симптоматично, что режиссером фильма Шкловский предлагал кинофабрике И. Г. Терентьева, спектакль которого «Ревизор» был направлен против мейерхольдовской интерпретации гоголевской пьесы (см. отрывок из указанного письма Загорскому в примеч. в книге: Терентьев И. Собрание сочинений. Bologna, 1988. С. 508). Выступая 5 января 1935 г. в Доме кино на обсуждении режиссерского сценария И. А. Пырьева «Мертвые души», Шкловский, в частности, говорил: «Пырьев умеет выстроить сценарий, Булгаков сделал скучный спектакль. <…> Над Вами тяготел Художественный театр» (цит. по: Искусство кино. 1987. № 9. С. 81). О параллельной работе Шкловского и Булгакова над сценарием «Ревизор» см.: Егоров Б. Ф. М. А. Булгаков — «переводчик» Гоголя: (Инсценировка и киносценарий «Мертвых душ», киносценарий «Ревизора») // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 83; Файман Г. Кинороман Михаила Булгакова // Искусство кино. 1987. № 8. С. 88–90, № 9. С. 88; Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 71, 73, 91.
(обратно)635
Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского в 12 т. вышло в библиотеке «Нивы» в 1894–1895 гг.
(обратно)636
Здесь изложение фактов Шкловским не точно. Речь идет о втором издании пушкинской поэмы, вышедшем в 1827 г., но в продажу тогда не поступившем. Лишь в самом конце XIX в. эта книга появилась у букинистов, см.: Ласунский О. Г. Загадочное издание «Братьев-разбойников» // Ласунский О. Г. Власть книги. М., 1988. С. 105–113. История этого издания освещалась в пушкиноведческой литературе, вышедшей ко времени написания данной статьи Шкловского — в частности, в книге С. Я. Гессена «Книгоиздатель Александр Пушкин» (Л., 1930. С. 89–93).
(обратно)637
Какие издания имеются в виду, установить не удалось.
(обратно)638
Шкловский говорит о своей книге «Воскрешение слова» и коллективных «Сборниках по теории поэтического языка», вышедших в Петрограде в 1914–1917 гг. Согласно «Книжной летописи», тираж первой книги — 500 экз., первого выпуска «Сборников» — 1 тыс. экз., второго — 950 экз.
(обратно)639
Сборник «Поэтика» вышел в Петрограде в 1919 г. тиражом 10 тыс. экз. Ср. более ранний отзыв Шкловского об этом издании в «Сентиментальном путешествии» (Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 155).
(обратно)640
В качестве приложения к «Огоньку» полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 12 т. вышло в 1928 г.; тираж 1-го тома — 100 тыс. экз., последующих — 125 тыс.
(обратно)641
Подготовка к 100-летию со дня гибели Пушкина началась уже в 1935 г. 16 декабря этого года было принято постановление ЦИК об учреждении комиссии в связи с этой датой, в комиссию вошли: К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, Н. И. Бухарин, В. В. Вересаев, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, Ю. Н. Тынянов, К. И. Чуковский, К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд и др.
(обратно)642
Этому спектаклю петроградского Малого драматического театра Шкловский посвятил статью «„Ревизор“ в Кронштадте», опубликованную без подписи в петроградской «Жизни искусства» (1919. 4 декабря). Ср.: «Эти люди увидали пьесу в первый раз, интрига комедии развертывалась перед ними со стремительной неожиданностью. <…> Но сейчас весь обличительный пафос комедии, все то, что, по моему мнению, не относилось к ее художественному построению, отпало. Символическое толкование, конечно, кронштадтской публике было неизвестно. Ее восприятие „Ревизора“ было восприятием чистой формы».
(обратно)643
В 1934–1935 гг. в связи с горьковским проектом «История заводов и фабрик» Шкловский принимал участие в работе над коллективным сборником «История метро Москвы: Рассказы строителей», вышедшим в 1935 г. Отзывы об этой книге: Никитин Н. // Книга и пролетарская революция. 1935. № 7; Чечановский М. Книги новых чувств и нереализованных сюжетов // Октябрь. 1936. № 1.
(обратно)644
Виньола (Бароцци) Джакомо (1507–1573) — итальянский архитектор, сочетавшей в своем творчестве принципы архитектуры Возрождения с элементами барокко и классицизма, автор исследования «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562).
(обратно)645
Эти строки — явная реакция на приход в начале 1933 г. к власти германского фашизма, повлиявший на советскую культурную политику и решительно сказавшийся на самоопределении многих советских писателей, вынужденных в начале 1930-х гг. сделать свой окончательный выбор.
(обратно)646
Автополемический выпад, направленный на театральные статьи 1919–1923 гг., собранные в книге «Ход коня», и некоторые положения книги «Литература и кинематограф» (Берлин, 1923). Шкловский в 1919–1923 гг. был ярым приверженцем театральных экспериментов Ю. П. Анненкова, С. Э. Радлова и др., вводивших в свои спектакли эстрадно-цирковые элементы. Из этой театральной школы он выводил и творчество Эйзенштейна.
(обратно)647
В эйзенштейновской теории «интеллектуального кино» понятие «иероглиф» — одно из важнейших (см. его статью «За кадром» // Эйзенштейн С. Избр. произв. Т. 2. С. 283–296. Впервые — в качестве послесловия в книге: Кауфман Н. Японское кино. М., 1929).
(обратно)648
Эта оценка конструктивизма и функционализма советской архитектуры 1920-х гг., очевидно, связана с партийными директивами. Так, в 1930 г. в постановлении ЦК «О работе по перестройке быта» критике были подвергнуты проекты домов-коммун, построенных на идее полного обобществления быта (Правда. 1930. 29 мая); см. отклик на него во вступлении «Об архитектуре» к книге «Поиски оптимизма». В 1932 г., в указаниях, данных в связи с окончанием первого этапа конкурса проектов Дворца Советов, участникам прямо рекомендовалось больше использовать опыт «классической архитектуры» (Советская архитектура. 1932. № 2/3). Окончательные же результаты конкурса, подведенные в мае 1933 г., ясно свидетельствовали о новом курсе в культурной политике (см. подробнее: Паперный В. Культура «Два». Ann Arbor, 1985. С. 22–24 и след.)
(обратно)649
Пьесы В. М. Киршона, одного из активнейших деятелей РАППа, в конце 1920-х — начале 1930-х гг. шли в Театре им. Моссовета и МХАТе, поставившем «Хлеб» в сезон 1930/31 г. Ср. в выступлении на Первом съезде писателей Л. Н. Сейфуллиной: «<…> Киршон не виноват, что в Шекспирах ходит. Это не вина Киршона, а вина наша, что ходит он уже Шекспиром» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 237).
(обратно)650
Зависимость писательской манеры А. Фадеева от Толстого отмечалась многими критиками 1920-х гг. Ср. в статье Шкловского 1929 г., написанной в форме письма Фадееву: «<…> у нас есть новый читатель, новый зритель, который еще не видал вообще литературы, который еще не читал. Частично он прочтет Толстого, частично он прочтет и удивится людям, которые пишут про Толстого, и пойдет мимо них и дальше. Этим объясняется удача и успех третьестепенных писателей <…>» (Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 421).
(обратно)651
Ср. в выступлении Шкловского на Первом съезде советских писателей 21 августа 1934 г.: «Товарищи, я сейчас говорил с Сергеем Третьяковым. Мы говорили о сентиментализме, чувствительности сегодняшнего дня. После резких, суровых книг мы сейчас пишем о чувствах, мы иногда пишем о них слишком слабо. Класс начал ценить в себе чувство. Мы стали чувствительны, как когда-то, по-своему, была чувствительной молодая буржуазия, и мы должны, конечно, научиться писать о своих чувствах лучше и крепче, чем буржуазия» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 154). См. отклики Л. А. Кассиля и Л. С. Соболева (Там же. С. 171, 205–206), а также интерпретацию этого выступления в общелитературном контексте 1930-х гг. в остроумных замечаниях А. Гольдштейна «Скромное обаяние социализма: (Неосентиментализм в советской литературе тридцатых годов)» // Новое литературное обозрение. 1994. № 4. С. 255–263.
(обратно)652
Отсылка к поэме Маяковского «Во весь голос».
(обратно)653
Поэма Н. Н. Асеева, впервые опубликованная в 1924 г. в «Лефе».
(обратно)654
Ср. в статье к 5-летию гибели поэта, в которой эта характеристика связывалась с увлечением Маяковского «бытовыми коммунами». «Маяковский же сжимал и складывал себя больше, чем нужно было времени, и не во имя того, что было нужно. <…> Время не принимает жертв даже от гения» (Шкловский В. О Владимире Маяковском // Литературная газета. 1935. 15 апреля).
(обратно)655
Ср. о джазе более ранний отзыв О. М. Брика «Джаз-банд является для нас не только признаком буржуазного разложения, но и началом новой музыкальной культуры» (Джаз-банд // Новый Леф. 1927. № 6. С. 12).
(обратно)656
Шахтерский поселок в Донбассе, в котором Шкловский побывал в июле — августе 1931 г.
(обратно)657
В северной части Берлина традиционно располагаются заводские кварталы и дома рабочих.
(обратно)658
Стена Китай-города, построенная в 1535–1538 гг., была разобрана в конце 1934 г. в связи с реконструкцией центра Москвы; сохранился лишь фрагмент с угловой башней, см. заметку Шкловского «О стене»: Литературная газета. 1934. 2 декабря.
(обратно)659
Далее в опущенной нами второй части статьи — подробный анализ сценария «Ревизор».
(обратно)660
Датируется предположительно осенью 1934 — весной 1935 г.
(обратно)661
Кульбин Н. (1868–1917) — художник, организатор футуристических выставок и диспутов.
(обратно)662
По позднейшим воспоминаниям Шкл., эта встреча произошла на вечере «О новом слове» 8 февр. 1914 г., на котором выступал Шкл. (рукопись кн. «Жили-были». — АШ).
(обратно)663
В СДИ Шкл. вошел как представитель «Общества изучения теории поэтического языка» (ИРЛИ, 289.6.30).
(обратно)664
Инициалами «П. Я.» подписывал свои стихи поэт-народоволец П. Якубович; Ионов И. (Бернштейн, 1887–1942) — поэт и издательский деятель.
(обратно)665
Быстрянский В. (1886–1940) — партийный деятель и публицист; в 1920 г. — редактор «Петроградской правды».
(обратно)666
Мостовенко П. Н. (1881–1939) — советский партийный и государственный деятель, в 1921–1922 гг. — полпред в Литве и Чехословакии.
(обратно)667
Очерковый цикл «Родченко в Париже. Письма домой» в НЛ. 1927. № 2.
(обратно)668
Впервые использовано еще в 1920 г. А. Луначарским (см.: Трифонов Н. Луначарский и советская литература. М., 1974. С. 346), но в активный оборот критики введено в 1922 г. Л. Троцким.
(обратно)
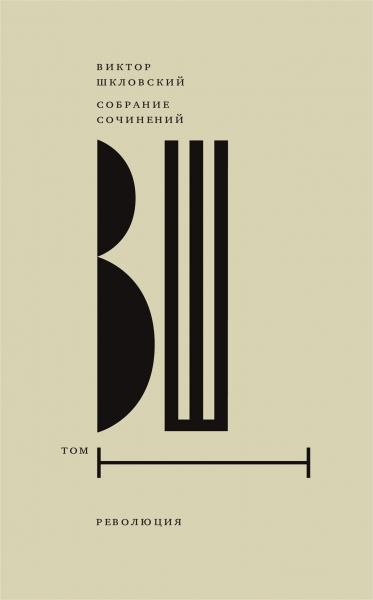
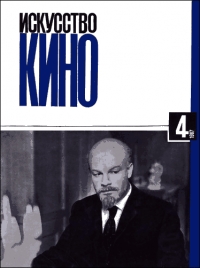


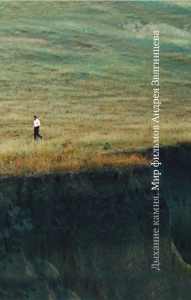



Комментарии к книге «Собрание сочинений. Том 1. Революция», Виктор Борисович Шкловский
Всего 0 комментариев