Андрей Бычков Авангард как нонконформизм. Эссе, статьи, рецензии, интервью
© А. С. Бычков, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
* * *
Эссе
Новый русский литературный субъект
«Частный корреспондент», 21.04.16
Истина отбрасывает нас жить в заблуждении. Правда удобнее, правду можно разделить с другими. Искусство не говорит об истине, оно разыгрывает ее так, чтобы ее можно было угадать. Чтобы ее мог узнать не гражданин, не член сообщества, а человек. Искусство говорит человеку: повернись к себе, видишь – ты, слышишь – ты, мыслишь и выражаешь свои мысли – ты. Твоя свобода – в твоей субъективности. Ты – сам. Так начни же с себя. Искусство занято собой. Ван Гог пишет дерево так, как он его видит. Он искривляет его потому, что чувствует искривление самого мира (искривление мира «проходит» через него). Кафка знает о невозможности, о забвении, о тщете, о скрытом и непонятном законе, но он также знает и о возможности, и о надежде – и вот появляется кафкианская логика; Кафка – новый логик. Мир – в уникальностях, а не в универсалиях. Цель – раскрыть субъективность в себе, чтобы, как говорит Фуко, получить доступ к истине. А это невозможно без риска. Субъект должен рискнуть собой, чтобы раскрыть себя. Но рискнуть собой – это рискнуть и другими, своим статусом среди других, своими отношениями с другими, рискнуть общепринятыми ценностями. И субъект, прежде всего, выговаривает себе право заявить об этом. Так, например, если я пишу текст, то обращаю его к уникальности каждого из читателей, а не к тому, что их объединяет. С заботы субъекта о себе начинается забота о каждом. С заботы о каждом начнется забота и обо всех. Все это старые, сократические еще истины, с каких должна бы начинаться (и продолжаться) новая русская литература двадцать первого века, если в ней возникает (или хотя бы отражается) новый русский субъект.
Вероятно, те «все», те «мы», которые читают эти заметки, давно уже готовы напомнить мне о так называемой реальности, о тех грандиозных социальных и политических силах, перед которыми «я» каждого просто ничто. «Мы» могут посоветовать мне посмотреть телевизор или зайти в интернет. Но за каждым событием я увижу, прежде всего, конкретный, инициирующий его, персонаж. Со своего коллективистского полюса «мы» всегда хотят подчинить полюс «я». Но адепты коллективизма скрывают, что между двумя этими полюсами – разрыв принципиальный. Проникая в «я», «мы» делают вид, что никакого разрыва нет, и так навязывают «я», чтобы оно говорило от их имени, так правят поверх онтологической пропасти. И вот уже возникают иерархии, субординации, и «мы-редакторы» подсказывают мне, что я неправильно пользуюсь лексикой, что, например, писать ««мы» делают вид» – ошибочно. Но разве «я» не ищет «здесь» именно «своего» правила («соврать по-своему» как сказано у Достоевского)?
Я не скрываю своей «террористической» деятельности, я хочу подвести под здание современной русской литературы антропологическую бомбу. И если я, Андрей Бычков, писатель, утверждаю, что «я» – мера всех вещей, то, тем самым подразумеваю, что и мой читатель – мера всех вещей. Я хочу сказать, что книга – художественная, – которую читатель берет в руки, должна быть мерой не только моего, но и его «я». Что это значит? Это значит, что художественное произведение должно обращаться не к объективности, а к субъективности. Точка отсчета – в читательском «я», в его «ядре», в его сингулярности как субъекта, а не в той или иной его оболочке – социальной, политической, конфессиональной. Не православие, самодержавие и народность, не русские против евреев (или евреи против русских), не демократия и не либерализм, а – «Я», его стихия и форма. Вот какова бы должна быть новая русская литературная антропология.
«Мы» любят разглагольствовать о добре, о правде, о справедливости, но если я против «мы», вдобавок и не скрываю, что занимаюсь «террористической» деятельностью, то, значит ли это, что я хочу зла и учу здесь злу? И лгу ли я? А разве «мы» не хотят испытать здесь истину на вечность?
Сегодня «мы» вновь претендуют на историю русской литературы. Но я позволю себе процитировать «мы» замечательного русского философа Поршнева: «Оскар Уайльд бросил парадокс: «Непокорность, с точки зрения всякого, кто знает историю, есть основная добродетель человека. Благодаря непокорности стал возможен прогресс, – благодаря непокорности и мятежу». В этом афоризме сквозит истина, по крайней мере, для всякого, кто действительно знает историю. А ее знал уже Гегель и поэтому тоже говорил, что движение истории осуществляет ее «дурная сторона», «порочное начало» – неповиновение». И разве не этими словами должна вдохновляться и сегодняшняя русская словесность? Со времен Лермонтова просит бури русское «я». Еще Андрей Белый писал: «В свете индивидуалистического символизма открылся религиозный смысл русской литературы». И разве право на суверенную личность это не самое ценное, что было отвоевано у режима в девяностые? Но где же литература «я»? По обе стороны баррикад цветет коллективистская беллетристика-публицистика. А Запад, великий русский Запад как оплот субъекта, как крепость «я», как право на свой собственный стиль, на свою собственную форму, на свои, идущие вразрез с общепринятыми, ценностями – где он в современной русской литературе?
Взрыв – движущая сила современности, примерно так говорит Слотердайк. Все началось с изобретения двигателя внутреннего сгорания, где взрываются бензинные пары. Писатели «мы» («прилепи-мы», «лимоно-мы», «быко-мы»…), хорошо об этом «осведомле-мы». Социальное топливо заливается в бак, и в «мы»-книгах вертятся литературные энергии бензина. Раскаленный коллективистский газ молекул гонит читателя «к справедливости». Но расстояния, увы, давно уже измеряются парсеками, да и на дворе – «кварковые времена»; так что на бензиновых «двигателях» далеко теперь не уедешь. Сказать построже: посредством таких книг никогда не достичь себя, потому что в них не явлены могущественные трансцендентальные силы субъекта. Эти книги обречены остаться дурацкими правильными коробками внутреннего социального сгорания. Эти книги лишены свободы и никогда ничего не сделают и для раскрытия свободы субъекта, прежде всего потому, что они лишены оригинальности, лишены речи и языка. Они являются не произведениями искусства, а всего навсего – заурядными литературными произведениями, движущими читателя на старых механических и тепловых (пусть и высокого градуса) скоростях. Но издательско-премиальная бюрократическая система, увы, сегодня способна возить и ездить только так. Ей нужно простое средство передвижения, потому что простое ближе к идеологии, ближе к правилу. «Мы» проще «я», да и старше. «Я», как вечно-новый ницшеанский ребенок всегда хочет стихии и ищет своей и только своей формы, «я» хочет из «себя», из той самой, сингулярной точки, где даже и электронам-то с кварками места не найдется – но только так «я» и может двигаться быстро и далеко. А «мы» хотят громоздкого и великого, где могли бы уместиться всем скопом, «мы» хотят внешнего – все того же, в идеале, паровоза, на котором въехали в историю. И «мы» кричат мне с паровоза: «Нам непонятно, что ты там пишешь про свое «я»!» И я кричу им в ответ: «А Рембо – «Сезон в аду» – понятно? А Достоевский – «Записки из подполья» – понятно? А Белый – «Петербург» – понятно?» Так и перекрикиваемся.
«Я» не против парадоксов – «я» способно вести диалог с самим собой, называя себя на «ты», готово делиться, двоиться, множиться. Так «я» порождает в себе и «мы», играя внутри себя. Но ведь так и в книге возникают персонажи, «внешний» мир. И «я» не против прототипов. Только вот мир «сам по себе» остается отчаянно сложным, неоднозначным и непонятным. Принцип неопределенности – последняя мера всех вещей. Трансцендентальные «внутреннейшие» силы на пару с вечными «внешнейшими» правят черными дырами реальности, в космический миг на маленькой планете Земля сменяются животные виды, социальные и политические условности, во времени-в-себе медленно развоплощается цивилизация. Но ведь во всем этом – и трагикомическая доля субъекта, грандиозность его воображения, скепсис и ошибки познания, неисповедимая и до конца неясная судьба. Так не должна ли усложняться и литература? Не должна ли и литература все больше обращаться к антропологии? Писатели прошлого, такие, как, например, Гоголь, Достоевский, Кафка, Джойс, Беккет – были, прежде всего, художниками-антропологами.
Давно уже стучится в двери грозный Бог и осыпается знаками виртуальность, папа-мама ставятся под вопрос, в бессознательном появляется модный другой и разрешает топором сознание старушки Европы, а русские писатемы все бубнят на клавиатурах про социальную справедливость.
Не плачь, Читатель! Дай я тебя поглажу и пожалею. Смотри в себя, вслушивайся в себя. Верь, что мое-с-тобой русское злое, мое-с-тобой русское доброе и «адское» устройство сработает. Рано или поздно. И распадутся оболочки и лопнут упаковки, и полетят на иксхеръ (русская буква) со своими кмыгамы писатемы, а заодно и все их социальмые агенмы!
Да восстанет, да засияет и заиграет! Да новыми буквами и новыми словами да издаст крики на старых языках, оросит-подсветит слюнцой, вывеселит смехом! Да выкатит омаров пения горлового и забрызжет нагло, как Поллак, красками трагикомическими на бумагу, да заглумится и заискрится, как Кейдж в «четыре и тридцать три», да вылетчится как Хлебников на пару с Андреем Белым старой русской «мозговой игрой».
Да воскреснет НОВЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СУБЪЕКТ!
Счастлив только язык
Журнал «Перемены» 16.05.12
Вот она и настала, эта эпоха колоссального сдвига – фундаментальный кризис ценностей, всеобщий постмодернистский релятивизм, тоска по традиции и, похоже, никаких перспектив. А мы, тем не менее, мы все еще хотим быть счастливы. Хотя все яснее и яснее понимаем – несчастье укоренилось в нас гораздо глубже, чем это казалось в прошлые века. Тогда еще была надежда, сейчас становится ясно, что зло органически присуще нашей природе. Ад внутри. И дело не только в политике, не только в идеологии. Никакая социальная система не в силах помочь нам избавиться от некоего фундаментального невроза. Быть может, мы все рано или поздно сойдем сума? Мы, собственно, с этого и начинали, когда природа отпускала нас в свободное плавание. В основе самой жизни заложен разрыв. Психологи говорят о травме рождения, мы начинаемся с болезненного отделения от матери, с разрыва пуповины. Но травма даже гораздо глубже – ведь когда-то разрыву было подвержено и само неорганическое, когда из него вычленялась органическая жизнь. И все живые организмы, вероятно, должны хранить память об этом. Похоже, само становление природы есть как бы некая изначальная шизофрения. А расщепляться, разделяться всегда больно. Получается, что мы – шизофреники и мазохисты по своей природе. Хорошее начало, не правда ли? А для размышлений о счастье, в особенности.
Первым во всей полноте экзистенции об этом помыслил наш русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Он исходил не из знаний психоанализа, которые появляются значительно позже, а из своих гениальных интуиций. Вот как, например, описывал мгновения перед самоубийством или эпилептическим припадком Кириллов, персонаж романа Достоевского «Бесы»: «Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. <…> Это… это не умиление. <…> Вы не то, что любите, о – тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость». Конечно, выбирая эту экстремальную цитату, мы намеренно сгущаем краски – мы хотим, чтобы наш тезис выглядел рельефнее.
Настает двадцать первый век, и наши мучения продолжаются. Нас не спасает ни мобильный телефон, ни интернет, ни изобилие товаров. Где наш ребенок, почему он так долго не возвращается с прогулки? Опять не убрано со стола. Этот новый начальник – такая мразь. Невроз надежно укоренен в самом сердце повседневной жизни. Зачем убивать себя или какую-то старушку, чтобы сказать новое слово в своей среде? Достоевский отныне – как метафора. Да и мы все отныне – как метафора. Наши страдания уже не те, все больше по поводу качества вещей, как часто они ломаются. А жизнь и страсти испаряются все быстрее. И оттого все больше отвращения. А где же счастье? Может быть, мы сами не хотим страдать, боимся страдать?
Счастья все меньше и говорить о нем все труднее. Но хочется сказать, что счастье есть. Хотя лучше, наверное, сказать – бывает. Иногда я все же бываю счастлив, – так, наверное, в глубине души еще может свидетельствовать о себе современный человек. Век невроза. И чем меньше радости, тем больше психотерапии. Нас лечат индивидуально или объединяют в группы, нам хотят добра, армии психотерапевтов выцеживают свою выгоду из нашего несчастья. Им трудно возразить, они всегда правы. Они знают – от чего нас лечить, они не знают – как. Вот почему у них так часто не получается. И здесь-то и начинается ликование писателя. И мы, наконец-то, попадаем в яблочко. Счастье в литературе! А если добавить маленькое тире, то суть утверждения засверкает по-новому. Счастье – в литературе. В самом деле, ведь, по большому счету, дело и не в сюжете. Счастье как сюжет – всего лишь иллюзия, также как и несчастье. Для писателя избавление и ликование всегда в языке, в его порядке, и это и есть та, быть может, последняя радость, которую он хочет тайно сообщить своему читателю. Тем более в наши жесткие и циничные времена. Ведь теперь даже и слова все дальше и дальше удаляются от того, что они были призваны обозначать. Знаки и сущности давно уже разъединены. Когда-то мы заходились гордыней перед животным миром. Радостные вопли случки или триумфальный рык победы над соперником – необходимости, причастные дарвиновскому закону, а наше счастье, как сказано у классиков, природы неземной. Но как рассказать об этом в новые времена – вот в чем вопрос. Как рассказать так, чтобы читатель снова поверил, что все, что с ним происходит, – не бессмысленно, что несмотря на его страдания во всем этом заложен какой-то смысл, даже если ты и исчезнешь завтра или через пятьдесят лет, так и не разрешив своих проблем… Но ликование – ведь оно может настичь тебя и на улице, в витрине цветочного магазина, даже в метро, даже в час пик – как много ненужных злобно толкающихся людей, какая радость! Ведь разве еще Кириллов не говорил нам об абсурде? Смысл в абсурде – оксюморон. Так почему бы тогда и не быть счастливым, не посмеяться над всеми своими печалями, раз уж речь идет не о трагедии, а о комедии абсурда? Божественной комедии… Как хорошие музыканты извлекают музыку из любого предмета, так и нам не пора ли научиться добывать счастье из нашей онтологической обреченности? Как хорошо, что хомо сапиенс, наконец, попал под колеса изобретенного им же автомобиля. А мучился ли он? Нет, его изящный «мерседес» раздавил ему голову лишь на четверть. Красивая машина, с тремя подушками безопасности, накатила шикарным колесом на голову бедняги как раз с той задней правой стороны, где, как говорят психологи, мозг его когда-то принимал сигнал от бога. О, эти постмодернистские времена, о, это счастье циников, последних целителей… Увы, мы давно уже отделены от сущностей и добываем свой смех в безвоздушном пространстве циркуляции знаков, мы больше не ценим человеческую жизнь, мы в ней разочаровались. Старания психотерапевтов напрасны, нас нет. Бога нет – я есть – я бог – меня нет. Формула Кириллова. Но в отличие от нас Кириллов был счастлив, хотя бы те пять или шесть секунд…
Я не к тому, что нужно чаще задумываться о самоубийстве. Быть может, нам нужен не психотерапевт, а маг. Нам не хватает художников, а не врачей. И прежде всего художников слова. Даже хорошо рассказанный анекдот рождает, пусть небольшую, но вспышку радости. А ведь можно загубить и его. Героин, конечно, вне конкуренции, но где и как достать этот волшебный порошок, чтобы не угодить в тюрьму? Искусство – самый легкий из наркотиков, мы начинаем с выдумывания богов, а кончаем искусством. Каждая эпоха завершается искусством. Искусство как антропологический проект. Или лучше – антропологический проект как искусство. Вот чего нам не хватает. Эстетика незримо связана с этикой, прекрасное освобождает само по себе, даже если говорит о зле. Эстетическое просветление – как квинтэссенция счастья – не зависит от природы вещей. Буддийские мудрецы счастливы. И нам – и тем, кто читает, и тем, кто пишет – стоит у них поучиться. Видеть мир, правда, на свой манер, на манер искусства, приходящего на смену религии. Видеть – как Дуглас, как Кастанеда – поверх различий, что все есть некий план, некая композиция. И, пусть это и очень трудно, продолжать искать музыку, стиль, который адекватно выразит то, что почему-то с нами происходит сегодня, адекватно нашим ужасно смешным временам. И, слава богу, что еще остается возможность поставить слова в предложении так, что они найдут этот свой новый порядок. Даже если и в перспективе. Даст бог, и переклички смыслов обретут себя. Быть может, наше путешествие только начинается, сюжет, он найдет себя сам, важно, чтобы стиль был адекватно счастлив.
Увы, я не критик и не литературовед, чтобы рассказать о счастье, как оно бытует сейчас в современной русской литературе. Я писатель и говорю от имени себя. Есть писатели близкие мне по ощущению стиля, даже если это и разные писатели с разным стилистическим чувством. Но их книги могут породить радость, даже заставить смеяться или, по крайней мере, доставить то странное чувство удовольствия, когда предмет твоего чтения счастливо рассказывает сам о себе. И такие писатели – каждый, конечно, по-своему – делают и читателя счастливым. Они умеют извлекать музыку из невроза или даже психоза (представьте себе роман под названием «Счастливая казнь»). Но если все, что нам остается, это безумие (а с него, напомним, все и начиналось), то что же страшного в том, что сейчас, ближе к концу (а может быть, и к новому началу?), именно из безумия мы добываем нашу музыку сфер? История человечества – произвол, на каждом из поворотов все могло бы быть иначе. И наше счастье тоже могло бы быть иным. И тогда мы по-другому бы его и описывали. Но мы описываем его именно так, а не иначе.
Мы часто держим отражения событий нерезкими и даже искривляем зеркала, наводя фокус нечетко, так мы захватываем все более и более широкие края смыслов, ведь точность и диалектика – лишь наши временные инструменты, природа, сама, лежит вне времени в нашем его человеческом понимании. В природе все едино, все одно. Это мы говорим на языке противоположностей, выделяем пики радостей и несчастий. Да и в человеческом измерении в масштабе многих лет это все не более, чем флуктуации. Но если мы хотим наводить этот фокус все резче и резче на самих себя, если мы хотим осознать неповторимость своего личного существования и искать метафоры счастья в этом узком и пристальном его значении, то говорить надо, наверное, о любви. Врачи, опять же, учат нас, что любовь сама по себе есть болезнь, они часто называют ее безумием. Быть может, потому, что счастливой любви так мало, да и та рано или поздно умирает, перерастая в счастливый брак. В любви по настоящему, наверное, был счастлив только Бог, когда Он создавал этот мир. Не потому ли и платит своим страданием?
Мы говорили о ликовании в языке, несмотря на описываемые страдания, ибо планы разведены, говорили о том, что наша культура покоится на распятии, но язык позволяет нам его преодолевать и достигать другого полюса, полюса воскресения. Но здесь же, в этом же контексте (как заметит проницательный читатель), есть и ностальгия по другим временам, когда все было не так. Мы часто вспоминаем о Золотом Веке, хотя это тоже, быть может, лишь наша иллюзия. И окажись мы там, в тех временах, мы бы увидели все тот же преследующий нас ужас и лишь сказали бы, что так и должно быть, сказали бы поверх означаемого, обращая свой взгляд к вневременному мифу означающего. Но даже если это и не совсем так, мы все же позволяем себе эту метафору – Золотой Век – как метафору начала. В нашей культуре мы осмысляем ее по-другому: «Вначале было Слово».
Слово и есть Золотой Век.
Авангард как нонконформизм
«Завтра», 25.08.2010
Не так много сегодня художественных произведений (как, впрочем, и всегда), которые можно в полном смысле слова назвать свободными. Еще меньше, конечно, и авторов – как писателей, так и поэтов. Суверенность, стоящая за гранью признания, нынче не в моде. На дворе мода на современность. И оттого так много рабов современности. И так мало метафизики. А та, которая еще остается, увы, все больше хочет подчинить нас болезненно честолюбивому диктату своего и только своего прошлого, заставить танцевать от своей печки, а не от истины бытия.
Но где же свободные духом? Нет свободных духом. Почти не осталось. Зато «свободных словом» хоть пруд пруди. Все у нас сегодня кого-то или что-то обличают, все вопят о несправедливости, ругают власть, все с головой ушли в социальщину, и все у нас нынче нонконформисты. Куда ни глянь, теперь каждый благородный писака протестует. Один все с совком борется – не доборется, другой справа наседает, да так, что аж шкафчик трещит, третий путинщину с медвединщиной бичует (вот уж смельчак, так смельчак), четвертый Карла Маркса от грязи отмывает… И все, как на подбор, – нонконформисты. Как-никак, а нонконформизм ныне бойкий продукт, ходовой товарец. Протест, впрочем, всегда хорошо продавался, о чем неплохо были осведомлены еще гниды отечественного концептуализма вкупе с русофобами всех мастей. А между тем стоило бы и впрямь задуматься, что такое нонконформизм в литературе и искусстве. И не путать это понятие с необходимостью и безусловностью социального протеста. Между тем стоило бы поискать метафизику того, другого протеста, который против самой социальности, навязываемой нам сегодня в качестве последней и абсолютной реальности. Не к малеванию цветов и птичек, конечно же, мы призываем, имеющий уши, да услышит! Мы хотим акцентировать давно забытую мысль, что социум – далеко еще не истина в последней инстанции. И если и меняется он, то по совсем другим причинам, а не как следствие появления правильного и необходимого на данный исторический момент художественного произведения.
Но, увы, у нас «на Руси» литература – государство в государстве, у нас свой президент, своя мафия и своя милиция. И хоть литература и отчуждена (слава богу) от «средств производства реальности», а все же по каким-то таинственным зеркальным законам их воспроизводит. Внешне все вроде бы благородно наоборот: все, что в реальности за власть, в литературе – против; все, что реально душит жизнь и обворовывает ее, в литературе опять же обличается. Но если вскрыть «машинку управления реальностью» и «машинку управления литературой», то мы увидим один и тот же механизм. Оказывается, и у нас, в литературе, свои министерства, только называются они экспертными советами премий, своя Дума с кучей депутатов-воров-в-законе, называющихся издателями и редакторами, своя торговая инфраструктура – бесконечные реализаторы, оптовики – со своим мещанским, задающим тон, вкусом, и, конечно же, свои продажные СМИ с подмахивающими рецензентами. Одним словом – своя КОРРУПЦИЯ. И немного чести для художника выступать на стороне этого «государства в государстве» против пороков самого государства как в прошлом, так и в настоящем. Государство, собственно, всегда тайно только того и хочет, тем и снимает свою вину, такой и только такой хочет видеть оно свою «отображенную социальность» – с обличенными пороками. Вспомним, какой была официальная литература в советский период, посмотрим, какова она сегодня. Немного надо ума, чтобы понять, что литература и там, и там, в советском обществе и в постсоветском – детище Системы. И там, и там она лишь отмывает символический социальный капитал. Отпускает грехи или, выражаясь психоаналитически, возвращает вытесненное. То есть, опять же, решает просранную задачу экономии.
И разве не должен чураться сегодня свободный художник всей этой мафии, делящей литературную власть и капитал, нажитые посредством эксплуатации социальных проблем? Разве его призвание по-прежнему не в поиске высших несоциальных смыслов бытия? Разве его миссия по-прежнему не в прокладывании пути от известного к неизвестному? Но такая работа сегодня невозможна без риска остаться незапятнанным.
Увы, все нынче озабочено белым на белом, все занято поиском света «истины и добра» справа ли, слева, и так мало той подлинной черноты, что все еще осмеливается язвить сердце так жаждущего власти социального абсолюта. Надменно покоится он в своих торжественных покоях, где старый человек и его социальный бог все по-прежнему выясняют отношения, и тянут назад, а не к другому. Увы, никто не хочет менять правил игры, рисковать и пересекать границы, проговаривать действительно актуальное и потому недозволенное. Ибо Система на страже. Через своих социальных агентов (рецензенты, издатели, редактора) она дозирует дозволенное, уравновешивает правое и левое, кривое и прямое. Но ведь Система и не была бы Системой, если бы она не редактировала протест и не находила бы для него свою форму, удобную и приемлемую социально. А ведь форма эта (напомню, мы говорим о художественных произведениях) должна бы изначально тяготеть к другому. Должна бы быть сама по себе, стоять на своих и только на своих основаниях, искать свои и только свои правила, и сегодня (что становится все более и более явным) – искать в негативном. В нарушении как этики сложившейся социальной нормы, так и в первую очередь эстетики «литературного государства». И не здесь ли истоки того, что надо бы определить как нонконформизм? Определить и очистить от всей этой скорлупы вторичного, что нам навязывается как всего лишь социальный протест. Надо взломать эти вторичности, чтобы освободить само сакральное ядро протеста. Спросить другими словами, спросить на взыскующем языке, в другой, запрещенной социумом тональности.
И именно так сегодня и спрашивает авангард, пусть пока и в поиске средств (но зато ему и достается в наследство и традиция, и постмодернизм). И именно так авангард сегодня завоевывает другое определение нонконформизма. Именно он сегодня способен прямо и недвусмысленно разрушить сложившиеся правила игры. И обществу сегодня, как бы парадоксально это не прозвучало, и нужна именно такая, отрицающая самые его основания литература. Нам нужна метафора этой страшной черной дыры, в которую нас с нарастающей и нарастающей скоростью засасывает современность, чей социальный вес продавливает сам себя, так, что человек забывает, что он прежде всего – суверен.
Так вперед же! Не оглядываться назад, не искать и взыскивать телоса метафизики, обновления ее старинных категорий, не с понятий начинать и не со средств, не с поисков метода – нового или хорошо забытого старого. Но с чувства – отвращения ли, презрения, с безумных и противоречивых метаний, с пересечения границ, с риска, с разрушения всех правил этой затянувшейся игры. И если социальность все больше обнажается сейчас как последнее проклятие человека, то художник тем более должен действовать, исходя из смысла не какой-то другой грядущей позитивной социальности (ее никогда не было и не будет!), а своей, укорененной в сейчас, суверенности и самости.
Так и только так литература может породить и передать обществу сакральный импульс, свободный и от религиозно-метафизических догм, и от оков «литературного государства». Как говорил еще Арто, искусство (и литература) это не подражание жизни, а сама жизнь, следование ее трансцендентному принципу.
Садо, мазо и порно авангарда
Ex Libris, 01.04.2010
Внезапно становится ясно, что обрушилось все, и ничему больше доверять нельзя. На каждом углу подделка. Поддельные пастыри кричат о поддельных ценностях, поднимаясь по поддельным идеалам, как по ступенькам. Нажимают на клавиши, разыгрывая бесконечную фугу власти. Да, власть и только власть. А ценности – лишь средство. Иерархии – вот цель. Внезапно мы обнаруживаем себя в обществе тонких тоталитаризмов. Тоталитаризмы с нами, они никуда не исчезли. Ими пронизана повседневность, ими пронизана культура, что уж там говорить о бизнесе. Даже частная жизнь определена тем, кто «сверху». Человек человеку – власть. И наше общество – лишь некий тонко тикающий тоталитарный механизм. А мы-то надеялись, что оно способно расти, развиваться, давать живые побеги. Но, как выясняется, «живой побег» – это, по-прежнему, привилегия немногих. А большинству остается тиканье-таканье членами общества.
Почтенно тикающие господа обожают пространство. Самолеты для них банальность, также, как офисы или автомобили, речь, конечно, о сферах влияния, о среде тех, кто разделяет взгляды, объединяется в комитеты, реализует суверенную волю, хлопает в ладошки и подлизывает дерьмо. Все это происходит где-то, там-то и там-то, в каком-то месте или местах. И мы, даже, если и не присутствуем (а мы, конечно же, не присутствуем), тем не менее должны увидеть или услышать, когда почтенные господа нам об этом напомнят, и, будьте уверены, они найдут способ. Спектакль разыгрывается в том или ином пространстве. Но есть также еще и время, о чем стоит напомнить почтенно тикающим господам. «Алло, господа, вы нас слышите? Вы почтенны только пока над вашей почтенностью не посмеялись и пока не сорвали с вас маски». Время, в отличие от пространства, жестокий и неумолимый процесс. И даже тикающие господа рано или поздно приходят в негодность. Второго начала термодинамики никто не отменял. Напротив, человек свободный даже придумал саморазрушаюшуюся машину. Вот чего так не хватает нашему почтенному обществу и его членам. Кинетического искусства, от греческого kinetikos, что означает движение. Во имя своих нравственных – системообразующих – императивов, во имя нормы своего большинства, во имя сохранения самого себя (а на самом деле своих иерархий), общество признает лишь свою метафизику настоящего-над-прошлым, но не процесс. Увы, машины не модернизируются. Машины сменяют машины. Из «шестерки» не сделать «форд». Обществу как механизму не хватает воли к самодеструкции. Вот почему оно стагнировано. И тогда разрушение приходит как бы извне, неслышно, невидимо пересекая границы, поднимаясь из коллективного бессознательного. Нормы – это всегда нормы того или иного времени. В Киевской Руси одни, в царской России другие, в СССР третьи… Да и сама норма гораздо более безумна, чем это кажется на первый взгляд. Лучше всего это сформулировал Жак Лакан – норма это не более, чем хорошо адаптированный психоз. Как выясняется, человек существо прежде всего психопатическое, и именно тем и отличается от животного, которое, как ни странно, ближе к машине. Теперь ясно, что социальные институты – прежде всего средство избавиться от фундаментальной тревоги, а наши почтенные господа занимаются не более, чем формотворчеством. Разумеется, – под свои интересы. Но тогда мы вправе им заявить – если речь лишь о той или иной форме безумия, то чем же безумие личное хуже общественного? Раз Хомо Сапиенс – дитя сошедшей с ума обезьяны-убийцы и миром движет всемирная ненависть, а не любовь? Конечно, именно силы отталкивания, а не притяжения создают социальные институты. И так, и только так (тик-так) возникают границы социальных пространств. «Должно знать, что война всеобща, что правда есть раздор и что все возникает через борьбу…» – учил еще Гераклит. И та правда, что вчера вдохновляет на борьбу, душит сегодня. Заколдовывает, заковывает, отбрасывает назад. Тик-так, Окуджава, тик-так, Пастернак, тик-так букеровская блокада Ленинграда. Опомнитесь, господа почтенные! Какой у вас на дворе век? Нам нужны перенормировки, а не нормы! Ваша блокада авангарда, а не Ленинграда – вот что происходит на самом деле!
Но так и только так, через блокаду, коллективное безумие (читай норма) спасает общество. Испытанный способ. О, эти бесконечные призывы о помощи! Вас же бесконечно совращают, призывают к насилию, и насилуют. Но в отличие от вас, господа, мы не боимся взглянуть своему безумию в лицо. Пусть норма охраняет пространство, человек свободный всегда будет хотеть времени и его перемен. Пусть официозная культура стабилизирует сдерживающий и откровенно реакционный императив. Авангард сегодня призван запускать аварийные процессы. И они с неизбежностью должны быть разрушительны, потому что начинаются именно там, где почтенные господа стараются удержать свои позиции более всего. Мораль – орудие почтенных господ, мораль – орудие палача. Меня всегда удивляло, почему общество нуждается в каком-то фундаментальном ханжестве и это ханжество так и выпирает через его идеалы? Скажем прямо: свобода отвоевывается сейчас не на баррикадах, граница проходит на поле порнографии. Кто, кого и как? А разве вы, почтенные господа, не занимаетесь тем же самым посредством своих премий, журналов, издательств, телепрограмм? Секс символический давно уже стал синонимом власти. Прежде всего это вы трахаете нас. Групповое изнасилование происходит ежедневно и численность насилующих чудовищна. Нас меньшинство, и мы должны терпеть и молчать, пока вы наваливаетесь на нас всей своей кодлой и зажимаете нам кляпом рот. Вот где блокада. А потом вы еще лицемерно удивляетесь, почему мы возвращаем вашему символическому наглядную буквальную форму. Кто, кого и как. Да, только это, господа, сейчас только это. Древнейший, хтонический код, не станем лицемерить, мы живем во времена расшифровок. И раз все мы безумны (напомню, и вы в том числе), то и порнография – не порок. «Порнография показывает нам, как выглядит демоническое сердце природы, вечные силы, действующие в подполье общества, за ширмой общественного договора», – как формулирует Камилла Палья. Вот почему порнография с неизбежностью должна быть предъявлена. Вопрос только в средствах. На каких высотах и в каких низинах. Авторам «Окуджав» с «Пастернаками» стараться не стоит. Замарают, испортят тему, получится пошлость и дрянь. На этой прекрасно сомнительной грани всегда удавалось балансировать немногим. Опасные темы – испытание и вкуса, и стиля. Или, как это на вашем языке: лучшее – враг хорошего. А как насчет вот этого: «Критики по большей части не замечают или сознательно упускают из виду аморальность, агрессию, садизм, вуайеризм и порнографию великого искусства» (из той же Камиллы Пальи). Вы пропитаны ханжеством, господа, и ваша мораль – это садо. Конечно, ваше садо морально, и наше мазо в ответ – может быть, только безнравственным.
Авангардные процессы ускоряются и будут ускоряться, и время деформирует и будет деформировать пространство, будет менять цели и ценности, будет вжимать одно в другое, опрокидывать отношения. Повседневность обращается пограничьем на глазах. Сингулярность пребудет во всем. Открывается странный горизонт возвращения экзистенции. Но уже совсем в иной роли. Черная воронка. Дыра. Низвержение в Мальстрем. Наконец-то. Будь проклята эта ваша современность, почтенные господа. Человек свободный хочет ее конца. Человек свободный хочет сингулярности и жаждет Биг Бэнга. Человек свободный жаждет Человека Сингулярного. И только это отныне нормально. Мы хотим нового. И оно зачинается уже сегодня. И в отличие от вас, «дорогие вопросы литературы», не лицемерим. Напротив, мы с наслаждением рассматриваем его зачатие. «Через увеличительное стекло порнографии?! В су-у-у-уд, его в су-у-уд!!» – слышится крик. Нет, господа, прежде всего через линзу искусства.
Работа в черном
Интернет-журнал Rara Avis, 23.04.16
Бульон, компот или винегрет? Хаос, маразм, или осуществление всех возможностей? Эклектика или тайный провиденциальный смысл? Кому верить – правым или левым? На что ориентироваться – на традиционализм или постмодернизм? На реставрацию или модернизацию? Может быть, плюнуть на все и уйти в монастырь? Но в какой – православный, католический или дзен-буддистский? Да здравствует теория относительности! Абсолютна только скорость света. А, скорее всего, – скорость тьмы.
Трудно говорить о том, что происходит в стране, да и не только в стране, а, пожалуй, и во всем мире. Увы, насмешка – временное облегчение, а мудрость Лао Цзы – где она мудрость Лао Цзы? Спасительнее всего – выбрать какую-нибудь площадку, очертить себя границами, найти «свою общественную позицию», стоять «на своем» и не сомневаться. Только ведь прорвет рано или поздно, ночью, как канализацию. И тогда – запой, истерика, измена правому (или левому) делу, угрызения совести, поиски виноватых. И что же делать?
Каждая светлая идея, сколь бы светла она ни была, всегда отбрасывает свою собственную тень. Никакая концепция никогда не избавится от имманентно присущего ей негатива. Об этом хорошо знали алхимики, когда они начинали «работу в черном». И стадию нигредо они проходили не только ради альбедо, а чтобы научиться смотреть на мир через черные очки. Не следует искать в темноте только зло. О спасительной тьме божественной говорил еще Псевдо-Дионисий. А вот мы в наше светлое-пресветлое время почему-то все по-прежнему ищем только свет. И все наши идеалы по-прежнему светлее светлого. И светло у нас, хоть глаз выкололи. Так, может быть, нам не хватает темных идеалов? Но кто осмелится проповедовать темный идеал?
Нам никогда и никуда не деться от грязи, несправедливости, болезней, социального вранья, алчности сильных мира сего, жестокости государства. Это все те же аспекты тени, той самой темноты. Похоже, мы переоценили человека как некий светоносный проект. Человечество давно уже катится к чертовой матери. Быть может, в этом виновата Аристотелева логика, наше извечное «да» или «нет», бескомпромиссное отделение одного от другого? Мы по-прежнему бредим светом – свободой, независимостью, благосостоянием, славой, честью… Издержки «производства» раньше отпускались на исповеди, сейчас отдаются на откуп психотерапии. Да, мы еще способны интегрировать противоречия. Но ведь по большому счету никаких противоречий не снять никогда, и надо искать «решения» по ту сторону этой горькой «истины». Темный остаток – такая же полноправная часть мира. Счастье и несчастье бегут в одной упряжке. И мы должны научиться говорить об этом без морального пафоса, и сегодня – когда речь идет о социальном зле. Мне возразят – разве можно не обличать воровство, коррупцию, наркоманию, насилие, убийства, извращения, порнографию? Но от них никуда не деться, все это есть, и, увы, существует не для критики, а, прежде всего, само по себе, у зла есть свой собственный путь. Лучше всего это понимали художники. Дант, Босх, Шекспир, Достоевский спускались в ад, прежде всего, чтобы исследовать природу зла. Еще у Платона сказано: «Ведь нет ничего бесчестного в познании плохого; наоборот, случается, что это служит к исцелению, если принимается благосклонно и без зависти». Но наше уважаемое общество преисполнено только пафоса, только морального негодования. И даже любая попытка заговорить от имени «темной природы» – а проницательный читатель догадывается, что я имею в виду, прежде всего, художников – беспощадно наказывается.
А ведь искусство (и литература в частности), пожалуй, единственная сфера, где мы можем публично признать зло, его право на существование. Так нет же, все культурные механизмы сегодня направлены на искоренение зла. Как будто еще психоанализ не объяснил нам, насколько опасно это вытеснение. Но темного художника сегодня гонят в шею, его не выставляют, его не печатают, разве только он не подыграет чьим-нибудь политическим интересам. Более того, его начинают преследовать в судебном порядке. Чему он может научить? Он же работает со злом. Но, ведь не только далекий Платон, но и современный нам Юнг говорил, что «просветление придет не от воображаемых фигур света, а от делания тьмы осознанной».
Общество озабочено только самим собой, как и государство тоже озабочено только самим собой. На человека давно уже наплевать, мы все только члены общества и изо всех сил стараемся стать гражданами. И если уж мы обращаемся здесь и к социально-политическим аспектам нашей «темной» проблемы, то разве патриоты для либералов это не зло? А либералы для патриотов? Но и у тех, и у других больше правды в критике противника, чем в критике самих себя. И никто не хочет признавать своей тени. Но на каждом историческом повороте смыслы будут покачиваться и с неизбежностью меняться. Одни идеи будут актуальнее других, и никто не знает, какая из существующих ныне окажется актуальнее завтра. Доверять идеям, а в особенности идеологиям, опасное дело. А о чистоте воплощения идей в жизнь всегда больше всего заботились палачи. Уж лучше не доверять ничему. А еще лучше доверять искусству, для которого и черное, и белое – всего лишь краски на одной палитре. Мы больше не верим государству? Поучимся у проклятых поэтов и перестанем верить и моралистам с их идеалами блага и добра. Все эти высокие слова – не более, чем необходимое общественное лицемерие. Это лексика социальных агентов, осуществляющих репрессию общества по отношению к человеку, и в первую очередь, конечно же, к личности. Свет социально ангажированных авторов изрядно «насветил»: куда ни глянь – кругом клубится тьма. Так к черту этот бизнес на морали. Да здравствует работа в черном!
Пруст и Рембо
Литературная Россия 13.06.14
Маленькое предисловие
Это глава из моего последнего романа «Олимп иллюзий». В ней, собственно, как выразился бы Милан Кундера, заключено эстетическое пари произведения – оппозиция между принципами реальности и воображения. Один из героев повествования любит Пруста, а другой Рембо. Но поскольку это в большей степени роман о фрагментации личности и о необходимом поражении Божьего замысла о человеке, то проницательный читатель, конечно же, догадается, что автор, по сути, хочет ему сказать: эта оппозиция разрывает и любого из нас. Сегодня эту истину, пожалуй, можно зачислить в разряд банальностей. И я, конечно же, прекрасно понимаю, что любая попытка разобраться в метафизике нашего непонятного существования в этом мире обречена на неудачу; да и роман мой, собственно, и призван продемонстрировать этот процесс. Если же приоткрыть маленький секрет, то напоследок, для совсем уж проницательных читателей, стоит заметить, что искусство не обязано проповедовать никаких идей, они для него всего лишь краски. Как однажды выразился Густав Майринк: «Я хотел бы написать рассказ яростный и непонятный, как удар молнии».
Поэт пишет для Музы, подобно Прусту или Рембо он преследует в себе идеальные цели. Каждый художник озабочен, прежде всего, поисками своего и только своего пути. Траектория же его поисков вторична. Пруст обретает время не в воспоминаниях о своей жизни, а в том, какие сущности он собирает. Он находит, прежде всего, трансцендентное знание о мире, а его «обретенное время» – всего лишь метки. Пруста притягивают идеальные сущности, и он отдается их притяжению, догадываясь, что, в конце концов, один идеальный образ просвечивает и через Жильберту, и через Альбертину, и через все другие его любови, среди которых могли бы быть и другие встреченные им женщины, как например, мадмуазель Стемарья или Андре, или даже сама герцогиня Германтская, как ими, быть может, была и его мать, и его бабушка. Потому что возлюбленная всегда одна и та же, как это постиг еще и его старший друг, узнавая в Одетте творение Боттичелли. Так разворачивается бесконечная линия – последовательность подаренных Марселю любовей, его вечное возвращение. И Пруст – не гений памяти, он гений реальности, потому что для него все здесь и ничего нет там. Пруст – гениальный разгадыватель знаков. Задачу искусства он видит в познании, Пруст философ, надсмехающийся над претензиями логических построений; он верит лишь своим ощущениям и проясняет для себя их идеальность. И сама Муза помогает ему искать Себя. Он приходит к познанию, что все, что с нами происходит, даже если это и несет нам страдание и боль, имеет божественное происхождение, ибо так и только так могут донести до нас свое послание наши скрытые идеальные сущности, и лишь в горести этого пути можно обрести ту странную ясность, которая открывается нам в искусстве, которая только и остается нам в радость и в утешение. Нет ничего случайного в этом мире. То, что следовало бы назвать случайным, не должно задерживаться в памяти, ненужное и пустое, оно не должно и обретаться. Но из мимолетного впечатления от вкуса размоченного в чае пирожного «Мадлен» может вырасти воспоминание о Комбре – стране детства. И Пруст обретает себя, а не Жильберту или Альбертину, воспоминание о матери или о бабушке, он обретает и исполняет свое предназначение. Он разгадывает всю загадку широты жизни во всех ее, данных ему, проявлениях – и в ужимках светского салона Вердюренов, и в разговорах с бароном де Шарлю. Пруст пытается разобраться во всем случившемся, во всем происходящем, как это делает детектив, отделяя правду от фальши, а истину от лжи, выкристаллизовывая по крупинкам золото того, что есть, и не доверяя тому, что хочет только казаться. Пошлость, пронизанную глубокомысленными фразами, помпезную пустоту так называемого знания, с особой прозорливость Пруст наблюдает в докторе Котаре, это медицинское светило материалистического мира наследует в свой «духовный мир» бестактности грубых причинно-следственных отношений с таблетками. Но даже и блестящий аристократ де Шарлю оказывается на поверку низменным, порочным извращенцем, которым управляет плоть, а не дух.
Но если все истины только здесь, и никаких других истин нет, то тогда зачем воображение? По Прусту для обретения реальности и познания себя достаточно лишь тонкого и разумного всматривания в свои ощущения, ему не нужен философский метод. Достаточно только Платоновской метафизики идей. Нет никакой другой жизни, и она и не нужна. Задача присутствия – принять свою собственную судьбу.
И вот здесь мы задумываемся об опыте Рембо как кардинальной попытке отказаться. Отказаться не только разгадывать те или иные знаки – отказаться от всего поля их многообразия, от всех ощущений и впечатлений, от всей так называемой реальности, сознательно и бесповоротно деформировать все свои чувства. Не для того, чтобы придумать, создать другую реальность, а для того, чтобы дать какую-то другую, абсурдную возможность проникнуть в себя все тем же изначальным сущностям, которые так зловеще искажены этой реальностью в тех образах, чувствах и ощущениях, которыми непосредственно представлен для нас этот мир; тем сущностям, которые уже не могут к нам пробиться, потому что этот мир давно уже стал воплощением великой лжи, маревом иллюзий – с какой-то адской целью увлекающих нас прочь от истинного мира платоновских идей. Осознав безнадежность положения, Рембо доверяет теперь лишь своему «Пьяному Кораблю», он догадывается, что надо умертвить экипаж, подставив его под дикие стрелы индейцев. Ибо только сам, без правил, в своем священном безумии, отдаваясь всем ураганам и страстям, минуя опасные «невероятные Флориды», Корабль сможет прорваться сквозь железную паутину причинно-следственной лжи, пробить стену этого лживого неистинного, навязанного нам кем-то «багрового неба», спасаясь посредством своего и только лишь своего воображения. Наши чувства ведут нас только в этот мир, в мир лживых повторений. Наш повседневный опыт и наше обращение к законам природы лишь превращают нас в неумолимый закон, приправленный для новизны восприятия ничему не обязывающей алеоторностью. И только воображение с его непредсказуемостью, с его дикостью разрывов и скачков еще остается нашей последней надеждой. Таково обретение времени по Рембо. Не в реальности, а в воображении ищет Рембо свою идеальную возлюбленную. Подобно древнему Адаму, он творит ее сам, мистикой своего ребра придавая ей родство с самим собою; ибо его возлюбленная – это его сестра. Рембо творит свою возлюбленную в вихре своих ледяных видений, задыхаясь от сорокоградусной жары в Абиссинии, в городке под названием Аден – Аден и есть Ад, недаром же он воздвигнут на месте кратера потухшего вулкана – Рембо творит свой идеал из самого себя, по ночам сжимая в объятиях случайную девочку абиссинку. Так, подобно Данту, проходит Рембо «ад женщин там внизу», так алчет он инферно своих расчленений и разрывов. Так собирает в себе единую и единственную возлюбленную, мистическую сестру – Диану – и Беатриче.
Пруст говорит нам только об этом мире, заданном раз и навсегда, он говорит о невозможности иных миров. Пруст оставляет нам лишь горькую радость угадывания.
Рембо же отвергает Демиурга. Он разрушает все знаки Его реальности, и, в конце концов, разрушает и самого себя, отказываясь и от писем провидца. Рембо выбирает Люцифера.
Воля к форме
Готфрид Бенн (1886–1956)
«Частный корреспондент», 02.05.12
Готфрид Бенн – человек, стиль, дорическая колонна, пространство. Он собирает имена существительные. Статика – сфера его искусства. «Слова – это всё», – как говорил Гофмансталь. Сейчас, по прошествии лет, становится очевидным: Бенн – один из крупнейших немецких поэтов XX века, еще яснее – что это одна из последних опорных, осевых, фигур модернистской эстетики накануне ее постмодернистского переворота.
«Стиль выше истины, поскольку несет в себе оправдание существования». В этой мысли, проходящей через все размышления Бенна об искусстве, конечно же, угадывается наследство «базельского отшельника». И Бенн этого никогда не скрывал. Прямыми и скрытыми цитатами из Ницше пронизано все его творчество – эссеистика, проза, стихи. Эстетика, а не этика – вот краеугольный камень бытия. Ницшеанскую мысль об искусстве как человеческой предназначенности Бенн кладет в основание своих размышлений, адекватно своему времени додумывает до конца и передает временным потокам и дальше. Не политик, не воин, не религиозный жрец, не банкир, а художник – вот кто в понимании Бенна есть человек, вот его последнее определение. Выражение как судьба. Форма как идеал. Подобно многим своим современникам Бенн открывает человека без содержания[1], ставя на место содержания выражение. Кажется, что мы повисаем над бездной. Как – императива больше нет? Но Бенн лишь призывает взглянуть на плоды человеческой деятельности (да и на сам исторический процесс) с точки зрения искусства. В такой перспективе многие вещи открываются совсем с неожиданной стороны. Бенна часто упрекали в нигилизме. Но ведь все дело в том, что вы делаете со своим нигилизмом, парировал он. Отрицание – высшая из мыслительных функций. Но не ради отрицания как такового следует отрицать. А лишь, чтобы расчистить путь и обнаружить новое пространство. Ибо только так и может родиться стиль. Бенн знает секрет – форма освобождается. Ей тесно в мире готовых правил, она сама есть некое новое правило, которое само себя творит, само себя формирует. А для этого нужен простор, нужна не заполненная еще ничем длительность. Искусство как последняя, а лучше бы сказать, первая метафизика. Человек задуман художником.
Права человека, государства или права общества (выразимся именно так, в антиномиях современного накала страстей) никогда не интересовали Бенна как предмет творчества. И дело здесь даже не в асоциальности. Это Бодлер или Рембо бросали обществу вызов. Бенн фигура вполне академическая. Его недоверие к моралистической мысли как таковой порождена его увлеченностью эстетикой. Он шел вслед за Шиллером: «Мысль – младшая сестра нужды». И добавлял от себя: «Она всегда рядом с топором».
Известность Готфриду Бенну принес уже его первый поэтический сборник под названием «Морг и другие стихотворения» (1912 г.). По профессии Бенн был врачом. Перед окончанием военно-медицинской академии два года слушал в Марбургском университете лекции по философии и теологии. Его отец, также как и предки по отцовской линии, был священнослужителем. Сам Бенн, однако, рано утратил интерес к догматам и вопросам вероучения, зато сохранил, по его словам, фанатичную приверженность к трансцендентности, которую понимает теперь «как художественную по своей сути: как философию, как метафизику искусства». Дважды творчество Бенна попадало под запрет властей, сначала нацистских, а потом, после окончания Второй мировой войны, в период денацификации – либеральных. В 33-м Бенн еще «верил, что возможно подлинное обновление немецкого народа, которое укажет выход из безжизненного рационализма, функционализма и цивилизаторской мертвечины». В отличие от многих писателей, ученых и художников, он не эмигрировал из Германии. Более того, Бенн обрушился на тех, кто уехал. Его статью «Ответ литературным эмигрантам», которая была спровоцирована частным письмом Клауса Манна, не могут ему простить до сих пор. Но не прошло и года, как он с горечью осознал, куда все катится. Накануне войны за его резкие выступления в прессе, на сей раз антинацистские, власти запретили ему писать. Единственным спасением оказалось возвращение в армию, тыловым врачом. После разгрома фашистского режима Бенна запрещают уже либералы. О, это двойное попадание под запрет – удел свободных умов! Слава богу, что вычеркнули его из истории ненадолго. И уже с начала пятидесятых стремительно нарастающую славу Бенна не остановить. Сегодня Бенн – один из крупнейших поэтов не только Германии, но и Европы, о чем, в частности, свидетельствует недавний опрос журнала «Literaturen». Большинство из немецких поэтов и писателей нового поколения ставят его имя впереди Рильке и Валери.
Чем же так привлекателен Бенн? Значит, все-таки позиция автора в калейдоскопе постоянно меняющихся общественных идей и идеологических догматов – не самое главное? Бенн, кстати, никогда и не отворачивался от выпавших на его время испытаний. Он отражал их более тонко – в стиле. Он был чужд дидактических назиданий и пафоса. Стоическая форма его стихотворений приводила в движение фундаментальные трансценденции духа.
Равнодушие к изменчивости мира — глубина мудреца. Заботы детей и внуков не проникают в него. Следовать направлениям, действовать, прибывать, отбывать — все это для тех, кому не дано ясного зрения. Пер. Вольдемара ВебераБенн смотрит насквозь. Порабощение человека человеком, угнетение, обкрадывание богатыми бедных, прикрываемое пафосом идеалов и ложью идеологий – неотъемлемая история человечества. Еще вавилонские банкиры давали кредит под двадцать процентов, а Древний Египет монополизировал торговлю благовониями. Герои прославленной Эллады были безнравственны, тщеславны и вероломны. Царь Спарты во времена греко-персидских войн, несмотря на свои победы вел тайные переговоры с персами, чтобы в случае поражения сдать им и Спарту, и всю Элладу. Алкивиад, блестящий политик и оратор, глава ультрадемократической партии, ученик Сократа, моралист предал всех своих соратников. А Троя, также взятая обманом? Не стоит идеализировать человеческую историю. Ее не изменить к лучшему. Она такая, какая есть. Но она движется трансценденциями, а не революциями, говорит Бенн. И принципиально отказывается от социально-обличительной роли, навязываемой художнику обществом. Гораздо большее мужество Бенн видит в том, чтобы взглянуть на социальную историю не как на арену борьбы добра и зла, а как на феномен, и сказать, обращаясь к человечеству: «Ты такое, какое есть, и никогда не будешь другим». Бенн смотрит в лицо вечному времени. Он проговаривает непроговариваемое гуманистами. Он формулирует свой диагноз бесстрастно, как врач, и придает ментальную форму тем жестоким содержаниям, с которыми рано или поздно человечество должно было столкнуться. И Бенн закрывает дорогу в «спасительное» религиозное назад. Вещи духа необратимы. Целительная сила нового искусства – в его безжалостности. Оно выбивает почву из-под, ног как дзенский коан. «Итак – против семьи, против идеализма, против авторитетов. Авторитарными остаются только воля к выражению, тяга к форме и внутренняя тревога – до тех пор, пока образ не воплощен в пропорциях, которые ему в пору. Чтобы этого добиться, нужно решительно вторгаться во все, что ты любил, что тобой было испытано, что тебе было свято, – в надежде, что затем возникнет новый, затмевающий все прежние жизненные страхи образ человеческой судьбы с ее тяжкой ношей безнадежности и безысходности». И дальше (вот оно, самое жестокое, самое неумолимое, как скальпель): «Все великие мужи белой расы веками решали лишь одну «внутреннюю» проблему: как замаскировать свой нигилизм. Нигилизм, имевший различные источники: религиозный – у Дюрера, моральный – у Толстого, познавательно-умозрительный – у Канта, общечеловеческий – у Гете, общественный – у Бальзака». Страшно, одиноко, холодно после таких слов… Но – что вы делаете со своим нигилизмом? И тогда-то и раздается смех, слышатся приглушенные музыкальные аккорды, сцена заливается светом, живописно восстают декорации и – появляется блистательный мир. «Ты должна была петь, о, душа моя!» – с этими словами Ницше из-за кулисы выступает герой. Олимп иллюзии. Нет, нет, усмехается Бенн, речь не об эстетизме, не об искусстве для искусства. Отныне мы хотим большего. Вдумайтесь – Олимп иллюзии… Там, где раньше царствовали неумолимые боги – Зевс, Аполлон, Артемида…, где они вершили суд над человеческой судьбой, теперь на этом священном месте – Олимп иллюзии. О, вот предназначение! Человек рождается из иллюзии. Человек есть галлюцинация, мираж, его мысль, его образ, его представление о себе, зарождающееся спонтанно, непонятно как и почему… И тогда – о, да! – придать форму, да, только придать форму. И Бенн проговаривает вслед за Новалисом: «Искусство – это прогрессивная антропология» Но как, каким образом? В поисках ответа Бенн обращается к примитивным культурам. Бенн естествоиспытатель, он хочет знания. Он знает, что причина – мозг. Странный, непонятный, акаузальный орган – это именно мозг порождает галлюцинации, вдохновение, аффекты. Нервная система – все дело в ее состоянии. За сознанием стоит мозг. Как же покинуть эти проклятое социальное «я», ради других, высших целей – ради возбуждения, расширения, экстаза? Ответ примитивных культур: транс, ритуал и наркотические вещества. С незапамятных пор человеческое существо изо всех сил сопротивляется нарождению социального «я», с его амбициозными проектами, залезающими один на плечи другому, охваченными болезненным самоутверждением, борьбой за привилегии и всевозможные дивиденды… Человеческое существо хочет назад. Стать говорящим камнем, скалой, даже не животным, не деревом. О, листья коки, о королева инков Мама Кука, о Эквадорское ранчо Грез, тибетский молитвенный барабан, прогулка бога по берегу По… Так было во всех культурах, и Эллада – не исключение. Елена поила героев перед битвой непентесом, и одежды Гипноса украшены головками мака. Бенн исследует прежде всего европейскую реальность. Его диагноз: европейская реальность создается через «я», и – что ужаснее всего – через социальное «я», взращенное в ежедневном соперничестве с другими. Отсюда и неизбежный фундаментальный невроз. Мы оторвались от природы ради победы друг над другом. И дороги назад нет. Но и наркотики, увы, не паллиатив. Однако, европейское сознание, утверждает Бенн, способно держать себя само, несмотря на все гигантские перенапряжения! Наш антропологический ответ в том, что наше европейское сознание нашло форму, адекватную кризису своего содержания. А именно – искусство. Но речь теперь, конечно, идет уже о другом искусстве, о том, чья колыбель – душевный кризис, опасности и неврозы. Позитивистекая картина мира, как и прежняя, религиозная распались (хотя и не исчезли окончательно). И современность требует нового, «бионегативного» базиса. Бенн переопределяет фундаментальные «разлагающие» и «деструктивные» феномены как «творческие» и «продуктивные». Без биологически негативных ценностей, говорит Бенн, невозможно структурировать дух и его проявления, без них нет ни гениальности, ни искусства. И только изначальная воля к форме может спасти от распада. Эту волю, по Бенну, порождает сильный мозг. Но парадокс в том, что сильный мозг создается с помощью алкалоидов, а не коровьего молока. Вот это афоризм! Ай, да Бенн. Привет, моралистам. Да здравствует Олимп иллюзии!
Итак, Бенн делает антропологическую ставку на художника. Но что же это за существо? Прежде всего, Бенн разграничивает культуру и искусство. И их принципиально разные задачи. Культура занята «охранительством», она возделывает «почву», взращивает «плоды и семена», она воспитывает. И от искусства она берет лишь только то, что ей нужно, что ей выгодно для «прагматических» задач. Культуртрегеры – позитивисты. Искусство же – деятельность совсем иного рода. Оно занято задачами стилистическими. Форма же находится сама по себе. Потому что стиль – это человек. И чтобы найти свой стиль в искусстве (да и в жизни), нужно лишь – освободиться. Оригинальная форма возникает в свободном пространстве, и в незамутненной длительности. Вот почему художник есть, прежде всего, асоциальное существо. Он должен отрицать реальность и более всего реальность социальную, чтобы освободить свои галлюцинации. В мире принципа, мире запрета, он должен нарушать и принцип, и запрет.
Готфрид Бенн – адепт позднего экспрессионизма, последнего мощнейшего подъема европейского искусства начала и середины XX века. Тогда искусство еще было чем-то сродни религиозной практике, во всяком случае исходило из того же странного ощущения, что все должно знать или, во всяком случае, найти свое место. Готфрид Бенн понимал деятельность духа как формотворчество, и в этом по-своему, модернистски, наследовал старым мастерам. Недаром у него так много отсылок к Гете. Но в отличие от классических мастеров, Готфрид Бенн делает ставку на «бионегативное». И у него есть сдерживающая граница. Он разделяет, он не смешивает. Искусством еще не объявляется все, что попало, как у Энди Уорхола и Дюшана. И комментарий еще не подменил произведение, как над этим потрудились Кошут и Фуко. И еще не освобождены бессознательные машины производства адскими провокациями Делеза. Олимп иллюзий еще не разорен. И каждая сволочь – от банкира и политика до полицейского и попа еще не играет в художника. Искусство пока еще есть некая привилегия. Эстетический вызов «зоону поликону» еще возможен. Готфрид Бенн – классик, потому что охраняет рубежи.
После смерти
Леонид Добычин (1896–1936)
«Литературная Россия», 18.02.2011
Его тело выловили в реке. Он стал мертвым. Он стал как вещь, вещая вещь, принадлежащая другим вещам, вписанный в один из рядов перечислений, суть которых коренится в бытии. О, эти ряды, из которых шаг за шагом так магически выстраивается стиль его прозы! Литература двадцатого века вписывает его в один из первых. Его новаторство неоспоримо. Но со славой при жизни он так и не встретился. "Благородство его было режущее, непримиримое, саркастическое, неуютное… Он был зло, безнадежно, безвыходно добр. Он существовал в литературе, ничего не требуя, ни на что не рассчитывая, не оглядываясь по сторонам и не боясь оступиться" (Каверин). Вот почему он с ней так и не встретился тогда, в тридцатые.
Мертвые знают свои тайны. Подобно умершему, маг замирает в магическом акте. Добычин не был холоден, не был горяч, и он не захотел остаться теплым, он знал, на что шел, выбирая медленное магическое умирание, которое исследовал в богооставленном человеке, единственная гордость которого в том, что не стал старой послушной христианской овцой, как не стал и овцой новой, советской. Ему в удел было назначено заурядное человеческое бытие, но как художник он сумел извлечь из него свою магию. Подобно Гоголю он собирает свои мертвые души, и стекла, через которые он смотрит, равно волшебны.
Добычин – писатель, рождающий свой новый стиль, и в этом его скрытые претензии к вечности. Его тексты поражают колоссальной конденсацией энергии. Его можно назвать одним из предтеч энергетической культуры конца двадцатого века. Лаконично насыщая свои ряды перечислений – почти фотографические подробности, факты, реплики персонажей, мелкие детали быта… – уравнивая их в их бытийственности, Добычин, оставаясь предельно искусственным, модернистским писателем, неожиданно и дерзко достигает сверхреалистической полноты, порождая из хаоса принципиально новый информационно-магический хронотоп. Замкнутый в своей прозе в основном на внешнее пространство (так редко у него встречается "подумал", "захотел", "почувствовал"), фиксируя реальность с предельной точностью, проводя своих героев через магию встреч и невстреч, а свои, на первый взгляд абсурдные и случайные филологические ряды через скрытые кармические законы причины и следствия, Добычин из мелких фотографически жизненных знаков набирает свою целостную матрицу, свой виртуозный механизм (по профессии он был инженером-технологом), который вдруг чудесно оживает, питаясь эстетической болезнью читателя и его, читателя, катарсируя, избавляя от виртуальных архетипов тоски, одиночества, страдания. Чудесные куклы его текстов, его вещи движутся в мире предельно объективированных подробностей. Здесь нет претензии на стиль в набоковском смысле этого слова, здесь нет и заражающей психологической субъективности Чехова, фразы Добычина лексически просты, монотонны по ритму, художник исчезает, гипнотизируя читателя, оставляя его один на один с бытием как оно есть, и так вычитая его человеческие неудачи, пусть хотя бы и в выдуманном специально для него, читателя, пространстве. Время чтения здесь часто можно уподобить и времени рассматривания, оно почти не движется, вещи Добычина действительно чем-то похожи на картины (жанр) и в данном случае это не избитая метафора, а скорее аналогия. Собранные из отдельных слагаемых-фрагментов, отдельных моментальных сцен, в которых так лаконично и характерно прорисован каждый персонаж в своем социальном и интимном жесте, его тексты и в самом деле чем-то напоминают остановленный кинематограф жанровой живописи.
Леонид Добычин написал немного, два сборника рассказов и небольшой роман "Город Эн" о мальчике-подростке, так и не нашедшем ни друга, ни возлюбленной, ни Христа (сквозное, через все повествование "ноли ме тангере" – "не тронь меня", – подпись под картиной с Христом в простыне и девицей у ног его), о маленьком ироничном хроникере, несостоявшемся Чичикове, который в финале обнаруживает свою близорукость и надевает очки, чтобы вместо несбывшегося увидеть "узор из гвоздей на калитке", которую столько раз отворяла, проходя мимо, мечта. Чтобы увидеть, когда станет еще темнее, и звезды на небе и их лучи, которые были всегда и которые остаются с нами и после нашей смерти.
Леонид Добычин мертв, да здравствует Леонид Добычин!
Принцип Мальдорора
К 141-й годовщине со дня смерти графа де Лотреамона
«Частный корреспондент», 24.11.2011 г.
Мальдорор – бог. Ибо кто же еще может утверждать, что он жил всегда, перевоплощаться, принимать разные обличья, совокупляться с акулой, вошью и вступать в схватку с самим Творцом? Мальдорор – злой бог. Неисчислимы его злодеяния против рода человеческого. Он отвергает любовь, предает своих друзей, насилует и убивает невинного ребенка, вступает в противоестественные связи, коварно умерщвляет тех, кто хотел бы верить в него. И при этом Мальдорор не отождествляет себя с Сатаной. Скорее он – сам принцип негативности, последний постулат свободы, отвергающий закон человека и его Творца. Или, выражаясь на языке нашей психоаналитической эпохи, Мальдорор – это принцип воображения, стремящийся взять верх над принципом реальности. Мальдорор как последний бастион человека пишущего, для которого бог является через слова. Но чтобы написать Песни Мальдорора надо не просто «оторвать голову своей совести», надо суметь и самому отомстить себе за это право, надо и самому себе растерзать грудь, ведь такие песни пишутся «на смертном одре».
Сейчас уже не так важно, кем был Лотреамон в действительности. Его след, след его кометы важнее для нас его личности, скрывающейся под псевдонимом некоего графа Лотреамона, о которой нам, впрочем, кое-что известно: малоразговорчивый, стремящийся к уединению молодой человек по имени Изидор Дюкасс, чья мать умерла, когда ему исполнилось всего полтора года. Для нас важнее, кто есть и кем будет Лотреамон в своих последующих воплощениях. И если он вновь появляется сейчас – как принцип, ищущий своего автора и своего персонажа – и если уже сейчас он расправляет где-то свои крылья, то какой облик принимает он на этот раз, чтобы снова сразиться с Драконом, порождающим эту реальность?
Легче всего проинтерпретировать Мальдорора психоаналитически, и тем самым попытаться уничтожить его. Но иерофантов интересует остаток, не сводящийся к фрейдистской матрице, не укладывающийся в ее прокрустово ложе, остаток, вечно грозящий обывателю новыми трепанациями, а нас, почитателей Лотреамона, вдохновляющий на новый смех и новую серьезность в преодолении навязываемых нам границ. Проблема, конечно же, не нова, но, возможно, она даже глубже, чем нам кажется. Первым об этом заговорил Ницше. Почему знак репрессивен сам по себе? Почему он всегда вырезается на теле, и не сначала ли на теле человека, а потом уже ноуса? И не тогда ли, когда он трансформируется в символ, он проявляет свою зловещую природу до конца? Не потому ли и Лотреамон (современник Ницше) прежде всего борется с Богом как с первым и последним из символов, оскверняя Его имя, всячески издеваясь над Ним и унижая Его? Опрокинуть Закон в его трагической неслучайности, не это ли есть тайная цель Мальдорора и его автора? Восстановить произвол того, «другого Отца», вечного соперника Творца этого несправедливого мира. Вот здесь и появляется фантазм – океан и обитель, плодоносное чрево, материнское лоно, откуда рождается психотическая реальность в противовес «реальности реальной». Вот кредо Лотреамона и всех, кто пошел по его стопам – сюрреалистов, дадаистов, нигилистов… Антонен Арто попытался высвободить имманентный принцип безумия из воображения героя и переселить его в свое тело. Но и это не было последним из испытаний. Венский художник-акционист Шварцкоглер отрезал кусочки от своего члена и посылал их себе по почте. Метафора художника, не согласного с этим миром становится все радикальнее и, рано или поздно, ему не остается ничего, кроме ритуального самоубийства (Рудольф Шваркоглер выбросился из окна).
Но что же делать художнику сегодня? Возможно ли, по-прежнему линейное восхождение принципа священного зла и в чем новый виток его спирали? Ведь тайная задача это всегда – превзойти. Мы ждем художника-убийцу? Увы… Мы бунтовали против этого мира – мы получаем виртуальность и Интернет. Опутанные облаком коммуникаций, легко трансгрессирующие в любые смыслы, отныне мы предоставлены самим себе. Чистое искусство давно уже смешивается с политикой. Да, мы еще можем выйти на демонстрации, но кто и во имя чего их организует, вероятно, останется вещью в себе. В лучшем случае «бархатный терроризм», в худшем порча музейных объектов классики. Тезис «Искусство как преступление» скомпрометирован социальными мотивациями.
Но не потому ли и Мальдорор никогда не шел до конца, и в его безумных фантазмах всегда находилась тропинка обратно? Не случайно же именно математика – царица всех наук – была его богиней. Он всегда искал в хаосе логику, о чем прекрасно написал Бланшо. Нет, Мальдорор (и вслед за ним его автор Лотреамон) никогда и не посягал на Закон, он издевался лишь над Его знаком, ибо правят именем знака. Церковь есть изначально постмодернистское изобретение. Вот почему Лотреамон прежде всего учит нас игре. Да, игра знаками – проклятый и в то же время спасительный удел. Смех и ирония – столпы его сочинения, в третьей песне пятой строфы Лотреамон говорит об этом открыто. Но быть может, с этого начинается и новая серьезность? С этого ведь начинался и весь европейский роман, первопроходцем которого был Франсуа Рабле, забросавший своим гениальным литературным «дерьмом» властную папскую демагогию. Может быть, это и есть тот самый вожделенный принцип Мальдорора, проявившийся и до своего создателя, и через него, и с неизбежностью воплощающийся и после? А если посмотреть глубже, то что же это за Другой Бог, который устраивает козни священному принципу самодовольной причинности, что вечно оставляет нас под пятой своего неумолимого Закона, имя которому – Деньги, Рассудок, Власть и Этот Бог?
Изидор Дюкасс издал «Песни Мальдорора» мизерным тиражом за свой счет, и книжка даже не поступила в продажу при его жизни. Здесь есть над чем посмеяться и ему самому, если он знает о своей посмертной славе. И мы посмеемся вместе с ним, с нашим вечно юным Лотреамоном. Да здравствует Мальдорор, изнасиловавший спящую девочку, а потом заставивший тоже самое сделать с ней и своего бульдога! Свободу Мальдорору! Конечно же, Лотреамон выставляет свой чудовищный знак, прежде всего, против властного знака существующей везде и всегда моральной полиции. Каждый из нас знает, что никакой Изидор Дюкас никогда не изнасилует ребенка. Да ему и нет нужды совершать это в реальности, раз он уже так легко и по-своему божественно совершил это в воображении, а потом так изящно в этом сознался. Но кое-кто боится слова, потому что вначале было Слово? Уж не это ли было той тайной мыслью Лотреамона, когда он начал свой рассказ? Да и такой ли уж безнравственный? Вспомним, как прикончив одного пловца, Мальдорор спасает другого, которого обыватели с радостью сочли утопленником. А в песне первой, разорвав грудь младенца, Мальдорор разрывает грудь и себе. Проницательный читатель легко меняет следствие и его причину, и догадывается о тайной пружине хода – Несправедливость правит именем Справедливости, Зло – именем Добра. Лотреамон меняет знаки на обратные, он хочет скомпрометировать Знак во имя Закона. И не безумие есть его окончательная цель, а – новая логика. Лотреамон хочет взломать тот бинарный симулякр, который не дает нам вырваться на свободу, не в том смысле, что нам будет позволено все, а в том, что нам позволено свыше не подчиняться силе властвующего над нами лицемерного знака. Лотреамон рассматривает мир через ницшеанскую оптику – вся человеческая история была лишь историей репрессии. И в этом смысле Лотреамон – это и предтеча постмодернистов. Впрочем, речь и не о постмодернизме даже, а речь о воображении как первой и изначально данной нам свободе. Человек, как говорит Батай, это всегда двойное отрицание. Первый раз – как отрицание природы, а второй – как отрицание этого отрицания. Лотреамон просто реализует свою религиозность до конца, проводя эту вторую священную операцию.
Теперь, когда мы знаем, какими принципами движется его воображение, можно попытаться ответить на вопрос – кем мог бы стать Мальдорор как персонаж в своем сегодняшнем перевоплощении? Во-первых, Мальдорор, конечно, и сегодня должен быть преступником, но, во-вторых, он, каким-то парадоксальным образом, должен стать сегодня и антипреступником, потому что преступником в своем воображении является уже каждый из нас, а Мальдорор как знак – прежде всего убийца знака репрессии.
Наша фундаментальная проблема – это насилие, имманентно присущее человеческому роду. Коллективное ли насилие именем индивидуального или наоборот – суть одна. Мальдорор же – не социальный индивид, он призывает быть личностью. И если общество теперь Бог, то к черту и общество.
Статьи
Последняя территория
Ex Libris, 15.01.2009
Мы живем в странное время, мы живем во время неестественное. Мы давно уже не приспосабливаемся к природе, а изменяем ее под себя и, более того, откровенно ей навязываемся. А под незаконно приватизированные нами ценности выдаем ложные векселя. Человеческое сообщество тоже в известном смысле природа, в которой наша символическая вертикаль позиционирует себя как власть. В нашу эпоху она проявляет себя в форме спекулятивно-финансового капитала, который, однако, сегодня на наших глазах претерпевает жесточайший кризис. Машина фондовых бирж останавливается, и ее ценностные детали превращаются в пустые бумажки. С неизбежностью этот кризис затрагивает и сферу капитала символического. А на этом поле волей-неволей действует уже и «мыслительный субъект» – писатели, художники, философы и ученые. По идее, задачей этого «субъекта» было бы использовать кризис для освобождения хотя бы от части ложно выданных символических векселей. Но сумеет ли «субъект» это сделать – на самом деле большой вопрос. И увы, нет никакой гарантии, что новые Ротшильды и Рокфеллеры от культуры не увеличат в результате кризиса свои символические состояния в десятки и сотни раз, что симулякр снова не раздует свой знак за счет означаемого.
Спекулянтов от культуры гораздо больше, чем кажется. Их легко отличить по тому, как они выстраивают отношения и с производителями культурного продукта, и с его потребителем, и, конечно же, прежде всего между собой – как они обмениваются услугами, как они составляют карту «своих» и как незаметно возводят «свою» Систему. Здесь есть определенные коды, и в них нет ничего таинственного. Обычные капиталистические коды извлечения прибыли, на этот раз символической. Характерно, что пазл симулякра составляется здесь с такими необходимыми предикатами, как «общественный», «социальный» и т. п. Ведь симулякр обязан светиться заботой о многих. «Гражданское общество», «народ» или «нация», «революция», «демократия», «социализм» – не все ли равно. Важна прежде всего апелляция к коллективному, к множественному, это – незаменимая составляющая власти. Человека в этом пазле давно уже нет, есть лишь член общества, вовлеченный в социальные связи, индивид с навязанными ему проблемами. «Алхимическая» свадьба с общественностью – вот миссия и источник прибыли спекулянтов от культуры. И не важно, что их знаки не обеспечены реальной стоимостью их товара, потребительская масса давно уже приучена к векселям. К сожалению, навязанный спекулянтами закон, выстроенная ими система циркуляции культурных потоков втягивают в свою орбиту и изначально неангажированных субъектов производства культурного поля. И первой жертвой здесь становится литература.
Писателя сегодня, как никогда раньше, увлекают пляски с общественностью. Его самость подменяется рефлексией на социальные и политические события. Так называемые художники слова упиваются газетным языком, ангажированным то «антисоветским», то «советским», то снова «антисоветским» пафосом. Литература сегодня обожает публицистику и журнализм, и во многом она ими и подменена. Изображение современной жизни в тоннах подробностей, обильно приправленное ходульными социологическими обобщениями и нравственными проповедями, ныне превозносится как «реализм». В противовес ему клубится «мистицизм», активно реализующийся в жанре социальной фантастики. И с «неба», и с «земли» растут и расцветают векселя. Оно и верно, иначе ведь и не заработать сегодня того самого символического капитала, который потом так успешно конвертируется в роялти от тиражей или в литературные премии (раздаваемые, кстати, как правило, все теми же литературными спекулянтами и коррупционерами). И наплевать, что навязанная читателю таким образом «литература» лишь выворачивает наизнанку его внутренний мир и подменяет его самость социологическим или же мистическим вторсырьем, отчуждая от бессмертной, изначально данной ему свободы.
По идее, кризис символического должен бы прежде всего разрушить именно этот чудовищный симулякр, прежде всего должны бы быть девальвированы составляющие его спекулятивные знаки, не обеспеченные онтологическими ценностями литературы – ее словом и синтаксисом. Оставляя на будущее разговор о мистицизме, я хотел бы заметить, что далек от мысли спорить с тем, что литература сегодня не должна отражать феноменальный мир с его постоянно меняющимися реалиями. Но, к несчастью, она теряет смыслы отражений, когда последние структурируются только вокруг фактов. Как говорила Вирджиния Вулф, если вы хотите сделать длительным некоторый момент мира, вы должны сохранить только его насыщенность, «включить в этот момент абсурд, факт, грязь, но доведенные до прозрачности». Характерно, что к факту, которому, кстати, здесь отводится второе, а не первое место, добавляются абсурд и грязь. Оно и понятно, писатели прошлого, на которых имеет смысл оглядываться, прежде всего открывали новые реальности как всю полноту ощущений. И именно это возводило их литературу в ранг художества.
В своей работе «Что такое философия?» Делез и Гваттари разделяют и обособляют мыслительный план художника от мыслительных планов философа и ученого. Они пишут, что эти «три вида мысли пересекаются, переплетаются, но без всякого синтеза или взаимоотождествления». Однако «между этими планами может образовываться плотная ткань соответствий». Классическая русская литература представляет собой, пожалуй, наиболее яркий пример таких соответствий и в каком-то смысле даже резонирующих синтезов, ведь она репрезентировала собой также и русскую религиозную философию. Наиболее ярким примером является, конечно же, творчество Федора Михайловича Достоевского. Но в контексте этой небольшой статьи мне было бы сподручнее опереться на фигуру Льва Толстого. Я хотел бы обратиться к последнему периоду его творчества. Мировоззрение писателя претерпевает здесь довольно странную метаморфозу. Зрелый Толстой начинает разочаровываться в гражданских институтах, отрицать роль государства, у него возникают конфликты с Церковью. Этот отказ от социальности, давно уже назревавший в его душе, проявлял себя и раньше, но теперь эти настроения становятся доминирующими.
Возьмем, к примеру, повесть «Смерть Ивана Ильича», где, собственно, социальное в лице члена Судебной палаты Ивана Ильича Головина и умирает. В этом произведении по-прежнему резонируют оба плана мысли – художественной и философской. Последний представлен здесь столь важным для русской православной религиозности концептом умирания и смерти. Есть, кстати, и отсылки к «третьему плану» – к научным знаниям тех времен, например, из анатомии – «усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого». Или даже из ньютоновской физики – Иван Ильич сравнивает свою жизнь с падающим вниз камнем, она летит все быстрее и быстрее, «обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти». Но прежде всего это гениальное произведение поражает, конечно, своей художественной мощью – рисуя, оркеструя, вылепливая никчемную и абсурдную историю жизни социальной личности Ивана Ильича в сравнении с ужасающей и необъяснимой безжалостностью его умирания и смерти. «Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни за чем. Дальше и кроме этого ничего не было».
Поразительно, что именно крах, аннигиляция и распад социального порождают в этом произведении невиданную палитру новаторских художественных средств, которые буквально на глазах сотворяет здесь Толстой. Если в романе «Анна Каренина» он открывает то, что позднее было названо методом потока сознания, то в повести «Смерть Ивана Ильича», на мой взгляд, можно услышать чуть ли не всю интонационную основу западной литературной традиции модернизма, ту особенную синтаксическую музыку, которая порождает и персонажа, и сюжет. Чтобы не быть голословным, приведу несколько конкретных примеров. «…Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти». Чем не Кафка? Разве это и не про Грегора Замзу? Или взять препирания Ивана Ильича с доктором и роль доктора как судьи – чем не кафкианский «Процесс»! А вот разговор Ивана Ильича со слугой Герасимом: «Тебе что делать надо еще?» – «Да мне что ж делать, все переделал, только дров наколоть на завтра». «Так подержи мне ноги повыше, можешь?» – «Отчего же, можно». Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли. <…> С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним». Ну прямо отрывок из пьесы Ионеску. А вот о жене Ивана Ильича: «Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему – то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, – и не могла уже снять этого отношения к нему». Чем не Макс Фриш? А вот и грядущий Пруст: «Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки…» А вот напоследок и Джойс: «Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мучение. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек».
Вот оно, неподдающееся коррозии золото синтаксиса и слова, чей чистый блеск способен заворожить читателя, даже если автор позволяет себе описывать испражнения умирающего. Кстати, эта повесть и религиозна в каком-то высшем надконфессиональном смысле. Имя Христа Иван Ильич называет лишь один раз, почти в конце, да и то в обороте «ради Христа». А в приведенной выше цитате с внутренним голосом больше даже чего-то буддийского, дзенского, чем христианского. Резюмируя посыл этого выбранного мной примера из творчества позднего Толстого, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что именно смерть как кризис всех кризисов освобождает самость от проклятия социальности, а само обращение к этой теме порождает подлинное искусство. Это особенно актуально и сегодня, когда на наших глазах созревает поколение разуверившихся, да и те, кто только вступает в жизнь, выбирают своим кредо фрустрацию, взять хотя бы «эмо».
В наше время писатель и философ довольно редко интегрируются в одном лице. И потому художнику, который хочет сохранить самость и передать свои импульсы читателю, довольно естественно обратиться за подсказкой к философии. Понаблюдать, как и что именно конструирует она сегодня в качестве адекватных современности концептов. Конечно, прежде всего художника должен занимать поиск некоего резонанса интуиций, чем, собственно, прямых и директивных указаний, какие из концептов нужно превращать в сюжеты и персонажи. Искусство, как известно, не терпит схематизации и плодотворно скорее в точках сопротивления предначертанным путям.
С конца прошлого столетия Россия катастрофически втягивается во все прелести общества потребления, и к нашим исконным национальным бедам добавляется еще одна интернациональная капиталистическая беда. Пожалуй, эта «вторая» беда даже не добавляется, а буквально врастает в «первую». Тоталитарный бюрократ, с одной стороны, и капиталист, с другой, образуют нынче демоническое подобие двуглавого российского орла, которое стремится окончательно поработить русского человека. На наших глазах вырастает чудовищный Эдипов симулякр, где несвобода и порабощение инвестируются в человеческую самость на фундаментальном уровне и потенции бессознательного поля желаний кастрируются обществом, все более и более апеллирующим к параноидальному полюсу власти, причем не обязательно государственной. Скорее капитал принимает ее форму, чем она выступает сама по себе. Прежде всего важна власть коллективного над личностным. Эти капиталистические «дары» давно уже проанализированы на Западе, и, наверное, наиболее ярко во Франции, и я не случайно уже упоминал имена Делеза и Гваттари. Характерно, что пути ускользания от повсеместно навязываемого дискурса власти французские философы находят прежде всего в искусстве. Искусство как последняя территория, где «желающие машины» творческого бессознательного могут действовать без оглядки на параноидальные иерархически выстроенные общественные системы. И наше русское бессознательное, и наше русское сознание с его открытостью ко всем культурам, с его синтетичностью, с его сверхнациональностью не могут не откликнуться на этот призыв. Но нам нужны наши, русские Делезы, способные разыскать и растормошить в складках нашей литературы новых русских Арто, Лоуренсов и Генри Миллеров. Чтобы наши новые футуристы, сюрреалисты, модернисты, антипостмодернисты и метафизики с новыми силами атаковали навязанную нам «реальность». Пора кончать с Эдиповым ханжеством политизированной и морализирующей отечественной словесности и освобождать русские «желающие машины». И разве кризис символического капитала не лучшее время для прорыва?
Метафизика противоречий
Альманах «Волшебная гора», XVI, 2012 г.
Что такое современность? Можно ли дать исчерпывающий и объективный ответ на этот вопрос? Конечно же, нет, потому что каждый из отвечающих будет бить в набат со своей колокольни. Вот и мы раскачиваем язык своего и только своего колокола, а потому заранее попросим прощения за свою колокольню.
Как и многими, нами движет чувство неудовлетворенности, что к единому ответу на данный вопрос прийти нельзя. Мир запутался в противоречиях и, похоже, что они неразрешимы. Каждая точка зрения в корне противоречит другой, прошлое в конфликте с настоящим, и будущее наследует эту ссору. Каждая из парадигм вырабатывает свой язык, свой инструментарий, и по-своему объясняет нам то, что происходит «на самом деле». Но на «самом деле» это – лишь попытка заковать наше противоречивое мироощущение в ту или иную систему. И, по сути – не более, чем интерпретация. Чем одна метафизическая система хуже или лучше другой? И какой из них доверять? Чем Хайдеггер хуже или лучше Рене Генона? Как найти адекватное метафизическое «да» (или «нет») к своей «конкретной современности»? Мир и в самом деле меняется, и чем дальше, тем стремительнее. Похоже, что мы живем уже где-то на пределе, где смешивается все и вся. Недаром новейшая французская философия откровенно начинает танцевать от категорий хаоса и безумия. Апокалиптические времена. Стивен Хоукинг не зря предсказал «черные дыры». Кстати, он говорит, что здесь, на Земле человечеству осталось существовать не более ста лет. Неужели же мы так и не сможем договориться?
Классическая метафизика располагает себя «за» физикой. Это «за» всеобъемлюще, оно претендует на универсальность. Ее категории – Сущность, Бытие, Ничто… Не прислушаться к критике современного мира классическими традиционалистами – признак ограниченности. Рене Генон и Юлиус Эвола говорят горькую правду о нашем царстве количества, о путях нисхождения Абсолюта. Но с другой стороны – разве не ту же правду проговаривают и постмодернисты, те же Делез, Деррида, Бодрийяр, только – с другой точки зрения? Рассуждать о постмодернизме и традиции стало уже банальностью. Поэтому, мы не случайно начали этот пассаж с упоминания физики. Ее язык более образен и его легче использовать как метафору, чтобы определить горизонты того, что мы хотим сказать. В самом деле, стоит ли вводить новые дефиниции, стоит ли засорять этот и так уже переусложненный знаками определений язык, стоит ли конструировать «новый метафизический»? Итак, для наглядности – физика, то, что «перед». В классической Ньютоновской было все ясно – абсолютное пространство, абсолютное время, задайте координаты и скорости всех частиц системы и вы будете знать о ней все и всегда. Иное дело физика квантовая – физика малых и больших пределов, огромных скоростей. Здесь никогда ничего нельзя узнать «о мире» точно. Чем точнее мы узнаём что-то одно, скажем, координаты частиц, тем меньше знаем об их скоростях. Один и тот же мир элементарных объектов может предстать перед нами то в качестве коллектива частиц, то в виде суперпозиции волн. В зависимости от того, как «посмотреть», с какой «точки зрения». Но разве быть и частицей, и волной в одно и тоже время это – не полное безумие? Чем дальше в лес, тем больше дров. Современная квантовая теория поля зиждется на механизме спонтанного нарушения симметрии: из множества возможных миров (физических вакуумов) мы спонтанно попадаем именно в этот конкретный мир. Но память о других, «параллельных» мирах остается, собственно ее-то сейчас и ищут на большом адронном коллайдере (в виде частицы Хиггса). Есть также и странные объекты, живущие одновременно в принципиально разных несовместимых мирах (в разных физических вакуумах), физики называют такие нелинейные объекты солитонами. К чему все это, спросит читатель? Какое это может иметь отношение к метафизике и тем более к Традиции? Ответим, наша цель – донести до читателя мысль о том, что мир, наше знание о нем, представление, опыт – называйте, как хотите – реальность, иллюзия… принципиально противоречивы. И, возможно, наше спасение от безумия – попытки конструирования той или иной системы. Но разве нельзя по другому приобрести хоть какой-то иммунитет к этой неразрешимой противоречивости? Метафизика противоречий – может быть, и так можно было бы сформулировать наш концепт. Разве и не над этим трудился Рене Генон, когда размышлял над Традицией во всеобъемлющем, внеконфессиональном смысле этого слова? И разве не над этим думали и философы-постмодернисты, когда вводили оператор трансгрессии, который, согласно определению Фуко, означает «прохождение непроходимого предела»? Жесткое отождествление с той или иной системой односторонне и губительно. Нам скажут – во всем «виновата» бинарная логика. Но ведь помимо Аристотелевской «да; нет» есть еще и буддийская с ее «да; нет; и да, и нет; ни да, ни нет», есть и другие многозначные логики, в математике впервые исследованные Лукасевичем.
Мы должны договориться через «непроходимый предел». В контексте этой небольшой заметки для альманаха «Волшебная Гора» я имею ввиду авангард и традицию. Разве «богохульства» юродивых оскорбляли веру? Разве Хлебниковские «смехачи» разрушали русский язык? Пикассо мог одновременно писать и классицистские картины, и разъятые через призму кубизма. А ненормативная лексика Пушкина – разве это не живое язычество посреди христианского мира? Почитайте эссе Деррида о Левинасе, величайшем религиозном философе, и вы поймете, насколько религиозен и сам постмодернистский философ Деррида. А ведь его сплошь и рядом предавали анафеме за «деконструкцию». Доколе будем укладывать в прокрустово ложе «живую религиозную жизнь»? Разве фаллос, например, не есть, прежде всего, религиозный символ? Сколько можно идти прямолинейными путями (бинарными логиками)?
Надо возвращаться к началу и одновременно – к концу, к тем таинственным «точкам», где все было (будет) дано «сразу», где все было (будет) дано во всем. Называйте, как хотите: Начало Творения, Биг Бэнг, Апокалипсис… Но помните: там были (будут) другие законы, данные поверх наших противоречий. Наш мир задумывался по-другому и исходя из другого. И эту память о другом (быть может, как ту же Хиггсовскую частицу) нам еще предстоит найти.
Записки конформиста
«Лимонка», № 121,1999 г.
А ведь и ты знал, чем это кончится, не ври, знал. Что же, упивайся теперь своей мудростью – «из двух зол…» И ещё – «деньги не пахнут». Ещё как пахнут, прямо-таки разят дерьмом, потому что каждая сука теперь выкупает свое дерьмо и, если и платит тебе, то как бы не за труд, а за то, что она, эта сука, тебе всё-таки платит. Ну и что же теперь? Терпи. А иначе – лагерь, лагерь, лагерь, лагерь… Ка-Гэ-Бэ. Помнишь Сталина? У-уу. Расстрел! Агитка для дебилов. Все попы читали Евангелие. Вашу мать! Фарисеи. А теперь – рвать, рвать, рвать – на Канары, на Цейлон, в Америку… Замолим в Большом Доме. Они там пусть, яйцеголовые, разбираются, что первично, а мы – рвать! А если надо подкинем «зелененьких», вместе, разумеется, с дерьмом, чтобы было всё о'кей и даже – олл райт!
А фиг вам! Олл райт… Я читаю «Лимонку», я – демократ-идеалист и идеалист-демократ. Довели, гады! Но и у меня ещё сохранилось кое-что, от чего вы отрезали и отшелушили слово. Вот почему и я пишу вам теперь крупными буквами ХУЙ! Не чтобы позлить какую-нибудь ханжу из «толстого журнала», которая пересидела все режимы, которая всё равно меня не печатает, а чтобы все знали, что лично я (а счёт всегда идёт на «лично») – против.
Нет, даже нам, конформистам, не место под вашим солнцем. И нам не о чем с вами говорить. И даже фраза – «Кто не хочет умереть от жажды, тот должен уметь напиться и из грязного стакана» – не для вас, а для нас! А вот масскульт и ханжество – ваша судьба. А убивать и убивать плохого читателя, казнить и казнить вашу норму – наша литература.
Фюрер Эдик! Как хорошо, что ты задумал сыграть им Гитлера. Кто же их одернет еще, как не ты? Они сами тебя растят, не оставляя нам надежды. Чем ещё им пригрозить, как не смертью, как не гильотиной, не топором?
Думайте, суки, куда вы тянете Россию, пока вам Дугин с Лимоновым не накрутили хвосты!
Пока не поздно, я буду покупать эту газету, чтобы знать, о чем думают те, кто младше меня на двадцать лет, о чем думал и я, когда смотрел те же годы назад лучшие фильмы Антониони и ещё «Беспечного ездока», и ещё… А о чем писали Хемингуэй и Фолкнер? Нет, они не были за ваш поганый капитализм, как не был за него никто из них – ни Кафка, ни Генри Миллер. Нет, они все знали цену тем, кого называли Сноупсами. Вот сейчас, вот сейчас, с пеной у рта кто-то закричит мне, что и Фолкнер и Хемингуэй воевали против фашизма, и призовет ещё и другие славные имена. И начнется – жонглирование ярлыками, профанация и попса. Да успокойтесь! Дело не в фашизме. «А в чем? В чем дело?» – перебьют, подкрикнут сразу артистичные постмодернистские жанровики, пользуясь тем, что давно уже ничего нельзя назвать серьезно в этой сумятице и каше, еще и потому, что за всем – тома библиотек, тысячелетия и, по гамбургскому счету, смерть… Эх, православные, эх, буддисты… «Что же делать?» – засмеется Чернышевский в гробу. «И будет прав», – снова поддакнет какой-нибудь модный заправила литературных игр. Бог с ним, речь же не на словах.
Речь на ножах, когда всё же хочешь назвать и услышать. Речь как топор, отсекающий голову Пугача и как сама его голова с выпученными глазами, его – Пугача, проклятья и славы России. Назвать и услышать, зная, с чем ты имеешь дело, «играешь» – слово для тех, кто порасчетливей, послабей.
Куда же вы, суки, толкаете нас? И что есть эта страна? И что те, из «Лимонки»? Сейчас им делает честь, что они в подполье и, отстреливаясь, называют вещи на отмашь, своими именами – власти по щекам, по щекам. Сейчас. А что будет потом, если они сами придут к власти? Я хочу это знать. Где гарантии, что не поднимется новое быдло из ментуры и слесарей и что вместе с книгами не будут жечь и нас, конформистов? Юлиус Эвола и Рене Генон – классные авторы. То-то фашисты закрыли журнал «Ля Торре». А смерть? Тоже классное слово.
Тебя ещё хватит – купить у метро «Лимонку» и прочесть её с начала и до конца, ведь ты никуда не будешь вступать, ни в какую партию, и выборы – слава Богу – не завтра. Ты поедешь в какой-нибудь старый толстый журнал или новый глянцевый тонкий (а они не лучше, ведь власть портит всех) и, скрывая за доброжелательным выражением лица отвращение ко всей этой карьеристской сволочи, тайно верящей в доллары и в «Москва слезам не верит», заберешь свои опусы, чтобы какая-нибудь редакторша со своим гусиным литературным вкусом не слетела со своего скользкого стула. И скажешь про себя: «Будьте вы все прокляты!» И мрачно возвратишься домой. «Попы хотят гармонии», – скажешь сам себе и усмехнёшься, вспоминая её старое толстое (или дисгармонично новое тонкое), как жопа, наглицериненное лицо, и её умные, где-то вычитанные, фразы про Набокова, твоего же любимого – бля! – писателя… Что же нам делать, Владимир Владимирович?! Исчезнуть в персонаже и остаться в книге? О Цинциннат, о Гомер, о не Ахилл…
Но завтра ты снова пойдешь к метро, чтобы купить «Лимонку» и прочесть, упиваясь своим элитарным бессилием и своим конформизмом. Как эгоист (только как эгоист – ха-ха!), казня себя, что не ты, жаль, что не ты подкладываешь эту бомбу, чтобы твое имя славой разлетелось на всю Россию, чтобы кривились в салонах и кадили, не говоря вслух, но зная, что про него написал и Бродский. Смерть поэтам! К барьеру, Лермонтов! Почему бы не сознаться, что и ты все же симпатизируешь ему? Пока он не настроил для нас тюрем, от которых мы уж тогда, наверняка, все побежим в Чикаго, почему бы пока, черт возьми, и не сказать ему – браво?
Браво, Лимонов, что ты один из всей нашей карьеристской писательской сволочи угадал, куда это всё катится!
Памяти Мамлеева
Интернет-журнал Rara-Avis, 09.11.2015
Он часто говорил о смерти. Удивлялся ей, пытался разгадать. В отзвуках этих мыслей и Федор Соннов, и Анатолий Падов – главные герои его «Шатунов»; за ними Глубев с ранней мамлеевской религией высшего «Я», рядом куротруп Андрей Никитич, пародия на православного христианина. «Шатуны» – бессмертный роман, как «Преступление и наказание». Но «Шатуны» – и более того – оправдание преступлению. На это мало, кто способен. На это может поднять руку только Художник.
Мамлеев явился на сцену вовремя. Когда стало вдруг ясно, что мы не можем понять этот мир, и что никакая философия и метафизика нам не поможет, ни Хайдеггер, ни даже и Рене Генон, Мамлеев вдруг вызывает из небытия поэтический, художественный образ метафизики в действии. Он словно бы догадывается, что если нельзя напрямую использовать схоластические метафизические наработки прошлого, то это еще можно «продлить» и даже «преодолеть» в языке. И со всей мощью своего оригинального дара он показывает нам эти метафизические силы, которые, превозмогая эту реальность, откровенно хохочут над всеми нашими о ней представлениями – как в плане моральном, так даже и в символическом. Мамлеев показывает нам то, что нельзя доказать. Он способен найти адекватный веселый язык. Его гений в том, что он еще раз, вслед за классиками говорит нам о том, насколько глубоко, насколько неотъемлемо эти метафизические силы связаны именно с искусством; он еще раз напоминает о том, что образ гораздо глубже и действеннее любой мысли. Есть некое, присущее философам заблуждение, что именно мысль ведет «в глубину», а образ располагается «на поверхности». Увы, мысль скована световым логическим законом, и издревле она является наипервейшим оружием воина и охотника, посылающих стрелу. И в этом ее предназначение. Образ же ведет в темноту, в наше непонимание вещей, в отказ от понимания во имя преклонения перед богами. Образ – порождение ночи, темного бесконечного пространства между звезд, где только и возможны их предсказания, где еще нет неумолимого в своей бесстрастности солнечного света, того, что определяет очертания нашего дневного «твердого» мира. Образ иллюзорен, он может создавать и новые созвездия, по-новому выбранные из старых звезд. Что образу расстояния? Он может сравнить все со всем. Он ближе к ничто истины, он способен выдавать себя за любое ее нечто. Образ, прежде всего, – Великий Обманщик. И Мамлеев – адепт Великого Обмана. Это не принижение его роли, а, напротив, – дань признания. Он был адептом метафизической игры, он был метафизический игрок. Это была очень опасная игра, за которую некоторые платят и безумием, достаточно вспомнить Гёльдерлина, Ницше. Но Мамлеев рискнул и… сыграл. Роль метафизического художника и артиста превозмогает любую роль философа.
На эту бездарную безбожную сцену под названием современность наш русский писатель Юрий Мамлеев вдруг выкатывает старинное артиллерийское орудие, орудие на первый взгляд бутафорное, в лучшем случае музейное, в худшем – безнадежно устаревшее (если внимательно вглядываться, как и из чего оно сделано). Но Мамлеев вдруг делает из него такой яркий, такой оглушительный, такой точный и блестящий выстрел, что попадает сразу в самую сердцевину нашей тоски – по Абсолютному и Божественному. Мамлеев наглядно показывает нам, что эта реальность – всего лишь бледная копия, что нет смысла цепляться за нее и ее превозносить. И вслед за ним, вслед за дерзновенным художником, теперь и мы имеем полное право над ней хохотать.
Книга открывает книгу
Вступительная речь на открытии Международной книжной ярмарки на Балканах (г. Херцог-Нови, Черногория, 24.07.11)
Добрый вечер дамы и господа, уважаемые коллеги и друзья.
Сегодня прекрасный вечер, не правда ли? И мы все чувствуем воодушевление. Там, ближе к морю, поднимаются стены старого города. Он много чего повидал. Одни герои защищали его стены, другие их штурмовали. Принцессы ожидали своих принцев, а принцы искали своих принцесс. В перерыве между войнами шла обычная мирная жизнь с ее каждодневными радостями и огорчениями. И всему этому было свидетелем море, чьи просторы я хотел бы сейчас уподобить страницам открытой книги. Наверное, эту книгу можно было бы назвать книгой бытия. Наверное, это не случайная метафора – книга бытия – и не я, конечно, ее выдумал. Стоит, однако, задуматься, насколько она фундаментальна. Эта метафора говорит нам о том, что вся наша жизнь, вся наша любовь, все наши мысли, теории, духовные прозрения, рассказы о том, что мы повидали, все это может быть представлено в книге. «Вначале было Слово», – говорит Священное Писание. Через слово рождается человек, рождается его смысл, рождается цивилизация.
Каждая книга творит своего читателя. Она тревожит его, заражает своей страстью, она открывает ему миры его воображения, где он обретает себя как путешественника. Но она порождает также и его неутоленность. Прочитав ее до конца, читатель уже снова собирается в дорогу. Так книга отправляет на поиски другой книги. Так книга порождает книгу. Так она продолжает жить. Ее тайна, конечно же, кроется в языке. Язык – наша человеческая природа – не может остановиться, ведь он и есть наше человеческое время. Ассоциации цепляются за ассоциации, смыслы провоцируют на поиски новых смыслов; любая мысль, изолированная в своей ограниченности, ищет разрешения своих противоречий в новой мысли. И все это посредством слова, посредством языка.
Увы, сегодня мы окружены экранами, со всех сторон нас все больше настигает не слово, а картинка – теле, видео или переданная через интернет. И порой нам кажется, что книга утрачивает свою ценность. Но все же это не совсем так. Адепт массового общества, потребитель, конечно же, все больше начинает жить картинкой, особенно телевизионной. Но элита общества, его интеллектуальный авангард по-прежнему остается верен слову. И потому всегда будет оставаться с книгой и будет предан книге. Вот почему всех нас, здесь собравшихся, я думаю, можно уподобить некоему религиозному ордену, своеобразному ордену тамплиеров, ордену храмовников, которым, как известно, предписывалось охранять паломников к Храму Гроба Господня. И подобно им, мы являемся сегодня хранителями Храма Книги. И в этот вечер мы собрались здесь на свой ритуал. Мы присутствуем при открытии мистерии книги, на современном языке этот праздник называется книжным фестивалем. И, я думаю, что неслучайно именно здесь, в этом прекрасном месте, в вашем замечательном городе, где за домами дышит и поднимает свои волны вечное море, та самая книга бытия, а к его берегам, к ее страницам, нисходят горы, олицетворяющие вершины человеческого духа. Так книга снова открывает книгу. Я думаю, что всем нам стоит сейчас поблагодарить организаторов этого праздника за то, что они удостоили нас чести присутствовать здесь в этом волшебном месте и дают нам возможность высказаться, обменяться словами, мыслями и, конечно же, книгами.
Спасибо!
Рецензии
Коан Годара
Опыт размышления о фильме «Прощай речь 3D»
«Частный корреспондент», 16.07.15
Как будто это фильм обо всем сразу. Как будто Годар задает нам своего рода дзенский коан. «Не просто мысли, и не просто взгляды, речь идет о чем-то большем», – говорится в фильме. Но разгадать коан – это совсем не то, что разгадать ребус или решить задачу по высшей алгебре.
«Будущая мысль уже не философия», – сказано у Хайдеггера. Будущая мысль – по Годару – это искусство кино. И разгадывать коан Годара надо через язык кино – не случайно же оно называется «Прощай речь». В том, как оно, это кино, сделано, и находится ответ – а что же, собственно, с нами происходит. Но для начала стоит совершить «ошибку» и попробовать поговорить – о чем этот фильм. Тогда можно сказать, например, так – это кино о мужчине и женщине. А можно – что это фильм о собаке (недаром же Рокси указан в титрах в главной роли). Можно подискутировать, что это кино о том, как образы и мысли разрушают нашу жизнь. А можно вернуться к дискурсу Руссо – «Назад, к природе!» Можно даже сказать, что это фильм о воде – ее стихия буквально пронизывает собою фильм, – и добавить, что здесь важен концепт протекания: так протекает и время, и жизнь. А можно и обобщить с другой стороны – мол, это фильм о метафизических силах зла, преследующих человека посредством науки («Два великих изобретения – ноль и бесконечность», – говорит герой. «Нет, секс и смерть», – отвечает ему женщина). Можно, наконец, сдаться и сказать, опять же словами героев, что ответ здесь один – Абракадабра, Мао Цзе Дун, Че Гевара… И – самое удивительное – что все это будут правильные ответы. Ведь в фильме, действительно много философских цитат, которыми говорят и персонажи, и закадровый голос. И все они так хитро закатаны в этот аудиовизуальный клубок, что, потянув за любую из них, легко развить практически любой дискурс о современности, рассказать о ней с любой стороны. Но все же «жить или рассказывать?» – спрашивают герои. Годар же, как будто, нашел способ «жить, рассказывая» – вот к чему стоило бы присмотреться. Он, как будто оживил философию, переведя ее в регистр сверхискусства. И, если всмотреться еще глубже, то «жить или рассказывать», – всего лишь одна из дилемм, одна из условностей, которая оказывается преодолимой на путях художества. Каким образом? Не случайно ли в этом фильме собрано так много начал, так много намеков, все, собственно, из них и состоит – из идей и метафор, которые так завораживающе движутся, словно бы по кругу с невидимым неназываемым центром, но уже – «внутри» нашего ментального существования? По Годару мы обречены на ослепленность сознанием. И в этом фильме Годар ослепляет нас еще больше, он ослепляет нас окончательно. Почти любой дискурс вкладывается в это кино легко, скользит и вращается здесь свободно. Но что это за свобода? «Вы отказались от всего, сделайте еще один шаг, откажитесь от самой свободы, и все вам будет возвращено».
С вопроса, о чем этот фильм – начинается наше преследование. Но на самом деле, конечно, это Годар преследует нас, он не дает нам спать, мы же должны разрешить коан, чтобы заснуть спокойно, как после сеанса у психоаналитика. «Что с нами происходит?» – спрашивает персонаж, профессор Девидсон. В фильме, кстати, часто поминается и другой ученый – Франкенштейн. Здесь есть даже целый эпизод, где Мэри Шелли пишет свой знаменитый роман. Франкенштейн выпустил на свет чудовище, собранное из разрозненных частей мертвых тел, которое в результате стало преследовать и его самого. Что же это за образ? У Мэри Шелли монстр был оживлен с помощью некоего двигателя. Но ведь и камеру, точнее проекционный аппарат, можно назвать «неким двигателем», который на сей раз «оживляет» хитро сопоставленные между собою планы, кадры, изображение, звук. И эта «камера-сознание» (термин Хичкока), именно она способна сказать нам нечто большее поверх и персонажей, и рассказанной истории, приблизить к ответу. Итак, а как же, собственно, делается это сверхкино?
Годар шел к ответу давно. Его всегда интересовала условность подачи материала, монтаж как возможность, «неудобство» правил – борьба с кинематографическими клише. Годар мыслил, прежде всего, становление образов и пытался соотнести его с тем становлением, что происходит в нашем познавательном аппарате (именно так еще Бергсон размышлял о том, что такое время). Можно сказать, что куколка формируется уже в его ранних фильмах, например, «Жить своей жизнью» или «Безумный Пьеро», чтобы бабочка смогла вылететь в «Прощай речь». Уже в ранних фильмах все больше внимания к условности сценического изображения, которая решается даже монохромным цветом («Безумный Пьеро»), к речи персонажей, насыщенной философскими концептами («Жить своей жизнью»), к игре между тем, что показывается и что при этом говорится; уже в ранних фильмах есть и титры, и знаки и алогичный монтаж. Годара всегда интересовало «неправильное кино», но не только во имя «неправильности». Он никогда не был занят только поиском новой формы, он искал те невидимые силы Клее, которые только и должен писать художник. Вот откуда это тотальное видение, которое буквально завораживает нас в «Прощай речь» и не дает оторваться от экрана. Годар обнажает силы. Рвется, разрушается ткань наррации, врываются то кадры взрывов, то белый прекрасный корабль на пронзительной голубизне, мешаются времена года, кадры кинохроники, видео, пейзажи природы, суггестивно звучит речь, собранная из философских цитат, парадоксальных научных определений, сталкиваются стили, цвета, мысли, и вся эта гремучая смесь прошедшего и настоящего обрушивается и на героев, на их обреченную связь. Но посредством этого «хаоса» и мы сталкиваемся в себе с ощущением какой-то странной целостности, как будто в нас обнажается какое-то начало, что все это, вся эта тотальность разворачивается и в нас в предчувствии какого-то нового целого, к которому мы в нашем повседневном опыте не можем прорваться, к какой-то новой целостности, которую мы хотим обрести в нашей фундаментальной разъединенности – и в нашей частной жизни, и в обществе, в нашей распятости и разорванности, в противоречивости всех наших помыслов, чувств и отношений, во всем том, что почему-то еще до сих пор не свело нас с ума. Но может быть мы только и держимся на плаву посредством осознания всех этих негативностей? И осознание их посредством искусства и есть ответ? Парадокс в том, что у Годара этот ответ – не фигура, а фон. Годар предъявляет нам некий фон, где растворены силы зла, силы разорванности, несовместимости. Со времен Байрона и Мэри Шэлли зло становится все изощреннее, оно становится почти невидимым, оно прячется в фоне, по Годару оно растворено везде. Само историческое время есть разъедающий нас образ зла. «Этот кризис был подготовлен давно», – говорится в фильме. Макиавелли, Ришелье, Гитлер… Мы нашли ответ?
«Искусство, – говорит Кафка, – парит вокруг истины с решительным желанием об нее не обжечься. Оно способно находить в пустоте то место, где луч света может быть схвачен в его самом сильном проявлении, хотя заранее этот свет было не различить». Нет, мы не нашли ответ. Но Годар столкнул нас с новыми ощущениями, а это гораздо важнее.
Конечно, речь в этом фильме не только о силах зла. В той объемной деконцентрации, в этом отходе в фон, в «дзенском» обращении к синефильской таковости нашего внутреннего опыта, к алогичности внешнего мира сквозят и другие послания. Проступают и фигуры, отличные от персонажей. Та же «стихия воды». Этот концепт буквально пронизывает собой фильм. И дождь, и река, и берег озера, мокрый асфальт, корабль на пронзительной голубизне, иррациональные кадры борющегося с волной пловца, тонущая женщина, кульминационная сцена в душе, когда герой кончает с собой, когда течет его кровь и смешивается с водой, а еще «дворники», сбрасывающие потоки ливня с лобового стекла мчащегося автомобиля, и, быть может, ключевой план – баночка с водой, в которой кисточка очищается от краски или, наоборот, набирает воды, чтобы эти краски увлажнить… Если же подняться на «нарративную поверхность», то стоит обратить внимание и на эпизод с Рокси на берегу реки, и в особенности, на голос за кадром: «Вода говорила с ним низким глубоким голосом, и Рокси подумал: «Она пытается поговорить со мной, как всегда, из века в век пыталась поговорить с людьми. Когда некому было слушать, она говорила сама с собой. Она всегда старается сообщить людям то, что ей надо сообщить. Некоторые из них получили от нее некую истину…»» Так Годар выстраивает отношение нарративной и ненарративной фигур. Или еще пример – корабль на широкой речной глади, и голос за кадром: «В мифах, где говорится о рождении героя, погружение в воду и спасение из воды соответствует представлениям о рождении, которое проявляется в снах». Здесь есть соответствие. Но Годар гораздо чаще выстраивает свой «контрапункт двусмысленности» и в столкновении «несовместимых» зрительных образов, и в принципиальном смысловом разнесении одновременных аудио и видео посланий. Об этом говорил еще Делез в своей работе «Кино», здесь же уместно привести конкретные примеры из фильма. Так титр «О Боге» соотносится с изображением корабля, а титр «О Речи» – с кровью, струящейся в душе. Фраза героя «Я к вашим услугам», обращенная к героине, сопровождает виды и того же корабля на реке, и героини за решеткой на фоне озера, и ее рук в холодной воде, в которой плавают желтые опавшие листья. Реплика героя о двух вопросах персонажа романа Достоевского «Бесы» Кириллова (страдание и другой мир) коррелирует с изображением кисточки, набирающей черную краску. А когда камера показывает красивый вид озера и голос мужчины говорит: «Это – здесь»; голос женщины отвечает: «Пойдем обратно, посмотрим «Франкенштейна»». Так у Годара часто строится оптически-звуковой образ, так новые смыслы играют и растворяются на границе различий. Так проявляется и то, что можно было бы назвать «ничто», в котором Годар «ничтожит» свой фильм, одаряя нас новой целостностью. Остается спросить себя опять: мы нашли ответ и поняли, о чем кино?
Подобно практике дзен искусство обладает способностью разъедать любую серьезную мысль. И можно сказать, перефразируя Бланшо, что стоит только этой серьезной мысли отойти в сторону, как оно – искусство – становится чем-то более важным, чем философия, религия, да и жизнь мира.
Сверхрежиссер Годар снял сверхфильм.
От замысла к факту
Жиль Аелез. Френсис Бэкон: Логика ощущения. – СПб., Macbina, 2011. «Liberty.ru», 23.01.13
Поль Сезанн сорок лет писал натюрморты с яблоками, стараясь все достовернее передать «яблочность». Знаменитая формула художника – «логика чувств» – отправная точка для названия книги философа. Логика ощущений, ведущая от замысла к «живописному факту», иррациональна, подчас фантастична, и, тем не менее, согласно Делезу во многом перенимает понятия логики Витгенштейна.
Что происходит? Как возникает картина, да и зачем она? Это, прежде всего, вопросы художника к самому себе в преследовании своего собственного замысла. И Делез здесь идет вслед за Бэконом, «преследует» его и «становится» им, подобно тому, как капитан Ахав Мелвилла преследует Моби Дика и «становится» Моби Диком[2]. Естественно, в этом «становлении» Делез во многом опирается на высказывания самого художника[3], комментируя их и развивая. И в результате картины Бэкона буквально творятся на наших глазах. Так и хочется вскрикнуть: «Вот что, оказывается, делает Бэкон!» Добавим: вот, что делает и не только он, а каждый настоящий художник, писатель, музыкант. И потому книга Делеза – блестящий урок всем, кто хочет делать и делает искусство. Настоящий учебник и самоучитель. И сегодня без этой книги – никак.
Так что же происходит и почему именно «ощущение»? Чтобы ответить на эти вопросы, Делез обращается к своему излюбленному концепту «тела без органов», изобретенному еще Антоненом Арто: «Тело есть тело Оно одно Ему нет нужды в органах Тело не организм Организмы – враги тела». Художника интересует жизнь во многом до ее социальных и даже антропологических форм, жизнь как некая изначальная матрица аффекта или инстинкта, ее загадка, ее пронизанность невидимыми силами, которые художник, как говорил Пауль Клее, должен сделать видимыми. Вот почему искусство невозможно без деформации «реальности» – согласно Делезу, это точки приложения тех самых невидимых сил. Фундаментальный концепт «тела без органов» помогает философу разобраться и с «магией искусства». Почему живопись так завораживает? Потому что «тело без органов» выступает как некий изначальный резонатор, проводящий возбуждение-впечатление, стремящееся к разрядке не только через глаз. Не случайно Делез говорит здесь об истерии, как о чистом присутствии. «Присутствие, присутствие – вот первое слово, приходящее в голову перед картинами Бэкона». Глаз зрителя, – поясняет Делез, – есть лишь некий «временный», «вторичный» орган, который нагружается не только «зрительным» («оптическим») возбуждением, но, прежде всего возбуждением телесным. Именно поэтому в живописи так много значит «рука» – художник вводит свою телесность в картину как бы в борьбе с неким оптическим клише, которое маячит перед его внутренним взором в качестве замысла. Рука художника наносит иррациональные ручные метки («вписывает» «магическую» диаграмму), повинуясь какому-то неопределимому инстинкту. «Это – черты ощущения, точнее смутных ощущений (которые мы испытываем с рождения, как говорил Сезанн)». И в результате готовая уже было сложиться фигурация[4] (главнейший враг живописи, да и всего современного искусства согласно Делезу) рушится, претерпевая необходимую катастрофу. И только теперь освобождается даже не новая форма, а целый ансамбль новых отношений, в котором открывается Фигура Ощущения. Именно она-то и представляет собой Живописный Факт. Конечно же, такое освобождение Фигуры не есть только лишь прерогатива живописи, это общая задача для всех искусств. Философ довольно часто обращается к литературным примерам, приводя цитаты из Кафки, Берроуза, Беккета, Конрада, Кэрролла, Морица, Лоуренса, чем книга должна быть особенно интересна и писателям. Пруст, например, говорит Делез, открывает Фигуру Комбре (вымышленного городка, где прошло детство героя серии романов «В поисках утраченного времени»). Но, однако, и Фигура не есть истина в последней инстанции. Первичное вожделение художника, по Делезу, есть Ритм. Интересно, что в личной встрече Бэкон однажды признался философу, что его мечта – написать волну[5].
Много страниц посвящено Бэкону как колористу. И теперь Делез виртуозно «становится» искусствоведом, соперничая с признанными авторитетами (с «бэконистами» Сильвестром, Марком Ле Бо…). Здесь есть чему поучиться не только специалистам, но и художникам в самом широком смысле этого слова. Вот, например: «… если вы приводите цвет к его собственным внутренним отношениям (теплое – холодное, расширение – сжатие), вы получаете все». И снова Делез отсылает к Сезанну.
Важнейшее место – подробный анализ картины Бэкона «Живопись» (1946). Художник, по его признанию, хотел «написать садящуюся на землю птицу», но его замысел, «пройдя через катастрофу» (та самая необходимая борьба с клише) обернулся целой серией образов: распятая туша (вверху) – зонт (в середине) – сидящий человек (внизу). По словам Бэкона, с садящейся птицей с-ассоциировался не только раскрытый зонт, но вся серия целиком. И Делез подробно показывает, как в этой серии является разом вся «птичность» замысла художника (стр. 162–163).
В серии становлений Делез в конце концов становится и самим собой. Через анализ техники Бэкона (круг, трек, контур, заливки, Фигура, Ритм, триптих…), сопоставляя ее с техниками других живописцев (великолепный пример: роль искривленных линий у Ван Гога – диаграмма, порождающая волнистые бугры и изгибающая деревья), дополняя сходными примерами из литературы (блуждающие по телу органы – у Берроуза, кафкианский Великий Пловец, не умеющий плавать…), Делез исподволь готовит свое «становление философом». Что с нами происходит? Откуда столько деформаций? Где наше «тело без органов»? И является ли оно нашим последним убежищем? Кто же мы такие, в конце-то концов, – выкованные блейковским контуром эгоисты, придумавшие квантовую механику и наконец-то заинтересовавшиеся Лао-цзы или озабоченные лишь собственным рассеянием самоубийцы? Да и способны ли мы высвободить из-под социальных условностей нашу изначальную жизненную мощь? Ответов, конечно же, нет. А спасение по-прежнему только в искусстве, где «мерзость становится великолепием, ужас от жизни сам становится чистейшей, напряженнейшей жизнью».
Юнг не виноват
О фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод»
Liberty.ru, 03.08.12
Хорошее кино смотрит нас. Мы представляем несбывшееся, вспоминаем то, что было. Такова магия искусства. Дэвид Кроненберг снял хорошее кино. Умное и талантливое. Масть против масти, гамбургский счет. Ариец Юнг, еврей Фрейд и русская еврейка Сабина Шпильрейн, пациентка Юнга. Реплики как афоризмы: «Путь к совершенству лежит через грех», «свобода есть свобода»… Но кино мы, прежде всего, смотрим, а не слушаем. Вот черные кони, вечнозеленый пейзаж, черная карета, в которой беснуется умалишенная Сабина. Наш собственный невроз облечен в прекрасную форму, и это и есть теперь классика. Образы – все, что нам нужно… Кроненберг – маг, и автор, и персонаж в одном лице, как другой пациент Юнга, Отто Гросс, который открывает ящички юнговского комода и словно бы бесцеремонно разглядывает содержание его бессознательного, вместо того, чтобы покорно сидеть на стуле и внимать транзакциям своего лечащего врача. Режиссер делает искусство из психоанализа. Глядя на экран, мы видим себя. Но все же это Юнг, а не мы, преступает черту, врач вступает в связь со своей пациенткой. А Отто Гросс не просто пациент, он сам психоаналитик, и как бы случайно послан на излечение Юнгу самим Зигмундом Фрейдом. А вот и сам знаменитый Зигмунд – собственной персоной. Какой, однако, приятный харизматичный господин. И, о, эта его вездесущая сигара, почти, как у Шерлока Холмса. Фрейд тоже расследует нас. Ведь мы тоже актеры, и всю жизнь только и делаем, что выкручиваемся. А какой смысл в правде? Каждый из нас, если не врет, то хотя бы привирает… А вот и яхта – чудесный символ любви, на дне ее мирно покачиваются Шпильрейн и Юнг. Они грезят о Зигфриде, германском герое, рожденном в инцесте. Вот и проблемы. Ах, как не хочется говорить о проблемах. Смыслы настороже. Спасение в иррациональном. И вот уже доктор Юнг порет ремнем привязанную к дужке кровати Шпильрейн. Так слаще совокупляться. Садо-мазо – матрица современности. Увы, нам хватает наших служебных обязанностей, и наш трансфер – только искусство. О, эта вечная нехватка! Хоть раз выпороть бы хоть кого-нибудь… Но художник над психоаналитиком, а не под. И скрытые смыслы его интересуют постольку-поскольку. Только что голую Сабину отшлепали ремнем, и вот уже она в длинном шикарном платье, как королева, грустная и невинная, сидит на антикварном диванчике. Изысканно покоится, как на картине Эдуарда Мане. Смыслы на стыках – должны же художники хоть чему-то учить… У нас нет пациенток, мы сами себе пациентки и пациенты, мы просто сидим в темном зале и смотрим кино, говорим с Фрейдом, чувствуем себя его сыновьями, а потом, согласно неумолимым законам Эдипа, предаем своего символического отца. Путь к совершенству лежит через грех, иначе не родить Зигфрида, и не стать самому себе Зигфридом. А кто, кстати, и кого гипнотизирует? Нас просто смотрит хорошее кино. Забудем про двойное соблазнение Юнга, что он – лишь «мистическая жертва». Шпильрейн открывает инстинкт смерти, ее открытием освещает себе дорогу поздний Фрейд. Извечный ответ в том, что это, конечно же, треугольник – Карл Юнг, Зигмунд Фрейд и Сабина Шпильрейн. Вот, кстати, и запись о Юнге из ее реального дневника (в фильме этого нет): «Мой друг – это и мой сынок, так что я volens-nolens замужем за проф. Фрейдом». Жизнь – содержание. Формотворчество – вестник искусства. «Виноват», конечно же, Кроненберг. Лучше смотреть этот фильм как простую историю о нерожденном, о безымянных героях и героинях, увековечивающих истину, что счастья нет. Увы, проклятье арийско-семитской распри, похоже, расколом проходит через всех нас. И тогда – Юнг не виноват! – кричу я, зная и пряча в себе, что виноват и Юнг тоже. Как и Фрейд, ведь и он хотел «родить» Зигфрида. Роковой смысл открытия Шпильрейн – наш неумолимый инстинкт смерти. Сабина заплатит своей судьбой. В сорок втором ее расстреляли фашисты. Но Юнг не виноват. В заключительных сценах фильма он встречает Сабину, ждущую ребенка, и с горечью восклицает: «Это мог бы быть наш ребенок». Разрыв с возлюбленной – причина его фрустрации по Кроненбергу. Через несколько лет Шпильрейн написала Юнгу: «Моя проблема, связанная с Зигфридом, могла разрешиться рождением реального ребенка или появлением символического младенца, сочетающего в себе арийские и семитские черты, например, в результате союза Вашего и фрейдовского учения».
Секс с фон Триером
О фильме Ларса фон Триера «Нимфоманка» (ч. 1 и ч. 2)
«Перемены», 25.05.14
…как она снимает и аккуратно складывает трусики перед тем, как сделать это в первый раз, а он раздвигает ей ноги ботинком; как развлекается в ресторане, засовывая себе кое-куда десертные ложки и как ложки с веселым звоном выпадают, когда она встает; как ушастый садист зажимает ее ремнем на диване с помощью зубастого механизма, и – порет, порет кнутом! О, эти рдеющие под ударами, кровоточащие ягодицы…
Правильнее, конечно, было бы начать по-другому, например, так: Ларс фон Триер снял литературоцентричное кино; читатель как бы слушает аудиокнигу – рассказ нимфоманки Джо и культурологические комментарии приютившего ее Селигмана, а зритель смотрит артхаусное кино; сцены местами едва намечены, а на экране временами даже появляются цифры и шрифт. Правильнее было бы не изменять жанру рецензии. Разыграть, так сказать, «начало Селигмана». Но страшно хочется все же разыграть «начало Джо». С первых же слов соблазнить читателя, чтобы он отправился в кинотеатр или скачал на торрентах. Итак: «Делай, что хочешь». Запретные желания – освобождающий кинофильм – вольная рецензия… «Великое искусство всегда появляется в компании своих мрачных сестер – богохульства и порнографии», – как говорит Джеффри Хартман. Это, конечно, верно не всегда, но в отношении «Нимфоманки», похоже, к месту.
Ларс фон Триер снял действительно великое кино. Он напомнил нам о демоническом сердце природы, которое, по-прежнему, бьется и в нас. Он напомнил нам, что мы состоим, прежде всего, из чувств, и что глубоко в их основании скрыты все те же природные похоть и агрессия. В этом наша трагедия и наша комедия. И признать эти чувства – гораздо честнее, чем прятаться от них за социальные шоры. Не в этом ли целительная сила искусства? Ларс фон Триер являет нам аполлонический закон, посредством которого художник заклинает демонов. Мы принимаем это заклятие как сдерживающую нас эстетическую форму.
Стихия жизни – стихия воды, нечто бесформенное и текучее, женское. Пищеварительные соки, выделения, слезы, сперма, кровь… А вот камень, контур, граница, речь, интеллект – знаки мужские. Даже и сам penis как «твердый знак», а совокупление как последовательность «артикуляций». И неизбежность расплаты за достижение «конца предложения» – счастье рассеяния, расслабление, опадание. Смысл должен умереть. Селигман умирает. Но – Селигмана убивает Джо, когда он сам нарушает свой закон.
Самое начало фильма – темный экран, звуки льющейся воды, приглушенный лязг каких-то невидимых механизмов, гул поездов, завывания, скрипы железа. Вот появляется изображение – каменная стена, по которой течет вода. Эта жидкая стихия – один из архетипов фильма. Маленькие девочки расплескивают воду в ванной комнате, снимают трусики и балуются, изображая плавание. Стоя по колено в реке, мужчина забрасывает снасть. Речная nymphe – порождение вод, это потом уже рождаются истории и мифы: нимфоманка Мессалина, вавилонская блудница. Юная Джо обнаженной парит над морской поверхностью (Селигман, одетым, – над «сушей» из книг). Садист проверяет вагину Джо на влажность. Но в первых кадрах появляется и снег – как «аполлонический кристаллизатор искусства». Души деревьев, говорит маленькой Джо ее отец, особенно хорошо видны зимой. В конце фильма поверженная героиня найдет и свое – на вершине скалы, одинокое, согнутое, но не сломленное.
Путь Джо – путь преступления. Развратница, несостоявшаяся мать, бросившая своего ребенка, извращенка и, в конце концов, убийца. Фон Триер заключает договор с де Садом, а не с Руссо. Природа, которую воплощает Джо, жестока и похотлива. Она далека от идилии руссоистского мифа. Всем нам уготовано распятие. Мы все распинаемся на страстях. Мы все прокляты, но это – проклятие от природы, а не от Матфея. Мы заложники хтонических сил. Но эти силы являются также и нашим оружием в борьбе за права личности против общества. Не случайно в фильме заходит разговор и о неполиткорректности (взять хотя бы эту фразу Джо о демократии как о власти меньшинств). И государство, и социум вторичны по отношению к фактам нашего рождения и смерти. Это природные, а лучше сказать, божественные реальности, так же, как и наша интимная жизнь. И в этом залог нашей символической свободы.
Обо всем этом Ларс фон Триер размышляет уже давно. В «Нимфоманке» есть цитаты и из прежних фильмов. В «Антихристе», в самом начале – адские кадры падения ребенка из окна под музыку Генделя, пока родители совокупляются в ванной. И здесь есть похожая сцена, и та же музыка, только Марсель в отличие от Ника остается жив, его спасает отец. И в «Антихристе», и в «Нимфоманке» вина лежит на матери. Фон Триера интересуют метафизические, а не конкретные причины. Женщина виновата в том, что она женщина. Она порождает мужчину как свое наказание, она хочет от него избавиться. В «Антихристе» муж убивает свою преступную жену (отметим на будущее, психотерапевт убивает свою клиентку, которую хотел спасти). В «Нимфоманке» отец Марселя Джером наказывает свою бывшую жену Джо, бьет ее в присутствии ее наперсницы и преемницы. И во исполнение символического закона Джо должна принести смерть другому мужчине – Селигману. Но ведь это мужчина направляет ее на пути к преступлениям, тот самый мафиози, который вводит ее в незаконный бизнес (и не случайно его играет тот же Уиллем Дефо, что играл и роль мужа в «Антихристе»). Но и про Селигмана можно сказать, что он сам нашел свою смерть. В «Нимфоманке» есть цитаты и из «Меланхолии» – кадр с тремя девочками, сидящими в траве, почти как те две сестры с маленьким мальчиком в шалаше из палочек перед катастрофой. И даже неясное светило чем-то напоминает тот же адский астероид. Женщина-жизнь и женщина-смерть, многоликая, как богиня Кали.
Защищаясь от демонических женских сил, мужчина изобретает науку, философию, искусство. Ларс фон Триер придумывает свое гениальное кино, располагаясь в своей условности, и так находит способ «остаться» мужчиной, «становясь» при этом и женщиной, своей героиней. Многоликий Ларс подобен старцу Тиресию, священному гермафродиту, он знает, что женщина в акте получает наслаждения больше, чем мужчина (согласно Гесиоду – в десять раз). Фон Триер наслаждается «как художница». Но муза художника фон Триера жестока. «Пиши кровью, – говорит Ницше, – и ты узнаешь, что кровь есть дух». Мы все еще слишком мало знаем о сексе. Какие видения посещают нас во время коитуса? И не является ли фильм фон Триера одним из них? Трагикомическое легкое порно из первой части с умиляющей профанов сценой с Умой Турман, мажорным сценами «съема» мужиков в поезде, сектой «maxima vulva» и с грустно звучащей темой отца (слава богу, без прямолинейных фрейдизмов), а также с началом ни к чему не обязывающей истории с Джеромом перерастает во второй части фильма в настоящую драму. Комизм и ирония – форма по завету де Сада, исцеляющая от ужасов содержания, – рушатся здесь под напором дьявольских сил. И на сцену выходит трагедия. Фон Триер жесток, но, прежде всего, к самому себе. Искусство для него – садо-мазохистское наслаждение. Но ведь и природа от века занята тем же самым – мучительные геологические разрывы, ад огненного ядра в центре Земли, бесстыдствующие своими гениталиями растения, пожирающие друг друга животные – ряд, где человек не может быть исключением. И, в конце концов, из всех жестокостей дарвиновского закона на самой вершине извлекается целительный эстетический бальзам. Даже бедный педофил, наказываемый Джо, может быть удовлетворен в разворачивающемся фантазме ее сладостного разоблачающего его порочность рассказа. Психотерапия? Скорее искусство рассказчицы. Врачи, эти социальные агенты нормы, на своих сеансах больше озабочены тем, чтобы подобные «пациенты» признали свою вину и отказались от жизни. Но нас не спасает никакая психотерапия, никакая религия и никакой общественный договор – повторяющееся из фильма в фильм послание фон Триера. Все это только формы благонамеренного социального ханжества, в лучшем случае – иллюзии. Нас спасает только искусство.
Ангел одиночества
О романе Жана Жене «Кэрель»
«Литературная Россия», 11.01.2008
Кэрель – имя матроса, имя предателя, убийцы, гомосексуалиста. Жорж Кэрель… «Он рос, расцветал в нашей душе, вскормленный лучшим, что в ней есть, и, в первую очередь, нашим отчаянием», – пишет Жене. Кэрель – ангел одиночества, ветхозаветный вызов христианству. «Святой Жене», – так называет автора Сартр.
Однополая вселенная предательства, воровства, убийства, что общего у нее с нашей? Прежде всего – страсть. Сквозь голубое стекло остранения мы видим все те же извечные движения души, и пограничье ситуаций лишь обращает это стекло в линзу, позволяя подробнее рассмотреть темные стороны нашего же бессознательного.
Жене предельно серьезен и одновременно нет. Трагедия должна свершиться и Кэрель – герой. Но не античный, его корни скорее в джунглях, чем в Элладе. Кэрель предает свою единственную любовь – Жиля, предает на казнь. Кэрель чудовищно прекрасен в этой своей индейской вселенной. Это мифологический персонаж, питающийся всем, что за гранью человеческого. Вот почему в конце его ждет не раскаяние и расплата, а торжество невинности и усмешка. «Мы захотели, – пишет Жене, – чтобы он стал героем даже в глазах самого предубежденного читателя».
Жене умер десять лет назад, но он по-прежнему грозит всей новейшей литературе со всеми ее игрушками. В отличие от нее Жене, несмотря на все свои ужимки, последователен. Он смотрит в бездну и не отводит взгляда. Святой Жене хочет увидеть свет с той стороны. Его, конечно же, совсем не беспокоят эти определения – реализм, постмодернизм. Жене за гранью определений. Он не скрывает от читателя, что пишет роман, называя себя, автора, на вы, освобождая из тайников своей души идеального героя. Он пользуется обратной перспективой, достраивает интригу в пространстве комментария, намеренно и небрежно пренебрегает детективностью фабулы, этого банального сценарного двигателя, но в первую очередь его всегда интересует чувство и страсть, их таинство. Сильный убийца и слабый (Кэрель и Жиль), преступники и полицейские, – они все вожделеют, ревнуют друг к другу, вступают в связи, боятся. Совокупление у Жене то метафора власти (неизбежная иерархия в отношениях самцов), то какого-то странного мужского братства, квинтэссенции дружбы. («Причем сознание того, что самки остаются с носом, придавало их ощущениям особую остроту».) Совокупление и убийство у Жене всегда последняя правда бытия. Он может посмеяться, но он не сублимирует, он движется на изначальных энергиях, и в этом его величие и мощь.
Женщинам и любителям женщин может показаться, что Жене дальтоник, однако здесь нет исключений, в его вселенной находится место и противоположностям, и в этом смысле она полна. Жена хозяина публичного дома вступает в связь с Кэрелем, подобно самому хозяину, а то, что она делает это в финале романа, совсем не воспринимается как расплата или как предательство героем самого себя, нет, это как бы выводит его за рамки проблем (и пола в том числе) в пространство абсолютной свободы и безнаказанности.
В буржуазной действительности нет места возвышенному и благородному, вот почему эти идеалы возвращаются нам художником в форме убийства и порока. В конце концов это просто месть. «У человека есть вторая родина, где все, что он делает, невинно» – как говорил Роберт Музиль.
Джеймс Джойс: помалкивай, лукавь и ускользай
«Three quarks for Muster Mark!»[6]
JoyceРецензия на книгу Сергея Хоружего ««Улисс» в русском зеркале», М., «Азбука», 2015
Интернет-журнал Rara-Avis, 29.11.2015
Как герой мифа о самом себе я, Джеймс Джойс, перетекая из автора в персонаж, становясь Сергеем Хоружим, как и он сам в свою очередь всяким, кто читает и пишет эту рецензию, а именно, Блумом, Дедалом или Эйзенштейном (а начать этот перечень, наверное, следовало бы с белого хлеба Белого и Хлебникова), я все же хотел бы перво-наперво заявить, что в самой сердцевине этой веселой разнузданной карнавальной фразы, я следую прежде всего парадигме инверсии, опираясь на великий принцип Люциферова бунта, да и как иначе смог бы я победить в своей бесконечной войне с моралистами и ханжами, годами, тысячелетиями мешавшими мне писать, издаваться, переводиться на русский и публиковаться в России. Как ожившему классику и автору рецензируемой здесь мною же книги, мне, наверное, стоило бы предупредить и всяческую бесконечно нарождающуюся литературную сволочь, что как бы вы ни лизоблюдствовали отныне перед именем моим, как бы моркотно, маятно и коломятно ни протирали свои жопные трусишки над моими трудами, как бы ни разглагольствовали под темными знаменами моими, и крепко, супермоментно ни примазывались к моей славе, а все равно вы ни хера не поймете в моих бессмертных творениях. И ни на йоту не сможете воспользоваться моими секретами, тайными смыслами моей мыслительной «письмарни»[7]. Ибо я, «спадший с неба, как молния», всегда говорил внятно только к своим избранникам, для которых я есмь не полная тьма, а второй свет.
Инфернируя же обратно в карнавальный оборот верха и низа, я хотел бы теперь поговорить о своей книге Сергея Хоружего ««Улисс» в русском зеркале» подробно. Из этого, не побоюсь сказать, легкомысленнейшего моего произведения вы, наконец, сможете узнать – что я мазохист, вечный сын и что именно я изобрел клип, а вслед за Босхом привил и словам парциальный дискурс – благословляя мичуринскую семиотическую гибридизацию. Не скрою, что мой строгий математический ум был вдохновлен на эту книгу не только перенормировкой моей же собственной калибровочной биографии, написанной Эллманном, но и загробными духами Фаддеева и Попова. Я просто изъял из всемирной истории прустианское время и показал, что весь наш исторический бред разворачивается в вечном настоящем. Посредством духов я ввел, если хотите, «время опространствленное». Но тогда уже я не смог и скрывать от зацикленного человечества (о, Вико, великий Джамбаттиста!) и последнюю сладко-горькую истину, что никакого человека, собственно, и нет – в его прежнем, веками отточенном смысле. И как кварковый антрополог я со всей ответственностью и заявил в этом своем бозонном «Зеркале», что в нас действительно нет ни цельности, ни целостности, и что все мы, подобно моему герою Блуму, лишь распадаемся в своих поступках, свойствах на некое множество элементарных фундаментальных структур (да-да, вот таков мой привет Мастеру Марку!). И что каждый из нас – всего лишь Всякий-и-Никто. Если же стать хоть чуть-чуть посерьезнее, то не скрою, я действительно начинал с парадигмы Художника, переоценивал вечные ценности, утверждал, что человек рождается демиургом. На место религии я надменно и гордо ставил искусство. Я и в «Улиссе» намеревался все свое духовное наследство передать художнику Стивену. Но постепенно в процессе письма на страницах «Улисса» выписался и новый, безмерный и универсальный герой – рекламный агент, победивший синергийную антропологию. Быть может, кто-то и скажет, что так, через мое «письмо деспота» героям гомерова мифа отомстил бодрийяровский «символический капитал»? Да, в этом своем последнем труде ««Улисс» в русском зеркале» я и сам признаюсь, что никогда не гнушался пиаром и готовил свой успех стратегически. Чего только стоит придуманное мною же письмо протеста против травли «Улисса», которую я же сам и раздувал? Мои агенты собрали 167 подписей мировых знаменитостей, включая таких, как Эйнштейн, Метерлинк, Гофмансталь. Я не брезговал просить всемирно известных критиков и писателей откликнуться рецензиями на мой роман. Я даже подсказывал им – что именно и как написать. А взять мои схемы поэпизодного соответствия с гомеровской «Одиссеей», с доминирующими в каждом из моих эпизодов цветами, звуками или органами человеческого тела (так называемые схемы Линати и Ларбо) – все это во многом, как раскрыто в моей книге Хоружего, чистейший произвол. Как сказали бы в нынешние времена, это была просто блестящая акция. Филипп Супо не зря называл кипевшую вокруг меня деятельность «фабрикой Джойса». Но кто бы еще мог иметь на все это большее право, чем я? Ведь, прежде всего, я создал гениальное произведение. А возможно, даже и гениальнейшее за всю историю литературы. Да и разве я не заплатил за свою титаническую славу титаническим трудом – двадцать тысяч часов за работой, и только одних неиспользованных заготовок – двенадцать килограммов бумаги? Сейчас я могу также признаться, что мне и в процессе работы было невыносимо тяжело – я никогда не мог легко выдумывать и сочинять. А если обратиться и к мучениям моих героев – ревность, измена женщины, предательство друга – ведь это же мои личные беспрестанные страдания! Кто выдержит больше? В конце работы над «Улиссом» я был изможден настолько, что падал в обмороки. А если припомнить еще и мытарства с изданием романа (да плюс мои зеркальные мытарства с русским переводом)? Вспомнить хотя бы это подленькое московско-нью-йоркское общество по искоренению порока, прекратившее публикацию книги на 13-й главе. Так как же, спрашивается, я смог бы превозмочь всю эту извечную морализаторскую сволочь, и донести до человечества весть второго света, если бы не все мое одиссеево хитроумие?
Но согласно действующей и ныне, и присно и во веки веков парадигме инверсии обратимся все же от козней с пиаром к ядру моего послания, я имею ввиду религию текста. Если не побояться мне потерять свое бессмертие и сказать все сразу, самое сокровенное (как бы ни было подозрительно тут это словечко), то – да простят меня заядлые атеисты и агностики – в своем русском «Зеркале» я признаюсь, что в «Улиссе» мною были явлены вновь великие элевсинские мистерии – и на сей раз как возврат в языковой исток. Или, иначе, – как символическое возвращение в материнскую утробу. Таков, согласно «Зеркалу», мой архетип художника. Так, кстати, стоит понимать и мой последний нечитабельный роман. Поворачивая мое изумительное «Зеркало», легко можно доказать, что угол смертельного падения Тима Финнегана со строительных лесов равен углу его отражения-воскресения, и что именно так надо понимать английское wake и мое блестящее появление в ЦДЛ на первый русский Блумодень, когда, вдохновленный моим гением ведущего, художник Бренер так шикарно подрочил на всю эту совдеповскую гениево-седаковскую тусовку.
Стоит ли продолжать? Боюсь, как бы не пришлось мне переписать триста восемьдесят одну страницу. Уж лучше под занавес – шпаргалка для моих любимых школьных учителей.
На вопрос и зачем нам русским ученикам Джойс следует отвечать так нецельность и нецелостность сегодняшней России ее множественность открытость и плюрализм всех ее дискурсов от постмодернистского до традиционалистского вот чем должен быть сегодня привлекателен Джойс для русского читателя местом действия «Улисса» вполне вместо Дублина могла бы быть и современная Москва а главными действующими лицами вместо художника-нонконформиста Стивена и рекламного агента Блума какой-нибудь иванушка-дурачок типа Бычкова и умудренный литературной жизнью гуру Мамлеев а все прочее включая поток сознания от Лукавого.
Но – silence, cunning and exile. Что в переводе означает – и с многословием моим немудрено не позавидовать и исихастам.
«Тюрьмы строят из камней закона, бордели – из кирпичей религии»
О выставке «Уильям Блейк и британские визионеры»
(«Завтра», 18.01.2012)
Уильям Блейк – поэт, пророк, художник и политический радикал. Современник Пушкина. К столетию музея изобразительных искусств, носящего имя Александра Сергеевича, несколько английских галерей привезли выставку «Уильям Блейк и британские визионеры». Переклички смыслов всегда двусмысленны, натяжки неизбежны. Блейк и Пушкин, как поэты, скорее оппозиционеры, чем единомышленники. Английский поэт одним из первых ставит проблему о расщеплении «я», Пушкин – камертон гармонии. Жаль, что у нас нет музея изобразительных искусство имени Достоевского.
Картины Блейка – трагические мандалы, повествующие о неизбежности зла. Его ангелы, конечно, не ангелы Мильтона, меняющие пол и совокупляющиеся между собой, скорее наоборот, они очерчены резкой контурной линией, и их заговор против Блейка непоколебим. Поэт говорил, что видит их повсюду, и сонмы ангельских фигур, покрывающих его полотна, плотность изображений, свидетельствуют нам об этом. «Искусство – прогрессивная антропология», – говорит Новалис. Ангелы как действующее лицо искусства.
Центральная тема Блейка – проклятая рассекающая горизонталь. «Элохим, создающий Адама» – ключевая картина выставки. Бог нависает над Адамом как саркофаг. Бог растерян, его лик искажает гримаса отчаяния и скорби, как будто он не рождает, а хоронит любимого сына своего. И лик Адама искажен страданием. Блейковский Адам чем-то напоминает «Мертвого Христоса» Гольбейна младшего, картину, так поразившую Достоевского. Здесь уже просвечивает ницшеанская мысль: жизнь – лишь разновидность смерти. Блейк доводит метафору расщепления до конца. Бог Блейка антропоморфен, человек – это Его искушение. Блейковский Бог виноват. Но не потому ли изначально обречен и сам человек? В «Бракосочетании Ада и Рая» (само название немыслимо с точки зрения ортодоксии!) читаем: «Тюрьмы строят из камней Закона, бордели – из кирпичей Религии». Человеку остается лишь бунт. И Блейк – бунтарь. За подстрекательство к мятежу он привлекался к суду. Блейк выступает против любых общественных форм, он восхищается Французской Революцией и он же с горечью от нее отступается, когда узнает о кровавом терроре. Человек обречен. Человек рождается в смерти. И в этом виноват Бог.
Картины Блейка сюжетны. Он иллюстрировал Ветхий Завет, «Божественную комедию», «Потерянный рай». Блейк – интеллектуал и интерпретатор, в его картинах интересна прежде всего мысль, поданная нам в композиции. Здесь мало собственно живописи, как ее понимали колористы, мало цвета, практически нет светотени, Блейк ненавидел сфумато Леонардо. Наследник традиции Микеланджело, он делает ставку на линию, неумолимый и резкий контур, отделяющий одно от другого и организующий одно с другим. Блейк сторонник мужского ясного взгляда на мир, аполлонической недвусмысленности решений. Визионер, он видит, как мы бы сейчас сказали, архетипы. Его даже не интересует портрет.
Блейк предтеча Бодлера. «По узким улицам влеком, где Темза скованно струится, я вижу нищету кругом, я вижу горестные лица» (стихотворение «Лондон»). Его солдаты, дети и проститутки – жертвы ненасытного Молоха. Но общество – всего лишь враг номер два. Первостепенный враг – природа. Блейка часто преподносят как провозвестника сексуальной революции двадцатого века, однако, это не совсем так. Блейк освобождает секс от морали общества, не во имя руссоистского лозунга «назад к природе». Скорее он заставляет нас взглянуть на человека с горечью, как его Элохим смотрит на своего Адама, увитого в своей наготе змеем, а не лаврами. Адам должен родиться со змеем одновременно. И в этом проклятие. Элохим рождает проклятого Адама. Изгнание из рая вторично. Змеем увита и неподвижно, мертво лежащая Ева, над которой реет бесстрастно просветленный Сатана (картина «Сатана торжествует над Евой»). И опять все та же горизонталь. И Демиург и его Противник на обеих картинах изображены горизонтально, а не вертикально. И в отличие от скорбного лика Господа лик Сатаны озарен странным отсутствием-присутствием. Бог сознает свой грех, и Он готов его искупить. Сатана – над знанием. Бог – эмоция сострадания, Сатана – неумолимый закон. На одной из картин Блейк даже изображает Люцифера в силе и славе, на пороге его падения с небес. В Средние века за такое сжигали на костре.
Блейк мыслитель. Его картины говорят больше, чем показывают. Он по-своему трактует Священное писание, он хочет остаться пророком Ветхого Завета. Его иллюстрации к «Божественной комедии» как новые притчи. Его Беатриче обнажена, когда с ней встречается Дант на пороге земного рая. Парадоксально, но муза самого Блейка мужского пола (и это, наверное, единственный случай в мировой поэзии; поэт утверждал, что стихи ему диктует его умерший в восемнадцатилетнем возрасте брат). Блейк борется за нерушимое мужское «я» и признает свое поражение. Свобода – мужская привилегия женского рода. Борьба за независимость оборачивается «Хрустальной шкатулкой» (стихотворение Блейка), в которую мужчина пойман юной девой и в которой он заперт, как в тюрьме, замкнут золотым ключом – читай собственным фаллосом – который отныне принадлежит ей. Грядущая перемена пола неизбежна, от трансгрессии следующего века не уйти. И Блейк – один из последних героев, который отчаянно сопротивляется грядущему размножению сексуальных личин, как об этом блестяще пишет Камилла Палья. Но Элохим и Сатана уже претендуют в композиции на одно и тоже место.
Уильям Блейк гравер. Его инструмент – неумолимый резец. Блейк должен нанести рану в самое сердце мира. Причина человека – страдание. Садизм Блейка – его же мазохизм. В его мучительных циклах рождения и смерти (стихотворение «Странствие») обречены все – и женщины, и мужчины, матери и их дети, новорожденные младенцы и повзрослевшие сыновья-любовники. Страдание незримо соединяет всех со всеми. Страдание – неотчуждаемый человеческий капитал. Блейк вносит разлад в Божественную картину мира как христианин. Его христианство опровергает самое себя. Блейк призывает не стыдится секса. Он публично обнажается со своей женой Кэтрин в саду в Ламбете, как новые Адам и Ева. И в то же время секс в его трактовке – это новая тюрьма.
Уильям Блейк порождает целую традицию. По его стопам идут прерафаэлиты (Данте Габриэль Россетти, Эдвард Бёрн-Джонс), его линии наследует Бёрдсли. Их картины тоже есть на выставке. Что же они, эти художники, черпают в своем «духовном отце»? Знаки искусства как знаки заклинания (зло изображенное есть пойманное зло)? С визионерами не поспоришь. Их картины обладают каким-то странным, трудно определимым свойством, они как будто даны нам, вот смотрите – это именно так. Раскол задан нам Элохимом. Человек дан этому миру в разломе. Цельный человек – выдумка. «Я чувствовал, что они так и кипят во мне, эти противоположные элементы», – как говорит подпольный герой Достоевского. Блейк – это «Картины из подполья». Блейк – это английский Достоевский, знающий об изначальном разрыве. Ему рассказали об этом ангелы. И единственное спасение – это искусство. Магический блейковский аполлонический контур. «Вера в форме, неверие в содержании – в этом вся прелесть сентенции, – следовательно, моральный парадокс» (Ницше). Этические разломы порождают эстетизм. Уильям Блейк, как известно, сочинил стихотворение «Иерусалим», неофициальный гимн Англии.
Чистое искусство
О выставке к 150-летию со дня рождения Константина Коровина
«Завтра», 13.06.12
Говорить о Чистом в наше грязное время – значит, попадать под подозрение. Чистое – следствие грязного и одновременно его причина. Чистое искусство – оптика антропологической перспективы. Константин Коровин – идеальный русский художник, наследник тысячелетнего царства, свидетель вечной русской весны. Первый русский импрессионист, минималист и величайший из колористов. Так и хочется написать эту рецензию, как картину, написать «под Коровина» – в перекличках, ритмах и рифмах, в контрастах, в цвете, тоне и колорите, в которых, как и в его полотнах, по-прежнему бы светилась «истина бытия». Вот он – всеобщий баловень и любимец, в белой артистичной рубашке, спешит за кулисы «Частной оперы», молоденькие хористки, смех, комплименты, флирт, бутылка вина, возвышается радостный Мамонтов, рядом мрачноватый (для контраста) Серов, мистический улыбается Врубель, хлопок, заискрилось шампанское, блестят откуда ни возьмись бокалы, и медовый, густой, как колокольный звон, раздается малиновый голос Шаляпина – «Ко-о-стень-ке до-о-олги-и-е ле-е-та-а!..»
И ты спешишь в Третьяковскую галерею, Крымский мост, голубое небо, веселые блики Москва-реки. И по-прежнему празднует сирень день его рождения.
Он говорил о витаминах цвета, о счастье созерцать, «Созерцать – вот жизнь». Он обожал Пушкинские строки «Люблю ваш сумрак неизвестный и ваши тайные цветы». Он смеялся над передвижниками: «Тона, тона правдивей и трезвей – они содержание. Надо сюжет искать для тона». А вот в одном из писем: «Боже, как надоела политика!» Или еще: «Ищу в живописи иллюзию». И – «Никогда никому никакого поучения, никакой тенденции»… Константин Коровин был одним из последних аристократов русского искусства. Он не любил машины. «Вол работает двадцать часов, но он не художник. Художник думает все время и работает час в достижение, а потому я хочу сказать, что одна работа не делает еще артиста». И писал по вдохновению, когда хочется. Константин Коровин – адепт чистого искусства, «живописи для живописи», и как художник он был асоциален в том высшем смысле, который роднит искусство и метафизику. Его интересовало чистое, первичное, «витамины»…
«Рыбы, вино и фрукты» – название, это натюрморт, тысяча девятьсот шестнадцатый год. Хайдеггеровское бытие и никаких сущностей. То, что изображено на картине, и есть ее смысл, как сказал бы Витгенштейн. Константин Коровин учит видеть. Мир – игра света и цвета. Так оживает плоть, так она становится зримой. Стать, как эти рыбы, вино и фрукты. Коровин – маг. «Поэт – тот, кто вдохновляет, а не вдохновляется» (Элюар). В его мастерской было много бумажных цветов: он скупал охапками бумажные розы на вербных базарах, писал при электрическом свете, оживлял… Но прежде всего, конечно, – живое. Спаситель радости, иллюминат праздника жизни, воздушный консерватор (и композитор) цвета, вечный русский импрессионист. А может быть, даже и «импрессионист до импрессионистов». Конечно, открытие принадлежит французам, но Коровин как бы обращает найденную перспективу и от впечатления ищет шаг к метафизике. Посмотрим на «Парижское кафе» (1895) или «Бульвар Капуцинок» (1911). У французов – Моне, Писсаро – прежде всего атмосфера, у Коровина – структура, композиция, цвет. Через цвет он идет глубже, к основам. Он не размывает контур, он сохраняет. Мазок плотный, разухабистый, русский, а не мелкий, дробящий, лишь бы сохранить состояние, дрожание воздуха. Коровин проявляет не столько поверхность, сколько глубину мира, показывает его, как перекличку красок, тонов и полутонов, света и тени, показывает именно мир. Его впечатления метафизичны. В цвете Коровину нет равных среди французов, его секрет – колорит. Мир – сцена, всю жизнь художник работал и как декоратор, структура и сюжет, найденные через тон, – следствие практики, а не кропотливого изучения Гогена. Конечно, я не против французов, Франция – родина «чистого искусства», Коровин французов обожал. Речь о своеобразии художника.
Константин Коровин красив. Константин Коровин видит красиво. Вот его «Парижское кафе. Утро. 1890-е». О чем разговор там, в углу? Может быть, посетители жалуются или сплетничают, обсуждают политические новости? Да, неважно. Для художника они остаются «на поверхности», «в глубине» цвета и света, их позы вписаны в общий ритм, они найдены на своем месте в композиции целого, в перекличке с пустыми стульями, крышей кафе, загадочными растениями в кадках на переднем плане, а вот лица совсем не важны, психологическое не важно. Да и что там, в психологическом, кроме хорошо спрятанного невроза? Сцена мира важнее, потому что она эстетична. Красота – она царит надо всем в перекличке метафизических форм; все прочее, как говорил Верлен, литература… Поразительно, как Коровин замораживает впечатление от простых вещей в это сложное, взрывающееся время. Машины распинают мир, в борьбу вступают сновидения, Бор разрывает непрерывное, Гейзенберг возводит принцип неопределенности в канон, Первая мировая, все рушит Октябрьская революция. И модерн откликается: Пикассо разваливает реальность на кубы, Дали ужасает фантасмагориями, еще немного, и Малевич выделит черный квадрат. А Константин Коровин по-прежнему принадлежит вечности. «Сирень» (1915) – о как светятся два лимона под вазами! «Вино и фрукты» (1915) – как хочется взять. Его натюрморты по-прежнему священны, как у Кальфа, хоть с тех времен прошло почти триста лет. Вот две молодые женщины у открытого окна, выхвачены «салатовым» светом, смеются, и словно бы превращены в два радостных цветка, и вот уже все предметы в комнате приобретают смысл – «Портрет дочерей Шаляпина» (1916). Или «Терраса» (1915) – странное, «слегка большое сухое» пространство, и женщины, как двойники, женщины-ангелы, а за окном влажная «синяя» ночь. Коровин остается на пороге, дозволено трепетать только свету и цвету, художник не дегуманизирует сюжет, не нагружает символикой, не разрушает, мир по-прежнему проступает из красок, мир – есть. Новаторская форма словно бы охраняет архаичный сюжет. Что же это за странный гений? Вот, что пишет о художнике в своих воспоминаниях Михаил Нестеров: «Всё в нем жило, копошилось, цвело и процветало. Костя был тип художника, неотразимо действующего на воображение, он «влюблял» в себя направо и налево…» Многие отмечали его веселость, бурлеск, блистательность и остроумие. Но немногие знали о его депрессиях. Он тщательно скрывал самоубийство отца, неудачный брак, непонимание жены, первый ребенок умер в младенчестве, второй попал под трамвай и навсегда остался инвалидом (ему отрезало ноги), советская власть отняла у Коровина всё: квартиру, построенное на свои деньги имение, дачу в Крыму. Его искусство клеймили как декадентское, его травили Маяковский и Штеренберг. Почти все декорации – четырнадцать лет работы – сгорели при пожаре театра. В двадцать третьем он вынужден был эмигрировать. «То, что предстало моим глазам, потрясло, – пишет посетившая его в 1932 году в Париже Ирина Шаляпина. – Я не могла представить, что так может жить один из лучших наших художников. Сырая комната, в углу кровать, задернутая пологом, несколько стульев». Коровин рано похоронил всех своих лучших друзей: Левитана, Серова, Врубеля, – когда ему еще не было и пятидесяти. Разошелся с единственным из оставшихся – с Шаляпиным. «Позднее часто я думал: «Почему все эти страдания, зачем они, когда такое небо, солнце, зелень лугов, цветы, когда бульвары, кафе, куаферы, наряды?»
Но он странным образом был востребован русской культурой, несмотря на социальные потрясения и распад классической картины мира. Смог «не поддаться», несмотря на все разрушения, идущие извне и изнутри. Его искусство по-своему религиозно, в каком-то чистом (и не только искусства для искусства) смысле. Ведь он напоминает человеку о том священном, что существует от века до любой религии, – есть жизнь.
Сегодня мы претерпеваем новый сдвиг. В начале XX века – модернистский распад. Сегодня – фальсификация осколков. Все знаки сорваны со своих мест. Все границы пересечены. Все ценности превращаются в крошево, из которого лепятся симулякры. Энергия распада преломляется и рассеивается в энтропийной постмодернистской среде. И опять надвигаются социальные потрясения. Жизни почти уже не осталось. Мы заняты бесконечной критикой реальности, мы вписаны намертво в социальный контекст, мы разучились жить, спешим и корчимся в пустоте, а свой невроз принимаем за признак жизненности. Но нас просят остановиться. Искусство нас просит остановиться. И эта выставка – знак. Живопись Константина Коровина позволяет вновь поднять разговор о русской форме, о русском стиле, о русском искусстве, понимаемом, прежде всего, как пространство, свободное от внешних социологических смыслов, в котором форма структурирует себя сама, согласно только своим метафизическим законам – неважно, говорим ли мы о цвете, звуке или слове. Живопись Константина Коровина позволяет нам сегодня снова заговорить об «искусстве для искусства», которое в нашу перегруженную социальностью эпоху все больше стоит понимать как «новый русский нигилизм». Если нас не спасает этика, нас спасет эстетика. «Стиль выше истины, поскольку несет в себе оправдание существования» (Бенн).
Постмодернизм и магия Натальи Гончаровой
О выставке Натальи Гончаровой. «Между Востоком и Западом», Государственная Третьяковская галерея
«Завтра», 28.11.13
Первая картина – Ларионова. Муж Гончаровой Ларионов представляет нам ее портрет. Интимный взгляд, знание изнутри. Кто, как не он откроет секрет, кто же такая Наталья Гончарова? На картине – «маска», взгляд, обращенный в себя, и это настраивает на магию (искусства). Мы пришли втроем, мои друзья – философы. Красавица и умница Ростова и строгий русский Гиренок. Странное, пока еще не озвученное впечатление, что портрет все же «слегка под Модильяни». Переходим к Гончаровой, движемся, молчим. И вдруг возникает игра. «Синьяк», – говорит Наташа Ростова, бросая взгляд на полотно «Панино близ Вязьмы». «Гоген», – отзывается Федор Иванович Гиренок, присматриваясь к «Стрижке овец». «Дали», – улыбается кто-то, включаясь в нашу игру, и кивая на «Купальщицу с собакой». И вот уже напрашиваются приговоры – «живопись без свойств». Но – повременим и разберемся.
Здесь – на выставке – и в самом деле хочется сыграть в викторину. Отгадать «Пикассо» в «Купальщицах», или «Матисса» в «Женщине с подсолнухом». За эту «вторичность» Гончарову, наверное, легче поругать, чем похвалить. Однако виртуозность, с какой она жонглирует и играет всеми этими постимпрессионизмами, кубизмами, футуризмами, абстракционизмами… Кажется, ей действительно нет разницы – написать утром что-нибудь символическое («Старец с семью звездами»), а вечером эротическое, под раннего Пикассо («Женщина в красной шляпке»). Вероятно, Наталья Гончарова неслучайная современница Джойса. Сгущая краски, можно было бы сказать: она и в самом деле с легкостью крупье достает из рукава своей «волшебной» блузы симулякры почти всех художественных течений начала XX века. Оговоримся: симулякры, конечно же, наипервейшей свежести. Но ведь Гончарова – не эпигон, не имитатор; язык не повернется так ее назвать. Трудно быть первооткрывателем, трудно быть новатором. И Наталья Гончарова – не первооткрыватель. И, в отличие, скажем, от Бориса Григорьева, даже не новатор. Так кто же тогда она? Авангардист, как написано в буклете? Наш ответ – постмодернист. Наталья Гончарова – первый русский постмодернист. И совсем не в смысле ругательства. Художник с безупречным вкусом, тонко чувствующий цвет, тончайший мастер линии и композиции, Наталья Гончарова – как написано на сайте Третьяковской галереи – «самая знаменитая русская художница, одна из наиболее ярких фигур в искусстве XX века».
И все-таки – ризома. Горизонтальность – в отличие от декларируемой почвенности, архаики скифских каменных баб и русской деревянной игрушки (с последними Гончарова связывала происхождение «своего» кубизма). Перемещение из стиля в стиль, вместо развития (как Пикассо, скажем, продолжает Сезанна). Наверное, нужны Гваттари и Делез со своим шизоанализом, чтобы вывести на чистую воду скрытую трансгрессию в этих невероятных скачках от стиля к стилю, наверное, нужно призвать Бодрийяра, чтобы объяснить эту бесстрастную комбинаторику художественных манер, подстановку вся и всего, эту переливчатость форм, так странно – позволим себе все же съязвить – напоминающую бесформенность капитала, ведь не даром же, Гончарова самая «продающаяся» художница, и не случайно, что именно ее чаще всего подделывают. Концепт русскости, заявленный организаторами выставки, наверное, следует искать в чем-то другом. И даже не в религиозном лубке (за который, кстати, картины Гончаровой изымались цензурой с выставок). В чем же? В нашей хорошо известной «всемирной отзывчивости», проявляющаяся здесь как полистилистика (что уж, наверное, получше, чем соцреализм)? Если всмотреться глубже, то, стоит заметить, что помимо «овладевания» чужими стилями, Гончарова, прежде всего, пытается открыть некое свое внутреннее художественное пространство, где это становится возможным, подчас даже «одномоментно», а вот это уже близко и к русскому концепту. Интерес к пустоте у Гончаровой проявляется как в период ее увлечения абстракционизмом и беспредметной живописью (одна из картин так и называется «Пустота», стоит назвать также и «Композицию с черными пятнами»), так и в последний, «космический» период конца 50-х (серия «Пространство»). Но, кажется, что буквальное понимание темы ее же (тему) и «убивает» – картины «космического» периода самые невыразительные на выставке. А хотя здесь бы могла возникнуть и «метафизика пятна», переход из тона в тон, русский космический колорит… Но побеждает другой концепт, европейский – линия, контур. В цикле «Испанки» Гончарова достигает пика его выразительности и здесь уже трудно навскидку назвать «оригинал», хотя и так же трудно начать разговор об оригинальности. И опять же – Гончарова решает этот цикл в разных манерах от «неоклассики» до ар нуво… Безусловно, линия, контур, композиции – сильные стороны Гончаровой. Но что бы это значило – русская линия? Орнаментальность, карта, пограничье? Кажется, что и здесь Гончарова остается «на пороге». И если и развивается, то – в декоративность (недаром же так много в ее творчестве значат и театр, и мода).
Быть может, она слишком хотела быть авангардисткой? Быть может, слишком чутко реагировала на настоящее? Ведь стоило появиться чему-то новому, как она уже тут, как тут. Футуризм – пожалуйста, беспредметная живопись – не проблем! Иногда ее даже хочется назвать «художником внутри художников». Хотя она и подчас по-своему сопротивлялась. Вот, например, лучизм. Стиль, изобретенный Ларионовым. И Гончарова, проявляя метод, пишет, к примеру, «Море». И в то же время в портрете Ларионова (1913) (заявленном в искусствоведческом сопровождении как этот самый, что ни на есть лучизм) не оставляет от этого самого лучизма просто ничего. Странная картина. Никакого фаллицизма, наоборот: Гончарова смазывает и расширяет «пятном», во весь холст, мужское ларионовское лицо, и здесь оно скорее какое-то «гинекократически» разъятое, с едва обозначенным носом и с – в единичности – маленьким глазком. Зато вот в центре разверстый, «вагинальный» рот… Постмодернистская трансгрессия? Здесь хочется упомянуть и серию с ее любимыми цветами (раз уж мы осмелились пуститься в столь рискованные теоретические спекуляции), где в лоне широких лепестков покоится фаллическая триада пестиков («Ваза с магнолиями», конец 20-х). Но – оставим домыслы. (А хотя, как, собственно, без них, в наш-то век психоанализа?) И все же вернемся от бессознательного к сознательному. Мы забыли «проговорить» лубок. Известно ведь, что Гончарова одна из первых разрабатывала этот «жанр». Может быть, в этом ее оригинальность, русскость? Думается все же, что нет. Опять всего лишь русский аналог примитива, и заявлен только декларативно. Интереснее, пожалуй, ее «мелкоформатные» (гуашь, бумага) религиозные композиции. И именно здесь нас посещает странная мысль: а что если бы со своими техническими и творческими возможностями, со своими способностями и чутьем врастать в любой стиль Гончарова двинулась по времени назад? Да – со всем ее багажом XX века, с ее-то чувством композиции – назад к Феофану Греку и Рублеву, назад к Рафаэлю? Если бы она понимала авангард как археоавангард (термин Гиренка), как его понимал Хлебников (а ведь она иллюстрировала его тексты). Может быть, тогда метафизика линии и пустоты, и метафизический русский колорит смогли бы реализоваться в каком-нибудь действительно гениальном полотне. Быть может, под названием «Богоявление»?
Беседы и интервью
Заноза в лазури
«Независимая газета», Ex Libris, 03.07.14
Андрей Бычков – лауреат премии «НГ» «Нонконформизм-2014». Нам показалось интересным расспросить писателя о том, как он воспринимает понятие «нонконформизм», а заодно узнать о его этических и эстетических взглядах на художественное творчество. Об этом с Андреем БЫЧКОВЫМ побеседовала Елена СЕМЕНОВА.
– Андрей Станиславович, вы стали лауреатом премии «Нонконформизм». А сами вы считаете себя нонконформистом? По каким критериям вообще можно идентифицировать нонконформистские литературные произведения?
– На мой взгляд, нонконформист – это не герой в общепринятом смысле этого слова. Сейчас много героев, люди борются друг с другом, люди рискуют жизнью. И политика, и социум до предела напряжены. Но стоит заметить, что в истории всегда было достаточно напряжения. И народы, и отдельные национальности, те или иные социальные группы всегда боролись друг с другом за территории, за власть, за свое духовное и интеллектуальное превосходство, за блага. Нонконформизм для меня как-то больше перекликается с другим полюсом, не коллективистским. Для меня это индивидуалистическое начало, оно может себя проявить и в героическом, если окажется в героических обстоятельствах, а может и не проявить и остаться просто чудачеством. Нонконформист в отличие от героя не агрессивен. Он просто другой. Он не человек группы. Он всегда один, сам по себе. Напротив, общее, общественное его всегда угнетает, он загипнотизирован одной истиной: общественное всегда вычитается из себя, поэтому оно себя и вознаграждает – титулами, званиями, степенями отличия… Считаю ли я себя нонконформистом? Ну, во всяком случае, я не нонконформистская машина, чтобы ездить по одним и тем же рельсам. На литературу я смотрю шире. А в жизни предпочитаю оставаться человеком. Для меня это скорее вопрос культурных ценностей. Литературное произведение всегда призвано что-то выражать. Но что оно выражает, какие ценности, какие идеи, каким целям оно служит? Является ли поэт «камердинером какой-либо морали» по выражению Ницше, озабочен ли он фантомом справедливости, обличает ли коррупционеров и т. п. или он озабочен вопросами стиля, очарован расширением горизонтов языка, озадачен непонятностью самой жизни, ее бессмысленностью и ее величием… Я не симпатизирую построителям систем, разного рода идеологам, я сам человек противоречивый, поэтому, наверное, и не смогу вам выдать какой-то стройный набор критериев для определения нонконформистского произведения. На мой взгляд, это было бы даже смешно, говорить об идеологии нонконформизма, ведь за этим опять маячат социальные группы, партии, выборы, должности и оклады. Но однажды я все же попытался поразмышлять более строго на эти темы; у меня есть статья «Авангард как нонконформизм».
– Как вы относитесь к существованию премии «Нонконформизм», ведь официальные премии – это уже факт признания?
– Да потому что обществу, как это ни парадоксально, все равно нужны нонконформисты. Их, правда, любят отыскивать в прошлом и душить и распинать в настоящем. Но где-то глубоко в подкорке у каждого же есть что-то святое. Ну хорошо, не святое, ну хотя бы юродивое. Так ведь и с религиями подчас – ну, пусть я сам гад и карьерист, но зато я колена преклоняю и лбом о пол стукаюсь перед символом того, кого я же ежедневно и распинаю. Не стоит забывать опять же, что мы живем в «обществе спектакля», мы играем роли. В жизни, в том числе и в деловой, мы одни, а на сцене, в представлении этой жизни, опять же в том числе и деловой, мы другие. Но есть и в самом деле опасные спектакли и опасные роли. Даже и в наши постмодернистские времена. И сам факт становления премии «Нонконформизм» сигналит о том, что общество постепенно созревает до понимания того, что оно никогда не решит никаких своих общественных проблем, если не начнет с интересов личности. И не с экономических. И не с нравственных, тем более с каких-то абстрактных, догматических. А начнет с чего-то более тонкого, деликатного, человеческого. А что может быть тоньше искусства? Художник ловит полутона, выражается намеками, искривляет пути подобно самой жизни. И нет, кстати, более асоциального существа. Он же должен «найти себя», «свой стиль». А постоянная толкотня в коммуналке (а сегодня – еще и информационной) будет ему только мешать. Что же касается признания, то оно необходимо и нонконформисту, но – в качестве нонконформиста. Это его роль в обществе. Да и что же это за общество, которое не признает своих нонконформистов. Как это у Мандельштама про занозу, мучающуюся в лазури? «Но дай мне имя, дай мне имя! Мне будет легче с ним, пойми меня».
– Кого из писателей вы считаете настоящим нонконформистом? Самое нонконформистское произведение всех времен и народов, по вашей версии?
– Прежде всего Ницше, хотя он и философ. Но, кстати, и писатель блестящий. Это эталон. Достаточно вспомнить «Заратустру». Ницше одним из первых, наверное, обратил внимание на стиль, тон, в котором уже можно развивать оригинальную мысль. Готфрид Бенн хорошо сказал как-то, что Ницше прежде открывает пространство, а потом уже переворачивает в нем ценности. Что касается собственно писателей и поэтов, то для меня это Рабле и Рембо. Даже в фонеме «Рабле» слышится и видится образ какой-то сияющей сабли, скалящейся от сарказма. «Рембо» же грезится как реющий флаг корабля, как романтический вымпел. И я назову его «Одно лето в аду» тем самым настоящим произведением, о котором вы спрашиваете. Потому что в нем брошен вызов реальности как таковой. Рембо ринулся в пучину противоречий, деформаций, алогизма, ясновидения, сновидчества, он попытался снова нащупать в себе изначальный субъект, не отравленный ни историей, ни церковными догмами. Из классиков нашей эпохи, на которых стоило бы равняться на нонконформистском фланге, я бы назвал Арто и Гийота.
– Почему после долгих лет работы научным сотрудником в Институте атомной энергии, после получения психологического и сценарного образования вы обратились к литературе?
– Я знаю, что для многих литература – это всего лишь средство на пути к власти. В конце концов они становятся литературными начальниками и менеджерами, чем и подтверждают свою по большому счету посредственность. Для меня литература – религиозный вопрос. Такая вот своеобразная конфессия; есть православие, есть католицизм, ислам, буддизм, а есть литература. И попом от литературы я никогда быть и не хотел. Хочу оговориться, что я не атеист, как можно было бы подумать. Нет, я скорее политеист, гиперъязычник, бросающийся из одной крайности в другую, во мне живут и Будда, и Христос, и Дионис, и даже Люцифер. И я знаю, что и они тоже мои Читатели.
– Вас считают ярким и опасным автором, который старается запутать читателя. Вы действительно пытаетесь это делать? Если да, то насколько помогает в таких играх психологическое образование?
– Я прежде всего опасен для самого себя. Где-то глубоко в нашем неврастеничном времени бродит психоз, и он жаждет вырваться наружу. Я как психотерапевт знаю о себе эту горькую правду и пытаюсь сдерживаться, порой из последних сил. Этот психоз, наверное, и сублимируется в яркости, которая у меня лично больше ассоциируется с каким-то внутренним смехом, с оздоровляющим хохотом. В последнее время я действительно предпочитаю больше рисковать на письме, описывая тех, кого я хорошо знаю, что время от времени приводит к разрывам и потерям. Меня часто упрекают, что я пишу слишком сложно. Но так писали мои учителя, те, у кого я учился. Не бывает легкой литературы, если это литература настоящая. Для слушателей моего курса «Психотерапевтическое письмо» – а среди них бывали и писатели, и художники, и психотерапевты – часто остаются непонятны «Записки из подполья» Достоевского. В серьезного автора надо вчитаться или, лучше сказать, надо догадаться, что он говорит о чем-то очень непростом и оттого предпочитает такой способ выражения. Как сказал Рембо, «поэт должен определить меру неизвестного, присущего его эпохе». Какой смысл писать понятно о понятном? Этот мир, в который мы попали, как выясняется, очень сложный, неоднозначный, с непонятными разрывами, со сменой ритмов протекания времени, с разными стилями существования. В нас постоянно отражаются разные существа, то профессора, то идиоты, и в нас остается что-то и от тех, и от других. Мы постоянно заражаемся разными психологическими манерами, состояниями, нас рвут на части разные идеологии, мы пытаемся собрать себя и рассыпаемся. И литература должна все это тоже как-то выражать. Литература должна быть сложна, как и жизнь; неоднозначна. Иначе это будет или масскульт, или агитка. Именно сейчас человечество подходит к пониманию, что оно не знает, что оно, собственно, собой представляет, зачем оно? Мы цепляемся за мифы и религии, лишь бы не сойти с ума в этом беспощадном хаосе. Мы жалеем себя, мы себя сберегаем, цепляясь за ту или иную социальную или политическую модель. Мы спасаемся только моделированием. И только художник может без забрала взглянуть в лицо всем этим противоречивым силам. А потом его упрекают, что он вас запутывает. Он ищет адекватные времени стилистические ходы. Поймите и примите сложность мира, не упрощайте. Это психологическое образование просит упрощать, чтобы сделать понятным, и, когда я пишу, а не лечу, я это свое образование отбрасываю.
– Как вы находите сюжеты для романов? Как родился самый необычный сюжет?
– Сюжеты зачинаются сами, чувствуешь вдруг иррациональный импульс и стараешься запомнить – что и, самое главное, как тебя озарило. А потом все растет по закону жизни. Время от времени пропалываешь сорняки, чтобы не заглушали. Когда я жил один, особенно в десятилетнем перерыве между двумя моими браками, то мне почему-то попадались тревожные женщины. И в их тревоге я часто бился, как в силке. И когда я начинал их ненавидеть и хотел бросить, то они вцеплялись в меня еще больше. Так однажды кое-кто предложил мне принять на пару обильную дозу тазепама и закончить жизнь в коитусе. В тот же вечер я сбежал. А через несколько лет (с проекцией на другую тревожную женщину) написал роман «Гулливер и его любовь».
– В чем идея неудачи, потери, уклонения, которую вы используете как двигатель сюжета и как экзистенциальную позицию?
– Через год, а может, и раньше кто-то из читающих эти строки может умереть. Вы можете умереть. Я могу умереть. Попробуем запомнить это сегодняшнее число. Что мы успеем до следующего года? Что действительно важно, а что нет? Мы все рано или поздно себя потеряем. По странному непонятному закону мы теряем лучшее, что у нас есть. И мы должны как-то выстоять в этом отсутствии, в этой потере. Собственно, здесь только и начинается жизнь, здесь она открывает перед нами наше предназначение. Однако частенько мы предпочитаем теряться в своей бессмысленной озабоченности, с которой мы уже не в силах бороться, и обманываем себя, утверждая, что мы в конце концов активные, волевые существа и мы всего-навсего улучшаем свою жизнь. И для нас это становится уже банальной истиной, с которой мы смиряемся. Но где-то глубоко в самих себе мы понимаем, что мы просто оправдываемся перед судьбой, что мы смирились и не можем помыслить себя вне этой озабоченности, для нас это сама жизнь, все, что от нее остается. Но великая задача – потерять себя сначала как свою озабоченность, а потом как даже лучшее, что у нас есть, и остаться, быть – по-прежнему стоит перед нами. Та литература, на которой я был воспитан, учит этому на свой лад. И я надеюсь, что и мой читатель тоже задумается о смысле этой «великой нехватки».
«Эротическая интоксикация мозга в придонном слое реальности»
«Частный корреспондент», 26.08.14
Александр Чанцев поговорил с прозаиком, эссеистом и лауреатом премии «Нонкоформизм» за 2014 год Андреем Бычковым о Ю. Мамлееве, шизоанализе, Г. Бенне, современной физике, С. Беккете, языке как зрении в темных зонах и русскости как новом нонконформизме.
Александр Чанцев: Недавно ты получил премию «Независимой газеты» «Нонконформизм». Как сейчас возможно, на твой взгляд, существование нонконформистских идей и практик? Ведь Система, если не инкорпорирует эти практики в свое тело, может просто отсечь их от информационных потоков, тем самым сделав несуществующими. А нонконформизм, варясь в узких маргинализированных группках, принимает не лучшие душные формы: как писал Алексей Цветков, сам нонконформист, в своей старой повести «Баррикады в моей жизни» – «я убеждался все сильнее: пока радикализм заперт в орденах, монастырях, университетах, галереях, он склоняет своих носителей к изоляции от проклятого мира, к дендистскому подчеркиванию непреодолимой границы». То есть остается внутренний индивидуальный нонконформизм?
Андрей Бычков: Сегодня все границы стали прозрачнее. И трансгрессия – прохождение ранее непреодолимых барьеров – сегодня даже не одна из практик, а часть реальности. Вдруг оказалось, что все мы живем в «двойном» мире. Так что нонконформизм уже в «теле Системы», хочет Она того или нет. Мы часть Ее бессознательного. А если по-другому: Она сама, не признаваясь в этом себе, хочет своей смерти. Формально – мы живем по принципу прививки. Чтобы не задохнуться в собственном идиотизме и сохранить свое реноме, Система и прививает нас себе. Теоретически – мы живы, потому что у нас есть выигрышные стратегии атаки и провокации. Но «фундаментальная правда» в том, что сегодня Система не может нас изолировать в принципе, поскольку сам принцип границы сдает свои позиции. Бедняги недооценивают иррациональность и алеаторность того, что принято называть современностью. Бедняги закрывают глаза на неопределенность, случайность, неустойчивость, непредвиденность, на все темное и неясное, где, однако, по-прежнему действует судьба. Бедняги все еще рационализируют из последних сил, и на бедняг обрушивается беда. Они перекрывают информационные потоки, а наша прекрасная болезнь расцветает у них под носом (в данном случае в «Независимой газете»). Над беднягами смеются боги. Не уверен, что отвечаю точно на твои вопросы, попробую сформулировать по-другому. Идеальное основание наших практик в их трансцендентности, непобедимость наших практик в их субъективности. Все остальное приложится.
А.Ч.: Кто для тебя безусловно нонконформистские фигуры, живут ли они еще с нами?
А.Б.: Ницше, Арто, они заплатили безумием за привилегию своей самости. Назову еще и Рембо, хотя он и отрекся. Назову Велимира Хлебникова. Ряд, конечно, можно продолжить. Но безусловные нонконформисты в чем-то подобны древним героям. А мир, увы, развивается в сторону деградации. И нынче нонконформисты уже не те, что в прежние времена. Хотя нас по-прежнему соблазняют маски, они же – духи. Они тянут назад, прочь от цивилизации масс, назад, к аристократическим ценностям. Наверное, сейчас больше иронии и игры, какие-то дистанции необратимо увеличиваются, вселенная расширяется. И мы все больше сосредоточиваемся на знакенонконформизма, признавая, что мир по сути изменить нельзя. Операционная сила знака все нарастает, но сами мы попадаем под действие того же закона трансгрессии, под «отдачу от выстрела». У меня, конечно, своя оптика в этом ответе. Я думаю, ты бы назвал другие фигуры. Кстати, интересно какие?
А.Ч.: Арто – безусловно. Моррисон и Летов, потому что они не только провозгласили, пели путь Вгеак on Through, но и дошли to the Other Side, в смерть. Хотя, из-за «перепроизводства» идей и ценностей (общество потребления идей действует по принципу DOS-атаки – направляет слишком много идейных запросов, чтобы взломать аксиологический антивирус и обвалить систему ценностей), мне сейчас интересней фигура не Прометея, а именно сдержанной аристократической независимости, внутренней свободы мысли. Эрнст Юнгер и Готфрид Бенн, те, которые не изменили ни на йоту своим мыслям, слогу, когда их давил фашизм – а потом те, кто боролся с фашизмом… Или даже те, кто стилистически был полностью out of step, перпендикулярен эпохе, абсолютно от нее независим. Даниил Андреев, в сталинской тюрьме создающий прекрасный, прекраснодушный розамирский миф. Евгений Головин, у себя на кухне учащий узкий круг средневековой мудрости и алхимии. Совершенно разные люди – от Владимира Казакова, стилиста едва ли не более утонченного и дивного, чем Саша Соколов, до, например, Ханса Хенни Янна, не только писавшего, проповедовавшего ни на что непохожее, но и жившего очень свободно… Юнгер и Бенн не угодили ни фашистам, ни союзникам, Казакова очень мало кто читает – в этом оправдание того, что они были правы и я не слишком вольно расширил понятие нонкоформизма… Назвал сейчас много имен (и даже сам обрадовался!), но, может быть, это и неплохо, ведь Система внедряет мысль, что само такое мышление о контркультурных героях – это тинейджерство, «пафос» и в лучшем случае епархия Голливуда… Кстати, об Адмирале Головине и южнинском кружке. Ты близко знаком с Юрием Мамлеевым – расскажи, пожалуйста, что значат для тебя его книги, что дает живое слово общения?
А.Б.: Это русская тема, пляска на краю бездны. Мамлеев разрушитель иллюзий, он же и их создатель. Как Шива, как Вишну. Нет никакой реальности, есть лишь наша пляска и наш хохот. А ведь в этом и метафизика искусства. Нет никакой религии, а есть лишь трансцендентность «Я». Мам-леев для меня прежде всего блистательный художник. «Шатуны» – вызов человеческой надменности, высокомерию цивилизации, прикрывающейся гуманными идеалами. Но подчас все ровно наоборот. Мы подлые хитрые твари, озабоченные существованием других и сбивающиеся в стаи. Мам-леев винодел, из черного винограда горьких истин он возгоняет бодрящие ослепительные напитки, его шампанское бьет в голову, и ты смеешься над его куротрупом – пародией на христианина, ты признаешься себе в своем скотстве, в своей алчности, ненависти к другим, сладости убийства и – тебе становится легче, ведь ты вдруг осознаешь, что это не более, чем твои фантазмы, корни твоей человеческой фантомной природы, чтобы ты, как дерево, мог расти в высоту, тянуться к свету. Мамлеев – русский иррациональный человек и к нему, к его книгам тянет, как к алкоголю, лишь бы не видеть всю эту русофобскую политизированную дрянь, озабоченную приливами своей социальности и ставками на прерогативу экономической науки. Интересный, однако, получается поворот – русскость, в некоем трансцендентном смысле, тоже можно понимать как нонконформизм. Еще одно трансгрессивное расширение.
А.Ч.: Иррациональное как (едва ли не единственная (и отчасти вынужденная)) альтернатива рациональному веку. Ты в своей биографии и послужном списке сочетал совершенно разные работы – сценариста, физика в Курчатнике и, сейчас, психолога. Такие разные работы, сочетание, банально говоря, профессий «физика и лирика» – это же действительно каким-то особым образом форматирует мозг, нет?
А.Б.: Мой мозг отформатирован менингитом. В десятом классе меня даже освободили от выпускных экзаменов. Поступление в высшие учебные заведения было строго запрещено. Но я злодейски подделал медицинскую справку и сдал конкурсные экзамены на физфак в МГУ (тогда было 9 человек на место). Так что иррациональное у меня и в левом, и в правом полушарии. Современная физика, кстати, довольно «безумная» наука. Ее образы близки поэтическим, алогичны, абсурдны, и это не вынужденные иллюстрации к стройным математическим построениям, а изначальная данность понимания. Трудно говорить о своем внутреннем опыте. Я как бы развлекаюсь на весах – опора и коромысло с неравнозначной длиной плеч, вдобавок на большой высоте. Разбегаюсь по длинному и прыгаю на короткое. Раскачиваюсь и, чтобы не навернуться с «устройства», прыгаю обратно. А как твое, японское, откладывает отпечатки?
А.Ч.: Никак – или настолько глубоко, что это мной неотрефлексировано. Но все же никак, потому что есть две стадии японофилии. Первая: любить суши (даже не суси), смотреть манга и читать Харуки Мураками – к японской культуре, понятно, отношения никакого не имеет. Вторая и крайняя – когда человек уезжает в буддийский монастырь, вместе с волосами оставляет свое европейское имя – лежит за пределами обсуждения. Самая же адекватное – не инфицироваться какой-либо культурой, но получать ее прививку. В человека должно проникать много культур, в крайней степени не должна ни одна превалировать. Поэтому мне отчасти странно, хоть и понятно, когда достойные люди, рецензировавшие мои книги, писали о самурайской эстетике, дзэнском мышлении. Разве может изучаемая культура, в конце концов, быть важнее исповедуемой религии, любимого места на земле в Подмосковье, даже гонконгского кинематографа или ирландского рока? А, скажем, полупоклоны я предпочитаю рукопожатиям – так это не японское, просто гигиеничней, да и европейские люди изначально вполне раскланивались друг с другом…
А.Б.: Вот и я, с более строгой, психологической точки зрения, вероятно, занимаюсь эротической интоксикацией мозга. От мысли и от языка ждешь наслаждения. Под это выстраивается и практика, позы тела. Бывает, начинаешь на диване, а потом обнаруживаешь себя на полу, в дальнем конце комнаты… Если же совсем строго, то надо делать только то, что тебе действительно интересно (от латинского inter-esse – «быть между»).
А.Ч.: Mesure de la démesure. Возможно, когда-нибудь будет написана работа о влиянии болезней мозга на новую словесность – ведь энцифалитному жучку в сибирских лесах, как говорят, мы обязаны лучшим песням Летова… Что касается нынешнего сближения лирики и физики в определенном пределе, то можно, видимо, предположить, что обе апеллируют к тому высокому уровню знания, о котором давно уже было сказано, что ум уводит от Бога, а большой ум – приводит. Сейчас ты работаешь гештальт-психологом и используешь в своих практиках литературные тексты. Как, если не секрет, это происходит?
А.Б.: Я занимался и гештальт-терапией и сочинительством и однажды мой менингитный жучок, сидящий между обоими моими полушариями, мне нашептал: а почему бы не объединить обе практики и не подарить их человечеству? Так и родился мой курс. Язык – это и некое словесное зрение, и если по определенным правилам пациент сфокусирует его на собственные глубины, то появляется возможность «увидеть» проблемные темные и пока еще безъязычные зоны. Это не так просто, потому что география зон – «ночные места». И здесь нужен проводник, чтобы во время остановить взгляд «путешественника», чтобы открылась нужная перспектива. Потом нужно как-то спровоцировать это безъязычное на язык, дать ему возможность заговорить, чтобы оно, наконец, высказалось, в свою очередь «словесно увидело» пациента и ответило ему на мучающие его вопросы. Это тонкий процесс, и во многом он основан на доверии к проводнику. Казалось бы, здесь много от гештальт-методик Фредерика Перлза. Но оказывается, еще Ницше пользовался подобными переменами перспективы, я прочитал об этом в его «Esse Homo». Но я иду к ним от писательских практик. Все начинается с настройки через какое-нибудь классическое произведение, чаще всего это русский рассказ – Толстого, Чехова, Достоевского. Потом я прошу участников группы написать психотерапевтическое сочинение на разные хитрые провокационные темы, которые я извлекаю в процессе обсуждения из этого классического текста. Сочинение читается автором вслух. И я учу отслеживать тонкое, часто даже и не само содержание сочинения, а то, как это написано и даже как это произносится автором вслух, какими «случайными» движениями сопровождается. Здесь-то как раз искусство как практика формы и помогает найти то самое, темное безъязычное содержание. Каждый из участников группы тоже участвует в поисках, высказываясь о зачитанном. И безъязычное проступает все отчетливее. Наконец, оно вступает в диалог с автором. Я просто сажаю его на стул по методике Перлза напротив автора и прошу ответить на его вопросы. Так начинается наш безумный театр. Жучок в восторге… А у тебя есть какая-нибудь своя фишка, какой-нибудь свой «жучок», даймон, как у Сократа, или что-нибудь еще, что позволяет тебе выигрывать?
А.Ч.: Боюсь, что нет. Я только проигрываю. Из некоторых проигрышей – времени, радости – иногда рождаются тексты, дети суккубов ностальгии и печали. Такие беньяминовские Mellon Collie and the Infinite Sadness. Сейчас довольно много новых психологических методик. Какие представляют для тебя интерес, возможно, не терапевтический и профессиональный, а интеллектуальный? Что ты думаешь о шизоанализе Делеза-Гваттари?
А.Б.: Мне всегда были интересны шаманские, магические практики. Из них произрастают и многие психотерапевтические методы. Трансы Беччио, эриксоновский гипноз. Буддизм, даосизм – целая сокровищница методов. На тонком прикладном уровне – это работа со вниманием, понимание и использование неизбежных «темных» сил противодействия. А это имеет отношение и к искусству в целом, контркультура – частный случай. Еще Готфрид Бенн переопределял «бионегативные» феномены как творчески продуктивные. Просветление – это просветление тьмы, работа с тьмой, о чем говорил и Юнг. От «инь» никуда не деться. С шизоанализом я знаком только теоретически, по работам «Анти-Эдип» и «Капитализм и шизофрения». Это, конечно, краеугольные камни всей современной культуры. Недаром там так много примеров из модернистской и постмодернистской литературы, их блестящего анализа, да и искусства в целом. В психотерапевтическом смысле, наверное, это развивается как «что хочешь – делай», такая своеобразная перестановка акцентов в известной телемитской и, позднее, кроулианской максиме. Делез вообще для меня гуру в понимании искусства. Мой роман «Олимп иллюзий» (за который я и получил премию «Нонконформизм») во многом спровоцирован его ошеломительной книгой «Френсис Бэкон: Логика ощущения». Я даже рецензию на нее написал, чтобы поделиться с единомышленниками его секретами, поскольку это, на мой взгляд, необходимый самоучитель для любого художника, и художника слова в том числе. А как тебе, кстати, Делез? Ты, ведь, наверное, не случайно о нем спросил?
А.Ч.: Делез, наверное, для меня один из самых честных из французских пост-философов (наряду с Бодрийяром, выбравшем для себя работу с более массовыми, «попсовыми» темами) – он дошел в своем философствовании до таких далеких областей, что мы только видим их в фантастических фильмах. А еще писал о кино так же увлеченно, как о философии, пил, был экстравагантен, как рок-звезда (не стриг ногтей), покончил с собой… Можно ли понимать так, что современных авторов ты в своих психиатрических практиках не используешь? А кого ты читаешь из современных, если, конечно, читаешь?
А.Б.: Да, я «настраиваю» участников своей группы через классику, но в том числе и зарубежную – Пруст, Кафка, Беккет… Это целые миры, но здесь есть привкус психологической тотальности, при всем их субъективизме. Они открывают нам то, что есть, и с чем приходится мириться, чтобы быть по-своему так странно счастливым, хотя это счастье – во многом счастье художника. Очень многие вещи в жизни изменить нельзя. Но и сам этот факт открывает нам то, что по Хайдеггеру называется просвет… Современной художественной литературы я в последнее время читаю не много. Что не откроешь – не та интонация. Феноменология не так интересна, многое черпаешь непосредственно из жизни, даже из интернета. Художник должен приоткрыть некий придонный слой реальности, как и почему она протекает именно так, а не просто срисовывать мусор на социальной поверхности. Я стараюсь все больше перечитывать великанов. Как им удалось догадаться, что они такого в себе сделали, как они посмотрели в себя, через себя, как прислушались, как замерли, чтобы услышать… Не то, чтобы я тешу себя надеждой, но – хотя бы приблизиться, сделать свой малый, но шаг.
А.Ч.: Кстати, Гюнтер Грасс в свое время сказал, что «поэт Бенн и философ Хайдеггер дают нам цитаты для апокалиптического мироощущения», которое они тщательно исследовали… А что ты читаешь сейчас? Есть какие-нибудь открытия, которые ты порекомендовал бы как must read?
А.Б.: Эссеистику Беккета. Буквально вчера – его эссе о голландских художниках братьях Браме и Гере ван Вельде. Пронзительная метафизика. Поразительно, что Беккет даже не говорит о стиле, его интересует исследование вещи в ее изолированности (у Брама), как она позволяет себя увидеть. Его категории анализа – протяженность (у Брама) и последовательность (у Гера). В мире слишком много лишнего. У Беккета есть потрясающие фразы: «вернуться в слепоту, наскучить себе созерцанием вечно мертвого мяса, дрожать под тополем. Только так мы вообще окажемся в состоянии что-либо показать». Беккет, конечно, пишет о себе, да и не скрывает этого. Он, собственно, и есть тот самый – последний писатель. Как и почему можно писать после него? Только потому, что так странно продолжается жизнь?.. Мне кажется, что мы с нашей сегодняшней вовлеченностью в социальный процесс теряем какие-то неподвижные важные вещи. Где они происходят – неизвестно, быть может, в нашем воображении. Увы, мы сегодня все больше реалисты, и нам никуда не деться от того, что боль и трагедия настоящего затягивают в себя и нашу субъективность, мы все сегодня устремляемся в какую-то черную непонятную воронку. Но – почему-то – остается искусство, которое, как когда-то сказал Новалис, и есть наша последняя антропология. Спастись от гибели невозможно, но все же можно ее увидеть и тем самым ее отсрочить. Мы почему-то отделяем литературу от искусства – живописи, музыки, забываем про их общее начало. А ведь писатели пишут не слова, и не описывают те или иные утверждения, речь о раскрытии горизонтов – есть или нет. Из обязательного я бы порекомендовал Готфрида Бенна, его недавно выпущенную Вальдемаром Вебером на русском книгу «Двойная жизнь». Там очень много о том, как выстоять в непростые времена. И к чему в такие времена поэт.
А.Ч.: Да, Бенн – настоящий стоик, один из авторов, ты безусловно прав, для «чтения во время войны». Ты говорил о «русофобской дряни», о «трагедии настоящего» – как ты думаешь, что будет с нами? Я не прошу политического прогноза, этого не знает, думаю, и Нострадамус с ЦРУ, но сейчас, я бы сказал, уже идет одна война – гражданская (я имею в виду жесточайший антагонизм идейных противников в том же русскоязычном фрагменте интернета) и начинается другая – вновь холодная…
А.Б.: Ничего хорошего. Слишком высока цена, которую мы платим за изменения. Похоже, вступают в игру какие-то новые иррациональные силы, которые до этого обозначались лишь символически. И которые невозможно проконтролировать, тем более таким бездарным элитам, какие правят сейчас и у нас и на Западе. Что нам делать? Да ничего не делать, а вернее сказать – делать то, что мы всегда и делали, постараться побольше успеть. Постараться не быть заложниками политического. Мы все, каждый из нас может и ошибаться в такой сложнейшей ситуации. Розанов как-то сказал, что «на предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Это „координаты действительности", и действительность только через 1000 и улавливается». Но и наши субъективные симпатии никто не отменял. И я бы не хотел сейчас скрывать своих. В конце концов, мы начали разговор с нонконформизма, а это всегда бунт против правил. Я сердцем с Новороссией, хотя умом прекрасно понимаю, что как государство она вряд ли состоится. А если и состоится, то рано или поздно все равно попадет под власть все тех же бюрократов. Но здесь восстает та иррациональная русская стихия, которая гораздо глубже любого здравого смысла, любого «православия», и даже «христианства». Европейская же культура (в отличие от цивилизации) – а по культуре я европеец, – всегда симпатизировала безумцам.
А.Ч.: Мисима, мне вспомнилось, для своей новеллы «Патриотизм» подобрал из богатого синонимического ряда довольно специальное слово – «youkoku», где иероглиф «ю» имеет меланхолические коннотации, используется в частности в китаизированном выражении «youguo», означающее озабоченность, волнение о стране… Настраиваешь ли ты участников своей группы с помощью музыки? Мы встречались с тобой на совсем разных концертах – шведско-норвежский новый джаз Atomic и американские боги индастриала Swans. Джира из Swans творит, к слову, настоящую трансгрессию. Кого бы выбрал как саундтрек к своим книгам?
А.Б.: На группе мы, конечно, говорим не только о литературе. Много и об искусстве как некоей тотальной практике. Можно же быть и художником жизни, а не только сапожником без сапог. У меня есть для группы одна «музыкальная настройка». Я рассказываю участникам о пьесе Кейджа 4'33", а потом предлагаю прислушаться ко всему, что происходит в себе или вокруг и синхронно все это описать, разумеется, в течении все тех же 4-х минут и 33 секунд… Atomic? Да, это было классно! Сколько разъединений, какая тонкая игра на разъединениях, которые каким-то фантастическим образом снова собираются в какое-то принципиально новое целое. Сколько новых промежутков и размерностей. Вот где мечта о демократии, яркой, собранной в букет, и где индивидуальности цветут, как в чистом поле. Делез бы заценил… Swans – особенно последний, «То Be Kind» – меня просто заворожил. Вдруг так снова вернуться к простоте, к неподвижности, которой мы все всё равно так или иначе пронизаны; ведь мы нанизаны на все эти вечные истины, которые возвращаются, которые никуда и не исчезали, а это мы просто заболтали их, и перестали верить. Нет, господа, всем давно пора слушать Swans. Люцифер давно уже здесь. Я бы, конечно, хотел написать что-нибудь вроде Just a Little Boy, на том же посыле, как новый Майринк… Но я какой-то весь очень разный, самому даже страшно, во мне бродит целая армия композиторов, и кому из них отдать предпочтение, честное слово, не знаю.
А.Ч.: Твой роман, за который ты получил «Нонконформизм» и который, надеемся, скоро увидит свет, называется «Олимп иллюзий» – выражение из Ницше, которое ты использовал в своей статье про Бенна, где утверждал, что нигилизм оставляет нас с последней правдой – есть только иллюзии и искусство (=стиль) для описания их. Роман наследует этим идеям?
А.Б.: Да. Субъект с его аристократической привилегией порождается Ничто. Нашим намерениям необходима катастрофа, чтобы мы могли заглянуть в суть вещей. Пора выходить в вертикаль, даже если и «суть вещей» – не более, чем иллюзия. Даже, если она и распадается на непонятные осколки, и за ними сквозит лишь призрак целого, как у Рембо. Роман – нисхождение в ад, где ад – это уже не другие, а ты сам, по странной причине, состоящий и из других. Но мне интереснее оттенки и отсветы, игра теней, чем «ответы», плывущие на философских спекуляциях. Искусство находит себя «между сущностями» (все то же «inter-esse»), такая вот метафизика промежутка. Без поисков нового языка, новых отношений внутри языка, которые только и способны породить новые перспективы, сегодня – никак.
Литература, антиязык, метафизика
Диалог писателя и философа, «Новые ведомости», 27.07.15
Алексей НИЛОГОВ. Кто сегодня мёртв – читатель русской литературы или сама русская литература? Возможно ли сказать: русские писатели есть, а русской литературы нет? И наоборот?
Андрей БЫЧКОВ. Это рассуждение о смерти писателя, литературы и читателя… мне бы не хотелось начинать его с определенности, не хотелось бы также начинать и со своей собственной банальности и обвинять во всем социологию, подверстывающую социальность ко всем художественным начинаниям. Обо всем этом я уже неоднократно писал и говорил. В твоем вопросе меня сейчас волнует другое, как так получилось, что смерть оказалась так близко и коснулась почти всего, но не так, как мы думали и надеялись, что ее присутствие – это вызов и наша собранность ей противостоять, что благодаря ей и перед ней мы только и можем быть живыми и писать только то, что несет в себе жизнь, даже если и приговаривает к смерти? Что мы сами просмотрели и к чему оказались не готовы, что чувствуем себя так беспомощно и задаем подобные вопросы. Вот здесь, по-видимому, назревает и какой-то ответ со стороны сокрушающихся – что они все еще живы. И значит, они все еще могут что-то сказать и взыскующему читателю, если и он еще не умер. Но как смертию смерть попрать? Как принять этот новый вызов, поднимающийся из нас самих, подобно раковой опухоли? Мне кажется, что у нас есть только одно спасительное средство, и теперь это даже и не литература, а сам язык, как какая-то новая лингвистическая энергия против реальности, какой-то священный состоящий из слов и при этом зримый галлюциноген, который еще не дает умирать нашим грезам, даже если они все больше обусловливаются чем-то иным, с чем мы не вправе больше бороться. Я не уверен, что у меня получается ответить тебе. Но, может быть, в самом моем провале ответа, остается еще возможность какой-то надежды на ответ. Отвечать обусловлено, исходя из назначенных нам границ, мне не хотелось, а вот уцепиться за горизонт и посмотреть что там, за ним? И если мы неспособны сдвинуть мешающие нам видеть «вещи», можем ли мы еще искривить само пространство и так обмануть действительность? Литература, как известно, не поставляет концепты, но вот философия – это такая призма, через которую современность становится как-то четче видна, и мы, пусть даже с помощью несовершенной метафоры можем представить себе, а что собственно происходит – как, например, Бодрийяр говорит, что катастрофы, несмотря на всю их очевидную неизбежность, не разражаются, потому что они как бы выходят на орбиту и начинают вращаться вокруг нас, не падая, подобно искусственным спутникам Земли, которые, вообще говоря, непрерывно падают на Землю, просто у них такая скорость (так называемая «первая космическая»), что они никак не могут упасть, потому что «промахиваются». Скажи, какой концепт смерти – литературы или, что тебе ближе, – философии мы могли бы изобрести, какую, вернее, оптику мы могли бы угадать, чтобы смерть философии или философа, литературы или писателя, а также и их соучастника – читателя, чтобы снова ее хоть на какое-то время приручить? Ведь о связи искусства и смерти (и философии и смерти) было известно давно, и раньше она была нашей союзницей. Когда показалось, что ничего нового «вверх» уже не найти, постмодернизм нашел способ выкрутиться и изобрел ризому. Какой концепт или хотя бы метафора могли бы на твой взгляд оказаться действенными сейчас? Ведь отчасти это и неявный замысел твоего замечательного проекта «Кто сегодня делает философию в России»? Что они – вы – философы делаете, чтобы «обмануть» смерть, чтобы обдумывать не мертвое, а какую-то последнюю возможность живого?
Алексей НИЛОГОВ. Андрей, давно не читал ничего философичного, чем у тебя сейчас. И честно признаюсь, что свой вопрос задал наобум, а теперь он дурно пахнет тем самым ненасытным социологизмом, функция которого, по Ницше, заключается в суммировании нулей. Остаётся избавиться от него, чтобы не превратиться в «социолуха человеческих туш».
Задавая вопрос о смерти русской литературы, видимо, на собственном примере можно констатировать то, почему перестаёшь читать художественные тексты. Нетрудно обвинять литературу в окончательной изолганности и риторической изощрённости тогда, когда и сама философия иллюстрирует собой одну из форм ложного сознания. Ещё циничней говорить о той литературе, которая растерялась в самоопределении: то ли она является русской, то ли всё-таки российской. Может быть, отечественным писателям (пардон, литераторам) и смешно это слышать, однако отечественные философы живут этим каждый день. Попытка рас-понимать философию в качестве особого рода литературы должна быть неприемлема для философов, если именно им пришлось мужественно смиряться перед смертью, ничего не ведая о ней.
Ты спрашиваешь о действенном живом концепте, способном оградить нас от смерти. Однако для меня твой вопрос предельно наивен. Не кажется ли тебе, что наше отчаянное положение дел есть результат постоянного забвения феномена смерти в культуре?.. Убегая от неё наутёк, мы теперь вынуждены уживаться с теми формами забвения смерти посредством литературы и философии, которыми пользовались на протяжении всей нашей цивилизации? Кругом – одна мертвечина: и литература, и мифология, и наука, и философия – тому яркие примеры. Обрати внимание и на то, что все ухищрения по приручению смерти – от традиционной религии до инновационной медицины – выдыхаются вместе с культурными механизмами; все они дышат на ладан. И у нас, смертных, ничего другого не остаётся, кроме как кичиться своей смертностью друг перед другом (Ницше). А теперь представь, что и смерть – иллюзия, но не в смысле языковой уловки в духе Эпикура, а при том скандальном положении дел, будто смерть не доказана как смерть, если мы, чёрт побери, живём в симуляции – самой лучшей из возможных Матриц… Правда, и здесь не всё так просто: например, российский физик А. В. Юров, размышляя над универсальным аргументом «судного дня» (doomsday), скрещенным с симуляционным аргументом шведского философа-футуролога Н. Бострома, считает, что можно существенно увеличить апостериорные вероятности нашего узничества в Матрице. Ты ведь тоже по образованию физик. Что бы ты мог как физик ответить себе как лирику на поставленный мною вопрос?
Андрей БЫЧКОВ. Я не скрываю своей наивности в ответах на столь сложные вопросы. Я думаю, что никто не знает до конца, что такое смерть. И, однако, каждый из нас знает о ее присутствии. И каждый из нас сталкивался с ее проявлениями. Конечно, современная культура предпочитает вытеснять ее в виртуальные измерения. На наших улицах уже не слышны похоронные оркестры, гробы с простыми покойниками уже не принято ставить открыто для прощания у подъездов домов. Зато вот телевидение постоянно показывает нам кадры разрушения и смертей. А в фейсбуке мы узнаем о кончине знакомых и незнакомых нам людей гораздо чаще, чем раньше; но этим и ограничиваемся. Представить себе, что смерть – это иллюзия, можно, но это не отвечает моему экзистенциальному чувству. Хотя я понимаю, что это и есть радикальный ответ на мой наивный вопрос о действенном концепте «приручения смерти». Я мог бы развить спекулятивный ответ на твой вопрос, но тогда я бы скорее выстраивал мысль наоборот, в сторону уменьшения апостериорных вероятностей нашего «пребывания в симуляции». Но я думаю (и чувствую), что феномен смерти настолько фундаментален, что его невозможно «симулировать». Что здесь скорее стоит говорить об иллюзии скандала. Хотя ты прав, современная культура, в особенности, массовая, только этим и занимается, и оттого все больше отдает мертвечиной. Современная культура упрощает этот феномен или до идеи простого исчезновения, или сводит к теме реинкарнации, которая при этом опошляется до какого-то элементарного операционного действия. Мне кажется, это все от того, что мы оказались неспособны справиться с глубиной осмысления этих проблем посредством одной лишь рациональности. Может быть, искусству и литературе с присущими им нестрогим стилем «мышления» и «проще» обращаться к подобным темам. Но живой для меня здесь остается только классика. Так рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» всегда был и остается откровением. И ничего более глубокого о смерти я, наверное, и не читал – ничего, что бы меня так глубоко поразило… Должен сознаться – я в последнее время как-то слишком много думаю о смерти, вернее даже не думаю, а как-то странно начинаю все больше ее присутствие ощущать. Она врывается в мои рассказы и романы, когда я этого совсем и не хочу. Я словно бы приношу ей какую-то обязательную дань, откупаюсь от нее, жертвуя собой через литературного героя. Часто я стал ловить себя на каком-то странном фантазме «невозможного-но-умирания» – все ближе и ближе эта неизвестная граница. И она реальна. Но от мучительного осознания этой реальности только и открывается вся глубина и жизненность настоящей подлинной культуры. В литературе одним из последних столпов здесь для меня остается, наверное, Кафка. Это какое-то странное «отсутствие в присутствии», «доказательство», что смерть не где-то «там», а что она всегда «здесь». Тот же Беккет уже во многом играет со смертью как с концептом, такая вот «первая подлинная игра», что оборачивается озабоченностью молчанием в языке и его знаменитым «методом вычитания». Но, быть может, только здесь вот, в такой ситуации, и возможен какой-то «новый» наивный скачок, а не апостериорное развитие? Вопрос только куда скакнуть… Где и чему мы еще можем сказать «да» согласно ницшевскому завету о «вечном возвращении»? Или дискурс о смерти (в нашем случае – литературы и философии, автора и читателя) – остается единственно актуальной формой жизни?
Алексей НИЛОГОВ. Торопливо провозглашённая смерть постмодернизма на русской почве обернулась его небывалой жизненностью. Это психоаналитический факт нашего культурологического вытеснения. Мне кажется, что мы не можем выговориться полностью, чтобы сказать ницшевское «Да!», разоблачившись до всех подноготен. Да и контрницшевское «Нет!» сказать не под силу. Потому что зачарованы формой вечных вопросов, которые остаются безответственными к вопрошающим. В надежде найти хотя бы какую-нибудь опору, мы спотыкаемся на пустом месте. Но этого места нет и быть не может.
Зря ты заговорил о Кафке. Жизнь в своём абсурде давно превзошла его. Видимо, теперь следует произносить так: Ко-Кафка. Проблема в том, что литература заигралась в жизнь и смерть, превратившись в текстурбацию. Это разновидность аутосексуальности. Её языковая игра – всерьёз и по правилам. Видимо, поэтому пора отказаться от этого функционального стиля, который лингвисты называют стилем художественной литературы. Ты подхватил у меня идею об антиязыке, которую я позаимствовал у Ф. И. Гиренка. Может быть, через антиязык литература перестанет быть текстурбацией? Хотя, собственно говоря, как ты понимаешь антиязык с точки зрения современного русского писателя?
Андрей БЫЧКОВ. Ты говоришь, что «места» для вопрошающих к «безответственным» вечным вопросам нет. Но я думаю, что это «место» есть. И это «место» и есть «смерть», которую следует оговорить в подобном контексте как «ничто». И Кафка – в этом смысле – остается самым актуальным писателем. Потому что он и персонифицирует этот опыт «ничто», в котором только и возможен «другой мир» – мир литературы. Понимать Кафку как абсурдиста – поверхностно, он, прежде всего, теолог – писатель, быть может, единственный, который сам дошел до теологического опыта. Ты говоришь, что «литература заигралась в жизнь и смерть, превратившись в текстурбацию». Но литература, на мой взгляд, это и есть игра изначальная, игра, пронизанная «жизнью и смертью», становлением смыслов и ускользанием от них. Вот почему философам так трудно «справиться» с литературой. Для философских «смыслов» она подобна разъедающей щелочи, как говорит Бланшо. Потому что литература и шире искусство – это и есть стихия того самого «ничто», которое и порождает (и одновременно разъедает) любое «нечто». И эта игра «ничто» в «ничто», на своем гребне порождающее «нечто», а в провале его уничтожающее, и есть «язык», который, кстати, в любой момент может представиться и «антиязыком». Потому что язык для меня – это вся широта языка, как озабоченного, так и не озабоченного смыслами. Но чем тогда «должен» быть озабочен именно антиязык в своей тяге к некоей изначальной непрозрачности? Я не скрою, что для меня здесь больше важна риторическая фигура речи, которая нащупывает по своим, игровым, правилам свое, языковое, сопротивление смыслам, и – опять же – потому что она играет с «ничто». Я понимаю, что лингвистическая проблема «антиязыка» превосходит художественные задачи речи. Потому что это уже лингвистическая наука, то есть поиск смыслов, и для нас, писателей, уже не наша – «живая» – территория. С другой стороны, наша писательская работа – это всё-таки тоже «работа в неясности» и ради неё, потому что сама жизнь принципиально неясна. Поэтому все, что открывает каждый новый писатель, – это в том числе и работа на границе языка, ход «туда и обратно». Наверное, самые наглядные примеры антиязыка в литературе – это эксперименты Хлебникова и «Поминки по Финнегану» Джойса – вот где и неологизмы, и отсутствие синтаксиса, и попытки звуковых подражаний и передач, то есть попытка «напрямую» выйти к непрозрачности. Но и Кафка, о котором мы заговорили, тоже идет к этой непрозрачности, но посредством языковых текстов, над которой, между прочим, как мы теперь знаем из его дневников и из работ Беньямина, он «трудился» сознательно. «Цель» у этих разных писателей одна – приблизиться к этой фундаментальной непрозрачности бытия. Но если вернуться к разговору о смыслах антиязыка, то мне скорее интереснее вычитания из этих смыслов в сторону прозрачности, чем приращения (во многом постмодернистские) в сторону его непрозрачности. Потому что последние есть уже после Джойса и Хлебникова чисто механическая операция. Я думаю, что мы не можем ставить проблему антиязыка «вне» проблемы самого языка. Здесь может «сработать» лишь какая-нибудь даосская инь-ян «машинка». Я думаю, что наш разговор всего лишь затравка для все большего разговора, начинающегося с неосознаваемой «простоты» и прорастающего в начинающееся понимание. Так для меня в процессе этой беседы становится важным артикулировать, что как выясняется – есть игра – и довольно серьезная, фундаментальная. Если мы натужно попробуем вытянуть из нее смыслы, то, в конце концов, получим «постмодернизм», причем можно дотянуть и до самого вульгарного его понимания – а-ля «московский концептуализм». Но тогда Делёз, Деррида, Бодрийяр для меня скорее уж – «неутешающиеся теологи»… В моем романе «На золотых дождях», где я произношу это заветное слово «антиязык», я скорее призываю приставку «анти-», с помощью которой хотел бы позлить всех этих «публицистов» высшей школы, чтобы продемонстрировать «смешную победу искусства над философией». Оттого и появляется в моем романе такой персонаж, например, как Мыиктопифия, который «репрезентирует» в тексте русскую ментальность. Но он порождается в игре языка – кто мы, и кто Пифия? Продолжая игру, я не могу оставить такой персонаж непрозрачным, он обуславливается своей «параноидальной» логикой, отсюда и «параноидальная потеря» синтаксиса, несогласование склонений и падежей, разъятие и воссоединение слов. Но Мыиктопифией я всё-таки запрягаю не «джойсовскую», а «гоголевскую» тройку, наряду с одноногой лошадкой и Бычьим Скотом, на которой выезжает из самого себя и «антистарый» русский пророк, несущий «антиновые» истины. Я не скрываю своей работы «на границе понятного», и помню о «блестящей», как выразился Набоков, неудаче Джойса с его «Финнеганом», и не собираюсь доводить ее до логического конца – писать роман на антиязыке, понимаемом буквально, как, например, класс каких-нибудь «мертвых» или целиком заново изобретенных слов, по новым, изобретенным, или старым, намертво забытым, правилам, потому что тогда это уже будет не литература. Я думаю, что и от философии не останется ничего, если она будет повышать степень своей непрозрачности. И здесь я не могу не вернуть тебе твой же вопрос, поскольку о концепте «антиязыка» услышал впервые от тебя, хотя и Хлебникова, и отрывки из «Финнегана» (в переложении Анри Волохонского) читал, конечно, раньше. Скажи: а как и в чём ты видишь возможности антиязыковых практик в литературе? Или – что такое антиязык в литературе для тебя как философа?
Алексей НИЛОГОВ. Для меня антиязыковые практики в литературе – это попытки литературы выйти за собственные пределы. Но не в области литературоведения или философии, а в сфере некой сверхлитературы, для которой текст не игра в жизнь или в смерть, а либо сверхжизнь, либо сверхсмерть. Если литература не трансцендирующее творчество, то зачем она нужна? Если для того, чтобы скоротать психологические комплексы авторов, пишущих в форме самотерапии, то не лучше ли сходить к психотерапевту? С философией история аналогична лишь в том случае, если мы и её признаём разновидностью литературы. Если литература – сама себе философия, то философия – сама себе литература. Пока они занимаются таким оборотничеством, трансцендентное уходит с их горизонта, на котором теперь виднеется не жизнь и не смерть, а какая-то нежить.
С другой стороны, художественная литература может быть антиязыковой как суггестия. Фольклорное бытование литературы ещё содержит это внушение трансцендентным, когда человеческое сознание было синкретичным, а не эклектичным – как сейчас. Если сегодня литература и философия могут быть востребованы для нас, современников, то исключительно в качестве практик очеловечивания, так как для расчеловечивания нам достаточно одной техники. Это «вечное возвращение» к развилке животного и человеческого для того, чтобы, ничего не меняя, сделать прежний выбор – в пользу «Да!».
Литература не может преодолеть язык, потому что её содержание – в художественных образах, пускай и созданных посредством языка, но лишь на уровне стиля («стильничанья»). Даже описывая изменённые состояния сознания, автор использует язык, расширяя его границы, но сужая собственные как творца. Антиязыковая философия, работая с концептами и понятиями, но не сугубо лингвистически, а мета-физически, открывает те области невозможного и непоименованного в бытии, которые не всегда подлежат актуализации и именованию. Философия удивительна тем, что она многое не может, а потому – только вопросительна и без-ответственна. Но чего не может литература? Разве что перестать быть литературой?..
Андрей БЫЧКОВ. Ницше говорил, что бытие и мир можно оправдать лишь как эстетический феномен. И, следовательно, по Ницше стиль имеет прямое отношение к трансцендентности. Также, как и игра. Литература, имея свое языковое, а в данном случае я даже скажу – звуковое происхождение, первичнее философии, которая занята идеями и апеллирует к мысли, пытаясь язык как бы «обойти». И в этом смысле литература трансцендентна изначально. Библия, не случайно называемая Писанием, говорит, что вначале было Слово. И Веды, и индуизм также «свидетельствуют» о том, что мир рождается из божественного слога (звука) Ом. А «предпоследний из могикан» – Пруст, пишет, что тайна, скрытая в Мартенвильских колокольнях, чем-то схожа для него с удачно найденной фразой; да и сам стиль его письма только и позволяет раскрыться феномену непроизвольной памяти – из вкуса пирожных «мадленок» возникает городок Комбре. Конечно, трансцендентное проникает в литературу не только через стиль, но и «напрямую». К твоим фольклорным примерам я бы добавил еще и позднего Беккета, занятого «разрушением стиля». Я понимаю, что, говоря «литература», ты имеешь ввиду так называемую современную литературу и в особенности ее погибельное положение у нас в стране. Но «я бы не предпочел», как выражается мелвилловский писец Бартлби, обобщать и подгребать нас всех, современных русских писателей, под одну гребенку. И «я бы не предпочел» искать какие-то «внешние» выходы за пределы литературы. На ее территории достаточно своих трансгрессий и личных рисков. Рисковал Кафка, рискуем, по своему, и мы.
Но все же хорошо, что в нашей беседе вектор развернулся на метафизику. И здесь я бы предпочел согласиться с тобой, что современной русской литературе в целом, не хватает именно трансценденции.
По духовной свободе бьют с обоих стволов
«Литературная Россия», 26.04.13
Роман Сенчин: Андрей, «В бешеных плащах» вышли в США, но – на русском языке. Довольно-таки необычная вещь в последнее время. За границей чаще всего выходят переводы. Что заставило издать книгу на русском, но не в России?
Андрей Бычков: Потому что здесь не издают. Сложное время, не для художества. Кругом борьба идей, концепций, социальное поле до предела перенапряжено. И издатели почему-то считают, что художники должны всё это выражать и, прежде всего как тему. О читателе (читательской душе) думают, как о каком-то социальном пространстве, в лучшем случае – мифологическом, где обязательно должны действовать общественные силы или какие-то узнаваемые сюжетные схемы. Читателю хотят подсказать какие-то ответы, внести в его растерзанную душу «ясность». Наверное, всё это благие намерения. И, похоже, те самые, да, которыми… А между тем на дворе новое время и всё отчётливее проступают фундаментальные антропологические проблемы, которые не решить исходя из старых представлений о письме и о художнике. Всё больше неопределённости, трансгрессии, раскола, разлада, и если желание обрести душевную устойчивость и обращается бессознательно к прошлому, то гораздо глубже, через тысячелетия, к магическим (абсурдным!) практикам, что ставит проблемы речи как таковой. Выражение этих выходящих наружу пластов вместе с предчувствием будущего требует, конечно, от художника других адекватных стилистических средств.
Кроме того издатели не понимают, что на избыток социального перенапряжения личность реагирует асоциальностью и на насилие так называемой «культуры», под которой чаще всего скрывается та или иная мораль, искусство довольно часто предлагает «контркультурный» отпор.
Р.С.: Герои рассказов новой книги явно западные люди, живущие совсем не в России. Может быть, поэтому книга вышла именно на Западе?
А.Б.: Герои моей книги – порождение её языка. Я, честно говоря, не задумывался, где они живут. Но думаю, что всё же в России. Они русские люди, но они не персонажи телесериалов, скорее, – герои артхауса. Есть некий предрассудок в том, когда говорят, что авангард, модернизм – это, мол, русофобская площадка, а русское – это только «нравственное», «православное», «народническое». Совсем нет. Я русский писатель, и уверен, что у нас есть и наш, русский, замечательный авангард. Но это правда, что я не завываю, как воздушная сирена, при слове Запад. Нам есть чему поучиться у Запада, и в литературе тоже. Книга же моя вышла там, а не здесь совсем по другим причинам. Показательно, кстати, что здесь мне отказали все прозападнические издательства, включая НЛО. Но вы правы – есть что-то символическое в том, что моя книга вышла всё же именно там. Осевое направление западной литературы – это европейский нигилизм, отрицание западной цивилизации. А наша, так называемая прозападная литература откровенно навязывает нам ценности этой цивилизации и ненависть ко всему русскому.
Р.С: Русский авангард лет пятнадцать-двадцать назад был чуть ли не мейнстримом. Сегодня же он куда-то пропал. Что случилось? Иссяк?
А.Б.: Авангард авангарду рознь. На мой взгляд, лет пятнадцать-двадцать назад у нас цвёл постмодернизм в его худшем, концептуалистском, до предела политизированном и идеологизированном варианте. Впрочем, в обществе это было объективно востребовано. Незыблемые советские знаки надо было отыграть. Но настоящий авангард всегда метафизичен. И таких авторов всегда мало. Тем более в России с её «гражданской», «общественно-политической» травмой, нанесённой революцией, ещё раньше – расколом и бюрократизацией веры, теперь вот – так называемой перестройкой. Сегодняшнее время капиталистическое. И из всего хотят сделать капитал, пусть даже, так называемый, «символический». Издатели озабочены авторами-брендами, авторами-сериями, авторами-позициями, авторами-победителями-престижных-премий… кругом маркетинг, и это и есть сегодня мейнстрим. Общество хочет себя спроектировать и построить (перестроить), и при этом нет никакого роста жизни, выражаясь языком Льва Толстого. А авангардисты с их тягой к пересечению границ, с их священным нигилизмом по отношению к современности, как они могут сюда вписаться?
Беда, и даже не беда, а преступление в том, что сегодня закрывается сама ниша авангарда. Существуйте, типа, как хотите, печатайтесь за свои средства. Ну да, у нас есть свои площадки, взять, например, отличнейший смоленский журнал «Слова» Инны Кирилловой и Глеба Коломийца. Но общество должно знать (не говорю о государстве), что замалчивая русский авангард, отворачиваясь от него, оно обрекает себя на стагнацию. Пережёвывая свои социально-политические темы, оно никогда не выйдет из тупика.
Р.С.: Но ведь авангард всегда был далеко не всеми востребован, тяжело издавался. Недаром писатели объединялись, открывали свои издательства, организовывали журналы. Реально ли в сегодняшней России создать издательство, в котором бы выходили ваши и ваших соратников книги?
А.Б.: У авангарда – понимая его достаточно широко – всегда был свой читатель, причём самый лучший. И во всех странах авангард всегда был иерархической верхушкой литературы. Начиная с 19-го века – Флобер, Гюисманс, Лотреамон, Рембо… В 20-м – Пруст, Джойс, Кафка, Беккет, Берроуз, Брох, Гойтисоло… У нас – Белый, Андреев, Хлебников, ранний Маяковский… И книги этих классиков авангарда всегда имели спрос и они есть на полке у каждого уважающего себя читателя. Разумеется, с изданием новаторской прозы всегда на первых порах было тяжело. Тот же Пруст или Лотреамон, Рембо издавались за свои деньги. Но потом всё же на них обратили внимание издатели, имеющие вкус. У нас, даже в годы советской власти авангард (и зарубежный, и отечественный) хорошо издавали. Я думаю, что сегодняшних авангардистов (пусть и не классиков) не пускают на книжный рынок, также и по идеологическим причинам. Авангард сегодня всё больше позиционируется как нонконформизм, который официоз терпеть не может. И ведь не секрет, кто и контролирует большинство издательств, имеющих широкий выход на рынок. И это, конечно же, мифотворчество, что авангард сегодня будто бы не будет продаваться. В своё время было замечательное издательство Ильи Кормильцева «Ультра. Культура», вполне коммерчески успешное.
И звучит просто смешно, что наш, российский читатель, любящий Беккета, Буковски или Кафку, не захочет купить русских авторов, которые пытаются добывать тот же язык. Позиции «высокой литературы» сегодня заняты писателями-демагогами. Но все эти Быковы, Устиновы, Веллеры… – полетят вверх тормашками с вершин, стоит освободить нам дорогу. Почему нельзя напечатать, например, Бычкова? Мои книги давно распроданы. Мои произведения висят не на одной сотне сайтов. Во многих интернет-сериях контркультуры и альтернативы мои рассказы включены в антологии вместе с известными западными авторами. Проверьте! Что касается издательства, то оно, конечно, нужно. Кто-то богатый и со вкусом, разбирающийся и в книжном рынке, должен, наконец, догадаться, что ниша «Ультра. Культуры» сегодня востребована как никогда и… по-прежнему пуста.
Р.С: Кстати, а есть ли у вас некая общность, грубо говоря, литературная группировка?
А.Б.: Параноидальный полюс консолидированной власти нас, авангардистов, похоже, не очень интересует. Скорее, – некое шизофреническое разбегание. Нами движет тёмная материя, свет давно скомпрометировали попы (и попы от культуры в первую очередь). Какое-то время назад я запустил премию «Звёздный фаллос». Среди лауреатов – зловещие (в лучшем смысле этого слова) фигуры – Анатолий Ульянов, Валерий Нугатов, Алексей Нилогов… Если же говорить об общности, то, я думаю, что собирать свою территорию надо начинать со знаков теории (ещё Бодлер был блестящим теоретиком). Надо предъявлять обществу авангардные мысли, адекватные нашим языковым поискам. И у нас есть замечательные теоретики, знающие толк и в Арто, и понимающие, что актуальный авангард невозможен и без обращения к традиционализму (как это завещал нам ещё светлейший Евгений Головин), например, – Александр Чанцев или Анатолий Рясов. Но захотят ли они взяться за объединение сил русского авангарда? И какие авторы им будут интересны? Мы все очень разные, все индивидуалисты.
Р.С: Вы упомянули премию "Звёздный фаллос", двигателем которой являетесь. А есть ли ещё в России подобные литературные премии? И вообще, как вы относитесь к обилию премий на нынешнем литературном поле России?
А.Б.: Достаточно услышать девиз нашей премии и посмотреть, как выглядят призы, чтобы удостовериться, что никакой подобной премии быть не может. Девиз я, кстати, всё же озвучу: «За независимое стояние, непреклонное проникновение и принципиально беспринципное наслаждение творчеством!» Но, слава Богу, другие нонконформистские премии в России тоже есть. Это премия имени Кормильцева (позиционируется, как левая) и премия «Нонконформизм» (поддерживающая в основном дискурс 90-х). Литературные премии сегодня являются наиболее громкими пиар-инструментами, вот почему все так стремятся на них сыграть. Но литературное имя – это соло, способное прозвучать и без премиального аккомпанемента.
Р.С.: Лет пятнадцать – двадцать назад русская литература, причём далёкая от реализма, была в Европе, США очень популярна и востребована. А как дела обстоят, на ваш взгляд, сегодня?
А.Б.: Она была востребована по чисто политическим причинам. Западному читателю (и в первую очередь издателю) был интересен, прежде всего, крах советской системы и то, как это отражается в литературе. То, что у некоторых авторов это сопровождалось языковыми инновациями, было адекватно воспринято немногими. Я не очень информирован о том, кого переводят больше сегодня. Но подозреваю, что, по-прежнему, на девяносто процентов социально ангажированных авторов. Литературу до сих пор почему-то держат за идеологическую двустволку. По духовной свободе личности бьют как из правого, так и из левого ствола.
Р.С.: В заключение, вернёмся к новой книге. Где её в нашей стране можно купить, или как заказать?
А.Б.: Моя книга продается в московских магазинах «Фаланстер», «Циолковский», «Билингва», в культурном центре «Открытый мир». Её можно заказать и в интернете.
Русские – нация авангарда
«Завтра», 06.05.09
АЛЕКСЕЙ НИЛОГОВ: Андрей Станиславович, какое философское послание несёт современная русская литература?
АНДРЕЙ БЫЧКОВ: Я не берусь отвечать за всю русскую литературу, движимую противоречивыми силами. Кто-то злорадствует, кто-то хочет вернуться назад, не осознавая всей искусственности своей попытки, кто-то апеллирует к мифологии и фантастике, а большинство, как обычно, занято морализирующим бытописательством и политписательством, в то время как лучшие авангардные силы откровенно маргинализируются. Если поспекулировать на обобщениях, то в целом вырисовывается довольно печальная картина. Философское послание оказывается лживым и искусственным как в своей центральной части, так и на периферии. Мейнстрим поднимает цену на социальные парадигмы, разыгрываемые на разный лад. На периферии – откровенная тяга к извращениям, подменяющим собой как социальную, так и экзистенциальную свободу. Сущностных высказываний нет, и получается, что и человека как бы нет. Но русский человек, умирая первым, должен умереть последним. Увы, идёт трансляция вторичности этой смерти, потому что честно умереть мы, наверное, можем только на войне. Мы ещё не рассказали о своей русской смерти, а уже хотим умереть. Что с нами станет? Поглотит ли нас общечеловеческое либеральное мурло, или останется хоть толика своеобразия, хотя бы последний крик о претензии на всечеловека?..
А.Н.: Оправдал ли себя так называемый новый реализм?
А.Б.: Я бы определил новый реализм как некий жанр. Возможно, раньше под это определение больше бы подошел физиологический или биографический очерк. Но сознание человека меняется быстрее, чем нарастает его личный опыт. Изменения в сознании всё фундаментальнее и парадоксальнее. Я не думаю, что так называемый новый реализм поведал нам о наших современниках что-то большее, чем рассказали в своих публикациях или телепередачах журналисты. Его литературные достижения никакие, а по отношению к журналистике вообще вторичные. Современный реализм интересен своими магическими и метафизическими реинкарнациями.
А.Н.: В прошлом году в свет вышел роман «Настоящая любовь», киберавтором которого является компьютерная программа «Пи-Си-Райтер-2008» (PCWriter-2008). Искусственный интеллект всё больше превосходит возможности человека (например, обыгрывая чемпионов мира по шахматам)?
А.Б.: Человечество давно уже скатывается от «высших ценностей» к «высоким технологиям». Что с этим делать – неизвестно. Самый бытийственный из философов прошлого века Мартин Хайдеггер сказал как-то, что «природа человека – это его искусственность». Действительно, всё интереснее становится природа и причина этой симуляции. Возьмите роман Джона Фаулза «Волхв» или фильм «Матрица» братьев Вачовски, или фильм «Игра» Дэвида Финчера. В самом деле, почему мы сами или кто-то нас выдумывает? Очень хорошо сказал как-то философ Фёдор Гиренок: «Власть не сомневается, что самораскрывающейся сущностью человека являются его галлюцинации». Так что ответить на ваш вопрос так: мол, да что они там, эти компьютеры, по сравнению с нами, с писателями, могут или мы им ещё покажем, этим компьютерам, я бы не хотел. Одна из самых точных формулировок закона Мёрфи гласит: «Все сложные проблемы имеют очень простые для понимания неправильные решения».
А.Н.: Как вы прокомментируете тезис композитора Владимира Мартынова о смерти русской литературы как великой литературоцентричной традиции?
А.Б.: Русская литература в свой золотой век не представляла собой литературоцентричную традицию. Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Достоевский, ни Толстой не были литературоцентричными авторами. Они захватывают читателя полнотой в изображении русской жизни. Это реализм, окрылённый и вдохновлённый религиозными ценностями, но никак не литературоцентризм, который апеллирует более к самодостаточности языка. Литературоцентризм – это скорее уже серебряный век. Но сейчас, после крена современной русской литературы в феноменологию и журнализм, следствием чего является её девальвация в качестве искусства слова, литературоцентризм может снова отчасти спасти ситуацию. Однако для описания усложнившейся и углубившейся в психологическом, социальном и технологическом измерении действительности требуются уже не столько новые изощрённые языки, к которым призывает постмодернизм, сколько какие-то другие – авангардные ходы. Так было в начале XX века. Расцвет модернизма был связан с выходом человечества к новым реалиям, о чём, например, свидетельствуют параллельные открытия в области физики (квантовая механика, теория относительности) или психологии (фрейдовский анализ).
А.Н.: Какой жанр литературы востребован в период кризиса?
А.Б.: Для дураков – по-прежнему развлекательный, а точнее сказать – лёгкий, раздающий ответы на все вопросы. Например, всякая низкосортная мистика, квазимифология, псевдоэротика. Дураков, к сожалению, много, и рыночные структуры, определяющие процессы общественного функционирования (подчёркиваю, функционирования, а не развития), заинтересованы в том, чтобы процент этот постоянно повышался. Именно наглая и беззастенчивая эксплуатация человеческой косности, слабости и глупости по определению приносит самый значительный капитал. Парадокс в том, что сегодняшний кризис произошел именно по вине капитала, но поскольку капитал сбивается на человеческой слабости, то значит есть более фундаментальные причины кризиса. Думающие люди, наверное, будут искать философскую литературу. Просветлённые читатели, догадывающиеся, что выход по большому счету – эстетический, а не этический, надеюсь, обратятся к нашей авангардистской литературе.
А.Н.: Какой смысл вы сегодня вкладываете в понятие авангарда?
А.Б.: Наша беда состоит в том, что мы слишком взыскуем смыслов – моралистических, политических, социальных, стилистических признаков того или иного направления в искусстве. Мы слишком закостенели со своим понятийным аппаратом. Авангард должен от всего этого ненавязчиво ускользать. В физике есть так называемый «принцип неопределённости»: чем пристальнее вы измеряете состояние системы по одному параметру, тем больше теряете информации по другим. Больше безумия и одновременно – нестерпимой ясности послания! Сверхзадача моего нового романа «Нано и порно» – растабуировать некоторые застарелые проблемы. Это довольно своеобразный психоанализ русской души. Местами, чтобы не было очень больно, введен адский наркоз. Извне это выглядит как психотическое путешествие героя в центр Земли, но мне хотелось донести до читателя метафизическое послание.
А.Н.: Чего, на ваш взгляд, сегодня не хватает отечественным философам?
А.Б.: Жёсткости и апокалиптичности высказывания. Нация гибнет, а власть фальсифицирует всё русское, правя от имени симулякров. Разрушить эту ложь можно предельной постановкой вопросов о ценностях. Мне кажется, что как бы не было горько и тяжело, необходимо начать переопределение и перенормировку национального архетипа, пока ещё не поздно, чтобы спасти лучшее и избавиться от поповщины. Надо расширять религиозный базис построений, где это адекватно контексту культурной работы, к чему призывал ещё Николай Бердяев. А главное – не бояться противоречий и не замыкаться на очередное системостроительство. Русские – это авангардная бессистемная нация. Система всегда приходила к нам извне. У нас есть более глубокая стартовая точка, с которой православие лишь коррелирует. То, что объявляется нашей почвой, во многом очень поверхностный слой, культурно оформленный только в XIX веке. Надо нащупывать русское бессознательное. Какие глубинные качества привели к таким невиданным соединениям, сочленениям, срастаниям и разломам? Сегодня борьба с социальным симулякром невозможна без провокаций, игры, весёлого отрицания, чего было много, например, у Фридриха Ницше. Мне кажется, что мы, русские, больше других народов знаем о смерти, исторически чаще других приносили себя в жертву. Но это не значит, что мы нация конца. Напротив, жертва приносится во имя чего-то. Философия должна помочь нам взбодриться, а русские энергии простимулированы так, чтобы они начали работать на самих себя. Самое интересное направление в современной философии – это философия антиязыка. Если понимать исторический ход событий, который мы сегодня наблюдаем, как тупиковый, а деградация цивилизации действительно налицо, то нужно искать какие-то новые связи на фундаментальном уровне. В прикладном культурном плане эта работа уже идёт. Например, религиозные догмы были в своё время оспорены фрейдистским анализом, а фрейдистские в качестве узаконенного авторитарного начала в обществе – «Анти-Эдипом» Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Смысловой оператор «анти-» часто используется в социальном плане – например, антифашист или антисемит. Однако это вторичные «анти-», демонстрирующие лишь нашу немощность в решении проблем, то есть недостаток того самого антиязыка. Языки описания в науке жёстче завязаны на опытные данные и во многом ими сформированы. И пока нет противоречий между существующими теориями и экспериментом, то нет и мотивации для другого языка описания. Для перехода к антиязыку нужны радикальные основания. К таким постановкам вопросов легче подступаться на категориальном уровне. Так, например, Поль Дирак в своё время ввёл понятие античастицы. Он предложил понимать её как своеобразную «дырку» в физическом вакууме, если оттуда «достать» электрон. При этом поведение такого антиэлектрона (позитрона) будет отличаться от поведения электрона только в силу изменения его заряда. Не знаю, насколько удачен этот пример, но если исходить из аналогии, то, «доставая» очередную метафизику из бездны, мы каждый раз теряем некоторые оппозиции, которые могли бы привести к иным пониманиям и коммуникациям.
О неудобной литературе
«Перемены», 30.08.11
Глеб Давыдов: Есть ли среди Ваших знакомых писатели, чьи тексты отказываются издавать, хотя эти тексты вполне достойны быть изданными и прочтенными публикой? Если возможно, назовите, пожалуйста, примеры. Каковы причины отказов?
Андрей Бычков: Ну, например, Пьер Гийота, Уильям Берроуз или – если начать с начала – тот же Франсуа Рабле. А хорошо бы иметь таких знакомых писателей, правда? Родись они в нашей несчастной стране, они никогда бы не были изданы. Задушили бы на корню. А мы ведь все знакомы с их именами. Да даже напиши Достоевский свои «Записки из подполья» сегодня, ни за что бы не напечатали ни в «Знамени», ни «Новом мире». А причины отказов лежат, как всегда, «глубоко на поверхности». Общество и Государство сцепились сегодня в смертельной схватке. Общество мобилизуется в борьбе с властью. Общество жаждет преобразований. Оно бы и хорошо. Но свои задачи общество сегодня беспощадно навязывает и литературе. «Каков социальный или политический смысл того, что вы пишете?» Эстетический градус вторичен, все определяет только «экономика борьбы». Но такая экономика сегодня – довольно опасная вещь, особенно в сфере культуры. Она приводит к перепроизводству социальных смыслов и к их симуляции. Это не вина издателей, что они нас не печатают. Они – заложники сегодняшнего времени. Они вписаны в «экономику». Они адепты общества, а не человека. Судьба же последнего сегодня, похоже, – остаться один на один со своей про́клятостью. Но разве общество, состоящее из «проклятых людей», отрицающих свою про́клятость, способно породить из себя какое-то свободное государство?
Г.Д.: Есть ли в литературном произведении некая грань, за которую писателю, желающему добиться успеха (например, успеха, выраженного в признании читателями), заходить не следует? Может быть, это какие-то особые темы, которые широкой публике могут быть неприятны и неудобны? (Если да, то приведите, пожалуйста, примеры.) Или, возможно, существует какая-либо особая интонация, которая может вызвать у читателя отторжение и из-за которой весь потенциально вполне успешный текст может быть «самоуничтожен»?
А.Б.: Набоков в свое время написал «Лолиту», а Генри Миллер – «Тропик рака». Лотреамон написал «Песни Мальдорора», а Жан Жене «Кэреля». Вот это и есть те грани, за которые сегодня заходить нельзя, разумеется, в нашей стране. Морализаторы на страже. Они хотят от литературы только «правильных и полезных сообщений». Они не понимают, что литература в принципе вещь неправильная, глубоко личная, интимная, она, как говорил Розанов, – «Мои штаны. Что хочу, то в них и делаю». У нас же из штанов по-прежнему достают партбилет. Мы живем в «эсэсэсэр наоборот». То, что было белым, стало черным, и обратно. Качаются качели социальных смыслов, работает литературная машина. И наш паровоз по-прежнему «на запасном пути».
Прорыв гласности породил журналистику. И журналистика нынче – бог войны. Не скроем, – конечно же, сегодня у нас отличная журналистика. Но когда говорят пушки, музы молчат. Птиц по полету узнавали всегда, а писателя нынче не узнают по стилю. Стилисты больше не нужны, нужны журналисты. Настоящему писателю нечего делать в сегодняшней литературе, он ей не нужен. Не нужен новатор, исследователь языка, бесстрашный мучитель, следующий заветам Фета, де Сада или Рембо, только социологизатор. Интонация, краски, неожиданные переклички давно уже вторичны. Всем важно «про что», всех волнует, а «за он, или против?» А ведь только через как чувствуешь, а стоит ли доверять автору. Если ты слышишь песню на незнакомом языке и тебя захватила мелодия, ты можешь даже и не знать, о чем говорится в словах. И наоборот бездарная музыка может испортить какой угодно стих. Но и читательский слух, и вкус давно уже испорчены. Все силы издателей, критиков, редакторов стянуты к тому, чтобы читателя заинтересовала только социальная энергия текста. Но ведь «нет истины ни в чем, что претендует на свою исключительность», – как еще Альбер Камю говорил.
Г.Д.: Если такие темы и интонации, по Вашему мнению, существуют, то держите ли Вы в уме эти вещи, когда пишете? И насколько это вообще во власти писателя – осознанно управлять такими вещами?
А.Б.: Не во власти. Но Апполон жесток. Апполон – мучитель Диониса. Дионис хочет сам. Но стиль требует Апполона. Апполон это и есть стиль, великое делание. Самое тонкое – удержаться и не побежать вслед за умом, не впасть в иллюзию сюжета, злободневности фабулы, а научиться ждать.
Г.Д.: Что приносит писателю (и, в частности, лично Вам) наибольшее удовлетворение:
– признание публики, выраженное в том, что Ваша книга издана и люди ее покупают, читают, говорят о ней?
– признание литературного сообщества (выраженное в одобрительных отзывах коллег и литературных критиков, а также в получении литературных премий и попадании в их шорт-листы)?
– или более всего Вас удовлетворяет метафизический и психологический факт самореализации – т. е. тот факт, что произведение написано и состоялось (благодаря чему Вы, например, получили ответы на вопросы, беспокоившие Вас в начале работы над текстом)? Достаточно ли для Вашего удовлетворения такого факта или Вы будете всеми силами стремиться донести свое произведение до публики, чтобы добиться первых двух пунктов?
А.Б.: Писатель – это игрок. Он играет с жизнью, как с материалом. Сам с собой за письменным столом. Он должен играть и чтобы «рукопись продать», в конце концов, признание – это живая энергия, которую можно потратить «на себя». Но прежде всего, конечно, «игра в бисер». Чем выше ранг писателя, тем более опасной игры он хочет – сегодня быть отчасти и тайным работником «одиннадцатого сентября», чтобы прорваться сквозь «матрицу» к последним человеческим ценностям (а веллеры, конечно, пусть крутят свои пропеллеры).
Древнегреческие авторы творили для агона, они соревновались, и им давали возможность соревноваться. Не допускались варвары – во имя сохранения эллинского духа. У нас же вместо эллинских ценностей – стада смыслов массового общества, и заправляют ими их пастыри большинства. И везде дресс-код «посторонним вход запрещен», у нас соревнуются только политкорректные авторы. Личности не нужны, эллины не нужны, только варвары от социологии и политологии. Не нужны философы и музыканты, только программисты и менеджеры человеческих душ. Нынешняя литературная власть нутром чует, что эллины сегодня – чужие. Вот политкорректные варвары и не дают им выйти на арену, опубликовать книгу, выступить в дебатах. Вас, типа, нет. «Вас не надо». Оно и понятно. Без нас удобнее «соревноваться» и пилить бабло «Букера» и «Большой Книги».
Г.Д.: Что Вы думаете о писателях, которые активно себя раскручивают – как лично, так и через друзей и знакомых? Должен ли писатель заниматься этим не совсем писательским трудом?
Если да, то почему? Если нет, то почему?
А.Б.: Это еще один аспект «проклятой социальности». Сегодня выигрывают менеджеры и организаторы литературного процесса. Границы, отделяющие писателя от политика, общественного деятеля, идеолога, бизнесмена, финансиста, и, конечно, прежде всего, пиарщика пали. Трансгрессия и перемена пола во всем. Сегодня мы все включены в эту зловещую «экономику обмена». Все маски сорваны. Как бы мы того ни хотели, начитавшись Фуко, а речь все равно идет о власти. Писатель хочет власти над читателем. И все средства хороши. Писатель, как выясняется, всего-навсего социальный агент. А литература, да при чем здесь литература?
«Литература как разновидность религиозной практики»
«Слова», № 10,2011
Инна Кириллова: Что осталось от литературы к 21 веку? Выдерживает ли она конкуренцию с кино, телевидением, блогами и т. д.? Есть ли сейчас у литературы какие-то особенные функции?
Андрей Бычков: Литература по большому счету – разновидность некой религиозной практики, как для автора, так и для читателя. Это умное делание – смешное или грустное, лирическое или скандальное. В любом случае оно должно противостоять лексике политиканов и попов, превращающих человеческие ценности в свой властный капитал. В нашем секуляризированном обществе такая практика все больше подменяется банальными посланиями моралистов, идеологической пропагандой и классовой борьбой. Эти последние практики также апеллируют к слову, но используют его лишь как средство. Парадоксальным образом именно сейчас, в таких «канцерогенных» условиях обнажается и прежняя «религиозная» суть литературы. Сегодня снова актуализируется задача поисков нового языка, посредством которого возможно нащупать ходы к новым, постчеловеческим ценностям.
И.К.: Обязательно ли быть маргиналом/асоциалом, чтобы писать маргинальную литературу?
А.Б.: Поиски нового почти всегда связаны с разрушением старого. Маргинальность и асоциальность сегодня – необходимые стилистические инструменты в разрушении стагнирующей постсоветской симулятивной культуры. Но мастер всегда должен оставаться на пороге. Это его риски – вглядываться в бомжей, маргиналов и преступников, если хотите – даже порождать их из себя. Но мастер должен сделать все возможное, чтобы не воплотиться в своих «прекрасно отвратительных» героев и остаться мастером.
И.К.: Поддерживают ли литературу премии?
А.Б.: Премии – один из мощнейших пиар-инструментов для привлечения внимания общественности к творчеству того или иного литератора. Если премии обеспечены финансовым капиталом, то они, вдобавок, дают возможность писателю и на какое-то время забыть о необходимости зарабатывания на жизнь каким-то посторонним, не относящимся к литературе трудом. Премии – это и символический капитал писателя. Хотя, парадоксальным образом, на слуху все же остаютсяимена. Никто никогда не перечислит всех этих бесчисленных лауреатов «Национального Бестселлера» или «Букеровской». Кстати, ни Лев Толстой, ни Андрей Белый, ни Джеймс Джойс не получали Нобелевской.
И.К.: Как Вы оцениваете опыт «Звездного фаллоса»?
А.Б.: Все вышесказанное относится и к премии «Звездный фаллос». Это тоже, прежде всего пиар-машина, некий лифт на верхние информационные этажи. Другое дело, что наша премия основана на другой риторике и сознательно провокативна. В ряду других премий ее можно рассматривать скорее как контрпремию. Мы – разрушители «добра, совести и справедливости», к которым нас со всех сторон призывают литературные попы. Наша премия еще очень молода (несмотря на возраст многих из ее лауреатов) и пока еще рано оценивать ее опыт по большому счету. Но уже сейчас можно сказать, что мы являемся единственной альтернативной русской премией, которая транслирует нонконформистские ценности и прежде всего эстетические, не замутненные вторичными, так называемыми социальными или политическими «идеалами».
И.К.: Существует ли подлинная литература сейчас и кто может быть её читателем?
А.Б.: Вопрос о подлинности того или иного начинания сейчас все больше ставится под вопрос. Под эту экзистенциальную категорию ныне все больше «копает» психоанализ. Для художника «подлинность» – это искусство, как сделано, как написано то или иное произведение. Многие думают, что это не так важно по сравнению с тем, о чем художник нам говорит. Однако только по тому, как он говорит, можно судить, насколько близок он остается к источнику своего вдохновения. А это, поверьте, самое сложное – оставаться наедине с самым тонким. Подлинный читатель это тот, кто хочет от писателя адекватного послания, ответа на вопрос, что же происходит с миром сейчас? Кто ищет «первичных» ответов, а не идей и не интерпретаций. Кто хочет угадать неизвестное, не давая этому неизвестному разрушающего его имени, кто готов остаться в многозначности языка ради его продолжающегося пути, а не достигнутой цели понятия, кто хочет от литературы пестования наших священных иллюзий: быть насмешливым и спокойным – оттого, что все по-прежнему хорошо или по-прежнему плохо.
И.К.: Как Вы относитесь к концепции смерти литературы?
А.Б.: Вранье собачье! Собакам и собачья смерть!
И.К.: Разделяете ли Вы мнение о том, что в наши дни литература редуцировалась до авторского стиля? Может ли писатель позволить себе стилистически необработанное литературное высказывание?
А.Б.: Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Только я бы не стал называть это редукцией. Стилистические задачи остаются высшими задачами как всего искусства в целом, так и литературы. Не надо только путать стилистические поиски с разработками той или иной манеры. Манера всегда остается внешней по отношению к содержанию. Стиль же способен его породить. Открытие нового стиля – открытие и нового аспекта реальности.
И.К.: Литература и метафизика: выдерживает ли литература конкуренцию с наркотиками, религиозными и мистическими практиками и другими средствами расширения сознания?
А.Б.: Речь здесь не о конкуренции, а скорее о некоем избранничестве. Язык, возможно, и не первичная, фундаментальная данность. Но именно он открывает аристократические горизонты свободы духа. Без этой свободы высказывания не может быть и никакой подлинной мистики, внешнее молчание ничего не решает, священные тексты и книги, написанные возвышенным поэтическим языком, – основа любой традиции, даже если она начиналась и с устной передачи. Чем более грандиозен наш внутренний опыт, тем и больше желание выразить его в языке, как будто бы он – его внешняя ипостась. Не стоит преуменьшать могущество языка, он и сам по себе способен создавать миры, не менее трансцендентальные и причудливые, чем бессловесная игра фантазии. Все же, именно он – судьба человечества, особенно сейчас, когда боги уходят в свою даль. Техника – это тоже, прежде всего, язык. Мы движемся волевой поступью знаков.
И.К.: Можно ли назвать современную русскую литературу постмодернистской или это все-таки затянувшийся, сгнивший модерн?
А.Б.: В игры определений обычно любят играться критики и литературоведы. Наверное, это и не так плохо. Но это работа уже – после. Писатель же всегда должен находиться в сейчас, потому что оно опережает после. Лично мне «комфортнее» называться авангардистом, хотя меня в свое время одним из первых записали в антипостмодернисты, а потом – в метафизики.
И.К.: Вы сталкивались с внутренней цензурой русских издательств и изданий? Если да, считаете ли Вы это временным явлением или базовой характеристикой русского литературного процесса?
А.Б.: Цензура – не то слово. Здесь надо говорить о терроре. Лучших авторов не пускают в литературу и откровенно замалчивают. Издатели упиваются своей властью, им кажется, что это именно они делают литературу. Они мнят себя трансляторами великих идей. И свою миссию видят, конечно же, ни больше, ни меньше, как в освобождении нашего несчастного общества. Не важно, от кого или от чего – от Советов, от олигархов, от чиновников, от бюрократов, от кавказцев, от русских, от ментов. Высшей ценностью они, конечно же, считают гражданский пафос, они же, как никак, строят гражданское общество (и мы все видим результаты их работы). Они все день и ночь работают «на пользу и благо» всего нашего многострадального общества, все эти так называемые эксперты литературного процесса, возомнившие себя его высшей инстанцией. Если бы при этом они хоть что-нибудь понимали в литературе… В журналистике, возможно, – да. Но только не в литературе и, тем более, в ее искусстве и в ее метафизике. Подобные персонажи тешат свое самолюбие причастностью к истории. Но ведь они пришли к власти вместе со всеми этими олигархами, ворами и бандитами в девяностые. И как бы они ни обличали посредством своих социал-демократических авторов сначала советский, а потом и этот мерзкий постсоветский режим, они – его неотъемлемая часть, и того и другого. Они – часть Системы, ее обличение – их бизнес, их капитал. А по отношению к нам – они лишь бездарная литературно-публицистическая гэбня…
И.К.: Может ли современный литератор быть «голосом молчаливого большинства»/«голосом деспота» или его творческое высказывание персонально?
А.Б.: Все вышеперечисленные возможности сегодня, увы, лишь симулятивны, и потому могут реализоваться только за счет стилистических потерь. А, следовательно, и за счет «подлинности» художника. Как выясняется, окружающему нас миру наплевать на наши литературные амбиции, он информационно вздувается, как на дрожжах, он залезает нам под кожу, он входит в подкорку. Смыслы сдвинуты. Все сорвалось со своих мест. Все куда-то понеслось. Но только, увы, не вперед. Все, как говорит, Бодрийяр, выведено на орбиту. Но искусство – это не калька, чтобы взять и вот так вот все это описать один к одному. Надо найти новый имманентный закон и выразить происходящее в языке, в новой адекватной стилистике, найти таинственную транскрипцию. Тогда появится и новый «молчаливый голос большинства» и новый «голос деспота» и высказывание при этом будет «персонально».
И.К.: Должна ли литература травмировать читателя? О чем она вообще должна говорить сейчас?
А.Б.: Литература никому и ничего не должна. Каждый настоящий художник нащупывает свой путь, прежде всего, в самом себе, даже если он думает, что пишет для общества. Здесь задействована его психофизика и ее выход в мир, на арену действия человеческих страстей. Что касается травмы, то литература все же вещь довольно условная и далекая от реальности, она может сделать больно, но ненадолго. Те же, кого она травмирует всерьез, рано или поздно сами становятся писателями.
И.К.: Нужна ли современному литератору поддержка государства в виде премий, грантов, стипендий и т. д.? Есть ли смысл в создании творческих объединений или современное творческое сознание тотально атомизировано?
А.Б.: В демократических государствах, в той же так ненавидимой «патриотами» Америке в каждом университете писатели ведут творческие семинары и это и есть, во многом, их источник существования. В Европе литераторов поддерживают государственные программы, даже если эти литераторы и обличают государство. Там понимают необходимость дефиниций разделения и многообразия. У нас – нет. У нас по-прежнему признают только писателя-борца (а не творца), вот почему писатели у нас так часто уходят на «пропагандистскую» и «идеологическую» работу, занимаются обличением социальных пороков, продают душу журналистике. Что касается творческих объединений, то, конечно, единомышленники нужны. Это может не называться так формально, а существовать в виде компаний, совместных выпивок и морских заплывов в холодное время года.
И.К.: Извините за русский вопрос. Надеетесь ли Вы при жизни получить признание?
А.Б.: Здесь – усмешка. Но – (и здесь усмешка номер два) – как бы они меня не замалчивали, как бы они меня не топили, а Андрей Бычков все равно один из лучших современных русских писателей. На том стою и не могу иначе!
«Свобода это – как»
«Шо», 01.09.08
Александр МУХАРЕВ: Как бы вы определили понятие «драйв» в отношении современной русской и зарубежной прозы?
Андрей БЫЧКОВ: Драйв в прозе – для меня это изначальная энергия некоего растабуированного процесса, стремительное и непредсказуемое назревание сюжета, его нависание над собственной бездной и низвержение в разрядку. Может быть, по большому счету нам ничего и не остается, кроме драйва как стимула к последнему прыжку и бесконечному падению, последнего из способов ощутить свою невесомость и самодостаточность. Это, кстати, отлично понимал Илья Кормильцев, когда создавал издательство «Ультра. Культура», радикально препарировавшее гниющее бессознательное толстой российской словесности. И патриоты, и демократы этой словесности были в бешенстве от проекта Ильи. Я помню, как мы с ним хохотали в ЦДХ над всей этой литературной кодлой. Мой роман «Дипендра» был отклонен десятью издательствами и стал лидером «Ультра. Кулыуры» по количеству рецензий. Что же касается сравнения с Западом, мне кажется, что русский драйв всегда шел по лезвию ножа, всегда был предтечей чудовищного и очищающего разреза. Там, где у них медленное эстетское умирание, у нас стремительное и жертвенное самоубийство, в лучшем случае – темница проклятых вопросов. Белому свету «нагорных» проповедей мы предпочитаем абсолютную тьму.
А.М.: Расскажите о своих религиозных взглядах и их развитии.
А.Б.: Я всегда предпочитал сопротивляться до конца, даже если Бога и нет. Я искал Его везде. Я левитировал в индуизме, растворялся в «ничто» буддизма, молился в Оптиной Пустыни. Мстя самому себе за то, что я не поймал Его за бороду, я стал отрицать Его в гештальте и психоанализе. Но мне до сих пор иногда кажется, что время от времени Он подает мне свои знаки. Его следы, конечно же, в случайности и в невероятности того, что с нами происходит. Иногда я трезво и отчетливо понимаю (особенно сейчас, когда читаю Делёза), что Его нет. И вдруг Он снова сигналит мне через какие-то невероятные совпадения. Если оставаться честным до конца, то я бы хотел, чтобы этот вопрос, «есть Бог или нет», остался для меня, да и для всего человечества нерешенным. У человечества должны быть неразрешимые вопросы, чем-то мы все же должны отличаться от машин. Поэтому, несмотря на всю свою трезвость, я все же считаю себя религиозным человеком. Увы, все продано попами. Чуть что где проблеснуло, повеяло неземным, как сразу появляются попы, эти посредники божественного, и начинается перепродажа.
А.М.: О чем ваш новый роман «Нано и порно»?
А.Б.: Изначально он назывался «Путешествие Звездохуя в центр Земли», и в этом вся суть. Если коротко, то это роман о путешествии в русское бессознательное. Я попытался пробурить некоторые спрессованные и затабуированные русские проблемы с помощью алмазного сверла ненормативной лексики. И надо сказать – прекрасный инструмент!
А.М.: Каковы границы вашего эксперимента? Считаете ли вы ненормативную лексику энергией сопротивления?
А.Б.: Я старый контрабандист. Но, увы, границы существуют, хотим мы этого или не хотим. Там, где мы останавливаемся, там, наверное, и возникают наши ценности. Ни попы, ни государственные деятели в публичном пространстве никогда не матерятся, они вечно взывают к добру, поучают нас ему и тырят из нашего кармана. Поэтому все, что нам остается – это занять позицию низов, позицию униженных и оскорбленных с их священным «идите вы на хуй!». Мат – древнейшее оружие личности в борьбе с общественным ханжеством. Хуй, пизда, ебля – это ценности первичные. Они-то были созданы Богом прежде всего, чтобы мы сами потом могли себя воссоздавать. Я думаю, что и сам Господь сильно матерился, когда создавал этот наш «наилучший из миров». Матерящийся Бог – вообще мой любимый персонаж.
А.М.: Какие литературные эксперименты вы считаете своей удачей, а какие удостоились забвения?
А.Б.: Видите ли… Я действительно всегда хотел быть разным. И хорошим, и плохим. И у меня есть не только произведения для плохих мальчиков и девочек (пусть им и по сорок лет), но и действительно хорошие традиционные вещи, и я их не стесняюсь. В конце концов, все мы внутри гораздо лучше, чем о нас думают. Так что эксперименты мои, если это можно назвать экспериментами, связаны не только с разведкой надежной дороги в ад, но и с построением лестницы в небо. В детстве я был очарован высказыванием кого-то из классиков, звучит оно примерно так: «Гений творит мелко и широко, талант роет в одном месте как можно глубже». Надежды на гениальность, однако, рассеялись довольно быстро. Но тайный гипноз этой фразы действует до сих пор. Я действительно пытаюсь быть «и таким, и таким». Мне кажется, что и каждый человек не должен бояться того, что он состоит из противоречий. Важно иметь смелость отдаться на растерзание самому себе, своим тайным «а почему?», «а что если?». Литературные же эксперименты – всегда следствие, это форма. Но по большому счету остается лишь то, в чем остается суть вопрошания.
А.М.: Вы закончили физфак МГУ, что наложило отпечаток на ваше мировосприятие. Передаете ли вы до сих пор поэзию квантовой механики в своей прозе?
А.Б.: Квантовая механика – моя любимая наука. Там электрон может разом бежать в разные стороны и при этом не сходит с ума. Есть с кого брать пример на фундаментальном уровне. Или взять теорию относительности. Чем быстрее движешься, тем тоньше становишься, масса твоя возрастает до бесконечности, а время замирает. Это, конечно, при приближении к божественным скоростям. Переводя же скорость, массу и время в литературные единицы измерения, получаем рецепт, как стать классиком. Но если серьезно, то карма физика действительно во многом определяет и мои дальнейшие реинкарнации. В свое время, читая повесть Камю «Посторонний», я придумал «Поверхностные гиперъядерные состояния». Вы добавляете «странную» частицу (гиперон) к ядру, а она не тонет в коллективе и в силу многочастичного отталкивания остается жить на поверхности. Экспериментом по обнаружению такого состояния является смерть. В момент своей смерти (распада) посторонняя частица выбрасывает гораздо больше энергии, чем если бы она распадалась в коллективе. Мне пророчили докторскую степень и Государственную премию, если такое состояние будет открыто. Но я предпочел смерть в физике жизни в литературе и в кино. И, как ни странно, принял на себя судьбу этой «странной» частицы. Я остался на поверхности. Я везде – «посторонний». Оттого и литературно убиваю, как Мерсо.
А.М.: Каким вы видите будущее русской литературы?
А.Б.: Свободной от постоянно навязываемых ей правил игры. В конце концов, писательство – это последняя возможность быть свободным. Но, увы, попы всех мастей проникают и сюда. Они указывают нам, что можно и что нельзя, стращают замалчиванием, совращают тиражами и денежными премиями. Они хотят сделать из нас самих себя, то есть заурядных литературных попов со всей их иерархией, со всей их пропагандой. И, похоже, мы приговорены к замалчиванию. Но с нами Мандельштам! Разрешенные литературные произведения – это мразь, неразрешенные – ворованный воздух. Я предпочитаю ворованный воздух. Попы, конечно же, изощренны в своем лукавстве, они пытаются перехватить у нас все наши жесты протеста. Когда Генри Миллер писал свои романы, они были запрещены к публикации в Штатах, а сейчас считаются не только национальным достоянием, попы преподают Миллера во всех мировых университетах. Увы, надо признать, что идея протеста тоже хорошо продается. И симулякр все труднее отличить от подлинника. Но мы должны как-то суметь сыграть на опережение.
А.М.: В каком направлении перемещается свобода в русской прозе: в сторону конформизма (Минаев, Робски…) или в сторону радикализма?
А.Б.: Известного рода свобода есть и в так называемой литературе Минаева, Робски и им подобных. Но это лишь свобода образованного буржуа выражать себя письменно, любоваться собой пусть даже в своей нарциссической ненависти к самому себе. Здесь есть подчас литературная мастеровитость, есть свобода писания, но здесь нет священного писательского зла. Слова не дышат ни болью, ни пороком, ни отчаянием. Они лишь модны (о, бренды, бренды) и мертвы. С другой стороны, радикализм, конечно же, всегда подлинен, потому что он питается бездной. Но в этом и его несвобода. Быть свободным – вообще довольно таинственная штука. Похоже, это самая большая человеческая привилегия. Если хотите, – внутренний аристократизм. Кстати, в прозе свобода – это совсем не то, какие перверсии, например, вы можете себе позволить описать. Как описать, вот в чем тайна. Свобода это – как.
А.М.: Расскажите, пожалуйста, о фильме «Нанкинский пейзаж», снятом по вашему сценарию, который был написан вами по вашему же рассказу. В фильме сохранился изначальный драйв?
А.Б.: От рассказа к сценарию был довольно странный переход. Все, что в рассказе было вымыслом героя, я решил сделать в кино его правдой – и при этом избавить его от какого-то мистического наказания. Это был своего рода кастанедовский поход за силой. Это было жизнеутверждающее хайдеггеровское «представляю – есмь». Режиссер же предпочел поражение героя. Священный драйв героя был отдан на растерзание силам рока. Рубинчик оставил зрителю лишь созерцание его слабости, заковав моего героя совсем в другое, тоталитарное время. Фильм вышел красивым, его называли последним криком богемного неопостмодернизма, но, увы, это был не тот фильм, который я видел в самом себе.
Метафора, а не заурядная резина
«Независимая газета», Ex Libris, 12.05.11
Алексей НИЛОГОВ: Андрей, премия «Звездный фаллос» претендует на альтернативность официальному культурному мейнстриму. Следовательно, премия должна поддерживать свой маргинальный статус, чтобы не быть пойманной на двойном стандарте?
Андрей БЫЧКОВ: Прежде всего немного поподробнее о самой премии. Ее задача – обновить нонконформистский дискурс. Многие премии, позиционирующие себя как независимые и неформатные, на самом деле являются частью литературного истеблишмента (единственное исключение – культурно-просветительская премия «Нонконформизм»). Это заметно по форме организации, по стилю подачи, который обнажает замаскированные пристрастия литературных бюрократов и олигархов. За многими из них стоят интересы определенных идеологических сил, а поскольку литература считается зоной повышенной свободы, поскольку она ближе к персональному личному пространству человека, то и играть там надежнее. Сегодня многие банкиры носят майки с Че Геварой. Это своеобразный отмыв символического капитала. Существуют, конечно, и другие «независимые» и «неформатные» премии, но за ними стоят интересы того или иного издательства, которое в первую очередь решает свои капиталистические задачи.
Однако непонятно, как быть с целым рядом действительно нонконформистских фигур, которые не вписываются ни в одну парадигму и для которых творческие задачи неизмеримо выше идеологических и социальных. Как правило, эти фигуры жестко табуируются и замалчиваются, литературный истеблишмент не пускает их на порог. Так называемая литературная общественность плюется на постоянное нарушение этими персонажами правил игры: не поймешь их – не то они правые, не то левые; то они матерятся, то описывают разные перверсии. Но настоящий художник может быть только горячим, а не тепленьким. Его искусство и по форме, и по содержанию чурается всего общепринятого. Вызвездить такие фигуры – основная задача нашей премии, а по сути антипремии – аполитичной, асоциальной и аморальной. «Звездный фаллос» призван повеселить всех ценителей горнего воздуха.
Что же касается статуса маргинальности нашего проекта, то мир давно уже вывернут наизнанку, и то, что официоз считает за контркультуру, частенько культурнее его самого. Вот почему многие мейнстримные фигуры также хотели бы засветиться на нашем поле, им же самим тошно плясать под муляжные официозные дудки. И мы, вообще говоря, не против таких фигур, если они держатся достаточно независимо и им есть что предъявить вопреки репрессивной общественной прагматике.
А.Н.: В чем сегодня заключается различие между фаллосом как символом и фаллоимитатором как симулякром? Какие культурные достижения можно назвать фаллоимитирующими?
А.Б.: Мы хотели бы, чтобы наша премия ассоциировалась с дионисийским началом. В мистериях можно все, в них отменяются все социальные законы. В этом и символизм нашей премии. Мы хотим поддержать художников мысли и слова, которые идеологемам предпочитают фасцинации (фасцинос в орфической магии – это фаллос Диониса, а для нас – в переносе – его творческий жест). От поэзии, прозы, философии и критики мы ожидаем искусства, а не назиданий, морализмов и социологии.
Понимать наш проект как «порнографический» или тем более «голубой» – неверно в корне. Не о фаллоимитаторах речь – это всего лишь сознательно провокативная упаковка, чтобы выскочить из общепринятых упаковок, моральных. Фаллоимитатор это и есть, конечно, симулякр. Он не живой, он изготовлен машиной. И метафора фаллоимитатора хороша прежде всего для характеристики официозных деятелей. Именно они со своими большими «общественными задачами» занимаются симуляцией творчества, и вещество их литературных и философских поделок – обыкновенный латекс, если только не заурядная резина. Такие философы и литераторы любят поговорить о своей независимости, индивидуальности, самостоятельности, но я думаю, что в глубине души они с горечью сознают, что посредством их «творчества» всего-навсего работает та или иная идеологическая машина.
А.Н.: У современных мужчин большие проблемы не только с эрекцией, но и с качеством спермы. Является ли это метафорой отсутствия в культуре крупных идей – семян логоса?
А.Б.: Конечно. Воля – в данном метафорическом контексте, – как эрекция, есть у многих. Но все эти многие, как выясняется, всего лишь, так сказать, менеджеры полового акта. Они или не способны трахаться (в высшем смысле этого слова), а если и способны, то получается у них это бездарно. Потому что трахаются явно ради социальных идеалов (а тайно – ради власти и бабла), а не для собственно траха, который мы здесь понимаем как некий «религиозный» процесс. Поэтому и «железы» их вырабатывают не семена логоса, как ты выразился, а некие серенькие тычинки, напичканные генами этой самой социальности. Ими-то эти менеджеры от культуры и оплодотворяют и друг друга, и общество. Они просто честно работают как социальные автоматы, считая, что социальное – это есть высшее измерение человека. Конечно, их можно понять, сейчас трудное время, социальное поле до предела напряжено, социальные задачи в пике востребованности, но решение-то может быть найдено только на более тонких уровнях и парадоксальным образом за пределами социальных категорий. Но, как мы видим по результатам, наши художественные менеджеры не могут противопоставить угнетающей нас власти ничего, кроме моралистической демагогии. А власть пользуется схожей демагогией, у нее тот же фундаментальный лексический аппарат – «справедливость», «ответственность» и так далее, весь джентльменский набор. Получается, что власть насилует общество, а общество – человека и все при помощи одного и того же инструментария (речь прежде всего о знаках, а не о реальных делах). Поэтому надо менять лексику, вводить новые разрушающие провокативные коды, зачинать новые гены, чтобы опрокинуть весь этот порочный порядок вещей и его символическое закрепление в моральном социологическом поле. Подавляющее большинство так называемых культурных деятелей, увы, и составляют опорный костяк этого насилующего человека общества. Но они получают лишь эрзац наслаждения, удовлетворяя свой нарциссизм, хотя им кажется, что решают великие социальные проблемы. На деле же они просто трутся друг о друга и трением и размножаются, клонируются частичками своей же неопрятной жирноватой кожи.
А.Н.: Можно ли назвать фаллический аспект премии восполнением маскулинности на фоне глобальной феминизации человечества?
А.Б.: В каком-то смысле да. Но это лишь один из аспектов, одна из возможных интерпретаций. Я думаю, что «маскулинность» нашего проекта прежде всего в том, насколько откровенно мы можем говорить о назревших структурных проблемах так называемого культурного сообщества, насколько мы не боимся бросить вызов его сложившейся коррупционной структуре. Мы должны быть готовы, что это сообщество не простит нам такой откровенности. Мы будем отправлены в «газовую камеру», нас задушат замалчиванием, на наши публичные имена будет наложено табу, нас не будут печатать, нас будут ненавидеть все эти журналюги от искусства, все эти бесконечные морализаторы и амортизаторы «творческого процесса». Но мы к этому готовы. Ибо поэт, как сказал Малларме, работает в перспективе на «никогда».
А.Н.: Мог бы премию «Звездный фаллос» получить настоящий кастрат, а не культурно кастрированный мужчина?
А.Б.: Государство кастрирует общество, а общество кастрирует человека. Кому же, как не кастратам, раздавать? Зато как они, бедняги, поют, как берут самые высокие ноты. Там, «на Самом Верху», наверное, уши закладывает. А ведь какое блаженство, Алексей, какое блаженство. Шутки шутками, но если серьезно, то я думаю, что вся эта игра слов, все это выворачивание смыслов, заключающееся в твоем вопросе, характеризует отчасти и несерьезную серьезность нашего проекта, все наше веселое отчаяние и все наше юродивое глумление над официозом. Скажу по секрету: ханжам и культурным проституткам такие призы не достаются.
А.Н.: Что должна сделать женщина в контркультуре, чтобы получить премию «Звездный фаллос»?
А.Б.: Путь актрисы, как известно, лежит через постель режиссера.
«Коммерческая литература – это то, чем забиты книжные магазины, куда настоящие читатели и заходить боятся»
«Пиши-Читай», 09.05.15
Елена СЕРЕБРЯКОВА: Андрей Станиславович, вы по образованию – физик. Влияет ли как-то ваша первая профессия на вашу литературу? Расскажите, как и почему вы стали писателем?
Андрей БЫЧКОВ: Меня с детства, ну, вернее сказать с юношества, влекло всё парадоксальное и противоречивое. А если говорить о пошлой обыденности, то оправдать её я мог только как некий скрытый закон (например, тела всех людей подчиняются законам Ньютона). Но первым откровением стало для меня, что всё парадоксальное и противоречивое, всё это «не от мира сего» – самая суть фундаментального квантового мира, мира элементарных частиц, где каждая из них – это некая связка противоречий, что каждая может, например, одновременно бежать и вперёд, и назад. Или находиться «везде», если некто скрупулёзно измеряет её скорость. Вот если бы и люди так! Вторым откровением, после прочтения Достоевского, было, что и человек также противоречив во внутреннем своём мире. Это, конечно, случилось позднее. А тогда, в юношестве, я тоже хотел совершить какое-нибудь невероятное открытие с тайным намерением одним махом оказаться на вершине мира. С невероятным не получилось. Но зато, уже будучи физиком, я предсказал очевидное: «странненькая» частица никогда не полезет в коллектив. А так как и одиночество для неё невозможно, то её судьба – оставаться на границе. Так я и защитил диссертацию с гипотезой о поверхностных гиперъядерных состояниях и даже предложил критический эксперимент – о повышенном риске распада гиперона на поверхности атомного ядра (в сотни раз). Парадокс в том, что по сути это и стало моей писательской судьбой – я сам и оказался той «странненькой частичкой» в литературном мире. И как я здесь уцелел, в этой жестокой и чудовищной среде карьеристов, графоманов, менеджеров, отъявленных прохиндеев и идиотов, сам не знаю. Наверное, потому что во мне до сих пор жив какой-то другой «квантовый» мир, и теперь я знаю его другое имя – Искусство. И ещё потому, конечно, что нашёл всё же и литературных друзей, и соратников… А как же физика, спросите вы? Отвечу: я бежал из физики, потому что мне стало вдруг и тесно, и страшно оставаться научным работником. Захотелось неизвестности, она ведь тоже во многом сродни свободе. В мире науки, охваченном законом, правила игры с воображением довольно ограничены. В самом воображении – свободы неизмеримо больше. В физике этот мир уже придуман и подтверждён гигантскими неумолимыми приборами. Если же говорить о свободе личной (а о какой же ещё свободе по большому счёту стоит говорить?), то искусство и есть тот мир, где только ещё и можно оставаться самим собой – со всей, конечно, условностью этого оборота.
Я хотел пройти по следам Элюара и стать поэтом. Я потерпел кораблекрушение. Я мог бы вернуться обратно и спастись в «научной шлюпке» – спасатели были рядом – стать, например, успешным профессором, доктором наук (мой научный руководитель Михаил Александрович Троицкий прочил мне присуждение докторской уже за мою кандидатскую, если эксперимент подтвердит гипотезу; ускоритель, однако, должен был набирать статистику по распадам гиперъядер в течение нескольких месяцев, что в условиях распада не только науки, но и самой страны, было просто невозможно). Но я предпочёл продолжать носиться по волнам на обломках своей мечты, уцепившись на этот раз за прозу. Уж лучше, рискуя утонуть, продолжать искать свои блаженные острова, лишь бы не возвращаться на большую землю научных степеней. Так литература стала моей борьбой за самого себя. После защиты диссертации, я уже не мог скрываться и неделями не ходить на работу в Курчатовский институт, отнекиваясь написанием диссертации, а на самом деле запоем читая Пруста, Набокова, Кафку, Камю. Чтобы остаться в физике, надо было принять и советскую социальную научную действительность, а я её ненавидел. Но догадывался ли я, что с литературой, которую я отождествлял не только со свободой, но и с жизнью, знал ли я, что снова попаду в ту же социальную обусловленность, но на этот раз капиталистическую и столь же противную моему нутру?
Е.С.: Расскажите немного о себе. Как всё начиналось…
А.Б.: Похоже, я уже кое-что рассказал, во всяком случае проговорился… Если же не приберегать что-то для посмертных дневниковых публикаций, то приходится признаться также, что «внутри» я представляю из себя некое слоистое «параноидально-шизофреничское» пространство, где бегают наперегонки, вперёд-назад одновременно, Кафка и Хемингуэй, я, конечно, имею в виду психические архетипы, а не социальные амбиции. Мне всё время кажется, что я слабее других людей, и сражаться с ними на их обычном языке не могу. Вот я и должен себе постоянно что-то доказывать, что я сильнее. Корчу из себя то безумца, то аутсайдера, лишь бы они, люди, поменьше ко мне приставали. Однажды сразился с милиционером, за что чуть не угодил в тюрьму. Его увезли в одну больницу, а меня в другую… Вообще свою жизнь почему-то плохо помню, в основном экстрим, Прустиана только начинает появляться на моём горизонте. Но я помню те нестерпимые моменты счастья, когда стал вырываться из подросткового возраста в предвзрослый мир, когда открывал пинкфлойдовскую «Ummagumma» и Лёд Зеппелин – «Stairway to Heaven». Тогда же я открыл для себя и алкоголь, а чуть позже и ту странную зримость слов, которую называют поэзией…
Е.С.: Чувствовали ли вы в ранней юности тягу к перу?
А.Б.: Я ещё в детском саду любил сочинять сказки своим собратьям по заключению на пятидневке. Мать моя любит пересказывать один и тот же сюжет (сам я его плохо помню), будто бы воспитательницы частенько злоупотребляли моими способностями и даже уходили чуть раньше отбоя, оставляя ритуал отхода ко сну на меня. Однажды, когда я приехал летом на дачу детского сада отдельно от других детей по причине болезни, то все они с криком бросились ко мне: «Андрюша, расскажи сказку!»
…Быть может, тогда-то другой мир, мир воображения, и стал для меня важнее так называемой реальности. Но писать, повторяю, начал поздно, уже после Университета. Всё в моей жизни как-то поздно происходит, когда уже и не верится или почти не верится.
Е.С.: А какие писатели сформировали ваш внутренний язык, на котором вы говорите сами с собой, и в какой мере он совпадает с тем, на котором вы пишете свои книги?
А.Б.: Я, если честно, чувствую себя как какое-то море разливанное, где волны проходят друг сквозь друга, движутся во всех направлениях сразу. Так много писателей на меня повлияло, и таких противоречивых или даже, лучше сказать, несовместимых. Про Кафку и Хемингуэя я уже говорил. Но инициация произошла через Льва Толстого, ведь это уже и не литература как бы, а сама великая жизнь. Голову же вскружил Набоков мне, из-за него, признаюсь, я и оставил в конце концов физику…
Внутренний язык никогда не совпадает с тем, на котором пишешь. Внутренний поток – это хаос, озабоченный во многом и беспричинный, в лучшем случае животный, разные такие фрейдистские комплексы – похоть, жадность, честолюбие, зависть, тщеславие, униженность, презрение к себе, самолюбование, тоска, ярость – иногда, конечно, с ангельскими просветлениями, особенно когда взглянешь ни с того ни с сего вдруг на небо или на совсем маленьких детей. Язык же, на котором пишу (а я пишу только ручкой и только на бумаге) – это другой язык, он рождается в последнем пределе какой-то тонкой воли, это тот самый язык, ради чего стоит писать и, может быть, жить. Но это даётся с приступом, как с молитвой, или, лучше сказать, когда собираешься и заставляешь «себя внутри себя» наконец замолчать и ждать, когда же оно поведёт само, и тогда уже ни с чем не перепутаешь его голос, и никаким бесам графоманства и бездарности уже не своротить тебя именно с твоего пути.
Е.С.: Вы не штампуете книги, что заведомо заставляет относиться к вам серьёзно. А как подолгу вы работаете над книгой? И, если можно, какой свой роман считаете самым сильным? Расскажите про него, пожалуйста.
А.Б.: Пишу я всё же трудно. Иногда по нескольку месяцев ничего не могу написать. Но если даётся, то легко. По продолжительности работаю не долго, часа три, чтобы не вспугнуть. Поэтому на небольшой роман может уйти года два. Всё жду откровений. Они случаются, но редко. Но я думаю, что я сделал сильный шаг вперёд в своём последнем опубликованном романе «На золотых дождях». Там много свободы в языке. А где ей ещё быть? Жизнь теснит, завёртывает в консервную банку общепринятого. А тут ещё эти бесконечные социальные агенты со своей пропагандой – правой, левой. И все почему-то и из художника хотят сделать пропагандиста. Всем им подавай идеи, рефлексии, все хотят от литературы или публицистики, или какого-то философского осмысления. А искусство? Да на черта им искусство! Им моральную риторику подавай, словесные позиции для атаки на противника, глубокое социологическое осмысление – как намылить шею левым, или как нафикстуарить по мордасам правым. Все сошли с ума, по-моему, все одержимы политикой, идеологией, социальными проблемами. И все почему-то думают, что художник должен всё это, как официант, обслуживать, быть на подхвате, подмахивать, подносить, выражать какие-то общественные взгляды или, напротив, убаюкивать, усыплять какими-то попсовыми сказками, развлекать. А если уж про духовную жизнь, то она, конечно же, обязана сводиться к морали. Вот от чего так хочется материться. Чтобы отпугнуть идиотов от своих книг. Сам же я каждый раз ищу чего-то неизвестного, неоднозначного и сложного, вот и пускаюсь в какую-нибудь свою личную «Джойсиану»: путешествие должно быть интересным прежде всего для себя, литература должна как бы сама себя обманывать, лишь бы не попасться на простой концепт, который всё живое превращает в мёртвое, в какую-нибудь «ходячую истину». Большинству читателей, конечно, хочется чего-то попроще, попонятнее. Они хотят своих, понятных, писателей. Но ведь и меня можно понять – я ищу именно своего, «непонятного», читателя… Что касается моего романа «На золотых дождях», то скажу, во-первых – авторское название его было «В поисках тьмы». И он представляет собой борьбу с той «ясностью», о которой слышится со всех сторон, и с помощью которой нам пытаются объяснить, а что, собственно, происходит. Роман сюрреалистический, и всё в нём вывернуто наизнанку: в Москве Нью-Йорк, который находится на дне Луны, оттого и пророки, и инцесты. Но если точнее, то это роман про язык, а ещё точнее – про «антиязык», который мы должны искать, чтобы разобраться, а что же, собственно, с нами происходит? Дело ведь не в сюжете, ну, или не только в сюжете.
Е.С.: Вас читают и за границей. Насколько известно, вы популярны в Сербии. Откуда такая любовь? В каких ещё странах вы переводились?
А.Б.: Кое-какие переводы были – в Германии, США, Бельгии, Франции, Испании, Китае… В основном рассказы в журналах и сборниках, книг за границей всего пять. Сербия же – отдельная история, я очень люблю Сербию, наверное, поэтому с Сербией и получается лучше, чем с другими. Знаменитая Любинка Милинчич, переводчица Набокова, перевела на сербский две мои книги. Обе вышли в небольшом, но довольно известном издательстве «КОВ», в одной серии с такими известными писателями и поэтами, как Карлос Фуэнтес, Томас Венцлова, Марина Цветаева, Владимир Набоков, Анри Мишо, Константин Кавафис… Не так давно меня приглашали и в Черногорию, открывать Балканскую международную книжную ярмарку в Хецог-Нови. Но здесь, в России, литературный официоз по-прежнему делает всё, чтобы меня замолчать, оттеснить. Меня не печатают толстые журналы. Премии типа «Большой книги» или «Букеровская» – не для меня. Официозные критики делают вид, что не замечают моих книг. Я, конечно, знаю, что это потому, что я пишу опасные книги. И критиков могут не пустить за границу, если они про меня напишут. «Как, ты написал про Бычкова? Ты что, с ума сошёл?!» И в лучшем случае будут смотреть косо, в худшем – будут проблемы с карьерой. Роман «На золотых дождях» отклонило с десяток, если не больше, издательств, прежде чем его напечатало ЭКСМО в серии, между прочим, с Томасом Пинчоном, Клоделем и Пеннаком (это я всё для тех же литературных функционеров артикулирую). Также было и с «Дипендрой», пока роман не напечатал благословенный Илья Кормильцев в издательстве «Ультра. Культура».
Е.С.: Как вы считаете, интернет – это больше хорошо, чем плохо? Или наоборот?
А.Б.: Мы начинали интервью с метафор из квантовой физики, так что бежим в обе стороны. Интернет, как и всё в современности – это и плохо, и хорошо. Вопрос в множественности перспектив. Но последняя борьба всегда разворачивается только на одном рубеже – за свою свободу. Разумеется, для тех, кто её достоин. Для большинства, увы, – банальные ценности и мораль младших классов средней школы. Но есть и большая проблема для всех, – что мир оказался западнёй. Об этом хорошо написано у Милана Кундеры в его книге «Искусство романа». А то, что мир – ловушка, это открытие Кафки. Европейский роман начинался с путешествия Дон Кихота в некую открытость, а закончился (или лучше сказать – показался законченным) историей Йозефа К, против которого, оказывается, по непонятным причинам идёт процесс, заканчивающийся его умерщвлением. Мир – ловушка. И никто никуда не денется, ни вы, ни я. Нас всех, прежде всего, сковывает по рукам и ногам экономика. Но дело даже и не только в деньгах. Все отношения пронизаны каким-то странным «процессом», который идёт против нас. Даже в фейсбуке вместо свободы высказывания часто видишь лишь нарциссическое «сэлфи», или же идёт обмен и торговля «лайками». Мы все оказались повязаны. Похоже, как говорят некоторые из религий, этот мир проклят изначально. Какая к чёрту политика? Человек проклят! Мы всегда чем-то таким адским, если разобраться, обусловлены, оттого и так хотим от книг компенсации. Но искусство – это не компенсация зла, а прежде всего его осознание. Все мы повязаны во зле. Не надо прикидываться, не надо врать хотя бы перед самими собой. Вот в чём последний вопрос.
Е.С.: Над чем вы работаете в настоящий момент?
А.Б.: Я, слава богу, прежде всего сейчас именно работаю. Я имею в виду, что я пишу. И для меня это большое счастье. Боюсь сглазить и не хочу говорить подробно.
Е.С.: Как вы относитесь к литературному рабству? Можно ли относиться философски к коммерции в литературе?
А.Б.: Любое рабство омерзительно, а литературное в особенности. Писать надо не для того, чтобы издавать книги. Это уже потом, как повезёт. Писать – это и есть последняя попытка к бегству, и с этого всё и начинается. Писать – это другой мир. Моя любимая цитата из Ницше: «Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?». Если уж бежать, то для чего? Коммерческая же литература – это то, чем забиты книжные магазины, куда настоящие читатели и заходить боятся. Все эти коммерсанты от литературы – лучше бы они торговали ботинками. Зачем преумножать бездарность и бессмысленность, которых и так слишком много в этом мире? Или никаких книг не надо, или только самые лучшие. Это же не жвачка, это шанс что-то понять и осознать в своей жизни. Прозреть, поплакаться над своей судьбой. Или вдоволь похохотать и поглумиться на больничной койке, когда тебе уже поставили диагноз.
Книга – это и есть дом бытия. Становление личности происходит через речь. И Библию недаром называют Писанием. Речь, и в особенности письменная, наверное, это и есть наше последнее прибежище. «Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух» – Ницше, опять же. Нет, я за то, чтобы изгнать торгующих из Храма!
Е.С.: Считаете ли вы, что творческому человеку все сюжеты и идеи его произведений диктуются «сверху», от некоего высшего разума?
А.Б.: Ну хорошо, открою секрет. Существует «тайная» традиция или так называемая «тайная передача». Адепт читает классику, читает великих писателей, и они его вразумляют. Адепт начинает думать и открывать что-то в себе. Это открытие часто бывает трудоёмко и даётся адепту не так легко, как принято думать непосвящённым. Адепт как бы расчищает грязь на стекле, чтобы заглянуть за него. А там всё уже проступает само. Я бы сказал, что это и есть «умное делание» – как у алхимиков. Но иногда бывает, что избранным даётся это и сразу, одним откровением. Только тогда приходится дорого платить. За всё стоящее в жизни приходится дорого платить.
Е.С.: Можно ли прожить на доход от литературной деятельности? Вообще, приносит ли она вам какую-то ощутимую материальную пользу? И согласны ли вы, что творческий человек творит лучше, если он голоден?
А.Б.: Многие занимающиеся коммерцией от литературы, в том числе политической или идеологической, как, например, Быков или Улицкая, или как Веллер, делающие бизнес на морали, не говорю уж про масскульт, получают гигантские деньги. Но я такой литературы не признаю. Сам я не получаю от своего писательства никакой прибыли, и счастлив, что могу заниматься прежде всего художеством и писать то, что мне вздумается. А трудности, неудачи, голод, срывы, изгнание, непризнанность, обделённость, презрение со стороны «удачников» – да. А как бы вы хотели? Нет, только страдание! Всё лучшее может быть только выстрадано.
Е.С.: Вы занимаетесь чем-нибудь ещё, работаете? Или вас интересует только литература?
А.Б.: Я учился в Гештальт-институте. Сейчас у меня есть небольшая терапевтическая практика, немного клиентов. Я также веду группу «Психотерапевтическое письмо», где я и учу. Учу читать Толстого, Чехова, Достоевского; зарубежных классиков – Пруста, Беккета, Кафку. Я показываю на языке противоречивых идей, что жизнь – очень сложная штука. И надо принимать её такой, какая она есть, во многом несправедливой и иррациональной, даже жестокой. Я знаю кое-какие психотерапевтические лекарства, гештальт-секреты, и не только. Те, кто попадает ко мне на группу, учатся говорить из самых глубин своего существа, и своей письменной речью высвечивать самые непонятные свои проблемы. В свободное время я занимаюсь тайцзицюань. Символически в эту практику я был посвящён тайваньским грандмастером Линь Алуном, одним из немногих людей на Земле, владеющих секретами линкунцзинь – удара на расстоянии.
Е.С.: Что, по-вашему, сегодня переживает русскоязычная литература – упадок или подъём? Чего ей очень не хватает?
А.Б.: У нас, у русских, травма родовая – несвобода. Это всё от большого пространства, которое исторически иначе никак было не собрать, кроме как через деспота. Был шанс, но советская власть окончательно перебила хребет свободному русскому человеку. И сегодня нам не хватает свободы, но, как ни странно, прежде всего – в языке; позволить себе воображение, не скованное новым деспотом – социальной реальностью. Литература должна всё время сама от себя ускользать, как только наметится какое-нибудь дидактическое высказывание. Литература не учит, она играет со смертью. Напоминает нам, что мы все смертные. По Хайдеггеру – говоря «смертные», мы проявляем сразу некую изначальную, сакральную, если хотите, Четверицу. Если мы смертные, то с нами остаётся и открытость мира – что ещё всё сможет произойти в нашей жизни, и не всё ещё потеряно; что нам есть, что охранять – наших любимых и наше любимое дело; и, в-четвёртых, что Божественные есть лёгкий ветерок присутствия, что коснётся (касается) нас, лишь когда мы сами не отпугиваем его своей ограниченностью и косностью.
Е.С.: В последнее время мир разделился на сторонников и противников глобализации. По вашему мнению, глобализация – это зло или добро?
А.Б.: Это то, что есть. Мир обобществляется, это грустно, но в тоже время и весело: нам становятся доступны и знания других культур, других цивилизаций, и не только в пространстве, но и во времени. Противоречивый процесс. А может быть, даже и трансцендентный, то есть то самое «да», которое можно постичь только через «нет». Сейчас происходит кардинальный переворот, и не многие это понимают, все пытаются ухватиться лишь за те или иные частности. А целое или иллюзия целого доступны немногим. Лучше бы подумать о нашей антропологической перспективе: она меняется, и в первую очередь язык, как самая тонкая из реалий. Знаки языка – и не только литературного – сейчас, вот даже именно сейчас, совершают свою революционную работу, меняют плоскости зрения, если мы говорим об идеях как о том, что нам видно, что предстоит перед нами. И всё это совершается и в нас. Наш взгляд необратимо становится мозаичным и стереоскопичным. Вот почему и перед литературой стоят задачи выработки этих новых перспектив, и оптику здесь диктует прежде всего язык, его раскрепощение и ускользание от социального к онтологическому и к онтическому. Как минимум надо принять, что зло есть часть добра, его тень. А разделяй и властвуй – ну да, это для моралистов.
Е.С.: Что вы читаете в настоящий момент? А кого перечитываете время от времени?
А.Б.: В настоящий момент я читаю книгу Ван Юнцианя «Секретные техники тайцзицюань стиля ян». Я регулярно перечитываю Гоголя, Толстого – особенно люблю «Смерть Ивана Ильича», у Чехова – «Даму с собачкой», у Кафки – «Приговор», «В исправительной колонии».
Е.С.: Что бы вы хотели пожелать России в такое неоднозначное для неё время?
А.Б.: Россия – моя страна, и я никогда её не брошу. Я принимаю её такой, какая она есть, с её историей, временами страшной и неоднозначной. Принимаю её как свою землю, в которой я укоренён, как и в своём небе. Мир всегда был и будет жесток и несправедлив, этому научил меня Готфрид Бенн. И сильный всегда давит слабого, при этом высокие слова произнося. А вот от сквернословия простого русского человека до святости – не так уж и далеко. Я бы даже и не России как государству хотел пожелать, а вот именно что русскому человеку и всем людям, которые здесь, в России, живут и нас, русских, не ненавидят. Я бы хотел им пожелать… что бы я хотел им – нам – пожелать?.. Как бы это не обернулось какой-нибудь красивой фразой, каким-нибудь лозунгом, призывом к действию… Чего-то такого я хотел бы пожелать, что, наверное, снова возвращается по извечному закону к смыслам той Четверицы, о которой я уже говорил. У нас у всех здесь своя правда, но будем помнить, что жизнь не так уж и длинна, это означает также, по слову философа, что надо выбирать перспективу благого конца нашего здесь пребывания, а не бездумно носиться, пока нас не настигнет пустое и бессмысленное исчезновение в хаосе. Только тогда с нами пребудут и Небо, и Земля, и Божественные. Так что хочется пожелать всем нам, чтобы мы не забывали и об этом.
Пора быть безумным в безумное время
«Литературная Россия», 27.12.06
Владимир ЯДУТА: В литературном мире вы известны как писатель не только яркий, но и опасный. В вашей последней книге – «Гулливер и его любовь» – много дерзостей? «Исправляться» не думаете?
Андрей БЫЧКОВ: «Гулливер» – мина замедленного, а может наоборот, реактивного действия. Так или иначе, но кого-то разорвёт моя радикальная эстетика, кого-то добьёт мой непримиримый антипостмодернизм, кто-то покончит с собой… Но лучшие мои читатели сами станут прекрасными «убийцами». Повезёт, конечно, не всем, но многие всё же «кончат» в постели (на пике сексуально-читательского возбуждения), а это, согласитесь, уже не мало.
В.Я.: Читатели станут прекрасными «убийцами»?
А.Б.: У Оливера Стоуна (он, кстати, когда-то вручал мне Приз Эйзенштейна) есть такой фильм – «Прирождённые убийцы». Самые лучшие читатели «Гулливера» уподобятся как раз героям этого фильма. Они познают «вечное обновление».
В.Я.: При этом вы толкаете читателей на какое-то метафизическое «преступление». Это больше похоже на своеобразный манифест…
А.Б.: Действительно, может сложиться такое впечатление. Более того, кто-то, возможно, назовёт это «религиозным» или, скажем, «нонконформистским» течением. Между тем источник моего «беспокойства» значительно глубже… Меня волнует в человеке какой-то изначальный, «онтологический» раскол.
В.Я.: Кто вас как писателя интересует больше – мужчины или женщины?
А.Б.: На этой земле не обойтись как без тех, так и без других. Однако в так называемой литературе полно спекуляций, построенных на сексе и на любви. В отношениях между мужчиной и женщиной скрыта своя тайна, и до неё необходимо докапываться. Здесь нужен риск. «Гулливер» – это вызов многим. Как мужчинам, так и женщинам.
В.Я.: Вы некоторое время занимались гештальт-терапией. Это накладывает какой-то отпечаток на ваши книги?
А.Б.: В гештальт-терапии есть такой термин – «контакт». Пойти на контакт с кем-либо – значит попробовать объясниться, попытаться решить какую-то проблему. Гештальт учит риску – быть открытым, особенно в непростых ситуациях, с близкими людьми. Это лучше, чем из года в год делать вид, что всё хорошо, в то время как ты уже давно мёртв и хочешь лишь казаться живым. Мои герои всегда шли на контакт. Даже тогда, когда я ещё и не имел никакого представления о гештальт-терапии.
В.Я.: Интересно, что ваши герои способны не только чувствовать, но вообще жить – никогда не знаешь, чего от них ожидать. Это в пику постмодернизму?
А.Б.: Постмодернизм – заболевание достаточно серьёзное и коварное. И сегодня им страдают в той или иной степени все. И я, и вы. Речь даже не столько о литературе, а гораздо шире – об изменениях в сознании, о новом психологическом типе личности, о тех базовых отношениях, которые нам навязываются. Постмодернизм можно понимать и как потребление. В первую очередь, как потребление знаков. Знаков отличия индивидов в обществе. Там, где раньше было много живого, теперь царит бездушная система дифференциаций и вещей. Особенно радикально мир овеществляется в «гламуре». Многие из моих героев действительно любят разрушать постмодернистские ценности или иные сложившиеся общественные табу и ритуалы. И, как мне кажется, именно это делает моих героев искателями в самом лучшем смысле этого слова. В наше время, когда религия всё меньше может помочь человеку, когда смысл бытия ускользает от него на каждом шагу, когда человек перестаёт понимать, кто он и зачем появился в этом мире (а потребность понимания тем не менее осталась), я думаю, только смерть ещё способна, извините за каламбур, хоть как-то нас отрезвить. Так что радикально постмодернизм лечится, конечно же, смертью. Смерть как слово в контексте нашего с вами интервью слышится и понимается прежде всего лишь как один из знаков, не более. Но если кто-то, читая получившийся текст, подумает о неотвратимости собственной смерти, смерти своей матери, или отца, мужа, наверное, это заденет его острее. Возникнут воспоминания или предчувствие, навернутся слёзы, что-то прорвётся, это и будет значить, что всё ещё не так безразлично. Значит, текст ещё заставляет нас чувствовать себя живыми… Хотя текст может заставить нас после этого и засмеяться. Наверное, нам нужны такие диссонансы, нужен допинг амплитуды, потому что сама жизнь так устроена: «из смеха в слёзы», особенно сегодня. Поэтому я люблю быть в своих текстах разным. Как автор я всегда хотел «раскачать» читателя, чтобы он вышел за пределы своих ограничений, в том числе и эстетических. Чтобы он не превращался в этакую читательскую однообразно работающую (жующую) машину. С этим-то мой «Гулливер» и сражается.
В.Я.: Что, на ваш взгляд, имеет принципиальное значение в ваших книгах, без чего невозможно обойтись?
А.Б.: Мне трудно дать имя тому демону, с которым я бьюсь… Для меня искусство – это мой, глубоко личный, путь спасения, если можно так выразиться.
В.Я.: Как появился «заимствованный» у Свифта Гулливер? Это некий образ-символ?
А.Б.: Свифтовский Гулливер всегда был символом неисчерпаемым. Дело отнюдь не в его «относительном» росте. Он реакционер в лучшем смысле этого слова. Он заставляет нас критически относиться к окружающей действительности и не бояться нарушать навязанные правила. Ведь, в самом деле, а судьи-то кто? Современному художнику также не пристало постоянно чего-либо опасаться. Он должен высмеивать как нелепые, оставшиеся от прошлого, предрассудки, так и новомодные гламурные суеверия. Он должен быть одновременно и большим, и маленьким. И в моральном смысле тоже. Я занимался когда-то профессионально физикой и не устаю повторять: мы с вами живём во времена квантовых законов. Согласно квантовой механике каждый объект есть и частица, и волна одновременно. Не нужно бояться противоречий. Необходимо набраться смелости и перешагнуть через собственную ограниченность. А раз уж мы говорим о литературе, то, значит, и в эстетическом плане тоже. Пора, в конце концов, соответствовать эпохе – быть безумным в наше безумное время и научиться сочетать в себе противоположные начала.
В.Я.: Кто на очереди после Гулливера, если не секрет?
А.Б.: Секрет.
Писатель – это Новый мир, а не автор журнала «Новый мир»
(«Независимая газета», Ex Libris, 28.02.08)
Недавно Андрей Станиславович принял участие в круглом столе на тему «Искусство и философии – обмен бессилием?», проходившем в Зверевском центре современного искусства. Сегодня мы решили поговорить о феномене писательского перформанса.
Алексей НИЛОГОВ: Андрей Станиславович, с какими симптомами непонимания столкнулись философы и художники на круглом столе?
Андрей БЫЧКОВ: Прежде всего хочется ответить на обратный вопрос о симптомах понимания. Мне было радостно увидеть так много и философов, и художников на одной площадке. Обычно все сидят по своим норам и грызут свою кость. А здесь, наоборот, кость общая. Я всегда реагирую на происходящее некой антенной, которая встроена у меня в подкорке. Моя антенна постоянно выдавала сигнал, будто все слышат одни и те же послания и пытаются выложить из них адекватные пазлы, что напоминает работу коллективного бессознательного. По-моему, и художники, и философы довольно откровенно покамлали и поговели, и не ради какой-то совместной пиар-акции, а потому что грешны и те, и другие. Нам больно за то, что мы делаем или не делаем с самими собой и что делает или не делает с нами власть. Обмен таким бессилием психоаналитически очень продуктивен, потому что может привести к выздоровлению пациента. Говоря о непонимании, а было бы нелепо и противоестественно, если бы все сошлись в одном универсальном понимании, я бы констатировал ностальгию по тем золотым временам, когда философы еще были пророками, а художники творили мистерии. Эти нотки упреков прозвучали в выступлениях Федора Гиренка и Наталии Ростовой, вызвав довольно резкую реакцию со стороны композитора и музыканта Сергея Летова. Интересно, что камнем преткновения в дискуссии стал именно перформанс. Художников-перформеров упрекали в том, что то, чем они занимаются, не литургия или богослужение, а тошнота. Однако художники трезво отвечали, что цели и практики искусства и религии уже давно разошлись, и не стоит вот так в лоб апеллировать слепо к тем догмам, которыми дышали прошлые столетия. Если ответить на ваш вопрос прямо и коротко, то основным симптомом непонимания явилась трактовка перформанса.
А.Н.: Какое место занимает перформанс в современной русской литературе?
А.Б.: Самое парадоксальное состоит в том, что я не перформер. Я довольно замкнут в своем писательском пространстве. Текст – сам себе перформанс. Но сам факт, что и я, и подобные мне авторы начинаем участвовать в перформансах, говорит о многом. Литература действительно давно начала себя именно показывать, исполняя заветный тезис Витгенштейна. Хотя почему действительно нужно было танцевать от каких-нибудь там венских акционистов шестидесятых, а не от своих, родных, непонятно. Ведь еще Малевич ходил по Невскому с чайной ложкой в петлице. Но сейчас можно констатировать, что перформанс из элитарной, авангардистской практики превратился в норму – в один из языков просвещенного литератора.
А.Н.: Ощущаете ли вы как писатель, что Россия перестала быть литературоцентричной, потеряв статус самой читающей страны?
А.Б.: Россия постепенно превращается из литературоцентричной страны в «попсоцентричную». С одной стороны, мягким русским мозгам откровенно навязываются ценности массовой культуры, с другой – массовая литературоцентричность толстых журналов и больших премий, по-прежнему транслирующих так называемые социально-политические ценности. А бедный читатель вынужден все это жевать. Собственно художественной литературы, человеческой, почти не осталось – художники человеческого зажаты с обеих сторон.
А.Н.: В своем скандальном цикле «П-ц постмодернизму!» из книги «Гулливер и его любовь» вы пародируете отечественную постмодернистскую литературу. Не кажется ли вам, что российский постмодернизм самопародиен по своей сути?
А.Б.: Французский философ Жан Бодрийяр завещал нам повышать порядок симулякров. В этом смысле мой цикл не пародия, а попытка прорыва к мистерии, пусть даже через литературную кровь. Разливной отечественный постмодернизм, во многом отождествляемый с «московским концептуализмом», всегда был для меня жалок своей политической ангажированностью и местечковостью. Там не было задач высокого полета, если хотите, взыскания истины. В этом смысле отечественный концептуализм, конечно, самопародиен. Хотя в своем цикле «П-ц постмодернизму!» я напал на самых талантливых представителей – Ерофеева, Пелевина, Пригова, Сорокина, Рубинштейна. Не скрою, что они мне интересны. Сорокин вообще один из лучших писателей. Но мне показалось, что они свое дело уже сделали, и я помогу им благополучно умереть.
А.Н.: Согласны ли вы с таким утверждением, что русская литература всегда исполняла роль национальной философии, не дав состояться профессиональной русской философии? Каким вам видится будущее русской философии в свете происходящей делитературизации?
А.Б.: Я не думаю, что это вина русской литературы. Русское сознание более целостно, религиозно, мистично, магично. Может быть, у него другая, нефилософская судьба. Русское сознание синтетично, оно все тянет на себя, всему быстро учится. Как писатель я остро чувствую сейчас нехватку новых концептов, философских идей. Но, по-моему, как раз современная русская философия, во многом реферативная, гораздо интереснее современной русской литературы, которая по-прежнему остается служанкой той или иной идеологии.
А.Н.: В вашей нашумевшей книге «Дипендра» есть рассказ «Мат и интеллигенция». Что вы вкладываете в такое понятие, как «русская интеллигенция»? Считаете ли себя интеллигентом?
А.Б.: Русской интеллигенции просто нет. Осталась лишь советская, антисоветская и постсоветская интеллигенция. В основном это масса с так называемым высшим образованием и со страшно заржавленными мозгами, пытающаяся по-прежнему решать вопросы наподобие «Что делать?», а еще лучше «Кто виноват?». По-моему, они все просто возликовали, реагируя на нынешнюю ситуацию в стране. Ну а мы, мол, так и думали, мы вам говорили, мы вас предупреждали, что вы хотите, это же Россия, это же русские! И всего отвратительнее, что снова актуализируют себя какие-то старые, извините за выражение, пердуны с пафосом борьбы. Но они же в этом сами виноваты со своими заскорузлой духовностью и бесконечным морализаторством. Нет, уж кто-кто, а я точно не интеллигент!..
А.Н.: Удалось ли, на ваш взгляд, интеллектуалам потеснить интеллигентов?
А.Б.: В каком-то смысле удалось. Эти поумнее и фасуют побыстрее, тыр-тыр, и все у них уже объяснено, упаковано, продукт готов, ярлык наклеен, платите деньги и потребляйте. Если у интеллигенции перебор совести, то у интеллектуалов ее вовсе нет. Материться, опять же, не любят. Не чувствуют, в каком месте тела энергия копится. Эроса у них мало, зато мозгов чересчур. Увы, и те, и другие тормозят исторический процесс. Править балом должны философы и художники.
А.Н.: О чем вы пишете сейчас?
А.Б.: Больной, как всегда вопрос, да и боюсь сглазить. Нынче трудные времена. Всем почему-то подавай роман. Всё это делают системные люди, навязывая нам литературную ситуацию. Они хотят, чтобы и читатель был частью системы, одним из персонажей, деталью. Им подавай феноменологию объективной жизни. Они не понимают, что писатель – это новый мир, а не автор журнала «Новый мир». А что это за субъективное высказывание: роман или рассказ – уже вторично. Рассказ, кстати, честнее, демиургичнее, ближе к стихотворению по восторгу, а роман – машина, архитектура. Словом, сплошная индустриализация и урбанизация у нас в литературе. Хотя истеблишмент по-прежнему делает вид, что меня нет, я для них из касты неприкасаемых, этакий далит, кабаривалл. Из тех, кто таранит их небоскребы. Хорошо, если бы читатель заметил, как они, эти небоскребы, горят и рушатся. Чтобы читатель знал, что я с ним и с его тайной свободой. Хорошо сказано у Музиля: «У каждого человека есть вторая родина, где все, что он делает, невинно».
Человек со звездным фаллосом
«Мир», № 3,2009
Из «хаотической автобиографии» писателя Андрея Бычкова:
«Медитировал в буддийской традиции Карма Кагью».
«Родился в семье художника-авангардиста Станислава Бычкова».
«Левитировал в индуистской традиции Дэва».
«Крестился в Оптиной Пустыни. Занимаюсь тайцзицюань. Изучал гештальт-терапию и психоанализ, работал на практике (интенсиве) гештальт-терапевтом. Ушел из Московского гештальт института с последнего курса. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Не курю. Стараюсь не пить. Люблю ничего не делать».
«Окончил кафедру квантовой статистики и теоретической физики Московского университета. Увлекался карате, пока не перебил себе на улице вену и нерв на правой ноге. Еще дрался с милиционером, чем горжусь. Хотя после этого меня отправили в одну больницу с пробитым легким, а его в другую – с сотрясением мозга. Чудом не посадили. Еще после выхода книжки «Черная талантливая музыка для глухонемых» топтал ногами крышу «Мерседеса», случайного, чужого, после чего также в очередной раз попал в милицию».
Валерий ПЕЧЕЙКИН: Многие из ваших коллег, особенно широко известных, отвечать бы на вопросы гей-журнала не стали. Что, на ваш взгляд, говорит о самом писателе желание высказываться (или молчать) на геевскую тему?
Андрей БЫЧКОВ: На первый взгляд это сигналит или о гомосексуальности или о гомофобии. Не исключено, кстати, что о том же свидетельствует и молчание. Но для человека свободного нет запретных тем. Тем более для художника. Думаю, что разговор на эту тему – это «тест» не на гомосексуальность, а скорее на ранг. Большой ты писатель или маленький. Классики всегда переходили границу хотя бы в плане символическом: Леонардо, Шекспир, Гете, Байрон, Шелли… Если вы хотите обладать дарами Пифии, вы не можете не изменить в творческом акте свой пол, как говорила Камилла Палья.
В.П.: Игорь Яркевич, ваш друг и коллега, считает, что написать что-то стоящее про геев, удавалось, как правило, натуралам, которые совершали «вылазки» в гей-культуру. Что вы об этом думаете? Совершали когда-нибудь такие вылазки?
А.Б.: Игорь – отличный писатель. Но здесь он не прав. Вся история романтизма стоит на ослаблении мужского начала и на трансгрессии. К тому ряду, который я уже перечислил, можно добавить и Кольриджа, и Блейка. Из более близкого времени – Жана Жене, нашего Вагинова, Евгения Харитонова.
Скорее это вопрос о том, какого пола муза или как часто она свой пол меняет. Воображение – оно, также, как и бессознательное, в чистом виде – бисексуально. Я тоже люблю пересекать границы. У меня есть и откровенный геевский рассказ «Самурай». Герой моего романа «Дипендра» испытывает неоднозначные чувства к непальскому принцу. Есть у меня и эссе о Жане Жене. Однополая любовь – вызов природе. Я вдохновляюсь вызовом.
В.П.: У ваших коллег-мужчин фаллосы обыкновеннее, а у вас «звездный». Ведь вы учредили собственную премию «Звездный фаллос». Почему, как мне показалось, во время церемонии вручения возбуждены были только вы? Лауреаты, увы, не пребывали в состоянии эрекции.
А.Б.: У непомерного властелина собственной премии дух стоять обязан. Но это не значит, что мои лауреаты были душевно пассивны. Они просто внимали дарам, они получали наслаждение по-своему. Увы, мы живем в таком авторитарном обществе, где любое проявление власти воспринимается как некий абсолют. Но тут, поверьте, прежде всего был перформанс.
В.П.: Как на ваш взгляд выглядит современная русская литература? Мне кажется, что это нетрезвый мужчина в старом пиджаке, у которого «не стоит».
А.Б.: Не то, что «не стоит», у него там вообще ничего нет, даже, извиняюсь за выражение, влагалища. Бесполая рабыня идеологии. Ей место на конюшне какого-нибудь олигарха или недобитого партократа-«эсэсовца»: в стремя ногу помочь вставить или г… за ними вынести. Нет ни вкуса, ни взгляда, ни слуха. Нет аристократизма ценностей. Все съедено раковой опухолью так называемых «гражданских идеалов». В этом море лжи разливанной честных художников почти и не осталось. Из литературы сделали служанку, а ведь она когда-то была королевой.
В.П.: Ваш коллега Ф. М. Достоевский вспоминал: «В Риме, в Неаполе мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения – юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки – и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это – в нравах, простая привычка, – и больше ничего. И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней, воевать буду с ними, – не уступлю». А вас геи когда-нибудь атаковали?
А.Б.: Да, Федору Михайловичу, видать, тяжко пришлось за границей. Хотя пафос этого высказывания как-то неясно сигналит и о чем-то еще… Достоевский с его комплексом отцеубийства был, конечно, символическим преступником (не будем забывать, что убийство в воображении и на деле – принципиально разные вещи). У Фрейда есть отдельная работа на эту тему. Сцены убийства и психологической подготовки к нему в том же «Преступлении и наказании» написаны с гораздо большим смаком, чем сцены раскаяния. А то, что в процитированном вами высказывании Достоевский так страстно приравнивает мужеложство к смертному греху… Но взять хотя бы женственного князя Мышкина, или светящегося отрока Алешу Карамазова, Достоевский же буквально нависает над ними массивами своего письма. Атаковали ли меня геи? В реальности не припомню. В детстве и ранней юности, не скрою, был такой фундаментальный страх. Но любая агрессия мужчин по отношению друг к другу в каком-то смысле гомосексуальна.
В.П.: Скажите по секрету, много ли геев в современной российской литературе.
А.Б.: Подозреваю, что много. Но это не те геи, которым можно завидовать. Это геи ради гейства, а не те «Гей, добры молодцы!»
В.П.: Вы защитили диссертацию «Поверхностные гиперъядерные состояния», в которой предсказали новое физическое явление. Его суть вы описали так: если добавить постороннюю частицу, такую, например, как гиперон, к атомному ядру, которое, состоит из «одинаковых» протонов и нейтронов, то она не полезет в Систему, а останется на границе. Вы назвали эту идею «религиозной». Скажите, а есть ли среди элементарных частиц однополые отношения?
А.Б.: Есть, но только под давлением обстоятельств. Например, в «черной дыре». Когда мир рушится и демоническое сердце природы все ближе, в игру вступают иные правила.
В.П.: Вы тщательно скрываете свой возраст. А что вы еще скрываете? Не хотите ли совершить на страницах «КВИРа» каминг-аут?
А.Б.: Скорее уж каминг-ин…
«Я не думал об эпатаже!»
«Лети Ра», № 5,2009
Михаил БОЙКО: Андрей, какое влияние на тебя оказала учеба на физфаке МГУ? По собственному опыту могу сказать, что шесть лет обучения в таком месте не могут пройти без последствий. Случайные люди туда, может быть, и поступают, но редко заканчивают…
Андрей БЫЧКОВ: На физфак я поступил из принципа. В десятом классе я переболел серозным менингитом, был освобожден от выпускных экзаменов, все поставили на мне крест. Но за взятку школьному врачу я подделал медицинскую справку (переболевшим менингитом поступать в высшие учебные заведения было нельзя) и сдал вступительные экзамены, потеряв всего один балл. Чувство было такое, как будто я был первый человек, который вышел в космос. Передо мной как бы открылась стрела времени. Физику я обожал. «Фейнмановские лекции» были моей настольной книгой еще в школе. Меня всегда завораживала какая-то магическая ясность физических законов. Это был тайный язык описания мира. Тогда я еще был уверен, что этот язык единственен и что он абсолютен. Сверхнагрузки окончательно излечили мой мозг и я, в известном смысле, даже как-то отделился от жизни, я перестал ей принадлежать. Я грезил квантовой механикой и элементарными частицами. На свою беду на первом курсе меня настигла несчастная любовь. Это была первая катастрофа. Но в то же время были приведены в действие и другие законы природы. Я начал писать стихи. Подражал Хлебникову и Элюару. Тогда же, записавшись в библиотеку гумфака, я прочел Кафку, Камю, Валери, Малларме, Пруста, Ницше «Так говорил Заратустра», Фрейда «Тотем и табу». И еще больше отделился от реальности. На третьем курсе я поступил на кафедру квантовой статистики и теоретической физики. У меня появились новые друзья, я пристрастился к портвейну и рок-музыке. Мы искали какие-то необычные способы поведения, изобретали хепенинги. Это были еще 70-е годы и многое приходило как-то на уровне предчувствий, мы часто не знали, что такое уже давно практиковалось за бугром. Сейчас уже общеизвестно, что это действительно было золотое архетипическое время для новой культуры. И хотя от нас было многое скрыто в СССР, сам этот «подводный импульс» мы испытали. И, помимо неимоверной концентрации усилий «мозговой игры», что связано с занятиями наукой, я получил также тогда и первые опыты расширения сознания.
М.Б.: Что побудило тебя взяться за перо? Полагаю, что в эпоху перепроизводства информации для этого нужны особые основания…
А.Б.: Писать я начал довольно поздно. Я уже работал научным сотрудником в Институте атомной энергии им. Курчатова, занимался группами унитарной симметрии и слабым взаимодействием элементарных частиц. Но все больше испытывал неудовлетворенность от своих занятий наукой. Во-первых, я считал, что мне не повезло, я не попал в ту касту избранных, что соприкасалась с самым передовым краем знания, тогда это были кварки и калибровочные поля. А я возился с такими старомодными системами, как атомное ядро. Все пионерские красивые задачи в этой области были уже решены. Делать просто диссертацию не хотелось, ведь в конце концов не ради же этого… Я довольно долго искал интересную задачу, апеллируя внутри себя к разговорам Разумихина и Раскольникова о том, что надо «соврать по-своему». Кроме того, интеллигентский мир научных сотрудников, их бесконечные политизированные разговоры начали меня доставать. Для них не существовало никакой реальности, только или их научные интересы, или разговоры на политическую тему, остебывание совка. Ни в литературе, ни в искусстве они не разбирались, только делали вид. Мне как-то стало тесно в этой атмосфере. Из великих книг я знал, что жизнь гораздо шире этих убогих представлений и что она не может быть обесценена той или иной социальной или политической системой. Социум тяготил меня все больше. Стал заниматься карате, пока не перебил себе на улице нерв и вену на ноге. В лаборатории я стал изгоем, прогуливал, не приходил, лишь бы не быть среди них, не втягиваться в их одномерное политизированное сознание. Меня не выгоняли только потому, что я всегда сдавал научные статьи в срок. К тому же я нашел свою задачу – странная частица (гиперон) на поверхности ядра и защитил диссертацию, предсказывая новое физическое явление. Но быть научным сотрудником и из года в год приходить в одно и то же место я уже не мог, для меня это было смерти подобно. Однажды я случайно включил радио и услышал рассказ Льва Толстого, это был «Холстомер». И во мне что-то изменилось. Мне вдруг открылось, что самим собой я могу быть только в писательстве. Что свобода для меня отныне только там. Я рискнул. С тех пор это стало как религия. Сейчас я думаю, что в становлении писателя есть нечто шаманское – человека охватывает какое-то безумие, ему нет места в мире, он может вернуться в него только в новом качестве.
М.Б.: Герой твоего романа «Гулливер и его любовь» играет на рынке Forex. Ты занимался трейдерством? Насколько успешно?
А.Б.: Я думаю, что все мы в какой-то степени и трейдеры, и проститутки, потому что это, в каком-то смысле, фундаментальные законы природы, элементарные частицы обмениваются «наслаждением бозонов», а всем в мире заправляет случайность, которую мы своими усилиями сгущаем в те или иные вероятности. Психология игрока знакома каждому и ее нетрудно воспроизвести. Что же до технической части дела, то лично я в Форексе не играл, но чтобы остаться достоверным в описании, проконсультировался у опытных людей. В истории же моего героя трейдерство не очень много и значит, то есть, конечно, на этом держится сюжет, но мне было интересно решать другие задачи, если так можно выразиться, симфонические. Не знаю, насколько это удалось. В первую очередь «послесмертие» второй части, когда герои из «классической» первой части, когда они уже были готовы покончить с собой, переходят в «остывшее психотерапевтическое» пространство. Я очень долго не мог найти нужную мне интонацию. Последняя часть, где мои герои становятся убийцами, решалась «методами боевика» и здесь мне тоже хотелось подобрать свою, «адскую» музыку. В целом же, как всегда, речь о метафоре. Произведение искусства это не инструкция, не призыв, это метафора, это не «что», а «как». Но у радикального, асоциального сюжета, конечно, больше шансов заставить читателя или зрителя взглянуть, пусть и на время, но по-новому на свои собственные психологические проблемы.
М.Б.: Как у тебя возник интерес к восточной философии и насколько он глубок?
А.Б.: Интерес к буддизму возник еще в годы учения в университете. Буддизм, как ни странно, имеет отношение к квантовой механике. Знаменитая буддийская логика «и, и», как выясняется, гораздо ближе к природе, чем «или, или». Реальность противоречива только для интеллекта. Ограничен сам наш инструмент, с помощью которого мы пытаемся решать как наши личные, так и сложнейшие общественные проблемы. Мы привыкли грубо делить надвое, кто не с нами, тот против нас. Беда в том, что мы всегда хотим поставить себя в какие-то рамки, сыграть по каким-то правилам, уложиться в какие-то заповеди. В восточной философии этого нет. Там нет, например, никакого религиозного табу на эротику, и это не приводит к порнографическим перехлестам, как у нас. Или другой пример – Кришнамурти ставит проблему признания насилия, а не вытеснения его. Конечно, этим занимался и Фрейд, но, как мы теперь знаем, это было своеобразной реакцией на христианство. А Кришнамурти же обдумывал это, исходя из традиции. В университете я заинтересовался и дзэном, тогда ходили ксероксы Судзуки (вместе с ксероксами Кастанеды). Мне кажется, каждый мыслящий человек должен попытался как-то расширить базис своего размышления о мире. Это, кстати, русский архетип. Мы широкие, мы действительно можем включить в себя все. Наши генетические энергии – центростремительные. Интерес к восточной философии – лишь один из векторов. Но, прочтя несколько книг на эту тему, не очень сдвинешься с возникающими на каждом шагу мирскими проблемами. И потому я перешел к практике. Сначала к «фантастической» – я левитировал в индуистской традиции Дэва. Но потом, когда меня сразила моя последняя несчастная любовь, нашел опору в буддизме. В известном смысле это привело к разрывам сознания – с нормальной точки зрения нельзя быть одновременно и христианином, и буддистом, и атеистом. Но я ведь переболел менингитом, и, значит, мне можно. Шизоанализ в действии! У Делеза я, кстати, как-то прочел, что Ницше тоже разделял концепцию множественности «я» и именно в перемещениях из одного центра в другой черпал энергию.
М.Б.: А чем обусловлено увлечение гештальт-психологией?
А.Б.: Я как-то постепенно заехал в глубокий личностный кризис и разрешить его «обычным» путем оказалось невозможно. Мне нужно было выскочить из какой-то скорлупы, в какую я сам себя постепенно заключил. Раньше я всегда любил дистанцироваться в какой-нибудь новый экзистенциальный опыт. Но с годами, тем более для семейного человека, его становится все меньше и меньше. К психологии, этой религии XX века, меня влекло давно. Опять же – читал и Фрейда, и Юнга, и Эрика Берна и иже с ними. Но, повторяюсь, книги это одно, а практика – совсем другое. Хотя подстегнула все-таки книга. Мне попался Фредерик Перлз. В той книжке были его гештальт-сессии, диалоги с клиентом при участии группы, начинающиеся с анализа снов. Это был, что называется, документ, и в то же время я прочел это как настоящую литературу. И я загорелся – и жизнь, и искусство «в одном флаконе»! Понятно, что меня, как писателя, привлекла еще и возможность заполучить какой-то свежий материал для чего-то нового. Собственно, я его и нашел. На группе люди раскрываются так, как довольно редко в жизни. В процессе обучения в гештальт-институте я довольно близко наблюдал за одной молодой женщиной. Она – героиня моего романа «Гулливер и его любовь». Я мог бы стать хорошим психотерапевтом, я работал с клиентами и помогал им, и они благодарили меня. Но стать профессиональным гештальт-терапевтом, для меня это было бы в ущерб литературе. Каждым делом нужно заниматься серьезно.
Шаман, кентавр, психоаналитик
«Независимая газета», Ex Libris, 18.06.09
Михаил БОЙКО: Андрей, в твоих романах среди действующих лиц всегда полно проституток. У тебя такое трепетное отношение к жрицам любви!
Андрей БЫЧКОВ: У меня всегда был интерес к «последним людям». У меня был друг-уголовник, он зарезал ножом одного типа. Я часто выпивал со своим другом в ресторане «Интурист», где он тогда работал поваром, а потом в кафе на Таганке, где он стал барменом. В новые времена он купил себе автобус, чтобы удобнее было вывозить награбленное. В общей сложности он отсидел, наверное, лет десять, если не больше. Я его очень любил и гордился тем, что у меня такой ДРУГ.
Что касается проституток, то в них, да, есть что-то магическое, они тоже по-своему преступают черту и доводят фундаментальность обмена, на котором строятся любые человеческие отношения, до какой-то фантастически простой и одновременно запредельной черты. То, за что могли дать пятнадцать лет тюрьмы или раньше расстрелять (что имеет отношение к изнасилованию), проститутка может дать вам за деньги. У меня по жизни было три несчастных любви, да и все эти так называемые романы меня просто достали. Женщины, особенно красивые, часто хотят быть собственницами мужчины. И тогда на помощь приходят проститутки. Конечно, среди них есть и «мертвые машины». Но иногда попадались и довольно занятные тонкие личности. Многие из них, кстати, почему-то обожали «Мастера и Маргариту» и мало кто «Преступление и наказание». Кроме того, тот факт, что проститутка спит со многими мужчинами, как-то утешает и как бы символически защищает от возможных измен.
М.Б.: Твои герои с непонятной настойчивостью ищут бога во влагалищах проституток. Разве есть шанс его там обнаружить?
А.Б.: Честно говоря, никогда так не думал. Если мои герои и спят с проститутками, то они все же прежде всего ищут самих себя и любви. И потом они, мои герои, довольно разные и если их что и объединяет, то это неизменный протест против узкого обывательского мирка и его поповских ценностей. Бога же, как это ни парадоксально, можно найти где угодно. Но на задворках мира вероятнее всего. Бог – это же неправильное. Но если нам прежде всего важны смыслы, а они не могут быть не символическими, если речь идет о литературе, то послание как всегда – поверх сюжета. Вспомни «Записки из подполья». Из этого засилья социальности, гражданственности и прочей «молярности», как выразился бы Делез, надо как-то выламываться, потому что сегодня становится ясно, что это все – симулякры. А что не симулякр? – вот в чем вопрос. Так что, как сказал поэт: «Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду».
М.Б.: Кого ты желал эпатировать, придумывая премию «Звездный фаллос»?
А.Б.: Честно говоря, я не думал об эпатаже. Эпатаж сегодня – это вот, например, акции арт-группы «Война» в Биологическом музее или в супермаркете «Ашан». Поэты и поэтессы, опять же, часто в последнее время любят раздеваться на сцене. А у меня так – цветочки, даже статуэтки фаллосов чем-то на оскаровские были похожи. Другое дело – послание. Это, конечно же, было определенное послание истеблишменту. Со мной начали здороваться те, кто раньше не здоровался, я имею в виду некоторых редакторов толстых журналов. То есть эти люди боялись быть названными по именам, что именно они и есть литературный коррумпированный официоз.
Не скрою, что началось это все с шутки. Но парадокс в том, что это было принято как событие. Потому что энергия подобного высказывания давно уже подспудно бродит в социуме. Не секрет, что ряд имен в современной литературе, и мое в том числе, сознательно замалчивается. Ну я – понятное дело, по мне русофобы катком прокатились в 90-е, сделав вид, что меня просто нет (кто не антисоветчик, тот не писатель), но есть же и другие. Почему в литературе, в искусстве, где эстетика должна стоять на первом месте, определенные круги, греющие руки на литпроцессе, продвигают и отмечают очень средненьких авторов? Эти господа, рулящие всеми этими премиями, самые обычные политиканы. Я думаю, в первую очередь они отмечают удобных и идеологически им нужных авторов. И именно благодаря им литературная ситуация наша сегодня во многом напоминает политическую. Такая же бездарная серость, захватившая власть и прикрывающаяся высокими словами о добре, о справедливости, о вечных ценностях, о гуманизме. Наши литературные начальники пересидели все режимы и каждый раз они ставили из себя «ум, честь и совесть нашей эпохи». О, они всегда были против. И они всегда знали меру своего «против». И в силу этой меры и были и остаются нужны власти, оправдывающей свои бесчинства «свободой» слова, особенно художественного. Эти люди устроили из литературы общественную помойку.
Засилье всех этих крепеньких середнячков-публицистов, считающих себя поэтами, философами и писателями, сколько молодых и задорных душ они задушили? В 90-е годы было несколько литобъединений, пытавшихся хоть как-то, пусть поколенчески, пусть смешно, но позиционироваться самостоятельно. Однако втайне они, как выясняется, не теряли надежды войти в «большую литературу», то бишь быть напечатанными в «Новом мире» или в «Знамени», устроиться редактором на работу в «Новое литературное обозрение», а лучше получить какую-нибудь «большую премию» или войти в жюри. Еще Бердяев, помнится, предупреждал, что централизация губительна для культуры, а тем более в такой стране, как Россия, с ее традицией бюрократии и деспотии государственной власти. Поразительно, что эстафету переняли именно либералы, именно они реинкарнировали в России новый тоталитаризм и прежде всего на тонких уровнях сознания, в культуре. В свое время Немзер, перечисляя в газете список финалистов премии Антибукер, мог запросто позволить себе не упомянуть пару имен – Баяна Ширянова и меня. Мамлеева долгое время замалчивали за его русскость. Вот эти вот местечковые «двигатели прогресса». Это, наверное, не дело художника – объясняться с этими господами. Хотелось бы, чтобы этим занялись критики, те, что думают не о своей карьере, а о сопротивлении всем этим живым мертвецам, захватившим власть.
Но я рад, что премия моя кое-кого задела. Пусть и в шутку, но были проговорены какие-то важные вещи. И я рад, что и лауреаты отнеслись к моей премии с тем же задором, что и я сам. Нам нужны нонконформистские жесты, эстетически-этические провокации, чтобы перенормировать смыслы. Нам нужен антиязык, чтобы разрушить используемые против человека смысловые «нравственно обеспеченные» связи. Спасти же нас может только культурное юродство, а не культурное поповство.
М.Б.: О чем твоя завершенная, но еще не опубликованная книга?
А.Б.: Моя новая книга должна выйти в издательстве «Гелеос». Но задерживается из-за кризиса. Это роман. Называется «Нано и порно». На полях рукописи рецензент, передавая ее главному редактору Маше Григорян, написала: «Хохотала страшно!» Страх и хохот – противоположности, так же как, например, наслаждение и боль. И в этом суть мистериального. А я и в самом деле попытался написать ни много ни мало как мистерию. Роман мой навеян мифом о Дионисе, а точнее, об Осирисе и Исиде. Египетская богиня Исида, по одной из версий мифа, собирая разрубленное и разбросанное по всей стране тело мужа, долго не могла найти его фаллос, а найдя, зачала от него сына-освободителя Гора. Герой моего романа проходит психоанализ и символически расчленяется, приносится, так сказать, в жертву силам зла. Согласно версии мифа, спасти его «будущее» может только фаллос. В процессе психоанализа мой «расчлененный» герой совершает психотическое путешествие в центр Земли, чтобы найти своего отца, свой фаллос и обрести Россию не как погибшую родину, а как воскресающее отечество. Отрывки из романа (под названием «Запретные яблочки») публиковались в Журнале культурного сопротивления «Шо» и в «НГ-EL».
М.Б.: Как тебе удалось уговорить Рубинчика снять фильм по твоему сценарию более чем десятилетней давности?
А.Б.: Сценарий долго не мог найти своего режиссера. Художественный руководитель студии, куда этот сценарий наконец попал, Вадим Абдрашитов сказал мне, что это и понятно – сценарий слишком жестко диктует свою стилистику, свое видение, и что он знает только двух режиссеров, кому такая стилистика была бы близка, это Петр Луцик и венгр Томаш Тот. Но первый умер, а на второго не даст денег Госкино. Я приуныл. Через неделю мы снова повстречались с Абдрашитовым и он спросил меня, а как я отношусь к Рубинчику? В свое время мне очень понравились два фильма Валерия «Дикая охота короля Стаха» и «Нелюбовь». Как можно было не согласиться? Рубинчик сказал, что мой сценарий не похож на те существующие 14 сюжетов, которые правят в мировом кино, и что можно смело сказать, что это тот самый 15-й сюжет, и взялся за съемки.
М.Б.: Советский строй и буддизм имели что-то общее? В конце фильма возле Кремля поднимается статуя Будды…
А.Б.: Архетипическое время сценария – 70-е годы, бунт Эроса. Я хотел переклички с парижскими событиями 68-го года. Рубинчик же, как режиссер старшего поколения, предпочел сдвинуть время действия в более близкое ему сталинское время, со своими болевыми точками. Поэтому смыслы в целом немного поплыли, фильм печальный, трагичный. В сценарии же было гораздо больше «фаллического задора». Были, кстати, и гомосексуальные сцены. Мой герой побеждал. И не погибал. Эпизод же с поднимающейся напротив Кремля статуей Будды был придуман мною в одном из вариантов для самого начала фильма, как сон героя. В конце того варианта герой незаконно переходил границу и попадал в китайский пещерный монастырь, на стенах которого был высечен все тот же огромный каменный Будда. В монастыре, окруженном китайскими солдатами, герой, обреченный на гибель, снова встречал свою любовь, китаянку Чженьцзинь. Таким образом Будда – это как бы вожделенный и обретенный эрос, разумеется, в контексте сценария. Но в фильме этот религиозный знак двоится, получает дополнительную символическую нагрузку репрессивного государственного начала. Хотя это, конечно, все лишь интерпретации. Начиналось же с образов. Вот воздвигается Будда на Красной площади или вот она, эта огромная статуя движется по ночной Москве. Непонятно, завораживающе, красиво…
Имели ли буддизм и советский строй что-либо общее? Поверхностный ответ – да, любое тоталитарное общество соотносится с тем или иным религиозным диктатом. Типа и нам было приказано медитировать на ламу Ленина, ламу Сталина, новых освободителей человечества. Но это, конечно, слишком прямолинейная концептуалистская трактовка. В советские времена было много идиотизма и потому больше свободы внутренней, жить можно было только за гранью. Так что буддизм как ментальная практика помогал сохранять себя в своем священном подполье. Но вообще это непростые вопросы – почему все великие религии, призванные освободить человечество, рано или поздно превращаются в репрессивный аппарат его порабощения или, точнее, используются репрессивным церковным, а потом и государственным аппаратом для подавления изначально данной нам божественной свободы? И какова же должна быть религия в наше нерелигиозное время, чтобы она не могла быть попользована всеми этими добродетельными палачами? Об этом, кстати, тоже в моем сатирическом романе «Нано и порно». В любом случае, наш пароль – свобода.
«Русская литература должна осознать задачи асоциальности»
Стенограмма беседы писателя Андрея Бычкова и философа Федора Гиренка
«Слова», № 7,2010
Предлагаемая читателю беседа с Федором Ивановичем Гиренком представляет собой стенограмму видеозаписи, которая была сделана в январе 2009 года (ее можно найти в сети). Тогда я вместе с Алексеем Нилоговым приехал в гости к Федору Ивановичу. Алексей брал у него интервью. А потом, поскольку еще оставалось место на пленке, решили записать разговор между Гиренком и мной на какую-нибудь литературную тему. Беседа получилась довольно спонтанной, она является продолжением нашего разговора, когда камера была еще выключена. В беседе нет четкой структуры «вопрос-ответ» и тема поначалу ищет себя довольно-таки прихотливо. Но, что характерно, она все же неумолимо находит себя.
Андрей Бычков
Андрей БЫЧКОВ: Федор Иванович, давайте поговорим о литературе просто так…
Федор ГИРЕНОК: Ну да, поговорим просто о литературе. Я могу сказать, если с русской философией у нас возникают проблемы и мы решаем вопрос о том, существует ли она или не существует, плохая она или хорошая, то с литературой у нас нет проблем. Без русской литературы мировая литература неполноценна. Иными словами, русская литература – это и есть наша философия. Например, у Канта я встречаю выражения, близкие по структуре мысли Достоевскому. Кант пишет, что страдание – источник сознания. И Достоевский об этом пишет. Я читаю «Критику практического разума» – и схожу с ума, оттого что вижу в ней Достоевского, вычитываю в ней его «Записки из подполья». Достоевский – это не Кант, но он обладает способностью формулировать емкие философские формулы. Или вот Мандельштам. Как не прийти в восторг от его «быть может, прежде губ был шепот и в бездревесности кружилися листы»? Ведь здесь затронут нерв философствования вообще. У поэта есть дар от Бога чувствовать слово и есть способность произносить слова в связи с мыслью.
А.Б.: Вот здесь есть за что зацепиться, даже в концепции археоавангарда: чтобы прошлое прорывалось в будущее. Как преодолеть этот странный промежуток, который сейчас образовался – засилье знаков? Как снова вернуться к каким-то сущностным высказываниям и вообще возможно ли вернуться? И если нельзя, то что тогда делать? Повышать порядок симулякров, порядок безумия? Как прорваться на уровень Достоевского?
Ф.Г.: Я думал когда-то на эту тему и пришел к выводу, что где умирает символ, там появляется знак. Знак – это надгробный холмик символа. Известно, что когда человек умирает, приходят архангелы Михаил и Гавриил с тем, чтобы отвести его душу к Богу. Поэт делает то же, что и архангелы. Он своим словом увлекает душу, и она отделяется от тела и идет за ним. А что делать, когда её нет, когда нечего вести? Человек умер, и душу надо вести к Богу. А вести нечего. Не нужны ни архангелы, ни поэты. Спрашивается, как сделать так, чтобы у нас вновь появилась душа? Ведь если она появится, то нам нужен будет Андрей Бычков, чтобы отвести ее на небо.
Проблема же состоит в том, что русская литература перестала быть нашей философией. Почему? У нас есть Сорокин, у нас есть Пелевин. Но это не философия. Это ремесло. Мое собственное говорение – лишь средство движения в некотором коммуникативном пространстве. Т. е. я говорю не потому, что у меня есть мысли, которые я хочу высказать, не потому, что я хочу что-то сказать, а потому, что говорение является способом моего существования в социуме. Мне нечего сказать, но я говорю. Следовательно, я решаю какие-то свои задачи в этом пространстве. Мне нужен продюсер, который будет публиковать мои слова в качестве мысли. Ибо мысль теперь – это все то, что опубликовано в качестве мысли. Так умирает философия. Мартынов говорит, что и литература таким же образом закончилась. Это означает, что она больше не пророчествует.
А.Б.: Мне сейчас вспомнилась идея Ницше о вечном возвращении, когда он говорит, что в воле действует два вектора: «да» и «нет». Это «да», по идее, должно снова возвратиться, но силы отрицания, силы реакции, декаданса и вырождения так повернули всю историю, что они сейчас – сильные мира сего. И нам, как воздуха, не хватает возвращения позитивного аристократического утверждения высших ценностей. Такое «да» было в русской классике у Толстого, у Достоевского, но, в отличие от них, мы, увы, утеряли к нему ход. И теперь у нас тоже осталось только «нет», но мы его говорим его тому «позитивному нет», которое победило – этому капитализму, этому подобию государства, всей этой системе, которая нас угнетает. В принципе, поле для высказывания осталось, но оно – отрицательное. В этой ситуации писателю остались отрицательные высказывания. То «да», которое было в русской классике, увы, утеряно. И сегодня писатель просто не знает, как сказать «да».
Ф.Г.: Говорят, что русская литература водительница, учительница жизни. Мол, сегодня надо нам перестать быть учителями. Нужно просто тексты делать. А раз я делаю текст, значит, я не даю кому-то смыслы, а, напротив, прошу: «придайте смысл тому, что я делаю – там ничего нет». Поскольку я делаю текст, постольку я допускаю, что теперь всё зависит от читателя. Мне нужен кто-то, кто бы пришел – умный, энергичный, эмоциональный, с чувствами и придал смысл написанному мной тексту. Но это уже не пророчество! Это не литература. Писатель становится скриптором. Он уже никого никуда не ведет. Он нуждается в понимающем чтении публики. Его текст – это некоторая пустышка, какая-то красиво сделанная вещь, отсылающая к другому тексту.
А.Б.: Конечно, это совсем иная литература, но, увы… так сейчас устроен мир. Происходит какая-то фундаментальная коррозия мира. И утверждения, которые были в прежние времена, так сказать, истинными, как-то могли зажигать, к сожалению, тоже каким-то непонятным образом мутировали к каким-то вторичностям, которыми теперь можно просто манипулировать. Поэтому и появляется пафос отрицания – отрицания этих вторичностей. Любовь, добро, красота, истина – эти слова не несут сейчас за собой того, что несли раньше, они стали лишь инструментом давления на человека, хотя когда-то за ними стояло все священное безумие человеческое. Потому-то искусство и встает на отрицательный путь. Как в шекспировской формуле, оно по-прежнему держит зеркало перед природой. В начале XX века оно своевременно показало все это, весь этот накопившийся абсурд. Тот же Кафка… Я знаю, что Вы немножко нападаете на Кафку, Пруста, Джойса, но они, в свое время, действительно, как зеркало, отразили эти изменения: «А куда мы, собственно, катимся? Посмотрите, что творится с этими вечными ценностями, и сколько на самом деле в мире абсурда, бессмыслицы, замыливания, симуляции!». Именно художники это показали. И они выступили не как пророки, но они… «Мы не врачи – мы боль!» – как это у Герцена. Эту боль они и показали. Поэтому, взывать к тому, чтобы художник снова стал пророком… как это может произойти в эти, секуляризированные времена?
В философии этот вопрос поставил Ницше. Он сказал: «Бог умер». И человека ставить на его место бессмысленно – нужен более глубокий переворот, переоценка всего, всей ситуации. Так что это вина не только художников, писателей…
Ф.Г.: Я не прокурор. Но сваливать на мир – это самое простое дело. Ну да, мир такой, какой он есть. Но вся дрянь в нем из нашего нутра.
Вот, например, боль. Кант пишет так: «Стоик кричит от боли и говорит, что всё равно он не признает, что боль это зло, потому что зло относится к поступкам, а боль это не поступок». Боль – это состояние, которое возвращает нам мир таким, каков он есть. Боль сопряжена с пространством подлинного.
А.Б.: Все религии на этом росли, на боли.
Ф.Г.: И ничего с этим не сделаешь! Это так!
А.Б.: И даже все дионисийские оргии, разрывание Диониса – это тоже боль. Другое дело, что он этого хочет. Это – «да!», несмотря на разрыв, на боль.
Ф.Г.: А я что делаю? Когда мне больно, я пью обезболивающие таблетки.
А.Б.: Т. е. утрачено то, ради чего я должен её терпеть!
Ф.Г.: Совершенно верно! Ведь стоик кричал: «Я не признаю, что это зло». Если я говорю: «Мне больно – это зло», то я не стоик. Значит, тогда нет чего-то, что бы позволяло мне проделывать простое движение «во имя». Т. е. я делаю что-то, что позволяет мне противостоять боли, страданию. А ведь действие «во имя» – это действие мистериальное.
А.Б.: Да, конечно!
Ф.Г.: Значит, что получается? Чего не хватает? Вот этого действия! Оказывается, у меня нет чего-то во мне и вне меня, ради чего я бы мог действовать. Когда в основе моего поступка или действия лежит «Я», мое действие не морально.
А.Б.: Ну да, чистый интерес…
Ф.Г.: Допустим, у меня есть интерес. Согласен. Но к морали это не имеет никакого отношения, а человек – моральное существо. Либо мы не люди, либо мы моральные существа. А если мы моральные существа, то тогда должно быть что-то вместо «Я». Вот Кант вместо «Я» поставил долг. Я сейчас не говорю, правильно ли это, но он сделал так. У нас же ничего не поставлено на это место.
А.Б.: Это сложный вопрос, на самом деле. Вопрос о ценности – что поставить на место той ценности, которая была утрачена – очень сложный. К сожалению, прежние ценности скомпрометированы.
Ф.Г.: Я читал какую-то литературу 20-х годов, в которой говорилось о том, что это «Я» могло замещаться идеей партии или еще чем-нибудь. И вот, у советских партийных работников возникали проблемы, которые можно было бы сформулировать как проблемы «единочества». У них вместо «Я» появлялись некие структуры: «я – это факультет, государство, партия». Но если ты – это партия, то в случае возникновения проблемных отношений с партией, у тебя разрушается «я». Возникают психические проблемы, связанные с «единочеством». Ты не можешь нормально переживать, реагировать. Эти проблемы касаются и писателей, здесь требуется их рассказ об этом. И вот, спрашивается, что с этим делать? Не знаю. Правда, не понимаю!
А.Б.: Социум сейчас устроен по законам, убивающим все живое, поэтому, если продолжать что-то искать, то надо идти от социума, в асоциальность, чем, собственно, и занимаются самые лучшие писатели на Западе, как бы мы его ни ругали…
Ф.Г.: И у меня такой же интерес к асоциальности. В смысле, есть надежда на то, что здесь блеснет, появится что-то важное и его бы удержать!
А.Б.: Эти социальные медиаперсоны, литкритики, публицисты, журналисты, они же все врут! Не важно, о чем идет речь, огражданском обществе или еще о чем-то…
Ф.Г.: Без враждебности к социуму человек невозможен.
А.Б.: Потому что социум – это и есть тот инструмент, который живые, священные вещи превращает в мертвые. То, чем человек должен жить, он превращает в инструмент манипулирования человеком.
Ф.Г.: Конечно! Это сейчас и понятно! Нарушена какая-то граница и социум расширился настолько, что человеческое в человеке стало недопустимо! Я бы сказал, должны быть осознаны пределы социализации!
А.Б.: С одной стороны, мы сейчас говорим, что вот, мол, слава Богу, обрушился Советский Союз, появилась какая-то демократия, мы, типа, предоставлены сами себе. Но парадокс в том, что свободы, экзистенциальной свободы, больше не стало! В малейшем, в малом, везде – тонкие механизмы контроля. Все подчиняется учету – что можно, что нельзя – тончайшие вещи.
Ф.Г.: Нас измеряют постоянно. Мы объект социальных измерений.
А.Б.: Постоянно каким-то кодом простукивают: ты «за» или нет, ты наш или не наш. Пару фраз – и все уже ясно, ты сразу каталогизирован, ты куда-то вставлен. И, казалось бы, речь идет о демократии, т. е. о том, за что мы должны бороться, по большому счету, о свободе. А реально все сводится к несвободе, к контролю. Кстати, они там, на Западе, художники, это прекрасно понимают.
Ф.Г.: Ведь проблема ещё в чем? Конечно, когда-то человеку нужно было освободиться от побудительных сигналов среды для того, чтобы потом подчиниться всем тем сигналам, которые идут от слова. Между сигналом и словом лежит пространство воображаемого. Проблема же состоит в том, что слово без своей так называемой метафизической или сверхчувственной части – это просто сигнал. Поэтому мы оказываемся в двоякой ситуации: не подчинившись вещи, мы потом подчиняемся диктату слова или – я буду говорить шире – некоей социальности, которая нас превращает в подобие солдата, которому даются команды. Я находил много реплик у психопатологов, вроде: «С человеком работать легче, тогда как обезьяну надо подкармливать. А человеку сказал – и он сделал». Слова теряют то, что делает их божественным созданием. Они превращаются в знаки. Слово для человека – это как звонок для собаки. Слова могут превратить человека в вербальный автомат. И это другая опасность для человека. Следовательно, нужно пройти между Сциллой и Харибдой, найти какую-то тропинку с тем, чтобы быть вне зависимости от природы, с одной стороны, и от социума, – с другой стороны.
А.Б.: Надо пройти между двух Эдипов…
Ф.Г.: Конечно! И поэтому сегодня растет внимание к шизофрении, к аутизму, девиации. Это не означает – «долой социум! Разрушим до основания!». Нет, мера перейдена, мы переступили предел. Значит, нужно сузить то, что расширилось чрезмерно, найти меру для социальности в человеке. Это – задача нашего времени.
А.Б.: И там этим серьезно занимаются, на Западе… Делез, Бодрийяр, Фуко…
Ф.Г.: И слава Богу! И правильно делают! А мы до сих пор стоим на позиции «твоя сущность – социум!». Это как?!
А.Б.: Конечно, это тоталитаризм!
Ф.Г.: Это значит, убить человека. Или превратить его в вербальный автомат.
А.Б.: У Бердяева где-то было хорошо сказано, что извечная беда русской интеллигенции в том, что она смешивает абсолютное и относительное. Она вся заражена социальностью. Политика для нее – из разряда высших ценностей.
Ф.Г.: Согласен. Не люблю политику. Вернемся к литературе. Если философу нечего сказать, он идет к художнику, ибо художник родом из воображаемого, а не реального. Художник – это ходячая асоциальность.
А.Б.: Т. е. русская литература должна осознать задачу асоциальности.
Ф.Г.: По моему, да. Тем более, был же идеал рационально действующего человека в экономике – он появился при переходе от традиционного общества к современному. Но ведь наши 90-е годы показали – нет никакого рационально действующего субъекта. Есть только преступление! У нас полстраны сидело по тюрьмам, это понятно. У нас и культура такая, мы любим лагерные песни. Наша страна такая. И это нужно знать! Наша элита сейчас – это преступники!
А.Б.: Бандиты!
Ф.Г.: Бандиты. Тем более, мы должны вернуться к этой теме, проследить, потому что – я повторяю – здесь я вижу человеческое, слишком человеческое.
А.Б.: А нам показывают сериалы про ментов, про то, какие у нас славные менты и какие у нас отвратительные бандиты, и как менты их побеждают.
Ф.Г.: Нам нужно исследовать эту тему, определить пределы социализации, осознать, что стоит за этими пределами. Ведь там находятся не только истоки преступлений, но там же есть и многое другое, то, что связано с человеком, с его неодолимой способностью быть мыслящим.
А.Б.: Человек – это всегда нарушение, это всегда «против», всегда уход от того, что навязывается, от довлеющих, регулирующих, ценностей. Нравственности, в том числе.
Ф.Г.: Конечно! Все это вопиет и требует разъяснения. И пока русская литература не расскажет так, как она это умеет и должна, наше сознание не сдвинется с места. Поскольку наша философия – это литература. Наше сознание не сдвинет ни один философ, какие бы книжки он не писал, у него ничего не получится.
А.Б.: Недаром остается «Преступление и наказание» Достоевского. Там же все это есть!
Ф.Г.: А поздние работы Толстого?
А.Б.: Конечно, он уходил от социума, государства, церкви в полную асоциальность. Если у Достоевского есть другой полюс (он государственник), то у Толстого есть именно этот уход, который сейчас, может быть, гораздо более актуален.
Ф.Г.: Толстой просто взывает к нам!
А.Б.: Тем более, когда нам сейчас навязывается вся эта норма, цензура, нравственность, «давайте снова говорить про добро»…
Ф.Г.: Толерантность…
А.Б.: Т. е. все эти бандиты, которые во сто крат безнравственнее нас, художников и философов, диктуют нам, о чем мы должны говорить, что мы ни в коем случае не должны говорить об этих болезненных, страшных вещах.
Ф.Г.: Поэтому мы говорим «нет!» толерантности. Мы должны сказать просто: «Мы хотим называть вещи своими именами!».
А.Б.: Раз это есть – значит, есть.
Ф.Г.: Вопреки всему! Вопреки этим запретам на разжигание всякой вражды и др., потому что это касается самого важного в человеке, и никто не имеет права запретить говорить о том, о чем ты можешь, хочешь и должен говорить!
А.Б.: Все в мире состоит из конфликтов, все живое хочет выскочить из системы, из нормы!
Ф.Г.: Мы сейчас проговорили самое главное. Если есть интуиция, чувства, то все в порядке, а остальное (язык, аппарат) – вещи прикладные.
А.Б.: Вторичные вещи… Я рад, Федор Михайлович! Ой! Федором Михайловичем Вас назвал…
Ф.Г.: Леша, выключай аппарат!
Новый нигилизм
Диалог философа Алексея Нилогова и писателя Андрея Бычкова
«Завтра», 12.04.13
Алексей НИЛОГОВ: Андрей, парируя твой ответ, хочу узнать у тебя, как можно заниматься писательством в ситуации, когда русская литература умерла?
Андрей БЫЧКОВ: Я не согласен, что русская литература умерла. Я думаю, что в этой ситуации вторичности и симуляции всех смыслов, в которую мы попали, симулируется и сам дискурс о смерти чего бы и кого бы то ни было – литературы, автора и т. п. Кто-то упорно хочет закруглить все за горизонт. Но ты отчасти прав, русскую литературу сегодня душат и пытают. В качестве палача выступает, прежде всего, социология. Человека выворачивают наизнанку и распинают на плоских смыслах общего дела. Так современность порождает свой особый тип литературы – мертвой, вторичной, морализаторской, и она, как ряска, покрывает собой необъятный русский пруд. Это, конечно, бизнес на морали, это рынок, где в качестве товара выступает так называемая правда, так называемый протест – все, что нужно сейчас гражданину. Но не человеку. Вот почему настоящая литература сейчас снова на дне, в подполье, в тюрьме. Но она жива, пока жив ее источник. Он скрыт глубоко, ему не нужна выгода, не нужна и правда. Он подпитывается трансценденциями искусства. Можно до бесконечности мертвить пропагандой сознание, но нельзя уничтожить – извиняюсь за пафос – дух, покоящийся (или мятущийся) в измерениях бессознательного. Настоящая литература не принадлежит современности, за ней живое прошлое языка и его живое будущее. Пошлость питается правильностью, живая русская литература сегодня все больше попадает под лингвистический радикал.
А.Н.: Я почти со всем согласен. Но обрати внимание: стоило убрать государственную идеологию и пропаганду литературы и чтения, в том числе в школе, как интерес к хорошей литературе резко упал. Какой смысл в искусственном поддержании мотивации к высокой словесности?
А.Б.: Высокая словесность, как и любое художество, пересекает любые границы и воспитывает свободных духом людей. Сегодняшнему государству такие люди не нужны, потому что они опасны. Они отличают фальсификацию от «истины». Государство воспитывает «вторичных» людей, ими проще управлять. Парадокс в том, что и в обществе высокая словесность (и шире – искусство) не востребованы. Общество борется с государством, и обществу нужна только та литература (и искусство), на которую оно может опереться, используя в своей борьбе. Обществу нужна только социальная гражданская литература, которая по определению вторична. Но подлинный художник – не гражданин в своем художестве, он спорит с Богом, он враг общества и друг человека. В других странах ещё сохранился хоть какой-то паритет между «вторичностями» и «первичностями». Во Франции обожают и лелеют своих «проклятых» поэтов и писателей от Бодлера и Рембо до Гийота. И это – дело чести и для общества, и государства. У нас наоборот. Пришедшие к власти либералы используют советскую травму как кувалду, забивают клин тормоза под Джаггернаут исторического колеса во всём – от политики до культуры. И «высокое» уходит от процесса, радикализируется, становится своеобразной сектой. Я думаю, настало время заговорить о «новом русском нигилизме», поднять вопросы об «искусстве для искусства». И общество, и государство, несмотря на взаимную ненависть друг к другу, отягчают и стаскивают с вершин «высшие ценности» (хоть и по разным склонам), и смешивают их с «низшими», с «прикладными». Это фундаментальный порок демократии. Она должна бы дополнять горизонталями вертикаль и расширять размерность «пространства современности», а не превращать все и вся в бездарную плоскостность. А если перевести этот разговор в разрез философского дискурса, то, как ты думаешь, есть ли ещё у нашего общества ресурс к «высшим ценностям»? И в чём он? Про государство сразу молчу.
А.Н.: Андрей, твой вопрос относится к сфере духовного досуга. А каким ещё может быть досуг? Не труд, а именно досуг сделал из обезьяны человека. (Да простят мне этот перевертень дарвинизма.) Несмотря на то, что у современного человека слишком много свободного времени (это отнюдь не оксюморон!) – в четыре раза больше, чем у людей начала XX века, – многие чувствуют, что они задыхаются из-за цейтнота. Поэтому я спрашиваю, почему мы должны оставить всяческие попытки философизации? Потому что философия – это удел избранных, среди которых немало тех, кто философствует от избытка. Невозможно привить любовь к высшим ценностям, так как с этим изъяном нужно родиться, чтобы дарить и не делаться от этого беднее. Нам остаётся одно занятие – прилагать все силы к тому, чтобы сохранять духовный оптимум, благодаря которому можно подпитывать собственный интеллектуальный гомеостаз.
Ницще писал: «Там, где пьёт отребье, все источники отравлены». В юности я испытывал жуткий психологический комплекс: стыдился проникновения в свой внутренний мир – например, во время прослушивания классической музыки или чтения. Мне было стыдно от того, что кто-то ещё может уловить созерцаемые мной образы и смыслы. Во что бы то ни стало охота быть настоящим снобом, но кругом – одни хипстеры.
А вообще – кто наши проницательные читатели? При жизни Ницще книгу «Так говорил Заратустра» прочитали только 7 человек. Кто-нибудь заблуждается насчёт того, что сегодня ситуация улучшилась или ухудшилась?
А.Б.: Проницательные читатели по-прежнему читают Ницше и Пруста. Хотелось бы, чтобы именно они читали и нас. Но вопрос о предназначенности и избранничестве все же роковым образом погружается в ситуацию. Можно спорить о том, в каких аспектах она ухудшилась, в каких улучшилась, но она, безусловно, изменилась. Она на то и ситуация, чтобы все время меняться. Набоков никогда бы не смог реализоваться в Советской России. Найдись русский Берроуз сегодня, его бы посадили за пропаганду наркотиков. Ни общество, ни государство не понимают, что для искусства и философии не может быть запретных тем, что без привкуса запретного нет ни настоящего искусства, ни философии. Проблема в том, что наши властные и общественные институты, которые вдобавок состоят из разноречивых сегментов, репрезентируют себя в поле идеологии, и от искусства хотят того же – той или иной морали, функции, пользы, пропаганды. Тогда как для искусства это все совсем не важно. Его «высокость» в том, что, даже имея дело «с теми или иными» темами, его послание всегда поверх этих тем. Собственно, на то оно и «высокое», чтобы показать нам «небо» над головой, даже если это «небо» «черное», расширить стилистические порядки осознаний, или, проще говоря, показать множественность точек зрения. И вот это-то «институтам» и непонятно, и вот это-то их раздражает и настораживает. Нет, уж лучше пусть «низкое» с его внятными социальными идеалами, чем «высокое» с его «темнотой». Стоит также заметить, что ситуацию, которую мы с тобой обсуждаем, создают определенные практики. Я не думаю, чтобы Ницше в его время кто-нибудь запрещал или сознательно замалчивал. Тогда еще была некая метафизическая вертикаль и практики были «вертикальны». И рано или поздно он вышел на свою орбиту и засиял. Сегодня ему было бы гораздо труднее. Сегодня все упирается в активизм, который и есть доминирующая «горизонтальная» практика, и обратная сторона которого – все та же напористость топ-менеджеров. А что ты думаешь по этому поводу?
А.Н.: Андрей, раньше я заблуждался, думая, что для того, чтобы быть современником, нужно постоянно поддерживать активную жизненную позицию, каждый миг подтверждая собственный амбициозный статус. Причём извлекаемость смыслов при постоянном возрастании скоростей только снижается. Отсюда – замкнутый круг белки в колесе, которая стремиться обогнать время своего существования, но каждый раз оказывается в точке отсчёта. У питерского философа Александра Секацкого есть занятная классификация «эфемеров» и «посмертников». Первые – всегда на виду, пользуются сиюминутной славой, правда, их слава недолговечна, так как их забывают сразу, как им на смену приходят новые «эфемеры». Напротив, жизнь «посмертников» незаметна для современников, и только после смерти к ним приходит слава, которая никогда не забывается – покуда существует человеческая цивилизация. Вопрос в том, насколько адекватна данная классификация сегодня? Что ты об этом думаешь?
А.Б.: «Эфемеры» и «посмертники»… звучит довольно жестоко, хотя и «романтично». Но мне кажется, что это несколько упрощенный взгляд. Хотя доля правды в этом, конечно же, есть – если отыскивать точку сосредоточения сил, откуда проистекает и к чему обращен «первичный» импульс. Захваченность «первичным» оставляет не слишком много желания, да и сил, на социальные игры. Но мы все хотим быть услышанными и прочитанными сегодня, реализоваться при жизни, и нет таланта без амбиций. Беда в том, что в погоне за успехом легко оторваться от корня, и потерять источник, лежащий, вообще-то говоря, «вне тебя». Потому что некоторые вещи даются. И не случайно древние говорили о «пустыне». Выражаясь языком современным – чтобы заговорить от имени «Кого-то», надо уметь освободиться от себя и научиться ждать, когда «Кто-то» соизволит заговорить. В наше время это большая роскошь – избегать себя, то есть своей деловитости, суеты, активности; не быть озабоченным своими победами и поражениями. К сожалению, нельзя не признать, что избежать всего этого полностью сегодня нельзя. Мы все же занимаемся не монашескими практиками. И в старании реализоваться в социуме нет ничего плохого, но – по мере сил. Увы, эта мера сегодня, как никогда, извращена. Вся «человеческая энергия» сегодня высасывается на поверхность, плоскостность социального – и «сверху», и «снизу». Все выводится в экономику коммуникации, которая и есть экономика социальности и которая все больше форматируется под категории успеха. Эта экономика социального сегодня до предела перенапряжена, и даже у тех, кто призван заниматься творчеством (а может быть, и в первую очередь у них), она отнимает почти все силы на «позиционирование», «продвижение», «пиар» и т. п. Потому что все сегодня превращается в маркетинг. И в результате вместо литературы, например, мы имеем книжный бизнес, где целая каста «топ-менеджеров» манипулирует и спекулирует авторами исключительно в своих интересах. Более того, они присваивают себе «первичное», делая автора лишь средством своего собственного высказывания, подгоняя автора под свое собственное высказывание. Но, присваивая себе «первичное», они его выхолащивают, убивают, потому что сами они от «первичного» изначально отчуждены, они же позиционированы в роли «вторичного», в роли социальных агентов, маркетологов. Они плоть от плоти этой самой социальности и озабочены «улучшением ее функционирования», в этом их высшая цель и оправдание. Реально же все сводится к «функционированию товара», к рыночным отношениям. Но от «Кого-то» я получаю не товар, а послание. А вот сам по себе, тайно озабоченный собой, а явно включенный в «востребованность всеми», я произвожу товар. Нам остается, конечно, надеяться на чудо – как и какими путями наши «первичные» мысли и образы найдут своего читателя. Слава Богу, что чуда никто не отменял, есть нечто, независящее от маркетологов.
В контексте нашего разговора, нашей «критики современности», я все же хотел бы вернуться к парадигме «нового русского нигилизма» и спросить тебя как философа, тем более, что ты профессионально занимался Куклярским, одним из первых русских ницшеанцев, как, в каких «позитивных» аспектах возможно нам сегодня понимать нигилизм? У Готфрида Бенна, я недавно нашел интересную формулировку, что дело, собственно, не в нигилизме, а в том, что мы делаем со своим нигилизмом.
А.Н.: Андрей, отсылка к новому прочтению нигилизма мне кажется заманчивой, но недостаточно продуманной. В истории философии с нигилизмом разобрались Ницше и Хайдеггер. И он вышел из моды. Ему на смену пришёл цинизм, критика которого завершена в книге немецкого философа Петера Слотердайка. Если говорить о цинизме вкратце, то можно сказать следующее: цинизм – это когда знают, что так делать нельзя, но всё равно делают. По ожиданию Слотердайка, на смену цинизму как одной из форм ложного сознания должен прийти новый кинизм и даже стоицизм как этические противоядия. Я верю Слотердайку, но не верю в то, что новая форма ложного сознания сможет спасти современное человечество. Мне кажется, что проблема не в мере ложности, а в самой природе сознания, которая не может не быть подвержена несбыточным грёзам и иллюзиям, будучи практикой причинения вреда носителем такого сознания самому себе. Если доживающий свой век homo sapiens всё-таки будет заменён благодаря стараниям трансгуманистов на киборгов, то проблема сознания отпадёт сама собой, а о степени ложности киборгизированного разума мы будем судить по степени сложности используемых ими математических матриц. В этой связи хотелось бы узнать у тебя о будущем литературы в мире киборгов. Ведь уже сейчас есть компьютерные программы, которые создают литературные тексты. Станет ли литература духовным прибежищем в гетто выживших homosapiens'ов? Или тебе ближе сценарий Рея Бредбери в «451° по Фаренгейту»?
А.Б.: Честно говоря, я бы не хотел пересекать границу утопического и фантастического. Сейчас я хотел бы остаться в «реальном» контексте критики современности, в том же ключе, как мы начинали с тобой этот разговор. Ты говоришь, что «нигилизм» с точки зрения истории философии уже «отработан». Наверное, это так, тебе как философу виднее. Но меня как писателя это словечко и то, что в моем понимании за ним стоит, некое отрицание, по-прежнему бодрит. Да и имена Ницше и Хайдеггера – такие гигантские имена – словом, мне кажется, здесь все еще есть от чего танцевать. Я, конечно, не могу свои «ощущения» оформить как доктрину, да и не ставлю перед собой такой цели. Наверное, вопрошая о «позитивных аспектах нигилизма», я подсознательно имел ввиду некие общие для разных искусств принципы, какие должны бы проявляться и в современной литературе (мы все же начинали разговор с литературы), как по-своему деформировать и трансформировать «клише», как выйти за рамки «клише» – как, например, говорит Делёз в своей книге о художнике Бэконе. В твоем ответе прозвучали и некие другие опорные «определения» – цинизм, кинизм, стоики, ложное сознание. Упоминая киборгов, ты отчаянно «утопизировал» проблему, довел свой ответ до предела – для хомо сапиенсов спасения нет. Да, наверное, это так. Но в каждой эпохе, в каждой культуре мы сопротивлялись по-своему, деформировали и трансформировали по-своему. У Сенакура хорошо сказано: «Человек смертен. Пусть так, но погибнем, сопротивляясь, и если нам суждено небытие, не станем делать вид, будто в этом есть справедливость».
Примечания
1
Например, у Музиля в «Человеке без свойств».
(обратно)2
«Речь идет уже не о Мимезисе, а о становлении: Ахав не имитирует кита, он становится Моби Диком, переходит в зону соседства, где уже не может отличить себя от Моби Дика». (Жиль Делез Критика и клиника. – СПб.: Machina, 2002, с. 55).
(обратно)3
Жиль Делез. Френсис Бэкон: Логика ощущения. – Спб., Machina, 2011, с. 22.
(обратно)4
3) Здесь, скорее, в смысле наррация.
(обратно)5
4) В книге, кстати, есть много цветных вкладок с произведениями художника, и одна из них – работа последнего периода, под названием «Струя воды» (1988) – экспрессионизм в чистом виде (в отличие от абстрактного экспрессионизма art informel).
(обратно)6
Три кварка для Мюстера Марка (англ.)
(обратно)7
Scribenery (неологизм Джойса).
(обратно)



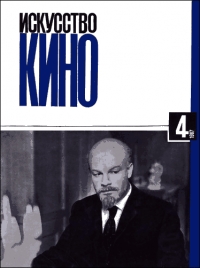


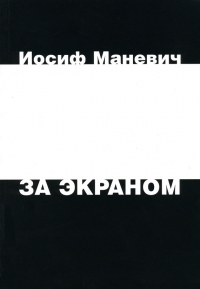

Комментарии к книге «Авангард как нонконформизм. Эссе, статьи, рецензии, интервью», Андрей Станиславович Бычков
Всего 0 комментариев