Никита Елисеев Против правил (сборник)
© Елисеев Н. Л., текст, 2014
© «Геликон Плюс», макет, 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (), 2014
Я и Томас Манн
Извините за наглость, но так получилось. Похоже на объяснительную записку, как я дошёл до жизни такой, что перевёл шестисотстраничный публицистический текст Томаса Манна времён Первой мировой войны. Что меня побудило? Наглеть так наглеть: процитируем классика немецкой литературы: «40 лет, конечно, критический возраст, ты больше не молод, ты знаешь, что твоё собственное будущее – уже не всеобщее будущее, а только – твоё. Теперь тебе предстоит вести свою жизнь к концу – она будет отставать от всеобщей гонки, и её финал будет твоим личным финалом. Новое поднимается на горизонте, оно просто отрицает тебя; оно не утверждает, что всё было бы так, как оно есть, даже если бы тебя не было, – оно просто зачёркивает тебя. 40 лет – пункт поворота всей жизни; и это немало, если поворот, перелом всей твоей жизни сопровождается громом поворота всего мира – такое страшит…» Ну да: Первую мировую войну и последующие за ней революции, конечно, не сравнишь с перестройкой и всем, что за ней последовало, но пункт поворота мира, совпавший с личным твоим, возрастным, персональным поворотом – и там, и здесь имел место быть, так что можно почувствовать – неловко сказать – родство душ.
Почему неловко? По многим причинам, главная из которых та, что славы Томасу Манну «Рассуждения аполитичного» не прибавят, как не прибавит славы Достоевскому «Дневник писателя», каковой Томас Манн в своих «Рассуждениях…» цитирует весьма обильно. Более того! Расставляя вешки для будущих исследователей своего творчества и просто для внимательных, образованных читателей, страниц за десять до завершения книги он (после очередной порции цитат из Достоевского) пишет: «Все политические сочинения Достоевского суть рассуждения аполитичного, можно также сказать – консерватора. Ибо всякий консерватизм – антиполитичен: консерватор не верит в политику, в политику верит прогрессист».
Стало быть, чуть ли не прямым текстом Томас Манн сообщает: моя книга аналогична «Дневнику писателя», подобна этому произведению; только поэтому я назвал её «Рассуждения аполитичного». Близкое общение с текстами вроде «Дневника писателя», «Выбранных мест из переписки с друзьями», опять-таки «Рассуждений аполитичного» способно породить не слишком верные и очень нехорошие чувства. Например, такие: «Получается, что невероятно мудрые, прозорливые люди, видящие в человеке и в человеческих отношениях то, что я увидеть не могу, как бы ни пытался, могут быть такими непроходимыми идиотами?» Чтобы не быть голословным, прочтём всего одну цитату: «Я заканчиваю эти заметки в день объявления о начале мирных переговоров между Германией и Россией. Если меня ничто не обманывает, то сбылось долгое, лелеемое ещё с начала войны желание моего сердца: мир с Россией! Мир прежде всего с ней! И война, если она ещё будет идти, будет идти против одного только Запада, против trois pays libres, против “цивилизации”, “литературы”, политики, риторической буржуазии…» Так Томас Манн отпраздновал начало переговоров в Брест-Литовске. Эта штука будет посильнее не то что «Фауста» Гёте, но и совета Гоголя жечь ассигнации на глазах у потрясённых до самых основ своих меркантильных душ мужиков. В конце концов, ассигнация и ассигнация – ну сжёг и сжёг, но чтобы изнасилование принять за свадьбу – это, знаете ли, крепко. Может быть, из-за этой одной фразы только и стоило браться за перевод многословных, витиеватых и – назовём чудовище его настоящим именем – протофашистских «Рассуждений аполитичного». Важно вытянуть всю цепь, чтобы русскому читателю стало понятно: вот поэтому «грабительский мир» был воспринят Томасом Манном как братский союз двух антизападных, антибуржуазных наций. Важно сломать стереотип. Для нас Германия – типичный Запад, типичная Европа, бездушная, механистическая цивилизация, Ordnung, Kant и Krupp, а Томас Манн описывает Германию антизападной, восточной страной, страной добуржуазной, бюргерской Gemuetlichkeit и феодального, рыцарского Drang’а.
К тому же увлекает и вовсе безумная, бредовая идея. Вот этот телячий восторг от предстоящей «нам» (вместе с Россией) войны против цивилизованного, буржуазного Запада показался удивительно сходственным со «скифским» восторгом Блока. Перед нами один и тот же социально-психологический тип: интеллигент на переломе времён, своего личного и исторического. Или, скажем так, интеллигент в пору глобализации; нет, всё это слишком сложно. Может быть, просто приятно почувствовать себя умнее, чем Томас Манн? Вспоминается чудное а пропо Битова в «Пушкинском доме» касательно дяди Лёвы Одоевцева: дескать, Лёва Одоевцев в ум не мог взять, как это дядя, разбиравшийся в таких сложных вещах, в каких Лёва разобраться не мог при всём желании, не понимал простейших обстоятельств. Со временем ирония Битова повыветрилась, осталось искреннее недоумение, сопоставимое разве что с пушкинской яростью против толпы, с великой радостью, читающей дневники и письма великих. Мол, толпа ликует: он был мерзок так, как и мы! Врёте! Если и был мерзок, то не так, как вы…
Разумеется, разумеется, гений и в своих ошибках, и в своих заблуждениях – гений. Он и ошибается интересно, плодотворно ошибается. Как говорила одна мудрая женщина: «Когда тебе кажется, что кто-то думает так же, как и ты, ты сперва проверь: думает ли он вообще…»
А Томас Манн думал. Думал, да ещё как! Противоречил себе, спорил не только с ненавистными ему тогда либералами, демократами, сторонниками механистической, западной цивилизации, но и с самим собой, таким национальным, таким человечным и бюргерским, таким писателем, Schriftsteller’ом, а не презренным Literator’ом… Положительно, «Рассуждения аполитичного» провоцируют на какое-то дневниковое, исповедально-журналистское – чуть не написал «блоговое» – бесстыдство. Что-то в этих «Рассуждениях…» есть одновременно и журналистское, и интимное, что-то судорожное, нервное, какая-то откровенность, о которой вовсе не просят, какое-то полное и окончательное нарушение всех правил и конвенций при внешнем соблюдении декорума. В общем, этим текстом проникаешься. Я переводил его, по-моему, столько же лет, сколько Томас Манн этот текст писал. Даже назвал сам для себя (а теперь и для вас) Томаса Манна Фомой Человековым, ибо Борис Парамонов, написавший лучший текст про «Рассуждения аполитичного», совершенно справедливо назвал их «Рассуждениями немецкого славянофила». Именно так! Редко где встретишь такое признание в любви к русской литературе в славянофильском её изводе, как в этой книге Томаса Манна, написанной (повторюсь) в самый разгар войны не только с Францией, Англией, Италией и США, но главным образом с Россией. Процитируем: «Кто измерит бездны горечи и мрака, из которых вырос комизм “Мёртвых душ”! Но странно <…> национальная причастность великого критического писателя проявляется не целиком и не полностью в виде комизма отчаяния и безжалостной сатиры; по меньшей мере два или три раза она проявляет себя как нечто позитивное, интимное, как любовь – да, религиозная любовь к матушке России вырывается более чем патетически из этой книги; любовь – основа горечи и мрака, и мы прекрасно чувствуем в такие мгновения, что любовь оправдывает и освящает, да, освящает кровавейшую и жесточайшую сатиру. <…> Но оставим Россию как государство, общество, политику. Обратимся к уничтожающей критике русской литературой именно русского человека, обратимся к гончаровскому “Обломову”! И впрямь, какой болезненный, безнадёжный образ! Какая гнилость, недотёпистость, заспанность, какое бессилие перед жизнью, какая жалкая меланхолия! Несчастная Россия, это и есть твой человек! И однако <…> разве можно не влюбиться в Илью Обломова, в эту нелепую невозможность человеческого бытия? У него есть национальный протагонист, немец Штольц, образец ума, дальновидности, достоинства, деловитости, верности долгу. Но какой же мерой фарисейской педантичности надо обладать, чтобы прочесть книгу и не предпочесть, – что втайне, но совершенно несомненно совершает сам автор – толстого Илью его энергичному приятелю; чтобы не почувствовать куда более глубокую красоту и чистоту его человечности и не согласиться с ними? Несчастная Россия? Счастливая, счастливая Россия – раз при всей своей нищете и безнадёжности в своей глубочайшей глубине осознаёт себя настолько прекрасной и достойной любви, что, принуждённая своей литературной совестью к сатирической персонификации, она во весь рост изображает Обломова – или скорее уж укладывает его на перину!»
Надобно учитывать, что Томас Манн времён «Рассуждений аполитичного» – немецкий патриот, отвергающий всякий пацифизм, твёрдо стоящий на воинственнейшей позиции. И это тоже любопытнейшая тема, заставляющая переводить этот странный текст. «Рассуждения аполитичного» считаются (и не без оснований) книжкой, писанной в состоянии «шовинистического угара»; одной из тех книжек, с которых принято вести отсчёт начинающемуся идеологическому, агитационно-пропагандистскому озверению человечества вообще, интеллектуалов в частности. Для этого тоже имеются достаточно веские основания, но – Бог ты мой – как всё это ещё далеко от настоящего озверения! Насколько война 1914–1918 годов была ещё (как теперь выясняется) войной XIX века. В Париже выходит IV том «Жан-Кристофа» Ромена Роллана, его тут же переводят на немецкий, и Томас Манн обильно и с восторженными комментариями цитирует только-только появившуюся в печати французскую книгу. Да что там Ромен Роллан! Клодель, в годы войны проклинавший «бошей», удостаивается такой характеристики: «Франция Клоделя тоже ненавидит нас. Но эта ненависть лучше, благороднее, чем та, которой ненавидит нас ритор-буржуа, я не могу не признать этого. Для чего скрывать тот факт, что поэт, написавший “Благовещение”, поэт, работавший консулом в Германии, сейчас, во время войны, от всего своего патриотического сердца поносит нашу страну? В глубине души он должен воспринимать происходящее так, как воспринимал происходящее тот северофранцузский сельский дворянин, чей замок посетил Вильгельм II. Дворянин сказал тогда императору: “Сир, вы – наш враг; но вы всё же император, а не адвокат”…»
Нет-нет, что-то есть в «Рассуждениях аполитичного» до крайности симпатичное, человечное, обаятельное… Оглядывая окоём современной Томасу Манну публицистики, выбираешь в свойственники его книги не «От Канта к Круппу» Владимира Эрна, но… «Интеллигенцию и революцию» Александра Блока. У Томаса Манна тот же запальчивый тон: мол, немецкой интеллигенции будто кто-то на ухо наступил. Всемирно-исторические сферы запели! Народ пробудился! А она ноет: Реймский собор сломали. Сломали – построим. Были бы люди, а соборы отстроятся. Так (или примерно так) Томас Манн (Фома Человеков) спорит со своим братом, Генрихом, ни разу не называя его по имени. Впрочем, в тексте он оставляет немало примет для того, чтобы внимательный читатель понял, кого персонально имеет в виду Томас, когда пишет о немецком «западнике», Zivilisationsliterator’е, литераторе цивилизации, франкофиле и демократе, которого впору назвать в рифму к брату, Фоме Человекову – Анри Оме. Среди многих приёмов, позволяющих Томасу поминать Генриха, не называя его, активное и умелое использование неопределённо-личного местоимения man, каковой приём непереводим. По крайней мере, я не знаю, как адекватно перевести этот каламбур. Допустим: Man ist Politiker, oder man ist es nicht. Und ist man es, so ist man Demokrat. Буквальный перевод: «Есть политик или его нет. И если политик есть, то он – демократ». Man – неопределённо-личное местоимение в немецком языке, но это ещё и фамилия двух поссорившихся на политической почве братьев: «масона романского пошиба», интернационалиста и пацифиста, демократа Генриха Манна и германского патриота Томаса. Таким образом, получается: «Манн или политик, или не политик, но если Манн – политик, то он – демократ!» В каламбуре скрыт парадокс: если же аполитичный Манн займётся политикой, то он вынужден будет стать демократом в той степени, в какой он окажется политиком…
В главе, посвящённой брату Генриху, «Литератор цивилизации», Томас ни разу не называет его по имени, хотя напропалую цитирует его очерк «Золя». И в то же время вся глава буквально прошита фамилией Манн. Это всё тот же каламбур с неопределённо-личным местоимением. Вот Томас пишет про то, что любой литератор – всегда француз, всегда революционер; любой литератор всегда чувствует отвращение к «особости» Германии. Вот что у него получается, вот как он резвится: Man ist nicht Literat, ohne von Instinkt die «Besonderheit» Deutschlands zu verabscheuen und sich dem Zivilisationsimperium verbunden zu fuehlen; genauer: man ist beinahe schon Franzose, indem man Literat ist, und zwar klassischer Franzose, Revolutionsfranzose. Можно перевести этот отрывок таким образом: «Нельзя быть литератором и не обладать инстинктом отвращения к “особости” Германии, не чувствовать себя связанным с империей цивилизации; точнее говоря: нельзя быть литератором и не быть почти французом, революционным французом, классическим французом» – это будет правильно, но тогда будет убит важнейший каламбур текста: «Некто (ман, Манн) не литератор, если у него нет инстинкта отвращения к «особости» Германии; если он не хочет соединиться с империей цивилизации; уточним: некто (ман, Манн) почти француз, коль скоро некто (ман, Манн) литератор, то он даже классический француз, революционный француз».
Именно в главе «Литератор цивилизации», самой болезненной, касающейся интимных проблем – ссора с братом, пусть и на идейной почве, семейная ссора, – становится ощутимо, очевидно, что Томас Манн сам литератор, писатель и вся его книга – не социология, не политология, не психология, а обыкновенная, плотная, туповатая, профессиональная литература. Такая «Королева Марго», которую Генрих (Анри Оме) потом будет переписывать, растягивая на эпопею… Марго отрубленную голову любимого показали, а она скрепилась, сдержалась и с истинно королевской выдержкой плясать пошла, не подав виду, что расстроилась.
Ссора с братом сначала дала толчок «Рассуждениям…», а потом «Волшебной горе». Читая «Рассуждения…», поневоле замечаешь, что споры масона Сеттембрини и иезуита Нафты в романе предварены спором немецкого писателя Томаса Манна со своим братом, литератором цивилизации Генрихом Манном… Нет, нет, всё одно не объяснишь, что же заставляет взяться за перевод. Здесь было что-то иное, что хочется оговорить, что хочется вспомнить, поскольку это «что-то» связано с историей страны, переживающей модернизацию, вестернизацию, как это назвать, и биографией интеллигента, в этой стране живущего. Это было в самом, самом конце застоя, год 1984-й, что ли? Оруэлловский, глухой, странноватый, мягко говоря, год… Я тогда работал в Публичке, то есть я и сейчас в ней работаю, но сейчас я больше общаюсь с читателями, а тогда – с книгами. Я их систематизировал. Ну ладно, это неинтересно. Главное, что порой через меня проходили спецхрановские книги. Не сверхсекретные, библиотека всё же Публичная, но те, для которых нужен допуск, пропуск, отношение…
Вот, стало быть, году в 1984-м мне попалась в руки книжка Йозефа Блоха «Политическое завещание». Написана и издана она была в 1932 году и шла в спецхран по вполне понятным причинам. Во-первых, Йозеф Блох был сионистом, что уже нехорошо. Но ещё «нехорошей» было то, что в годы своей социалистической, гимназической юности он переписывался с Энгельсом. Вообще-то не то чтобы совсем уж так переписывался… Нет, написал одно письмо с одним вопросом и получил ответ. Зато какой! Дело в том, что Йозеф Блох спросил у Фридриха Энгельса: правда ли, что они с Марксом ни во что не ставят личность? И Энгельс ответил: конечно, нет! Мы прекрасно понимаем роль личности в истории: с появлением Маркса, например, человечество стало выше на голову, просто в наше время уж слишком выпячивалась роль личности в истории, вот нам и пришлось изо всех сил доказывать обратное. Этот ответ цитировался во всех работах, посвящённых марксизму и роли личности в истории, потому сообщать, что человек, которому Энгельс вот так ответил, стал сионистом, было как-то так не комильфо…
Я полистал книжку и… замер. Йозеф Блох цитировал неизвестного мне тогда Теодора Лессинга. Der juedische Selbsthass («Еврейская самоненависть») называлась книжка однофамильца немецкого драматурга XVIII века, и Блох цитировал не совсем её, а дневник австрийской еврейки-антисемитки, который в свою очередь цитировал Теодор Лессинг. Отрывочек был чудовищен: все инвективы Печерина про то, «как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать её уничтоженья», не шли в сравнение с тем, что написала эта несчастная, по всей видимости, безумная женщина о своём народе накануне холокоста. Я ужаснулся и – вот подлая человеческая натура – заинтересовался. Я стал собирать сведения о Теодоре Лессинге и его книгах и узнал многое, и это многое меня заинтересовало, а тут грянула перестройка, треснул и распался «железный занавес», до Интернета было далеко, но друзья стали ездить за рубеж и возвращаться из-за рубежа, и я стал просить друзей, чтобы они (если это возможно) прислали бы мне «Еврейскую самоненависть» Теодора Лессинга или его же труд «История как придание смысла бессмыслице».
По-видимому, я невнятно говорил, я вообще говорю невнятно, ибо «кто ясно мыслит, ясно излагает», а мыслю я очень неясно, – да, словом, благодаря невнятности изложения я получил много интересных книжек из разных городов Европы и Америки, среди них «Вечно-женственное в творчестве Пастернака» Андреа Улиг, «Примечания к Гитлеру» Себастьяна Хаффнера, «Радек» Стефана Гейма, биографию Теодора Лессинга, «Рассуждения аполитичного» Томаса Манна, а уж потом мне доставили искомое. Честно говоря, более всего меня удивили «Рассуждения аполитичного» Томаса Манна. Хотя и в их присылке был резон. Дело в том, что убитый судетскими немцами-нацистами в 1934 году в Карлсбаде личный враг Гинденбурга, Гитлера, Рэма и ясновидящего Ханнусена Теодор Лессинг в 1904 году умудрился поссориться с Томасом Манном. Томас Манн даже памфлет написал о Теодоре Лессинге – «Доктор Лессинг».
Словом, покуда до меня добиралась книжка доктора Лессинга, я решил почитать книжку писателя Манна. Решить-то я решил, но увял на двадцатой, что ли, странице, ибо все тексты интеллигентных националистов удручающе однообразны. Наша нация – особая, особенная, поэтому весь мир нас не любит, а в особенности те, кто хотел бы стереть все национальные различия во имя какого-то невиданного человечества, но мы яростно сопротивляемся всему миру, и в особенности зловредным интернационалистам… Мы – тёплые, необычные, неожиданные, человечные, пусть и нелепые, но живые! А на нас движется нечто механистическое, стандартное, однообразное, et cetera, et cetera, что у Розанова, что у Достоевского, что у Томаса Манна времён «Рассуждений аполитичного». Единственное, что меня задело по-настоящему, так это первые предложения книжки: «Со мной произошло то же, что и со многими другими, с сотнями тысяч других, вышибленных войной из колеи, на долгие годы оторванных от собственных профессий и дел; только я был призван не государством и армией, но самим временем. Да, я был призван временем к более чем двухгодичной службе на фронте мысли – для которой моя духовная конституция подходила так же мало, как для многих моих товарищей по несчастью конституция физическая для действительной военной или тыловой службы; сегодня я возвращаюсь не в самом лучшем состоянии к своему осиротевшему рабочему столу – инвалид войны, так это можно назвать». Задело это меня потому, что мне показалось: я это уже где-то читал. В иной огласовке я уже знакомился с этой мыслью, даже с этим словосочетанием. Потом я вспомнил: Николай Глазков! «Пусть ложная скромность сказать не велит, мы все говорить вольны. Я не был на фронте, но я инвалид Отечественной войны».
Такое совпадение меня заинтересовало, но ненадолго. Я было совсем уж думал отставить в сторону поднадоевшую книжку, тем паче что и события были вокруг бурные, не до «Рассуждений аполитичного», так мне тогда казалось, потом-то оказалось, что ещё как до… Ибо проблема-то была та самая, самая та – интеллигент в модернизирующемся обществе. Стало быть, я совсем было отложил в сторону «Рассуждения аполитичного», но тут мне довелось отправиться по делу к питерскому критику, поэту, переводчику, человеку уж очень яркому, талантливому, своеобычному, чтобы его называть. Я тогда (кажется, это был 2000-й, может, и раньше) впервые встретился с этим человеком и поначалу выразил уважение и восхищение, поскольку субординация есть субординация. Мало ли с чем и с кем я не согласен, но… уважение! Уважение к старшим формирует личность, как говаривал мистер Вульф из тарантиновского «Криминального чтива».
Выразив уважение и восхищение, я стал осматриваться. Обнаружил на полках множество немецких книжек, известных мне и неизвестных, и вытянул Bekentnisse Hochstaplers Felix Krull. А вытянув, принялся рассуждать: это, должно быть, неудачная книга, потому как для того, чтобы хорошо описать авантюриста и жулика, нужно самому быть хоть чуточку авантюристом и жуликом. Питерский критик посмотрел на меня и (вот поэтому я его и не называю, поскольку запомнил то, что он говорил вот так, а может, он вовсе и не так говорил, просто я его так понял) сказал приблизительно следующее: «Это – лучшая книга Томаса Манна. Вы её просто не читали. Почитайте и убедитесь: блеск что за книга. Это верно, что жулика может хорошо изобразить жулик, но Томас Манн и был жуликом, блефовщиком, авантюристом. Чтобы с таким малым беллетристическим талантом обойти своего куда более талантливого брата? Ему потому так удался Феликс Круль, что он и сам был таким же хохштаплером. И все его тяжеловесные, закрученные периоды – речь жулика, прикидывающегося аристократом. Нет, нет, полного блефа, пустышки у него никогда не было. Все его многословные периоды в конце концов заключают в себе очень простой и ясный смысл. Когда читатель, разобрав головоломку: “дважды два равняется четыре”, начинает свирепеть, довольный автор усмехается: “А вы что хотели бы, стеариновую свечку?” Вот его брат, Генрих, тот в самом деле был настоящим стилистом, и немецкий его безукоризненный, а Томас…»
Я промолчал, но… обозначенная, названная феликс-крулевщина Томаса Манна снова толкнула меня к его «Рассуждениям…». Благодаря этой самой феликс-крулевщине я вдруг стал замечать странно-смешные вещи в этой патетической книге. Причём было совершенно непонятно, случайно выкидывает такой фортель Томас или делает это сознательно?
Например, он спорит с теми, кто говорит и пишет про войну, будто она – антикультурна по своей природе. Да вовсе нет, пишет Томас Манн, вот тут мне прислали письмо из госпиталя… Пожалуй, лучше процитировать этот кусок: «Я откладываю перо для того, чтобы прочесть ещё одно письмо с фронта, вернее, из лотарингского госпиталя; странным образом, оно как раз касается нынешних моих рассуждений. Молодой фронтовой офицер в приподнятом, благодарственном стиле пишет о том, как из-за войны познакомился с художественной литературой. В мирной жизни у него не было для этого ни возможностей, ни времени. Только теперь, прикованный не слишком тяжёлым, но ранением к постели, он смог познакомиться с произведениями современных немецких писателей. “То, что я, – пишет он, – должен быть благодарен войне вообще, а французской артиллерии в частности, странное явление современности… Но настоящую радость от чтения я открыл только на войне, и, насколько мне известно, эту радость первого знакомства с современной литературой разделяет со мной огромное количество солдат”. Огромное количество молодых людей научилось благодаря войне чтению, то есть сознательным занятиям с человеческой душой! Подходит ли этот факт для главы о войне и человечности – или нет? Я хочу это знать! Разве не демократия рассчитывает на вот это явление: духовное воспитание и “повышение культурного уровня” тысяч и тысяч людей? Конечно, сама демократия на свой лад мистифицирует духовное, смешивает его с политическим, но разве не благодаря войне происходит то самое “повышение культурного уровня” рабочих, о котором мечтает демократия? “Жизнь”, объясняет мне мой корреспондент, не оставляла ему времени для литературы; война впервые создала досуг и потребность в чтении. Тогда получается, что война оказалась гуманнее и расположеннее к образованию, чем “жизнь”, а именно мирная и профессиональная жизнь. И разве только досуг для чтения создала война? Вы уверены в том, что долгая и скучная болезнь “на гражданке” была способна привести молодого человека к открытию для себя художественной литературы? Разве не должен был он пройти через эксцентрический опыт войны и ранения, разве не должен был он после этого опыта пережить тишину и покой больничной палаты, чтобы подготовить свою душу к открытию?»
Обосраться и не жить! – как пишет по сходному поводу Евгений Попов. Ведь что написал Томас Манн в этом отрывке? Современного человека к современной литературе можно загнать только жесточайшим огнём вражеской артиллерии, и ещё хорошо бы отравляющими газами, только в этом случае прикованные не слишком тяжёлыми, но всё же ранениями к койкам современные люди смогут ознакомиться с шедеврами современной им беллетристики. Всё ж таки я критик и занимаюсь современной литературой и потому вполне могу оценить эту хохму. Неважно, что речь идёт о древней для нас литературе начала ХХ века – ситуация мало изменилась.
Словом, я вновь принялся читать «Рассуждения аполитичного». Теперь я стал замечать самое главное в этой книге. Братнюю ненависть, соединённую со страхом: неужели я кончился как писатель? Неужели мне суждено остаться автором одной книги, правда, «Будденброков»? А уже от этих двух чувств ответвлялось третье: обида на бога Аполлона, который принимал дары от Генриха, литератора цивилизации, а не от Томаса, писателя культуры. Всё это оставалось непроизнесённым, неназванным, но било в глаза, лишь только ты это понимал. Становился понятен обидчивый пафос братнего соревнования. Ага! Раз брат – интернационалист, западник, пацифист и германофоб, так я буду немецким патриотом! Он – противник войны и написал эссе про французского демократического писателя, Эмиля Золя, так я буду милитаристом и напишу эссе про Фридриха II, сражающегося один на один со всей Европой, как мы сейчас. Один на один против всего мира…
Это эссе Томас написал до «Рассуждений аполитичного». Оно есть в Публичной библиотеке, всё испещрённое маргиналиями. По всей видимости, читал это эссе какой-то германский шовинист, поскольку всюду, где Томас Манн пишет про истинную культуру, которая, в отличие от расслабленной цивилизации, не отрицает, а предполагает войну, стоят восклицательные знаки (мол, хорошо говоришь, Томас!), но зато там, где Томас Манн пишет о том, что лёгкая и быстрая победа не к лицу настоящим героям, что настоящие герои всегда обречены на поражение или на почётную ничью, как в случае с Фридрихом II, красуются жирнющие вопросительные, дескать, да ты что? Ты про что? Я не понял… Выглядит это забавно.
Впрочем, и Фридрих II в качестве воплощения немецкого духа тоже забавен. Уж кого ни в каком случае нельзя считать воплощением этого духа, так это сухонького, быстрого пруссака, поклонника французских энциклопедистов, ненавистника германской Miserie. Его Пруссия была космополитическим государством разума, а не Германией, которая превыше всего. Такая получилась насмешка истории: он был франкофилом, масоном, рационалистом и вольнодумцем, а стал символом немецкого тяжелоступного милитаризма. Он был настоящий литератор цивилизации на коне, предшественник Наполеона, а из него сделали наследника Барбароссы. В союзе с буржуазной Англией он вёл войну против феодальной Европы, а получилось, получилось… что-то похожее на судьбу Ленина. Фридрих II, как и Ленин, стал символом и знаменем тех, кого на дух не переносил. Такое удивительное, посмертное возмездие…
Но всё это пришло мне на ум позже, много позже, когда я всё ж таки решил переводить эту странную, болезненную, в полном смысле этого слова достоевскую книжку. Я тогда привык засыпать под «Рассуждения аполитичного». Лучше нет средства от бессонницы, чем нудный текст на иностранном языке. Сначала что-то понимаешь, а потом постепенно, постепенно всё сливается в гул, шум, в общем, ветхий Данте выпадает, зорю бьют из рук моих – и хрррфррр… баиньки до утра, до утречка.
И вот так я однажды уже клевал носом над очередной ламентацией о том, как нас (немцев), человечных, и даже всечеловечных, не любят механистические цивилизаторы, не понимающие, что война бывает человечнее мира, поскольку… а поскольку всё это повторялось не раз и не два, то я так и задрёмывал, как под колыбельную, и вдруг встрепенулся. Я глазам своим не поверил. Я даже ещё раз прочитал. И убедился: да, именно так и написано. Цитирую: «Калеки маршировали молча, и это, без сомнения, усиливало их трагическое достоинство. Достойно, красиво, эстетически приемлемо люди воспринимаются по большей части тогда, когда они молчат. Стоит им открыть рот, как всякое почтение может улетучиться в ту же секунду. Достоинство и красота зверя, как правило, связаны с тем, что звери не умеют разговаривать. – И вот тут-то калеки заговорили». И вот тут-то я решил перевести этот текст. Весь. Целиком. Все 600 страниц инвалида войны, который не был на фронте.
«Рассуждения аполитичного» были впервые изданы в Германии в 1918 году. После этого неоднократно переиздавались на родине, но откомментированного, научного издания этого произведения нет до сих пор, при том что ни одна серьёзная работа о Томасе Манне не обходится без обильных цитат из «Рассуждений…». За рубежом в полном виде «Рассуждения аполитичного» были изданы только в Японии и в Англии.
Современная литература
Человеческий голос
Три черных томика. На твердой обложке белыми, большими, будто детской рукой писанными буквами – «Сергей Довлатов» и буквами поменьше – «проза». Печальный большеносый человек с крохотной, похожей на него собачкой. Издательство «Лимбус-пресс» в Санкт-Петербурге выпустило в свет три тома прозы Сергея Довлатова с чудесными рисунками Ал. Флоренского. Третий номер журнала «Звезда» за этот год целиком посвящен писателю. Что понятно. Простите за штамп: значение Довлатова в русской литературе трудно переоценить.
Среди философствующих и декламирующих, среди ораторствующих и «доходящих до сути» раздался обыкновенный человеческий голос.
Просто – речь, очищенная от «мировой скорби», речь, держащаяся интонацией, ритмом.
«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик – на уровне сердца, ума и души. Писатель – на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди» («Соло на IBM»).
Себе Довлатов отводил роль «рассказчика» – не более, но и не менее.
Писатель в крайнем своем выражении в идеале и должен выбирать путь «платоновский» (я имею в виду Андрея Платонова) или «довлатовский». Или весь текст как на вновь рожденном языке, где каждое предложение выстроено, да так, что видны «швы» постройки, или просто – речь, просто – человеческий голос, рассказывающий истории.
Второй случай ничуть не легче первого. Легкость тоже чего-нибудь да стоит. Уметь не злиться, не проклинать, уметь улыбнуться навстречу озверелому варвару и не стать трусливым пособником варварства – тоже мужество… «Мюнхенский дух»? Или – компромисс и знание границ компромисса?
Об ангажированности и морали. С Сергеем Довлатовым-писателем происходило много забавного и парадоксального. Его часто принимали за того, за кого он себя выдавал.
Он был Гамлетом. А выдавал себя за Швейка.
Он слишком часто твердил о том, что искусство бестенденциозно и внеморально, – и почти в каждой своей вещи не мог не «поморализировать», не мог не «провести свою тенденцию».
«Зона»: «По Солженицыну лагерь – это ад. Я же думаю, что ад – это мы сами… В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин. Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи… Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также – на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже – на мужчин и женщин».
Писатель Вик. Ерофеев назвал свое интервью с Довлатовым «Дар органического беззлобия». После смерти Довлатова написал статью, в которой поставил Довлатова в один ряд с писателями-аморалистами, внесоциальными «певцами зла» – Лимоновым и Вл. Сорокиным. Первое, кстати, ничуть не противоречит второму. Можно быть добродушнейшим, улыбчивым «певцом зла» и злым, занудливым, мрачным проповедником добродетели.
Но Довлатов не обладал «даром органического беззлобия», равно как и не был певцом аморализма. Он хотел бы, чтобы в нем ценили, чтобы в нем видели «дар органического беззлобия». На деле же он умел ненавидеть, умел наносить хлесткие, быстрые, сокрушающие удары (недаром он занимался боксом).
«Шестнадцать старых коммунистов “Ленфильма” готовы были дать ему рекомендацию в партию. Но брат колебался. Он напоминал Левина из “Анны Карениной”. Левина накануне брака смущала утраченная в молодые годы девственность. Брата мучила аналогичная проблема. А именно, можно ли быть коммунистом с уголовным прошлым. Старые коммунисты уверяли его, что можно» («Наши», гл. 9).
«Пикуль тоже отличился. Говорил на суде Кириллу Владимировичу Успенскому: “Кирилл! Мы все желаем тебе добра, а ты продолжаешь лгать!” Успенскому дали пять лет в разгар либерализма. А Пикулю – квартиру в Риге…» («Наши», гл. 5).
«Асоциальным», «внеморальным» Довлатов был столь же мало, как и «беззлобным». Просто он очень хорошо знал место «социальности» и «морали» и был слишком тактичен, чтобы выпячивать свою ангажированность. Мораль Довлатова совершенно незыблема. Каких-то вещей он просто не может себе позволить. И почти все его рассказы как раз и посвящены тому, что есть предел, который порядочный человек не переступит. Никогда, ни за что. Эрик Буш из «Компромисса» может написать лживую статью о капитане Руди – но быть стукачом? Выступить на процессе свидетелем обвинения?
Довлатов соблюдает необходимую меру сочетания сокровенности и эпатажа, такую именно, чтобы царапала души. Среди цинической бравады и чуть ли не вслух проговоренных отречений от «традиций русской гуманистической литературы» внезапно появляются совершенно гаршинские, вполне достоевские, толстовские строки: «Помню, я увидел возле рынка женщину в темной старой одежде. Она заглянула в мусорный бак. Достала оттуда грязный теннисный мячик. Затем вытерла его рукавом и положила в сумку. «Леньке снесу», – произнесла она так, будто оправдывалась. Я шел за этой женщиной до самой Лиговки. Как мне хотелось подарить ее Леньке самые дорогие игрушки. И не потому, что я добрый. Вовсе не потому. А потому, что я был виноват и хотел откупиться» («Филиал»). Такой прорыв сентиментальности, боли, жалости в смешной, разухабистый текст – удивительнейшая особенность Довлатова.
Советский писатель: «Представление». Один из самых смешных и антисоветских текстов (впрочем, этот текст можно воспринимать и как самый советский текст Довлатова), глава из повести «Зона» «Представление», завершается неожиданной патетической нотой… Только что шел сплошной бурлеск, яркое и безжалостное издевательство – и вдруг скорбная и страшная патетика, признание в любви этой стране, этому народу…
В советском концлагере к 7 Ноября ставится пьеса «Кремлевские звезды». В роли Ленина – рецидивист Гурин, в роли Дзержинского – насильник Цуриков. «…Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько минут он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения. “Кто это? – воскликнул Гурин. – Кто это?!” Из темноты глядели на вождя худые бледные физиономии. «Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?.. Неужели это те, ради кого мы воздвигали баррикады?” <…> Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все… Владимир Ильич пытался говорить: «Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас… Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!” Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем: “Замри, картавый, перед беспредельщиной! Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопассана!” <…> Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел: “Вставай, проклятьем заклейменный…” И дальше в наступившей тишине: “Весь мир голодных и рабов”. Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты. Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй, третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор: “Кипит наш разум возмущенный, на смертный бой идти готов…” Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно… Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. От слез я на минуту потерял зрение…»
Именно эта сцена дала возможность критику И. Сухих написать: «Если бы новелла была опубликована в эпоху ее написания (что представить почти невозможно, но из-за случайных проходных деталей…), она прекрасно легла бы в матрицу времени. Шестидесятнический мотив “возвращения к истокам” отчетливо явлен тут в причудливой парадоксальности фабулы: комиссары в пыльных шлемах – верьте мне, люди, – причудливая небывалая страна и проч. и проч.» («Звезда», 1994, № 3). Я допускаю, что трактовать эту сцену и эту главу можно и так. (Хотя считать ли диалог Гурина и главного героя «случайной проходной деталью»: «„Сколько же они народу передавили?» – „Кто?» – не понял я. „Да эти барбосы… Ленин с Дзержинским… Они-то и есть самая кровавая беспредельщина”»?) Но мне видится в этой новелле, и особенно в ее финале, нечто иное. Это «иное» можно представить, конечно, и как «шестидесятнический мотив», и как «честное, без капли вредительства предъявление себя (спеца, писателя) советской власти»…
Главное словами не скажешь, поэтому я постараюсь подобрать для этого «иного» некий кинематографический, что ли, эквивалент. В фильме «Калина красная» Шукшина есть такой кадр: лагерный клуб, концерт самодеятельности. На нас, на зрителей, надвигаются лица заключенных. Их много. И очень долгий общий план – у Шукшина это редкость. Кинокамера скользит по этим лицам – и тут замечаешь, что на стене клуба изображен фронтиспис с обложки первого издания книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Взвихренная толпа матросов, солдат, вытянутая цепочкой, – и движется эта толпа в ту сторону, откуда надвигаются на нас стриженые, усталые, слушающие песню заключенные.
Здесь не просто готовность стать советским писателем. Здесь понимание того, что некоторые нравственные основания для этого имеются. «От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил. А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие смущенные голоса. “Представление окончено”, – сказал Хуриев. Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу». (Последний куплет «Интернационала» такой: «И если гром всемирный грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей».)
Сергей Довлатов и Борис Слуцкий. Оксюморонное сочетание жестокости и жалостливости, боязнь высоких слов, красивости и поэтичность, держащаяся интонацией, ритмом, поэтичность, построенная на честном и правильном расположении одного верного, нелживого слова рядом с другим, – все эти особенности писательской манеры Довлатова вынуждают меня вспомнить поэта, которого вовсе не вспоминают в связи с Довлатовым. Бориса Слуцкого. Между тем имеются параллели в текстах, которые позволяют говорить по крайней мере о «типологическом сходстве». Отчаянное заклинание бывшего военного дознавателя, политрука Слуцкого: «Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно, только погодя бывает тошно, если вспомнишь что-нибудь оплошно. Кто они, мои четыре пуда мяса, чтоб судить чужое мясо?» – словно бы претворилось в спокойное замечание для себя бывшего лагерного надзирателя Довлатова: «Легко не красть. Тем более – не убивать… Куда труднее – не судить… Подумаешь – не суди! А между тем “не суди” – это целая философия» («Соло на IBM»).
В отношении Довлатова к Слуцкому было и жесткое отталкивание, жестокая карикатура. В повести «Заповедник», где достается всей современной русской литературе, появляется и Борис Абрамович Слуцкий.
«Заповедник» – книга-оправдание: почему я уехал. Почему я, российский литератор, попытавшийся остаться здесь, “у Пушкина”, “при Пушкине” (главный герой повести, alter ego автора, Борис Алиханов работает экскурсоводом в пушкинском заповеднике), все же уехал, “оторвался“.».. В этой книге-прощании – и оправдании – сформулированы тенденции и принципы одного из самых смешных (со времен Зощенко) российских писателей: «Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма… Я согласен, больную парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться ее страданиями, выражать их эстетически – низость… Человек 20 лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторым основанием взялся за перо… Тебя не публикуют, не издают. Не принимают в свою компанию. В свою бандитскую шайку… Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово». И Довлатов придирчиво осматривает «владения» современной литературы. 1) Беспардонные халтурщики. «У писателя Волина ты обнаружил: “…Мне стало предельно ясно…” И на той же странице: “…С беспредельной ясностью Ким ощутил…” Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки…» 2) «Деревенская проза». «…Раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Решил наконец выяснить, что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем… Хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Услышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее в основе – безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: “Где ты, Русь?! Куда все подевалось?“» 3) «Ленинградская школа». «Шел дождь, и я подумал: вот она, петербургская литературная традиция. Вся эта хваленая “школа” есть сплошное описание дурной погоды. Весь “матовый блеск ее стиля” – асфальт после дождя…»
В этом «реестре» непременно должен был появиться и бывший майор, русский поэт, неустанно подчеркивающий свой российский патриотизм и свое еврейское происхождение, подтверждающий не раз и не два свою веру и верность. «В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура – творение отставного майора Гольдштейна. На медной табличке было указано: Гольдштейн Абрам Саулович. И далее в кавычках: “Россиянин”. Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу-ягу. Деревянный шлем был выкрашен серебристой гуашью» (курсив мой. – Н. Е.). Это жестоко и вряд ли справедливо. Это какой-то «кавалеровский» выкрик.
Довлатов и Кавалеров. Довлатов, его «лирический герой», очень походил на Кавалерова из «Зависти» Юрия Олеши. Неприкаянный, нищий поэт, который вынужден кропать, правда, не: «В учрежденье шум и тарарам… машинистке Лизочке Каплан подарили барабан» – но: «Человек родился. Ежегодный праздник – День освобождения – широко отмечается в республике»; понятно, что это хуже. Маргинал, ненавидящий деловых, устроенных хозяев жизни и пошлость. Правда, ненависть свою Довлатов умело маскирует. Ее не сразу заметишь. В жизни он иногда срывался: «Пригласил (Довлатова) на вечеринку. Публика – технари, мышление – клишированное… Сергей расслабился, упустил поводок, и разговор без его присмотра сбился в обыденность… Можно представить себе, что, чуткий на всякую банальность и пошлость, Сергей Довлатов, слушая болтовню за столом, в какой-то момент с ужасом и изумлением про себя воскликнул: “Где я? И с кем я?!” – и в благородном порыве… назвал собравшихся «бухгалтерами», что из всего затем сказанного оказалось не самым обидным» (Смирнов-Охтин И., «Сергей Довлатов – петербуржец» /«Звезда», 1994, № 3, стр. 135). Слышите отчаянный вопль Кавалерова: «Колбасник! Колбасник!» – и еще (далеко не самое обидное): «Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, которые издает пустой клистир…» (Олеша, «Зависть»)? В своих рассказах Довлатов сдержаннее. Он начинает новеллу «Куртка Фернана Леже» словами: «Эта глава – рассказ о принце и нищем. В марте 41-го года родился Андрюша Черкасов. В сентябре этого же года родился я…» – а затем описывает свою нелепую, неустроенную жизнь («диссидентствующий лирик») и правильную, обустроенную жизнь своего друга детства («преуспевающий физик»), завершает же главу таким пассажем: «У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических. Какая разница?» Тогда становится ясно, что «принц»-то как раз Довлатов: ему достается королевская мантия – «куртка Фернана Леже», великого художника, мечтавшего рисовать на стенах зданий и вагонов. Разве может сравниться с этим даром какое-то там «кандидатство» физических или физико-математических наук? Такой рассказ мог бы написать Кавалеров, если бы ему досталась… шляпа Артюра Рембо.
«Мой старший брат», или Кое-что о такте. Мне хочется перейти еще к одному писателю, чье влияние на Довлатова почти не зафиксировано, никем не отмечено. У кого еще литература так «вытекала» прямо из жизни, из бытовых и литературных неурядиц? Кто еще умел мелкий житейский факт преобразовать в факт литературный, эстетический? У кого бормочущая домашняя записка, отрывок из дневника становились поэзией? Кто сделал свою частную жизнь литературой? «На полемике с дураком П. Б. С. я все-таки заработал 300 р. Это 1/3 стоимости тетрадрахмы Антиоха VII Гриппа с Палладой Афиной в окружении фаллов…» Читателя вовсе не интересует сама полемика, его восхищает эта запись как таковая. Здесь журнальная брань измеряется тетрадрахмами, так что кажется – в окошко редакционной конторы заглядывает сама Афина Паллада… Розанов? Довлатов всего один раз упомянул этого писателя, но зато в каком контексте! В главе о своей тетке Маре, корректоре и редакторе, он рассуждает о ненужности корректорской и редакторской правки, перечисляет «ошибки» дорогих для него писателей. Достоевский («рядом находился круглый стол овальной формы»), Гоголь («щекатурка»), Дюма («Три мушкетера», хотя их, безусловно, четыре) и, наконец, Розанов: «Как можно исправить у Розанова: “Мы ничего такого не плакали”?»
В русской литературе до сей поры, кажется, не было писателя, который мог бы вслед за Розановым произнести: «Я не такой подлец, чтобы рассуждать о морали» – и вслед за Слуцким проманифестировать: «Я был либералом, при этом гнилым, я был совершенно гнилым либералом, увертливо-скользким, как рыба налим, как город Нарым, обмороженно-вялым». Довлатов соединил две эти традиции: лепечущую, бормочущую домашнюю записку Розанова и четкую прозаическую черно-белую поэзию Слуцкого. Сделал он это на редкость тактично. Его вообще можно счесть одним из самых тактичных писателей. Он умудряется начать рассказ о своем старшем брате экстравагантной, почти олешинской фразой: «Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло. Иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером», а завершить его пронзительной лирической нотой: «В аэропорту мой брат заплакал. Видно, он постарел. Кроме того, уезжать всегда гораздо легче, чем оставаться. Четвертый год я живу в Нью-Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ленинград. И вдруг приходит посылка – оттуда. Я вскрыл ее на почте. В ней лежала голубая трикотажная майка с эмблемой олимпийских игр. И еще – тяжелый металлический штопор усовершенствованной конструкции. Я задумался – что было у меня в жизни самого дорогого? И понял: четыре куска рафинада, японские сигареты “Хи лайт”, голубая фуфайка, да еще вот этот штопор». Эксцентрическая жестокая комедия («Время свидания истекло. Одного из зэков уводили почти насильно. Он вырывался и кричал: „Надька, сблядуешь – убью! Разыщу и покалечу, как мартышку… Это я гарантирую. И помни, сука, Вовик тебя любит”») становится признанием в любви старшему брату, его жизнелюбию, витальности…
Поначалу перед нами текст про хорошего скучного мальчика, про идеал, образец для подражания. «Он был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили – Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом… Боря стал победителем районной олимпиады… Боря вылечил раненого птенца… Боря собрал детекторный приемник (я до сих пор не знаю, что это такое)». Мы-то знаем: таких мальчиков просто не существует. «И вдруг произошло нечто фантастическое. Не поддающееся описанию… У меня буквально не хватает слов… Короче, мой брат помочился на директора школы». А это уже ситуация из разоблачительного фельетона про то, как под маской хорошего мальчика скрывается злобный хулиган и пакостник. «Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Кто-то сказал <…> “Легавый пошел”… (Легавым звали директора школы – Чеботарева). Далее – мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию (вспомните – День физкультурника! – Н. Е.). И окатил Чеботарева с ног до головы…» Координаты сдвинуты. То, за что полагается хвалить и награждать, – скука смертная и неприличная ложь, зато достойный наказания поступок выглядит «исполненным (как написали бы в XIX веке) дикой поэзии».
Но главную эскападу Довлатов приберегает напоследок – и из текста про приличного мальчика (пародии на скучные советские книжки), из фельетона про двурушника, прячущего свое истинное лицо, из восхищенного рассказа о нарушителе всех и всяческих запретов, сохраняющем ясную голову и знание необходимых приличий («попросил девчонок отвернуться… Умело вычислил траекторию»), вырабатывается едва ли не толстовское «срывание всех и всяческих масок»: «Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой: “Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!..” В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель…» Это «а ведь кто бы мог подумать» особенно великолепно. Напомню: абзацем выше Довлатов почти незаметно, тактично предуведомил: «Легавым звали директора школы – Чеботарева». Довлатов слышит такт, ритм фразы так же безошибочно, как и такт, ритм человеческих отношений. Он рассказывает о своих приятелях чудовищные истории, не обижая их.
Перед революцией. Впрочем, здесь не один только «такт». Ленинградская полуподпольная богема не могла не почувствовать, что Довлатов – ее летописец. Нелепые Эрик Буш и Юра Шлиппенбах, нобелевский лауреат Иосиф Бродский, поэты Анатолий Найман и Евгений Рейн, критик Андрей Арьев – вся довлатовская компания, все «наши», помимо их личных, индивидуальных особенностей увековечены в прозе Довлатова. «За наши судьбы (личные), за нашу славу (общую)!»
Редко какому писателю удавалось стать таким откровенным ангажированным певцом своего поколения, своего социального слоя, как это удалось Сергею Довлатову. Улица Рубинштейна, Фонтанка, Пять углов – уже «зафиксированы», остановлены во времени, как Егупец Шолом-Алейхема или Макондо Маркеса.
Это тем более любопытно, что мир Довлатова умер. Это был особый, особенный мир, о котором один циник говорил: «Жили как с перешибленным хребтом», а другой циник свидетельствовал: «Тот, кто не жил перед революцией, тот не знает, что такое счастье».
Мир Довлатова – мир кануна революции, когда все стены кажутся незыблемо прочными, а на деле они – трухлявы. Ткни – рассыплются.
Это мир Швейка. Он на редкость добродушен, этот мир. Циничен, лжив, ленив, но… добродушен. Майор КГБ Беляев, допрашивающий «диссидентствующего лирика» Бориса Алиханова, жандарм, чекист, гестаповец, оказывается таким же обормотом, пьяным и добродушным, как и допрашиваемый, что и позволяет Довлатову резюмировать: «…мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда…»
«Майор Беляев… покосился на дверь и вытащил стаканы: „Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно… если в меру…” Водка у него была теплая. Закусили мы печеньем “Новость”… Он повернулся ко мне: “<…> вот, например, проблема сельского хозяйства. Допустим, можно взять и отменить колхозы. Раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне? Хотят ли они эту землю получить?.. Да на хрена им эта блядская земля?! …Желаешь знать, откуда придет хана советской власти? Я тебе скажу. Хана придет от водки»… Мы снова выпили. „Идите”, – перешел на „вы” майор. „Спасибо”, – говорю… Беляев усмехнулся: „Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне”. Уже в дверях он шепотом прибавил: „И еще, как говорится – не для протокола. Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают. Воссоединился с женой – и привет… У меня-то шансов никаких. С моей рязанской будкой не пропустят”».
Е. А. Тудоровская сравнивает эту сцену со сценой допроса советника Попова в сатирической поэме А. К. Толстого «Сон Попова» (Тудоровская Е. А., «Путеводитель по „Заповеднику”» /«Звезда», 1994, № 3, стр. 197–198). Но мне это гораздо больше напоминает допрос Швейка жандармским вахмистром Фланеркой. У А. К. Толстого равно отвратительны и жандарм, и советник Попов. У Довлатова равно симпатичны и майор КГБ Беляев, и писатель Борис Алиханов. Два пьяных обормота, на фиг пославшие всякую идеологию и разговаривающие друг с другом по-человечески. На самом деле то был короткий миг, когда Вчера ушло, а Завтра еще не настало. Поэтому сейчас рассказы Довлатова читаются как исторические рассказы о прошлом, ибо мир его, мир обаятельных смешных чудаков, лентяев, пройдох, безобидных циников, пьяниц – этот мир исчез. «Лишние», любимые герои Довлатова нашли себе ниши. Лев Лосев пишет: «В России Довлатова “открыли” и государственные, и “неформальные” издатели. Пожалуй, он отдавал предпочтение первым. Вторые его напугали: “Звонит мне один, говорит: издам в течение двух месяцев, тираж триста тысяч. Я спрашиваю, а продавать-то как будешь? А он говорит: а что продавать (в голосе Довлатова звучит восторженная интонация) – дам глухонемым по трешке, поставлю возле метро, и будут продавать» (Лосев Л., «Русский писатель Сергей Довлатов»). Это Довлатова-то напугали лихие парни, готовые заработать на его книжках? Довлатова, описавшего фарцовщиков Фреда и Рымаря и их грандиозно провалившуюся операцию с финскими креповыми носками?
Довлатову было чего испугаться. «Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин. Кричит: где стерлядь, мед, анисовая водка? Кто разорил державу, басурмане?» Это не реплики из современных фильмов режиссера Говорухина – это режиссер Шлиппенбах объясняет Довлатову замысел своего будущего фильма. Пока нищий неприкаянный парень бродит по питерским улицам с вышитым на сумке двуглавым орлом, поет в церковном хоре, объезжает лошадей, ошивается на кино– и телестудиях, он прекрасен как «лишний», как неудачник и маргинал. И мороз продирает по коже, когда этот «лишний» приступает к серьезной, «необходимой» политике. Социологи еще объяснят парадокс кануна революций. Мир нелепый, лживый, эксцентричный, но человечный, мир стен, только кажущихся мощными, рушится в одночасье – и прямо на глазах начинает формироваться совсем иной мир, начинают возводиться иные, вовсе не трухлявые стены. Присмотритесь, прислушайтесь к тем, кто нас пугает, послушайте их речи с легким налетом безумия – и признайтесь… да это же герои Довлатова, люмпены, чудаки, нелепые истеричные антикоммунисты, такие симпатичные в новеллах Довлатова, такие разрушительные в действительности. «Милота» «лишних» вмиг улетучивается, когда «лишний» может взять в руки булыжник или гранатомет.
Искусство и жизнь. Довлатов и сам чувствовал, что мир его умер. Для нового мира Довлатову не хватало слов. «Иностранка» – прелестная кукольная комедия, почти диснеевский мультфильм. «Филиал» – печальное воспоминание о юности, о 60-х… книга о прошлом.
Довлатов впрямую сказал о подступающей «немоте паучьей», только никто не обратил на это внимания, поскольку Довлатов как никто умел скрывать «трагедии», выговаривать их между делом: «Вообще, если бы так случилось, что я заработал бы большие деньги, я бы, наверное, прекратил журналистскую деятельность. Но с другой стороны, если бы я заработал огромные деньги, я бы литературную деятельность тоже прекратил. Я бы прекратил всяческое творчество. Я бы лежал на диване, создавал какие-то организации, объездил весь мир, помогал бы всем материально, что, между прочим, доставляет мне массу радости… Раньше я к ней (литературной деятельности. – Н. Е.) относился с чрезмерной серьезностью, считал, что это моя жизнь. Всем остальным можно было пренебречь, можно было разрушить семью, отношения с людьми, быть неверующим, допускать какие-то изъяны в репутации, но быть писателем. Это было все. Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется. И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня семья… Это оказалось самым важным». А ведь в «Зоне» Довлатов описывал, как литература спасает, становится важнее, чем жизнь; жестокий мир концлагеря отступает, отваливается от человека, поскольку его (этот мир) можно запомнить и описать, можно заковать в слова.
Довлатов – классик, не современный писатель, хотя «современность» его умерла буквально на наших глазах. Его проза – не актуальна, она – сентиментальна и ностальгична. Поэтому так печальны его последние рассказы («Встретились, поговорили», «Ариэль», «Игрушка»). Поэтому так часты повторения в его текстах. Довлатов повторялся и раньше, но то были особые повторы, так сказать, джазовые импровизации на темы жизни. Жизнь для Довлатова была роман, стихотворение, новелла. И сам он в жизни – «лирический герой» стихотворения, главный герой романа: сначала Борис Алиханов, alter ego, а позднее (к чему это ненужное кокетство?) – «я-сам», Сергей Довлатов. Один и тот же жизненный факт он трижды пересказывает по-новому. Он словно бы откровенно демонстрирует читателям, как это делается, как жизненный факт становится фактом литературным. «Поплиновая рубашка» в «Чемодане», фрагмент из «Заповедника», глава в повести «Наши» – три версии одного и того же события: второй женитьбы писателя Сергея Довлатова. Начало новеллы «Финские креповые носки», описание любви Маруси Татарович и Цехновницера в «Иностранке», повесть «Филиал» – три версии другого события: первой любви писателя Сергея Довлатова. Довлатов как бы говорит: знаете, как получается эпос? как вырастают стихи и рассказы? Вот, глядите: характер жены – невозмутимое спокойствие, основательность, верность; характер первой любимой женщины – ветреность, особая женская (и потому извинительная) безответственность, неверность; характер главного героя остается неизменным; чуть-чуть изменяются фабула, сюжет, привходящие обстоятельства. Жизнь не более чем материал для литературы, необработанное сырье, хаос, которые следует преобразовать во вселенную искусства. Сейчас, когда опубликованы воспоминания друзей Довлатова, становится видно, как Довлатов извлекал сюжеты из жизни, «провоцировал» жизнь на создание «сюжетов». С. Пуринсон вспоминает ночную поездку в такси вместе с Довлатовым. Довлатов рассказывает шоферу длинную историю. Вот ее финал: «Встретил я его некоторое время спустя… Во Дворце работников искусств, в ресторане встретил. Подсел я к нему, поговорили немного, а потом я говорю: “Отдай мои сорок рублей”. – “Какие сорок рублей?.. не брал я их у тебя взаймы… ты мне просто всучил их, и ничего я тебе отдавать не собираюсь”. Шоферу не терпелось узнать конец истории. «Ну и что вы сделали?» Сергей помолчал немного и глухим печальным басом кратко ответил: «Я его убил». Руль в руках шофера дернулся, голова вжалась в плечи… машина заметно прибавила скорость… Когда «Победа» остановилась у дома на улице Рубинштейна и пассажиры вышли, писатель достал из кармана трешку и протянул ее шоферу… «Ничего не надо, ничего не надо», – торопливо пробормотал водитель, и машина, боком рванув с места, уехала» (Пуринсон С., «Убийца» /«Звезда», 1994, № 3). Это готовый сюжет, и Довлатов не использовал его, кажется, только потому, что не хотел повторяться. Чехов уже написал рассказ с подобным сюжетом – «Пересолил». Довлатов не «отражает» мир в своих рассказах, а каждый раз как бы творит его заново, из «старых» материалов. О главном герое «Зоны» ни за что не скажешь, что где-то в Ленинграде у него есть девушка, в которую он безнадежно влюблен, и что эта любовь – стержень его существования. Главное в «Зоне» – зона, концлагерные отношения, причудливые, яркие характеры заключенных и охранников, все остальное – побоку… О главном герое «Филиала», писателе-эмигранте, вспоминающем в Лос-Анджелесе свою ленинградскую юность и юношескую любовь, не скажешь, что служил он, оторванный от своей беспутной Таси, в «зоне», в лагере. Главное в «Филиале» – юношеская любовь автора и удивительный характер Таси. Этот характер столь же удивителен, сколь и характер другой любимой довлатовской женщины. Наверное, еще и поэтому он трижды пересказывает истории своей второй женитьбы и первой любви. Он словно прикидывает, какой сюжет больше подойдет для этих женщин. Так Пруст подбирал наряды для своей Альбертины.
Лишнее и необходимое. «Старый петух, запечённый в глине». Лев Лосев замечает, что Довлатов знал секрет, как писать интересно. Причем секрет этот (я продолжу мысль Л. Лосева) заключался не в фабуле, а в самом языке произведения, в интонации рассказчика, в ритме повествования. В этом смысле Довлатова можно считать верным русской литературной традиции, ибо никакая другая литература не отвращалась так от острого сюжета, как русская реалистическая литература. Хотя полностью отлучить Довлатова от того, что Лосев в своей замечательной статье назвал «авангардизмом», вряд ли удастся. Овладевший секретом, как писать интересно поверх фабулы, помимо сюжета, Довлатов знал и еще кое-какие секреты. «… Авангардисты, – презрительно замечает Лосев, – прибегают к трюкам… Те, кто поначитанней, посмышленее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа…» Так и Довлатов делает это, но умело, почти незаметно.
В «Филиале» Довлатов вспоминает, как ездил купаться с любимой девушкой на ленинградское взморье: «Напротив расположился мужчина с гончим псом. Он успокаивал собаку, что-то говорил ей. За моей спиной шептались девушки. Одна из них громко спрашивала: “Да, Лида?” И они начинали смеяться». Услышали? Распознали «каркас древнего мифа»? Огромный мужчина, великан, богатырь, полюбивший ветреную женщину, ради нее поломавший свою жизнь, – Самсон? Да-ли-да? Услышали? И если услышали, то можете если не засмеяться, то хотя бы улыбнуться. В «Филиале» Довлатов пересказывает один из вариантов мифа о Самсоне и подсказывает читателю: «„Да, Лида?” И они начали смеяться…»
В последнем своем рассказе «Старый петух, запеченный в глине» Довлатов на «каркас» классической истории о короле Лире «натягивает» современную фантасмагорическую историю о непредсказуемости судьбы («пока жареный петух в зад не клюнет» – эпиграф, который напрашивается из заглавия и содержания рассказа). Эта новелла кажется мне столь значимой для Довлатова, а история короля Лира так изящно вмонтирована в ее текст, что я позволю себе остановиться на последнем рассказе Довлатова подольше. В нем писатель еще раз сформулировал для себя что-то очень важное, сюжето– и смыслообразующее. Правда, важное это обозначено словом «лишнее». Итак, пожилому писателю-эмигранту в четыре утра звонят из полицейского участка. Мистер Страхуил просит внести за него «выкуп». «„Кто?” – не понял я. „Мистер Страхуил”, – еще раз, более отчетливо выговорил полицейский. И тут же донеслась российская скороговорка: „Я дико извиняюсь, гражданин начальник. Страхуил вас беспокоит. Не помните? Восемьдесят девятая статья, часть первая. Без применения технических средств… Шестой лагпункт, двенадцатая бригада, расконвоированный по кличке Страхуил”».
Что ж, бывший лагерный надзиратель, ныне писатель-эмигрант, выручает из американской каталажки бывшего советского, ныне американского уголовника. «Страхуил нетерпеливо приподнялся: „Я на минуту отлучусь. Надо заправиться… Магазин за углом». – <…> „Это лишнее”. – „Лишнее? – приподнял брови Страхуил. – Все у тебя лишнее, начальник! Кто знает, что в жизни главное, что лишнее. Вот я расскажу тебе историю про одного мужика. Был он королем шмена на Лиговке. И его наконец повязали. Оттягивает король что положено, возвращается домой. А у него три дочери в большом порядке. Упакованы, как сестры Федоровы. Старшая ему и говорит: „Батя, живи у меня… Вот тебе койка. Вот тебе любая бацилла из холодильника: колбаска, шпроты, разные ессентуки…”» (курсив мой. – Н. Е.).
Не правда ли, очень похоже на спародированного «Короля Лира», только не совсем понятно, для чего понадобилось Довлатову в рассказ о фантастической встрече бывшего заключенного и бывшего надзирателя вставлять эту историю. Рассказ Страхуила прерывается (как положено) на самом интересном месте. Писатель думает: «Господи, да я и без него все помнил. Прожитая жизнь только кажется бесконечной, воспоминания длятся одну секунду. Конечно, я все помнил». В бытность свою надзирателем он позволил расконвоированному Страхуилу и его приятелю поймать и испечь петуха. «Зэки вырыли ямку. Ощипывать петуха не стали. Просто вымазали его глиной и забросали сучьями. А сверху разожгли костер. Так он и спекся». Правда, за портвейном в поселок надзиратель зэка не отпустил. «Это – лишнее… Это – лишний разговор». Зэк презрительно оглядел меня и спрашивает: «Хочешь, расскажу тебе историю про одного старого шмаровоза?.. Был он королем у себя на Лиговке, и вот его повязали. Оттянул король пятерку, возвращается домой. А у него три дочери живут отдельно, чуть ли не за космонавтов вышедши. Старшая дочь говорит: “Живи у меня, батя. Будет тебе пайка клевая, одежа, телевизор…” Король ей: „Телевизора мне не хватало! Я хочу портвейна, и желательно «Таврического»!” А дочка ему: „Портвейн – это лишнее, батя!” Тут он расстроился, поехал к другой. Средняя дочь говорит: „Вот тебе раскладушка, журнал «Огонек», папиросы…” Тут я перебил его…»
Когда та же самая история «про короля Лира с Лиговки» повторяется в третий раз, в совершенно изменившихся обстоятельствах – теперь уже бывший надзиратель сам оказывается в тюрьме и чуть ли не под началом у Страхуила, – становится понятно, что эта история – ось всего рассказа, а стержень этой истории – слово «лишнее». «Едет тот пахан в законе к младшей дочери. Она ему: „Располагайся, батя! Вот тебе диван, места общего пользования, напротив – красный уголок”. Король ей говорит: „Не хочу я ессентуков, раскладушек и вашего общего пользования! Хочу портвейна белого, желательно „Таврического», ясно?!» А шкура в ответ: „Это, мол, лишнее!” Он ей внушает: „Да лишнего-то мне как раз и надо, суки вы позорные!”» Я выделил эту фразу, ибо это измененная, сниженная цитата из «Короля Лира»: «Сведи к необходимостям всю жизнь – и человек сравняется с животным» – мораль (если так можно выразиться) этого рассказа, а может быть, и всего творчества Довлатова. «Лишнее»-то и есть свобода. Преодоление необходимого – вот что такое «лишнее». По сути дела, все герои Довлатова и сам он взыскуют как раз «лишнего», не необходимого. Ибо они сами «лишние» и в «лишнем» поступке видят свободу, творчество, искусство. И объясняют свои «лишние», дикие поступки герои Довлатова почти одинаково. Старший брат (обгадивший директора школы): «Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев Легавого, я понял – сейчас или никогда! Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать!» Эрик Буш (ногой выбивший поднос из рук жены редактора): «Пойми, старик! В редакции – одни шакалы… Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух… Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка. И начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем хочется только одного – лягнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял – наступила ответственная минута. Сейчас решится, кто я. Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают остальные? Тогда я встал и пошел…»
Прощание с родиной. «Чемодан» и его конструкция. Повесть «Чемодан», в отличие от лирических, чуть ли не чеховских «Зоны», «Заповедника», «Филиала», едва ли не конструктивистское произведение. Недаром центром повести является глава «Куртка Фернана Леже». Куртка художника-конструктивиста, доставшаяся Довлатову, поминается и в другом рассказе цикла – так что становится ясно, что такое для Довлатова эта куртка: «…Редактор… жаловался: „Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без пиджака”. – „Я был в куртке”. – „На вас была какая-то старая ряса”. – „Эта не ряса. Это заграничная куртка. И, кстати, подарок Леже”». Именно так. «Ряса», знак принадлежности к высокому братству художников и поэтов. «Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели. Пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски… Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные». Но это – знак чистоты, а не грязи! Знак силы, а не слабости. Перепачканная в краске куртка оказывается даром, которым стоит гордиться, «приличный двубортный костюм» – подарком, которого приходится стыдиться. «Майор… спросил: „Как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня?” – „Вроде бы, – говорю, – должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел… У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда…” – „Почему же у вас нет костюма?.. Вы же работник солидной газеты”… Тут вмешался редактор: „Я хочу раскрыть… маленькую тайну… Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом заехать во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать”».
Кажется, все новеллы цикла «Чемодан» «рифмуются» подобным образом. «Приличный двубортный костюм» (мерзость, грязь, подарок КГБ) уравновешивается «Курткой Фернана Леже» (искусством, творчеством). Украденные у мэра Ленинграда «Номенклатурные полуботинки» «рифмуются» с отнятой у прохожего «Зимней шапкой». «Креповые финские носки», доставшиеся главному герою в результате неудачно проведенной «фарцовщицкой» операции, – и «Шоферские перчатки», оказавшиеся у Довлатова в результате неудачной съемки фильма про царя Петра, – тоже своего рода «рифма», ибо фарцовщики, как и Петр Первый, – ребята, рвущиеся на Запад, в Европу, распахивающие в мир если не окна, то по крайней мере форточки. Даже рассказ «Офицерский ремень» и тот соотносится с новеллой «Зимняя шапка». В «Офицерском ремне» главного героя оглоушивают бляхой с напайкой, в «Зимней шапке» – тяжелым «скороходовским» ботинком. И только «Поплиновая рубашка» остается без пары, без «рифмы». Оно и понятно, ибо речь здесь идет о любви, единственной и неповторимой, о верности и судьбе, какие же тут повторы и рифмы?
Я полагаю, что «Чемодан» если не вершина творчества Довлатова, то по крайней мере произведение наиболее довлатовское. Это – чистая литература, беспримесная, аскетичная, упакованная как в «чемодан». Один раз у Довлатова уже мелькала такая скрытая «нисходящая» метафора: литература – «чемодан». В главе «Судьба» из повести «Ремесло» Довлатов описывает свою встречу (реальную или выдуманную) с Андреем Платоновым в Уфе в октябре сорок первого года: «Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе… Весь октябрь сорок первого года. И еще – у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями… Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, что там лежит фляга спирта, шевиотовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал».
В «Чемодане» этот образ реализуется, метафора используется до конца. Чемодан жалких шмоток, которые писатель увозит с собой за границу, оказывается набит «драгоценностями». Вся жизнь уложена, упакована в этот «чемодан». Писатель увозит с собой свою Россию. Нелепый, почти шутовской, маскарадный гардероб: «финские креповые носки», «номенклатурные полуботинки», «приличный двубортный костюм», «офицерский ремень», «куртка Фернана Леже», «поплиновая рубашка», «зимняя шапка», «шоферские перчатки» (человек одет, экипирован как надо с ног до головы) – превращается в сборник прекрасных новелл, в одно из самых удивительных прощаний с родиной, какое мне доводилось читать. Мало у кого я встречал такое сочетание буффонады и щемящей жалости, печали. Я имею в виду финальную сцену рассказа «Шоферские перчатки». Рассказ этот рискует оказаться классикой, и все же я напомню его сюжет. Режиссер Юрий Шлиппенбах собирается снять фильм о Петре Первом, оказавшемся в (для нас уже историческом) Ленинграде. В роли царя Петра Шлиппенбах снимает Довлатова. Довлатов, обряженный в костюм Петра, подходит к пивному ларьку. И тут в смешной рассказ врывается печальная, странная лиричность: «Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново? Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям – измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад?» А после – вновь бурлеск, который никакой не бурлеск – обычная нормальная жизнь: «Я присоединился к хвосту очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили… Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу – железнодорожник кому-то объясняет: „Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем”». Мир настолько нелеп, что появление царя Петра в очереди за пивом никого не удивляет. Ну царь и царь, что тут такого? Вот если без очереди лезет, да еще с кинокамерой… «Кто-то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным: „Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем – его дружок. Так что все законно”».
В этой новелле кроме спокойного абсурда жизни есть еще один, чуть насмешливый, чуть ироничный план… Ну а где же еще и быть царю Петру, революционеру на троне, бомбардиру, плотнику, зубодеру и прочая, прочая, как не среди плебса, простонародья, как не среди подонков? «Передо мной стоял человек… в железнодорожной гимнастерке. Левее – оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня… прикуривал интеллигент». Компания как раз для Петра Великого. «Все… Романовы… якобинцы и уравнители» (Пушкин). Потому-то забавно-символически выглядит последний диалог Юрия Шлиппенбаха и Довлатова. Особого «антагонизма» у «народных масс» царь Петр не вызвал, зато «человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспокойство… Недовольство росло. Голоса делались все более агрессивными: “Ходят тут всякие сатирики…” – “Сфотографируют тебя, а потом – на доску… В смысле – «Они мешают нам жить”…» – “Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он там тюльку гонит…” – “Такому бармалею место у параши…” Энергия толпы рвалась наружу».
Юрий Шлиппенбах потерпел поражение, зато царь Петр одержал очередную победу: оказался соприроден очереди алкашей у пивного ларька, воистину «народен». «…Шлиппенбах говорил: “Ну и публика! Вот так народ! Я даже испугался. Это было что-то вроде…” – “Полтавской битвы”, – закончил я». Рассказ, начавшийся с пушкинской цитаты: «Шлиппенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. „Полтава” была заложена конфетной оберткой. „Читайте», – нервно говорил Шлиппенбах. И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал: „Пальбой отбитые дружины, / Мешаясь, катятся во прах. / Уходит Розен сквозь теснины, / Сдается пылкий Шлиппенбах…”» – и должен был кончиться чем-то вроде «Полтавской битвы».
В «Чемодане» Довлатов полностью освободился от «литературности», описательности. Остался человеческий голос, рассказывающий истории. И только. Кажется, Солоухин писал, что лучше сырых рыжиков с солью он не ел блюда. Рассказы цикла «Чемодан» и есть такие «рыжики с солью». Чистый продукт. Можно было бы написать целую историю сказа в русской литературе – от «Левши» Лескова до «Чемодана» Довлатова. Как постепенно «сказитель» приближается к читателю, едва ли не сливается с ним. Лесковский «выдумщик и языкотворец», зощенковский «полудурок», платоновский «юродивый» и, наконец, советский «люмпен-интеллигент», такой же, как мы… Но попытайтесь пересказать новеллу Довлатова – и вы убедитесь, насколько это трудно, насколько обманчива иллюзия простого, примитивного, «неокрашенного» языка.
Этот «неокрашенный», «усредненный» язык – результат довольно любопытной эволюции. Довлатов скорее соединяющий, чем разрывающий разные линии литературного развития писатель, вот почему так интересно посмотреть его литературную «родословную». У Довлатова не отвержение русской традиции, а парадоксальное ее соединение с традицией американской. Рассказы Довлатова – это спираль и реторта литературного эксперимента, в результате которого появляется продукция массового потребления. Учителем Довлатова был Меттер, объясняющий: «Не думайте о “проходимости” своих рассказов. Запомните: напечататься – не главное. Главное – хорошо написать». Это пусть и вынужденная, но элитарная, эстетская позиция. И Довлатов – эстет, не позволяющий себе ни одной неотделанной, необработанной фразы. И. Соловьева написала о первых рассказах Довлатова, присланных в «Новый мир»: «…На рассказах Довлатова лежит особый узнаваемый лоск „прозы для своих”». Нам, прочитавшим «Иностранку» и «Чемодан», кажется странным это определение. Пройдя искус эстетизма, Довлатов оказался перед необходимостью масскульта. Ибо – Америка, рынок… «Ты – дерьмо, а не писатель, если ты пишешь неинтересно и тебя не печатают». Довлатов смог стать эстетским и одновременно массовым, демократическим писателем. Он бы не стал гордиться, подобно Вл. Сорокину, тем, что наборщики отказались работать с его книгой; напротив, подобно Гоголю, он бы гордился тем, что наборщики хохотали над его книгой. Вообразите себе Оскара Уайльда, научившегося писать, как О. Генри, Пруста, захотевшего, чтобы его «Поиски утраченного времени» читались в трамвае.
Довлатов соединяет разнородные вещи. Бориса Житкова и Франца Кафку, например. Ибо первое, что приходит на ум, когда думаешь о традиции, в которой сформировался Сергей Довлатов, – это советская детская литература. Он сам, будто посмеиваясь, подсказывает нам своих предшественников. «Воспоминания, которые следовало бы назвать – „От Маркса к Бродскому”. Или, допустим, – „Что я нажил”. Или, скажем, просто – „Чемодан”». «Что я нажил» – это ведь перифраза названий циклов Житкова «Что бывало» и «Что я видел». Прежде в «детскую наивность» уходили от «взрослой лжи». Пользуясь умолчаниями (ведь пишу для маленьких!), говорили о чем-то таком, в чем не рисковали признаться самим себе (см. анализ «Судьбы барабанщика» в статье М. Чудаковой «Сквозь звезды к терниям»). Довлатов поступал наоборот. «Детской наивностью» разрушал «взрослую ложь». Приемами детской литературы Довлатов пользовался не для того, чтобы что-то скрыть, а напротив – сказать все до конца, поставить все точки над «и». «Для себя» обэриуты писали мрачные, абсурдистские, жестокие произведения. В литературе для детей мрачный абсурд обэриутов, их кафкианский ужас перед жизнью превращались в прелестную добрую нелепицу. Довлатов умудрился соединить мрачные вещи обэриутов «для себя» с их светлыми, смешными вещами для детей. Герой Довлатова – не то господин К., над коим зависло копыто государства, не то бывалый человек из «Что я видел».
Довлатов и Шаламов. Не менее интересным кажется «примирение» в рассказах Довлатова «юго-западной школы», пышной, метафоричной, барочной, с суховатой сдержанностью, интеллигентностью ленинградской прозы. Довлатов освобождался от влияния «юго-западной школы». Еще в «Зоне» он мог позволить себе шикарный бабелевский жест: «В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемыми коридорами». Уже в «Компромиссе» таких «вызовов на ринг» классиков он не устраивает. Подобно Шаламову он мог бы сказать о себе: «В бабелевской “Конармии” я вычеркивал все пышные прилагательные. Рассказы продолжали жить и без „девушек, похожих на ботфорты”, “пожаров, горящих, как воскресенье”…» Кажется, что Довлатов подобным образом вычеркнул из знаменитого хлебниковского «Зверинца» все многословие, весь водопад метафор сдавил в ровное русло нескольких образов. Из пятистраничной поэмы получается страничка в повести «Филиал». «Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный». Это – Хлебников. «Уссурийский тигр был приукрашенной копией Сталина». Это – Довлатов. Он снижает метафоры, «очеловечивает» их. «Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты, с движением человека, завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья». «Мы остановились перед стеклянным ящиком, в котором шевелился аллигатор. Хищный зверь казался маленьким и безобидным, словно огурец в рассоле. Его хотелось показать дерматологу». Довлатовское описание можно было бы счесть даже пародией на Хлебникова, если бы не почти хлебниковские сравнения: «Цесарки разноцветным оперением напоминали деревенских старух… “Павлин!” – воскликнула Тася. Загадочная птица медленно и осторожно ступала тонкими лапами. Хвост ее расстилался, как усеянное звездами небо». Был еще писатель, выросший в преодолении «юго-западной школы», писатель, чьи рассуждения кажутся порой удивительно сходственными с рассказами Довлатова. Шаламов… «Три странички на машинке – много, – рассуждал я тогда… – Идеалом считался двухстрочный рассказ: “Привидений не бывает”. – “Разве?” – сказал мой сосед и исчез. Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точным языком, где лишь время от времени возникает новое, впервые увиденное – деталь или подробность, описанная ярко. Проза будущего – проза бывалых людей…» Писатель не «Орфей, спускавшийся в ад», но «Плутон, поднявшийся из ада». Мне неизвестно, читал ли бывший надзиратель эти литературоведческие (или этико-эстетические) рассуждения-рекомендации бывшего зэка, но вольно или невольно следовал им неукоснительно. Отказывался от витиеватостей, зато запоминал детали, яркие, не требующие пояснений детали, которые писатель должен запомнить, даже если он едет на велосипеде с похмелья на допрос в КГБ: «Двери почтового отделения были распахнуты. Здесь же помещались кабины двух междугородных телефонов. Один из них был занят. Блондинка с толстыми ногами, жестикулируя, выкрикивала: „Татуся, слышишь?! Ехать не советую… Погода на четыре с минусом. А главное, тут абсолютно нету мужиков… Многие девушки уезжают, так и не отдохнув”. Я затормозил и прислушался. Мысленно достал авторучку…»
«Антиучителя». Еще интереснее, чем литературные учителя» Довлатова, его «литературные антиучителя» – те, у кого он учиться не намерен и чей опыт для него целиком отрицателен.
При всем своем внимании к цитатам и аллюзиям Довлатов, например, в повести «Наши» никак не обыграл фамилию своего деда, еврея из Владивостока Исаака Мечика. Довлатов просто не замечает эту литературу. А если и замечает, то только для того, чтобы пренебрежительно обронить: «Вышло так, что я даже охранял своего брата. Правда, очень недолго. Рассказывать об этом мне не хочется. Иначе все будет слишком уж литературно. Как в „Донских рассказах” Шолохова». Один раз Довлатов перечисляет писателей, чей опыт его вдохновляет «наоборот»: «Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров – Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер». Но это ни в коем случае не кумиры Довлатова. Краткость для него не только свидетельство таланта, но и свидетельство уважения к читателю: «Подходит ко мне в Доме творчества Александр Бек: „Я слышал, вы приобрели роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна?” – „Да, – говорю, – однако сам еще не прочел”. – „Дайте сначала мне. Я скоро уезжаю”. Я дал. Затем подходит Горышин. Затем… Раевский… Бартен. И так далее. Роман вернулся месяца через три. Я стал его читать. Страницы (после девятой) были не разрезаны. Трудная книга. Но хорошая. Говорят» («Соло на ундервуде»).
В «Записных книжках» Довлатова есть наблюдение, а может быть, и правило, которому он следовал: «Самые яркие персонажи в литературе – неудавшиеся отрицательные герои (Митя Карамазов). Самые тусклые – неудавшиеся положительные (Олег Кошевой)». У Довлатова вроде бы и нет отрицательных. Все люди – люди, и он, человек, не берется судить людей. Напротив, он облагораживает людей своим искусством. Довлатов в большей мере «лакировщик действительности», чем это принято считать. («Следующие два фрагмента имеют отношение к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капитан Егоров – тупое и злобное животное. В моих рассказах он получился довольно симпатичным…» /«Зона».) Тем более интересно появление отрицательного персонажа у Довлатова, безжалостный «литературоведческий» памфлет. Я имею в виду одну из последних статей С. Довлатова «С кем воюет Юрий Бондарев», в которой писатель формулирует то, от чего сам освобождался, описывает собственные «муки немоты», собственные поиски единственно верного слова: «Я понял, с кем воюет Юрий Бондарев – не с евреями, империалистами, стилягами или наркоманами: Юрий Бондарев воюет с русским языком, он, как всякий… писатель, борется со словом, преодолевая слово, пытается выразить этими непослушными, коварными, ускользающими от него словами – не важно что, лишь бы справиться с этим наваждением, с этой морокой, с этой одержимостью, только бы не сгинуть окончательно под нагромождением тяжелых, упрямых, безжалостных слов, только бы не сдаться, не капитулировать под натиском такого знакомого, такого любимого, такого трудного, такого недоступного ему русского языка!»
Мне это кажется симптоматичным: в своем литературном (да и политическом) враге Довлатов узнает самого себя. Недаром вольно или невольно он цитирует те именно громоздкие, неудобоваримые пассажи Ю. Бондарева, каковые кажутся просто отрывками из не слишком удачной рецензии на его, довлатовские, произведения: «Ничтожные ценности мелкого быта, натуралистические подробности, комья грязного белья вместе с интимными предметами туалета и немытыми тарелками возведены на пьедестал как сама реальная реальность жизни, как глубина познания, как ужас бытия…» Довлатов пародирует этакое скопление красивых слов. Демонстрирует свое умение выстраивать длиннющие периоды не хуже, чем Бондарев: «Тогда Юрий Бондарев начал работать над словом, варьировать слова, нагромождать их друг на друга, со скрежетом и грохотом выстраивать из этих слов цепочки фраз, иногда падать ниц под грузом этих слов, вновь подниматься, ронять эти слова, подобно кирпичам, на свои израненные ноги, рыдать в бессилии и снова браться за работу…» Но в этой насмешке, в этой пародии мне слышится признание родства, близости всех, кто так или иначе пытается справиться не с миром, но со словом, с языком, с речью…
Между Оруэллом и Диккенсом
Если бы люди вели себя достойно, и мир был бы достойным», – не такая это банальность, как могло показаться поначалу.
Джордж Оруэлл. «Чарлз Диккенс»Двухтомник Елены Ржевской, выпущенный издательством «ИНАПРЕСС», вторгается необходимым диссонансом в современную литературную разноголосицу. Как бы ни была она (эта разноголосица) разноголоса, но даже неопытный слух различит один и тот же регистр. Все голоса сбиваются на фальцет бесстыжей откровенности. Все – от мала до велика – стараются рассказать о себе не то что всё, а даже как бы и больше, чем всё. В нынешней России не осталось никого, кого могла бы шокировать бесстыжая откровенность. В нынешней России некого эпатировать. Все слои населения – от «новых русских» до «старых интеллигентов» – по разным, правда, причинам, но… безразличны к любым формам эпатажа. Вроде бы никто и не просит сообщать «интимное и постыдное» – ан нет. Цап за лацкан и – послушайте! На этом звуковом фоне – «Заголимся! Заголимся!» – не диво услышать: «Бобок! Бобок! Бобок!» – зато вот тексты Елены Ржевской удивляют благородной сдержанностью.
Для современного литератора важно вывалить все (ну и еще кое-что добавить). Для Ржевской важно не сказать лишнее. По нынешним временам это раздражает и шокирует больше, чем самая бесстыжая распахнутость. Сразу вспомнят – цензуру, самоцензуру и «внутреннего редактора».
В двухтомнике опубликована старая советская проза Ржевской вместе с ее относительно новыми вещами. Советская не только по времени описания, но… по мироощущению, что ли, по самой своей эстетике – советская. Хотя можно себе представить, какое противодействие вызывали те или иные пассажи, сюжетные ходы, описания и характеристики писательницы в идеологизированной, идеологической среде. Взять один только сюжет «Февраля – кривых дорог» (1975), сюжет, обросший деталями быта и потому незаметный (уж больно быт прифронтовой деревни – странен, страшен, такой «уют беды» проглядывает, что не до сюжета). А стоит присмотреться – вопреки заверениям Ржевской, что «сюжет – это предвзятость». Итак, младший командир догадывается, где можно нанести удар по противнику, докладывает комиссару. Комиссар вываливает на младшего командира целый ушат демагогии, к советам не прислушивается; в результате – окружение, «котел», из которого комиссара забирают командовать на другой участок фронта (присылают самолет), а выводит из окружения горстку людей тот самый младший командир, причем ценой своей гибели. Если учесть, что в окружении гибнет любимая женщина комиссара, которая однажды спасла ему жизнь, то сюжет делается особенно… предвзятым.
А всего одна сцена из повести «От дома до фронта» (1964) – когда в Генштабе майор («…скромное, симпатичное лицо. Белесый чубчик свисает по лбу, маленький пришлепнутый нос сосредоточенно морщится») отправляет в ВДВ (воздушно-десантные войска) ребят, не умеющих ни прыгать с парашютом, ни ходить на лыжах, и запинается только тогда, когда одна из будущих десантниц задает вопрос: «Я хотела спросить, брать ли одеяло? И дадут ли нам рюкзак?» Вот тут майор с белесым чубчиком все ж таки присматривается к вопрошающей и из списка ее вычеркивает. Но все это подано непедалированно, скромно. С пугающим знанием субординации – так было надо. Ничего не поделаешь – иначе бы войну не выиграли.
Один из парадоксов нашего духовного развития в том и состоит: то, что было выходом из идеологии, ныне кажется плотью от плоти старого, прежнего; ныне кажется свидетельством защиты, а не обвинения. Самой верной дочкой короля Лира оказывается Корделия, та, с которой он (мягко говоря) больше всего ругался. Советское общество умирает на руках советских либералов. Настоящие антисоветчики смакуют Лени Рифеншталь с «Кубанскими казаками» и перечитывают «Тлю» с «Кавалером Золотой Звезды».
(С этим самым «Кавалером…» у меня случилась презабавнейшая история. Я как-то беседовал с очень умным и очень образованным, талантливым молодым человеком. Молодой человек, между прочим, à propos, заметил: «Бабаевский! Бабаевский! А вы почитайте, очень кучеряво пишет…» Я промямлил, что, мол, пытался и что-де верно – кучеряво, именно такое определение, но, скажем, Трифонов… (признаться, в этот момент я чувствовал себя полным идиотом). Молодой человек посмотрел на меня с недоуменным презрением: «Трифонов? Да что я, псих – советскую литературу читать?» Молодой человек был абсолютно, на все сто процентов прав. В этот момент я и сформулировал для себя то, что пытаюсь изложить сейчас. То, что было выходом из бесчеловечья, представляется ныне едва ли не оправданием… Между прочим, перед вами сейчас пример бесстыжей откровенности современного литератора. Кому какое дело, о чем я спорил с Кириллом Кобриным… И предмет спора такой животрепещущий – творчество Бабаевского.)
Елена Ржевская споры по куда более существенным (и личным, и общественным) поводам описывает «окольно, побочно», не давая воли ни откровенности, ни воображению. «И тут посреди комнаты двое схватились в ожесточенном споре, вызвав живое внимание собравшихся. Один поминутно откидывал косой клин черных прямых, индейских волос, спадавший на потемневшее лицо, другой опирался ладонью о пряжку военного ремня, сдерживаясь. Я сидела в стороне на кровати, воспаленно следила за ними, едва вникала в смысл слов, не слышала доводов. Они спорили, кто нужнее в предстоящих стране испытаниях: лейтенант или поэт. Был „вызов, брошенный всем стихиям”, как сказал Лист, но то был жертвенный вызов поэта: „Так стою, невысокий, / посредине огромной арены, / как платок от волненья, / смяв подступившую жуть…” В канун моего дня рождения он внезапно пришел, читал свои стихи, ранящие горечью. „Кто меня полюбит, горевого, / Я тому туманы подарю». Ни тогда, ни после, а лишь сейчас, когда пишу это, вдруг открылось: то наваждение – тот небывалый туман – был его обещанным подарком. Началом моей судьбы» («Знаки препинания»). В этом отрывке дано, кстати говоря, объяснение сдержанности, прикровенности Ржевской: она женщина, она не вникает в «вербальные доводы», в «смысл слов» – она следит за тем, что поверх слов, что невозможно выразить словами, но что следует пытаться этими самыми словами выразить.
Девиз прозы Ржевской стоит обозначить так: «Главное словами не скажешь, но на то нам и даны слова, чтобы с их помощью очертить неназываемое». В одном из своих рассказов («Последняя роль») Елена Ржевская с недоумением пишет, что по ее повести «Февраль – кривые дороги» Георгий Геловани собирался писать либретто балета. Георгий Геловани был прав. Он верно почувствовал бессловесность, пластичность, немую кинематографичность или «балетность» прозы Елены Ржевской. У Ржевской есть рассказ, в котором она вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но объясняет «нехитрую эстетику свою»: «Черная собака на белом снегу». Просто описана собака, которая горюет по своему умершему хозяину. Потом эта собака будет истово и добросовестно сторожить дом снова, потом – утолит голод (целые сутки ничего не ела), но пока – горюет. И горе ее так же естественно, так же природно, как и исполнение службы, как и утоление голода. Эту естественность, эту природность невозможно высказать словами. Это горе глубже слов; в этом горе собака достигает чего-то человеческого, слишком человеческого. Не боясь показаться смешной, Ржевская словно бы говорит: вот и я – «черная собака на белом снегу»: все понимаю, но выразить это понимание словами – невозможно, как невозможно высказать словами горе.
Сдержанность Ржевской еще и от ее доверия к читателю, доверия, переходящего в доверительность. Она потому не растолковывает каких-то вещей, что точно знает: она обращается к тем, для кого эти вещи – важны, а не просто известны. Во всей повести «Знаки препинания» ни разу не назван по имени один из главных ее героев – Павел Коган. А зачем? Тот, кто знает строчки поэта: «Миусский рынок пел и плакал, / свистел, хрипел и верещал. / И солнце проходило лаком / по всем обыденным вещам», – тот и самого поэта узнает. A кто не знает, тому, наверное, совсем не обязательно сообщать имя-фамилию того, по ком горюет главная героиня повести: «Оставшиеся годы войны до Берлина, днем и в сновидениях, и всего непреодолимее, острее в первом же пустячном хмелю „с наркомовской нормы” или с деревенского самогона я с отчаянием видела всегда одно и то же: его лицо индейца, обращенное в небо, талая вода затекает в застывшие открытые глаза… Но, господи, зачем я пишу все это?»
В этом и заключается обаяние прозы Ржевской: в том, что ее одергивание самой себя, ее неразрешение себе быть откровенной, распахнутой до конца – совершенно искренни. Она естественна в своей сдержанности, как современные литераторы – неискренни и фальшивы в своей распахнутости. В том и убедительность, что ее прорывы исповедальности – редки. Так им и положено быть редкими. Дело не только в том, что Елена Ржевская вышла из того общества, в котором правилом было: «умный не болтает, а беседует. С глазу на глаз. С глазу на глаз». Дело еще и в том, что Ржевская прекрасно понимает, насколько такое правило искажает нормальную жизнь, с одной стороны, и насколько это чудовищное, противоестественное (оруэлловское) искажение высветляет, высвечивает все нечеловеческое и человеческое в человеке. Художественный мир Ржевской расположен где-то между Диккенсом и Оруэллом, между «1984» и «Оливером Твистом».
Одна из эстетических задач Ржевской (не знаю, сформулированных или только почувствованных) – показать, почему советский мир не превратился в мир «1984» года. Диккенс – вот удивительный ответ. Вот сцена объяснения в любви из повести «Знаки препинания», в которой соединены диккенсовский (человеческий) и оруэлловский (нечеловеческий) миры. «Б. Н., как и все, с уважением относился к ней и шел ее провожать от нас в обратный путь – за Триумфальные ворота к трамвайной остановке – и, склонившись к ней, бережно подсаживал ее на подножку вагона. Но однажды, проводив ее, он вернулся весь взъерошенный, злой. С чего?.. Может, она по пути к трамвайной остановке призналась ему в любви – и он опешил и занемог от такого ее безрассудства? Но разве узнаешь? Это теперь, вернувшись после тюрьмы, лагеря, „вечной ссылки”, он как-то сказал мне: „Покойница, твоя тетка Эсфирь Ильинична, когда как-то раз я провожал ее, стояли на трамвайной остановке, вдруг говорит мне: «В наших кругах (это среди них, психиатров) полагают, что он болен». Я так рассвирепел, едва дождался трамвая и вне себя впихнул ее в вагон”. Он с силой оттолкнул ее от себя вместе с этой ужасной, недопустимой, возмутительной мыслью о генсеке. Да, выходит, она в самом деле объяснилась ему в своем чувстве, только он не заметил. На языке нашей жизни что стоило невинное „я полюбила вас” в сравнении с этим страшным, трепетным признанием, вверявшим ему ее жизнь». Мир, в котором признание в любви читается как: нами правит сумасшедший, – не привык к прямой речи; но в речи окольной, побочной порой проглядывает большая близость к истине, чем в бестрепетном назывании всего и вся по именам и названиям. Сдержанность, скромность, чувство ответственности у Ржевской тем удивительнее и уважительнее, что она изо всех сил пытается их преодолеть. То есть для нее серьезная проблема – быть несдержанной, то, что теперь не то что не проблема, а даже – как бы и наоборот.
В поздних своих разрозненных «Летучих мыслях» Ржевская пишет: «Дай разговеться таланту, если он есть. Не стопори его сдержанностью, скромностью, чувством ответственности etc. Ведь и несдержанность тоже ценный ингредиент творчества». Это завет для себя, в течение десяти лет хранившей одну из тайн века – Гитлер покончил жизнь самоубийством. Для нас, современных литераторов, выбалтывающих семейные секреты, завет должен быть иным: «Дай попоститься таланту, если он у тебя есть. Стопори его сдержанностью, скромностью, чувством ответственности etc. Ведь и сдержанность тоже ценный ингредиент творчества». В тех же «Летучих мыслях» Ржевская (замечая? не замечая?) дает свое эстетическое кредо – от противного: «Почему, думаю, так мне невмоготу курортный пляж, набитый голыми людьми. Тайна, или даже таинство плоти грубо, вульгарно нарушено. Нет своей неповторимости каждого, в особенности женского тела, сваленного в общую голую массу. Сорваны разом покровы, словно и таить нечего – угловатости тела, цветения, всех зарубок, окольцевания годами, ласками, родами. Отмирания, наконец. Отнято больше чем интимное – тайна». Сначала я улыбнулся милой старомодности; потом подумал, что в этом отрывке викторианство советского человека явлено с поразительной, о себе не знающей силой; и только потом понял, что мне напомнил этот отрывок… даже не то что напомнил, но помог понять! Я вдруг понял одну из смыслонесущих тайн хичкоковского «Головокружения». Разве истина – в безжалостном сдирании всех и всяческих покровов? Истина – в одевании, в укладке волос, в гриме, если хотите.
В «Знаках препинания» Ржевская пишет о Павле Когане: «В опубликованных воспоминаниях сказано, что у него было лицо индейца, – единственно несомненное, что за все это время написано о нем (курсив мой. – Н. Е.)». Почему это «единственно несомненное»? Потому что во внешнем признаке, побочном, неважном, поймано что-то такое, чего словами не скажешь. Поэтому на прямой вопрос в лоб: «Что есть истина?» – как правило, отвечают молчанием. Истина то, что ты видишь перед собой, как же возможно это пересказать словами? Только очертить пределы истины – это возможно.
«Когда дана была команда остановиться на привал – это было однажды зимой во второй год войны – и я успела еще сказать: „Ну и повезло же!” – переступив порог уцелевшей, чистой, истопленной избы и сбросив полушубок, как принесли письмо, написанное чернильным карандашом: писал его отец… Я бросилась на улицу. Взвыв, бежала по снегу, не чувствуя холода, в одной гимнастерке. Потом, спустя время, я дежурила ночью у телефона, когда на командный пункт вернулся с передовой полковник, человек не злой, не молодой, мешковатый, получивший не так давно известие о том, что его сын, учившийся в военной летной школе, разбился. Глянул на меня тут в ночном одиночестве у телефона – а слезы на фронте в диковинку, – сказал: „Ты же сама говорила: разошлась с ним… – И добавил, вздохнув: – Бывает так”. Бывает: рассталась, разлюбила, а он для меня вечен, по крайней мере в пределах вечности собственной жизни». Как можно словами описать сложность их отношений? Как можно словами описать сложность его самого – поэта, похожего на индейца? Для Елены Ржевской это – невозможно. Она смиренно это сознает и смиренно в этом сознается.
Война окончилась в сорок пятом, а написать о ней так, как она хотела и должна была, Ржевская смогла спустя много лет. И дело не в том, что она не могла найти нужные слова: судя по рассказам «Зятьки» и «„Маленькая история” одного латыша», слова и интонации нашлись почти сразу. Дело, разумеется, и во внелитературных причинах. Не место их разбирать. Надобно сказать только, что такое «запаздывание» тоже ведь приучает к сдержанности и к отчаянной попытке эту сдержанность преодолеть. В очерке о своей встрече с маршалом Жуковым 2 ноября 1965 года Ржевская дает понять силу «внелитературных причин» в литературе. Жуков рассказывает о своих мемуарах: «Я вот дал прочитать две главы одному редактору… Он сказал: „Это бесценно. Но печатать невозможно. Кто ж разрешит”. Говорил он об этом, отчасти гордясь написанным и чувствуя себя просторно в работе, – еще не приступили к редактированию, еще не изведал затруднений при прохождении рукописи и той знакомой литераторам ситуации: кто ж разрешит».
В финале этой главки Ржевская тихо, без нажима, так, как это она умеет, сообщает: «Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги. Вот и подумаешь о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии». Сказано между делом, на обочине главного повествования; сказано так, что и не заметишь поначалу скрытой заносчивости, скромной горделивости: в чем-то очень важном я – литератор – покрепче буду великого полководца.
Особенность прозы Ржевской в том, что невозможно определить, кто у нее в центре повествования, а кто – на обочине. У нее все герои – эпизодические и все герои – главные. Рискну опарадоксалиться окончательно: чем эпизодичнее герой у Елены Ржевской, чем он – исчезновеннее, тем он – главнее. Так, в «Ворошеном жаре» исчезнувший, с переломанной злой судьбой Курганов, начальник лагерной полиции, в ржевском концлагере пытающийся облегчить участь военнопленных, рвущийся к своим – пусть под пулю, под наказание, но… к своим, – конечно, главный герой. В нем, в его судьбе – главная тема «Ворошеного жара»: грех забвения мучеников, не героев; невозможность определить в нечеловеческих условиях тотальной войны, где героизм, а где мученичество.
Так, в «Далеком гуле», повести о горечи победительства, о растерянности воевавших в наступающем на них мире, главный герой – бельгиец Райнланд, через фронт возвращающийся в Быдгощ (Бромберг) к любимой женщине и вновь отброшенный от нее внечеловеческой государственной мощью, отброшенный от любви и счастья наступающим послевоенным устройством, разделением мира. Все будущие расставания героев повести сконцентрированы в этой трагической нелепой истории. «Вернулся Альфред Райнланд. Бежал, отстав от колонны бельгийцев, рискуя быть пристреленным в спину конвоиром. Не знаю, как он выглядел в момент их с Марианной встречи у тюрьмы – человек, пробравшийся назад, в город, сквозь заслоны сражающихся фронтов. Со мной же молча знакомился выбритый, с черной полоской усов, подтянутый, широкоплечий, коренастый человек в очках, с высоким лбом, без шапки, темноволосый, с сумрачным, твердым взглядом сквозь очки». Потом этого же мужчину героиня повести увидит во дворе пункта репатриации. «Райнланда я застала на том же месте в глубине двора, будто он очертил себе круг у шеста с бельгийским флажком. Одинокий человек. Он молча взял записку, быстро пробежал ее, развернув, и, отведя в сторону полу распахнутого пальто, спрятал записку во внутренний карман пиджака. Торопливо, словно боялся не успеть, старательно выводил подрагивающей в напряжении рукой очень крупно латинские буквы, будто писал ребенку. Исписанный листок он вырвал из записной книжки и, сложив вчетверо этот маленький квадратик, протянул мне и молча следил, надежно ли я прячу его в нагрудный карман гимнастерки. Он вообще молчал. Вопило его лицо. От боли, ярости, бессилия. Но вопило ли? Это мне сейчас так кажется. Оно каменело. И оттого еще страшнее было открыто посмотреть в его лицо, встретить прямой твердый взгляд сквозь очки».
Исчезновение героя для Ржевской – знак его отмеченности. Не исчезает Гитлер, его труп обнаруживают советские разведчики, его зубы идентифицирует личный стоматолог («Берлин, май 1945»). Исчезает деревенская дурочка, переправляющаяся через линию фронта, чтобы навестить своего сына в детдоме, оставшемся у немцев, и дать сигнал разведке («Дусин денек»); исчезает жена начальника транспортного отдела в оккупированном Ржеве, сначала пришедшая в прифронтовую деревню на советской стороне к своим детям, а потом отправленная обратно в Ржев, с тем чтобы склонить своего мужа к сотрудничеству с разведкой («Ворошеный жар»). По сути дела, исчезает и главный герой «Знаков препинания» – поэт, «бросивший вызов всем стихиям»: «Его отец, в патетике несчастья поехавший при первой возможности разыскивать могилу, наивно мог считать, что сын был тотчас предан земле… Но меня, уже кое-что повидавшую на войне – хоть я не знала о сопке Сахарная Голова, что ничто живое не могло подползти к ней живым, – преследовало: он лежит, не прикрытый землей, дождь падает на его лицо».
Про поколение Елены Ржевской сказано: поколение победителей фашизма. Я бы добавил: и «очеловечивателей» отечественного коммунизма. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», – так сформулировал задачу поколения Слуцкий. «Я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м», – так писал Самойлов. Гуманизм, «очеловечивание» доставшегося в наследство быта и бытия были тем более парадоксальны, что вышли из войны. Обычно из войны выходит – озверение, ожесточение, ненависть. Здесь все получилось наоборот: война доказала ценность просто жизни, просто быта; важность не идеологии, но человечности. Ход от «Броненосца „Потемкин”» к неореализму – вот ход поколения Елены Ржевской.
Когда я говорю «поколение», я не закрываю глаза на то, что разные люди были и бывают в поколениях, и в том, ифлийском, поколении тоже были разные люди. Давид Самойлов по прошествии многих лет писал: «Умники того времени гордятся тем, что уже тогда всё понимали. А они не понимали одного, и самого главного: что назначение нашего поколения – воевать и умирать за нашу действительность, что иного исторического выбора у нас нет, что для многих это и будет главным назначением жизни… Мы тоже ощущали приближение войны и внутренне снаряжались для нее, потому и посейчас продолжается наш спор с всеведущими змиями довоенных времен, посейчас, когда как бы и нету предмета для спора и надо бы признать их правоту».
То, что Давид Самойлов обозначает словами, Елена Ржевская дает в сцеплении эпизодов, внесловесно, пластично. «В тот вечер они говорили о жизни, о романтике поколения, о предстоящей войне, так близко уже ощущаемой… Двое [из них] погибли. Третий бесследно исчез. Оставшиеся в живых Наровчатов, Крамов и присоединившийся к ним Самойлов сходились… в том же кафе на Арбате… Тот третий, о судьбе которого нам так ничего и не известно, занимал воображение [Наровчатова]. Вспоминали, как однажды он явился в институтский комитет комсомола, чтобы положить свой членский билет. Его спросили, почему он это делает. Он ответил, что не видит смысла оставаться в организации, где не с кем стало поговорить о Достоевском» («Старинная удача»).
Перед читателем – осколок, обломок тех споров с «премудрыми змиями довоенных времен», о которых писал Самойлов. Причем видно изящество жеста, литературного жеста: «для дураков» – «не с кем стало поговорить о Достоевском»; «для умников» – цитата: «Билет для участия в строительстве земного рая – кладу на стол. Пропуск в рай почтительнейше возвращаю».
С высоты прожитых лет Ржевская и вопроса не ставит о правоте или неправоте «премудрых змиев». Она готова согласиться с тем, что воевать за нашу действительность и сесть против этой действительности в тюрьму – вещи равнозначащие. Она просто продолжает «говорить о Достоевском».
«В 1978 году я оказалась вместе с Наровчатовым в туристской поездке по Испании… В Толедо – памятник фалангистам, стойко державшимся вместе с женами в крепости Альказар, осажденной республиканцами. Коменданту было предложено: в обмен на жизнь его сына, захваченного в плен, отдать ключи от крепости. Он отказался. Ранним утром, еще до начала туристского дня, я пришла к этому памятнику и застала тут Наровчатова. „Я знал, что ты придешь”, – дружелюбно сказал он». Ну разумеется, гибель ребенка в основе вселенского счастья – та самая «достоевская» тема, из-за которой почтительнейше возвращают билет в рай.
Но Ржевская не вспоминает о Достоевском. Вслух не вспоминает. «Достоевское» остается в неназванном, в исчезнувшем. «Достоевское» высветляется в столкновении трех эпизодов – этих двух и еще одного. «В ознакомительной поездке по Мадриду, когда мы в автобусе подъехали к старинному университету, объезжали его городок и я всматривалась в следы героических арьергардных боев республиканцев, Наровчатов, всю дорогу молчавший, взволнованно крикнул на весь автобус: „Лена! Ты должна помнить! Бои в Университетском городке!» И в автобусе сверкнула искра нашей юности. (Бог мой, как беднеешь, как горюешь, когда уходят люди, с которыми можно вот так перекинуться!)»
Все три эпизода помещены рядом: героизм и жертвенность фалангистов, жестокость и героизм республиканцев, предвоенная встреча молодых людей и «достоевский» жест одного из них («я только билет свой почтительнейше возвращаю») – все вместе эти темы образуют странное противоречивое единство: спора с премудрыми змиями довоенных времен – согласия с ними – попытки для себя нынешней найти место в этом споре и определить место в этом споре для себя тогдашней.
Есть что-то очень важное в том, что этот «монтаж эпизодов» оказался в очерке, посвященном Сергею Наровчатову, – очерке сентиментальном, ремаркианском, очень печальном. По сути дела, очерк посвящен врастанию в тыловой быт фронтовика. Врастанию всегда мучительному, но особенно мучительному после Великой Отечественной войны. Потому что война была – великая. И отечественная. И тыловые крысы были соответственно – великие. И – отечественные.
О, для изображения тыловых крыс у Ржевской изумительно богатая палитра – от ненависти без жалости до жалости без ненависти. В самых разных своих рассказах и повестях она применяет эту палитру. «Вертухай за мной пришел – вызывают меня: „Вы присягу принимали? А куда вы шинель дели? А куда винтовку дели? А согласно присяге – до последней капли крови…” И пойдет зубрить… Загривок вон какой у него. А сам-то ты был хоть раз там, на передовой? Да ведь не скажешь. Оружие при нем» («Жив браток?»). Это – без жалости. А вот – если с жалостью: «Он вдруг буркнул: „А я жениться решил”… Отвел плечо и локтем указал: „Вон на ней”. …Я потрепала его по шершавым волосам – отращивает, а на гражданке – сбривал по-солдатски. „Ну с чего ей идти за тебя? Сам подумай”. Он втянул голову в плечи, самолюбиво надулся… „Ей что, жить не хочется?” – „Всем хочется”. Но его не интересовали все. Ника же, по его мнению, перекочевала из общежития в армию, потому что деться было некуда. А теперь, став женой преподавателя Военного института, она тоже сможет зацепиться за кумысосанаторий. „Ты чего на меня так глядишь? – заерзал Самостин. – Не нравлюсь? Так, да? – И хмыкнул: – Ты скажи, не стесняйся”. – „Да нет, чего там. В военной форме ты представительный мужчина”. Он бочком пошел из комнаты, не глядя в Никину сторону… Я вывела Самостина во двор. Морозно, звезд нет… „Так я завтра зайду”. – „Заходи, конечно”… На морозе ни о чем толком не договоришься. И вообще, после войны разберемся» («От дома до фронта»). Ну что же – разобралась.
Хочу быть правильно понятым: вовсе не те, кто остался в тылу, – «тыловые крысы». Одна из самых пронзительных и трогательных сцен во всей книге – встреча машинистки штаба и ее жениха, работающего на заводе, из рассказа «Лирическое путешествие»: «Генералы, прослышавшие о предстоящей встрече Вали с женихом, снесли в ее чемодан из своего командировочного пайка консервы, сало и шоколад… Алексей пришел прямо с завода. В сенях он застенчиво сунул Вале сверток в газете и с улыбкой, лучисто поглядывал на Валю, снимая галоши, пальто. Под пальто у него оказался все тот же неправильно застегивающийся перелицованный пиджак. Валя кокетливо прижимала сверток к груди: что-то в нем? Алексей потер ладони и сказал, довольный: „Ничего, ничего. Бери. Вот скопил буханку. А на завтра у меня еще двести грамм есть”. Валя развернула газету и вспыхнула от смущения до корней волос. „Зачем это? Да не нужно!” Алексей пробормотал что-то застенчиво и великодушно. Бог мой, как он прост до смешного, как жалок со своей буханкой черного хлеба… Она смутно помнила, как потом за столом он молча отхлебывал чай, ни к чему не притрагиваясь. Ломтики копченой колбасы, шпроты и сало, шоколад в вазочках и хлебница с белым хлебом будто отсвечивали каким-то чужим блеском, и он изгнал непринужденность, превратил в нестерпимую неловкость то, что в других обстоятельствах могло бы показаться трогательным или просто обернуться в шутку… Валя уедет, а Алексей постарается забыть о ней, потому что человеку ничто так не помогает переступить через свое чувство, как унижение» («Лирическое путешествие»).
Правда, я недаром помянул Диккенса в названии статьи? Именно Диккенс с его сентиментальностью, без «достоевских» философствований чаще всего вспоминается в прозе Ржевской. Диккенсовский культ семьи, традиции, уюта (даже если это – уют беды) внятен Ржевской. Быт – вот что держит человека. Это Ржевская утверждает со всей запальчивостью благоприобретенной антиромантической натуры, преодолевшей соблазны героического романтизма. Где есть быт, где есть семья, дом, пусть нелепая, сложно, мучительно живущая, но семья – там человек не потерян. Семейственность для Ржевской – основа неброского героизма. Для Ржевской потому так отвратительны Геббельс и его жена, что они убивают своих детей, взрывают семью во имя идеологии. Семья для Ржевской – ячейка не государства, но человечности.
Поэтому главная героиня в прозе Ржевской всегда – женщина. Именно – героиня. Мужик, мужчина в прозе Ржевской может героически погибнуть, но спасти мужика от героической или негероической гибели, героически выжить – способна женщина. Женщины тянут на себе всю тяжесть жизни и выживания. Быт держится женщиной, а это для Ржевской важнее, чем бытие. «Главой семьи была его жена, моя прабабушка, почти легендарная в городе, – Хвалиса, Хволос. Необыкновенной энергии, да и дерзости по тем временам невиданной. Когда тихий, неразговорчивый муж удалялся в синагогу, она натягивала брюки и вместе с подрядчиком и кровельщиком лазила под стропилами и на крыше возводимого дома. И когда однажды ее муж, встав поутру, как обычно, собрался в синагогу и подошел к окну взглянуть, что за погода на дворе, он заметил новый двухэтажный дом по соседству. „Смотри-ка, чей-то новый дом у нас появился?” – „Это – твой дом”, – отвечала Хвалиса» («Белая бабушка»).
Такой культ дома, семьи, традиции позволил бы мне назвать прозу Ржевской консервативной прозой, если бы я не опасался сбиться на сделавшиеся пошлостью рассуждения о том, что-де только после сокрушительной революции и становится возможен естественный традиционный консерватизм; не оголтелая реакционность, но исполненный достоинства и уважения к личности консерватизм. Насколько сама Ржевская понимает консервативную природу своего творчества – это для меня загадка, как и многое в ее творчестве, но, во всяком случае, недаром в «Далеком гуле» с таким искренним восхищением описан Черчилль. Пузатый, буржуистый Черчилль, Черчилль, нависающий над лондонской баррикадой и твердо выговаривающий в дни страшного дюнкеркского разгрома: «Если и через сто лет нас спросят, какое время было самое прекрасное, мы скажем: это время. Самое прекрасное». Здесь не только уважение к союзнику, тогда, в 1940-м, оказавшемуся один на один с врагом, здесь… инстинкт настоящего консерватора, способного включить в реестр сохраняемого (того, что, собственно говоря, консервируется) многое, в том числе и революцию. Черчилль на баррикаде – ей-ей, этот оксюморон стоит запомнить.
Ниже уровня моря
Семь петербургских точек Хольма ван Зайчика и его «Евразийская симфония»
Qui s´excuse, s´accuse (Кто извиняется, тот обвиняется) – тем не менее я начну с извинений. «Ниже уровня моря» – это не про водолазов. Это – попытка ответа на замечательную статью Ирины Роднянской «Ловцы продвинутых человеков».
Кажется, Честертон писал: «Когда одни говорят: этот человек – слишком высок, а другие про того же человека: он – слишком низок, будьте уверены – этот человек нормального роста». Когда одни обвиняют Хольма ван Зайчика в русском фашизме, а другие – в хитром подрыве изнутри русской православной цивилизации, можно быть уверенным: Хольм ван Зайчик – ни в каком случае не фашист и не антипатриот. Так можно было бы отшутиться, если бы статья Ирины Роднянской не была бы столь верной. Ее несогласие с Хольмом ван Зайчиком – принципиального свойства. Она не потому не принимает Хольма ван Зайчика, что не поняла его, а напротив – потому, что слишком хорошо его поняла. Судите сами: Хольм ван Зайчик полагает, что к истине ведут самые разные пути – и христианство, и конфуцианство, и ислам, и буддизм, и иудаизм; Ирина Роднянская полагает, что путь к истине – один: христианство. Хольм ван Зайчик полагает, что главное в религии (или в религиях) – великолепная социальная регулировка общества, для Ирины Роднянской сама мысль об измерении уровня социальной полезности религии (или религий) – не столько даже кощунственна, сколько нелепа. Социальная полезность получается сама собой, не это главное, главное – личностное, космическое и экзистенциальное, а социальное – уж как получится. Кто прав в этом споре? Разумеется, и тот, и другая. Это – нерешаемый спор, это спор антиномий. Поэтому, чтобы не вторгаться в полемику, в которой прав каждый, я решил прислать текст о Хольме ван Зайчике как о типичном представителе петербургской культуры, петербургского утопического проекта. Просто захотелось продемонстрировать читающей публике, что о Хольме ван Зайчике есть и другие мнения.
Все-таки почему – «ниже уровня моря»? Потому, что Петр мечтал перенести во всклокоченную Россию аккуратную Голландию, всю расположенную ниже уровня моря, защищенную от натиска стихий дамбами. Петербург – прообраз русской Голландии; рукотворная, распланированная четкая природа против природы нерукотворной – стихии. «Ниже уровня моря» означает – опасная стихия, прикрытая тоненькой пленочкой культуры. Только в Петербурге мог возникнуть образ дня как обманного златотканого покрова, накинутого на истину ночи. Тонкость, пленочность культуры, ощутимая в Петербурге, приводит к тому, что и шутят здесь странно. Опасаются громко смеяться. Поэтому Давид Самойлов и писал: «Поэты с берегов Невы, в вас больше собранности точной, а мы пестрей, а мы восточней. И – слава богу – веселей!» Не смешней, не остроумнее, но веселей. Петербург можно считать родиной российского юмора, но это – невеселый юмор. Петербургские украинцы, Гоголь и Зощенко, умели смешить до колик именно потому, что сами были мрачны до невроза, до лицезрения ангелов, тигров и чертей.
Все эти милые черты «петербургского» – распланированность, натянутая над анархической стихией тоненьким мужественным слоем; юмор серьезного, серьезность юмора; готовность к плодотворной катастрофе – воплотились в новом питерском литературном проекте, в серии романов Хольма ван Зайчика «Плохих людей нет. Евразийская симфония». «Ниже уровня моря» – этот литературный проект можно назвать так с полным на то основанием. Во-первых, что бы там ни говорили литературные представители Зайчика, создатели этого проекта Игорь Алимов и Вячеслав Рыбаков, но в книгах голландца, влюбленного в Россию и Китай, используются приемы жанров массовой литературы – фантастики и детектива, каковые жанры по определению тропа являются жанрами «ниже уровня моря серьезной литературы». Дамбой, сдерживающей натиск стихии «чтива», здесь является, с одной стороны, ирония, с другой – попытка поставить серьезные историософские или нравственные проблемы в рамках приключенческих жанров. Во-вторых, Хольм ван Зайчик создает утопию. Его Ордусь, страна, возникшая еще в ХIII веке на территории нынешних России и Китая, не просто счастливое, но рационально организованное общество. Любая утопия – «ниже уровня моря». Она отгорожена от стихии зла дамбой традиции и разума. В этом смысле значим образ самого писателя, со всей его фантастической биографией, участием во Второй мировой войне, жизнью в Китае во времена Мао и Дэн Сяопина, выращиванием капусты и писанием романов на китайском языке. Голландец! Уроженец той самой страны, образ жизни которой пытался втеснить России создатель Петербурга. Не менее значимо в этом (утопическом) смысле китайское звучание всей романной симфонии. Китай – родина европейской утопии. В конфуцианском Китае просветители видели образец идеального общества-государства. В-третьих, усталость от «петербургского» и готовность Петербурга к плодотворной катастрофе нигде не ощутима так, как в цикле романов Хольма ван Зайчика. Действие их происходит в Ордуси – гигантской империи, образовавшейся на месте современных России и Китая. История пошла другим путем. Побратим Александра Невского – Сартак не был отравлен в Орде, в результате Орда и Русь соединились в огромную Ордусь. Перед читателем – плодотворно функционирующее мультикультурное общество, выработавшее свои механизмы погашения и разрешения национальных, конфессиональных и социальных конфликтов. Вместо Москвы – здесь Мосыкэ, вместо Петербурга – Александрия Невская. Это – игра, но игра на грани чего-то очень серьезного, поскольку подспудным нервом, мотором повествования является очень петербургское («ниже уровня моря») понимание того, что как бы разумно ни было устроено общество, люди все равно будут мучаться, притираясь, приживаясь друг к другу. Жизнь – коротка, а люди – несчастны даже в самом счастливом, самом рационально и традиционно устроенном обществе – вот лейтмотив детективов Хольма ван Зайчика. Это – особого рода детективы. Детективы российской традиции, созданной Достоевским, в которой преступник кается и изменяет свое сознание, исправляется. Собственно, два героя «Евразийской симфонии»: следователь Багатур Лобо и работник управления этического надзора (прокуратуры) Богдан Рухович Оуянцев-Сю заняты не столько уловлением «человеконарушителей» (преступников), сколько их исправлением. В-четвертых, юмор! Особый юмор Хольма ван Зайчика, вполне «ниже-уровня-морской». В злободневном, газетном смысле романы Хольма ван Зайчика – политические памфлеты без точно определенного адреса, но с точным попаданием в адресата. В цветомузыке Хольма ван Зайчика для каждого вспыхивает своя лампочка. Недаром одни упрекают Хольма в русском фашизме, другие в – антипатриотизме и измене самому имени – Россия. Вот пример разной реакции на одну и ту же шутку. В первом романе серии – «Деле жадного варвара» – действуют два брата, преступники Дзержин и Берзин Ландсбергисы, владельцы табачной фирмы «Лабас табакас», с которой никак не может получить штраф пострадавший от ее продукции потребитель. Разумеется, одни читатели обидятся за латышей, другие же обратят внимание на имена двух владельцев табачной фирмы, вспомнят знаменитых чекистов Дзержинского и Берзина, и этикетку папирос «Беломорканал», после чего сообразят, что убытки с этой «Лабас табакас» так и не взысканы. В-пятых, оксюморон, свойственный «Евразийской симфонии», свойственен Петербургу и вообще всему, что существует «ниже уровня моря». Не может существовать, а существует! Существует ли сам Хольм ван Зайчик, бывший голландский коммунист, советский разведчик во время Второй мировой войны, друг и советчик Дэн Сяопина во время опалы китайского политика, или это литературная маска, придуманная Игорем Алимовым и Вячеславом Рыбаковым? Скорее всего, не существует, а с другой стороны – уж очень эффектная судьба. Обидно негировать. Существование несуществующего – вот оксюморон происхождения Хольма. Его литературные представители (даже не его, а его переводчиков, Евстафия Худенькова и Эммы Выхристюк) Игорь Алимов и Вячеслав Рыбаков – ученые китаисты, узкие специалисты – заняты фантастическими детективными историями, рассчитанными на «широкие читательские массы» – оксюморонность происхождения усиливается! Наконец, самое главное – детектив в утопии, расследование преступлений в рационально организованном обществе – вот оксюморон существования «Евразийской симфонии». В-шестых, сквозь альтернативную историю Ордуси, сквозь дневной златотканый покров утопии просвечивают злободневные намеки на хаос и стихию современной жизни и политики. Это и есть то самое сочетание утопии, четко расчисленной рукотворной природы, натянутой над ночной стихией, с природой, нерукотворной, хаотической, которое можно назвать «Ниже уровня моря». В-седьмых, в отличие от Москвы, Петербург всегда готов сменить свое имя хоть на Петроград, хоть на Ленинград, хоть на Невогород, хоть на Александрию Невскую, потому что по сути своей он всегда остается прежним: умышленным странным городом, расположенным… ниже уровня моря, впрочем, об этом я уже писал – см. «в-третьих»…
Любимая груша Зайчика
После большого перерыва Хольм ван Зайчик выпустил новый роман из цикла «Евразийская симфония. Плохих людей нет» «Дело судьи Ди». Можно понять задержку с этим романом. Трудно написать хорошую книгу, но куда труднее написать продолжение этой хорошей книги. Хольм ван Зайчик рискнул. Пожалуй, шестой его детектив – самый хольм-ван-зайчиковый, самый чистый и самый идеологический из всех романов. Самый спокойный – в нем меньше всего насмешки, а если шутки и есть, то они уж совсем… экзотеричны.
В конце книги в качестве приложения помещен, как это принято говорить, стебовый «Комментарий к двадцать второй главе “Лунь юя” “Шао Мао”», составленный сюцаем школы «Лоиван-пай» Лао Ма – штука и шутка в том, что два представителя переводчиков Хольма ван Зайчика Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов работают в ЛО ИВАН (Ленинградском отделении Института востоковедения АН). Можно представить себе, сколько разных хохм, понятных только своим, раскидано в этом «комментарии».
Начать с того, что к «Делу лис-оборотней» в приложении был помещен волшебный рассказ Ли Сянь-Миня «Удивительная встреча в западном Шу» в переводе Игоря Алимова, а к «Делу победившей обезьяны» – отрывки из Танского кодекса в переводе и с комментарием Вячеслава Рыбакова. Стало быть (соображает внимательный читатель) – стебовый комментарий не Хольма ван Зайчика, а и в самом деле какого-то Лао Ма, работающего в том же ЛО ИВАН, наверняка известного всем «сюцаям» этой самой школы. Читатель понимает, что ему показали кусочек институтской стенгазеты. Такая доверительность – обаятельна.
Впрочем, обаяние Зайчика не только в этом. Может быть, от спокойствия тона последней книги становится виднее, очевиднее, слышнее идеология Хольма – ну да, военная, ну да, патриотическая, ну да, антиглобалистская и мультикультуральная. Когда-нибудь, когда в России переведут один из первых манифестов антиглобализма «Рассуждения аполитичного» Томаса Манна, можно будет сравнивать разные антиглобализмы. Тогда станет ясно, что, скажем, Томас Манн образца 1914–1918 годов не то чтобы анархист, но… человек, помнящий, что государство ни в коем случае не метафизично; тогда как, скажем, Хольм ван Зайчик образца 2000–2003 годов – государственник до мозга костей, до принятия всей государственной мишурной атрибутики. Какие бутики, когда печатают шаг «восьмикультурные гвардейцы» у врат Запретного города в Ханбалыке?
Это – естественно для Питера (то бишь по-ордусянски – для Александрии Невской). Военный город. Город, живший производством оружия и знания. Причем знание стык в стык оказывалось связанным с оружием. Почему бы здесь не появиться такому явлению, как Хольм ван Зайчик?
Итак – новая книжка о приключениях Багатура Лобо и Богдана Руховича Оуянцева-Сю в стране Ордуси, возникшей в XIII веке на гигантской территории – России, Китая, Монголии, Ближнего Востока. На сей раз действие происходит не в Александрии Невской (Петербурге), не в Мосыкэ (Москве), не в Асланiве, не на Соловках, но… в самом сердце Ордуси – в Ханбалыке (Пекине). Может быть, еще и по этой причине последняя книга – самая спокойная, самая экзотеричная и самая мистическая?
Может быть, поэтому для внимательного читателя именно в этом романе становятся видны не только идеологические, но и литературные, общекультурные истоки той или иной темы Хольма ван Зайчика. Так, давняя, тянущаяся еще с самого первого романа любовь принцессы Чжу Ли и Багатура Лобо – обнаружит американское свое происхождение (что особенно пикантно для ван нашего Зайчика) – ну конечно, «Римские каникулы» Уильяма Уайлера, Дальтона Трамбо, Одри Хепберн и Грегори Пека. Она – принцесса, а он – простой журналист (вариант – сыщик). У нее – долг. Государство. Традиция. Он понимает, как не понять! Но они любят друг друга. И – вытрите слезы. Бывает.
Вмешательство призрака в расследование напомнит о «Гамлете». Впрочем – это не очень в точку, поскольку в «Гамлете» попытка ожившего мертвеца «помочь следствию» завершается катастрофой, уничтожением всей династии. Но это – трагический Запад, а у Хольма ван Зайчика – хеппи-эндишный Западо-Восток. Поэтому вернее всего здесь было бы вспомнить анонимную китайскую повесть XVII века «Трижды оживший Сунь», в которой призрак хозяина помогает храброй служанке раскрыть преступление его жены-мужеубийцы и ее любовника.
Вообще «Дело судьи Ди» – менее всего детектив. Я бы сказал, что это – гимн в прозе системе сдержек и противовесов, на которых держится равновесие в обществе, в государстве, в душе человека. Еще шаг – и сообразно устроенное, счастливое общество-государство превратится в агрессивную деспотию; еще шаг – и благородный верующий человек превратится в опасного фанатика. В каком-то смысле это – гимн балансу сил, гимн равновесию, которые не дай бог нарушить в ту или иную сторону.
На первый взгляд в «Деле судьи Ди» речь идет об опасности исламизации Ордуси, но это только на первый взгляд. Один из положительнейших героев романа (в котором и вовсе нет отрицательных героев, что, согласитесь, необычно для детектива или для книги, использующей элементы детектива) бек Кормибарсов – верующий мусульманин, сыплющий при каждом удобном случае высказываниями из Корана. Опасность состоит в том, что полная исламизация многоконфессиональной и многонациональной Ордуси нарушит равновесие в обществе и государстве, а равновесие – идефикс, пунктик, если можно так выразиться, Хольма ван Зайчика.
Недаром сбившийся с пути истинного ордусский политик первую ошибку совершает, когда намеревается оградить Ордусь от всех западных влияний, а уж вслед за этим он решает принять ислам для политического его использования. В этой историйке, ставшей сюжетным стержнем «Дела судьи Ди», Хольм ван Зайчик умудряется возразить сразу двум типам ругателей его Ордуси: тем, кто видит в Ордуси образец изоляционистского тоталитарного общества, идеал русского фашизма, и тем, кто винит Хольма ван Зайчика в опасном для православия и русского патриотического сознания позитивистском отношении к религии как к социальному и политическому регулятору.
«Отнюдь нет! – возражает Хольм ван Зайчик. – Тот самый политик, что мечтает о полной изоляции Ордуси от всего мира, как раз и оказывается готов использовать религию как инструмент для решения политических и социальных задач. И то и другое – чуждо и враждебно Ордуси».
В том-то и сила Хольма ван Зайчика и его Ордуси, что равновесие соблюдается постоянно. Все – на грани, но грань – соблюдена. Еще шаг, и это – фашизм. Еще шаг, и перед читателем – худший образец соцреализма с хеппи-эндом и моралью под занавес, но Хольм ван Зайчик этих шагов не делает. Сохранить равновесие, не перейти грань ему помогает чувство юмора.
Особого рода, конечно, чувство юмора. Востоковедного, иероглифического, но… тем не менее. Допустим, в конце романа Богдан Рухович Оуянцев-Сю, спасший своего друга Багатура Лобо из темницы, а Ордусь – от превращения в темницу, произносит речь о двух важнейших регуляторах человеческого поведения – страхе наказания и совести и о том, что горе обществу, в котором действует только один регулятор поведения. Такое прямое обращение к читателям, такая мораль под занавес коробила бы (ну что мы, в самом-то деле, малые дети, что ли?), если бы не гротескный, эксцентрический антураж вокруг этой морали.
Для того чтобы спасти друга, пробиться во дворец с информацией об опасности и к читателю с моралью, Богдану Руховичу надо ударить в каменный барабан на площади Ханбалыка, но колотушку ему не поднять – и тогда героический человекоохранитель, сняв очки, лупит башкой в каменный барабан. Башка гудит, как барабан, на лбу – шишка, как рог, но зато выбито (головой о камень!) право на речь ко всем! Великолепная, по-моему, чуть ироническая, но уважительная метафора писательского труда. Башкой о камень! – тогда услышат.
Хольм ван Зайчик странно метафоричен, изысканно метафоричен. Я бы сказал, иероглифически метафоричен. Его метафоры, его иероглифы порою скроены из удивительных вещей, непривычных и шокирующих. Они растянуты на целую книгу и, чтобы заметить их связь, надо внимательно читать роман.
Вот образец иронической метафорики и иероглифики старого контрразведчика Хольма ван Зайчика.
В Ханбалыке Багатур Лобо посещает «Музей отхожих мест», «Парк отдохновения», созданный семейством Ли из своего родового поместья. Заходит там в кумирню Цзы-гу, девушки, утопившейся в сортире от горя по своему погибшему на войне жениху. На первый (малоприятный) взгляд – просто юморит Хольм. Гы! «Музей сортиров» – вот умора! Гы! Утопиться в дерьме! Гы! Гы! Мемориальная доска в сортире – здесь утопилась от горя… ГЫ!
На второй (цивилизованный) взгляд – здесь обращение к читателям, к либеральным главным образом: а готовы ли вы жить в обществе, открытом для разных традиций и для разных музеев? Вы, винящие Хольма ван Зайчика в ксенофобии, разве вы не фыркаете насмешливо, представив себе такой музей и такую мемориальную доску? Так кто же в этом случае – ксенофоб? Вы или Хольм ван Зайчик? Вы или Багатур Лобо?
Но это только «второй» взгляд. Есть и третий, в котором иероглифическая природа метафорики Хольма явлена во всей ее пугающей простоте. ЛИ (это поясняют переводчики) по-китайски означает «груша». Благодаря помощи призрака и пронырливости кота по прозвищу Судья Ди Багатур Лобо и Богдан Оуянцев-Сю обнаруживают важнейшее для судеб Ордуси письмо в Запретном городе Ханбалыка, в «Павильоне любимой груши». И до того запущен этот павильон, до того любимая груша грустна, таким слоем опавших листьев все завалено – просто жуть смотреть!
Чтобы еще раз напомнить Багатуру, Богдану и читателю, о чем идет речь, кот, зажавший в пасти свиток пожелтевшей бумаги, чертит хвостом в воздухе иероглиф ЛИ – груша. Ну груша и груша – начинает злиться читатель, что вы носитесь с этой грушей? Здесь-то и ждет его еще одна встреча с еще одним иероглифом, с аббревиатурой. В следующей главе Богдан Оуянцев-Сю будет беседовать со своим американским другом, и тот произнесет СРУ – Стратегическое разведывательное управление.
Читатель морщится. Антиамериканизм – антиамериканизмом, но уж до площадной-то брани зачем опускаться? Отчего же площадной и брани, – одернет сам себя читатель, – вспомнив «Музей отхожих мест» семейства Ли (груши то есть), девицу, героически погибшую в сортире. Да мало ли какие могут быть аббревиатуры! И читатель слегка подпрыгнет, поскольку на память ему придет заброшенный «Павильон любимой ГРУши».
Ну конечно! Кто же еще, по мнению Хольма ван Зайчика, поддерживал равновесие в мире, как не разведка – ГРУ, или СРУ, или ЦРУ? А нынче в этом павильоне – все так запущенооо. Полное – ша.
Философия триллера
Когда-то давным-давно, в канун и во время сокрушительной русской революции, формалисты и прочие – как это нынче принято говорить, продвинутые исследователи литературы – горько жаловались на отсутствие в российской словесности, в ее мейнстриме, выдумки вообще и фабульной, сюжетной выдумки в частности. Дескать, вот за этим, за фабулой, острым сюжетом, фантастикой и приключениями, стоит сходить на Запад. Философичности от этого не убудет, и социально-политическая проблематика не утратит остроты, но кое-что – ей-ей – прибавится.
Из всех русских писателей, последовавших (уж не знаю, сознательно или инстинктивно) совету формалистов, наиболее плодотворными оказались братья Стругацкие, Аркадий и Борис. Аркадий умер 12 октября 1991 года. Борис, оставшись один, пишет романы под псевдонимом С. Витицкий (С. Витицкий. Бессильные мира сего. Роман. СПб: Амфора, 2003; вошел в тройку лауреатов премии Аполлона Григорьева за 2004 г.).
Совсем недавно издательство «Амфора» выпустило его книжку, уже не беллетристическую, а литературоведческо-мемуарную – как и все у Стругацких, находящуюся на стыке жанров, потому и названную не то слишком вызывающе, не то слишком скромно: «Комментарии к пройденному» (Сост. И. Стогов, СПб, 2003). Чуть позже издательство «Вагриус» издало книжку Вячеслава Рыбакова «На будущий год в Москве» (ООО «Издательство АСТ», 2003), а еще позже все в той же «Амфоре» вышли два романа модного французского писателя Тонио Бенаквисты «Охота на зайца» и «Комедия неудачников» (Пер. с фр. Л. Ефимова, СПб, 2003). Что-то общее протянулось между этими прозаическими текстами, какая-то странная не то разделительная, не то соединительная нить.
Литературное происхождение. «Как мы писали наши книжки» – вот как можно было бы обозначить тему «Комментариев…» Бориса Стругацкого. Из чего, из каких элементов слагалась странная проза братьев Стругацких, что ее окружало в реальности и литературе? Литературное происхождение прозы Cтругацких замечаешь с ходу. Это-то как раз лежит на поверхности.
Борис Стругацкий пишет о первом опыте совместного писания: «Не было ни предварительного обсуждения, ни плана, ни даже сюжета: сел один из соавторов (по-моему, БН) за машинку и отстучал первые две странички; за ним другой – прочитал написанное, поковырял в ухе и отстучал еще две; потом – снова первый, и так до самого конца. К огромному изумлению авторов, в результате получилось нечто вполне осмысленное, этакая багрово-черная картинка, кусочек чужой, совершенно неведомой жизни – нечто напомнившее обоим любимый ими рассказ Джека Лондона «Тропой ложных солнц» (тем, кто не помнит, советую перечитать)».
На той же странице помянуты рядом с Джеком Лондоном любимые книги детства старшего брата, Аркадия, родившегося в 1925 году: «Следы на камне» Максвэлл-Рида и «Тайны морских глубин» Бийба, изобретателя батисферы. Что это за книги? Джек Лондон, Максвэлл-Рид, Бийб – занимательная литература для юношества и подростков 10 – 20-х годов XX века. То чтиво, которое снобы и эстеты пролистывают небрежно, чуть не кривясь, а дети и домохозяйки читают взахлеб.
Потом может появиться что-то более классичное, но столь же занимательное, остросюжетное. Борис Стругацкий (с понятной гордостью) рассказывает о происхождении слова «сталкер», и читатель вновь видит тот самый – западный, если угодно, англо-саксонский – генезис фантастики братьев: «…“Сталкер” – одно из немногих придуманных АБС слов, сделавшееся общеупотребительным. Происходит оно от английского to stalk, что означает “подкрадываться”, “идти крадучись”. Между прочим, произносится это слово как “стоок”, и правильно было бы говорить не “сталкер”, а “стокер”, но мы-то взяли его отнюдь не из словаря, а из романа Киплинга, в старом, еще дореволюционном русском переводе называвшегося “Отчаянная компания” – о развеселых английских школярах конца XIX – начала ХХ века и об их предводителе, хулиганистом и хитроумном юнце по прозвищу Сталки…».
Джек Лондон, Редьярд Киплинг, вообще вся авантюрно-фантастическая линия западной литературы – достойная родословная для тех, кто с 1957 («Страна багровых туч») до 1988 («Отягощенные злом») года смог создать свой мир, удивительным образом соотносимый с реальностью, возражающий этой самой реальности и внаглую использующий ее в качестве строительного материала.
Двое и один. Эта литературная родословная почти ничего не объясняет из феномена братьев Стругацких. Не объясняет, к примеру, особой «стругацкой» речи. Невнимательные читатели назовут ее эзоповой, но это не так. Вовсе не так. Для эзопового языка – уж слишком очевидны аллюзии, уж слишком явны намеки. Нет, что-то в ней иное. Скажем так: постоянное изменение точки зрения, постоянное чувство читателя, что вот именно так «души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Так, в «Комментарии к пройденному» Борис Стругацкий то пишет о брате и себе: АБС, БН, АН; то – «мы», «я», «брат». Недоброжелатели могут посмеяться, мол, пишет, как Цезарь, о себе и о брате в третьем лице, но Борису Стругацкому плевать на недоброжелателей.
Внимательный читатель может вспомнить и сообразить, что подобным образом на «ты» и «я» – «он» и «он» уже распадался главный герой в прозе Стругацких. В «Улитке на склоне» – на Переца и Кандида; в «Хромой судьбе» – на писателя Феликса Сорокина, живущего в Москве, и на писателя Виктора Банева, живущего в фантастическом городе, над которым вечно идет дождь. Похоже на питерскую погоду, верно?
По-видимому, штука состоит в том, что проза Стругацких была более чем какая-либо другая рассчитана на диалог. Два брата, оказавшихся надолго в разлуке, один – в курсантской учебке, потом на курсах военных переводчиков, потом на Дальнем Востоке, потом – в Москве; другой – сначала в блокированном Ленинграде, потом – в эвакуации, потом – снова в Питере, – так вот, два близких друг другу человека не просто писали вдвоем, они разыскивали что-то интересное один для другого. Это учитывание взаимных интересов, доброжелательный диалог ощутимы, явственны в вышеупомянутом эпизоде со Сталки – Сталкером. «АН в младые годы свои, еще будучи курсантом ВИЯК (Военный институт иностранных языков. – Н. Е.), получил от меня в подарок случайно купленную на развале книжку Киплинга “Stalky & Co”, прочел ее, восхитился и тогда же сделал черновой перевод под названием “Сталки и компания”, сделавшийся для меня одной из самых любимых книг школьной и студенческой поры».
В таком поиске взаимоинтересов как не научиться видеть себя со стороны? Как не научиться относиться к себе, как к другому, и к другому, как к себе? Странно разводить философии по отношению к авторам приключенческих фантастических книжек, но…
Кое-что про кино… Если вспомнить, какие режиссеры заинтересовывались этими приключенческими книжками, не такими уж удивительными покажутся философские закидоны по отношению к прозе братьев Стругацких. Андрей Тарковский, Алексей Герман, Александр Сокуров, чихать хотевшие на острый сюжет и фабулу, однако же, увлеклись означенной прозой!
Значит, что-то в ней есть и было поверх фабулы, поверх голой занимательности, какая-то мучительная тема – родная, близкая, скажем, создателю фильма «Зеркало». Обозначить точно эту тему я не решусь, но описать ее, так сказать, по касательной попробую. Борис Стругацкий так рассказывает о работе вместе с Тарковским: «Андрей Тарковский был с нами жесток, бескомпромиссен и дьявольски неуступчив… Лишь однажды удалось нам переубедить его: он согласился убрать из сценария и из фильма “петлю времени” – монотонно повторяющийся раз за разом проход погибшей некогда в Зоне бронеколонны через полуразрушенный мостик. Этот прием почему-то страшно его увлекал, он держался за него до последнего…»
В этом приеме есть главная тема Тарковского – возвращающееся время, неостановимость времени. Но самое удивительное: Тарковский невольно хотел процитировать (незаметно для самих братьев Стругацких) финальный образ из их повести «Попытка к бегству», которую «сами авторы дружно считали переломной». С нее (по их мнению) и «начинаются настоящие Стругацкие».
Попытка к бегству. 1962. Не откажу себе в удовольствии пересказать эту замечательную вещь. Зэк Саул Репнин, сбежавший из концлагеря ХХ века в светлое будущее, оказывается в этом самом будущем вместе с двумя славными земными парнями, отправившимися в межпланетное путешествие, на диковатой (мягко говоря) планете.
Восточная деспотия при очень низком температурном режиме. Плюс к тому какие-то высокоразвитые… недоумки оставили на этой планете склады сложнейших машин. Надсмотрщики заставляют рабов кое-как разбираться в этих машинах. Машины движутся – рабы гибнут. Все как полагается.
Железные лязгающие механизмы ползут по снежной равнине мимо голодных замерзающих рабов и сытых надсмотрщиков. Для 1962 года – хорош эзопов язык. Дальше еще лучше: Саул Репнин ложится за пулемет (или скорчер, бластер – не помню) и расстреливает колонну механизмов, а она все равно ползет. Неостановимо, так, как должны были ползти бронетранспортеры в фильме Тарковского. Они неуничтожимы, как время. Как запущенный когда-то исторический процесс.
Что остается Саулу Репнину? Вернуться в ХХ век и погибнуть при попытке к бегству. Нехилый (повторюсь) сюжет для 1962 года, но ведь и для нашего времени – ничего себе, да? При том что поменялись все знаки – и то, что для советских людей в 1962 году представлялось неизбежным историческим процессом, нынешним российским гражданам представляется нарушением законов истории, произволом и бессмысленным насилием.
Но образ человека, в отчаянии пуля за пулей садящего в нечеловеческую, неубиваемую, пущенную когда-то машину, врезается в память и тому, кто тогда был уверен, что раскрестьянивание и коллективизация – жестокий, но необходимый процесс, и тому, кто уверен нынче, что превращение первого секретаря обкома или полковника КГБ в бизнесмена или политика – естественный, исторический, необходимый процесс.
Исток. Тогда становится ясен исток особой занимательности братьев Стругацких, той занимательности, о которой давным-давно говорил писатель, чрезвычайно им близкий, Достоевский. В запальчивости он заявил в письме племяннице Соне: «А занимательность я до того дошел, что ставлю выше художественности».
Джеклондоновская, киплингианская занимательность, накладываясь на сложную, не решаемую с полтыка проблему, дает именно достоевский эффект. В прозе Стругацких это проблема времени, проблема условий исторического существования, из которых так просто не вырваться, потому что благородная попытка рывка, побега оборачивается чем-то вполне отчаянным, тупиковым, гибельным. Надобно – приноравливаться. И в этом приноравливании нет ничего конформистского, ничего конъюнктурного, уже хотя бы потому, что Стругацкие прекрасно понимают обреченное благородство тех, кто раз за разом делает отчаянные попытки изменить условия исторического существования, вырваться из своего времени.
Сама по себе фантастика для них и была поначалу такой попыткой к бегству, по крайней мере, именно так объясняет Борис Стругацкий причины возникновения первого фантастического рассказа своего старшего брата «Как погиб Канг»: «Рассказ датирован “Казань, 29 мая 1946”. Это было время, когда курсант Военного института иностранных языков Аркадий Стругацкий был откомандирован в распоряжение МВД Татарии в качестве переводчика с японского. В Казани он участвовал в допросах японских военных преступников: шла подготовка Токийского процесса… АН не любил распространяться об этом периоде своей жизни, а то немногое, что мне об этом стало от него известно, рисует в воображении картинки исключительно мрачные: угрюмая беспросветная казарма; отвратительные сцены допросов; наводящее ужас и омерзение эмвэдэшное начальство… Неудивительно, что начинающий и очень молодой автор бежит от этого мира в морские глубины…»
Время, вперёд! Удивительно, что этот мир в конце концов всплывает в прозе братьев Стругацких. Они, безусловно, ощущали время, историческое время – силой, враждебной человеку и человеческому. Они, безусловно, пытались переломить эту враждебность. Отсюда их общий, едва ли не восторженный интерес к удивительной теории удивительного астронома Николая Козырева. Астроном Борис Стругацкий познакомил с этой теорией япониста Аркадия Стругацкого и нашел понимающий сочувственный отклик: «Н. А. Козырев был тогда фигурой в советской астрономии значительной, яркой и даже таинственной. Он был другом и научным соперником Амбарцумяна и Чандрасекара. Он отсидел десять лет в сталинских лагерях. Он создал теорию, доказывающую существование нетермоядерных источников излучения звезд. Он рассчитал новейшую и для своего времени совершенно парадоксальную модель атмосферы Венеры… А в 1957-м он объявил: “…Принципиально возможен двигатель, использующий ход времени для получения работы. Иными словами, время обладает энергией”».
Не в том дело, что, как пишет далее Борис Стругацкий: «ВСЕ опыты Козырева были опровергнуты, так что и по сей день его теория остается лишь красивой, но сомнительной гипотезой», а в том дело, что благодаря этой красивой, но сомнительной гипотезе Стругацкие обрели одну из своих сюжетообразующих идей, упавших на хорошо подготовленную почву.
Отец. Борис Стругацкий, как он сам себя характеризует, был (и остается) «сознательным и упорным противником всевозможных писательских биографий, исповедей, письменных признаний и прочих саморазоблачений». Он сторонник тезиса формалистов: «Жизнь писателя – это его книги <…> все же прочее – от лукавого и никого не должно касаться, как никого, кроме близких, не касается жизнь любого, наугад взятого частного лица». Он повторяет эту же мысль, высказанную в начале книги, в «Постскриптуме», составленном из вопросов Ильи Стогова и его ответов. Повторяет жестче и раздраженнее: «Давайте не будем говорить о личной жизни. Ей-богу, это никому не должно быть интересно. Жизнь писателя – его книги»…
Если при таком подходе в первой главе своих «Комментариев к пройденному» Борис Стругацкий чрезвычайно много места уделяет дописательской биографии Аркадия и биографии их отца, Натана, то это означает, что уже здесь начинается «жизнь писателя – его книги».
Конечно, здесь процитировано такое письмо Аркадия, что становится внятна и понятна трагическая основа утопической и антиутопической прозы Стругацких: «Поезд шел до Вологды 8 дней. Эти дни – как кошмар. Мы с отцом примерзли спинами к стенке. Еды не выдавали по 3–4 дня. Через три дня обнаружилось, что из населения в вагоне осталось в живых человек пятнадцать. Кое-как, собрав последние силы, мы сдвинули всех мертвецов в один угол, как дрова… Очнулся в госпитале, когда меня раздевали. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили носки, а вместе с носками кожу и ногти на ногах. Затем заснул. На другой день мне сообщили о смерти отца. Весть эту я принял глубоко равнодушно и только через неделю впервые заплакал, кусая подушку…»
Конечно… но главным в этой главе, в этой прелюдии к рассказу о том, как писали книжки, как их публиковали, как скандалили с цензорами, на какие компромиссы шли, а на какие не шли, главным в этом зачине к «Комментариям…» остается отец. Натан Стругацкий.
Он описан не просто с любовью. Он так описан, что становится понятно: он-то как раз и был тем прогрессором, тем рванувшимся изменять время и исторические условия существования обреченным героем, каких так часто и с такой понимающей болью изображали братья Стругацкие. Вот вся его жизнь до гибели в вологодском эвакогоспитале: «Сын провинциального адвоката, вступил в партию большевиков в 1916 году, участвовал в Гражданской войне политработником у Фрунзе… В 1936 году назначен был “начальником культуры и искусств города Сталинграда” (Видимо, заведующим отдела культуры то ли горкома партии, то ли горисполкома.). Здесь в 1937 году его исключили из партии – формально за антипартийные и антисоветские высказывания (“заявлял, что Н. Островский – щенок по сравнению с Пушкиным, и утверждал, что советским художникам надо учиться у иконописца Рублева”), а фактически за то, что стоял у тамошнего начальства поперек горла: «запретил бесплатные ложи и первые кресла для начальства, ввел для руководителей города и области платный вход в театр и кино, отменил прочие начальственные льготы” и пр. Как я теперь понимаю, чудом избежал ареста и уничтожения, ибо сразу же уехал в Москву хлопотать о восстановлении… В июне 1941-го пришел в военкомат, но в действующую армию его не взяли – 49 лет и порок сердца. А в ополчение взяли, уже в конце сентября, когда блокада стала свершившимся фактом, и он успел еще повоевать на Пулковских высотах, но в январе 1942-го был комиссован вчистую – опухший от голода, полумертвый, с останавливающимся сердцем…»
Полдень. По этой-то графе всегда и проходили братья Стругацкие, дескать, сначала – утописты, а потом, как у них (вместе со всем советским обществом) стали открываться глаза, – антиутописты. Сначала – «Полдень. ХХII век», а уж потом – «Хищные вещи века», «Улитка на склоне», Управление, Лес; «Хромая судьба» с задержанным потопом. Хляби небесные разверзлись, а потопа все нет и нет. Вместо потопа – вечный дождь!
Вроде бы и сам Борис Стругацкий готов согласиться с такой схемой. По крайней мере, иначе он не пересказал бы план несостоявшегося романа, последнего романа братьев Стругацких. В этом плане – жесточайший расчет с утопическим мышлением, насмешливое и очень больное расставание с миром Полдня. План настолько хорош, что его стоит процитировать. В скобках замечу, что, судя по тем наброскам, которые приводит Борис Стругацкий, многие планы Аркадия и Бориса оказались не воплощены попросту потому, что уже были воплощены. Они в качестве планов и набросков уже представляли собой некое художественное целое, вроде пересказанных Борхесом выдуманных им же романов. К этому законченному художественному целому просто нечего было подставлять, приставлять. Монада. Клетка. Вот как этот, например, план: «Внешний круг Империи был клоакой, стоком, адом этого мира – все подонки общества стекались туда, вся пьянь, рвань, дрянь, все садисты и прирожденные убийцы… Тут было ИХ царствие… Этим кругом Империя ощетинивалась против всей прочей ойкумены, держала оборону и наносила удары.
Средний круг населялся людьми обыкновенными, ни в чем не чрезмерными, такими же, как мы с вами, – чуть похуже, чуть получше, еще далеко не ангелами, но уже и не бесами. А в центре царил Мир Справедливости. «Полдень, ХХII век». Теплый, приветливый, безопасный мир духа, творчества и свободы… Каждый рожденный в Империи неизбежно оказывался в «своем» круге. Ад, Чистилище и Рай. Классика.
Максим Каммерер, пройдя все круги и добравшись до центра, расспрашивает высокопоставленного и высоколобого аборигена и слышит вдруг вежливый вопрос: «А что, у вас разве мир устроен иначе?». Максим начинает говорить о высокой Теории воспитания, о тщательной кропотливой работе над каждой дитячьей душой…
Абориген слушает, улыбается, кивает, а потом замечает вскользь: «Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали. Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал – до вас и без вас, – а вы не догадываетесь об этом…»
Ради этой фразы Стругацкие и собирались написать этот роман. Дескать, прощание с миром утопии, эпитафия. Приговор. Но не все так просто в этой эволюции. Эти прощание – эпитафия – приговор содержались уже в самой первой книге из утопического цикла братьев Стругацких. Должны были содержаться. В наметках к первому роману из этого цикла «Возвращение. (Полдень, ХХII век)» значится: «Хорошо бы ввести в “Возвращение” маленькие рассказики из нынешней жизни – для контраста и настроения – à la Хемингуэй или Дос Пассос. Не позволят, наверное. (Блокада, война – Сталинград, военный коммунизм, 37-й год, смерть Сталина, целина, запуск спутника и ракеты…)».
Ведь это и получался бы тот внешний круг Империи Полдня, царства разума, творчества и справедливости, которыми она ощетинивалась против враждебного «извне». Только расположен он был не в пространстве, а во времени.
На самом деле. На самом деле эта история свидетельствует: братья Стругацкие так же мало проходят по утопическому ведомству, как и по антиутопическому, – что-то иное, не менее важное, чем утопия или антиутопия, было в их прозе. Борис Стругацкий в «Комментариях…» делает удивительное признание: «В повести “Извне” герои АБС впервые обретают прототипов. АН описывает своих друзей однополчан, БН – начальника Пенджикентской археологической экспедиции… Прототипы себя не узнали. Впрочем, это, видимо, свойство всех (за малым исключением) прототипов: они не способны узнать себя в литературных героях, как редкий человек умеет узнавать свой голос, записанный на магнитофон».
Это – не так. Человек узнает свой голос, записанный на магнитофон. Просто этот голос человеку, как правило, не нравится. Так и узнавание себя в литературных героях – мало кому нравится свое отражение в литературном зеркале. Просто интеллигентный человек редко сообщит писателю: за что ж ты меня так… изобразил? Останется наедине со своей болью узнавания.
Однако признание удивительно не этим. В связи с этим признанием вдруг понимаешь, соображаешь, что вся совокупная проза братьев Стругацких – какое-то удивительное зеркало позднесоветской жизни. Поразительно точное, чуть ли не лирическое, чуть ли не дневниковое. Обломки и осколки действительности вклеиваются в выдуманный, нарисованный мир – тем они становятся действительнее, острее, осколочнее.
Борис пишет о том, как они вместе с братом писали повесть «За миллиард лет до конца света», и внимательному читателю становится понятно, почему именно эта повесть привлекла внимание гениального пессимиста – кинорежиссера Александра Сокурова, какую надрывную, едва ли не чеховскую, тоску он расслышал в этом гротескном повествовании про талантливых людей, которым некая неясная, но напористая сила не дает совершить то или иное открытие. Не дает, попросту говоря, осуществиться.
На все времена. Пожалуй, так оно и есть. Самая аллюзионная из всех вещей братьев Стругацких – повесть «За миллиард лет до конца света» оказалась «повестью на все времена». Почему талантливому человеку не дано осуществиться до конца, до донца, до гордой уверенности в себе, в своем деле? Тогда в подтексте были – бытовая советская неустроенность, гэбуха, закрытость общества; теперь – российская бытовая неустроенность… ладно, остальное подставьте сами, чтобы мне не казаться таким уж беспросветным нытиком…
Остальное подставил сам Борис Стругацкий, то бишь С. Витицкий, в своем новом романе «Бессильные мира сего». Среди многих и многих пессимистических и таинственных книг современной российской прозы эта выделяется особенным и вовсе (на мой взгляд и вкус) беспросветным тоном. Пересказывать этот детектив без разгадки, этот литературный «кубик Рубика», который каждый может вертеть и складывать в меру своих способностей, возможностей и изощренности, – я не возьмусь.
Когда-то Александр Грин сердился, лишь только слышал, что его роман о летающем человеке называют «фантастическим»: «Это же символический роман, символический, а не фантастический!» – говорил он. Но, кажется, никто и не рискнет назвать «Бессильных мира сего» – фантастическим романом. Уж очень этот роман печален. Уж больно сильно в нем ощущение потерянности и растерянности того, кого привыкли считать сильным и мудрым Учителем, сэнсеем, а он бы хотел снова оказаться учеником, снова поучиться, поскольку мало что может понять, мало чему и кому может помочь в бесповоротно изменившемся мире. Бессмысленно пересказывать остросюжетную прозу, особенно такую, как проза С. Витицкого, – эдакую загадку без разгадки, детектив, из которого выброшены все объяснения под занавес.
Читатель сам может подставить те или иные решения задачи. А может и не подставлять, поскольку роман С. Витицкого (повторюсь) не детективный и не фантастический, а – символический, аллегорический, что ли? Каждый найдет в этой аллегории что-то свое, раздражающее или, наоборот, сочувственное. Мне, например, показалось, будто я читаю фантастически преобразованную историю взаимоотношений диссидента Михаила Гефтера и нынешнего политического имиджмейкера Глеба Павловского; учителя, воспитавшего какого-то не того ученика (а какого того ученика может воспитать настоящий учитель?).
Конечно, символична та жутковатая девочка, которую подсовывают Учителю, сэнсею, Стэну Аркадьевичу, в качестве ученицы. Образ времени, изменившегося настолько, что уж и вовсе не хочется с ним иметь дело… Конечно, символичны и все прочие ученики сэнсея, в особенности Вадим Данилович Христофоров, которого заставляют… мм… не самыми лучшими методами не просто предвидеть, но формировать будущее, и Григорий Петелин, умеющий убивать своей ненавистью.
Что-то творимое и деланное с великим тщанием изменилось до неузнаваемости или исчезло, аннигилировалось, а то, что выросло помимо, обочь, пробилось самосевом настолько чуждо, враждебно… да в общем-то и не враждебно, а непонятно, что глаза бы в эту сторону не глядели, – вот главная тема этого очень питерского текста.
Раздражение. Одним из учеников Стругацких был и остается питерский фантаст Вячеслав Рыбаков. По крайней мере, именно его письмо цитирует Борис Стругацкий в числе дорогих для него откликов на утопическую «Далекую Радугу»: «письмо от ученика 4-го класса Славы Рыбакова, который был очень недоволен тем, что в повести “Далекая Радуга” все гибнут, и предлагал свой вариант концовки: “Припишите что-то вроде: …вдруг в небе послышался грохот. У горизонта показалась черная точка. Она быстро неслась по небосводу и принимала все более ясные очертания. Это была “Стрела”. Вам лучше знать. Пишите, пожалуйста, побольше”».
Хорошие антиутопии пишут утописты. Те, кто знает силу и справедливость мечты о справедливом, свободном, счастливом обществе. Антиутопия Вячеслава Рыбаков «На будущий год в Москве» а проходит вроде бы по другому разряду. Антирыночная, антиглобалистская, антиамериканская, уж очень много «анти…», надо бы какое-нибудь «про…» – неужто «прокоммунистическая»? Оно конечно, ужасы уничтоженной в хлам сверхдержавы тщательно описаны Рыбаковым: Россия распалась на сотни мелких государств; чтобы из одного российского города попасть в другой, нужна виза. Фундаментальные научные исследования свернуты. Советские фильмы запрещены, и за их просмотр школьников могут и из школы попереть. Бррр.
Вячеслав Рыбаков своей антиутопией словно бы нарывается на то, чтобы вызвать у меня и таких, как я – демократов и космополитов, – стойкую неприязнь и отторжение. Что за ужасы он нам живописует в распавшейся на отдельные государства России: в Петербурге – сейм, в Москве – меджлис; из одного города в другой не добраться без визы и подорожной? Недавно только беседовал с бухгалтершей ЖЭКа поселка Пудомяги Гатчинского района, воротившейся из круиза по Скандинавии.
Что он мне рассказывает про то, как главный (удачливый) редактор Дарт растолковывает идеалисту, талантливому неудачнику и психопату Леке (Алексею) Небошлёпову про вредную русофилию и про необходимость порушить, к чертовой матушке, расейский православно-империалистический менталитет? Это сейчас-то? Когда в цене всевозможная патриотика и империалистика, по экранам всей страны громыхает экранизация Пикуля и уж если и возьмется главред объяснять журналисту ошибки, то отнюдь не патриотические!
Признаться, на этой-то сцене я и споткнулся. Поразило точное попадание в странное такое чувство журналиста – да вообще интеллигента – на переломе времен, когда тебе объясняют что-то, с чем ты не согласен, а возразить ты не можешь, поскольку еще до начала спора ты уже сам себе начал возражать, поскольку столько раз за прошедшие времена видел тезис, превратившийся в антитезис, что смалчиваешь, киваешь, слушаешь дальше. Например, про порушенную постперестройкой православную цивилизацию России.
Как раз в этот момент я понял, как следует отнестись к читаемому мной тексту. Нужно просто перевернуть ситуацию. Вячеслав Рыбаков, разумеется, идентифицирует себя с бедолагой и неудачником Лекой Небошлёповым, которому победительно растолковывают победители, как жить и что писать, но в нем самом, в авторе текста, создателе мира, в котором он – бог, если и проявляющий слабость, то только для того, чтобы потом с лихвой наверстать упущенное, в нем-то – гораздо больше от уверенного в себе западника Джона Дарта, чем от идеолога православной цивилизации Небошлёпова. Идеология, она ведь не слишком важна даже в идеологических, даже в политизированных художественных произведениях.
А что важно? Важно – удивительное такое ощущение: победа не принесла ничего, что напоминало бы победу. Мир изменился, но вовсе не так, как хотелось бы, чтобы он изменился. Похеренными и забытыми оказались те вещи, которые не след было забывать, а вспомнили, приобрели или сохранили что-то, в лучшем случае необязательное к употреблению.
Я верю разочарованным. Мрачный SOS должен быть выслушан, даже если не из близких уст раздается. Да, да, к разочарованным стоит прислушаться, особенно когда ярость и обида сменяются у них тихим таким недоумением, дескать, да что же это такое, братцы, а? Что же вы это такое делаете? И как же это вам не стыдно?
«Если бы сейчас к ним пришел кто-то и сказал: послушайте, Вы будете получать те же ставки, те же гранты, те же бабки немереные: вы ничего не проиграете ни в материальном смысле, ни в смысле положения в обществе – но займитесь, пожалуйста, реальным делом: чтобы шестеренки крутились, чтобы хоть раз в год скакали, фиксируя ваш долгожданный выстраданный успех, стрелки на приборах… Неужели не хотите? Ведь интересно же, увлекательно, здорово! Они бы его загрызли».
Этот недоуменный вопрос Рыбаков задает еще раз под занавес. «И ведь это не американцы какие-нибудь, – думал Лека, пристально вглядываясь в простое и совсем не злое, губастое лицо пограничника. – Не захватчики немецко-фашистские из гестапо – нет. Свои же пареньки с Валдая оклад отрабатывают. А что им делать, если нет никакой иной работы и кормиться нечем? А если бы им платили исключительно за доброту и честность? За тягу к знаниям? Ох, представляю, как они кляли бы власть за издевательство над человеческой природой и нарушение прав человека!» Даже добавленные (для смягчения удара) два предложения: «А может, не кляли бы? Кто и когда у нас это пробовал?» – не изменяют общий недоуменный тон: да что же это такое, а? Почему наша земля с такой готовностью рождает конвойных овчарок и заливистых жуликов?
Начинается повесть с демонстрации во всей красе такой вот «конвойной овчарки», завучихи по прозвищу Обся Руся, выслеживающей, кто из школьников смотрит запрещенные фильмы. Тут идеологическая фальшь крепко-накрепко соединена с житейской правдой. Я ни за что не поверю, чтобы комиссия ОБСЕ устанавливала в школах разгромленной в пух и прах России пост наблюдателя, искореняющего какую бы то ни было крамолу. Здесь Рыбаков меряет Запад нашими мерками. К сожалению.
Но то, что здесь, у нас, на запретительскую должность с величайшей готовностью выныривают всевозможные Русланы Викторовны и Русланы Викторовичи, – это печальная правда. Тут уж никуда не деться. Запрет ведь может быть любой. Вместо «Доживем до понедельника», «Ивана Васильевича…» и «Тихих зорь» – «Великолепная семерка», «Мистер Питкин в тылу врага» и «Римские каникулы» – и та же самая Руслана Викторовна, завуч и наблюдатель Совета по Обеззападниванию, по прозвищу, скажем, Руся Обзя, будет громыхать в классе: кто – трам-та-рарам – смотрел жуткую американо-английскую гадость, прославляющую чуждые русскому православному сознанию индивидуалистические ценности?
Вследствие чего чудак, интеллигент, психопат и неудачник опять понурится под тяжестью чужой жизни и чужих дел, рухнувших на его плечи: «Елки-моталки! Да того ли я хотел? Почему же опять не получилось? Опять мне объясняют, как надо, а я знаю, что так не надо, но объяснить, доказать не могу. Почему? Почему?»
Чужая жизнь. Пожалуй, этот невыговоренный вопрос так же важен, как и тихая исповедь главного героя романа Леки Небошлёпова. (Хорошая фамилия – Небошлёпов. Многозначная. Можно так: прошлепал ты свое небо, Небошлёпов! А можно и так: только ребенок, подросток, губошлеп может мечтать о небе… но это ведь и прекрасно, когда до седых волос, на пятом десятке – а все мечтает. И о небе, заметьте, мечтает…) Тихая исповедь под стук вагонных колес в плацкартном бессонном – до Москвы из Питера, рассказ отца сыну, почему ж он в течение пяти лет так к ним с мамой и не зашел, не заглянул, спрятал только на антресолях видеокассеты с советскими фильмами – и адью! – замечательный эпизод во всей повести.
Что-то в сложившейся реальности, несмотря на все победы и одоления – вторую Нобелевку вручают, весь Венецианский фестиваль обрыдался, глядючи «Возвращение», на хит-парадах блистаем, «иномарок» на улицах невпроворот, – все же не то и не так, почему и вслушиваешься с сочувственным пониманием в тихое нытье Леки Небошлёпова под стук вагонных колес в самое ухо сыну: «Жизнь подчас утомительная штука, особенно… навязанная. Будто она чужая совсем, не та, которой ты ждал… хотел. Есть усталость, которая уже не проходит».
Разумеется, здесь-то и хочется встрять читателю, стоящему на другой идеологической платформе, в разговор выдуманных папы и сына: «Так в этом-то все и дело! Это же не по-божески и не по-человечески, если вся твоя жизнь будет той, какой ты хотел, чтобы она была. Волей-неволей тебе придется считаться с той жизнью, в какую ты попал. Не совсем в свою – ну что ж поделаешь. Совсем не в свою – бывает».
Но Лека продолжает тихонько объяснять сыну про себя и про свою жизнь, становится совсем интересно, как будто не плакатную антиутопию читаешь, а что-то совсем лирическое, чуть ли не бесстыжее в странной такой, безжалостной откровенности: «День за днем просыпаешься по утрам и знаешь, что у тебя впереди очень много дел – но ни одного из этих дел тебе не хочется делать. Они не твои. Ты не сам себе их придумал и выбрал. А те дела, которые тебе хотелось бы делать, о которых ты мечтал, которые для тебя естественны, – не существуют. И вот ты день за днем просыпаешься усталым… Понял?»
Взлёт. «Плохих людей нет» – древняя, плодотворная и опасная мечта всех утопистов. Нету плохих людей, а есть плохие обстоятельства этой самой эмпирической… Измените эти обстоятельства! Усилием воли, разума, неожиданным поступком измените – и самые разные люди захотят не жратвы и разных прочих животных удовольствий, а… «взлета».
Рыбаков потому и собирает авантюрным сюжетом вокруг ученого Обиванкина такую разношерстную компанию: Лэй – школьный хулиган, Лека – неудачник-журналист, Гнат Соляк – наемник, что изо всех сил стремится доказать: всем людям свойственно доброе, высокое, авантюрное, божественное.
Развязка повести вполне символична. Литературно символична. В Луна-парке среди всевозможных аттракционов стоит старая ракета; приделать к ней антигравитатор – полетит! По-настоящему полетит. Как когда-то братья Стругацкие назвали свою повесть «Попытка к бегству» и тем маркировали, означили не столько сюжет повести, сколько собственный рывок за пределы прекраснодушной, оптимистической и скучной советской фантастики, так и теперь Рыбаков маркирует, обозначает собственную литературную задачу: вокруг сплошь развлекательные аппараты, поскольку литература превратилась в аттракцион и развеселую игрушку, а ведь пыталась когда-то взлететь… Вот и я сейчас из Луна-парка современной беллетристики попытаюсь на Луну или там – на Сатурн?
Вообще-то можно и так проинтерпретировать полет в космос из Луна-парка на старенькой ракете, превращенной в аттракцион, в игрушку: «Это что же вы на вот эдакой допотопной, архаичной идеологии собираетесь в космос рвануть? Да… это же просто смешно, нелепо; мир этот ушел и никогда не возвратится для вас – к сожалению, для других – к счастью, а вы все еще на что-то рассчитываете?»
«Вдруг он и впрямь взлетит? Да я же хочу этого, понял Гнат. Я этого хочу! Обиванкин, едва не взмолился он вслух, ну пожалуйста! Ну давай, старый хрыч! Давай! Вместе полетим! “А куда вы хотите лететь?” – тихонько спросил Лэй. “Не знаю, – безжизненно сказал Обиванкин. – Даже не задумывался. Просто очень хотелось… взлететь”».
Вячеслав Рыбаков и Тонио Бенквиста. А вот стоило бы сравнить триллер европейского писателя и антиутопию писателя российского: «Охоту на зайца» Тонио Бенаквисты и «На будущий год в Москве» Рыбакова. И там, и там главные действующие лица – «обедневшие идальго», интеллигенты, почти скатившиеся на дно. У Бенаквисты – проводник, у Вячеслава Рыбакова – нищий, полубезработный журналист. Тот и другой в самом деле идальго: тонкость, повышенная эмоциональность, образованность, впечатлительность на грани невропатии и одновременно – непоказное мужество; надежность, кажущаяся совершенно неуместной в таком… психе.
Потому и обращаются за помощью к этим психам люди, попавшие в настоящую беду, что верным инстинктом преследуемых понимают: эти (по слабости характера) не откажут в помощи, но уж зато, согласившись, вмиг забудут про всякую свою слабость (и тела, и характера), чтобы помогать до конца, до упора. При таких очевидных и ярких совпадениях какова разница!
У Вячеслава Рыбакова семейная драма его Леки, судьба этого его героического психа «вписана» в российскую историю, чуть ли не символизирует эту самую историю. Мол, вот как у Леки семейная жизнь пошла наперекосяк, так и Россия свернула со стези-то своей. А все почему? Все из-за чрезмерной интеллигентности, мягкости, привычки считать себя хуже других. Вот бы шарахнуть по столу кулаком: я – царь или не царь? великая я держава или не великая держава? Лека и судьбы российской цивилизации – ни больше, ни меньше.
У Тонио Бенаквисты – ровно наоборот. Гимн партикуляризму, частной обособленной жизни. Его проводник, Антуан, не потому помогает влипшему в серьезные неприятности пассажиру, Жан-Шарлю Латуру, что хочет спасти человечество. (Все ж таки Латур этот – живой мешок с потенциальной вакциной от СПИДа. У него кровь вырабатывает какие-то антиспидовские вещества. Вот и охотятся за ним все, кому не лень заработать на анти-СПИДе.). Антуан этот самый просто помогает. Ну как в песне у Высоцкого поется: «А мне плевать! Мне очень хочется». И вот это «просто помогает» – так же обаятельно, как и «просто хотелось взлететь» старого ученого Обиванкина в романе у Рыбакова. В этом «просто» есть высокое человеческое своеволие. Настоящая свобода. Не та, что – «осознанная необходимость», а вот, понимаете ли, «осознанная», но нипочем не принятая, отвергнутая. Может быть, поэтому и сюжетные ситуации в «Охоте на зайца» и рыбаковской антиутопии оказываются так схожи: и там, и здесь через все границы, преодолевая все препоны, некий героический неврастеник волочит человека, навязавшегося ему в опасные попутчики.
А что сделаешь? Мы в ответе за тех, кто попросил нас помочь перейти через границу. Ситуация – прототипическая. Мир становится настолько прозрачен, что из страны в страну можно проскользнуть «зайцем». Вячеслав Рыбаков описывает ужасы распавшейся на отдельные независимые государства России, но переход через госграницу описан у него в точности как переход через госграницу у Бенаквисты – как лихая проделка железнодорожных безбилетников…
Герой триллера. Что итальянец, пишущий по-французски (Тонио Бенаквиста), что наш китаист, пишущий утопии и антиутопии, – настоящие авторы триллеров. В них есть особенный, странный какой-то, метафизический юмор. В этот юмор не сразу въедешь, не сразу врубишься, как не сразу врубишься в милые особенности их любимых героев – мужественных неврастеников, истериков, на которых можно положиться. Для триллера как раз и необходим такой именно герой. Это для боевика необходим супермен. В триллере требуются чувствительность и впечатлительность, едва ли не женские, интеллигентная истерика по пустякам, в миг опасности сменяющиеся мужеством и находчивостью. Если можно так выразиться – настоящий герой триллера должен соединить в себе авантюризм Фигаро и тонкую восприимчивость персонажа Марселя Пруста.
Таким именно и оказывается проводник Антуан у Бенаквисты. Он способен просмаковать каждый миг, каждый момент своей жизни, горький или сладкий – не так важно. Из секунды подаренного ему на время бытия он может выжать максимум впечатлений – будь то посадка пассажиров или мелькнувшая за окном материковая часть Венеции, Венеция-Мэстре. Кажется, что подобное соединение должно было бы взорвать приключенческий жанр, ан нет! Держит покрепче цемента.
Обыкновенное чудо. Означенный демократизм парадоксально, но тем более убедительно проявляется во втором триллере Бенаквисты, помещенном в том же «амфоровском» сборнике, – в «Комедии ошибок». Тайное чудо – вот что описывается в этом романе. Ни больше, ни меньше! Чудо, спрятавшееся за мошенничество, а не наоборот. Некий жулик Антонио Польсинелли «организует» несгораемость статуи святого Анжелло и прозрение слепого Марчелло. И никто (за исключением читателей, да и то внимательных) не замечает, что за бутафорским, театральным, декорационным чудом скрывается чудо настоящее, даже целая серия настоящих чудес. Внимательный читатель замечает, что святой наказывает жулика Антонио за жульничество, но вознаграждает за верность другу.
У Бенаквисты это вообще любимая тема. Сформулируем так: непростые взаимоотношения между явлением и сущностью. Хам – железнодорожный проводник оказывается у него героем, бескорыстно помогающим попавшему в беду пассажиру. Жиголо, альфонс, живущий на содержании шестидесятилетней любовницы, по-настоящему влюбляется в нее; жулик, дурящий верующих, в самом деле вызывает чудо… себе на голову. Бенаквиста – настоящий мистик, истинный верующий, и как таковой он точно знает: настоящее чудо – незаметно. Чем громогласнее чудо, тем больше в нем декорационности, сделанности, ненастоящести. Истинное чудо прячется где-то поблизости, за декорацией сделанного, срежиссированного спектакля.
Нигде я не сталкивался с таким двойным литературным сальто, с таким плавным переходом от антирелигиозной агитки, вроде старого советского фильма «Праздник святого Йоргена», к чуть ироничной, но мистической, религиозной прозе.
Бенаквиста намекает в самом начале своей повести, что именно этот «поворот винта» он и собирается выполнить, когда описывает любовь молодого итальянского жиголо и шестидесятилетней француженки: мол, дорогой читатель, ты что думал: он за деньги, а она похоть удовлетворяет? Они же и впрямь – любили друг друга. Так что читатель уже подготовлен к тому, чтобы заметить, как Антонио Польсинелли, исполняя волю своего погибшего друга, сначала прокручивает гешефт с неопалимым Сант Анжелло, потом получает все причитающееся за кощунство и сломя голову бежит прочь, не успев заметить, что чудо-то произошло.
Желание взлететь
…письмо от ученика 4-го класса Славы Рыбакова, который был очень недоволен тем, что в повести «Далекая радуга» все гибнут, и предлагал свой вариант концовки: «Припишите что-то вроде: <…> вдруг в небе послышался грохот. У горизонта показалась черная точка. Она быстро неслась по небосводу и принимала все более ясные очертания. Это была “Стрела”. Вам лучше знать. Пишите, пожалуйста, побольше».
Борис Стругацкий. «Комментарий к пройденному»Просто очень хотелось… взлететь.
Вячеслав Рыбаков. «На будущий год в Москве»Раздражение. Прежде всего и поверх всего – раздражение. Повторю его дословно, ибо уж больно оно, это раздражение, сильно. Вячеслав Рыбаков своей антиутопией словно бы нарывается на то, чтобы вызвать у меня и таких, как я – демократов и космополитов, – стойкую неприязнь и отторжение. Что за ужасы он нам живописует в распавшейся на отдельные государства России: в Петербурге – сейм, в Москве – меджлис; из одного города в другой не добраться без визы и подорожной? Вечор только беседовал с бухгалтершей ЖЭКа поселка Пудомяги Гатчинского района, воротившейся из круиза по Скандинавии.
Что он мне рассказывает про то, как главный (удачливый) редактор Дарт растолковывает идеалисту, талантливому неудачнику и психопату Леке (Алексею) Небошлёпову про вредную русофилию и про необходимость порушить к чертовой матушке расейский православно-империалистический менталитет? Это сейчас-то? Когда в цене всевозможная патриотика и империалистика, по экранам всей страны громыхает экранизация Пикуля и уж если и возьмется главред объяснять журналисту ошибки, то отнюдь не патриотические!
Признаться, на этой-то сцене я и споткнулся. Поразило точное попадание в странное такое чувство журналиста? да вообще интеллигента? на переломе времен, когда тебе объясняют что-то, с чем ты не согласен, а возразить ты не можешь, поскольку еще до начала спора ты уже сам себе начал возражать, поскольку столько раз за прошедшие времена видел тезис, превратившийся в антитезис, что смалчиваешь, киваешь, слушаешь дальше. Например, про порушенную постперестройкой православную цивилизацию России.
Тут-то я и сообразил, как следует подходить к антиутопии Вячеслава Рыбакова, названной вызывающе и провоцирующе – «На будущий год в Москве»: дескать, погубили наше государство, наше общество, но ничего, ничего, мы не теряем надежды: «На будущий год в Москве!» Так ведь и евреи говорят во время Пасхи: «На будущий год в Иерусалиме!» Сколько веков так говорили – и вот!
Для тех, кто не понимает, Рыбаков устами своего эпизодического героя, еврейского мальчика Натана, растолковывает: «Это фраза такая. Про Ерушалаим. Там же в первом веке чумовая заваруха была, римляки всех растрясли налево-направо, получилось рассеяние. Я вообще-то пацан не кошерный… эрудицией не угнетен и до тонкостей тебе все это не перетру – но дед, помню, грузил, что если о чем-нибудь просишь Бога, эту фразу как бы надо в молитвы вставлять. И обязательно во время пасхальной трапезы, что ли… Типа – вот надеемся, что уже в будущем году мы с вами вернемся в Иерусалим и отстроим его заново…»
Мальчик этот, Натан, хоть и эпизодичен, но для сюжета и идеологии повести очень важен. Он не побоялся признаться, что смотрел вместе со своим другом запрещенные советские фильмы: «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию» и «А зори здесь тихие…». Надобно сказать, что в этом месте злость и раздражение против автора антиутопии у меня достигли крещендо. Подобно тому, как Набоков не мог представить себе российского общества, в котором цензура пропустит «Лолиту», так я не могу себе, по крайней мере, в обозримом геополитическом, идеологическом, социально-психологическом пространстве представить себе ситуацию запрета всех этих фильмов. Может, я ошибаюсь?
Удалось же Рыбакову передать мое собственное ощущение, столько раз возникавшее во время споров: тебе втюхивают не твое, чужое, но ты в силу каких-то удивительных причин – может, собственного безволия? недостатка уверенности в себе? – непокорно киваешь: «Наверное, вы правы…» Ну там, скажем: «Вся эта литература умерла и умрет, никому она не нужна. Будет в российских семьях так же, как в нормальной английской семье: три книги – Библия, календарь, альбом с фотографиями королевской семьи».
Сидишь и слушаешь, даже и возражать не хочется насчет того, а куда ж мне тогда деваться? На свалку истории? Или переквалифицироваться в управдомы, в диджеи то бишь? «В молодости Дарт совсем не умел говорить. Его мог переспорить любой. А сейчас… Ого-го! Он не знал, что как раз в этот момент Лека подумал: тот, кто спорит, чтобы навязать свои взгляды, всегда переспорит того, кто старается добраться до истины».
Как раз в этот момент я понял, как следует отнестись к читаемому мной тексту. Нужно просто перевернуть ситуацию. Вячеслав Рыбаков, разумеется, идентифицирует себя с бедолагой и неудачником, Лекой Небошлёповым, которому победительно растолковывают победители, как жить и что писать, но в нем самом, в авторе текста, создателе мира, в котором он – бог, если и проявляющий слабость, то только для того, чтобы потом с лихвой наверстать упущенное, в нем-то – гораздо больше от уверенного в себе западника Джона Дарта, чем от идеолога православной цивилизации Небошлепова. Идеология – она ведь не слишком важна даже в идеологических, даже в политизированных художественных произведениях.
А что важно? Важно – удивительное такое ощущение: победа не принесла ничего, что напоминало бы победу. Мир изменился, но вовсе не так, как хотелось бы, чтобы он изменился. Похеренными и забытыми оказались те вещи, которые не след было забывать, а вспомнили, приобрели или сохранили что-то в лучшем случае… необязательное к употреблению.
«Отдел юмора. Толковый словарь, так. “Верный муж – домосексуалист. Советские рабочие, вставшие на предсъездовскую трудовую вахту – авралопитеки”. Хороший юмор, подумал Обиванкин, интеллигентный. Специально для нас, стариков, – молодым и неведомы подобные термины. Знает ли остряк, испытывал ли он хоть раз в своей комариной жизни это счастье не спать ночами, думать, думать, всем нутром своим, всеми кишками жаждать придумать и сделать лучше и скорее, лучше и раньше, лучше всех и раньше всех – и наконец прорвать паутину, в которой квело барахталась мысль, ощутить подлинную свободу, головокружительную, опаляющую, которую никто не может тебе дать и у тебя отнять, только ты сам: свободу понять, и сделать, и взлететь…»
Самое главное для всей повести рыбаковской слово – «взлететь», но не о нем сейчас речь. Речь об ощущении какой-то уж очень крупной неудачи посреди сплошных удач. Кто-то скуксится и назовет это «тоской по совдепу» – наверное, будет прав. Кто-то бодро улыбнется и растолкует, что иначе и быть не могло, поскольку воплощение любого идеального проекта связано с великими потерями и проторями; что чего, собственно, и стоило ждать от коренного социального перелома? от всеобъемлющей реформы? Еще хорошо, что так обошлось!
Но я верю разочарованным. Мрачный SOS должен быть выслушан, даже если не из близких уст раздается. Да, да, к разочарованным стоит прислушаться, особенно когда ярость и обида сменяются у них тихим таким недоумением, дескать, да что же это такое, братцы, а? Что же вы это такое делаете? И как же это вам не стыдно?
«Если бы сейчас к ним пришел кто-то и сказал: послушайте, вы будете получать те же ставки, те же гранты, те же бабки немеряные: вы ничего не проиграете ни в материальном смысле, ни в смысле положения в обществе – но займитесь, пожалуйста, реальным делом: чтобы шестеренки крутились, чтобы хоть раз в год скакали, фиксируя ваш долгожданный выстраданный успех, стрелки на приборах… Неужели не хотите? Ведь интересно же, увлекательно, здорово! Они бы его загрызли».
Этот недоуменный вопрос Рыбаков задает еще раз под занавес. «И ведь это не американцы какие-нибудь, – думал Лека, пристально вглядываясь в простое и совсем не злое, губастое лицо пограничника, – не захватчики немецко-фашистские из гестапо – нет. Свои же пареньки с Валдая оклад отрабатывают. А что им делать, если нет никакой иной работы и кормиться нечем? А если бы им платили исключительно за доброту и честность? За тягу к знаниям? Ох, представляю, как они кляли бы власть за издевательство над человеческой природой и нарушение прав человека!» Даже добавленные (для смягчения удара) два предложения: «А может, не кляли бы? Кто и когда у нас это пробовал?» – не изменяют общий недоуменный тон: да что же это такое, а? Почему наша земля с такой готовностью рождает конвойных овчарок и заливистых жуликов?
Начинается повесть с демонстрации во всей красе такой вот «конвойной овчарки», завучихи по прозвищу Обся Руся, выслеживающей, кто из школьников смотрит запрещенные фильмы. Тут идеологическая фальшь крепко-накрепко соединена с житейской правдой. Я ни за что не поверю, чтобы комиссия ОБСЕ устанавливала в школах разгромленной в пух и прах России пост наблюдателя, искореняющего какую бы то ни было крамолу. Здесь Рыбаков меряет Запад нашими мерками. К сожалению.
Но то, что здесь, у нас, на запретительскую должность с величайшей готовностью выныривают всевозможные Русланы Викторовны и Русланы Викторовичи – это печальная правда. Тут уж никуда не деться. Запрет ведь может быть любой. Вместо «Доживем до понедельника», «Ивана Васильевича…» и «Тихих зорь» – «Великолепная семерка», «Мистер Питкин в тылу врага» и «Римские каникулы» – и та же самая Руслана Викторовна, завуч и наблюдатель Совета по Обеззападниванию, по прозвищу, скажем, Руся Обзя, будет громыхать в классе: кто – трам-та-ра-рам – смотрел жуткую американо-английскую гадость, прославляющую чуждые русскому православному сознанию индивидуалистические ценности?
Вследствие чего чудак, интеллигент, психопат и неудачник опять понурится под тяжестью чужой жизни и чужих дел, рухнувших на его плечи: «Елки-моталки! Да того ли я хотел? Почему же опять не получилось? Опять мне объясняют, как надо, а я знаю, что так не надо, но объяснить, доказать не могу. Почему? Почему?»
Чужая жизнь. Пожалуй, этот невыговоренный вопрос так же важен, как и тихая исповедь главного героя романа Леки Небошлепова. (Хорошая фамилия – Небошлёпов. Многозначная. Можно так: прошлепал ты свое небо, Небошлёпов! А можно и так: только ребенок, подросток, губошлеп может мечтать о небе… но это ведь и прекрасно, когда до седых волос, на пятом десятке – а все мечтает. И о небе, заметьте, мечтает…)
Тихая исповедь под стук вагонных колес в плацкартном бессонном – до Москвы из Питера, рассказ отца сыну, почему ж он в течение пяти лет так к ним с мамой и не зашел, не заглянул, спрятал только на антресолях видеокассеты с советскими фильмами – и адью! – замечательный эпизод во всей повести.
Ситуация, что и говорить, сильно снижающая обаяние Леки, но хороший писатель – на то и хороший писатель, чтобы не бояться снижать обаяние своих любимых героев. Ставить их под удар. В самом деле, Академию наук уничтожили, в школьных буфетах пиво продают, растлевающие фильмы показывают, советские фильмы запрещают, между городами России пограничные кордоны устанавливают – ну ладно, это все зловредные западные фонды и недумающие либералы учиняют, чтобы уничтожить мощь православной цивилизации, но какой западный фонд и какие проплаты делает, чтобы тонкий и нервный, вдумчивый и добрый Лека Небошлёпов в течение пяти лет не видел своего сына?
Никаких виз не нужно. Сел на трамвай, на метро, на старенькую свою машинку и приехал. Нет, не едет. Без всякой помощи западных фондов не едет. Обычная российская психопатия – боязнь дотронуться до «больного предмета»… А вдруг ей, ему, им будет так же тяжело, как и мне? Вдруг я своим приездом чего-то там разбережу? Да и времени нет – статью надо писать. Не поеду.
Самое удивительное, что Рыбакову не просто удается вызвать к этому психопату симпатию – это-то понятно: слабых всегда жалеешь. Самое удивительное, что симпатия эта не исчезает, когда слабый становится сильным. Когда бывший спецназовец и опытный киллер «почти без издевки» спрашивает у очкарика: «Что дальше, командир?» – в это веришь.
Так ведь это – одна из назойливых тем фантастики 60-х, откуда родом Вячеслав Рыбаков. Эмпирическая реальность – хуже некуда, потому как оттеснили высоколобых от этой эмпирической… Пускай мол эти «семафоры зеленые» дальше мимо жизни едут и про космос мечтают, а ужо бучей, боевой и кипучей, поруководим мы.
Это кажется странным, это кажется противоречащим тому, что сам Рыбаков провозглашает идеологически. (Все ж таки современный Китай у него – свет в окошке и образец для подражания, а не что-нибудь другое.) Но это – идеологические одежды, не более, а основа, эмоциональная основа повести: высоколобые – опять не у дел, вот и несется жизнь вразнос.
Что-то в сложившейся реальности, несмотря на все победы и одоления – вторую Нобелевку вручают, весь Венецианский фестиваль обрыдался, глядючи «Возвращение», на хит-парадах блистаем, «иномарок» на улицах невпроворот, – все же не то и не так, почему и вслушиваешься с сочувственным пониманием в тихое нытье Леки Небошлёпова под стук вагонных колес в самое ухо сыну: «Жизнь подчас утомительная штука, особенно… навязанная. Будто она чужая совсем, не та, которой ты ждал… хотел. Есть усталость, которая уже не проходит».
Разумеется, здесь-то и хочется встрять читателю, стоящему на другой идеологической платформе, в разговор выдуманных папы и сына: «Так в этом-то все и дело! Это же не по-божески и не по-человечески, если вся твоя жизнь будет той, какой ты хотел, чтобы она была. Волей-неволей тебе придется считаться с той жизнью, в какую ты попал. Не совсем в свою – ну что ж поделаешь. Совсем не в свою – бывает».
Но Лека продолжает тихонько объяснять сыну про себя и про свою жизнь, становится совсем интересно, как будто не плакатную антиутопию читаешь, а что-то совсем лирическое, чуть ли не бесстыжее в странной такой, безжалостной откровенности:
«..День за днем просыпаешься по утрам и знаешь, что у тебя впереди очень много дел – но ни одного из этих дел тебе не хочется делать. Они не твои. Ты не сам себе их придумал и выбрал. А те дела, которые тебе хотелось бы делать, о которых ты мечтал, которые для тебя естественны, – не существуют. И вот ты день за днем просыпаешься усталым… Понял?»
Понял! Сын Леки Небошлёпова, Леонид Небошлёпов по прозвищу Лэй, не столько понял, сколько почувствовал, а читатель – понял! Читатель понял, о чем написана повесть. О гнете эмпирики, о подлой реальности, данной нам в ощущении, об осознанной или неосознанной необходимости, вынуждающей проживать не свою жизнь, заниматься не своими делами.
Совершенно неважно, в какие идеологические одежды рядится реальность, какими штампами прикрывает свое господство – патриотическими или космополитическими, – важно, что она есть. И точка. С запятой, поскольку есть люди, упорно и настойчиво пытающиеся над этой эмпирикой взлететь; есть ведь общества (Ордусь, Китай, Город Солнца, Мир Полдня ХХII века, Соединенные Штаты Америки – для кого что), где эмпирика и «идеальный проект» пригнаны ну не то чтобы совсем без швов, но с минимальным количеством оных.
До хрипоты доказывай – нет такого общества и быть не может, как не может быть «вечного двигателя» или гравилета, преодолевающего силу земного тяготения одним движением рычажка, – не поверят. Бомбисты. Экстремисты. Утописты. Герой повести, старый ученый Обиванкин, великолепно формулирует основополагающий принцип всех утопий: «Одно большое свершение решает тысячи мелких проблем. Это великая истина, Леня. Запомни ее».
И никакой опыт никаких революций – социальных, политических, научных, никакие радиации и социальные катаклизмы не отучат утопистов от хорошо запомненной истины: «Одно большое свершение решает тысячи мелких проблем!» Да тут просто слышится спокойный, с едва заметным грузинским акцентом голос: «Одно большое свершение… и из тысячи крестьянских хозяйств будет построен лайнер современной индустрии».
Причем если кто-нибудь, умудренный опытом больших свершений, поскольку хоть и маленький ишо, а вырос в стране тех самых больших, осторожно спросит: «Папа! Вот ты сказал – вместо того, что вы ждали, получилось совсем другое. Почему так получается?» – и папа (маловер, скептик и нытик) скажет «с мрачной иронией: «У-у… Это всем вопросам вопрос…» – в ту же секунду можно выдать:
«“Так получается всегда, когда не хватает уверенности и настойчивости”, – в очередной раз принявшись нервно барабанить по стеклу, вдруг бросил Обиванкин, даже не дав себе труда выяснить, о чем, собственно, речь. В Леку будто плюнули. “Спасибо, что научили уму-разуму, Иван Яковлевич”, – сказал он».
Пожалуйста… (Ах, эта дьявольская трудность писать рецензию на книгу, которая тебе пондра эстетически и психологически, и совсем не пондра идеологически. Это непреходящее ощущение объяснительной записки, которую пишешь себе же самому, мол, взамен таких-то и таких-то недостатков повесть имеет такие-то и такие-то достоинства, и тем-то она мне (извините великодушно) пондра…
Но ведь достоинства и недостатки талантливого произведения не расщепить нипочем, в нем ведь такая нераздельность-неслиянность – не разольешь по разным пробиркам. Приходится пить целиком.)
Обиванкин – самый главный герой повести Рыбакова. Идеальный герой. Лека Небошлёпов – любимый герой, едва ли не alter ego, уж слишком часто в его книгах появляется такой недотепа, небошлеп, в самый опасный момент обретающий и силу, и мужество, а Иван Обиванкин – чуть ли не образец. В условиях полного разгрома науки, распада России и прочих ужасов он, в одиночку, продолжает работы над «эффектом антигравитации», чтобы, значит, никаких жидкостных двигателей – и, стало быть, изобретает «антигравитатор».
Дело за малым – надо добраться до Луна-парка в Москве, где установлена ракетная установка «Буран» в качестве аттракциона, всобачить в нее антигравитатор… и вперед! В небо! Но до Москвы Обиванкину не добраться. Визу не дадут. И кроме того, он догадывается, что с него глаз не спускает его враг, жулик и пройдоха, подмявший под себя всю науку, – Акишин.
Обиванкин просто-запросто случайно слышит, что журналист Лека Небошлёпов едет в Москву на похороны своей родственницы, и упрашивает бедолагу Леку вписать его в свою подорожную. Лека – соглашается. По понятной, право же, причине – слабовольный, хороший человек, просят: «Впиши, а? Ну очень нужно. Для России, для мира, для… науки, ну помоги». Ну раз для мира и России…
Обиванкин. Как и всякий идеальный герой, Обиванкин безоговорочного восхищения не вызывает. Да и как может вызвать безоговорочное восхищение человек, о котором написано так: «Его деловитая убежденность подавляла. Лишала способности мыслить критически», да еще в том же тексте, где уже было сказано: «Победит в споре тот, кто жаждет переспорить, а не ищет истину».
Конечно, потому и победит, что его деловитая убежденность подавляет, лишает способности критически мыслить. Но зато, когда дело дойдет не до спора, а до дела, например до проверки документов на вновь образованной таможне, вот тут и обнаружатся удивительные, право же, вещи, события и объяснения вещей и событий.
«Осунувшийся Обиванкин принялся тереть потные ладони о штанины – видно, хотел их просушить, прежде чем браться за бумажки. На него страшно было смотреть. Лека молча полез за документами; он предчувствовал недоброе. “Вы не знаете, багаж они осматривают?” – вдруг спросил Обиванкин Леку. “А что у вас там – наркотики?” – осведомился Лека. Обиванкин не ответил. Ого, подумал Лека. Кажется, я влип… И сына втянул. Замечательно. “У меня в багаже есть вещи, которые мне не хотелось бы никому показывать”, – наконец сообщил Обиванкин шепотом и нервно облизнул губы. “Вы нашли очень удачное время, чтобы сказать об этом”, – ответил Лека, уже не скрывая раздражения.
Обиванкин непреклонно глянул ему в глаза: “Предупреди я вас заранее, вы могли бы испугаться и не взять меня с собой,” – сказал он. Лека задохнулся: “Да как вы смели подставить … как смели подставить мальчика… и меня…” – “Потому что моя поездка очень важна для страны,” – отрезал Обиванкин, словно это объясняло и оправдывало все. Лека даже не нашелся, что ответить».
Признаться, и читатель не находит, что и сказать в такой ситуации: ну ладно, собой великий ученый, изобретатель «антигравитатора», рискует – поверивший ему Лека со своим сыном здесь при чем? Но, пожалуй, самое удивительное, на что не может ответить читатель: почему в тот самый миг, когда Обиванкин начинает вытирать вспотевшие ладони, его становится очень жалко.
Жалость не мешает, а даже как-то стимулирует уважение к этому… придурку, реликту прошедшей эпохи, прущемуся со своим великим изобретением через все кордоны, втягивающему в свои проблемы других людей – безжалостно, надобно признать, втягивающего.
Взлёт. В повести есть одна удивительная пейзажная зарисовочка, удивительная, поскольку в пейзажике нарисованном промелькивает странная такая философичность, символичность какая-то, а то и – чем черт не шутит – ностальгия.
«Никого, кроме них, не было в последнем вагоне последней в этот день электрички прямого сообщения Тверь – Москва. И оттого возникало странное чувство потерянности: снаружи глухая тьма без конца и края, где, лишь подплескивая прогорклого масла в палящий душу ледяной костер тоски, изредка проплывали какие-то неживые огни, а внутри – гулкая от безлюдья и сумеречная от тусклых ламп знобкая трясущаяся теснина да дверь, с бессильным лязгом мотающаяся то в паз, то из паза; и ряды, ряды пустых сидений. Вымерший мир. Одна пустота, топоча бесчеловечно ритмичную чечетку по рельсам, деловито бежала сквозь другую, и в этом не виделось ни малейшего смысла».
Так и не будет ни малейшего смысла, объясняет Рыбаков, если в этой самой пустоте, в последних электричках этих самых, не будет людей, мечтающих не о богатстве, а о… полете: «Я когда маленький был… меньше, чем ты сейчас… тогда очень много книжек про полеты в космос публиковали. Про будущее… Тогда думали, до него рукой подать, даже даты примерно известны были. И вот я всерьез прикидывал, исходя из тех дат: в двухтысячном уже будет полный коммунизм, а значит, в космос будут летать только так, и на Сатурн уже, и на Нептун, а мне исполнится целых сорок два года, и меня могут не пустить по возрасту… Я так тревожился!»
Потому и слышится в мрачном описании пустой ночной электрички ностальгическая нота, что припоминаются ночные пустые электрички литературы 60-х – такая же пустота, те же лязгающие из паза в паз двери, плюс к тому очереди за продуктами питания, но столько книг издается про космос, и ученики четвертого класса вроде Славы Рыбакова или Леки Небошлёпова мечтают о хеппи-эндах, о «счастье для всех даром и чтобы никто не ушел обиженным».
«Плохих людей нет» – древняя, плодотворная и опасная мечта всех утопистов. Нету плохих людей, а есть плохие обстоятельства этой самой эмпирической… Измените эти обстоятельства! Усилием воли, разума, неожиданным поступком измените – и самые разные люди захотят не жратвы и разных прочих животных удовольствий, а… «взлета».
Рыбаков потому и собирает авантюрным сюжетом вокруг ученого Обиванкина такую разношерстную компанию: Лэй – школьный хулиган, Лека – неудачник-журналист, Гнат Соляк – наемник – что изо всех сил стремится доказать: всем людям свойственно доброе, высокое, авантюрное, божественное.
Развязка повести вполне символична. Литературно символична. В Луна-парке среди всевозможных аттракционов стоит старая ракета: приделать к ней антигравитатор – полетит! По-настоящему полетит. Как когда-то братья Стругацкие назвали свою повесть «Попытка к бегству» и тем маркировали, означили не столько сюжет повести, сколько собственный рывок за пределы прекраснодушной, оптимистической и скучной советской фантастики, так и теперь Рыбаков маркирует, обозначает собственную литературную задачу: вокруг сплошь развлекательные аппараты, поскольку литература превратилась в аттракцион и развеселую игрушку, а ведь пыталась когда-то взлететь… Вот и я сейчас из Луна-парка современной беллетристики попытаюсь на Луну или там – на Сатурн?
«Вдруг он и впрямь взлетит? Да я же хочу этого, понял Гнат. Я этого хочу! Обиванкин, едва не взмолился он вслух, ну пожалуйста! Ну давай, старый хрыч! Давай! Вместе полетим! “А куда вы хотите лететь?” – тихонько спросил Лэй. “Не знаю, – безжизненно сказал Обиванкин. – Даже не задумывался. Просто очень хотелось… взлететь”».
Умершее зерно
(Надежда Улановская, Майя Улановская. История одной семьи. Мемуары)
Книгу воспоминаний Надежды и Майи Улановских можно было бы счесть вторым изданием этих мемуаров, если бы не справочный аппарат, которым снабжена теперь книга (именной указатель, примечания), и приложения, где помещены стихи Майи Улановской и лагерная переписка отца (Александра Улановского), матери (Надежды Улановской), дочери (Майи). Судьба анархистов во время Гражданской войны, советских контрразведчиков в 30-е годы, зэков в 40-е и их дочери – участницы антисталинского молодежного кружка, потом лагерницы, потом диссидентки – все это оказывается неожиданно актуальным в наше время на постсоветском пространстве.
Это – революция. Прежде всего – тон. Рассказ. Беседа. А вот еще был такой случай. А вот еще… Время от времени – резкая констатация факта: «В общем, суки они – иностранные коммунисты». Бескомпромиссность вспоминающего человека в сочетании с разговорной интонацией создает необходимый эффект.
Доверительности? Нет, не то слово. То есть доверительность тоже имеет место быть, но что-то другое создает обаяние текста. Главный герой? Анархист, советский контрразведчик, зэк, персональный пенсионер, в доме у которого «гнездо антисоветчины», – да, Александр Петрович Улановский, которого близкие друзья зовут Алеша, на редкость обаятелен.
«Во время Шестидневной войны у него пробудился интерес к Израилю. И часто он шокировал старых товарищей своими высказываниями… Однажды старый большевик Васька, когда-то хороший, смелый парень, отсидевший много лет, позвал нас в гости по случаю своего восстановления в партии. Пришли, едим, пьем, Алешу все обожают. В его присутствии и прежде никогда не пили ни за Сталина, ни за партию, и на этот раз пили за здоровье престарелой Пати, которая получала кремлевский паек и все, что было на столе, дадено ею. И вдруг отец говорит: „Предлагаю выпить за единственного генерала, которого я уважаю, – за Моше Даяна”. Они все вздрогнули, а я [Надежда Марковна]: „Ну, этот тост я поддерживаю”. Что тут началось!»
Это жест. Назовем чудовище его настоящим именем. Это – жест революционера. Перед нами – рассказ о революционере. Жена революционера и его дочь рассказывают о своих судьбах, но главным в их рассказе остается он. Глава семьи, анархист, контрразведчик, таинственный, странный, очень умный и не то чтобы скрытный, но просто-запросто по англосаксонски (недаром он так долго пробыл в англоязычном мире) сдержанный человек. «Кому какое дело, какие проблемы у меня? Мои проблемы, моя жизнь, моя судьба – и я сам как-нибудь с ними разберусь. Без посторонней помощи».
Цитирую: «При большом обаянии всегда между ним и людьми существовало какое-то расстояние. С ним невозможно было делиться жизненными проблемами. И сам он никогда ни с кем не делился и не жаловался, если ему было больно. Всегда он был углублен в себя, что кажется странным в таком внешне компанейском и не слишком интеллектуальном человеке».
(Господи, до чего же я таким завидую! Сам-то непременно хочешь словить кого-то за рукав, лацкан, пуговицу и выплакаться всласть.)
Но главное – в другом. Рассказ о революционере, с одной стороны, уж очень несвоевремен, потому как кто же сейчас не знает, что революция – заведомо проигранное дело, социальная катастрофа, которой следует всеми силами избегать, заблудившийся, сошедший с ума трамвай, с подножки которого нужно спрыгивать как можно быстрее? А с другой стороны – очень и очень своевременный рассказ, потому что как же еще назвать все то, что происходит в стране с конца 80-х годов прошлого века, как не революцией, общественной ломкой, в которой каждый из современников принял посильное участие? Иными словами, для восприятия книги Улановских создан великолепный контрапункт, так это назовем. С одной стороны, непонимание и неприятие опыта жизни революционеров, доходящие до скверного злорадства, а с другой – у кого-то осознанное, а у кого-то неосознанное ощущение себя, самих себя революционерами после революции, над головами которых ярче реклам сияет мотто всех удавшихся революций: «За что боролись – на то и напоролись!»
Николай Островский, Джордж Оруэлл и другие экстремисты. «В последние годы он постоянно с горечью думал о напрасно прожитой жизни. И мало разговаривал. Ходил по комнате и молчал. Или напевал вполголоса старые песни, все чаще вспоминая песню на идиш, которую слышал в детстве, – об исходе евреев из Египта».
Жизнь прожита напрасно, поскольку потрачена сначала на участие в русской революции, потом на создание шпионской советской сети за границей, между тем как энергию стоило бы потратить на совсем другие вещи. Все ж таки я бы рискнул по-другому проинтерпретировать завершающую фразу книги. «Исход из Египта» всегда казался мне метафорой не только национального, но и социального освобождения, вообще – любого освобождения. Что же до напрасно прожитой жизни, то какой думающий и чувствующий человек не согласится с этим печальным ощущением?
Оруэлл, с которым у Александра Улановского немало общего, верно сформулировал: «Всякая жизнь, рассмотренная изнутри, есть сплошная череда поражений». Да что там Оруэлл! Когда вспоминаешь по сто раз прокрученные в советской школе слова Николая Островского насчет умения жить, «чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы», внезапно соображаешь, какую же боль надо нести в душе, чтобы вот эдак выдать: «мучительно стыдно», как же надобно давить в душе все и всяческие сомнения, чтобы уговаривать себя и окружающих: «Умей жить и когда жизнь становится невыносима…»
Вообще, покуда читаешь книгу двойных воспоминаний матери и дочери, сам вспоминаешь две культовые (как это нынче говорится) советские книги: «Молодую гвардию» (извините) и «Как закалялась сталь» (ничего, ничего, пожалуйста, пожалуйста). «Молодая гвардия» поневоле приходит на ум, когда читаешь «Рассказ дочери» о подпольном кружке послевоенной молодежи, марксистском, идейном, антисталинском. Троих ребят (Слуцкого, Гуревича, Фурмана) расстреляли, остальным (в том числе и Майе Улановской) понакидали срока.
Ну а ребята первой части книги – «Рассказ матери» – как раз самые что ни на есть герои романа Николая Островского или, скажем, Виктора Кина. Молодые парни и девушки из слоев «ниже среднего класса», «рожденные революцией»: «Буржуазию обложили контрибуцией, при этом каждый имел право оставить себе, например, по две пары ботинок. Подумаешь! У меня тогда ни одной целой пары не было. Я присутствовала при такой сцене: одна женщина жаловалась Алеше: „Нам оставили по две простыни на человека!” Он возразил: „Ну и что? Я без простынь всю жизнь спал”».
Казалось бы, вот уж кто совсем не похож на Павку, так это Александр Улановский. Не похож даже не столько заинтересованно-трезвым взглядом на жизнь – недаром он в 30-е годы шпионил в разных странах Европы, Азии и Америки, – сколько удивительной лихостью. Обаятельной лихостью. Авантюризмом прямо-таки битническим.
«Бежать из ссылки он решил главным образом, чтобы поддержать свою славу. Иначе – какого черта ему бежать, никогда он так хорошо не жил [как в Туруханском крае]: среди образованных людей, имея возможность вдоволь учиться и кормиться. Он бежал летом 1913 года вместе с анархистом Израилем Клейнером, арестованным с ним по одному делу… „За границей” он не хотел жить, как другие эмигранты, – например, Калинин, который прожил в Париже несколько лет, не усвоив по-французски ни слова, не видя ни одного француза. Из чистого любопытства пошел работать на завод Рено, даже успел организовать там забастовку. Но потом заскучал, захотелось посмотреть мир, и он отправился пешком в Германию».
Свобода и жажда жизни – вот что изумляет в Улановском. Он и в других, пусть и оказавшихся по другую сторону баррикад, ценил те же свойства.
«После освобождения Крыма Алеша был свидетелем (не участником) массовых расстрелов белых офицеров. Раз он видел, как расстреливали группу офицеров и один из них, уже немолодой, в чинах, когда пришла его очередь, попросил разрешения помолиться. Красноармейцы были настроены добродушно: уже стольких перестреляли, старый хрыч хочет помолиться – ладно! Стал на колени, начал бить поклоны и вдруг вскочил и побежал. Вероятно, далеко не ушел, но попытался же! На всю жизнь остались у Алеши воспоминания о зверствах, которым он был свидетель. И если он не согнулся под их тяжестью, то, наверное, потому, что и сам в любой момент мог погибнуть…
О том офицере Алеша рассказывал с восхищением. Говорил, что и он так же, до последнего момента, даже стоя у стенки, пытался бы спастись. Он и правда не раз спасался от смерти благодаря своей ловкости и мгновенной реакции».
Но вот этот вопрос: «Что тебе дала революция?» – вопрос «буржуазки» Тони Тумановой к Павлу Корчагину – он не в шкурническом, в историософском, этическом смысле беспокоит всех революционеров после победы революции, будь то насмерть серьезный Павка (Николай Островский) или ироничный Алеша Улановский. «В те годы в нашей новой квартире у Красных ворот бывало много молодежи. Приходили, делились новостями, приносили самиздат. Приезжал… и подолгу гостил у нас М. П. Якубович, приходил Солженицын и расспрашивал Якубовича и отца о революции, гражданской войне. Приезжали иностранцы, привозили книги. Тогда мы прочли роман А. Кёстлера „Мрак в полдень”, Конквеста „Великий террор”. И отец, помню, сказал: „Теперь мне все окончательно ясно, можно спокойно умирать”».
Гнев, обращенный внутрь. Конечно, это самое интересное: что же стало «окончательно ясно» анархисту времен Гражданской войны, советскому контрразведчику 30-х годов, зэку 40-х, жена которого загремела в концлагерь за то, что во время войны привела австралийского журналиста Блондена, у которого была переводчицей, в простую советскую коммуналку, а дочь отправилась в концлагерь, расположенный поблизости, за участие в (повторюсь) марксистском антисталинском кружке?
Чего такого не знал Улановский, рассказывающий всевозможные интересные истории Солженицыну, что знали Конквест и Кёстлер? Одни крымские расстрелы чего стоят! Цитирую: «Я была уверена, что Алеша в Крыму вступил в партию. Почти все левые эсеры и анархисты, которые боролись за советскую власть, к этому времени решили, что активно влиять на ход событий можно, только находясь в партии большевиков. Но Алеша мне сказал: „Знаешь, я видел эту партию в действии и еще подожду вступать”. Он рассказал, что уже после победы большевики расстреляли в Крыму 30 тысяч белых, которые уже никому не могли причинить вреда. Никаких причин убивать, кроме кровожадности, не было… Рассказав о том, что творилось в Крыму, Алеша прибавил: „И я подумал, что не готов делить с ними ответственность за зверства”».
Потом еще раз, в разгар Большого террора, напомнил об этом жене: «Когда при очередном аресте я недоумевала: „Что же делается? Почему? За что?” – Алеша мне спокойно ответил: „Что ты так волнуешься? Когда я рассказывал, как расстреливали белых офицеров в Крыму, не волновалась? Когда буржуазию, кулаков уничтожали, ты оправдывала? А как дошло дело до нас – ‘как, почему?’ А это с самого начала так было”».
Здесь – самый важный вопрос книги, которая написана о судьбах матери и дочери, но недаром же посвящена памяти Александра Улановского, главы семьи, создателя семьи. Книга о нем как главном герое, о его, если угодно, загадке. Если он так много понимал и знал, то почему так служил этой системе? И почему в нем не появилось ни надлома, ни раздвоенности, почему сохранились обаяние, ум, порядочность?
Есть, однако, кое-какие данные абрисом объяснения: «Алеша считал, что ему в России делать нечего. Революция победила, установилась советская власть. Смотреть, как распоряжаются большевики, ему не хотелось… Некоторые анархисты уже тогда считали, что с советской властью надо бороться, но для Алеши этот путь казался немыслимым. Какой бы ни была советская власть, объективно она играет в мире революционизирующую роль. После Кронштадтского восстания он был арестован как анархист. Он сказал на митинге в Одессе, что… сам факт восстания матросов, передового отряда революции, говорит о том, что власть ведет себя неправильно, и об этом надо подумать, а не искать вину в восставших… Алеша просидел всего несколько дней… Поехать за границу предложил Алеше… большевик Затонский, старый эмигрант, который знал его еще в Париже… Возникла идея послать за границу своих людей, чтобы посмотреть, что делается и что можно сделать для распространения революции. Затонский вспомнил об Алёше, и тот охотно принял его предложение».
Шпионаж как некое подобие эмиграции – это интересная тема. Здесь происходил, по всей видимости, любопытный негласный договор. Большевикам, ставшим правящей партией, вовсе ни к чему были экстремисты – пускай они на Западе и на Дальнем Востоке потрясают основы, а свободолюбцы и революционеры рассчитывали революцией на Западе и на Дальнем Востоке добиться больших результатов, чем в России.
В письмах из инвалидного дома в Караганде жене и дочке у Александра Улановского встречаются удивительные, волящие толкования места.
Он человек 10 – 20-х годов, когда привыкли соотносить себя с мировой историей. Для него это так же естественно, как и цитаты из переписки Маркса и Энгельса в письмах к жене. «Энгельс… специализировался на военных вопросах. Но это не академический интерес к науке о войне… „Вопрос о том, заключался ли оперативный план Наполеона в 1812 г. в том, чтобы сразу идти на Москву или в первую кампанию продвинуться только до Днепра и Двины, снова встанет перед нами при ответе на вопрос, что должна делать революционная армия в случае удачного наступления на Россию”. Но меня, признаюсь, больше трогают поэтические места в этой переписке. Говоря о позорном поведении прусского правительства, „сбросившего пышный плащ либерализма и представшего во всей наготе перед миром», Маркс говорит, что это заставляет его закрывать глаза от стыда, и дальше высказывает прямо замечательную мысль: „Стыд – это уже революция… стыд – это своего рода гнев, только направленный внутрь”».
Письмо написано в сентябре 1955 года. Улановский имеет в виду не только давно прошедшие времена, но и современность. Еще совсем недавно, казалось, было недалеко до большой войны (Солженицын вспоминал, как в разгар корейской войны зэки кричали охранникам: «А… будет и на ваши головы – атомная»), но опасность большой войны миновала, зато подошло время большого стыда. Может, оно – плодотворнее? Улановский, по сути дела, рассуждает о двух путях революции: внешняя экспансия (чем же он и занимался на Западе и на Дальнем Востоке, как не экспортом революции?) и «гнев, направленный внутрь». Последний – важнее.
Стыд как движущая сила общественного развития, что и говорить, необычная, можно сказать, антигегельянская тема. Вместе со стыдом в историю приносится личное, личностное, то, на что можно и не обращать внимания, если служишь объективным силам исторического развития. А Улановский обращает внимание, с удовольствием выписывает из письма Фридриха Энгельса уничижительную характеристику героев Французской революции, рыцарей террора: «„Мы понимаем под [последним] террором господство людей, внушающих ужас; напротив того, это господство людей, которые сами напуганы. Это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх”. А далее идет такая резкая, без оглядки на литературные и иные приличия оценка деятелей Французской буржуазной революции, что я просто не решаюсь ее тут привести».
Не исключено, Улановскому захотелось, чтобы цензор, читающий письма, заинтересовался и сам бы прочел про якобинцев у Маркса – Энгельса: де навалившие со страху в штаны мелкие буржуа предстали отважными рыцарями. Какое заблуждение!
Конечно, не об одних якобинцах речь, а о доблестных современных Улановскому героях, расстреливающих и сажающих в концлагеря детей. Видать, со времени своей разведывательной, шпионской работы у Александра Петровича сохранилась к этой компании стойкая брезгливость: «За границей действовали и „соседи” – контрразведка ГПУ. По техническим вопросам он был с ними связан, знал кое-кого лично, но дела их были совсем другими. Между ГПУ и военной разведкой существовал давний антагонизм… Как-то в Америке Алеша рассказал мне об одном возмутительном деле… Оказывается, НКВД ворует машины. Не сами, конечно: крадет какая-то банда, а они скупают и отправляют в Советский Союз, а там на них разъезжают члены правительства. Что воруют – черт с ними, они вообще заняты грязными делами, но машины могут быть опознаны, и тогда произойдет международный скандал». В общем, да, скандал по Салтыкову-Щедрину – мы-то от вас злодейств ожидали, мирового пожара или по крайности пожара парламента, а вы… чижика съели. «Форд-мустанг» слямзили. Стыдно-с. А Улановскому, человеку, который умирает, как герой баллады Киплинга, прежде всего не хочется, чтобы было стыдно.
«Умер он в 1971 году от инфаркта, умер, как жил. Боль, наверное, была страшная, но, когда отпускало, он расспрашивал знакомых врачей, Меира Гельфонда и Ирочку о новостях, как будто ничего особенного не происходит. Он… считал, что смерть – его личное дело и не следует по этому поводу поднимать шума. Он сказал Меиру: „Если это конец, я предпочитаю отправиться в больницу, чтобы не тревожить близких”. И потом, с носилок, крикнул внуку обычным бодрым голосом: „Всего хорошего, Шурик!”»
Человечность. Личное, личностное начало не переставало интересовать, занимать Александра Улановского. Он был как раз из тех, кто за лесом видел деревья. Ему было интересно явление не en masse, но en corpuscule. Значительность отдельного человека перевешивала у него значительность «объективных исторических процессов». Его рассуждение о «Форсайтах» Голсуорси стоит процитировать, он ведь, как обычно, думает и о своей жизни, о революции, в которой участвовал, об обществе, которое из этой революции возникло: «В книге Голсуорси все время полемизирует со своими героями, шаржирует их и ругает. Сомс Форсайт, собственник, – прямо отвратителен. За 20 лет отношение Голсуорси к своим героям значительно изменилось, в особенности к Сомсу. Из черного злодея он постепенно превратился в положительного героя и даже очень симпатичного человека. Но даже в этой первой книге „Саги”, несмотря на откровенно отрицательное отношение автора к героям, они производят какое-то двойственное впечатление. Цель их жизни – зарабатывать деньги, и это вызывает отвращение, но они сами очень значительны и как-то симпатичны, человечны. Для любой цели в жизни нужны значительные люди. Это и нам нужно». «Нам» – то есть революционерам, борцам за справедливое общество. Тут и становится виден антигегельянский подход к общественным явлениям старого анархиста, медленно, но верно становящегося либералом!
Для гегельянца все равно, что за человек выполняет ту или иную общественную функцию. Не мытьем, так катаньем – все идет в ход: зло, коварство, жестокость, трусость – важен результат, исторический итог. Для Улановского это было не так, действовал он всегда в согласии с формулой: «Для любой цели нужны значительные люди»…
Надежда Улановская помещает отрывок из воспоминаний американца Чеймберса, как раз под началом Улановского работавшего на советскую разведку в 30-е годы, а впоследствии разочаровавшегося и в коммунизме, и в революции. Но <…> тем внимательнее всматривающегося в прежнего своего руководителя: «Было что-то обезьянье во взгляде его карих глаз, то озорных, то тоскливых. Эти глаза наблюдали жизнь на четырех континентах… Они смотрели на все спокойно, проникая за пределы, очерченные политическими теориями и доктринами с безотчетным милосердием, замаскированным под иронию, с мудростью человека, знающего, что насмешка над безумием жизни начинается с насмешки над самим собой <…> человечность была сильнее других его качеств. И он обладал редкой способностью видеть вещи с точки зрения другого человека».
И Чеймберс приводит замечательный пример этой человечности, этой способности видеть вещи с точки зрения другого.
«Однажды Макс Бедахт (американский коммунист, осуществлявший связь между компартией и советской разведкой, как указано в примечании. – Н. Е.) дал мне клочок бумаги с именем и адресом одного врача… „Доктор оказался троцкистом, – сказал Бедахт, – и Ульрих (под этим именем Улановский действовал в Америке. – Н. Е.), наверное, захочет что-то предпринять по его поводу”. „Что-то предпринять” означало, как я полагал, тайное давление, угрозы и, возможно, смерть.
Впервые моя совесть вступила в конфликт с требованиями подполья… Порвать записку? Сделав это, я нарушу дисциплину, связывающую меня как коммуниста и в особенности как работника подполья… Я передал записку Ульриху и сообщил то, что мне сказал Бедахт. Он взглянул на нее и сунул в карман без комментариев. Через несколько недель он вынул из кармана эту записку и показал мне. Твердо глядя на меня, он сказал: „Не думаю, что дядя Джо (Сталин) этим заинтересуется. У него есть дела поважнее”. Слегка улыбаясь, он скомкал записку и бросил ее прочь.
Этот случай был <…> также поворотным пунктом в моих отношениях с Ульрихом. Сделав то, на что у меня не хватило смелости – нарушив дисциплину, – он этим поступком сознательно отдавал себя в мою власть. С этого момента наши отношения – подчиненного и начальника – превратились в дружбу. Многозначительный взгляд Ульриха, сменившийся славной его улыбкой, означал <…> что мы – революционеры, а не охотники за черепами».
Анти-Гегель. Человечность, способность увидеть вещи с точки зрения другого, готовность к невыполнению бесчеловечного приказа – все эти особенности нетрадиционны для того, кого привычно нынче считать революционером вообще, русским революционером в частности. Совершенно не важно, кто будет запряжен в повозку прогресса, важно, чтобы она доехала, – этот подход привычнее. Вот с ним-то анархист Улановский и не согласен. Вплоть до неприятия знаковой для всех русских прогрессистов и западников фигуры – Петра Первого.
Странный западник, странный прогрессист, непривычный революционер. Сформулируем так: антигегелевский революционер. По его мнению, очень даже важно, какая кляча запряжена в повозку прогресса. Соблазн исторического результата любой ценой – этот соблазн его миновал.
Объясняет в письме дочке-школьнице:
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел…Всего две с половиной коротеньких строчки – и перед тобой встает как живой могучий образ преобразователя России! Читаешь и невольно забываешь, что за время царствования Петра население сократилось ровно наполовину, что это он создал ту бюрократическую машину – чиновничий рай, – которая высасывала все соки из народа, что он превратил страну в сплошной военный лагерь (и только ли военный?). А главное – его успех окрылил сотни больших и малых Пьер ле Гранов, то прорубающих, то заколачивающих окно в Европу. Забываешь и многое другое: его страшную жестокость, массовые казни, безудержное пьянство и разврат, казнь стрельцов, когда он собственными руками пытал и рубил головы стрельцам. Такова сила таланта Пушкина, к тому же помноженная на силу привычных, высочайше одобренных представлений».
Он неплохо разъяснил неразрывную связь этики и эстетики. В воспоминаниях его дочки есть эпизод, свидетельствующий: урок пошел впрок. В концлагере Майя познакомилась с женщиной, которая была посажена по донесениям провокатора. Настоящего, доподлинного стукача. После отсидки Майя узнала, что этот провокатор, погубивший не одну ее подругу, а многих, стал известным композитором, пишет прекрасную музыку. Ни на секунду она не может предположить, что изломанная, испуганная, но не убитая, мучающаяся душа может создавать великие произведения искусства. Я-то вполне могу себе это представить…
Победа и поражение. Но меня в данном случае интересует не искусство, а рассуждения анархиста, служившего делу коммунистической революции. Он-то не может не видеть, чем дело закончилось, каким любопытным поворотом винта истории. Сидя в инвалидном доме в Караганде, «сактированный» из концлагеря, он-то не может не понимать, что, удайся революция, допустим, в США, – и загрохотали бы вагонзаки из Вашингтона на Аляску – золото добывать.
Жалоб – никаких. Сетований – никаких, но один-единственный раз внезапно в письме к жене прорывается многажды (как видно) обдуманное: «Что такое „победоносная революция” и какая революция – неудачная? Что было бы, если бы заговор декабристов завершился бы 14 декабря удачно и к власти пришли бы вместо Николая I Ермолов, Сперанский и Мордвинов? Польское восстание подавил бы тогда не генерал Паскевич, а Ермолов. Пестель был бы, вероятно, казнен не Николаем, а Рылеевым и Трубецким. Неизвестно, упразднили ли бы крепостное право, но земли крестьяне не получили бы наверное, так как на этот счет у декабристов было почти полное согласие – не давать крестьянам земли. Декабрьское восстание, Парижская коммуна, революция 1905 года – всё неудачные революции, но так ли это? Интересно и поучительно сравнить их результаты с результатами победоносных революций».
Мысль – понятна. Речь идет о том, что революция должна проиграть, потерпеть поражение, чтобы победить по-настоящему. Что-то вроде евангельской притчи о зерне, которое только тогда и принесет урожай сторицей, если умрет.
Если учесть, что дочь анархиста, Майя Улановская, оказалась участницей диссидентского движения, разгромленного так, как не было разгромлено ни одно из общественных движений в России, то можно сказать, что и здесь урок отца не пропал даром.
Банкроты? Надежда Улановская пишет о том, как ее муж, Алеша Улановский, виду не показывал, но отдавал себе отчет в «напрасно прожитой жизни».
А ведь глядя из «сегодня» во «вчера» и имея в виду «завтра», понимаешь, что вовсе не напрасно. Ну да, он боролся за то, чтобы не было бедняков в его стране, – в результате во всей стране все стали бедняками; но во всем мире благодаря его борьбе бедняков стало меньше. Применим научный оборот: Улановский победил на микро– и на макроуровне. На микроуровне создал семью – единственный и самый естественный оплот консерватизма во всем мире. Воспитал дочь Майю, которая понимала его и была согласна с ним и которую он понимал и был согласен с ней…
Для этой книжки, написанной мамой и дочкой, вроде бы подошел эпиграф: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей», поскольку это ведь рассказ о том, как жажда социальной справедливости всегда остается неутоленной; всегда из революции вырастает империя еще более жуткая и несвободная, чем та, которую революция сокрушила. Но вот тут, в этом самом месте, очень печальная, очень тяжелая книга начинает приобретать странные, едва ли не оптимистические черты. Это ведь не просто «история одной семьи», это – история несокрушимости семьи, незыблемости семейных ценностей, история поразительной верности друг другу. Казалось бы, весь мир, вся история, вся «великая держава» со всей своей «властной вертикалью» и подонками в мундирах ополчились на эту семью, а она выстояла.
В этом смысле «Историю одной семьи» можно считать, скажем, противо-«Будденброками». Томас Манн описывал распад семьи при внешнем житейском карьерном успехе, а Улановские описывают незыблемую крепость семьи. Младший Будденброк, обладающий всеми материальными и духовными благами, может упрекнуть отца: «За что ты выпихнул меня в чужой, враждебный мне мир, меня, тонкокожего, тонко чувствующего, не приспособленного для этого мира?» Майя Улановская, в девятнадцать лет попавшая в концлагерь за участие в подпольном антисталинском марксистском кружке, ни словом, ни помыслом не упрекает своего отца, знакомого с Кобой еще с Туруханской ссылки, в создании вот этого пореволюционного мира, в котором расстреливают и дают огромные срока за создание студенческих подпольных кружков.
Будденброк-старший воспитал детей, для которых чужды и едва ли не отвратительны были его ценности; Улановский-старший воспитал дочь, которая так же, как и он, ненавидит насилие, несправедливость, несвободу. Он сидел в царской тюрьме, она – в советской. (Впрочем, в советской он тоже сидел.) Он был анархистом, она диссиденткой – они были союзниками! Так это же счастье! Ты говоришь со своими детьми на одном языке. Им не приходится объяснять очевидные для тебя вещи. Это – победа на микроуровне, но есть и макроуровень. Что бы ни говорили поклонники капитализма, конкуренции и прочего, прочего, но мир кардинально переменился в немалой степени благодаря таким, как Улановские. Что бы ни говорили консерваторы, но я до сих пор не знаю убедительного возражения на главный тезис всех революций: «Каждый человек на земле имеет право есть».
Тертуллиан и грешники
(Мих. Шишкин. Венерин волос)
Главное и второстепенное. У Ильфа в «Записных книжках» есть такая запись: «Большинство наших авторов страдают наклонностью к утомительной для читателя наблюдательности. Кастрюля, на дне которой катались яйца. Не нужно и привлекает внимание к тому, что внимание не должно вызывать. Я уже жду чего-то от этой безвинной кастрюли, но ничего, конечно, не происходит. И это мешает мне читать, отвлекает меня от главного».
Омри Ронен полагает, что имеется в виду Олеша и его рассказ «Лиомпа». Алексей Герман считает, что Ильф пишет о романе Юрия Германа «Наши знакомые». А я думаю: Ильф рассуждал и об Олеше, и о Юрии Германе, и о Валентине Катаеве, да и о себе со своим соавтором Евгением Петровым.
Это – безжалостная и точная автохарактеристика барочного писателя. Самое важное в ней – «отвлекает от главного». Ведь для того чтобы «отвлечь от главного», нужно как минимум это главное иметь. А если его нет? В эпоху барокко – распространеннейшее явление – главного нет, его не сыщешь в массе, в груде второстепенных деталей. Вот вам, пожалуйста, пример: «Раздался лязг передернутого затвора. Вы поняли, что это за вами, и тут началось описание природы. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички. В запруде по отражениям облаков бегали недомерки. Осина, убитая грозой, грифельна. Вокруг стрекозы, прилипшей к лучу солнца, стеклянистый нимб. В дубовой кроне водятся клещи. Вяз забронзовел. Ветер зачесал ель на пробор. Лес, по Данту, – это грешники, обращенные в деревья. Засохший луг хрустит под ногами. Уши заложены верещанием кузнечиков. Речка ползет по-пластунски и тащит водоросли за волосы. Никому в голову не приходит давать название небу, хотя и там, как в океанах, есть проливы и моря, впадины и отмели. Лязг затвора оказался звуком брошенной пустой банки из-под пива. Разговор на лестничной клетке возобновился…»
Что здесь «главное», а что «второстепенное»? Задержка действия, этот, как его… «саспенс»? Нет… Читатель уже понял, что с ним вступили в игру, поскольку какие ж речки и поля на лестничной площадке? Грамотный читатель даже какие-то цитатки выловит… Скажем, набоковскую березу, расчесанную на пробор, которая превратилась в елку, – ну и фиг с ним. Нет-нет, после такой пейзажной зарисовки никто не заволнуется, даже если «громыхнет выстрел и ваши мозги посыплются на руки убийцы».
Но что-то главное в этом отрывке есть. В чем-то автор хочет читателя убедить. Что-то ему важнее важного продемонстрировать. Наверное, собственное литературное мастерство. Дескать, глядите, как я говорить умею! Какие метафоры, какой богатый словарный запас, какое владение разными стилями! Что неподвластно мне? Могу под Тургенева, могу под Набокова, могу под первоклассный детектив. Все могу…
Тема и философия. Тема носится в воздухе. За год до «Венерина волоса» в Питере была издана повесть Михаила Гиголашвили «Толмач». Еще раньше Гиголашвили фантаст Сергей Лукьяненко издал роман «Спектр» про то, как на Земле объявились инопланетяне, понастроили свои перевалочные базы и принялись отправлять через эти базы землян на другие планеты в том случае, если землянин расскажет хорошую, интересную, новую историю.
Основная, сюжетонесущая тема «Венерина волоса» до удивления похожа и на «Спектр» Лукьяненко, и в особенности на «Толмача» Гиголашвили. Главный герой и у Гиголашвили, и у Шишкина – переводчик. Они называют его толмач. Не просто переводчик, но переводчик в отделе, ведающем политическими беженцами. У Гиголашвили – в Германии, у Шишкина – в Швейцарии.
И тот и другой переводят западным чиновникам слезные исповеди людей, чающих получения статуса политических беженцев. И тот и другой наблюдают, как чиновники, выслушав жуткие истории (в которых правда перемешана с ложью), отказывают несчастным, грязным, хитрым, малообразованным, вороватым соотечественникам. И тому и другому жалко соотечественников; и тот и другой не могут не понять пусть и подлую, но правоту чиновников.
На этом сходство заканчивается. Просто сходство биографий породило сходство текстов.
Гиголашвили написал обыкновенную смешную, немного циничную, немного печальную книгу историй. Шишкин целую философию выдул из толмаческого положения. И философия эта, как бы помягче сказать… нехорошая это философия. Толмач у Шишкина переводит все беженские истории, ну и заполняет ими свою душу. Он уже живет этими историями, он – в этих историях. Он заранее предупреждает читателя: «Люди не настоящие, но истории, истории-то настоящие! Просто насиловали в том детдоме не этого губастого, так другого. И рассказ о сгоревшем брате и убитой матери тот парень из Литвы от кого-то слышал. Какая разница, с кем это было?»
Конечно! Главное, что это случается в душе и сердце нашего чувствительного толмача, и вот он принимается рассказывать нам одну бесконечную историю про изнасилования, избиения, поджоги, грязь, несправедливость, ненависть; одна история переходит в другую, один герой превращается в другого – ведь совершенно не важен человек! Важна история. У Ильи Сельвинского есть такое стихотворение, мол, мы говорим: «умер во сне, как ангел», а почем мы знаем, может, ему снилось, что его терзал тигр?
Это – навязчивая тема Михаила Шишкина. Мол, не важно, что мой толмач живет в сытой, спокойной Швейцарии, душа-то его, несчастная и больная, здесь, в России, и вообще в любом месте, где боль, насилие и несправедливость, будь то древняя Персия или еще какой-нибудь Вавилон. Не душа, а какой-то Лаокоон. Если бы сенсибильный нервный толмач еще бы и оказался телесно, персонально во всех этих ужасных местах, о, какой бы произошел чудовищный резонанс! О, какой бы совершился взрыв, если бы душевная боль совпала бы с болью материальной.
Я это называю по-другому. У каждого есть своя лавочка. Прикиньте, какой получается фокус. Толмач сидит и слушает всякие истории, переводит эти истории чиновнику и следит за тем, как чиновник решает: пустить, не пустить в рай, в землю швейцарскую обетованную? Нет, пожалуй что – не пустить: врет. Так ведь тем же самым занят и сам Шишкин по отношению ко мне! Он со всеми этими историями, как те бедолаги за визами в Швейцарию, лезет ко мне в душу. А я его вроде того швейцарского чиновника слушаю и решаю: пустить, не пустить? Толмач хорошо понял, что истории – это товар. И натурально мне этот товар загоняет. Даже в том случае, если я начну вякать, мол, здесь вы как-то уж очень краски сгустили, я все одно уже клиент, уже потребитель, уже подопытный.
Довлатов и Ента Куролапа. Михаил Веллер в романе «Ножик Сережи Довлатова» обмолвился, мол, прозу, подобную новеллам Довлатова, можно писать погонными километрами. Это неверно даже по отношению к довлатовским эпигонам. Жанр волит краткости. Ничего не попишешь – новелла. Рассказал одну – смешную или печальную – достоверную историю – все. Точка. Давай следующую.
И в историю, ту или другую, обязательно всобачь афоризм не афоризм, но что-то крепко влипающее в память вроде: «ехать не советую… Погода на четыре с минусом… А главное – тут абсолютно нету мужиков. Многие девушки уезжают, так и не отдохнув». Нет, Довлатов и довлатовщина многим плохи, но в них не разгонишься. А вот та проза, которую пишет Михаил Шишкин, – вот она рассчитана именно на погонные километры, на многостраничье. Ее природа такая – многостраничная, погонно-километровая. Читатель должен быть подавлен количеством сообщенного, чтобы не обратить внимания на качество. Ель, расчесанная ветром на пробор, – да вы представьте себе, какой силы должен быть ветер, чтобы наклонить ветки ели все в одну сторону… Береза (как у Набокова) – другое дело. Но читатель (интеллигентный читатель, а на других Шишкин и не рассчитывает) поостережется такое замечать. Здесь же сложная работа с разными стилями, а вы тут с елками-березками, ветками-моталками.
Интеллигентный читатель покорно согласится даже на вот такую работу со стилем: «Будучи на жене, он представляет себе дачницу, которая жила у них прошлым летом, снова видит с закрытыми глазами, как спущенные трусики та стягивает одной ногой с другой, как ее крепкие ягодицы от прикосновения втягиваются и сжимаются так, что не проходит и кончик языка, как она писает перед ним – струйка вылетает рывками, песок намокает и сразу твердеет…» М-да… есть что вспомнить, «будучи на жене». Сразу видна рука мастера. Профан написал бы: «лежучи на жене…», а тут – «будучи». Какая старомодная учтивость…
Мне-то подобная работа со стилем, словом и деепричастными оборотами напомнила не Джойса, не Льва Толстого, не Александра Солженицына, не Сашу Соколова, а Енту Куролапу из рассказа Шолом-Алейхема: та тоже обожала в один словесный период уложить разом жену, мужа, дачницу, их непростые отношения, физиологические отправления, религиозные представления, психологические откровения, а также социологические наблюдения…
Булавка и шприц с героином. «И схватился за сердце. Я к нему, а он хрипит: „Пошел вон, сопляк!” Позвонили жене, она приехала, и мы вместе увезли его домой. Пришли, уложили на диван. Она мне говорит: „Подождите, не уходите, я вас чаем напою». Детей не было, старшая – в институте, информатику изучает, младшие из школы еще не вернулись. У них на подоконнике – помидорная рассада в пакетах из-под молока, а на стенах фотографии. Стала рассказывать про всех родственников. Его отец был священником, потом заболел и ослеп, а сын должен был скрывать свое происхождение и писал во всех анкетах, что отец – инвалид, и все боялись, что откроется… Во время войны, в эвакуации, в голод его спасла мама – устроилась дояркой и воровала молоко, выносила в грелке, спрятанной на животе…» Чуть передохнули, дальше понеслись: на следующей странице вредное производство, общага; официантка выковыривает из-под ногтей грязь и засовывает грязь в мороженое, еще через страницу – бывшего милиционера на зоне насилуют, еще через страницу – самоубийство с помощью остро заточенного черенка ложки («кишки на ладонь вывалились»); дальше – женщину избивают и насилуют; и все это излагается великолепно сработанной скороговорочкой.
Стратегия читательского успеха у Шишкина проста. Читатель Шишкина – интеллигент. Он прочел Шаламова и Солженицына. Ему неловко за гадости и нестроения российской жизни. А в руках у Шишкина – булавка. Обыкновенная булавка. Но когда ею колешь в руку – больно, неприятно. Да? А им каково? Получи – почитай про зверства чеченских сепаратистов, а теперь про зверства российских войск в Чечне, а теперь про еврейский погром в Ростове-на-Дону в 1905 году, а теперь про то, как белые красных убивали, а теперь про то, как красные белых убивали; а теперь про то, как знаменитая певица, исполнительница русских романсов, дожившая до ста лет, перед смертью запором мучилась, а потом взяла и обосралась и померла в счастье, поскольку в безумии решила, что это Бог ей ребенка послал. Не нравится? А не стыдно нос воротить от правды жизни?
Да нет, я не против такой стратегии, только зачем это булавка себя шприцем с героином воображает? Зачем нет-нет да и на предшественников кивает, мол, им можно, а мне нельзя? Несправедливо…
Справедливость и несправедливость. «Я должна была топить щенков, и ты мне стал помогать: в ведро мы налили воду, бросили щенков и другим ведром с водой поскорее накрыли, вдавили, так что вода плеснула через край, обмочив нам ноги. Я крепилась, но все равно потекли слезы. И ты сказал, чтобы утешить: „Ну что ты, не плачь! Все это можно будет потом куда-нибудь вставить, в какой-нибудь рассказ”. Ты сказал такую несуразицу, что меня всю внутри пронзила такая острая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка…» Конечно, конечно! И, всхлипывая, воскликнуть: «Тургенев ты мой будущий! Герасим ты мой заговоривший! „Муму” он напишет, лапонька, а кроме того предсмертный сон Базарова с огненными псами сочинит и мистический рассказ „Собака” придумает!»
Разумеется, после утопления щенков и пронзания жалостью сердца – счастье плотской живой любви: «…не удержалась, обвила тебя, стиснула, зацеловала, повалила. Вот это и была настоящая красота: запах колкого сена, небесный лай, ты в первый раз во мне, и боль, и кровь, и радость». Да, да, как же, как же: «и жизнь, и слезы, и любовь»… Между прочим, если уж говорить о главном, то вот эта сцена – наиглавнейшая во всем шишкинском тексте. Здесь с наибольшей ясностью изображена главная не мысль даже, а… эмоция, что ли? Дважды Шишкин ее сформулировал и высказал, но, кажется, не до конца понял, что же он такое записал. А самое главное, какие выводы из этого следуют.
«И если вам и вашей маме хорошо, то и надо этому радоваться. И если где-то война, то тем более нужно жить и радоваться, что ты не там. И если кого-то любят, то всегда будет тот, кого никто не любит. И если мир несправедлив, то все равно нужно жить и радоваться, что не сидишь в вонючей камере, а идешь на свадьбу. Радоваться! Наслаждаться!»
Сентенция эта выдана после встречи интеллигентной, умной, тонкой девушки с неумным, злобным и завистливым жлобом, которому только и сидеть в камере, иначе всех перекусает. Девушка сильно расстраивается, что вот она, сытая, счастливая и умытая, идет на свадьбу, а кто-то в это время, голодный, несчастный, немытый и злой, сидит в тюрьме. Мудрый главный герой (толмач, так его называет Шишкин) объясняет девушке не то, что жлоб правильно сидит в тюрьме, там ему и место, нет, девушка не поймет, а читатель и без объяснения это понял; толмач объясняет девушке основы мироустройства – ну просто Господь Бог возроптавшему Иову: так было, так будет – кто-то в тюрьме, кто-то на воле. И покуда вы не в тюрьме – радуйтесь! Наслаждайтесь!
Жизнь по природе своей несправедлива. Кто-то живет, кто-то умирает. Кто-то ест, кто-то голодает. Не пытайтесь только исправить эту всеобщую природную несправедливость. Такое начнется… Революция, мерзость, насилие, несправедливость еще худшая, чем была прежде. Для того чтобы продемонстрировать, что начнется, если будут пытаться исправлять природную несправедливость, Шишкин помещает в свой текст выдуманный дневник знаменитой исполнительницы русских романсов. Сначала гимназистка, потом советская певица описывает дореволюционную, революционную, пореволюционную российскую жизнь.
Среди всех прочих историй в «Венерином волосе», слипшихся в один ком, эта выделена специально, как и история семейной драмы самого толмача. Развелся он со своей швейцарской женой, поскольку залез в ее электронный дневник и выяснил, что, живя с ним, с толмачом, женщина постоянно вспоминала своего первого, погибшего мужа. Пошло после этого у нашего толмача с его швейцарской женой все наперекосяк. ХХ век, видите ли, создал удивительную иерархию ценностей. Грехи и пороки назвал просто-запросто милыми особенностями или странностями поведения, в крайнем случае – болезнями. Но читать чужие письма и дневники – это уж как-то совсем не комильфо даже для ХХ и ХХI веков.
Вот тут Шишкин историей жизни знаменитой певицы и объясняет чистоплюю читателю: мол, да! Ruchlosigkeit (отсутствие стыда), как называл это свойство Ницше, – профессиональная особенность художника. А как же художник поймет и почувствует другого, если не отважится заглянуть в его тайное тайных, в дневник, в письма? Как же он вообразит и придумает чужой дневник, если он ни разу не рискнет чей-нибудь чужой дневник прочитать?
В этом-то выдуманном чужом дневнике Шишкин еще раз повторяет полюбившуюся ему мысль, чтобы, стало быть, закрепить в сознании читателя свое исповедание веры: «И всегда так было: кому-то отрубают голову, а у двоих в толпе на площади перед эшафотом в это время первая любовь. Кто-то любуется живописным заходом солнца, а кто-то смотрит на этот же закат из-за решетки. И так всегда будет! Так и должно быть! И скольким бы десяткам или миллионам ни рубили голову – все равно в это самое время у кого-то должна быть первая любовь. Даже у того подростка. Вижу перед глазами его лицо – возвращались из Крыма на поезде и остановились на каком-то разъезде, а прямо напротив – „столыпин”, в узеньком окошке решетка и чье-то полудетское лицо. А у нас на столике – еда, и цветы, и бутылки… Все в купе замолчали, а когда поехали дальше, уже не было никакого веселья. Или все должно быть наоборот? И жить нужно после такого еще веселее? И вкус еды должен быть острее? Закат красивее?»
Это исполнительница русских романсов спрашивает, а автор, то бишь Шишкин, всем своим текстом отвечает ей, как той девушке толмач: именно так и должно быть. Никак иначе и быть не может. Знаете, что меня поразило в этом отрывке? Влюбленные на площади, где происходит казнь. Как они туда попали? Ведь одно дело, когда где-то казнят, а ты в это время – любишь; и совсем другое дело, когда на твоих глазах кого-то убивают, а у тебя – первая любовь.
Ну как это: двое влюбленных на площади перед эшафотом? Каким ветром их на этот аттракцион занесло? Дневной сеанс, что ли, в киношке отменили? Колесо обозрения сломалось, а кафе закрыто? «Не пойти ли нам, любимая, на Гревскую площадь? Там, говорят, сегодня мероприятие…» – «И то, любимый, сходим…»
Тертуллиан писал, что в раю праведники будут наслаждаться муками грешников. Вот именно такого тертуллиановского праведника описывает Шишкин. С пониманием и сочувствием описывает. Поначалу в это не «въезжаешь», поначалу тебе кажется, что это вот все неподъемные, тяжкие беды России описываются, а потом до тебя доходит: да ни хрена подобного! Это праведник радуется тому, что он не с грешниками и может со стороны наблюдать за их корчами. Ничего, потом в рассказ вставит. Кое-что преувеличит для большей убедительности, кое-что смикширует, но главное – кровь себе отполирует всеми этими… кошмарами.
Гарриэт Бичер-Стоу описывала ужасы рабства в «Хижине дяди Тома», чтобы их никогда не было. Оруэлл описывал ужасы тоталитаризма, чтобы тоталитаризм не случился в Англии. Солженицын описывал ужасы Гулага, чтобы разрушить систему, породившую Гулаг. А для чего описывает всевозможные российские прошлые и настоящие ужасы Шишкин? А для того, чтобы тем, кого эти ужасы миновали, было еще уютнее, еще лучше. Даже если комфорт относительный – все одно. Хорошо же! Не бьют, не насилуют, не голодаем – нормально.
Море по колено
(О прозе Б. Акунина)
Это – образ его прозы. Берешь в руки, читаешь, батюшки! Сколь широк охват – море. Но впоследствии соображаешь: а моря-то по колено. Сиваш… вброд перейти можно.
Любимая игра – цитатная. И тут уж – виртуоз! Он вообще загадочен, не столько автор детективов, сколько сам – герой детектива. Какой длинный язык он показал всем своим поклонникам, назвавшись Акуниным, а потом разъяснив: мол, по-японски «акуна» значит «очень нехороший человек». Вся Москва едет с книжками на эскалаторе, вперилась в текст, а на обложках книжек – «сволочь», «сволочь», «сволочь». «Да, – мечтательно сказал Эраст Петрович, – вот это – жест…»
И то правда: жальче всего в «Смерти Ахиллеса» безжалостного киллера Ахимаса, а в дневнике маньяка Соцкого вдруг проглядывает, проскваживает цитатка из дневника Толстого; зато на турецком шпионе Гюставе Эрве, обаятельном и отважном, оказываются рыжие сапоги великого провокатора Хулио Хуренито – разве не так?
Наверное, так, поскольку вся проза Бориса Акунина – горячий осознанный вызов русской литературе больших идей: «А вот, мол, и плохо, что не было у нас развлекательной беллетристики, как во Франции или в Англии; была бы в России умная интеллигентная развлекуха и не было бы у нас социальных взрывов, всемирно-исторических катаклизмов…» То есть нельзя сказать, что в России вовсе не было развлекательной литературы. Просто она сразу отшибалась за пределы уважаемой, хорошо оплачиваемой литературы. То, что это так, а не иначе, доказывает пример писателя-профессионала – Антона Чехова. Если бы Чехову так же платили за детективы, как и за психологическую прозу; за веселые юморески так же, как за пьесы с подтекстом, то он бы недолго колебался. Он же написал блистательный по задумке детектив «Драма на охоте». Немного подкачало исполнение. Ничего, научился бы. Но читающей публике, публике, платящей деньги за книжки, этого было не нужно. Поэтому вместо детективов вроде «Драмы на охоте» Чехов стал писать повести вроде «Дамы с собачкой».
«А вот и зря», – словно бы говорит Б. Акунин.
Издевательский сиквел чеховской «Чайки» как раз и связан с этим «а вот и зря». Мол, надо было не мерлихлюндию про творчество, а залихватский детектив про то, кто же Костю Треплева кокнул. Правда, здесь получилась… эээ… некая запендя. Чеховская «Чайка» и «Чайка» Б. Акунина – замечательные примеры двух разных литератур. Только что были живые странные люди, которые у Акунина моментально превратились в кукол – в мультипликационных персонажей или в героев капустника. Но с «Чайкой» такие номера проходят. Вообще, с пьесами такие фокусы получаются. Каждому артисту хочется сыграть главную роль. И Б. Акунин в своей «Чайке» благородно предоставляет каждому артисту такую возможность. Это – славно. Не так славна, конечно, неприязнь к Чехову, но ведь она объяснима. Чехов из газетно-журнальной грязи поднялся в классики; из такой грязи в такие князья… Из развлекательных «Осколков» и «Будильника» – да прямиком в вечность. А Григорий Чхартишвили? Со всеми своими знаниями, и немалыми, со всем своим умом, и немалым – куда? В нынешние «Осколки» и «Будильник»? А может быть, другого хода у литературы, у «прекрасной словесности», belles lettres, сейчас просто нет? Не от «Драмы на охоте» к «Даме с собачкой», а от «Легенды Золотого Храма» к «Декоратору» или, там, от «Факультета ненужных вещей» к «Шпионскому детективу», к «Алтын Толобасу»…
Давняя статья и первый бестселлер. О том (или почти о том) написал Григорий Чхартишвили в давней своей, предваряющей появление Акунина, статье: «Похвала равнодушию, или Приятные рассуждения о будущем литературы». Она была напечатана в 1997 году в четвертом номере журнала «Знамя» – за два года до первого бестселлера Чхартишвили «Писатель и самоубийство». Два этих текста – статья и книга – слипаются в одно житейское, циничное высказывание: аут, ребята, серьезные писатели, ваше время – вышло! Учитесь писать детективы или… кончайте с собой…
Скажем еще заковыристей: «Похвала равнодушию…», «Писатель и самоубийство», а также первый роман Б. Акунина «Азазель» складываются в триаду по Гегелю. Тезис: серьезная роль серьезной литературы возможна только в больном обществе, а коли литература отодвигается в сторону-сторонку – это означает, что общество осовременилось, модернизировалось. Не расстраиваться надо по этому поводу писателям, а радоваться и учиться развлекать публику. Не нравится развлекать? Противно? Вот те раз! Романы про сталеваров было писать не противно, а детективы нежную писательскую душу корежат, нуу… (Любопытно, что в 1914 году Томас Манн считал признаком цивилизованности общества, его европеистости, западничества – литературоцентризм. И – наоборот, напротив – равнодушие к литературе называл признаком варварства или свойством настоящей глубинной культуры, которая – по тогдашнему мнению тогдашнего Томаса Манна – была куда ближе к здоровому варварству, чем к поверхностной, лишенной истинной божественной глубины цивилизации…) Это – в скобках. Перейдем к антитезису, к «Писателю и самоубийству». Не называемая, но подспудная тема этой книжки: уж коли вы такой серьезный-рассерьезный писатель, то должны знать, что играете со смертью, что она вовсе от вас недалеко; так что будьте к этой встрече – готовы. Всегда готовы. И синтез – первый детектив из фандоринской серии «Азазель», развлекательный, полупародийный роман про… самоубийц.
Детектив или не детектив. Надобно признать все же, что детективы Б. Акунина не совсем детективы, или совсем не детективы. Начнем с самого простого отличия, хотя оно и не бросается в глаза. Детектив всегда имеет (да и имел) дело с актуальностью. Акунин же пишет об умершей актуальности. Честертон или Чандлер, Рекс Стаут или Конан Дойль, Дороти Сейерс или Агата Кристи спешили откликнуться на самые недавние события. Помните, в одном из детективов Рекса Стаута Ниро Вульф не без интереса почитывает недавнюю, экзотическую литературную новинку: «В круге первом» Александра Солженицына? Ничего подобного нет у Бориса Акунина. Для его героев литературные новинки – «Бесы» или «Синяя птица». Акунин пишет об умершей актуальности. Когда-то это было актуально, а теперь – нет, теперь немножко забавно, немножко старомодно… Да, да, ретро…
Про Акунина сначала хочешь сказать, что он – анти-Достоевский, и только потом соображаешь, что он ведь, пожалуй, и анти-Честертон, и анти-Чандлер, и… да и вообще – анти-любой-автор-детектива. Нет, нет, пожалуй, зря я так размахнулся… Прямо уж – анти-детектив. Просто при всем своем подчеркнутом западничестве, при всей своей англомании Акунин принадлежит не англо-американской детективной традиции, а русско-немецкой. Гофман – вот кто ее создатель. Помнится, тот же Куприн писал, что весь западный детектив в свернутом виде содержится в «Потерянном письме» Эдгара По. Продолжая сравнение, можно сказать, что весь русско-немецкий детектив заключен в «Мадемуазель Скюдери» Гофмана.
В первом случае мир – расчислен, выверен; мир можно решить, как шахматную, математическую задачку. В этом мире убийца, преступник вычисляется. Он – функционален. Недаром в первом детективе такого рода («Убийство на улице Морг») убийцей оказывается обезьяна. О самой себе ей нечего сказать. О ней все будет рассказано сыщиком – тем, кто ее вычислил, рассчитал.
Совсем иное дело – русско-немецкий детектив, детектив Гофмана и Достоевского. Здесь мир принципиально нерассчитываем, непознаваем. Истинные причинно-следственные связи скрыты от людей. Дмитрия Карамазова люди наказывают за отцеубийство, и никто (кроме автора и читателя романа) не догадывается, что Митя наказан не за отцеубийство, а за другое преступление: он вытянул за бороденку из трактира штабс-капитана Снегирева. В результате от оскорбления, нанесенного его отцу, заболел и умер Илюшечка Снегирев. Дмитрия Карамазова наказывают правильно, но не за то преступление, которое он совершил. Вот это – идеальная ситуация русско-немецкого детектива.
Все здесь зиждется на самообнаружении преступника, на его добровольном признании, исповеди, если угодно. Развязка англо-саксонского детектива: потрясенный преступник спрашивает: «Как вы догадались?» – и следователь небрежно объясняет: «Ну как же! Вы же банку с фосфором забыли!» Развязка русско-немецкого детектива: сам преступник, захлебываясь в слезах и соплях, вопит: «Люди! Я убил…» или (будучи уверен в собственной безнаказанности), нога на ногу, рассказывает, как он все придумал и сделал, тут-то и выползает из подпола живой-живехонький, немножко выпачканный сыщик… На самом низком, житейском уровне развязка русско-немецкого – финал некрасовских «Коробейников»: «Ты вяжи меня, вяжи, да не тронь мои онученьки!» – «Их-то нам и покажи…» Самый высокий, философический уровень такого рода развязки: трехвечерняя исповедь Смердякова.
Но до таких высот Б. Акунин не поднимается, да и не хочет подниматься. Он – автор странноватых кукольных трагикомедий про то, чего никогда не было, да и быть не могло. Он развлекается, как принц Флоризель из книг Стивенсона. От души веселит себя и своих знакомых. То главного подозреваемого назовет фамилией первого своего издателя Захарова; то обер-прокурора Синода Константина Петровича Победоносцева упорно и настойчиво из книги в книгу станет называть Константином Побединым по имени и фамилии художника, первого оформителя своих первых книжек; то и вовсе расхулиганится: на «спинке обложки» поместит из хвалительной рецензии Михаила Новикова хвалительнейший отрывок, мол, такие книжки надо читать подряд, не отрываясь, а в самом романе (который надо читать подряд, не отвлекаясь), на странице 110 испоместит такой сюрприз: «“Новиков, шпынь ненадобный! Свинячий морда расшибу!” Фон Дорн бросился к Миньке Новикову из четвертого плутонга. С Минькой беда…»
Развлекуха, одним словом, капустник…
Мудрость Чхартишвили. Б. Акунин сознательно, идейно делает себя развлекателем, массовиком-затейником. В этом – его мудрость. Один раз он подмигнул читателю, мол, вот она – моя мудрость, следите внимательно – в первой части дилогии «Особые поручения», в «Пиковом валете»: «Барышни щебетали, без стеснения обсуждая детали его туалета, а одна, премиленькая грузинская княжна Софико Чхартишвили, даже назвала Тюльпанова “хорошеньким арапчиком”…»
София, как известно, мудрость. Мудрость Чхартишвили – вот как назвал веселую, лихую подручную обаятельного жулика, Момуса, Б. Акунин. Момус – тоже не без лукавства имя. Мом – бог смеха в Древней Греции. Настоящее имя Софико Чхартишвили – Мими. Мом и Мим – похоже на два клоунских прозвища, во-первых, а во-вторых, в подручных у бога смеха и должен быть – мим, артист, мастер перевоплощений.
Так именно и обозначает Чхартишвили, ставший Б. Акуниным, свою мудрость – веселую, жуликоватую, с легкостью меняющую обличья. Не нравится? Больше по душе – серьезная литература, та, что решает серьезные проблемы? Пожалуйста! В дилогии рядом с повестью о веселых обаятельных жуликах, огенриевских, ильфопетровских, помещена повесть о философе-убийце; о мыслителе, задумывающемся о боге, красоте, жизни и смерти… В дневник Соцкого Б. Акунин ненавязчиво подкидывает немного, немножко из дневника Льва Толстого. Вот два варианта литературы, рассуждает Б. Акунин. Вот легкий, веселый западный жулик – Остап Бендер или Энди Такер. А вот русский идейный убийца – Соцкий… Кто лучше?
Ведь правда Соцкого этого лучше в землю, а вот у Мома, Момуса, у бога смеха и превращений, можно и в подручных походить, подзаправиться мудростью.
Революция. Акунинская идеология порою выпирает настойчиво, словно агитация и пропаганда. Припомним лучшие романы Акунина: «Азазель» – разоблачение «улучшателей» человеческого рода, позитивистов, воспитателей, ученым языком говоря – формирователей социогенных навыков. Отсюда берет начало одна из главных тем Б. Акунина, которой он посвящает все свои «варьяции», – неприязнь к «логическому парадизу», уверенность в том, что непредсказуемость жизни вообще и российской жизни в частности одолеет любые математические расчеты. Стоит только в тексте у Б. Акунина появиться деятелю, делателю, работнику, пытающемуся внести рассудочную стройность в симфонию бытия, как опытный читатель настораживается: это или несчастный безумец, или опасный преступник.
«Турецкий гамбит» – неожиданно узнаваемый литературный портрет Ильи Эренбурга, европейского, отважного журналиста-западника на службе у восточного тирана, азиатскими методами пытающегося европеизировать свою страну. В тот момент, когда французский журналист Эвре на спор пишет очерк о своих «рыжих сапогах», намек делается очевиден. Самый знаменитый герой Ильи Эренбурга – Хулио Хуренито – погиб в 1919 году из-за своих рыжих сапог в Киеве. А когда становится понятен этот намек, делается внятен и вопрос Б. Акунина. Не то же ли самое служить Сталину во имя европеизации России, что и служить Абдул-Гамиду во имя европеизации Турции? А отваги Илье Эренбургу было не занимать, как и Гюставу Эвре, доведись ему погибнуть, погиб бы с такой же бравадой.
Наконец, «Левиафан» – роман, в котором прокручивается тема гибели империи. Покуда – британской империи… Впрочем, вся фандоринская серия – сплошной рассказ об «империи с подкрученными усами», дескать, эх, хорошо было бы, если бы…
Впрочем, мало ли что было бы хорошо… Вон, Дороти Сейерс в Англии… Знай себе занималась своими учеными делами – археологией да классической филологией. Данте переводила. А в свободное от основной работы время пописывала детективы, главный герой которых, контуженный на Первой мировой войне лорд, среди многих своих дилетантских занятий (коллекционер, библиофил, филолог) – еще и детектив… Почему бы, кажется, и Григорию Чхартишвили, занимаясь своей японистикой и переводя Мисиму том за томом, так, между делом, а пропо, не выпускать к тому же и томики про любителей-сыщиков. Но нет, не получается… Не срабатывает. Между делом да без претензий – это не для нас. Что-то у нас не так и не то.
Из-за этого «не так и не то» – акунинская завороженность революцией. Тут уж вы со мной не спорьте. Псевдоним Григория Чхартишвили – Б. Акунин – не только милая шутка, подсунутая дорогому читателю: прочти книжечку, дружок, на обложечке – ругань, но ты ее не заметишь. Здесь также не только намек понимающему читателю, мол, заполняю лакуну: будь в России не революционер Бакунин, а веселый беллетрист Б. Акунин, может, и не рвануло бы эдак. Нет, здесь – серьезный, почтительный поклон, знак уважения великому русскому революционеру Михаилу Бакунину. «Кукольность» б. акунинской прозы почти исчезает, когда он принимается рассказывать о разрушителях, будь то киллер Ахимасс, либерал Гюстав Эвре или террорист Грин.
Ничего тут не поделаешь: революционер Грин у автора выходит много симпатичнее жандармов. Сама-то мысль «Статского советника» проста до неприличия и сформулирована давным-давно: все, мол, революции организуются карьеристами из жандармерии. Бескорыстные отважные фанатики бросаются в огонь, в гибель за справедливое общество, а циничная расчетливая сволочь по их трупам топает к власти. Это – идеологическая сторона «Статского советника», эмоциональная – другая… Хотя, впрочем, и идеология довольно амбивалентна. Это ведь только по внешности осуждение полицейской провокации, по сути же – ее оправдание. «Злом зло уничтожается» – странный афоризм, правда? И чем собственно отличается Фандорин, отправляющий на смерть от рук революционеров неприятного ему жандарма, от того же самого жандарма, тем ведь и занимавшегося?
Иное дело Грин! Одинокий человек с револьвером – против пьяных и тупых погромщиков. Болезненный мальчик, который выковывает из себя супермена, – недаром Акунин называет своего террориста именно таким именем. Тем обозначается его родство не только с писателем Грином, но и вообще с писательством, с Мисимой, например, которого так здорово переводил Чхартишвили.
Повторюсь, слабый, болезненный подросток, много читающий, много думающий, воспринимающий мир особенным живописным образом, словно Рембо или Набоков, делает из себя сверхчеловека, экстремиста, не боящегося боли, лихо швыряющего ножи, отлично стреляющего, великолепно дерущегося; и не просто фанатика, а настоящего вождя, за которым в огонь и воду, на гибель и муки его молодые друзья – чем не портрет Мисимы, перенесенный в иную эпоху, в иную страну?
Тень Мисимы и ненужные вещи. Тень Мисимы неоднократно проскальзывает над текстами Б. Акунина. В «Декораторе» Соцкий рассуждает о красоте человеческого тела «изнутри» словно герой знаменитого романа Юкио Мисимы: «Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? <…> Чем это так отвратительно наше внутреннее устройство? <…> Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку…» Собственно, о том и пишет упорно и настойчиво Б. Акунин: «Такова наша российская альтернатива: или безумие и экстремизм, или развлекуха… Буквально: кошелек или смерть».
Для того ему и нужен Мисима. Мисима – это ведь что такое? Это Япония после поражения. Япония, отрефлексировавшая свое собственное поражение. А что такое Борис Акунин? Обломавшаяся российская, а также и советская история и культура.
Что ищут в «Алтын Толобасе»? Библиотеку Ивана Грозного. Когда-то это было сокровище и интеллектуальное, и материальное, а сейчас… ничего особенного. Ненужная вещь, которая валяется под ногами. Вся эта культура и история – под ногами. Всем интересна, но никому не нужна. «Ненужность» – важная характеристика для Б. Акунина. Недаром в первом романе о потомке Фандорина, Николасе, попавшем в постперестроечную Москву, проскальзывает совсем неожиданный, совсем странный для Акунина сюжет, совсем удивительная для него тема… На кого похож нелепый, длинный интеллигент, занимающийся совершенно ненужным делом, влюбляющий в себя женщин, внезапно обнаруживающий клад и – самое главное! – постоянно влипающий в опасные смертоносные ситуации, но выбирающийся оттуда с честью и с обаятельной улыбкой? Что это за герой такой? Ну да – Зыбин из «Факультета ненужных вещей».
Три писателя. Из всех писателей в России для Б. Акунина наиважнейшими оказываются Валентин Пикуль, Юлиан Семенов и… Юрий Домбровский. Валентин Пикуль и Юлиан Семенов важны для Б. Акунина инструментально, функционально. Пикуль открыл то золотое дно, где можно рыть: российская история, которую никто не знает, но все о ней что-то слышали, всем она интересна, и потому можно играться с ней как угодно. Причем в пору постмодернизма можно просто пожать плечами, если сыщется какой-то настырный знаток: это же не исторические романы. Это – игра, интеллектуальная игра. Какие такие фактические неточности в романе, где вместо Скобелева – Соболев, а вместо Победоносцева – Победин? Этого всего не было. А вы выискиваете в этом «не было» или в этой «небыли» что-то, что было не так, или не совсем так… (В этом серьезное отличие Б. Акунина от Пикуля. Пикуль-то свято верил, что в его фантазиях – все так как оно и было на самом деле. Акунин прекрасно понимает, что работает не с эмпирической реальностью, а с представлениями о ней. Он заранее согласен. Этого не было. Это я придумал, но интересно придумал, а?)
Юлиан Семенов открыл героя. Ибо кто же такой Фандорин, сыщик-джентльмен с седеющими висками, как не старый наш знакомец, Штирлиц / Исаев, в минуту жизни трудную цитирующий Пастернака, разбирающийся в поэзии, живописи и восточной гимнастике? Даже Япония была в биографии Максим-Максимыча Исаева. Но это мелочь – Япония. Главное в самом этом снайперском попадании: какой герой здесь, в России, привычной к хамству, понравится? Не интеллигент, нет, не просто интеллигент – Паганелей нам не надо. Эксцентричность оставим для Ниро Вульфа и Эркюля Пуаро. Здесь нужен не эксцентрик, но джентльмен.
Совсем по-другому для Б. Акунина и Григория Чхартишвили важен «Факультет ненужных вещей» и лично Зыбин. Не функционально-инструментально. Здесь иное – уважительное, едва ли не боязливое. Б. Акунин ведь из тех писателей, у которых важно не то, что они сказали или перечислили, а то, что они не сказали, и то, что осталось у них неперечисленным. В статье «Похвала равнодушия…» Чхартишвили перечисляет бестселлеры 1997 года и вспоминает о бестселлерах 1989-го: «В списке бестселлеров “Книжного обозрения” – “Награда Бешеного”, “Спутники волкодава” и “Профессия – киллер”. А теперь представим себе, как выглядел бы перечень бестселлеров, скажем, 1989-го. Его возглавили бы “Колымские рассказы”, “Верный Руслан”, “Железная женщина”, “Улисс”, “1984”. Как говорится, почувствуйте разницу!»
Почувствуйте, но еще сообразите, что в тех же номерах «Нового мира», что и «1984» Оруэлла, печатался «Факультет…» Домбровского. Его Чхартишвили не поминает: слишком дорогая для него книжка. Что-то она такое зацепила в душе будущего Б. Акунина, потеснившего своими Фандориным и Пелагией – Бешеных и Волкодавов…
Словно для того, чтобы подтвердить это предположение, Чхартишвили на второй странице своей «Похвалы…» еще раз пускается в перечисление, и снова «из обоймы» выпадает роман Домбровского: «Все мы помним, как в недавнюю перестроечную эпоху литераторы были героями и народными любимцами, все только и говорили, что о золотых тучках, арбатских детях, красных колесах и белых одеждах». Не встраивается для него в этот пренебрежительный перечень «факультет ненужных вещей» – почему, спрашивается? Может быть, потому, что Домбровский со своим Зыбиным показали и доказали нужность ненужных вещей? Очень возможно… Только для Б. Акунина эта ненужность – вполне утилитарна. Из всей российской пересмотренной, ревизованной истории он делает – товар. Он играет на разнице курсов. Так играл когда-то Юлиан Семенов.
Разница курсов. Сделаем-ка гестаповцев – симпатичными. Не будем забывать, что они – враги, но поглядим, посмотрим, как ладно сидят на них мундиры, как они умеют спорить, как они интересны и экзотичны. Подобный же фокус проворачивает Б. Акунин с точностью до наоборот в «Шпионском детективе». Все мы знаем о зверствах НКВД, а мы вот возьмем да и изобразим НКВД так, как Юлиан Семенов изобразил гестапо и абвер. Они получатся не менее интересными и экзотичными, чем нацисты в «Семнадцати мгновениях весны».
Порою кажется, что Борис Акунин прислушался к рассуждениям Леонида Леонова, записанным Корнеем Чуковским в дневник. Леонид Леонов удивлялся Василию Гроссману и говорил приблизительно так: ну наболело у тебя что-то, ну придумал ты что-то важное – так придумай к этому мясу соус. Сделай какого-нибудь отрицательного героя: троцкиста, белогвардейца, фашиста – и все родное, наболевшее, парадоксальное вложи ему в уста “десницею кровавой”. Похоже, что это – принцип Акунина. Любимую свою, дорогущую мысль о невозможности добра в реальном мире Б. Акунин вкладывает в уста Канарису в «Шпионском детективе»: нет на Земле борьбы между Добром и Злом; есть схватка между Злом большим и Злом меньшим. А уж ваше дело решить, на сторону какого Зла вы станете, какое Зло для вас меньшее – Сталин или Гитлер, НКВД или гестапо…
В этом (да и не только в этом смысле) Чхартишвили – убежденный антишестидесятник. Для наивного шестидесятника Ильи Габая, для мудрого шестидесятника Михаила Гефтера признание того факта, что методы НКВД ничем не отличались от методов гестапо, – причина для пересмотра мировоззрения, начало идеологической ломки. Для Б. Акунина это – краеугольный камень. Именно так – ничем не отличались, поэтому не один ли черт, кому служит сильный и умный, отважный и веселый человек – той сатане или этой?
Шестидесятники и склад. Наверное, поэтому так истово и сокровенно не любит Б. Акунин шестидесятников. Один раз (в «Алтын Толобасе») он дал своей неприязни пусть и шутейно, но вырваться… «Киллер суперкласса <…> Кличка Шурик, а настоящего имени никто не знает… Киллер нового поколения, со своим стилем. Патриот шестидесятых: очки, техасы, кеды, Визбор и все такое…» Здесь Б. Акунин выполняет свой фирменный фокус: превращение «князя Мышкина» в «Николая Всеволодовича Ставрогина».
В «Пелагии и черном монахе» это происходит на глазах читателя. В «Алтын Толобасе» превращение происходит за текстом, но тем оно… неприятнее. Обаятельный Шурик из «Кавказской пленницы» – очки, ковбойка, чуб, улыбка – превращается в умелого и безжалостного убийцу. Но Б. Акунин не останавливается на достигнутом. Он дважды описывает гибель «киллера в очках». Один раз разыгранную, фальшивую, второй раз – настоящую, полную, всерьез. И оба раза – на пустыре. «Не помните, какой это убивец в очках и с обаятельной улыбкой так погибал… на пустыре?» – словно бы спрашивает у грамотного читателя Б. Акунин. Разумеется, помним, герой поколения, Мачек Хельмицкий из «Пепла и алмаза».
Удивительным образом Б. Акунин угадал. В самом начале своей кинематографической карьеры Александр Демьяненко, будущий Шурик, играл как раз романтических героев в очках и с наганом. Уже потом режиссеры сообразили, что очки и демонизм, очки и романтический ореол в России пока не совпадают, пока противоречат друг другу слишком сильно, чтобы на этом можно было сыграть.
Акунин вообще любит одеть хорошо узнаваемых героев литературы, истории и политики в иные одежды. До полного неистовства он доходит в «Пелагии и черном монахе», где сумасшедший дом становится складом всей русской литературы, да и не только литературы, да и не только русской. Имморалист-художник из рассказа Акутагавы Рюноскэ, погубивший свою дочь во имя искусства, соседствует с гениальным физиком, занятым проблемами радиации, чьи слова не поспевают за мыслями, и потому окружающим кажется, что он несет белиберду. Невдалеке пробегает еще не госпитализированный – православный политэконом и рачительный хозяин вверенного ему острова Виталий II, настоятель Ново-Арарата.
Да, пожалуй, это – наилучший образ для текстов Б. Акунина. Это – не факультет ненужных вещей, как у Домбровского. Это – склад ненужных вещей, которым умелый менеджер находит применение, находит сбыт. Здесь нам снова поможет та давняя статья Чхартишвили. Ей-ей, ее вполне можно считать б. акунинским литературным манифестом, по крайней мере, программой действий. «Кто разрушил серьезную литературу? Кто ее убил?» – задает вопрос Чхартишвили, и сам же себе отвечает: «Перестроечная публицистика»
«Благодаря вам, критики, массы поняли, что Проскурин – это плохо, а Платонов – хорошо, и не стали читать ни первого, ни второго. Из-за вас, редакторы, читатель избавился от комплекса неполноценности, восполнил пробелы в образовании и получил индульгенцию от дальнейшего чтения». Всё так, но после этой очистительной или разрушительной работы осталась масса неутилизованных вещей, неких неустоявшихся, облакоподобных представлений. Ну, скажем: революция – плохо, но революционеры бывают хорошие. Или: были такие провокаторы (вроде бы Азеф? или Судейкин? или Дегаев?), они работали на полицию и на террористов, а на самом деле карьеру лепили. Или: вот если бы не ксенофобия в Российской империи, то до сих пор бы стояла…
Они не то чтобы неверны, эти представления, но они слишком общи, именно что облакоподобны. И с ними можно работать, как и с приблизительными представлениями о том, что было в России – раньше. Это – глина, из которой можно вылепить все что угодно. Так Юлиан Семенов из приблизительных представлений о третьем рейхе, смешанных с опытом жизни в тоталитарной стране, вылепил мир добродушных, интеллигентных злодеев в красивых мундирах.
Против правил
(Александр Товбин. Приключение сомнамбулы. Роман с излишествами)
Этот роман написан против правил. Против правил современной литературной игры. Два тома, каждый по 800 страниц. Даже Дмитрий Быков и Максим Кантор на такое многосотстраничье не замахиваются. Этот роман переполнен рассуждениями об искусстве, о живописи, архитектуре, о структуре художественного текста. Он набит цитатами, явными и скрытыми, из самых разных произведений, от поэм до пьес. Иногда он становится похожим на эстетический трактат. Автор мог бы написать о своей книге так, как написал Чехов о первой своей пьесе «Чайке»: «Пишу комедию. Страшно вру против всех правил драматургии».
Дом. Такое сравнение (с Чеховым и «Чайкой») вполне правомерно. И не только потому, что «Чайка» чаще всего цитируется в этом романе, становится одним из его лейтмотивов. Но и потому, что это – великий роман, как и «Чайка» великая пьеса. Он стоит в одном ряду со всеми теми романами, на которые явно и неявно ссылается: с «Петербургом» Андрея Белого, «Волшебной горой» Томаса Манна, «Даром» Набокова, «Улиссом» Джойса, «В поисках утраченного времени» Пруста и даже с «Процессом» Кафки. Он не проигрывает от такого соседства. Писатели (если они настоящие писатели) живут для того, чтобы написать хотя бы один такой роман.
Такие книги пишутся раз в десятилетие, если не реже. Поэтому не удивительно, если сразу их не замечают. «Большое видится на расстоянье». От них не убудет. Они встали в ряд. Они стоят в культуре, даже если их сразу не прочли или даже не пролистали. Но в незамечании романа Александра Товбина «Приключение сомнамбулы» есть что-то катастрофическое, обвальное. «Чайка», к примеру, хотя бы с позором провалилась на столичной сцене. Но тут – полное молчание. Двухтомный роман ухнул в это молчание. Нельзя нарушать правила.
Вот и я, взявшись писать об этом романе, сразу нарушил по крайней мере два правила. Первое: только сейчас назвал этот роман и его автора. Второе: пишу рецензию на книгу, вышедшую три года назад. Но это же особый случай: великий роман никем не замечен. Тому есть несколько объяснений. Архитектор Александр Товбин писал свой 1600-страничный роман 35 лет. Он выстраивал его, как дом. Дом этот стоит. Прикиньте, за какое количество времени можно прочесть этот роман? Огромный дом обживают медленно, вживаются в него. Такие романы не просто читают, их перечитывают.
Вы можете за два вечера прочесть «Войну и мир»? «Братья Карамазовы»? «Улисс»? Критик Лев Пирогов верно заметил: «Настоящий роман – это “Жизнь Клима Самгина”, “Тихий Дон”, “Хождение по мукам”. Это – много свободных вечеров, халат, удобное кресло, мягкие тапочки». Он, правда, не продолжил своё верное рассуждение: чтение настоящего романа, будь то «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон» или даже «Хождение по мукам» предполагает читательское усилие. Душевного уюта настоящий роман не предполагает. Не так-то просто войти в настоящий роман, но, совершив это усилие, войдя в него, ты уже будешь в нем. Он станет для тебя интереснее детектива.
Эксперимент. Александр Товбин поставил эксперимент. Не только потому, что роман начинается с длиннющего и сложного для восприятия пролога-эпилога, предполагающего, что, прочтя всю книгу, читатель вернется к началу и еще раз прочтет про то, как она рождалась. Не только поэтому, но и потому, что он своим текстом проверил: возможно ли в современной России появление настоящего, сложного, многофигурного романа? Результат эксперимента парадоксален. Возможно, потому что роман появился. Вот – он. Издан. В двух томах, в твердой, красивой обложке. Невозможно, потому что его никто не заметил.
На этой возможности-невозможности балансирует весь текст Товбина. Возможно ли писать роман и одновременно рассуждать о романе? Возможно ли вводить в реалистический роман фантастические сцены, вроде спора Набокова и Томаса Манна в Ленинграде 70-х годов ХХ века? Возможно ли смешивать вымышленных героев и реальных, узнаваемых людей, вроде поэтов Виктора Кривулина, Геннадия Алексеева, Иосифа Бродского, писателя Сергея Довлатова, ученого, переводчика, дешифровщика древней письменности Александра Кондратова? Наконец, возможно ли написать роман поколения? Это самое главное «возможно ли». Потому что роман Товбина – роман поколения.
Поколение. Поколение это особое. Это – первое и последнее полностью советское поколение. Его раннее детство пришлось на довоенные годы, когда дореволюционная и революционная жизнь стала пусть и близкой, но историей, к тому же отрезанной от современности кровавым рвом; его детство и отрочество пришлось на войну и послевоенные годы, юность – на «оттепель», зрелость – на «застой» и перестройку, а старость – на постперестроечную Россию. На это поколение явно злятся, неявно ему завидуют, а стоило бы ему посочувствовать.
Это поколение выросло на обломках двух враждебных культур: дореволюционной, российской и революционной, авангардистской, назовем чудовище его настоящим именем, коммунистической. Советский монстр, паразитировавший на этих обломках, казался вечным. Самые бесшабашные и сильные из поколения уходили или выдавливались в диссиденты, в андерграунд, в самиздат, отрывались в эмиграцию; самые глубокие и не такие сильные пытались что-то сделать в предоставленных им историей условиях; не разумом, но инстинктом понимая, чем грозит для них и для страны изменение пусть и нелепых, но привычных условий существования.
Но и те и другие под старость оказались в тех самых, резко изменившихся условиях человеческого существования. Старая китайская мудрость: «Не дай Бог жить в эпоху перемен», куда более житейски верная, чем восторженное восклицание Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», относится к этому поколению. Роман, как и положено настоящему роману охватывает огромный временной промежуток – от довоенных лет до 80-х годов ХХ века. Роман, как и положено настоящему роману, написан про то, что автор знает досконально: про ленинградскую интеллигенцию, про довольно узкий социальный слой. Но это не минус. В конце концов, прустовская эпопея написана тоже об очень узком слое парижских аристократов и буржуа накануне и во время Первой мировой войны.
В центре романа Товбина – судьба главного героя, архитектора Ильи Соснина, и трёх его школьных друзей.
Если очень коротко и очень метафорически обозначить главную тему книги, то это будет рассказ о том, как обломки недоуничтоженных культур ставили на крыло талантливых ребят для полёта… в стену. В Италии есть такой памятник. Стена, а по ней размазаны выпуклые очертания разбившихся об эту стену птиц. Скульптор отливал птиц и стрелял ими, ещё не остывшими, прямо из печи – в стену. Вот такая стена с влипшими в неё птицами – «Приключение сомнамбулы» Товбина. Задача ясна: если не пробить стену, то хотя бы распластаться на ней художественным, творческим усилием. Предполагается, что у читателя хватит хоть малой толики такого же усилия. Не хватило. Жаль.
Чувство справедливости
(С. Лурье. Изломанный аршин)
Фридрих Ницше писал, что справедливость – единственное человеческое чувство, для проявления которого необходима гениальность. В данном случае Ницше был прав. Для любви или ненависти гениальность не обязательна, но попробуйте-ка быть справедливым. Не всем поровну, но каждому по заслугам. Мозг, сердце и нервы пойдут вразнос.
Великие люди и историческая справедливость. Более всего чувство справедливости порушено в истории. Особенно в российской. Из-за культа великих людей. В российской культурной традиции великий человек могильной плитой придавливает всех своих современников. Они исчезают в его тени. Звонкое имя – Пушкин! А кто там вокруг него: Баратынский (любимый поэт Иосифа Бродского), Батюшков, Катенин, Дельвиг – слышно неотчетливо.
Но это всё друзья, а если литературный враг вроде Бенедиктова или Николая Полевого, тут уж не просто могильная плита – осиновый кол, чтобы не поднялся. Великий человек – это же… властная вертикаль культуры. Как можно против нее пойти? Разброд и шатание, анархия и безобразие. Восстановлением исторической справедливости как раз и занят петербургский критик Самуил Лурье в своем трактате с примечаниями под названием «Изломанный аршин».
На самом деле никакой это не трактат, а самый что ни на есть исторический роман с прихотливым, изысканным сюжетом. Главный герой этого романа – журналист, драматург, романист первой трети XIX века Николай Полевой – появляется только в третьей главе. И как появляется! Послушайте, то есть почитайте: «В печальной истории, которую я почему-то считаю своим долгом рассказать, роль Пушкина почти случайна. Как если бы он в горах Кавказа запустил в пропасть огрызком яблока, а через минуту где-то далеко внизу тронулась каменная река и кого-нибудь задавила».
Рассказана история гибели литератора, яркого представителя постоянно нарождающегося, да все никак не могущего в России родиться среднего класса. Николай Полевой, образованный купец, издавал в 30-х годах XIX века самый популярный в России журнал «Московский телеграф» и сам был чрезвычайно писательски популярен в те же годы. Был честен и порядочен. Хотел, чтобы Россия без революционных потрясений стала европейской страной.
Страной без крепостного права, с обеспечением элементарных прав личности – скажем, на тайну личной переписки или чтобы людей податного сословия не секли прилюдно на площадях. Понятно, что с такими желаниями образованный купец и издатель популярнейшего журнала не мог понравиться ни Николаю I, ни министру просвещения Сергею Уварову, автору знаменитой триединой формулы «Самодержавие. Православие. Народность».
Журнал в конце концов запретили. Историю с запрещением Самуил Лурье рассказывает подробно, зло, убедительно. Доказывает как дважды два, что средний класс и не может появиться в несвободной стране. Парадокс в том, что это «дважды два» приходится доказывать. Но Полевого угораздило попасть не только под государственное, но и под общественное мнение.
Репутация и обида. Самуил Лурье так же подробно и так же остроумно, как о запрещении «Московского телеграфа», рассказывает историю гибели литературной репутации Николая Полевого. И вот тут становится ощутимо главное чувство автора, подпитывающее чувство справедливости. Обида. По справедливости, Полевой с его деловой хваткой, организаторскими способностями не должен был умереть в нищете.
По справедливости, он, читаемый в 30-х годах XIX века всеми образованными людьми – от молодого Герцена до графа Соллогуба, должен был заслужить уважительную, беспристрастную главу в истории русской журналистики и литературы. А он не то чтобы забыт (многие забыты) – ославлен и ошельмован. Не повезло. С Пушкиным поссорился. Белинским был обруган.
А Пушкин – наше все. Белинский – наше почти все. Если бы Самуил Лурье был более ироничен, чем есть, хотя это сложно, почти невозможно, он бы назвал свой трактат «Как поссорились Александр Сергеевич с Николаем Алексеевичем». Но это был бы перебор. Тем более что поссорились из-за безделицы… Александру Сергеевичу нужен был видный и значимый посаженый отец на свадьбу, например князь Юсупов – екатерининских еще времен вельможа, содержатель огромного крепостного гарема, бездельник и богач.
Александр Сергеевич написал оду «Послание к Н. Б. Ю.». Разбор этой оды блистательно выполнен Лурье в главе «Ода. Пасквиль. Нечто о пурге». А Полевой опубликовал памфлет на бездельника и взяточника Юсупова, известного всей Москве, «Утро в кабинете знатного барина», где помянул и лизоблюда-стихотворца, посвящающего этому барину оды. Понятно, что такого оскорбления не прощают. Полевой – во врагах у Пушкина навеки.
Но пафос автора «Изломанного аршина» понятен. По-человечески внятен. Если ты – гений, то тебе позволено все? И история тебя за все оправдает? А если ты просто талантливый, работящий, порядочный человек, которого угораздило родиться в деспотическом государстве, то мало того что государство тебя разомнет (как, кстати, и гения), но и история брезгливо, презрительно обогнет по касательной. Был, дескать, в свое время такой популярный, а в сущности бездарный и реакционный писатель Николай Полевой. Обидно. Несправедливо. Неправильно.
Прогулки с Пастернаком
(Дм. Быков. Пастернак. Биография)
Люди старшего поколения помнят, какой радостью было в конце семидесятых годов нырнуть в книжку… ну-у-у, скажем: Юрий Тынянов, «Поэтика. История литературы. Кино». Я не вылезал из комментариев, до того это было интересно, захватчиво, напряженно. Да, да, я огорчился-обрадовался, обрадовался-огорчился, когда в конце восьмидесятых Мариэтта Чудакова сказала что-то вроде: «Радости семидесятых ушли в прошлое, прошло время комментаторов и комментариев. Сейчас время солидных „кирпичей”, научных и научно-популярных монографий и биографий». Эти монографии, биографии в конце концов появились, так что прогноз был точен, но в эти биографии, монографии было уже не окунуться так, как в прежние комментарии. Отчего? Отчего факты, фактики, наблюдения и прочее, помещенные в комментарии, были так интересны, а собранные в книгу становились на редкость скучны? Может, потому, что они были вне текстов того, о ком они были собраны? Оказывалось, что факты и фактики – тень того главного, что было в прежних книгах, тень текстов, которые были в книгах. Когда не было текстов, а были их тени – исчезала интересность и захватчивость. Оставалась плоскость, черная, необъемная, нечеловеческая. К биографии, написанной Дмитрием Быковым про Пастернака, это не относится.
Да, да. Время собирать камни. Исчезли те поколения, что по статеечке, по фактику в клювиках носили материальчик в свои гнездышки. Сейчас время толстенных кирпичей, обобщающих и – в то же время – популярных работ. Но в таких работах не обойтись без концепции, без сюжета той жизни, с которой работаешь. Пиши я о Пастернаке, я бы нашел одно страшное слово, которое удивительным образом реабилитировано великим поэтом. Быков цитирует эти строчки: «Друзья, родные, милый хлам, / Вы времени пришлись по вкусу! / О, как я вас еще предам, / Глупцы, ничтожества и трусы!» Да, вы угадали: это слово – предательство.
И фотографию можно было бы подобрать соответствующую, ту самую, на которой Маяковский и Пастернак. Один – бритый, другой – шевелюристый. Один стоит за спиной другого. Видно, что тот, кто на первом плане, оттолкнется и уйдет от того, кто стоит за его спиной. Всю оставшуюся жизнь будет отталкиваться от того, кто на фотографии стоит за его спиной. В слове «предательство» здесь нет ни осуждения, ни оправдания. Это слово здесь безоценочно и метафизично. Кто-то остался, а кто-то ушел. Здесь – ницшеанство высшей, настоящей пробы, до которой самому Ницше было не допрыгнуть, а русский поэт смог.
Что-то было в нем пугающее, что-то позволяющее ему переводить «Фауста». И все воспоминатели, все мемуаристы каким-то чудом описывают дугу вокруг этого пугающего, не называют его, а… оно все одно ощутимо. Быков, к сожалению, не называет того, кто предположил, что Врубель, часто бывавший в семье Леонида Пастернака, изобразил в качестве Демона молодого Бориса Пастернака. Это предположение петербургского литературоведа Леонида Дубшана. Но само предположение приводит. Это – верно. Это очень похоже на правду.
Биографии – штуки поучительные. Пишущий биографию всегда под сурдинку поучает: вот, дети, с кого надо делать жизнь… или наоборот: дети, если будете так безобразничать, как этот дядя или эта тетя, то и вам будет так же скверно, как этим дяде-тете. Быков вообще склонен к поучениям, к морализаторству, даже в лучших своих балладах он за шаг до басни, не притчи, а басни, что уж говорить о биографии. А кстати: много ли поэтов писало биографии других поэтов? Я помню только Ходасевича, написавшего биографию Державина и придумавшего Василия Травникова. И всё, пожалуй, всё… Биография поэта, написанная поэтом же, волей-неволей становится профессиональным и житейским кредо пишущего поэта.
Что такое Пастернак в исполнении Быкова? Сверхпоэт; поэт, живущий только для того, чтобы писать стихи, драмы, поэмы, романы. Что такое жизнь Пастернака в изображении Быкова? Это не просто интересная жизнь… Это – сказочная жизнь или авантюрная жизнь. Та жизнь, для которой подошли бы книга сказок или авантюрный роман вроде «Трех мушкетеров». А что? В Борисе Пастернаке немало мушкетерского. Рисковал, пил, ссорился с властями, мирился с властями, любил красивых женщин. Была в Пастернаке какая-то изумительная суперменская повадка. Недаром его так полюбили американцы. Фильм сняли голливудский, сам Тарантино рядом с могилкой присел и пригорюнился. А вот, между прочим, зря Быков не написал главу: «В зеркалах: Тарантино». Пастернак – он ведь вроде Джекки Браун из одноименного фильма Квентина: старый, одинокий, а против него – такое чудище, такая пушка. И вот поди ж ты! Сделал, победил это чудище, как немолодая негритянка Джекки сделала всех – от торговца оружием до полицейских. Нет, нет, недаром Тарантино так задушевно говорил о русском писателе Пастернаке. Недаром.
Пастернак был из породы победителей. Это прекрасно изобразил Дмитрий Быков. Дело не в уме, не в расчетливости, прозорливости, трезвости. Дело – в потрясающем социальном инстинкте. И то сказать: славянофильская поэма Пастернака, писавшаяся им в конце войны, свидетельствовала: он развивался в правильном, магистральном направлении. Это «откровенные марксисты», вроде молодых Самойлова и Слуцкого, могли чертить по воздуху геополитические ревчертежи и предполагать, что дело идет «к восстановлению коминтерновских лозунгов» (Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995, стр. 160). Пастернак давно уже просек, что не тем хороша Россия, что в ней произошла Октябрьская революция, а тем хороша Октябрьская революция, что она произошла в России.
Ходасевич вот был и умнее, и трезвее, и прозорливее Пастернака, ну и помер в парижской больнице для бедных. А Пастернак так умудрился себя сориентировать в социальном пространстве, что в самый разгар травли за ним присылали машину, чтобы везти не на Колыму, а в ЦК – побеседовать… Просто ощутимо злорадство, с каким Быков описывает встречу Пастернака с Поликарповым. Слышно не произнесенное поэтом по адресу власти: «Ну что, гады, нарвались на того, кто смог дать сдачи? Получите…» Процитирую с таким же удовольствием:
«„Ай-ай-ай, Дмитрий Алексеевич! – сочувственно воскликнул Пастернак. – Как вы бледны, как плохо выглядите! Не больны?” Вид у Поликарпова был в самом деле не лучший – еще бы, после бессонной недели!.. „Пожалуйста, – выпишите пропуск девочке внизу, – попросил Пастернак. – Она будет меня отпаивать валерьянкой”. – „Как бы нас не пришлось отпаивать”, – покачал головой Поликарпов…» Ну правда же, диалог если не из тарантиновских фильмов, то из фильмов братьев Коэн. Американский диалог: одиночка ведет разговор с мафией на равных. И мафия уважает, опасается одиночку.
Мне-то это не слишком по нраву. Здесь есть один парадокс восприятия. На мой взгляд, успех «Лолиты» человечнее успеха «Живаго» и «Тихого Дона». «Лолита» – книга куда более нравственная, чем два романа двух нобелевских лауреатов. «Так пошлиною нравственности ты / Обложено в нас, чувство красоты!» – не отговорка циника, а спокойное убеждение настоящего моралиста, каковым Набоков и был. Мораль «Лолиты» очень проста: нельзя трахаться с несовершеннолетними, хотя очень хочется. Почти мораль «Преступления и наказания»: нельзя убивать старушек, хотя очень хочется. Есть какие-то непереступаемые законы нравственности – абсолютное убеждение Набокова. Между тем как Шолохов и Пастернак в этом последнем вовсе не убеждены, совсем не убеждены. Недаром сравнивают два этих великих романа. Не только потому, что и в «Тихом Доне», и в «Докторе Живаго» описывается погибший мир (у Шолохова – казачество, у Пастернака – дореволюционная интеллигенция), но еще и потому, что главный задушевный герой и Шолохова, и Пастернака – настоящий, доподлинный, мучительный и мучающий других… ницщеанец. Ему все позволено. Он – личность. Он так хорош, что окружающая его мелюзга радоваться должна, что вот позволено жить рядом с таким… Наверное, это – правильно, но мне это не нравится.
А Быкову нравится. Он пишет книгу об удавшейся жизни. Красивые здесь красивы, плохие – плохи, а хорошие – хороши. Здесь нет полутонов. Каждый здесь получает то, что заслуживает. Если поглядеть да посмотреть, какая книжка архетипична биографии, написанной Быковым, то это – «Мастер и Маргарита». Даже хулиганства Пастернака отдают тем самым, не то воландовским, не то обаятельно-бегемотовским: «Федин созвал писателей на новоселье. На почетном месте сидел Пастернак. Гости были сановитые – редколлегия „Нового мира”, в которую входил и Федин; Вишневский – главный редактор „Знамени”, в 52-м – законченный литсановник апоплексического сложения, вставлявший в речь флотские словечки и ругательства. Когда уже порядочно клюкнули, Вишневский встал и провозгласил тост за будущее настоящего советского поэта Пастернака. Он подчеркнул – „советского”. Пастернак меланхолично поковыривал вилкой салат и так же меланхолично протянул: „Все-еволод, идите в п. ду!» В первый момент никто ничего не понял. Вишневский замер квадратным изваянием с рюмкой в руке. Пастернак, не отрываясь от своего занятия, внятно повторил для тугоухих: „В п. ду!”»
Подумаешь, послал подальше начальника, но как смачно описано! С каким удовольствием этот эпизод не то чтобы перечитываешь, но переписываешь… Две тенденции столкнулись и стакнулись в книге Быкова о Пастернаке. Одна – идейная. Дмитрий Быков мономан. У него – одна, ну от силы три идеологемы, которые он с непревзойденным талантом и упорством излагает во всех своих произведениях. История – нечто вроде погоды, никуда не деться от ее изменений, что же до поэтов, то лучшие из них те, кто живут в согласии с климатическими изменениями общественной погоды; те, что живут в ладу с историческими зимой, весной, летом, осенью. Высокий конформизм, стоицизм героического обывателя.
Быков уверен в абсолютном равнодушии социальной природы к отдельной человеческой личности. Любое социальное изменение совершается независимо от людей. Сопротивляться революции или способствовать ей – все равно что сопротивляться зиме или способствовать весне. Социальные изменения для Быкова подобны изменениям климатическим: стихия! А раз так, то со стихии взятки гладки; и так же гладки взятки с тех, кто внимателен к этой стихии… Мне это тоже не по душе. Мне больше по душе немецкий летчик, о котором рассказывал сын Пастернака. Эпизод – маргинальный, на обочине повествования, но до чего же он важен, этот маргинальный эпизод: «Немецкий летчик добровольно сдался в плен, увидев огромную толпу мирных жителей, вышедших к верховьям Днепра рыть окопы. Что уж там творилось в душе этого впечатлительного летчика – один Бог ведает: это попытался реконструировать в своем рассказе Андрей Платонов». Выходит, не полным фуфлом была интернационалистская пропаганда: значит, и у немцев были свои «догматики Петровы», для которых были внятны слово «класс», и слово «Маркс», и слово «пролетарий». Об этом летчике впору баллады бы писать, как написал балладу о «майоре Петрове» Борис Слуцкий. Что с ним стало, с этим летчиком?
И впрямь, что творилось в его душе? Может, он был пацифистом? А может, нет? Может, успел полетать и над Францией, и над Польшей, и над Англией? Может, он честно сражался против плутократий Запада и против «уродливого порождения Версальского договора», но против единственного в мире государства рабочих и крестьян сражаться не захотел? Может, он был интернационалистским дураком и коммунистическим догматиком, этот летчик? В этом случае он вряд ли воспринимал социальные изменения как изменения климата, как смену зимы, весны, лета, осени. И что с ним стало в результате? Где он сгинул, в каком концлагере? Какое дело о каком шпионаже на него повесили?
А может, все получилось так, как с майором Петровым в балладе у Слуцкого? «Когда с него снимали сапоги, не спрашивая соцпроисхождения, когда без спешки и без снисхождения ему прикладом вышибли мозги, в сознании угаснувшем его, несчастного догматика Петрова, не отразилось ровно ничего. И если б он воскрес – он начал снова!» Вот эта история удивительно контрапунктически точно подходит к Пастернаку, к его жизни. Уж кем-кем, а фанатиком и догматиком он не был, воскресал несколько раз и несколько раз менялся.
Другая тенденция – внеидеологична, неконцептуальна. Все, что излагает в своей книге Быков, уже было изложено в разных статьях, книгах, воспоминаниях, нужно было все это собрать в книжку. Так собрать, чтобы это было не скучной грудой фактов, а сюжетным повествованием. Вот так в свое время все то, что было рассеяно по самиздату и тамиздату, стало аккумулироваться, собираться и выходить в толстых журналах, вот так все разрозненное нужно было собрать в одну книжку, книжку с сюжетом, что Быков и выполнил.
Ведь все всё знают о Пастернаке… И про звонок Сталина, и про скандал с «Доктором Живаго», и про жен и любовниц знают, а вот поди-ка рискни – собери все, что известно об этом человеке… Именно что – рискни, потому что не было более таинственного человека в России, чем Пастернак. Речь не о его текстах, а именно о нем. В многочисленных публикациях о Пастернаке даже названия такого нет – «Тайна Пастернака», а зря. Все первым делом упираются в его стихотворные тексты и очень быстро сообщают, что ничего там таинственного нет. Можно объяснить любой из его образов, а те образы, что необъяснимы, – понятны, ведь так?
«Так пахла пыль. Так пах бурьян. / И, если разобраться, / Так пахли прописи дворян / О равенстве и братстве». Кто попытается объяснить эту очевидную поэтическую формулу декабризма? Между тем она – понятна… Нет, тайна Пастернака не в текстах, вернее сказать, не только в текстах. Тайна Пастернака – в нем самом. Это очень хорошо понимает Дмитрий Быков. Он очень хорошо понимает то, что Пастернак был поэтом своего времени, своего поколения. Когда умерло это время, умерло и адекватное понимание Пастернака. Вот так пишет об этом Быков: «Интеллигентные мальчики и девочки двадцатых услышали наконец поэта, говорящего на их языке. Среди бесконечно чужого мира появилось что-то безоговорочно родное, дружелюбное, радостно узнаваемое. Это был их быт, их жаргон и фольклор, их подростковое счастье познания мира, захлёб, чрезмерность во всем. Подростки откликались на стихи Пастернака, как на пароль… перед ними был человек с врожденным и обостренным чувством среды – эта среда влюбилась в Пастернака немедленно, навсегда». Одно из лучших определений Пастернака, одно из лучших определений его тайны – «человек с врожденным и обостренным чувством среды». «Обостренное чувство среды» у Дмитрия Быкова получилось куда как хорошо.
Вся бытовуха выписана у него со знанием дела, тщательно и умело. Лучше всего ему удаются контрапунктные соединения низкого быта и высокой метафизики – так, что ли? Он слышит ритм речи; поэт, и хороший поэт, он умудряется прозу сделать ритмичной. У него не «капустный гекзаметр» – нечто иное, куда более симпатичное. Нечто из гофмановского двоемирия, студент Ансельм умудряется жить в быту и в сказке, в низкой действительности и в высокой философии.
Целую главку Быков посвящает рассуждениям о Толстом и Пастернаке; о том, как оба в конце-то концов обнаружили абсолютную истину и потому стали так нетерпимы к тем, кто эту истину не обнаружил; так пренебрежительны к мелочам жизни. Вот завершение этой главки и начало следующей: «Кто нашел целый мир в себе, тому внешний мир только помеха». «Осенью 1952 года Пастернак решил наконец сделать себе новые зубы – у Зинаиды Николаевны был отличный протезист, она уговорила обратиться к нему».
Это и называется контрапункт: на одной странице сталкиваются «целый мир в себе» и «отличный протезист Зинаиды Николаевны». Так же стык в стык оказываются соединены христианство, античность и Возрождение с узором обоев в чистопольской квартире Пастернака. Пожалуйста: «В эти невыносимые дни Фрейденберг получила от брата книгу „На ранних поездах” с переделкинским циклом: „Мои сейчас обстоятельства – лучший эксперт по установлению подлинности искусства. Я ожила, читая тебя”. Так ожила античность, когда ее коснулось христианство, – и этому дали имя Возрождение». «Глава XXXVI. Чистополь. В Чистополе Пастернак жил на Володарского, 75, – в центре городка, напротив городского сада, в плохо побеленной комнате, где по стенам шел красно-черный орнамент из ласточек, сидящих на проводах».
«Ожившая античность, которой коснулось христианство» – пошлость, разумеется, но в соединении с «красно-черным орнаментом из ласточек, сидящих на проводах» эта пошлость становится по-настоящему поэтичной, срабатывает! Последний раз Быков убедительно и уверенно использует этот прием гофмановского, символического или там романтического двоемирия в заключительной главке, в сцене смерти Пастернака. Последнее слово поэта: «Рад!» – становится первым его словом в посмертном пиру, где тамадой – Тициан Табидзе. Между прочим, тогда становится понятна природа творчества и Быкова, и Пастернака. Черт возьми! Да это же… тосты… Великолепные тосты, восточные, закрученные, после которых хочется воскликнуть: «Алаверды!» Тогда становится понятно замечательное, трагикомическое «квипрокво», случившееся у Пастернака с Цветаевой.
Глава «В зеркалах: Цветаева» вообще одна из лучших у Быкова. Сознательно или бессознательно, вольно или невольно, но он великолепно растолковывает разную природу двух поэтов. Один – футурист, делатель слов и речи, тамада «на пире Платона во время чумы», другая – романтический поэт. Пастернак произносит тосты в письмах к Цветаевой… ну что-то вроде: «Так выпьем же за королеву нашего вечера, за повелительницу улыбок, императрицу печали! Алаверды…» А дама и впрямь полагает, что она – императрица, королева, повелительница.
Вот цитата из письма Пастернака к Цветаевой: «Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе». Ну ведь напрашивается продолжение вроде такого: «Так выпьем же за то, чтобы твое чувство ко мне…» et cetera. Разумеется, Пастернак нимало не удивлялся, когда в ответ на его «алаверды» неслось такое же. Переписываются мастера слова, художественного, самовитого. Ты ей – комплимент, она тебе – заковыристей… Ты ей про Орфея, она тебе про панночку и Хому Брута. Ты ей про Петра Шмидта, а она тебе – «Борис, брось фабулу!» И натурально отношения на пиру, на празднике старается перевести в отношения житейские – нет, это никуда не годится. Никуда.
Где-то у Михаила Гефтера есть рассуждение на тему, чем хороша идеализация 20-х годов. Тем, что здесь идеализируется не результат, но путь, ибо даже самые отъявленные идеализаторы 20-х не решатся оправдать все ошибки и преступления людей 20-х… Или скажем парадоксальнее: идеализируется не построенный памятник III Интернационалу, а только его проект. Зато идеализация 30-х – идеализация результата, побед и одолений, не важно, какой ценой. Для Быкова главный враг – 20-е. Их он «расстреливает» из всех доступных ему орудий. Для него многое таинственно в Пастернаке, но только не идеализация Сталина и 30-х. Наступил хоть какой-то, но… порядок, а Быков – как всякий «летописец распада» – порядок ценит.
У каждого есть свой «золотой век» – время, в которое он хотел бы вернуться. Николай II, например, мечтал вернуться в XVII век (он туда и вернулся – в 17-м году); Быков хотел бы вернуться в годы, предшествующие Первой мировой войне, в Россию и в Европу: не то чтобы он не знал, чем закономерно кончились эти годы, не то чтобы он не видел все недостатки того времени и тех людей, но они ему просто нравятся. Из того же «серебряно-золотого века» у Быкова и особый, особенный эмфатический стиль. Быков не боится быть патетичным, пафосным. И будь я верующим, обязательно заметил бы, что Быков не боится поминать имя Божие всуе.
«Эта концепция Бога, заинтересованного прежде всего в хороших текстах, как пчеловод заинтересован прежде всего в получении меда, а личной жизнью пчел не интересуется вовсе, – вообще позволяет многое объяснить в истории, а уж в жизни поэтов точно. Пастернак фактически отказался от Цветаевой не потому, что опасался трудностей совместной жизни, а потому, что ничего хорошего не смог бы о ней написать; вот встреться они в 17-м… Зато к Зинаиде Николаевне, с которой его, казалось бы, все разъединяло (жена друга, мать двоих детей… друзья в ужасе), Господь его отпустил, невзирая на все препятствия: очень уж хотел почитать „Вторую балладу” и „Никого не будет в доме”. А все потому, что в 1931 году Пастернак уже мог это написать. Господи, как все грустно!»
Ну разумеется: «Мой дух скудеет. Осталось тело лишь, / Но за него и гроша не дашь. / Теперь я понял, что ты делаешь: / ты делаешь карандаш». Значительность эпохи измеряется у Быкова тем, сколько стихов она смогла выбить из поэтов. Или – иное: единственное, что может противостоять социальным переворотам, революциям, войнам, террору, – литература. «Торжествующий литературоцентризм» – так тоже можно было бы назвать биографию Пастернака, написанную Дмитрием Быковым. «Хвала Данте, который не дал Михаилу Лозинскому погибнуть в блокадном Ленинграде; хвала байроновскому „Дон Жуану”, не давшему Татьяне Гнедич умереть в лагере; хвала Гёте, ставившему перед Пастернаком формальные задачи такой трудности, что в стихах из романа он шутя берет любые барьеры». Обстановочка блокированного города и концлагеря, в условиях которых Лозинский переводил «Божественную комедию», а Татьяна Гнедич – Байрона, уравнена со сложностью формальных стиховых задач – и это естественно для литературоцентриста.
Сценарии быковских баллад впархивают в текст биографии Пастернака, словно бы они еще не написаны, а только продумываются поэтом-биографом. Одна из лучших баллад Быкова про то, что «если ты в бездну шагнул и не воспарил, вошел в огонь и огонь тебя опалил, ринулся в чащу, а там берлога, шел на медведя, а их там шесть, – это почерк дьявола, а не Бога, это дьявол под маской Бога отнимает надежду там, где надежда есть», изложена прозой в биографии Пастернака: «Жизнь – обманчивая сказка с хорошим концом, и все христианство Пастернака – счастливое разрешение долгого страха и недоверия: оказывается, отчаиваться не надо! Оказывается, мир только пугает – но за поворотом нас ждут прозрение, разрешение всех обид, разгадка загадок, чудесное преображение! <…> „Но почему нет страха в душе моей?” Потому что есть подспудная догадка о чудесном спасении. Религия Пастернака – вера чудесно спасенного».
Ну, словом, «ты входишь во тьму, а она бела, / Прыгнул, а у тебя отросли крыла, – / То это Бог или ангел, его посредник, / С хурмой „Тамерлан” и тортом „Наполеон”: / Последний шанс последнего из последних, / Поскольку после последнего – сразу он. / Это то, чего не учел Иуда. / Это то, чему не учил Дада. / Чудо вступает там, где, помимо чуда, / Не спасет никто, ничто, никогда…».
Ибо о чем бы ни писал Быков, он всегда пишет об одном и том же: о социальной катастрофе и об интеллигенте, с ходу, с размаху влипнувшем в эту самую катастрофу. Речь у него идет не о смене власти, нет: «..не власть поменяли, не танки ввели…» – нет, нет, а о резкой и окончательной смене всех правил жизни. Только-только были вот такие правила, и вот – здрасьте! – эти правила поменялись. Если бы можно было не бояться резкостей, я бы назвал эту проблему «трагедией коллаборационизма».
Здесь не обойтись без той главы, которую Быков опубликовал самой первой еще до книжки, в качестве пробного шара: «В зеркалах: Сталин». Надобно учитывать, что апологетическая книга Быкова про Пастернака написана после «разоблачительных» книг о Маяковском Карабчиевского и об Олеше – Белинкова. Опыт этих разоблачений не мог не быть включенным в нынешнюю апологетику. Самый же главный опыт, по всей видимости, такой: как ни ругай за те или иные ошибки, слабости или преступления большого поэта, от него не убудет. Скорее наоборот – поэта сделается жальче, и уважительно жальче. Помня об этом опыте разоблачения, Быков бестрепетно цитирует слабые стихи Пастернака («И смех у завалин, / И мысль от сохи, / И Ленин, и Сталин, / И эти стихи»), напропалую издевается над ними: «„Бывали и бойни, / И поед живьем, – / Но вечно наш двойня / Гремел соловьем” – хорошо звучит, эпично… Всякое бывало, конечно, и живьем кушали – очень даже свободно; но под соловьев все это как-то сходило»; ну и, разумеется, никак не может миновать Сталина.
Целая глава посвящена взаимоотношениям «Поэта и Царя», и самое удивительное, что в этой главе – сознательно? подсознательно? – скрыта полемика с одним из лучших стихотворений русского ХХ века о взаимоотношении государства и литературы. Это стихотворение цитируется во втором абзаце главы: «Дураками были те, кто изображал Сталина дураком, страдающим запорами. У каждого второго писателя геморрой, и ничего, общаются с богами». Это же эхо из «Писем римскому другу»: «Помнишь, Постум, у наместника сестрица? Худощавая, но с полными ногами <…> Недавно стала жрица! Жрица, Постум… И общается с богами…»
Это – ей-ей – не случайное совпадение. То есть очень даже возможно, что у Быкова случайно вырвалась цитатка, но она не случайна в общем контексте главы, писанной о двух титанах, общающихся с богами, поскольку вот финал главы: «Наиболее значительное из „оттепельных” упоминаний Пастернака о Сталине – слова в разговоре с Ольгой Ивинской в 1956 году: „Так долго над нами царствовал безумец и убийца, а теперь – дурак и свинья; убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на свое отчаянное мракобесие; теперь нас захватило царство посредственностей”». Узнаете? «Говоришь, что все наместники – ворюги? Но ворюга мне милей, чем кровопийца!»
А вот и нет, утверждает сверхпоэт, идеальный поэт, у кровопийц есть какие-то порывы, а ворюги, дураки, свиньи, посредственности – с этими поэту не о чем разговаривать, не о чем пить – по слову Венедикта Ерофеева. Нормальный, ницшеанский подход. И как-то очень быстро соображаешь, что так оно и есть, иначе и быть не может для супермена, каковым, несомненно, был Пастернак. Есть еще одна книга, опыт которой не прошел даром для Быкова. Чего ради он бухнул на титульный лист посвящение: «Марии Васильевне Розановой»? Что он пометил? Марии Розановой были посвящены «Прогулки с Пушкиным». Стало быть, Дмитрий Быков спешит сообщить, что написал свои «Прогулки…». На этот раз – это «Прогулки с Пастернаком».
Лишний человек на рандеву с историей
(Дм. Быков. Остромов, или Ученик чародея)
Лучшая характеристика. О чем бы ни писал Дмитрий Быков, он всегда пишет об одном и том же. О неизбежности социальной катастрофы, в которой придется жить интеллигенту. Катастрофа еще не наступила, но она грянет, грянет неизбежно. И что тогда делать интеллигенту, как существовать в условиях этой самой катастрофы? Однажды я попал в чрезвычайно странный дом на окраине Новгорода. Живет в этом доме математический лингвист. Время от времени, когда позовут, преподает в Сорбонне. Вообще же человек вполне безбытный. Ученый – он и есть ученый, что с него взять кроме учености, правда немалой. Так вот среди его книжных полок я заметил одну, целиком заставленную книгами Дмитрия Быкова. Я слегка удивился. Спросил. Он охотно пояснил. «Понимаете, – сказал он, – уже очень давно я живу с ощущением того, что все мои интересные, сложные занятия чрезвычайно хрупки; что в какой-то момент ко мне придут, выкинут все мои книги и тетради, возьмут за шкирку и пошлют скалывать лед, в лучшем случае… Вы меня понимаете?» Я был вынужден признать, что очень даже хорошо его понимаю и сочувствую, но помочь ничем не могу. «Ну вот, – продолжил мой собеседник, – и в какой-то момент я совершенно случайно взял книжку Быкова „Орфография”, начал читать и вдруг узнал все мои ощущения, воплощенные в художественной, если угодно, занимательной, приключенческой форме. Вот с этих пор я и покупаю все его книжки».
В точку. Лучшая характеристика творчества одного из самых ярких современных писателей России.
Третье «О». Среди всех книг Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» занимает особое, особенное место. Во-первых, это – завершение трилогии. Третье «О». «Оправдание», «Орфография», «Остромов». Навершие. Причем, как это и свойственно настоящим барочным писателям – а Быков типичный барочный писатель, – трилогия его движется каким-то странным иррациональным зигзагом, от конца (тридцатые годы и современность – «Оправдание») к началу (революция – «Орфография») и в середину (двадцатые годы, НЭП и тридцатые – «Остромов»). Но не это важно в третьей (или во второй?) части трилогии. Важно то, что «Остромов» – откровенное, открытое, яростное оправдание «лишнего человека», написанное, что ни говори, человеком отнюдь не лишним, но деятельным, активным, влиятельным настолько, насколько вообще в современной России может быть влиятелен литератор. «Остромов» – гимн социальной нереализованности, умело, грамотно сделанный человеком, социально реализовавшимся на все сто процентов. Причем Быков с ходу отметает возможное объяснение, мол, его герой, Даниил Галицкий, потому лишний, что социальные условия не дают ему возможности стать необходимым; а вот как появятся условия для его социальной реализации, тут-то он и… Нет, нет, лишнесть Даниила Галицкого не то что принципиальная, она – природная, стихийная, естественная. Он не от мира сего. О чем, собственно говоря, Быков и пишет свой «самый» роман.
Почему «самый»? Потому что есть у этого писателя такая тайная, но очевидная мечта: написать великий русский роман начала ХХI века. «Остромов» – такая вот очередная попытка. Он самый «быковский» роман. Самый стилизаторский, самый литературный:
«Словно повинуясь его фантазии, незнакомец достал из потертого коричневого несессера синюю бархатную шапочку и надел ее, погладив перед этим лысину» – жест Мастера во время встречи с Иваном Бездомным. И таких узнаваемых жестов, таких цитат полно: «За шестьдесят лет до них таким же пасмурным утром в тот же город въехали другие двое, и один из них тоже был идиот, а другой – убийца». Федор Михайлович нам кланялся. Мышкин и Рогожин, мое почтение. Аллюзии, раскавыченные цитаты из Стругацких, Булгакова, Ильфа и Петрова, Вагинова горохом сыплются на читателя, создают великолепное поле для критика. Названия придумываются с ходу: «„Козлиная песнь” Вагинова глазами Ильфа и Петрова» или наоборот: «„Союз меча и орала” в интерпретации Вагинова». С ходу просматривается и концепция: ответ и «Мастеру», и «Двенадцати стульям», и «Золотому теленку». Дескать, довольно демонизировать и героизировать жуликов. Ворюги не милее, чем кровопийцы. Надо будет – прижмет, и они станут кровопийцами. История Бендера, написанная брошенной, обманутой Грицацуевой, или история «Союза меча и орала», написанная теми, кто в результате бендеровской веселой деятельности загремел в каталажку, – вот что такое «Остромов» Дмитрия Быкова. Обаяние Воланда и его компании подвергается той же негации. Впрочем, и это самое интересное и парадоксальное в «Остромове», вообще вся советская культура 20-х годов лишается здесь своего романтического флера. Тридцатые годы, изображенные Быковым в «Оправдании», не так отвратительны, как двадцатые «Остромова».
Парадокса в идейном, так сказать, смысле здесь нет. В идейном, мировоззренческом смысле тут как раз все естественно. Неприятие социальной катастрофы сразу отбрасывает 20-е годы за грань приемлемого, тогда как тридцатые останавливаются на грани. Тоталитарное лето или зима застоя для консерватора, не приемлющего катастрофического, революционного развития, всяко лучше весны или осени, когда поди разбери, что из всей этой неразберихи получится. Это идейно, так сказать, концептуально. Но помимо идей и концепций есть еще художническая природа, а по своей художнической природе Дмитрий Быков, конечно, человек 20-х. Человек неустоявшегося, художник нестабильного, становящегося, а не ставшего. Если угодно – ребенок или подросток. Он и сам это о себе знает и с неплохим таким чувством юмора в стихах констатирует: «Не то чтобы время упадка меня соблазняло, как выгодный фон, но в коем моя деловая повадка уютно цветет, не встречая препон». Дальше уже не важно. Важно это признание. На этом и зиждется парадокс «Остромова», а может, и всех текстов Дмитрия Быкова. Он природно, стихийно человек социальной катастрофы, каковую он идейно, концептуально отвергает.
Героизация жуликов. Героизация жуликов – нормальный инстинкт художника. Художник, писатель, или артист, или живописец – тоже ведь своего рода жулик. Выдумщик, фантазер, из выдумок и фантазий сделавший профессию, порой довольно прибыльную. Как бы ни старался Дмитрий Быков разоблачить своего Остромова, редкого мерзавца и провокатора, под эгидой Чека создавшего масонскую ложу и регулярно доносившего на своих «кружковцев», а потом загремевшего вместе с ними в ссылку, тот все одно остается на редкость обаятельным. За его приключениями, за тем, как он дурит всех подряд – чекистов, интеллигентов, мистиков, рационалистов, следишь с удовольствием, все равно как за приключениями Остапа Бендера. Так ведь и Ильф с Петровым вполне искренне хотели разоблачить Остапа. Вся ругань по их адресу Шаламова, Сараскиной, Надежды Мандельштам, что, мол, героизировали жулика, «блатного», нехорошо-с, – мимо цели. Потому что социальный заказ советской власти в данном конкретном случае совпадал с чаяниями интеллигентов. Остап должен быть разоблачен и убит, как и Остромов. Не получалось и не получается. Художнический инстинкт, что-то вроде социального…
Если угодно, классовое чувство: Остромов и Бендер – свои. Жулики, провокаторы, но какие обаятельные, какие ловкие. Строго говоря, Остромов начинает там, где Остап Бендер заканчивает. Помните его последние слова в «Золотом теленке»? «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы…» О чем это? При чем тут, спрашивается, управдом? Слова-то страшненькие. Управдом присутствовал при арестах жильцов. Остап говорит о том, что пора бы ему, раз так карты легли, связаться с могущественнейшей организацией СССР – с НКВД, может, там ему улыбнется удача? Собственно, с этого и начинает свою бендеровскую деятельность Остромов. Первым делом – в Чека, потом уже подбирать свой «Союз меча и орала», организовывать свой «Заговор чувств». Любопытно, что из всех литературных аллюзий «Остромова» «Зависть» Юрия Олеши вспоминается самой последней. Вероятно, потому, что это – самая главная, смыслообразующая аллюзия. Ибо Остромов и Даниил Галицкий – Иван Бабичев и Николай Кавалеров, увиденные современные глазами, а масонская ложа из бывших интеллигентов, созданная Остромовым, – самый что ни на есть «заговор чувств», описанный Олешей.
Только, повторимся, Остромов организует этот «заговор чувств» под эгидой Чека и аккуратно отчитывается в означенную организацию о настроениях своих масонов. Мерзко, а он все равно – обаятелен. Более того, рядом с ним, чтобы не сказать против него, Дмитрий Быков выстраивает в ряд настоящих мистиков. Тех, кто и в самом деле имеет дело с колдовством, магией, с высшими или низшими силами. Но они – страшны, они внечеловечны, или не-человечны, будь то жуткий чекист-мистик Варченко, или благородный мудрец Морбус, или грозный Карасёв, карающий предателя слепотой. Все они проигрывают Остромову в обаянии. Остромов – человечен. Он здесь, в этом мире. В человеческом, слишком человеческом. Возможно, здесь срабатывает память жанра. Ведь «Остромов» – плутовской роман. А в плутовском романе плут – Ласарильо с Тормеса или Жиль Блаз, Уленшпигель или Невзоров – не может не быть симпатичен читателю. А возможно и другое.
Дон Кихот и Мефистофель. Потому что Быков пишет не просто плутовской роман. Он пытается соединить несоединимое. Плутовской роман сцепить с российским, идейным романом. Плута и жулика соединить со святым, взыскующим правды-истины. Героя авантюрного романа – с героем русской идейной литературы, с Мышкиным или с Пьером Безуховым. Визуально, зрительно этот фокус был предложен для разработки писателем, оказавшим огромное, но незамечаемое влияние на всю русскую литературу конца ХХ века. Я имею в виду Юрия Домбровского. Помните, в «Факультете ненужных вещей» Корнилов разглядывает бюст Дон Кихота в комнате у стукача-священника. Вглядывается в донкихотскую улыбку, и вдруг ему делается не по себе. Он видит, что это не добрая улыбка Рыцаря печального образа, а дьявольская, издевательская ухмылка Мефистофеля.
В скобках заметим, что тут Юрий Осипович Домбровский лихо зашифровал одну из центральных мифологем советских шестидесятых. Прикинем, чью улыбку в Советском Союзе тиражировали направо-налево, кто в глазах шестидесятников медленно и верно из победителя-политика превращался в Дон Кихота – и только в этом (в донкихотстве) и оказывалось его единственное оправдание. Ленин, разумеется. Домбровский просто вычерчивает следующий шаг развала центральной мифологемы. Да никакой не Дон Кихот. Вглядитесь получше. Дьявол – собственной персоной. И улыбка у него соответствующая.
Это – в скобках. Дмитрия Быкова эта мифологема уже не интересует. Его интересует само сочетание – Мефистофеля, циника, обаятельного жулика, и Дон Кихота, наивного мыслителя, человека не от мира сего. Он расщепляет ту статуэтку в комнате отца Андрея, и по одну сторону оказывается Мефистофель – Остромов, по другую Дон Кихот – Даниил Галицкий. Результат вполне парадоксальный и житейски убедительный. Потому что Дон Кихот до самого конца не сможет понять, не сможет увидеть, что его дурили. Для Дон Кихота жулик, водивший его за нос, так и останется великим учителем, даже в том случае, если жулик в лицо ему будет орать, как орет в конце романа Остромов Галицкому: «Кретин, – повторял Остромов и мелко смеялся. – Вот же, Господи… Ты что, телёнок, верил всему? <…> Вот же семь на восемь, восемь на семь, – трясся Остромов, и в нём всё отчётливее проступал тот простой, славный русский мастеровой, который в славный русский весенний день, сука, убьёт – не задумается. – Урод сопливый. Он изучал, он продвинулся. Ой, смерть моя. <…> Учитель! – хихикал Остромов, хлопая себя по бокам. – Учитель, нассы мне в глаза, и это будет божия роса. Говнюк. Летатель. Да ведь я врал вам всем, дураки, я морочил всех вас, кретины! Остальные люди как люди, все чего-то поняли, один этот телятина, еще… <…> Идиот, – взвизгивал Остромов. – <…> За числом приехал, да? Числа захотел! Я научу тебя сейчас левитации. Записывай: берёшь перо, гусиное, лебединое, затачиваешь, а можешь и не затачивать, и этим самым концом, который называется пенёк – ты запомнишь, потому что пенёк это ты, – вставляешь себе в дупу, не перепутай, с тебя станется… И летишь, лети-и-шь!»
Даже в этом последнем случае полного, окончательного саморазоблачения жулика, когда слепой не увидит: «Оскал учителя становился страшен», Дон Кихот останется учителю верен. Дон Кихот найдет подобающее, приличествующее моменту объяснение, потому что «Дон Кихот видит то, что думает, а не думает над тем, что видит» (Анри Бергсон). «Даня почтительно кивнул и отошёл как-то странно – шаг назад, шаг вбок, словно уступая дорогу чему-то истинно величественному. Он понял. Учитель гнал его, заботясь о его безопасности, но нашёл-таки способ передать ему число».
Наденька. Самое удивительное и парадоксальное во всей истории, придуманной, сделанной Дмитрием Быковым, – то, что Дон Кихот остается победителем. Следует неверной, издевательской подсказке и – надо же, «семь на восемь»! – летит, левитирует. Здесь есть некая важная, не враз формулируемая тема этого писателя. Назовем ее так: автономность существования хороших людей. Какими бы ни были ложными предпосылки, на которых основывается хороший человек, если он хорош, он выберется к правде, к левитации, к полету, потому что он… хороший. Тема эта, что ни говори, парадоксальна и, если вдуматься, несколько шокирующа. Но она не просто важна для Дмитрия Быкова. Она – сюжетообразующа.
Потому что в романе есть еще одна святая. Наденька. Та, в которую влюблен Дон Кихот – Даниил Галицкий; та, с которой в конце романа живет Мефистофель – Остромов; та, которую ломают на допросах в Чека. Вот это, кстати, насчет «самого-самого» быковского романа. Глава, посвященная допросам Наденьки, – самая страшная из того, что до сих пор написал этот писатель, и самая лучшая. Цитировать и пересказывать ее не стоит. Слишком она цельна, целокупна, в хорошем, философском смысле тотальна. Стоит разве что привести последние слова из этой главы, уж больно они хороши и точны: «А всё потому, что проклятие раздавленного человека имеет силу, небольшую, но силу; и это не то что справедливость – справедливости нет, потому что исправить ничего нельзя, – но равновесие, один из фундаментальных законов. Некоторые из этих законов ужасны, похожи на хруст костей, но не нам их оценивать. Да нам и дела до них нет. Мы вряд ли сойдёмся в том, что хорошо и что плохо, по крайней разности наших весовых категорий; и этой разницей многое объясняется. Но в том, что нехорошо, мы сходимся, и на этом тоже кое-что держится».
Браво. Точнее не скажешь. Хочется как-то подзадержаться на этой главе о сломанном в Чека хорошем человеке, который все одно остался хорошим. Дмитрий Быков здесь коснулся той ситуации искаженного советского сознания, каковая на моей памяти была рассмотрена разве что Даниэлем в не по достоинству оцененном «Искуплении». Это ситуация, когда жертва предстает преступником, а настоящие преступники как-то лихо прячутся за свою же жертву. В одном романе современной модной писательницы я вычитал приблизительно следующее (цитирую по памяти, текста под рукой нет): «Старый генетик, арестованный в 1948 году, никого не оговоривший на допросах, отсидел свой срок, тем временем его жена работала уборщицей, сын окончил десятилетку с серебряной медалью, золотую ему не дали, поступил в институт…» – предложение длится дальше, но я прервусь. Бог с ним, с пыточной камерой через запятую, но позвольте спросить, а что изменилось бы от того, что генетик кого-то бы оговорил? К нему-то какие претензии? Не к тем, кто его допрашивал и выбивал ложные показания, а к нему? Что за удивительный критерий: умение держаться на допросах?
Да, для революционера, подпольщика, для предпринимателя – а в условиях России 90-х годов предприниматель, конечно, революционер – это критерий. Но для генетика, ученого, поэта, режиссера, да просто для обычного человека что за странное требование – выдержать вес государства, которое должно его защищать, а оно ему всей своей мощью кости ломает? Обстановочку ломки костей интеллигентной, хорошей девушки Быков воспроизвел с пугающей достоверностью, не захочешь писать через запятую «никого не оговорила на допросах». Оговорила. И что? Муки совести, раздавленность, уничтоженность, позор и слова старого мудрого поэта и педераста Михаила Алексеевича (привет от «Орфографии», вот таким Быков представляет себе Михаила Кузмина, сноска необходима, но это не Михаил Кузмин): «Наденька, больше всего на свете бойтесь правых и правоты. Правоты бойтесь и святости. Морали бойтесь, подлой их морали, для того только им нужной, чтобы холить себя. Мораль они придумали, чтоб себя любить, а ближнего унизить. Никакой нет морали. <…> Мораль, – повторил он с внезапной злостью. – Все законы, чтоб мучить, все правила, чтоб собою любоваться. А кому вложено, встроено, как маятник в часовой механизм, – того нельзя, этого не надо, – тому зачем законы? Разве можете вы сделать зло, хотя бы и захотели? И тогда пришел Он, – говорил Михаил Алексеевич, все держа руку на ее голове, но глядя в окно. – Пришел Он, чтобы утешить падших и поднять затоптанных. Счастливому Он зачем?»
Счастливый. Слова эти важны до чрезвычайности, поскольку главное в романе – поиски счастья. Именно его, не столько истины или свободы, сколько счастья. В счастье-то и окажется нужный, необходимый тандем свободы и истины. Ставим точку. Возвращаемся во временную точку, в навершие трилогии. Началось все в «Орфографии», кончилось «Оправданием», в середине – «Остромов». Там сведены все узлы, там социальная катастрофа становится бытом и бытием надолго. Там перед интеллигентом, думающим, совестливым, ищущим, встает вопрос: как жить в сложившихся, данных ему социальных, бытовых обстоятельствах?
Ответ, в общем-то, ясен. Уйти в сторону. В свое личное подполье. Стать лишним. В общем-то, об этом с предельной ясностью говорилось в замечательной поэме Павла Когана «Первая треть», каковую Дмитрий Быков неожиданно, незаметно, но очень уважительно помянул в первой книге своей трилогии, в «Оправдании». Главного героя этого романа зовут так же, как и главного героя поэмы Павла Когана, – Рогов. В «Первой трети» оппонент Рогова довольно четко и очень даже по-марксистски растолковывает своему другу, собеседнику и идейному противнику стратегию поэта в условиях революции, бесконечно длящейся революции. «Если ты – поэт, всерьёз, взаправду и надолго, попробуй эту сотню лет прожить по ящикам и полкам…» Что, собственно, и пытается сделать главный герой романа, Даниил Галицкий. Прототип Даниила Галицкого – сын переводчицы Ницше Аделаиды Герцык, Даниил Жуковский. Как прототип Остромова – провокатор Астромов, создатель масонской ложи в Ленинграде в 1925 году.
Прием «Орфографии» использован и в «Остромове». «Роман с ключом»: тот, кому интересно, может различить и рассмотреть за героями этих текстов реальных людей. Иное дело, что ему следует помнить: это – не реальные люди. Это то, как Дмитрий Быков в них играет. То, как он их себе представляет, подставляя себя на их место. Порой это вызывает настоящую ярость. Как всякая акцентуированная личность, Быков может вызывать крайние чувства: или ярость, или любовь. Середины – нет. Самое важное здесь – быстрота и странная точность его работы.
Он делает, покуда другие рассуждают и не решаются делать, может – из лени, может – из повышенного чувства ответственности. Причем делает так, что с ходу попадает в нерв времени. Проблему он обозначает безошибочно. Точечно. Вокруг этой точки могут быть самые разные неточности, но сама она «с подлинным верно». Проблема «лишнего человека», талантливого человека, который упрямо, упорно не желает социально реализовываться, поскольку социальная реализация в предложенном ему социуме убьет и его талант, и его лучшие человеческие качества, – современная, что ни говори, проблема. Иное дело, что исторические неточности, копящиеся, крутящиеся вокруг точечно верной проблемы, могут вызывать и вызывают раздражение у узких специалистов. Сам слышал, как университетский филолог жаловался: на экзаменах ему отвечают по «Орфографии», так что ему приходится объяснять студентам и студенткам, что это все равно, что рассказывать историю Франции XVII века по «Трем мушкетерам». Понять это можно. Обидно тем, кто пытался долго и бесполезно в этом кровавом мороке разобраться, и вот все это, намытое, выковырянное из земли, бухается в остросюжетный роман, писателю на цацки. Над этим плакать и думать келейно собирались, а тут «Броненосец „Потёмкин”» снимается. «Десять лет спустя, или Виконт де Бражелон» пишется. А с другой-то стороны, для чего же все это намывать и выковыривать, как не для романистов и киношников?
Даниил Галицкий, приехавший из Крыма, где маме его довелось пережить допросы в подвалах Чека и чудом избежать расстрела, – «лишний» с самого начала, с первого своего шага. В общем, это – один из главных соблазнов русской жизни. Еще вопрос – соблазн ли? Может, единственно верный путь? Во всяком случае, само понятие «лишний человек» появилось в России тогда же, когда был в ней написан один из самых удивительных романов, трактующих, как ни странно, ту же тему – невписанность в социум, невписанность в госструктуры. Я имею в виду роман Николая Чернышевского «Что делать?». О чем он? О том, что если развода нет, а развестись надо, то почему бы не совершить фиктивное самоубийство? Нет, конечно. Это так – «цацки», приманка. Роман этот писан о том, что единственный путь спасения в российском обществе – подполье.
Никаких отношений с госструктурами. Никаких.
Ведь пишет этот роман человек, сотрудничающий худо-бедно, кроме своего «Современника» с «Морским сборником» великого князя Константина Николаевича, младшего брата царя и последовательного сторонника реформ; пишет в тюрьме, куда попал после жандармской провокации. Вот он о том и пишет: если хотите уцелеть, если хотите сохранить в себе человеческое и творческое, не связывайтесь с этим государством. Не обязательно бороться против него. Просто отойдите в сторону, спрячьтесь. Станьте для него лишним. Если вы порядочный и талантливый человек, то стоит вам с ним связаться – и вас сожрут. Загремите в крепость, в Петропавловскую, роман писать: «Что делать?»…
Как ни странно, об этом именно и пишет свой роман «Остромов» Дмитрий Быков. В сторону, на обочину… Спрятаться в контору, которая занимается нелепыми подсчетами. И чем более ты талантлив, одарен и порядочен, тем более тебе надо спрятаться.
«Вывод таков, что работать на них не надо, а надо найти такую нишу, которая позволяла бы жить среди них тихо, максимум времени отдавая себе самому. Россия щеляста, слава богу, построена не на совесть, и только это позволяет в ней жить: будь она при своих-то нравах по-германски аккуратна, давно бы вымерла. <…> Мне ничего не стоит вас зачислить, и оценку я выставлю вам самую препохвальную. <…> Завтра же впишу ее в лист и в вашу ведомость, и отправитесь вы на факультет, и происхождение вам не помешает. Но если вы верите хоть единому моему слову, связываться вам с этой работой нельзя, потому что делать её кое-как не имеет смысла, да и не сумеете, а делать по-человечески в нынешнее время стыдно. Всё равно что писать роман варвару на подтирку. А потому не встраивайтесь, мой вам совет, и найдите должность смирную, малозаметную, лучше конторскую, и профессию получите какую угодно, но не филологическую. <…> Чиновником, учетчиком, составителем бумаг. <…> Только, упаси боже, никакой работы, приближающейся к сути. Ни юристом, решающим судьбы, ни словесником, ни сочинителем».
Такой совет дает Даниилу Галицкому филолог Солодов. И Даниил Галицкий строго следует этому совету. Другой вопрос, насколько исторически верен этот совет. Насколько он встроен в историческую действительность 20-х годов. Дмитрий Быков смотрит на нее, на эту действительность, зная все то, что случилось впоследствии. Это знание, как ни странно, искажает историческую перспективу, спрямляет ее. Не оставляет никаких иных вариантов. Оно безальтернативно, это знание. Финал – террор тридцатых – никаких альтернатив не оставляет. А они были, что и делало двадцатые годы интереснее и загадочнее, чем время, изображенное Дмитрием Быковым в его последнем романе.
Двадцатые годы. Для Быкова это время распада, время победы варваров, заполонивших трамваи и скверы, время победы хамья, ленивого, наглого, самоуверенного. Это хамье еще не нарвалось на государственный кулак. Государственный кулак еще лупит интеллигентов, «бывших», но будет время, врежет и по вот этому… жлобью. Идейности, концептуальности здесь нет ни на гран. Здесь чистая эмоция. И она несколько (скажем мягко) ошибочна. Может, мое происхождение, от которого отрекаться грех, тому виной – все же дед мой рабфаковец, а значит, был среди тех, кого Дмитрий Быков, вслед за Михаилом Булгаковым, описывает с брезгливым недоумением: откуда, мол, они все понавылезали? Шариковы, полулюди, скоты. Им место на помойках, только там они приобретают хоть какой-то человеческий облик.
«Грязь оказалась непобедима. Рыцарский дух отлетел, на смену ему ничего не прилетело, дома-замки медленно осыпались, теряя лица; титаны вымерли, карлики выжили. Новых домов почти не строили, но старые, заселённые нынешними жильцами, менялись неуловимо и обвально: нищета просвечивала сквозь стены, выпирая наружу. На узорчатых балконах сушилось бельё. В подворотнях лаялись. На улицах в рабочие часы было подозрительно много пьяного народу: хозяин жизни гулял».
Все так и не так. Есть одна история, которую я всегда вспоминаю, лишь только речь заходит о двадцатых.
История эта связана с Андреем Егуновым, ученым-античником, поэтом, писателем, хлебнувшим лиха от советской власти. Уже в шестидесятые годы его молодой (тогда еще) друг затеял с ним разговор о двадцатых в быковско-булгаковском стиле и тоне. Андрей Егунов внимательно выслушал все инвективы, подумал: не добавить ли своих, но не добавил, а возразил. «Вы знаете, – сказал он, – что было самое удивительное в этом времени и в этой молодежи? Потрясающая жажда знаний и жажда работы. Я никогда ни до, ни после не видел такой жажды. Они действительно рвались к знаниям. Вполне бескорыстно, яростно. И старая профессура это видела, это чувствовала. Этому сочувствовала и шла этому навстречу». Ничего подобного и не увидишь и не заметишь в «Остромове».
Мир поделен четко. Вот вышвырнутые на обочину интеллигенты, которых собирает вокруг себя обаятельный жулик Остромов; вот тупая и пьяная, серая, бездельная сволочь, заполонившая город; вот жестокие, мелкие бесы – чекисты. И всё. Нету тех, о ком человек двадцатых Варлам Шаламов писал: «Я был участником великой проигранной битвы за действительное обновление мира». Это понятно, что при всей ненависти Быкова к любым битвам за любое обновление мира, при всей его ненависти к любой идейности, эти «участники» Быкову ни с какого боку. Но они все же были. Или их можно не учитывать? Не замечать? Такой подход тоже возможен. В конце концов, «по плодам познаете их»: если жажда знаний, жажда участия в битве за обновление мира привели к Колыме, к ледяному Освенциму, то почему бы этих Дон Кихотов и не заметить?
Быков и не замечает. У него своя задача. Переломить плутовской роман в пыточную жуть. Он – барочный писатель. Четкость конструкции у него соединена с преизбытком деталей. Расчет на то, что читатель хихикает и хохочет, а потом хихикс и хохот застревают у него в глотке. Это ведь не только самый печальный роман Дмитрия Быкова, это и самый смешной его роман. Одна из глав этого романа просто уморительна. Фанатик, ненавистник коммунистов, идейный террорист Роденс ищет подпольщиков. Попадает в кружок Остромова. Остромов переправляет того в гомосексуальный кружок. Беседа Роденса с главой компании педерастов Неретинским, повторюсь, очень смешна:
«– Вы, мне кажется, заблуждаетесь, – сказал Неретинский мягко. – Нашей целью… нашей, так сказать, группой… никак не могут быть все.
– Все и не должны, – махнул рукой Роденс. – На первое время цель у нас одна – коммунисты.
– Коммунисты? – округлил глаза Неретинский. Такой экземпляр ему еще не попадался. – Неужели вы считаете, что мы должны… сделать это с коммунистами?!
– Я не вижу другого выхода, – твердо сказал Роденс. Он оценил такт подпольщика: вдруг подслушивают? Тогда, конечно, надо всячески избегать любезных ему глаголов истребления.
– Но почему же именно они? – продолжал изумляться Неретинский. – Разве в них есть что-нибудь особенное? Сколько я мог наблюдать, люди как люди…
– Ни в коем случае, – отмахнулся Роденс, – <…> эти из другого мяса. Ими надо заняться вплотную.
– Гм, – в задумчивости произнес Неретинский. Он ждал, конечно, что революция раскрепостит все формы любви, но никак не думал, чтобы подобные чаяния распространились в массах».
Бурлеск, как и положено бурлеску у барочного писателя, кончается мрачно.
«Он [Роденс] кое-как привел себя в порядок и по пустому проспекту отправился к ближайшей пивной. Больше, чем когда-либо, ему хотелось убить всех. Сначала коммунистов, а потом всех. Не может быть, чтобы никто во всем городе не разделял этого желания. Он верил, что рано или поздно найдет своих.
И нашел, но не там и не так, как думал».
Разумеется, попал в чекисты, где смог убивать и коммунистов, а потом и всех, кто под руку попадется. Это – важная сцена для Дмитрия Быкова. Любое желание изменить несправедливый мир, мир насилия и жестокости, любая жажда социальной деятельности для него подозрительна. Под ним (по его даже не мнению, а социальному чувству) таится именно что чекистская, садистская жажда убить всех.
Николай Баскаков. Вряд ли такой жаждой был охвачен участник троцкистского подполья 20-х годов Варлам Шаламов. В одном из эпизодов романа абсолютно случайно, неосознанно Дмитрий Быков чуть было не сталкивает своего «лишнего человека» с «участником великой проигранной битвы». Что вовсе не удивительно. Ленинград 1925 года, куда прибывает Даниил Галицкий, вотчина «левой оппозиции», «ленинградской» или «новой». Последний оплот сопротивления набирающей силу сталинской диктатуре. Нельзя сказать, чтобы Дмитрий Быков вовсе отворачивался от внутрипартийной борьбы середины 20-х, но для него это не более чем драка крокодилов, нелюдей. Кто бы ни взял вверх, все одно – для интеллигента будет плохо. Его все равно отправят скалывать лед.
Но все же, все же, все же… Даниил Галицкий поначалу отправляется в «Вечернюю красную газету», может, там удастся устроиться. Писать рецензии на спектакли, книги, как-то зацепиться, словом. «Вечерняя красная…» находилась в том же здании, что и «Ленинградская правда», тогда – фактический орган оппозиции. Руководил ею Николай Баскаков. С ним Даниил Галицкий вполне мог столкнуться, хоть в коридоре. Вот человек, от которого почти ничего не осталось, а он заслуживает и исследований и романов. Да кто ж напишет при малости источников и полном не-интересе к таким фигурам. Даже на Западе слависты сейчас предпочитают писать объемистые труды или про русского фашиста Александра Львовича Казем-Бека, последние годы своей жизни тихохонько просидевшего в Иностранном отделе Московской патриархии, или про автора бульварных романов Асад-бея, Курбан-Саида, Нуссимбаума, умудрившегося до 1942 года не разочароваться ни в Гитлере, ни в Муссолини.
Николай Баскаков хорошо вдавлен русской историей. Намертво. Что от него осталось? Единственный в нашей стране памятник декабристам, поставленный Баскаковым в бытность его секретарем Василеостровского райкома РКП(б), с соответствующей надписью: «Декабристам от Василеостровского райкома РКП(б)», да несколько упоминаний в работах, посвященных истории позднего русского авангарда. После разгрома оппозиции его поставили директором ленинградского Дома печати. Это при нем Дом печати стал привечать Филонова и его учеников, обэриутов и прочих авангардистов. В типографии Дома печати Баскаков печатал антисталинские листовки. Взяли его в 1929 году. На допросах Баскаков спокойно сказал, что не понимает, почему внутрипартийными делами занимается ОГПУ. Это дело комиссии партийного контроля, а не органов государственной безопасности. После 1929 года он не вылезал из ссылок и тюрем. Погиб в 1937 году в Севвостлаге. Краткая запись в справочнике «Мемориала»: «Активный участник лагерного сопротивления». Вот с каким человеком мог столкнуться Даниил Галицкий в редакционном коридоре. Но не столкнулся, поскольку и он, и его создатель в эту сторону даже и не смотрели. Может быть, зря.
А может и не зря… В конце концов, Дмитрий Быков никогда не писал и не пишет исторических романов. Он пытается поймать жутковатую пульсацию российской истории, каковая остается неизменной. Одной и той же. По крайней мере, так это воспринимает Дмитрий Быков. История изменяется вместе с современностью. Не только потому, что появляются новые факты, что-то выкапывают, вытаскивают на свет божий. Это особенно верно по отношению к истории русского ХХ века, который весь – как братская могила, вдавленная бульдозером. Но не только поэтому, а потому, что современность обнаруживает в истории прежде невиданное, незамечаемое.
Для Маркса Россия была «неподвижным Монголом», царством застоя, вечного покоя, рабства, покорности. Для людей, живших в СССР в шестидесятые – семидесятые ХХ века, такой взгляд был куда как приемлем, но развалилась очередная русская империя и вдруг стало ясно, что вся русская история – сплошные потрясения, прерываемые периодами застоя. В ранней своей, юношеской поэме Дмитрий Быков весьма темпераментно воскликнул: «От твоих нерегулярных регул мы все уже по горлышко в крови»… Темпераменту поубавилось, но ужас от рандеву с историей остался. Только встречает этот ужас Дмитрий Быков с улыбкой лихого беллетриста, не позволяя мраку отчаяния захлестнуть ни себя, ни читателя.
Три точки
(Дм. Быков. Блаженство. Стихи)
Дмитрий Быков издал новый сборник стихов под старым названием «Блаженство». Это его второе «Блаженство» отличается от первого кардинально. Начать с оформления, которое приятно и умно. На обложке репродукция картины прерафаэлита Саймона Соломона «Спящие», на спинке обложки – «Пьеро» Обри Бердсли. Полюса обозначены. Между подчеркнутой, изысканной нежностью прерафаэлитов и саркастической резкостью Бердсли – мой мир – говорит автор.
Так же четко он располагает полюса и в своей книге. Маркирует содержание первым и последним стихотворениями. Первое, довольно раннее и очень известное (насколько вообще может быть известна сейчас поэзия): «Жизнь выше литературы, хотя и скучнее стократ, все наши фиоритуры не стоят наших затрат. <…> И ежели в нашей братии найдется один из ста, который пошлет проклятие войне пера и листа и выскочит вон из круга в разомкнутый мир живой, его обниму, как друга, к плечу припав головой <…> а я побреду назад, где светит тепло и нежаще убогий настольный свет – единственное прибежище для всех, кому жизни нет». Манифест. Собственно, любой настоящий поэт каждое свое стихотворение пишет, как свой манифест, как последнее свое высказывание, после которого ему нечего будет сказать. Поэтому у настоящих поэтов и получаются интересные поэтические сборники.
Стало быть, начинает Быков с этого парадоксального (как и все в его творчестве) литературоцентричного манифеста, а завершает тоже своего рода манифестом, недавним своим стихотворением, мрачным, отчаянным, одним из самых своих сильных: «Отними у слепого старца собаку-поводыря, у последнего переулка – свет последнего фонаря…» – бросает тяжелые свинцовые слова, чтобы затем поставить точку в сборнике, названном им «Блаженство»: «Неужели, когда уже отняты суть и честь и осталась лишь дребезжащая словно жесть, сухая, как корка, стертая, как монета, вот эта жизнь, безропотна и длинна, надо будет отнять лишь такую дрянь, как она, чтобы все они перестали терпеть все это?»
Между признанием того, что жизнь выше литературы, и руганью: «жизнь, дребезжащая, словно жесть, сухая, как корка, стертая, как монета» – пространство поэзии Быкова, втиснутое в этот его сборник. Есть некий парадокс, в числе прочих его парадоксов: отчего мрачные его стихи не нагоняют тоску и отчаяние, а вселяют надежду? Дело в ритме, в четкой организации стиха, в мужественной интонации, которая может сочетаться с надрывной сентиментальностью, на грани фола: «Ты выйдешь вслед за мной под сумрак каплющий, белея матово, как блик на дне, и, кофту старую набросив на плечи, лицо измятое подставишь мне <…> Земля, которая сама сбежала бы, да деться некуда, повсюду то ж. А ты среди нее – свечою белою. Два слезных омута глядят мне вслед. Они хранят меня, а я что делаю? Они спасут меня, а я их нет».
Блок когда-то писал, что любой настоящий поэтический сборник является не просто собранием разных стихотворений, но цельной книгой со своим сюжетом, каковой не пересказать, поскольку изложен он… стихами. Любой настоящий поэтический сборник есть некий отчет о пути, что ли? О пройденном маршруте? Именно так и составил свою книгу Дмитрий Быков – сюжетно, отчетно-маршрутно. Составил смело, ибо выбросил все свои легкие для читательского восприятия стихи, всю сатиру, все свои (весьма высокого уровня) поэтические фельетоны. Оставил только лирику, только непосредственное поэтическое высказывание, не смягченное юмором, иронией, сарказмом.
Впрочем, вру. От юмора, иронии, сарказма и насмешки Быкову не уйти даже в самых своих лирических проявлениях. Такой уж он поэт. За это его и любят. За это его и ненавидят: «У меня насчет моего таланта иллюзий нет, в нашем деле и так полно зазнаек. Я поэт, но на фоне Блока я не поэт. Я – прозаик, но кто сейчас не прозаик? Загоняв себя, как Макар телят, и колпак шута заработав, я открыл в себе один, но большой талант – я умею злить идиотов». Это – сарказм, как вы понимаете. А вот и иронический юморок с дивной, бытовой интонацией, крепко вплавленной в стихотворный размер: «У бывших есть манера манерная, дорисовывать последний штрих. Не у моих, у всех, наверное, но я ручаюсь за своих. Предлог изыскивается быстренько, каким бы хлипким ни казался, и вот начинается мини-выставка побед народного хозяйства. <…> Вот наши дети, вот наши розы, ни тени злобы иль вражды, читатель ждет уж рифмы “слезы”, ты тоже ждешь, ну ладно, жди…»
Регистр эмоций поэта Дмитрия Быкова (как и регистр владения им рифмами и размерами) невероятно широк, по таковой причине, кстати, поэт Быков никогда не надоедает, он умеет быть разным, оставаясь самим собой. Он может быть радостно-революционен: «Когда династья скукожится к ноябрю и самовластье под крики “Кирдык царю!” начнет валиться хлебалом в сухие листья, то это счастье, я тебе говорю», он может быть элегично-консервативен: «Люблю нерушимость порядка, чепцы и шкатулки старух, молитвенник, пахнущий сладко, вечерние чтения вслух. Мне нравятся эти южанки, кумиры друзей и врагов, пожизненные каторжанки семейных своих очагов», он может быть надрывен по-достоевскому: «Только трус не любил никогда этой брезжущей, пасмурной хмури, голых веток и голого льда, голой правды о собственной шкуре», он может быть лирически-философичен: «Сваи, сети, обморочный морок сумеречных вод. Если есть на свете христианский город, то, пожалуй, вот. Не могли ни Спарта, ни Египет, ни отчизна-мать, так роскошно, карнавально гибнуть – и не умирать».
Но вся эта протеичность, весь размах этой амплитуды от смеха до отчания, от насмешки до нежности, от революционности до консерватизма держатся на чем-то неизменном, неизменяемом, неколебимом. Можно переформулировать фразу, потому-то так широк размах, так протеично творчество, что есть точки опоры, есть незыблемый фундамент, есть от чего отталкиваться и куда приземляться после толчка. Первая точка опоры заметна сразу. О ней уже было сказано, потому повторюсь. Безукоризненная техника стиха. Дмитрий Быков – техничен, как скрипач. Он ощущает стихотворение, как… материю, как нечто не то что слышимое и звучащее, но осязаемое, существующее, отсюда его блестящие метафоры, связанные со стихом: «И в эти два часа этих суток даже верится, что выйдешь отсюда, разомкнув квадрат, как эти строфы размыкает строчка без рифмы» или «Зарифмовать и распихать бардак по клеткам ученических тетрадок – единственное средство кое-как в порядок привести миропорядок и прозревать восход (или исход) в бездонной тьме языческой, в которой четверостишье держит небосвод последней, нерасшатанной опорой».
Уже и этой точки опоры хватило бы для размаха во весь окоем современного российского ментального пространства. Но есть еще две. Вторая связана с первой. Быков слышит читателя так же хорошо, как он слышит стих. К счастью он не может выкрикнуть, как Мандельштам: «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючий разговор бы…» Все это Дмитрий Быков имеет в избытке. Без этого всего он бы задохнулся. Ему необходим отклик аудитории. Его стихи на этот отклик рассчитаны. Он не заискивает перед читателем, но уважает его и его (читательское) время. Поэтому он старается и умеет делать интересные стихи. Его стихи закручены так, что тебе интересно следить, куда вывернет автор, начавший так неожиданно? Он строит свои стихи, как… детективы. В завязке – тайна, некое шокирующее утверждение, например, в развязке – разгадка, которая оказывается интереснее, неожиданнее самой тайны (чего в детективах не случается почти никогда, а в стихах Дмитрия Быкова почти всегда): «Он так ее мучит, будто растит жену. Он ладит ее под себя, под свои пороки, привычки, страхи, веснушчатость, рыжину. Муштрует, мытарит, холит, дает уроки». Вот завязка, перед читателем встает вопрос: и что получится из этого психологического эксперимента? А вот что получится: «И все для того, чтоб, отринув соблазн родства, давясь слезами, пройдя километры лезвий, она до него доросла – и переросла. И перешагнула, и дальше пошла железной». Можно ставить точку, финал неожиданный, а если подумать то в неожиданности своей вполне закономерный, но Дмитрий Быков довинчивает ситуацию, выводит ее уже не на житейский и психологический, а бытийный, метафизический уровень: «А он останется – сброшенная броня, пустой сосуд, перевернутая страница. Не так ли и Бог испытывает меня, чтоб сделать себе подобным – и устраниться? <…> Да все не выходит…»
И вот она – третья точка опоры. О чем бы ни писал Дмитрий Быков, а ежели всмотреться, то пишет он всегда на три темы, обычные для настоящего поэта: Бог, Родина, Женщина – о чем бы он ни писал, он всегда со слабыми, с теми, кто проиграл или проиграет, а потом снова вступит в игру, не рассчитывая на победу. «Прогресс, говоришь? А что такое? Ты думаешь, он – движенье тысяч? Вот и нет. Это тысяче навстречу выходит один безоружный. И сразу становится понятно, что тысяча ничего не стоит, поскольку из них, вооруженных, никто против тысячи не выйдет». Оптимистичные стихи. Излечивающие от депрессии в любых ее видах.
Пейзаж поэзии
(О стихах Льва Лосева)
Лев Лосев – один из лучших поэтических псевдонимов, мне известных. Начать с того, что имя ЛЕВ вписано в фамилию ЛосЕВ. Является, так сказать, ОСью фамилии. Лось – он ведь известно кто, он – Лев северных Лесов. У него – огромная корона; он – добрый, могущественный зверь. И кроме того, лось очень похож на еврея, а от этого наследства Лосев ни в коем случае не отказывался: эта «пренатальная память» всегда была с ним, как «Испанский пейзаж…»
Начну издалека, с того стихотворения, которое я прочёл давным-давно и запомнил с ходу, хотя и не всё, к сожалению, но… начало и финал отпечатались так, словно бы я сам их написал. (В этом тоже особенность поэзии и поэта. Поэт только скажет о себе, о своём мировосприятии, как вдруг находится кто-то, кто радостно выкрикнет: да! Ведь и я так же точно чувствую, только сказать не могу.)
«“Понимаю – ярмо, голодуха, / тыщу лет демократии нет, / но паршивого, русского духа / не терплю”, – говорил мне поэт…» Далее залп отборных, умелых, смешивающих важное и неважное, русофобских ругательств, завершающихся неожиданно, но вполне закономерно – бурлеском, трагикомическим оборотом: «“Вот уж точно – страна негодяев. / И клозета приличного нет”, – / сумасшедший, почти как Чадаев, / так внезапно окончил поэт. / Но прекрасною русскою речью / что-то главное он огибал / и глядел на закат, на заречье, / где архангел с трубой погибал».
Это огибание чего-то важного словами, не-называние важного – особенность настоящей поэзии. Реципиент должен почувствовать это важное и уже сам в силу своего понимания и умения сформулировать. Например: вот именно в такой апокалиптической стране, где ежевечерне погибает «архангел с трубой», где и «клозета приличного нет», где не продохнуть от «этой водочки, этих грибочков», от «стишков и грешков», где ненавистны «наших бардов картонные копья и актёрская их хрипота», именно здесь только и могут появиться «Чадаев» и поэт с «прекрасною русскою речью», отлично знающий, что главное не называют, а огибают, оставляют неназванным, отчего это главное становится убедительнее.
(Поначалу я думал, что поэт – Бродский, а потом обратил внимание на архангела, вспомнил: «В небесах стоит Альтшулер в виде ангела с трубой» и решил, что речь идёт о Леониде Аронзоне. Теперь же я полагаю, что это совершенно всё равно, какой поэт. Просто поэт. Тот, о котором Слуцкий писал свой «Случай».)
«Понимаю…» – выстроено по любимому мной принципу: начавши за упокой, оно завершается во здравие. Громкая площадная ругань обрывается тишиной, молчанием; признание в ненависти становится признанием в чём-то другом, уж не в любви ли? Вот это «главное» – пожалуй, лучше всего «обогнуть речью», не назвать.
По такому же типу выстроено стихотворение Тютчева «14 декабря», в котором вспышкопускатели, вероломные путчисты, развращённые самовластием (надо полагать, не только русским, екатерининским, но и французским, бонапартовским) оказываются героями, рыцарями, мучениками, пытающимися растопить своей скудной кровью вечный полюс. Крайняя плакатная форма этого построения: «Евреи хлеба не сеют…» Бориса Слуцкого.
Возьмём другое стихотворение, что понравилось мне, пожалуй, так же сильно, как и «Понимаю – ярмо, голодуха…». Мне с ходу запомнилась кульминация: «Еле слышно – „учти, коммунисты – предатели…” / шелестит – „марокканцы поставят нас к стенке…” / Мы гуляли, глазели и весело тратили евроденьги». Вообще Лосев принадлежал к тому редкому типу поэтов, что могут политику превратить в поэзию. У Томаса Манна было такое рассуждение, мол, религия и поэзия – область человеческого, перед которой политика исчезает, как туман под лучами солнца, но поэзии не возбраняется заниматься политикой. В этом случае поэзия очеловечит политику и весёлым чудовищем проникнет в самую суть трагического». В лучших стихах Бориса Слуцкого была эта весёлая чудовищность, проникающая в самую суть трагического.
Итак, «Испанский пейзаж с нами» – я был так потрясён этим стихотворением, что не сразу обнаружил аж двойную цитату в названии. Ну да, разумеется, у кого-то «Киров с нами», а с нами Испанский пейзаж, пейзаж после битвы, да не просто битвы, а после – поражения. Для кого-то Киров был надеждой и тем, что останется до победы и до… очеловечивания режима и политики, а для нас – вот этот пейзаж… не то, чтобы надежда и даже вовсе не надежда, а нечто ей гегеншпильное.
К этому стихотворению мне видится ещё один эпиграф: «Я сказал Кёстлеру: „Для меня история остановилась в 1936-м”. – „Конечно”, – ответил Кёстлер». Я процитировал этот диалог в одной из своих «новомирских» статей, и милейшая, право, неглупая и образованная библиографиня Анна Иосифовна спросила: «Что же это они только в 1936-м притормозили?» Мне совершенно нечего было ей ответить. Я не мог ей объяснить, почему разгром европейского антифашизма в Испании был… да… концом истории. Вот это (по-моему) и является задачей стихотворения Лосева: невозможность объяснить, почему история остановилась в 1936-м, и попытка эту невозможность преодолеть.
Такое своего рода «Памяти Каталонии», то есть «Оммаж на верность Каталонии». Замечательный эпиграф из стихов отца Лосева «В Мадрид приехал журналист…» Он становится понятен по прочтении всего стихотворения. Поначалу не очень понятно: ну приехал и приехал, мало ли куда ездят журналисты? Тем более Испания, бой быков, пальмы, «ночь лимоном и лавром пахнет». Как вдруг выясняется, что речь идёт о другой Испании, о другом журналисте. Он едет в страну первого всеевропейского сопротивления фашизму, в результате которого, кто знает, и советский режим утратит фашизоидные черты. (Наверняка далее следовала цитата из «Детской болезни левизны…», мол, после мировой революции Россия снова станет отсталой страной уже в «советском», в «социалистическом» смысле…) Но речь идёт не о том журналисте с его ошибками, верой, разочарованием, а о его сыне – наследнике ошибок, разочарования, веры отца. Он попадает в Испанию уже после всего. После того, как «Франко спас Испанию от коммунистической чумы» (ведь так тоже можно сказать), после того, как испанская «перестройка» Хуана Карлоса избавила Испанию от франкизма, мягкого варианта фашизма (а вот так точно можно сказать).
Испанский пейзаж с нами
В Мадрид приехал журналист.
Владимир Лифшиц Как турист прокатился с женой по Испании. пил плохое вино и закусывал постно, словно книгу читал в слишком новом издании и вообще слишком поздно. От печальных бульваров с подъездами барскими Барселоны на юг, к андалузским оливам, не якшаясь со взрывоопасными басками, к молчаливым арабескам Альгамбры, как письмам непосланным, к тёмным, ряби арабской, в прудах отраженьям — к тем разбросанным письмам по мёрзлым, обосранным теруэльским траншеям. С той забытой, с той первой войны что кричат они? С той войны, где отец мой хотел быть убитым, что молчат? – неподписаны, но припечатаны колесом и копытом. Еле слышно – «…учти, коммунисты – предатели…» — шелестит – «марокканцы поставят нас к стенке…». …Мы гуляли, глазели и весело тратили евроденьги. Против слова «Испания» выставим галочку и по этому поводу выпьем маленько. Эх, попросим испаночку сбацать цыганочку — фламенко.Начало стиха – любимейший мой приём в русской поэзии: перевод бытовой разговорной интонации в стиховой размер; обнаружение стиховой стихии в обыкновенном разговоре. «Асеев пишет совсем неплохие, очень хорошие статьи, но, впрочем, статьи не его стихия, его стихия это – стихи» (Б. Слуцкий), или «Ты читал газету “Правда”? Слушай, Лёва, почитай! Там такую режут правду, льётся гласность через край» (Т. Кибиров). Итак: Пожилой усталый человек отвечает на вопросы, как он провёл отпуск, вздыхает, устраивается поудобнее: «Как турист прокатился с женой по Испании…» Всё – понимают присутствующие – сейчас начнётся: жара, море грязное, пища отвратительная, вино – кислятина… И почти не ошибутся..
«Пил плохое вино и закусывал постно, / словно книгу читал в слишком новом издании, / и вообще слишком поздно…» Вот эта «книга в слишком новом издании» – сигнал, знак того, что поэта, который среди детей ничтожных света, конечно, всех ничтожней, сейчас потребует к жертве Аполлон. Только это – особый, особенный Аполлон. Газетчик? Журналист? Историк? Историософ? Словом, другой…
Почему слишком поздно? Почему книга в слишком новом издании? Потому что всё уже произошло, поражение состоялось, это поражение в крови, в памяти европейской демократии, его уже не переиграть. «От печальных бульваров с подъездами барскими / Барселоны на юг, к андалузским оливам, / не якшаясь со взрывоопасными басками, / к молчаливым…» Движение стиха спирально, Лосев ведет читателя, опять что-то огибая, не называя… пусть сам догадается, а не догадается, то почувствует. Почему «бульвары – печальные»? Потому что здесь в 1936 году расстреливали спровоцированное НКВД и коммунистами фактически безоружное выступление троцкистов и анархистов. (Не исключу, что широкие пустые бульвары Барселоны действительно печальны. Это ж модерн, а модерн не может складываться в ансамбль, как классицизм; каждое здание стремится выломиться из общего ряда, стоит на особицу, одиноко… Одиночество всегда печально…) Движемся дальше на юг, к «взрывоопасным баскам», но мы с ними «якшаться» не будем, хотя они тоже наследники той эпохи, уничтожившей их древнюю столицу, Гернику. Они тоже вписаны в пейзаж после битвы, пейзаж после поражения…
«…К молчаливым…» – анжабеман, будто человек, утомлённый долгой тирадой, устал, набрал полные легкие воздуху, сейчас заговорит о том, к чему, собственно, он и вел, для чего и стал отвечать на вопрос, как провел отпуск… – «арабескам Альгамбры, как письмам непосланным, / к темным, ряби арабской, в прудах отраженьям…» Коль речь идет об «арабесках», то она и сама должна быть вычурной, сама должна повторять арабскую вязь дворцов, прудов, парков.
Отчего, спрашивается, «письма непосланные»? Может, оттого, что «арабески Альгамбры» – остаток, обломок совершенно особой цивилизации, уничтоженной фанатиками-христианами мусульмано-иудейской Испании с ее фантастическими для средневековья веротерпимостью, техникой, образованностью… Альгамбра, Гренада – последний оплот этой цивилизации. «Откуда у хлопца испанская грусть?» (Вот еще один подразумеваемый эпиграф к стихам Лосева…) Да все оттуда же, из общей мечты человека и человечества о том мире, где «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся» (Александр Пушкин – Адаму Мицкевичу), где не будет «ни рабов, ни гладиаторов, ни рудиариев» (Джузеппе Гарибальди – Рафаэлю Джованьоли)…
Осколком этого мира была Альгамбра. Здесь же, рядом с ней, другая попытка прорваться к этому миру, столь же, а может быть, и еще более неудачная… Переход к этой другой попытке – резкий, неожиданный, как «нате», как бранное слово, расположившееся рядом с Альгамброй и арабесками: «к тем разбросанным письмам по мерзлым, обосранным теруэльским траншеям». Вот какой пейзаж «с нами» – теруэльские обосранные траншеи”» Траншеи поражения. («Кольцов, посмеиваясь, рассказывал новый анекдот: „Теруэль взяли…” – „А жену?”» А чем не четвертый эпиграф? Тем паче, что вот кто был журналистом, и журналистом гениальным, так это, конечно, Илья Эренбург…)
«С той забытой (ну кто сейчас помнит о гражданской войне в Европе, длившейся столько же, сколько и начавшаяся после нее мировая война? – Н. Е.), с той первой войны что кричат они? / С той войны, где отец мой мечтал быть убитым (поскольку был умен и понимал, к чему идет дело, так уж лучше погибнуть здесь… – Н. Е.) Что молчат? (поскольку убиты и адресаты, и отправители; поскольку язык, на котором написаны эти письма, язык левых интернационалистов мертв для современности. – Н. Е.) – неподписаны, но припечатаны колесом и копытом…».
Простая бытовая деталь становится символом точно так же, как разговорная интонация делается стихами… Колесо военной машины и копыто кавалерийской лошади, припечатавшие письма убитых республиканцев, оказываются колесом истории и подковой лошади из апокалипсиса. Вот подписи этих писем. Наступает кульминация стиха. Здесь уже и намека нет на пожилого туриста, жалующегося на общепит Испании (вы подумайте! Европейская страна, Евросоюз – а такой дрянью кормили…), здесь говорит поэт, умудрившийся давно сгинувшую политику оживить, очеловечить; смогший расслышать шелест исчезнувших писем исчезнувших людей.
Еле слышно – «…учти, коммунисты – предатели…» — шелестит – «марокканцы поставят нас к стенке…»Открытого, яростного, пиитического пафоса хватает на первые две строчки, но тем этот пафос сильнее, убедительнее. Предательство коммунистов, расколовших Народный фронт, жестокость марокканцев, ударных частей у Франко, – эпизоды, но эти эпизоды оказываются равновелики гибели Альгамбры. Здесь становятся внятна ирония истории: потомки веротерпимых, образованных мусульман, изгнанных с полуострова фанатичными и невежественными рыцарями и монахами, оказываются в войсках христианнейшего Франко, режут и расстреливают тех, кто сражается за мир без «гладиаторов и рабов».
Словно расслышав эту иронию, Лосев одергивает себя: столько лет прошло, а тут: «Учти, коммунисты – предатели!» Уж давно все все учли… – и переходит к простой бытовой зарисовке, снова становится пожилым туристом: «Мы гуляли, глазели и весело тратили евроденьги»… Дескать, а вообще хорошая получилась поездка, интересная. Это – для разговора, а для поэзии – да не волнуйтесь вы так, не рыдали мы навзрыд над обосранными траншеями: «Никто не забыт и ничто не забыто». Мы – гуляли, глазели…
(Это вообще свойство питерской (ленинградской) культуры, к которой Лосев принадлежал. Боязнь вольтажа, слишком сильной патетики. Лучше где-то недоговорить, чем выплеснуть все. Лучше сдерживаться, чем взрываться. Лучше печальная усмешка, чем истерика).
Та самая печальная усмешка. Мир все равно стал и становится единым. Не мытьем, так катаньем. Гегель – прав. Евроденьги – вот чем все закончилось. Радоваться прикажете по этому поводу? Как-то не тянет. «Против слова Испания выставим галочку / и по этому поводу выпьем маленько. / Эх, попросим испаночку сбацать цыганочку / Фламенко.»
В этом стихотворении явлены все особенности поэта Льва Лосева. Он был умен и образован, склонен к точному афоризму: «Раз – победителей не славить, два – побежденных не жалеть», «Семь с половиной дураков смотрели “Восемь с половиной”», «Заменою счастья – стремленьем живых к взаимной своей несвободе», ну и конечно: «Умом Уганду (пардон, Россию) не понять…» При всей разности этих поэтических высказываний в них есть нечто общее, что можно обозначить словами – ум, ирония, точность.
Быть умным поэтом в России непросто. Здесь и горе не то от ума, не то уму (причем еще не разобраться, кто там умный-то? Понятно, что не Чацкий… Софья – и названа соответственно…), и поэзия должна быть глуповата, да и вообще – умный в России – ругательный эпитет. Чтобы стать ругательным доброму, к примеру, надо обзавестись уменьшительно-ласкательным суффиксом – еньк, а умный и без суффикса… умный.
У немцев тоже kluege – неодобрительное наименование, но у них хоть в умном спрятаны ложь, лукавство luege, а у нас – так… Так получилось. Если осматривать окоем европейской поэзии, то первым умным поэтом окажется Гейне – личный друг Тютчева и идейный враг Жуковского. Поэзия Лосева – родственна, сочувственна именно его поэзии.
Как и Гейне, Лосев великолепно чувствуете смешное: «Тургенев любит написать роман „Отцы с ребенками” – отлично, Джо! Пятерка!» – но Лосев всегда останавливался за шаг до откровенного комикования. Лосев – настоящий мастер смешного в стихах: «„Я на кого похож?” – спросил он у забора. / Забор сказал что мог при помощи трех букв». Поневоле фыркаешь, даже если вовсе не был расположен смеяться, читая эти строчки.
А невероятная, усталая какая-то, немного раздраженная историософия быта и бунта в России в стихотворении «Поправка к истории»? И снова – сдвоенная цитата, на этот раз из «Капитанской дочки». Сначала – про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а уж потом про сон Гринева, воплотившийся уже не только и не столько в историю, сколько… в быт, в печальную и бурлескную обыденность. В «Поправке к истории» реплика много пожившего человека, раздраженного чрезмерной ученостью спорящих перерастает в злое, безжалостное описание того, как бунт в России вырастает из быта; да он, собственно, и не вырастает – быт России и есть тот самый перманентный бунт, не перманентная революция по Троцкому и Парвусу, а бунт по «Капитанской дочке».
Поправка к истории
При чем тут Ленин, эсеры, бунд? Не так беспощадно-бессмысленный бунт делался до сих пор. А выйдет субтильный такой мужичок, почешет рептильный свой мозжечок, да как схватит топор! Свою избу разнесет в щепу и страшным криком «Я всех гребу!» повеселит толпу. И тут набегут мусора-опера, начнется изъятие топора и советы веселой толпы вокруг насчет вязания рук. И будет он срок в болоте мотать, и песню мычать про старуху-мать, мокредь разводя по лицу, и охраны взвод будет – ать-два-ать — два! – маршировать на плацу.«При чем тут Ленин, эсеры, бунд?» – великолепное, in media res начало. Сразу видишь «предшествующее событие»: сидят интеллигентные, неглупые, начитанные люди… не без монархизма, не без антисемитизма, такого… в цивилизованных рамках, сидят и разговаривают: «Но, конечно, Ленин… Конечно! Гений! Гений политики, гений зла, разрушения, но гений – этого нельзя не признать. Без него ничего бы не получилось…» – «Нет, нет! Ленинское злое семя упало в подготовленное не им лоно. Эсеры! Вот кто своими бомбами, своей пропагандой расшатал государственность в России… Недаром именно их аграрную программу Ленин взял в качестве своего демагогического декрета о земле…» – «А евреи? Не надо забывать о еврейском элементе русской революции. Ведь Бунд…»
Вот тут молчавший до сих пор человек не выдерживает:
При чем тут Ленин, эсеры, Бунд? Не так беспощадно-бессмысленный бунт Делался до сих пор. А выйдет субтильный такой мужичок, почешет рептильный свой мозжечок, да как схватит топор…Великолепное описание российского «перекувырка» и не менее великолепное описание российской «контрреволюции», так сказать, «восстановления законного порядка».
«И тут набегут мусора-опера, / начнется изъятие топора / и советы веселой толпы вокруг / насчет вязания рук…» Вот эти «советы веселой толпы вокруг» – как раз пример «огибания речью сюжета». Не нужно воспроизводить все эти советы, мы и так их слышим, мы видим толпу, окружившую оперов, вяжущих хулигана. Лосев владел этим свойством настоящего писателя: огибать речью то, что читатель благодаря этому огибанию начинает видеть.
Лосев умел передавать речевой жест. В страшных (и смешных) «Стансах» есть один такой, благодаря которому становится виден и весь modus vivendi вторгшегося в текст «чужого». Легкое такое покачивание в облаке из перегара, агрессия, оборвавшаяся недоумением: «Он не еврей? Подымем, отряхнем…»
«Стансы» вообще одни из самых страшных и ироничных стихов Лосева. Грамотно составленный ответ на «В надежде славы и добра…», «Столетье с лишним не вчера…» и «Я не хочу средь юношей тепличных…». Мол, великие предшественники, позвольте мне тоже внести коррективы. Я, конечно, понимаю: Гомер, Мильтон и Паниковский, но все-таки… какое уж тут «примирение с действительностью», когда
При мне посередине площадей Живых за шею вешали людей, Пускай плохих, но там же были дети!Понятно, понятно – военные преступники, и с ними иначе нельзя, но вы понимаете, это было такое народное гулянье у кинотеатра «Гигант», такой аттракцион:
Вот здесь кино, а здесь они висят, качаются – и в публике смеются. Вот все по части детства и уютца, Багровый внук, вот твой вишневый сад.Эта и есть та действительность, с которой стоит-не-стоит примиряться. И «сфинкс» – душа, загадка действительности – ей под стать. «…и в узком переулке встретил Сфинкса, / в его гранитном рту сверкала фикса, / загадка начиналась словом <…>. // Разгадка начиналась словом: „Н-на!” – / и враз из глаз искристо-длиннохвосты, / посыпались блуждающие звезды, / и путеводной сделалась одна.»
Маршрут указан: поэт с битыми, с проигравшими, во всяком случае – не с победителями. «Важно не примкнуть к победителям. Не приветствовать их парад…» (Б. Слуцкий). «Неприветствие парада победителей» – органическая черта Лосева. Смотри удивительное его стихотворение о том, как в России по недомыслию или по дьявольскому расчету в очередной уже раз делают поколение фронтовиков:
Да заря победы всегда заря новой войны. Превратить этих мальчиков в свору зверья — Как два пальца и хоть бы хны. Тот, кто в шаль закутывал мать и невесте дарил кольцо, может завтра руку ребенку сломать, сапогом наступить на лицо…Из всех откликов на Чечню и Афган – этот самый больной и точный. Ореол метра. Таким стихотворным размером Киплинг и Борис Слуцкий писали свои баллады:
Я топил лошадей. Я людей спасал, Ордена получал за то, А потом в стихах все описал. Ну и что? Ну и что? Ну и что?Лев Лосев недаром принадлежал в юности к компании поэтов (Владимир Уфлянд, Михаил Еремин, Михаил Красильников), прозванной, пусть и иронически, «филологической школой». Он – сознательно литературен. Литература для него такая же жизнь. В ней перекликаются, как в жизни. Постороннему не всегда внятна такая перекличка, но если вслушаться, услышишь.
Сапгир
С чего бы вдруг? Приснился мне Сапгир, Как будто на приеме в пышном зале. Я подхожу. «А мы друг друга знали», — я говорю. Но он меня забыл. Вокруг него клубятся облака И – наискось – златых лучей обвалы. Да это рай! Да, рай для добряка — поэта, объедалы-обпивалы. В костюме, в галстуке, не на меня глядит — На водочку на донышке стакана. И так беззвучно говорит: Осанна! И неподвижно в облаке летит.Грустным эхом, печальной перекличкой здесь звучит чуть переиначенная начальная строчка из «Письма в оазис» Иосифа Бродского: «С чего бы вдруг?» («С чего бы это вдруг?»). Здесь не то чтобы возражение, а… печаль, мол, вот ведь перед уходом и поссорились, наговорил резкостей, а зачем? И «оскомина во рту от сладостей восточных» из стихотворения Бродского перекликается с сапгировским раем, «раем для поэта-добряка, объедалы-обпивалы» – разве он не заслужил рая? Сибарит и щеголь, богач и обжора – ну и что?
Лосев по праву понимал себя завершителем некоей поэтической традиции. Поэтом, который при всей своей иронии, склонности к литературной игре, занимается чрезвычайно серьезным, важным делом. Почему оно серьезно, это умелое складывание слов в поэтические строчки – словами не объяснить. Можно только очертить, обогнуть эту серьезность словами же.
Бормотание времени
(О стихах Сергея Стратановского)
Его как-то обидел критик, не отличающийся благорасположенностью к людям, Виктор Топоров. Не просто не поместил в свою антологию «Поздние петербуржцы», хотя вот ему-то там самое место, но во вводной статье к стихам его друга Виктора Кривулина, припоминая конец шестидесятых, обронил: «Прекрасные стихи писала Лена Шварц, чудовищные – Сережа Стратановский…»
На самом деле нечто верное в этом оброненном между делом, походя оскорблении было. И расположение было подобрано точно: Елена Шварц, Сергей Стратановский, Виктор Кривулин. И полюса обозначены правильно. И эпитет выбран подходящий. Чудовищные. Вообще-то не переводчику и поклоннику Готфрида Бенна упрекать кого бы то ни было в «чудовищности». По части «чудовищности» берлинский врач-венеролог и без пяти минут нацист кому угодно даст фору.
Между тем, если кто и может быть близок к «поэту Обводного канала», то это тот самый – Готфрид. Понятно, что сам Стратановский неприязненно отшатнется от вопиющего антигуманизма немецкого поэта, но вектор поэтического движения у них один и тот же. Невиданное расширение ареала поэзии? Морг, свалки, телепередача про Освенцим, прерываемая рекламой моющих средств, пивные, бомжи, овощебазы и подзаборная пьянь? Возможно, но кто только не впускал в ХХ веке в бытие поэзии низкий быт…
Нет, нет, здесь нечто другое… Может быть, откровенное, лупящее в глаза соединение этого низкого быта с мифом, с жутковатой архаикой, которой уютно здесь, в пивной среди бомжей, в загаженном почти городском лесу, на реке непрозрачной, по которой плывут презервативы и прочий сор?
Вот это ближе. Это – точнее. «В начале был потоп» (Im Anfang war der Flut) – эту бенновскую строчку мог бы написать и Сергей Стратановский. Во всяком случае, она (эта строчка) обозначает точку отсчета поэзии Сергея Стратановского. В начале было не Слово, как у евангелиста Иоанна; не Дело, как у Гёте, но… Потоп. Катастрофа. У Бенна – Первая мировая, революция, послевоенная, послереволюционная Веймарская «перестройка» Германии, завершившаяся нацизмом, Вторая мировая, раскол страны, оккупация двух частей страны союзниками, ставшими врагами, – словом, не только исток поэзии Бенна – потоп, катастрофа, но и вся ее питательная почва, вся ее родина.
То же можно сказать и о поэзии Стратановского. Он – поэт социальной катастрофы. Исток этой катастрофы бвл давным-давно, когда еще поэта на свете не было, но завершения этой катастрофы он, по крайней мере, не видит.
Шарикова потомки, Швондера внуки настырные, С внуками Преображенского, вдруг сдружившись, почуяли бунта блаженство: Стали рок-музыкантами, живописцами стали скандальными И поэтами бурными, катакомбными, неконъюнктурными, Стали артистами, хмурым властям ненавистными, Искупая в искусстве дедов былую ущербностьВся история советской культуры в самом сжатом очерке. В этом коротком тексте можно увидеть все характерные особенности поэтики, этики, да, кстати, и историософской такой политики Сергея Стратановского. Первая и главная особенность, та, что, собственно говоря, и делает его странные тексты стихами, – теснота стихового ряда. Он умудряется всобачить в 13 коротких строчек – эпоху, ее начало и ее конец. Схема, которую он очертил своим текстом, сгодится для историософского эссе, для социологической статьи, он втесняет ее в ритмически организованную речь, и она делается стихотворением.
Вторая, важнейшая, особенность – отсутствие точки в конце стиха. Стих принципиально неокончен. Он замирает, затихает, вырывается из неслышимого бормотания времени, обретает звучание, едва ли не ораторское, и снова затихает. Здесь следует посетовать на то, что мало кто слышал, как Сергей Стратановский читает стихи, свои и чужие.
Он – один из лучших чтецов стихов, каких я когда-либо видел. Отсутствие точки в конце своих стихов Стратановский обозначает великолепно. Предпоследнюю строчку он читает громче остальных, а на последней затихает, словно бы набирает голос для следующей, но… замолкает, обрывает текст, словно бы что-то недоговаривает.
Между тем все договорено. Стихотворение окончено эффектной фразой, звонким парадоксом, достойным Гильберта Кийта Честертона, не меньше. То есть, позвольте? Как же это так? Ну ладно, Швондер и Шариков – уроды эти, у них ущербность – явлена, очевидна, но профессор Преображенский, он-то в чем ущербен? Чем недостаточен? Почему его Стратановский ставит на одну доску с уродами, выплеснутыми социальным взрывом наверх?
Критик Андрей Арьев назвал Стратановского поэтом культуры. Это – верно, но не полно. Надо пояснить, какой культуры. Революционной. Катастрофной и катастрофической. Не потому, что он ее живописует. А потому что эта культура – его родина. Его воздух. Он и загробную жизнь может представить себе как одну огромную коммуналку:
Коридор бесконечный в коммунальной квартире заоблачной, Стены желтые, горькие и голые лампочки робкие, Освещая мертвяще, а из сотен открытых дверей Смотрят страшные людиНо это не те люди, мимо которых стоит пройти, как проходили писатель Булгаков и профессор Преображенский, брезгливо сторонясь, жестоко, возможно и справедливо, издеваясь. Это – люди, имеющие право на жизнь и счастье. Потому-то для Стратановского равно ущербны и Преображенский, и Шариков. Он сформирован культурой революции, назовем чудовище его настоящим именем: коммунистической культурой. Именно поэтому он очень хорошо почувствовал осознанно фашистский, расистский смысл гениального «Собачьего сердца».
Есть люди, которым и надо жить на помойке, в грязи, на свалке, там их место – вот точка зрения и Булгакова, и выдуманного Булгаковым Преображенского. Для Стратановского эта точка зрения так же ущербна, как и хамство Швондера-Шарикова. Зато он видит удивительный результат встречи-столкновения Швондера-Шарикова-Преображенского. Их внуки оказываются творцами андерграундной культуры, культуры странного бунта. С бунтом у Стратановского, ей-ей, непростые отношения.
Да, беспощадным, но не бессмысленным вовсе Был русский бунт. И какая была б безнадега, Если б все мужики как Савельич любили сердечно Ихних жизней хозяевРешиться на тихий спор с Пушкиным, возразить его афоризму вежливым уточнением, рискнуть напороться на презрительное: «Ну что это за конспект школьного сочинения на тему: “Чем плох Савельич и чем хорош Пугачев?”», противопоставить жесткому, лапидарному, как приговор, «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» стиль розановской бормочущей записки, фрагмент, отрывок, осколок – в этом весь Стратановский.
Он – поэт отрывка, обломка, осколка, части, фрагмента. Сергей Стратановский согласился на роль части, фрагмента во всем – и в стихе, и в поэтической стратиграфии. Его не вычленить из той культуры, что создавалась «потомками Швондера, Шарикова и Преображенского». Он – часть этой культуры, созданной потомками тех, кто поднялся вверх благодаря социальной катастрофе, и потомками тех, кого социальный взрыв сбросил вниз. Этой двусторонней направленности катастрофы он не забывает.
Потому, наверное, он так чуток к парадоксальной ситуации современного государственного капитализма в России, потому он так умело и жестко вписывает его в историю социальных потрясений страны:
Есть на Ленинском проспекте Ресторан «Обломов». За стеклянными дверями Сбитнем, квасом, пирогами Угощающий всегда. Посетите, господа Тут же рядом на проспекте Зал дворянства областного. Крепостной оркестр снова Там играет как тогда. Заходите, господа А на улице соседней Есть и церковка Христова Там Ульянова-младенца, В медальоне в виде сердца, Личико лежит, со свечкой рядом На лоточке у входаДве первые строчки, ставящие рядом Ленина и Обломова, отсылка к известной шутке Николая Бердяева: «Россию погубили два Ильича: Владимир Ильич Ленин и Илья Ильич Обломов». Поэт культуры, Стратановский не просто соединяет эти имена. Он их сталкивает, напоминает, что погубило страну: разрушительная энергия одного и абсолютная апатия, абулия, попросту всепоглощающая лень другого. Неуместность названия «Обломов» на проспекте Ленина становится куда как уместна.
Неуместность, оксюморонность возрастают крещендо. «Зал областного дворянства на Ленинском проспекте» – это уже сатирическая поэма в одной строке. Стратановский прочерчивает вектор времени – реставрация так реставрация, господа. Вот и крепостной оркестр, но если уж вы хотите такого возрождения, то будьте покойны: возрожденный мертвец – существо очень беспокойное и очень опасное.
Христова церковь, на лоточке возле входа которой продают медальон с личиком младенца Ульянова, – пик, вершина нелепицы. По ленинским приказам рушили церкви и расстреливали попов. Это еще большая нелепица, чем «областное дворянство», но это в большей степени неуместная уместность, чем сопряжение двух Ильичей, погубивших Россию. Потому что церковь – дом бедных, потому что коммунистический, революционный дух христианства, увы, неистребим. Это же не Ленин и не Маркс обронили между делом насчет богатого, которому так же трудно войти в Царствие Небесное, как верблюду в игольное ушко.
Начните с «обломовского» ресторана и «областного дворянства» – закончите церковью с Лениным-младенцем. Так работает Стратановский с идеологемами страны, с ее историей. По-гегельянски, следует признать, работает. Нет той бессмыслицы, в которой он бы не увидел смысл. Трагический, противоречивый, неразрешимый, но смысл. Тому немало способствует его происхождение. Надобно признать, что и в этом отличается от Елены Шварц и Виктора Кривулина. И та, и другой не без основания полагали, что поэт – не только стихи, но и то, что вокруг стихов, – биография, родословная, семья.
Отец Виктора Кривулина, солдат Великой Отечественной, освобождавший Краснодон, первым увидевший ту шахту, в которую сбросили молодогвардейцев, входит в образ одного из организаторов андерграундной литературы в Ленинграде. Завлит значительнейшего театра страны, дочка репрессированных Дина Шварц – тоже часть явленного образа поэтессы Елены Шварц.
Несколько иная ситуация у Стратановского. Он гордится своими родителями и своей семейной историей, в которой есть и священники, и социал-демократы, но он не впускает этот мир в свой поэтический образ. Оставляет за скобками. Оставленное за скобками, все одно давит на основной текст. Оставленное за скобками позволяет лучше понять этот основной текст – фантасмагоричный, осколочный, в равной степени наполненный и культурными реминисценциями, и приметами быта.
На реке непрозрачной катер невзрачный какой-то Пятна слизи какой-то, презервативы плывущие Под мостами к заливу, мимо складов, больниц, гаражей И Орфея-бомжа, что в проходе метро пел пронзительно Голова полусгнившаяВот оно – двоемирие Сергея Стратановского. Сквозь мрачный быт становится видна архаика. Не облагороженная пересказами Древняя Греция, а настоящая жестокая действительность мифа. «Река непрозрачная» – Обводный канал, издавна самая грязная река Питера. Но это еще и Ахеронт, река мертвых, потому и вода в ней непрозрачная, потому и плывет по ней голова Орфея. Бомж пел в подземном переходе, потому, как Орфей, как раз и спускался под землю в царство мертвых.
У Стратановского не мрачный быт облагораживается архаикой, но архаика приобретает черты мрачного быта. «Человеколошади на моей жилплощади», – писал Стратановский в раннем своем стихотворении, и сразу становилось понятно, каким буйным и опасным хулиганьем были древнегреческие кентавры. Зарегочут, убьют, затопчут.
День падения Трои, неистовство древней резни Когда камни визжали, обрызганы липкой и жаркой Биожидкостью трупной День падения Трои… Но кровь не уйдет от забвенья Станет акт преступленья воздушным рисунком на вазах Росписью стен и мозаикой, песней слепца на пиру О копьеносцах-герояхКогда-то Аверинцев писал о «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельса, что главное, новое и верное в этой книге – умение увидеть в древнем греке дикаря, ирокеза, индейца. Этим свойством Стратановский наделен в высшей степени. В его катастрофном, революционном мире, сдирающем с вещей внешнюю красивость, отвергающем ложь облагораживающей традиции, не бомж красив, словно оперный Орфей, но Орфей ободран и грязен, будто бомж. Бомж и есть настоящий Орфей, поднявшийся из преисподней и снова туда возвратившийся.
Поэтический голос Стратановского негромок, но негромким своим голосом он проговаривает сильно царапающие душу вещи. У него есть баллада «Происшествие», где читателю предлагается понять, что такое муки Христа, так сказать, на современном материале. Вошел человек в храм, опрокинул лоток у входа, потому как:
«Дом Отца моего Домом слезной молитвы зовется А не точкой торговой, и я, Представитель Небес, Сын Начальника Жизни, я мышцей своей сокрушу Возмутительный бизнес»Разумеется, повязали, отвезли в ментовку, после чего следует рапорт старшего следователя Грибакина:
«После предъявления ему обвинения в злостном нарушении общественного порядка гражданин N, именующий себя Христосом, был препровожден в следственный изолятор № 6 и помещен в камеру, где содержалась группа лиц, осужденных за особо опасные уголовные деяния. Во время последовавшей затем ночи гражданин N, именующий себя Христосом, был, по его словам, подвергнут акту насилия со стороны лиц, осужденных за особо опасные уголовные деяния»
«Вновь Ты покинул меня, как тогда в Иудейской земле Но теперь я молил не о том, чтобы пытка и смерть Миновали меня, я молил, чтобы Ты уберег Мое тело от срама, чтобы Ты – эти нары позора Заменил бы на крест и на губку у высохших губ Губку с уксусом жгущим»Поэт Бога и боли, поэт Бога, который и есть боль; поэт книжной культуры, всматривающийся в бесписьменный, жестокий, с трудом не то что пишущий, говорящий мир, Стратановский учился в университете у Проппа и Евгеньева-Максимова. Отец поэта – видный филолог-классик, переводчик Иосифа Флавия, Теофраста, Плутарха. В 1938-м был арестован. Сидел в той же камере, в которой в 1921 году сидел Гумилев. Видел предсмертную надпись, нацарапанную Николаем Гумилевым на стене.
Слышал, как в коридоре кричит избитый на допросе артист Дикий: «Чтоб я еще на этих сук работал!» Был выпущен во время коротенькой бериевской «оттепели» 1939 года. В 1946 году видел фильм, в котором бывший зэк Дикий играл Сталина. Чем не сюжет для короткой, оборванной на полуслове мини-баллады Стратановского? Что-то вроде:
Избитый артист в коридоре дома казней и пыток Кричал: «Чтобы еще я на сук этих мерзких работал!» Освободился. Работал. И в фильме сыграл в белом кителе с трубкой вождяСтратановский выработал удивительную интонацию. Ей довольно легко подражать, но он-то сам ее сделал. Это интонация чуть удивленной, чуть вопросительной речи. Профессор в камере пыток осматривается и фиксирует увиденное. Чуть позже понимает, что такова и была любимая им древность, таким и был позже прилизанный, приукрашенный пересказчиками и переводчиками мир сказок, легенд и мифов.
Мама Стратановского была переводчицей с французского. Хрупкая, интеллигентная женщина. Давид Самойлов, друживший с ней, придумал ей прозвище: Коломбина. Коломбина Коломбиной, но ее вместе с мужем, Георгием Стратановским полуживыми вывезли из блокадного Ленинграда. Сергей Стратановский родился в крестьянской избе, где Коломбине пришлось управляться с ухватами, ушатами и прочими неподъемными предметами быта. Последней ее переводческой работой были речи Сен-Жюста, одного из вождей Великой французской революции, убежденного левого экстремиста.
Вот и соедините классическую ученость, камеру пыток, блокаду, хрупкость Коломбины, деревенский быт и грозные речи Сен-Жюста – получится поэт Сергей Стратановский. Первое свое стихотворение он написал в 1969 году. Это было фантастическое шестистишие о тыкве-людоедке.
Тысячеустая, пустая Тыква катится глотая Людские толпы день за днем И в ничтожестве своем Тебя, о тыква, я пою Но съешь ты голову моюКаких только интерпретаций не было у этой миниатюры. Вспоминали знаменитое «Отыквление» императора Клавдия, придуманное Сенекой, шагающие деревья-убийцы из фантастического романа Уиндема Льюиса «День триффидов», оживающие растения из ранних стихов Николая Заболоцкого. Писали даже о пародии на предсмертную оду Державина «Река времен в своем стремленье уносит все дела людей…» У Державина образ всепожирающего времени – река. У Стратановского – тыква. А чему же еще и посвящать стихи, как не времени? Сам же поэт уверяет, что тыква-людоед прикатилась к нему из африканского фольклора. В самом первом стихотворении Стратановского ярче всего видна его характерная и не очень обычная для лирического поэта особенность. Он любит и умеет выдумывать. Он ценит сюжет.
Потому его так притягивает фольклор. Настоящий, древний, неприкрашенный. Не только открытым, явным, явленным трагизмом, но сюжетностью.
На ладье лебединой, По реке долгой, длинной, на север, лесами обильный, Русский князь – витязь сильный — К Вяйнямёйнену старому приплыл со своей дружиной. И сказал русский князь: «Помоги нам, кудесник старый, Бьют нас татары, жгут наши села и нивы, Города разоряют, лучших людей в плен уводят… И мы просим тебя, заклинатель старый, Послужи нам силой своей волшебной, Знаю, можешь ты словом мощным Мор наслать на народ искони враждебный». И ответил ему Вяйнемёйнен старый: «Слово лечит, а не губит, слово строит, а не рушит. Словом я ковал железо, словом я ладью построил, Но убить не смеет слово никого на целом свете. Я пойду к тебе на службу, русский князь, Только воином обычным в твое войско, Ибо сила моя тяжела мне стала, И хочу сойти я к смерти, к Туонелы водам черным». «Жаль», – ответил ему русский князь.Это из новой книги Стратановского «Оживление бубна», собрания легенд и мифов чуть ли не всех народов России, за исключением русского. В русское море у него сливаются не славянские ручьи, но азиатские, лесные, степные, финно-угорские, тюркские реки. Продлевая метафору, скажем – не реки, но океан. Россию, ее бессловесную, подспудную культуру питает побежденное, но не уничтоженное язычество давным-давно покоренных народов – вот тема «Оживления бубна». Оно, это язычество, приобретает странно-христианские черты, именно потому, что оно – побеждено. Оно – слабо. Тогда как в победившем христианстве обнаруживаются жестокие, языческие черты. Ибо христианство – религия слабых, преследуемых, гонимых, побежденных, а не победителей; религия бедных катакомб, а не богатых храмов:
Корнелапые чудища, с говорящей листвой, сердцем бьющимся — вот человекодеревья. Не осталось их ныне: переродились иные, Стали просто деревьями, а другие – из леса в кочевья Ночью тайно ушли от неверных людей, что крестились В чужеземную веру. Но осталась в лесу не ушедшая с ними рябина, Потому что любила молодца из деревни, охотника. Ну а он испугался. В церковь пошел он, к попу, рассказал про бесовское дерево. Разъярился наш поп и велел изрубить топором Эту нечисть лесную. Криком кричала она, и до сих пор этот крик Ночью слышен бываетУбитое – живо. Чем более оно убито, тем более оно – живо. Оно вошло в душевный состав убийц. Это – давняя, пугающая тема Стратановского. Тема изгнанных, уничтоженных богов, которые остались – неназываемые, неназванные, но уже непобедимые:
Истреблением племени Вечно враждебного мы запятнали свой путь Сквозь века и народы И вот теперь наши внуки на высотах, навеки утративших Имена изначальные, поклоняются ночью, таясь, Их богам, воскресающим каждую ночьТоже, знаете ли, сюжетный поворот, все равно как в стихотворении о русском князе и финском колдуне последняя фраза. Она волит некоего продолжения, которое каждый длит в меру своего душевного склада. Кому представится, что князь убьет колдуна – кто его знает, может, враги уговорят старичка применить сверхоружие? Кто вообразит себе князя, разворачивающего коня, – не вышло… А кому-то придет в голову, что князь махнет рукой: «Ладно, иди добровольцем в ряды моих войск»… Во всех случаях современное вежливое «жаль» в устах древнерусского воина – уместная неуместность – собственное клеймо поэта.
Оно вклинивается в текст древности из другого мира, из интеллигентной беседы, вестерна, детектива и вновь, как и всегда у Стратановского, обнаруживает архаику в современности, современность в архаике. В этом финальном «жаль» – бормотание времени, которым так сильна поэзия Стратановского. Не шум времени, но бормотание, сбивчивое, обрывающееся на полуслове, а все одно – явленное.
Слушай, боль и больница не должны заслонять горизонт, Пусть счастливые лица и нам улыбнутся с экрана Пусть начнется реклама, завертится жизнь-карусель, Предлагая товары, добротные, нужные всем Пусть обрадуют взор чудо-печи и лучшая пицца Рекламируют специи, рекламируют мебель из Греции То на фоне Олимпа, то на фоне Афин рекламируют… Что ж… Будут деньги – мы купимТени стихов
(Геннадий Алексеев. Избранные стихотворения)
Верлибр напоминает подстрочник каких-то очень хороших стихов, написанных на неведомом никому, может, инопланетном, может, потустороннем языке.
споткнувшись о порог у входа в мир иной не чертыхайся.Верлибры невозможно цитировать не целиком, как невозможно цитировать или пересказывать хорошие детективы. Верлибры невозможно анализировать, как невозможно анализировать хорошие шутки и притчи. Пожалуй, да: из всех прозаических жанров к настоящему верлибру ближе всего детектив, притча, анекдот, шутка. Настоящий верлибр держится на том же, на чем и всё перечисленное, – на ожидании, каким же образом автор вывернет, как разрешит заданную загадку.
Говорили: будь осторожен жди выстрела в спину! говорили: будь начеку жди коварного выстрела в спину! он все оглядывался был наготове и вот результат: его убили выстрелом в лицо.Пишущий верлибром менее всего защищен. Верлибр – самые беззащитные стихи. Кажется, что их-то писать легче всего. В Питере, то есть в Ленинграде, с 1932-го по 1987-й жил человек, который писал удивительные, фантастические верлибры. Сначала вспоминается Гофман, Эрнст Теодор Амадей, с его невозможным для филистера, привычным для поэта двоемирием.
Позвонили. Я открыл дверь и увидел глазастого, лохматого, мокрого от дождя Демона. – Михаил Юрьевич Лермонтов здесь живет? — спросил он. – Нет, – сказал я, — Вы ошиблись квартирой. – Простите! – сказал он и ушел, волоча по ступеням свои гигантские, черные, мокрые от дождя крылья. На лестнице запахло звездами.Человека звали Геннадий Алексеев. Внешне он походил на Марка Аврелия, что не преминул помянуть в одном из своих стихов. Учился на архитектора, и архитектурная выучка заметна не столько в его стихах, сколько в его геометрических жутковатых картинах. Говорят, что где-то на Карельском перешейке стоит дом, построенный им самим по собственному эскизу. Говорят, что редкие прохожие останавливаются, чтобы посмотреть на этот дом. Если его дом похож на его стихи, то прохожих можно понять. Его стихи из тех, что обращают на себя внимание. Они – странные. Они – пугающе странные. Они – простые до прозрачности, до линий детского рисунка, до – как там писал Тынянов по другому поводу – «бормочущей розановской записки». Нет, вот этого-то как раз и нет. Никакого бормотания. Четкость высказывания, восклицание, удивление, но только не бормотание.
Глядя на полотна «малых голландцев», вспоминаю: на этом стуле с высокой спинкой я когда-то сидел (удобный стул). …………………………………. Как все хорошо сохранилось! Но где же я сам? Куда я делся? Годами ищу себя на полотнах «малых голландцев».Ясность визионера – вот что поражает и притягивает к стихам Геннадия Алексеева. Каким-то чудом ты оказываешься убежден: поэт не кокетничает. Он и в самом деле помнит себя на полотнах «малых голландцев», нисколько не удивится и даже не испугается, когда обнаружит себя, ожившего, там, в обстановочке нидерландского семнадцатого века. Говорят, что в юности, в 1957 году, Геннадий Алексеев оказался в Свердловске-16 в самый разгар первой аварии на атомной электростанции. Вполне вероятно, что это легенда. Вокруг странных ленинградских людей, писавших странные стихи, всегда роятся легенды.
В конце жизни Геннадий Алексеев написал роман «Зеленые берега», опубликованный после его смерти. Роман – фантастический, то есть не фантастический, а мистический: знаменитая исполнительница русских романсов Анастасия Вяльцева не умерла и время от времени приходит к автору «Зеленых берегов». Роман не слишком удачен, зато благодаря ему можно нащупать, можно понять главную тему поэта Геннадия Алексеева. Это – смерть. Вернее, инобытие, то место, где жизнь соприкасается со смертью.
В один печальный туманный вечер до меня дошло, что я не бессмертен, что я непременно умру в одно прекрасное ясное утро. …………………………………. Погрустив, я лег спать и проснулся прекрасным ясным утром. Летали галки, дымили трубы, грохотали грузовики. «Может быть, я все же бессмертен? — подумал я. — Всякое бывает».Именно так в какой-то момент человек, читающий Геннадия Алексеева, внезапно понимает, что он читает тексты человека, видящего тот, другой мир. Нет, нет, эти стихи ироничны, наивны, шутливы и в то же время насмерть серьезны: в этих стихах Ромео и Джульетта смеются, когда им говорят, что Шекспира когда-то не было! В этих стихах никто никогда не умирает, потому что все живы – или потому, что все уже умерли. В тот момент, когда это понимаешь, мир стихов Геннадия Алексеева становится подобен миру из страшного испанского фильма «Другие». Повторюсь, это мир человека, который видит других, умерших, исчезнувших, потому что должен ведь быть кто-то, для кого все они не умерли и не исчезли. Геннадий Алексеев написал стихотворение «Купол Исаакия», в котором любование эффектно освещенным на фоне сине-фиолетового неба куполом Исаакия сменяется страхом за этот купол:
И вдруг я понял, что он боится неба, от которого можно ждать всего, чего угодно, что он боится звезд, которых слишком много. И вдруг я понял, что этот огромный позолоченный купол ужасно одинок и это непоправимо.Чего может бояться купол Исаакия в житейском смысле? Бомб, которые сыпались на город во время блокады. В метафизическом – богооставленности, пустоты бесконечного мира, в котором больше мертвых, исчезнувших, чем живых. В 1961 году Геннадий Алексеев написал поэму о блокаде «Жар-птица». Про блокаду написаны две великие книги – повесть Шефнера «Сестра печали» и сентиментальная поэма Геннадия Алексеева «Жар-птица».
Я встретил ее совершенно случайно — однажды ночью на набережной. Она сказала: – Вы меня простите, но я должна, должна вам рассказать!Так поэма начинается, заканчивается она словами той, что «должна рассказать»:
Зарыли меня на Охтинском. Третья траншея от входа, в двух метрах от крайней восточной дорожки.Для этого-то и нужен верлибр Геннадию Алексееву. Верлибр – это ведь тень стихов. Белый стих на то и белый, чтобы быть призрачным, прозрачным, привиденческим, привидевшимся. Он словно из другого мира, где не действуют наш ритм, наши созвучия. Для мира Геннадия Алексеева такой стих подходит лучше всего. Не потому, что он, Геннадий Алексеев, такой мистик и такой духовидец, но потому, что город, в котором он родился, в котором жил, город, который он любил, набит под самые небеса и под самые недра исчезнувшими, погибшими не только во время блокады, но и во время всех чисток ХХ века. Этих исчезнувших так много в любой коммуналке, под любым асфальтом, что должен ведь был появиться кто-то, кто их бы увидел. Вот Геннадий Алексеев и появился, и увидел их, а вместе с ними – оживших сфинксов, незлых крылатых львов, кентавров, пляшущих лошадей, химер, охота на которых запрещена, но браконьеры, правда, всегда найдутся.
«Полный вдох свободы…»
(Борис Слуцкий. Записки о войне)
Слуцкий стал поэтом войны. Его поэзия и эстетика, оксюморонные, парадоксальные, кажутся одновременно и опровержением, и подтверждением всеми заученного афоризма Теодора Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи»; остается добавить: или эти стихи будут подобны стихам Слуцкого.
«Записки о войне» – записки победителя, человека, убежденного в том, что он – субъект истории, тот, кто историю делает, а не ее объект – тот, кого история делает. Пройдет сколько-то лет, и Слуцкий почувствует себя объектом истории, а еще через несколько лет точно зафиксирует это: «…осенью 1952 года… До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяц-два… Такое же ощущение – близкой перемены судьбы – было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной». В 1944 – 1945-м, когда писались и на машинке печатались «Записки о войне», до этой «перемены судьбы» было далеко. О времени победы Слуцкий написал в одном из своих стихотворений: «Я делаю свободы полный вдох. Еще не скоро делать полный выдох».
Полный вдох свободы – еще несвободного, еще скованного догмами человека. В 70-е годы Слуцкий сформулирует: «Я был либералом. При этом – гнилым. Я был совершенно гнилым либералом». В 1944-м, 1945-м такая характеристика показалась бы ему оскорблением. Тогда он ощущал себя «якобинцем XX века», «харьковским робеспьеристом». Его Робеспьером был Сталин.
Автор «Записок…» еще не уверен, будет ли он поэтом. Сможет ли он увиденное «заковать в ямбы». Он понимает себя действующим политиком, равновеликим Черчиллю, Тито… Сталину. (В позднем, «послекультовом», стихотворении Слуцкий напишет об этом самоощущении: «И я верил, что Сталин похож на меня, только лучше, умнее и больше…») Вот это-то ощущение равновеликости политиков и рядовых участников политики делало «Записки о войне» при всей их «ортодоксальности» – абсолютно непечатабельными.
Странное они производят впечатление. Написанные по горячим следам, они – «литературны». В них ощущается замах на нечто большее, чем дневник или репортаж. Литературность «Записок…» угадывается в их парадоксальной традиционности. Угадываются литературные предшественники: «Фронт» Ларисы Рейснер, «Конармия» Бабеля. «Орнаментальная» проза 20-х годов, из которой выброшены все «орнаментализмы». Оставлена только ритмическая организация текста и интонация – спокойным, деловым тоном о жестоких и страшных вещах. Слуцкий, разумеется, не мог знать, как «работал» с бабелевским текстом Варлам Шаламов («Я вычеркивал все его „пожары, веселые как воскресенье”, – рассказы оставались живыми»), но его принцип работы в этой традиции, в традиции этой прозы, был точно таким же – «отжать» всю пышную роскошь эпитетов и метафор. Слуцкий пишет, что до войны раз пятнадцать прочел сборник рассказов Бабеля. Следы этого чтения в «Записках о войне» полемичны. Бабелевский Лютов, alter ego Бабеля, лирический, если можно так выразиться, герой «Конармии» – очкарик, интеллигент, примкнувший к революции; его несет стихия народного бунта. Лирический герой «Записок о войне» Слуцкого и его ранних баллад – интеллигент, руководящий народным бунтом, организованным в регулярную армию. Это был не момент истины – момент заблуждения. Но энергия этого заблуждения позволила разгромить тоталитаризм «справа» – фашизм – и впоследствии не позволила примкнуть к тоталитаризму «слева» в самом бесчеловечном его «изводе» – к сталинизму.
О том, как себе представлял дальнейшее развитие событий Слуцкий, пишет его друг, Давид Самойлов: «Он воротился в Москву в сентябре 1946-го… Он тогда замечательно рассказывал о войне, и часть его рассказов, остроумных, забавных, сюжетных, он записал и давал читать друзьям машинописные брошюры: „Женщины Европы”, „Попы”, „Евреи” и т. д. Памятуя о военных записках, сказал ему: „Будешь писать воспоминания? У тебя получается”. – „Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихов. Все, что надо, решил вложить в стихи”. <…> На другой день после приезда Слуцкого пришел Наровчатов. <…> Наша тройственная беседа происходила в духе откровенного марксизма. <…> Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. <…> Отсюда резкое размежевание идеологий. <…> Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики. Ждали восстановления коминтерновских лозунгов».
Слуцкому кажется: то, что не удалось анархической конармии в 1920-м, удастся советской армии в 1945-м. Российская революция перерастет в революцию всеевропейскую. Тогда на причитающиеся им по праву места будут возвращены те уничтоженные люди 20-х, кого он не без оснований считал своими учителями. Люди революционных «бури и натиска», они не подошли дисциплинированному военному лагерю 30-х, но теперь, когда в Европе поднимается своя «буря», – теперь-то они понадобятся вновь. Вот откуда в тексте Бориса Слуцкого имена репрессированных, тогда еще не реабилитированных поэтов и писателей – Пильняка, Клычкова, Мандельштама. Вот почему Слуцкий пишет о знаменитом Юрии Саблине – участнике левоэсеровского мятежа 6 июля 1918 года в Москве; вот почему называет публицистику Ильи Эренбурга «моральной левой оппозицией по отношению к официальной линии». Словосочетание «левая оппозиция» взрывоопасно, бризантно – так называлась оппозиция Троцкого и его сторонников, ориентированных на мировую революцию. В 30-е годы не было ничего страшнее, чем оказаться «троцкистом». Слуцкому кажется, что нынче (в 1944 – 1945-м) все изменилось. Тактика (погоны, «темные доски обрусительских икон», патриотизм, приближающийся к шовинизму, к великодержавbю) должна смениться стратегией (возрождение «коминтерновских лозунгов»). Поэтому Слуцкий с таким воодушевлением описывает Сербию 1944 – 1945-го – он вдохнул воздух крестьянской революции, во главе которой – направляющая и организующая сила: городские образованные люди, интеллигенты и рабочие – коммунисты.
Перед современными читателями «Записок о войне» – один из самых интересных психологических типов, когда-либо создававшихся историей, – бунтарь-государственник, патриот-космополит, догматик-диалектик. Но уже тогда, в 1945 – 1946-м, была попытка уловить противоречия. Главное противоречие Борис Слуцкий попытался вогнать в изложницу гегелевской диалектической схемы: «Распространение получили две формы приверженности к сущему: одна – попроще – встречалась у инородцев и других людей чисто советской выделки. Она заключалась в том, что сущее было слишком разумным, чтобы стерли его немцы в четыре месяца – от июня до ноября. Эта приверженность не колебалась от поражения, ибо знала она, что государственный корабль наш щелист, но знала также, что слишком надежными плотничьими гвоздями заколачивали его тесины. Вторую форму приверженности назовем традиционной. Она исходила из страниц исторических учебников, из недоверия к крепости нашествователей, из веры в пружинные качества своего народа. Имена Донского, Минина, Пожарского, для инородцев западно чуждые, сошедшие с темных досок обрусительских икон, здесь наливались красками и кровью. Две эти любви, механически сшитые армейскими газетами, еще долго жили порознь, смешливо и враждебно поглядывая друг на друга».
Как много смыслов заталкивает тут двадцатипятилетний вершитель истории в ее истолкование. Почему «сущее слишком разумно, чтобы быть уничтоженным» (перетолкованный афоризм Гегеля)? И почему эта форма приверженности встречается у «людей чисто советской выделки»? Потому что «сущее» – советская власть, социализм – не выросло органично, естественно, но выстроено, построено в согласии с человеческим разумом, в согласии с чертежами революционеров, отвергших другое сущее, другую действительность – неразумную и недействительную. «Вторая форма приверженности к сущему» тоже словно бы выводится из гегелевского тезиса, но по-другому. Разумное – разумно, поскольку действительно. Здесь главное – не революционный интернационалистский разум, но консервативное, патриотическое чувство, вера в «пружинные качества своего народа».
Уже в пору написания «Записок…» Слуцкий, как видно, считал одной из своих поэтических и идеологических задач – синтез двух этих форм «приверженности к сущему». Позднее он дал этот поэтический синтез «революционного разума» и «консервативного чувства» в своей балладе «Кульчицкие – отец и сын». Баллада посвящена другу Слуцкого, молодому поэту Михаилу Кульчицкому, и его отцу, Валентину Кульчицкому, старому офицеру, литератору, автору истории Сумского драгунского полка, оды на рождение царевича Алексея, книг по офицерской этике, после революции – харьковскому адвокату, сосланному в 1935-м на строительство Беломорканала, потом вернувшемуся в Харьков. Название отсылает к роману Тургенева «Отцы и дети», то есть намекает на конфликт поколений – консервативного и революционного. Так что кажется, что речь в балладе пойдет именно об этом – о разрыве семейных связей. Тема чрезвычайно распространенная в ранней советской беллетристике, идеологии, пропаганде. Но Слуцкий наполнял штампы пропаганды жизнью: взрывал изнутри. Итак: «Кульчицкий-сын по праздникам шагал / В колоннах пионеров. Присягал / На верность существующему строю (человек «чисто советской выделки». – Н. Е.). / Отец Кульчицкого – наоборот: сидел / В тюряге, и угрюмел, и седел, / Супец – на первое, похлебка – на второе. <…> Кавалериста, ротмистра, гвардейца, / Защитника дуэлей, шпор певца / Не мог я разглядеть в чертах отца, / Как ни пытался вдуматься, вглядеться». Слуцкий ведет предполагаемого советского читателя по линии клишированного сюжета, чтобы завершить внезапным неожиданным финалом – слиянием «двух любовей» – революционной и консервативной: любви к будущей Земшарной республике Советов и любви к родному пепелищу, к отеческим гробам. «Наверно, яма велика войны! / Ведь уместились в ней отцы, сыны, / Осталось также место внукам, дедам. / Способствуя отечества победам, / Отец – в гестапо и на фронте – сын / Погибли. Больше не было мужчин / В семье Кульчицких…» Баллада, начавшаяся как поэтический рассказ о конфликте поколений, кончается их едва ли не космическим примирением: «Да, каждому, покуда он живой, / Хватает русских звезд над головой, / И места мертвому в земле российской хватит».
Оппозиция «русское небо» (русская революция, русская литература) и «русская земля» (традиция, быт, исторические корни) занимала Слуцкого всегда; но первый набросок развития этой темы он дал в своих «Записках…». То, что было сформулировано в первой их части как сочетание несочетаемого – интернациональной революционности (чисто советской выделки) и русской патриотической традиции, – парадоксально и органично сочетается в главке «Белогвардейцы», посвященной русским эмигрантам в Сербии, с которыми встретился майор Слуцкий. (Недаром в этой главке Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, поэт, медиевист, участник сербского Сопротивления, своей «офицерской стародворянской обходительностью» заставляет Слуцкого вспомнить о друге и едва ли не учителе – Михаиле Кульчицком.) Здесь советский майор, интернационалист, «инородец» (еврей) с уважением (почти с восхищением) смотрит на осколки, обломки дворянской офицерской России – причем не только на большевизанов из белградского ССП (Союза советских патриотов), но и на врагов, заслуживших партизанскую революционную ненависть: «Здесь сформировался Русский охранный корпус… с офицерской уважительностью в обхождении, корпус, из которого (сербские. – Н. Е.) партизаны не брали пленных – расстреливали поголовно. <…> Не случайно именно здешние юнцы из кадетского корпуса лезли на наши пулеметы на дунайских переправах». И в Союзе советских патриотов Слуцкого привлекает староофицерское, дворянское: «Эти люди не напоминали мне ни один из вариантов интеллигентских сборищ в Советском Союзе. Сдержанность, ощущение старой культуры заставляли отвергнуть и сопоставление со сходками народовольцев. Скорее всего, это были декабристы, декабристы XX века». Самое любопытное в этой главке, что «интерференция» происходит с двух сторон. На советское, революционное, победившее немецкую агрессию с уважением, едва ли не с восхищением смотрят дворяне – стараются перенять что-то сильное, без интеллигентских «мерихлюндий» и «особой уважительности в обхождении» – то, что обеспечивает победу. «Нас всё пугали: НКВД, НКВД, а теперь я бы сам пошел работать в НКВД», – так говорил граф И. Н. Голенищев-Кутузов. Арестованный в 1948 году югославским НКВД, он уже вряд ли согласился бы с этими своими словами (как постаревший Слуцкий вряд ли согласился бы со многими страницами своих «Записок о войне») – но то был момент «энергии заблуждения».
Такое соединение, такой синтез – условно говоря, Деникина и Троцкого – могли бы показаться дюжинным национал-большевизмом, «сменовеховством» навыворот, если бы помимо идеологических схем, поверх них, а иногда и против них в Слуцком бы не работал удивительный поэтический инстинкт, мудрость наблюдателя, «с удовольствием катящегося к объективизму». Он старается запомнить детали. Детали «прокалывают» идилличность идеологической схемы. Что-то оказывается не так в слиянии «русского неба» и «русской земли». Слуцкий описывает подготовку к первому легальному собранию ССП, которое должно состояться в бывшем Русском доме, принадлежавшем русской эмигрантской колонии Белграда: «В зале шел поспешный пересмотр портретов. Без прений выбросили Николая Александровича, его отца и прадеда. Помешкали над Александром Вторым Освободителем и Александром Первым Благословенным. В конце концов уцелели Петр, Суворов, Ермолов. На стенах остались огромные прямоугольные пролежни, странно напоминавшие 1937 год». В социальное сознание советского человека 1937 год еще не вошел четко проартикулированным символом беды, ужаса. 1937 год еще остается в подкорке, в подсознании – как символ чего-то зловеще связанного с болезнью, с обездвиженностью, «…огромные прямоугольные пролежни». Этот образ и это уподобление свидетельствуют о том «мировом неуюте», который начинал чувствовать Слуцкий. Собственно говоря, уже в 1945–1946 годах он не мог не видеть, что та, «первая», «форма приверженности к сущему», в которой выделял он рационалистические, «разумные» черты, как раз и оказалась наиболее донкихотской, идеалистической, более всего оторванной от действительности. Недаром в своих «Записках о войне», рассуждая об оккупации, Слуцкий пишет об «изменах председателей горсоветов» (практиков, прагматиков) и о верности «прекраснодушных идеалистов» вроде сельских учителей или «старого рабочего, рядового участника 1905, 1917 годов». «Сущее слишком разумно, чтобы стерли его немцы в четыре месяца». Но немцы стирали это сущее. Слуцкий в прозе оставляет «знаки» этого «стирания»: «под корень вырубались целые народы», «публичное прощение пассивизировавших себя коммунистов», «газеты, где печаталась Зинаида Гиппиус», «перевод всех советских железнодорожных рельс на европейскую колею». В поэзии Слуцкий дает потрясающий образ «человека чисто советской выделки», уверенного в незыблемой разумности сущего и потрясенного тем, как происходит «стирание в четыре месяца» этого сущего.
Я имею в виду «Балладу о догматике». Она важна не только констатацией гибели «прекраснодушного советского довоенного идеализма», но и констатацией его удивительной – вопреки всему – живучести: «Когда с него снимали сапоги, не спрашивая соцпроисхождения, когда без спешки и без снисхождения ему прикладом вышибли мозги, в сознании угаснувшем его, несчастного догматика Петрова, не отразилось ровно ничего. И если бы воскрес он – начал снова». Горькая насмешливая автобиографичность «Баллады о догматике» для меня очевидна. Слуцкий, написавший накануне полной своей немоты, молчания, «вырубленности» из изменившегося мира: «Словно сторож возле снесенного монумента „Свободный труд”, я с поста своего полусонного не уйду, пока не попрут», – не мог не понимать, что такого рода несмотря-ни-на-что-верность и называется – догматизмом.
Конечно, различий между майором Петровым и майором Слуцким хватает. Скажем, простодушный простонародный выкрик майора Петрова, «немецким войском битого»: «Немецкий пролетарий не должон!» – не вырвался бы у интеллигента Слуцкого, который к тому же мог иронически прокомментировать поведение немецкого пролетария: «Но рурский пролетарий сало жрал, а также яйки, млеко, масло, и что-то в нем, видать, давно погасло. Он знать не знал про классы и Урал». Всё так, но дистанция между майором Слуцким и майором Петровым – это дистанция между Сервантесом и Дон Кихотом. Слуцкий описывал собственную ситуацию, гиперболизируя, шаржируя ее. Это он, «двадцатидвухлетний и совсем некрасивый собой», был «сбит с толку, огорошен, возмущен неправильным развитием событий» летом 1941 года. Потому что Слуцкий хоть и знал (в отличие от майора Петрова) немецкий язык, но очень долго (как и Петров) был уверен в том, что «слово „Маркс», оно понятно всем, и слово „класс”, и слово „пролетарий”». Потому что Слуцкий хоть и читал (в отличие от Петрова) книжки других писателей, кроме книжек Ленина, но очень долго (как и у Петрова) основой основ его мировоззрения оставались тридцать томов собрания сочинений вождя.
И наконец, самое главное «потому что»: оказавшись в 1944 году в Европе, Слуцкий (как и майор Петров) решил: «Теперь война пойдет по Ленину и по майору!» Теперь произойдет превращение Отечественной войны в войну революционную. Стратегией станет не великая Россия, но Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии, «только советская нация будет и только советской расы люди!». Майора Петрова прикладом по голове огрели пролетарии-немцы; по сознанию, по мировоззрению майора Слуцкого, словно прикладом по голове, жахнула шовинистическая, антисемитская послевоенная кампания советского пролетарского государства. Тогда он понял, что готовят ему – победителю фашизма, майору, интернационалисту, еврею – политики, для которых тактика оказалась стратегией: погром, высылку, безымянную гибель. Но (как и майор Петров) остался верен интернационалистской, революционной программе своей юности, иначе бы не написал в те годы: «Я строю на песке». Это ведь тоже вариант: «И если бы воскрес он – начал снова…» – «Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцам дать корявым. Я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву… Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке».
Автор «Записок о войне» ошибался. Его политические прогнозы оказались неверными. Он не умел предвидеть. Зато он умел смотреть. Он был не политиком, а поэтом. Поэтом XX века, услышавшим в неблагозвучии, корявости, дисгармоничности, противоречивости – «музыку далеких сфер».
Корявы, дисгармоничны, противоречивы и его прозаические «Записки о войне». Для чего он их писал? Для себя? Подыскивал точные слова для нового жизненного опыта? Искал интонацию, которая была бы не фальшива для этого жизненного опыта? Он пробовал найти эту интонацию еще до войны – в стихотворении об инвалидах Первой мировой, собранных в богадельне на Монмартре. И услышав насмешливое: «Похоже на раннего Сюпервьеля», с той поры никогда не позволял себе в стихах «экзотики» вроде «Монмартра», «генерала Миахи» или «мсье Ахуда» – писал только о том, что видел, или о том, что мог себе точно представить.
Надобно помнить, что «Записки о войне» – проза поэта, который на время перестал быть поэтом. Замолчал в ожидании нового языка для новых тем. Все то, что он пережил и видел, покуда укладывалось в прозу – недалеко ушедшую от поэзии, в особенности от его поэзии, но прозу. Что-то мешало ему пока зарифмовывать войну – ученик лефовца Осипа Брика и конструктивиста Ильи Сельвинского, он так оценивал положение дел в послевоенной советской поэзии: «Война кончилась, отменив скидки на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во „Враги сожгли родную хату” и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского в частности, отсутствует». Слуцкий пытался заполнить лакуну, соединить то, чему научили его учителя, с тем, чему научила его жизнь. В конце концов ему это удалось, но в последний год войны, в предвоенный год ему это еще не удавалось. Дело не в жестокости. Очень жестокие сюжеты Слуцкий в прозе как раз и не пересказал. Сохранил для стихов. В «Записках о войне» ни слова о его военно-следовательской службе. «Какие случаи случались, а вот стихи не получались». Да нет, стихи-то получились, но это были не гумилевско-тихоновско-сельвинские баллады, а надрывно-достоевские ламентации или почти галичевское ёрничанье. «Пристальность пытливую не пряча…», «Расстреливали Ваньку-взводного…», «За три факта, за три анекдота…», «Я судил людей и знаю точно…» – это вошло в поэзию зрелого, позднего Слуцкого; в прозу юноши, опьяненного победой, не вошло, да и не могло войти. Юноша, опьяненный победой, искал верную интонацию, в которой соединились бы патетика и ирония, жалостливость и жестокость, честность и идеологичность. В тексте «Записок о войне» есть ключ к найденной Слуцким в конце концов интонации, совпавшей с его мировоззрением, жизненным опытом и поэтической выучкой: «Они (изнасилованные женщины австрийского села Зихауер. – Н. Е.) были слишком измучены, чтобы осмыслять происшедшее, но эстетическая формула была уже найдена. И какая точная – нас гоняют, как зайцев». Стоит сравнить эти слова с тем, что писал о поэзии Слуцкого Иосиф Бродский: «Его интонация – жесткая, трагичная и бесстрастная – способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил». Это – точка зрения, естественная для поэта, понимающего, что эстетическая формула и должна идти раньше осмысления происшедшего и что не всегда осмысление происшедшего может оказаться таким же точным, как эстетическая формула.
Непосредственно из «Записок о войне» выросла одна только баллада «Кёльнская яма». Слуцкий завершает ею главку «Гнев». Баллада оказывается как бы «противовесом» рассказам о нашей жестокости. Здесь очень важная функция поэзии Бориса Слуцкого. То, что его «друг и соперник» Давид Самойлов называл «гипс на ране». Терапевтическая или скорее – психотерапевтическая. Расправы с немецкими военнопленными, описанные Слуцким в этой главке, ужасны. И тогда выкрикивается, выкликается – «Кёльнская яма». Рядом с этой балладой в этой же главке оказывается прозаический вариант, прозаический набросок будущей баллады «Бесплатная снежная баба». Не ясно, считал ли Слуцкий, что «проза» имеет дело с единичными фактами, тогда как поэзия – с эпико-лирическими обобщениями, но соотношение его «Записок о войне» и его баллад производит именно такое впечатление: жесткая «правда» (Wahrheit) преобразуется в менее жестокую «поэзию» (Dichtung). Сочетание «Записок о войне» Слуцкого с его балладами можно было бы, как и мемуары Гёте, назвать «Поэзия и правда».
«Бесплатная снежная баба» написана в поздние 60-е, и Слуцкий полемизирует в ней сразу с тремя стихотворениями: во-первых, с плакатно-четким «Итальянцем» Михаила Светлова («Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето!.. Я стреляю – и нет справедливости справедливее пули моей!»); во-вторых, с сентиментальным «Итальянцем» Давида Самойлова («На – бери! Заправляйся, Италия!») и, в-третьих, с собственным «Итальянцем» («Пускай запомнят итальянцы и чтоб французы не забыли, как умирали новобранцы, как ветеранов хоронили, пока по танковому следу они пришли в свою победу»). «Я заслужил признательность Италии» не потому, что благодаря «мне» они победили свой фашизм и немецкий нацизм, но потому, что «снегу дал. Бесплатно. Целый ком». Здесь уже не итальянцы должны помнить о том, по чьему следу они пришли в свою победу, но сам поэт не может избавиться от воспоминания, от «римлян взоров черных, тоску с признательностью пополам мешавших».
Трупы военнопленных, валяющиеся вдоль насыпи, трупы изможденных, выголоженных, «непоеных, некормленых военных» из прозаического эпизода в текст стихотворения не перешли. Получилось бы слишком похоже на «Кёльнскую яму». «Начальник эшелона, гад ползучий», который «давал за пару золотых колец ведро воды теплушке невезучей», призван заменить собой жителей Мичуринска, продающих снег умирающим от жажды военнопленным. («Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикюли, кольца, легко снимающиеся с истощенных пальцев».) Четкая балладная и идеологическая структура – фронтовик, жалеющий военнопленных («а я был в форме… и заехал в тыл и в качестве решения простого в теплушку бабу снежную вкатил»), и тыловая крыса, энкавэдэшник, начальник эшелона, наживающийся на военнопленных, – оказалась бы разрушена.
И наконец, самые важные отличия Wahrheit Бориса Слуцкого от его Dichtung. «Маленькая девочка с испуганными глазами», раздающая куски снега бесплатно, и офицер, который присоединяется к бесплатной «снегораздаче», а потом приказывает напоить теплушку, – эти два персонажа прозы претерпели в поэзии самые значительные изменения. Офицер вкатывает в вагон снежную бабу (вместо кусков смерзшегося, с угольной пылью пристанционного снега – огромная снежная белая баба из детства). Девочки – нет в балладе. Не потому ли, что в «затексте» баллады остается невысказанный упрек, невысказанная боль? Девочке бы лепить веселых снеговиков, а не осуществлять благотворительную акцию среди разбросанных вдоль насыпи трупов.
Из сравнения текстов становится понятно, как глупы должны были казаться Слуцкому обвинения в «очернительстве». Он-то даже в самой «черной» своей балладе ощущал себя едва ли не «лакировщиком», во всяком случае, «очеловечивателем» бесчеловечной действительности. Он и без того сколько мог сглаживал углы «угловатой планеты», своей родины, а его упрекали в чрезмерной «угловатости».
Итак: прежде чем быть сформулированными в поэзии, мысль, наблюдения «обкатывались», «обговаривались» в прозе.
Иногда длинное и очень важное «прозаическое» рассуждение Слуцкого сжимается до четырех рифмованных строчек, даже до одной строчки. В «Записках о войне» Слуцкий рассуждает о причинах «любовей» девушек к оккупантам. Среди прочего он пишет: «20 лет наглядная пропаганда наша внушала девушкам идеал мужчины – голубоглазого, статного, с белесыми северными волосами. Эсэсовские блондины были предвосхищены наивными плакатами». Для Слуцкого это важно. Он – в оппозиции к этой эстетике «наглядной пропаганды». В поэзии Слуцкий так описывает пленного, сдавшегося на милость победителей, готового сплясать и спеть, если его об этом «попросят»: «Веселый, белобрысый, добродушный, голубоглаз, и строен, и высок, похожий на плакат про флот воздушный, стоял он от меня наискосок» (курсив мой. – Н. Е.). Победителями оказываются вовсе не те, кто похож на плакат.
Иногда большое стихотворение, не баллада даже, а ода, становилось опровержением короткой, между делом брошенной фразы в «Записках…»: «Писаря оглупляли геройства ежедневной нормированной „героикой” политдонесений». И целое стихотворение в ответ, в возражение самому себе: «Писаря». «Дело, что было Вначале, – сделано рядовым, но Слово, что было Вначале, – его писаря писали <…> Они обо всем написали слогом простым и живым, они нас всех прославили, а мы писарей не славим. Исправим же этот промах, ошибку эту исправим и низким, земным поклоном писаря поблагодарим!»
Иногда, наоборот, короткое, деловое жестокое замечание «Записок о войне» кажется саркастическим комментарием, опровержением патетики стихотворных строчек, написанных позже. В стихах: «Мы говорили не о самом главном, мечтали о деталях, мелочах, – нет, не о том, за что сгорают танки и движутся вперед, пока сгорят…» В прозе словно бы пояснение: «Многие танкисты горели в танках, потому что знали, что потерявших материальную часть отправляют в нелюбимые и опасные пехотные роты».
Образ, мимоходом использованный Слуцким в «Записках о войне», часто переосмыслялся, наполнялся иной тональностью в поздней лирике. Мы уже цитировали из «Записок…»: «Государственный корабль наш щелист, но… слишком надежными плотничьими гвоздями сколачивали его тесины…» Слуцкий помнил, разумеется, тихоновские строчки: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Вот эти люди и были – надежные плотничьи гвозди. В поздней лирике уже не корабль, а «гроб», и не плотничий «гвоздь», без страха и сомнений, без жалости и сантиментов – а ржавый, слабый, тронутый сомнениями, либерализмом, скепсисом, словом, человечный «гвоздь». «Я – ржавый гвоздь, что идет на гроба, я сгожусь судьбине, а не судьбе. Покуда обильны твои хлеба, зачем я – тебе?»
Дважды пересказывалось, формулировалось Слуцким в прозе «Записок…» едва ли не одно из самых знаменитых его стихотворений, вызвавшее в свое время целый град упреков, вплоть до политически опасного упрека в проповеди «пораженчества», – «Последнею усталостью устав…». В стихотворении Слуцкий перечисляет слагаемые армейской «средней дисциплины», составные части «идеологии фронтовика»: «Ему военкомат повестки слал, с ним рядом офицеры шли, шагали. В тылу стучал машинкой трибунал. А если б не стучал, он мог? Едва ли. Он без повесток, он бы сам пошел. И не за страх – за совесть и за почесть…» В прозе, в подступах к стихам, Слуцкий это же перечисление выполняет так, предваряя объяснением: «Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держались вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает один кирпич об другие… Так, самосохранение жестоко состыкивалось с долгом. Страх перед смертью – со страхом перед дисциплиной. Честолюбие – с партийным презрением к побрякушкам всякого рода». Слуцкий в другом месте «Записок…» по другому поводу еще раз повторит то же рассуждение, которое много позже станет стихами: «Я уже сталкивался со многими вариантами дисциплины <…> с армейской „средней” дисциплиной – удивительной смесью из патриотизма и заградотрядов, страха перед штрафной ротой и страха перед народным презрением, синтезом политграмоты и высокого патриотизма». Слуцкий – мастер антитезы. Подразумеваемое прилагательное перед словом «политграмота» пропущено, но тем оно подразумеваемей, тем оно удивительней в устах политработника. «Синтезом (низкой. – Н. Е.) политграмоты и высокого патриотизма» – вот чем представлялась Слуцкому армейская «средняя» дисциплина, о которой он много позже написал стихотворение «Последнею усталостью устав…».
Нетрудно заметить, что «синтез политграмоты и патриотизма» – еще один вариант все тех же «двух любовей», механически сшиваемых армейскими газетками, о которых Слуцкий писал в начале своих «Записок…». Тот парадокс, который стареющий Слуцкий выразит стихами «Античность нашей истории…», «Ассирийский колдовской знак у Осоавиахима…», дается молодым Слуцким в «Записках о войне» намеком, одним словом, прилагательным, потому что молодой Слуцкий сам только приступает к пониманию этого парадокса: «Так наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам». Парадоксальность позиции Слуцкого – в этом словосочетании «наш древний интернационализм». Так же парадоксально звучит для современного читателя: «темные доски обрусительских икон», «западно чуждые». Для Слуцкого это был один из основополагающих парадоксов. Он чувствовал себя поэтом цивилизации, которая погибла, победив; исчезла, не успев состояться.
Что означает «наш древний интернационализм»? Советская цивилизация – младенчески молода, но интернационализм традиционно соприроден ей, то есть – древен, тогда как патриотизм, исторические корни, ксенофобия, ненависть к чужакам, «темные доски обрусительских икон» – все это ново и чуждо для этой цивилизации, все это вторглось в нее извне – с Запада? Да, и с Запада – оттуда, куда ушли священники и офицеры, люди в рясах и люди в погонах. «Восток» для Слуцкого (человека «чисто советской выделки») – Советская Россия, Октябрьская революция, а «Запад» – консервант российской контрреволюции, хранитель спасшейся старой, дореволюционной России. Постарев, Слуцкий еще раз использует антитезу «Запад – Восток», уточнит ее: «Солнце ушло на запад, я остаюсь с востоком, медленным и жестоким… огненным и кровавым, все-таки – трижды правым». «Медленность и кровавость Востока» еще не стали аксиомами для Слуцкого в пору писания «Записок о войне». Саму жестокость «Востока» он пытался понять и объяснить как некий странный вариант не то лени, не то особой «разбойной доброты».
«Мне известны правительственные установки об обращении с пленными. Их выполнение срывает не жестокость, не мстительность, а – лень. Мы – народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека». Среди попыток Слуцкого победить лень доброго народа, пробудить «чувства добрые» к одной-единственной человеческой жизни был «рассказ в стихах» (по сути дела – баллада) «Немецкие потери» – стихотворение, выросшее из нескольких зпизодов «Записок о войне». В «Немецких потерях» пленный враг увиден не как представитель безличной силы («Я радовался цифрам их потерь: нулям, раздувшимся немецкой кровью»), но как просто-человек, веселый, белобрысый, добродушный, голубоглазый, стройный, высокий. С ним говорили, беседовали, он «на гармошке вальс крутил». Он – оказывается – такой же «карандаш», такая же «спичка-палочка», как и бойцы по эту сторону фронта. Поэтому, когда его приходится убить («да только ночью отступили наши – такая получилась дребедень») – его становится жаль. («Мне – что? Детей у немцев я крестил? От их потерь ни холодно ни жарко! Мне всех – не жалко! Одного мне жалко: того, что на гармошке вальс крутил».) Выдернутый из орды нашествователей становится объектом жалости, потому что он – один. Раздавленный колесами истории, ее объект, а не субъект – в таком качестве удостоен жалости.
Эту, если хотите, философскую мелодраму Слуцкий «свинтил» из двух эпизодов, записанных почти по горячим следам. Два обыденных, обыкновенных, обычных для войны убийства (как муху прихлопнуть, так и фрица убить) в балладе «выправлены», «преобразованы». Для чего? Наверное, чтобы внедрить в общественное сознание простую мысль, простое «мыслечувство»: «Если враг не сдается, его не уничтожают. Его пленяют, его сажают в большой и чистый лагерь и заставляют работать восемь часов в день, не больше».
Вот эти два эпизода, из которых выросла баллада: «Однажды на командном пункте дивизии офицер допрашивал немца. Его знание языка строго ограничивалось кратким четырехстраничным разговорником. Он беспрерывно лазил в разговорник за переводом вопросов и ответов. В это время фриц дрожал от усердия (сравните: «Он все сказал: какого он полка, фамилию, расположенье сил. И то, что Гитлер им выходит боком. И то, что жинка у него с ребенком, сказал, хоть я его и не спросил». – Н. Е.), страха и необычайного холода, а разведчики сердито колотили по снегу промерзшими валенками. Наконец офицер окончательно уткнулся в разговорник. Когда он поднял голову, перед ним никого не было. „А куда же девали фрица? – „А мы его убили, товарищ лейтенант”». Своей сентиментальностью баллада перечеркивает, сводит на нет бабелевский черный юмор этой прозаической записи, ее, как это ни странно, почти басенную мораль. Цена человеческой жизни измерена в количестве времени, которое потратил офицер, переводя фразу с немецкого на русский и обратно. Возясь со словами, он не глядел на человека – вот человека и не стало. Цена непонимания человека человеком – человеческая жизнь.
Второй эпизод связан с балладой еще ощутимее, еще очевиднее. Вот «…один из разительных примеров этой разбойной доброты. Зимой разведчики поймали фрица. Возили за собой три недели – в комендантской роте. Фриц был забавный (опять-таки: «Солдаты говорят ему: „Спляши!” И он сплясал. Без лести. От души. Солдаты говорят ему: „Сыграй!” И вынул он гармошку из кармашка и дунул вальс про голубой Дунай, такая у него была замашка». – Н. Е.) и первый в дивизии. Его кормили на убой – тройными порциями каши <…> стал вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица накормили досыта – в последний раз, а потом пристрелили в амбаре. Этот пир перед убийством есть черта глубоко национальная». Эту «национальную черту» Слуцкий, видно, и надеется как-то изменить своей балладой. В ней не «лень», а отступление, стратегическая необходимость, вынуждает пожертвовать одной жизнью. Остается жалость к маленькому человеку, попавшему под «колесо истории».
Баллада написана «якобинцем», комиссаром, который может скрепя сердце понять и принять убийство как вынужденную меру, как необходимость, но не как спокойную обыденность: убили, потому что «никто не хотел тащиться восемь километров по снегу». В прозаической записи зафиксировано полное и исчерпывающее презрение к человеческой жизни, к человеческой личности. Баллада рождается из желания это презрение, это равнодушие взорвать наполовину вымышленным рассказом о жалости к пленному немцу, которого пришлось убить из-за большого отступления.
Между тем Слуцкий не мог не понимать, что презрение к единичной человеческой жизни накрепко связано с тем, что он сам называл российским «страстотерпчеством». «Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому – мы опрокинули армию, которая включала в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты. Зимой 1941 года наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприспособленность к снежным норам». Но в «приспособленность к снежным норам», то есть попросту к берлогам, неотъемлемой частью входит незамечание боли, своей и чужой, незамечание жизни, своей и чужой.
Эта проблема? проблема жестокости – механистической, машинной, роботообразной жестокости «немцев» и человеческой, дикой, подростковой жестокости «русских» – мучила Слуцкого всю жизнь.
В середине 70-х годов Слуцкий написал стихотворение «К пересмотру военной истории». Кажется, что оно написано сейчас. «Сгинь! Умри! Сводя во гневе брови, требуют не нюхавшие крови у стоявших по плечи в крови: – Сгинь! Умри! И больше не живи!» – ведь, по сути дела, это продолжение темы 1946 года, темы главки «Гнев» из «Записок о войне». Только теперь все «аргументы и факты», которые выкладывал перед самим собой Слуцкий («Капитан Назаров, мой комбат, ландскнехт из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из автомата»), выкладывают перед ним невоевавшие молодые люди: «Ты нарушил правила морали! Все, что ты разрушил, не пора ли правежом взыскать!.. Слушают тоскливо ветераны, что они злодеи и тираны, и что надо наказать порок, и что надо преподать урок». Никаких возражений пылким, «не нюхавшим пороху» молодым людям, угрюмое молчаливое несогласие, которое вдруг переламывается напоминанием: «Впрочем, перетакивать не будем, а сыра земля по сердцу людям, что в манере руд или корней года по четыре жили в ней». Слуцкий – умелый уверенный полемист, знающий, что «боковое», побочное возражение, даже не возражение, а именно что напоминание, сильнее, убедительнее всего. «Без отпусков, без солдатских борделей, без посылок из дому» по четыре года в земле («в манере руд или корней»), без перерыва, без отдыха…
В «Записках о войне» Слуцкий нашел самое важное для себя как для поэта – спокойную деловую патетику, разговорную интонацию, которая удивительным и убедительным образом переходит в интонацию одическую. Разговор бывалого человека незаметно становится одой или балладой – вот что такое поэзия Слуцкого. «На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали хлеб – темно-коричневый, свежевыпеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора не убывала. Теплый запах, окутывавший ее в ноябрьской неморозной изморози, напоминал об уюте и основательности. За 2000 км от фронта, за 1500 км от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой». Эта прозаическая запись – словно бы «сценарий» стихотворения «Гора». «Эстетическое преобразование действительности» непременно, неизбежно для Слуцкого: Волга, по которой (в стихотворении) подплывают к хлебной горе, символичнее, эстетически значимее, чем просто рельсовый путь в степи. Зато прозаические обороты, канцелярит оставлены почти без изменений. В прозаической записи: проезжающие, пробегающие, эвакуированные, спешащие на формировку; в стихотворении: «раненые, больные, едущие на поправку, кроме того, запасные, едущие на формировку». Прежней осталась и «информация»: гора хлеба под открытым небом; та же и эмоция от этой «информации»: «Покуда солдата с тыла ржаная гора обстала, в нем кровь еще не остыла, рука его не устала». Прибавилось нечто похожее на гиперболу и метафору: «Гора же не убывала и снова высила к небу свои пеклеванные ребра. Без жалости и без гнева. Спокойно. Разумно. Добро». Но это скромные и метафора, и гипербола. Скромные, потому что едва ли не сюрреалистична действительность сама по себе: гора из буханок, курящаяся теплым домашним печным паром под ноябрьским небом. Заметим, однако, что эта гора может вызвать восхищение только у поэта, у эстета, чуть ли не символиста. Какое количество хлеба будет испорчено в этой горе? Вымокнет? Раскиснет? Размокнет? Эти вопросы скрадываются ритмом, той самой одической интонацией, о которой ведем речь: «Не быть стране под врагами, а быть ей доброй и вольной… пока, от себя отрывая последние меры хлеба, бабы пекут караваи и громоздят их – до неба!»
«Записки о войне» – точка отталкивания для Слуцкого, то, из чего он вырастал, то, чему старался остаться верным, несмотря на изменившуюся жизнь, несмотря на себя изменившегося. Давид Самойлов в 1956-м писал ему: «Это тема твоих военных записок – толковый образованный офицер, организующий правительства и партии в освобожденных странах. Не продолжай этой темы – она опорочила себя». Слуцкий и сам это чувствовал. По прошествии многих лет после того, как он весело описал тюрьму для «буржуев» в «Записках о войне» и в своей ранней балладе, он пишет стихотворение «Странности»: «Странная была свобода! Взламывали тюрьмы за границей и взрывали. Из обломков строили отечественные тюрьмы».
Любопытно, что у «якобинца» XX века, у парня, в 1933-м голодном году сравнивающего Харьков с Парижем 1793-го, а в 1937-м читавшего «серьезные книги про Конвент», в них старавшегося отыскать ответы на вопросы о сталинском терроре, не так уж много стихов с якобинскими аллюзиями. Солдат заслонил в нем якобинца. Слуцкий написал только одно стихотворение – «Комиссары», впрямую связывающее войну, которую вел Советский Союз в 1944–1945 годах в Европе, с войной, которую вела революционная Франция в 1792 – 1793-м.
Однако расставаться с «романтикой революции», с романтикой «разнаипоследних атак» Слуцкому было труднее всего. По «Запискам о войне» видно, что он куда кардинальнее, чем в стихах, посвященных Отечественной войне, эстетически преобразовывал действительность в стихах, посвященных войне революционной, войне на чужой территории. Вот баллада «Ростовщики». Ненависть к «ростовщикам», к буржуям, к богачам не оставляет автора баллады даже при виде их добровольной смерти. «Все – люди! Все – человеки! Нет. Не все». Собаке собачья и смерть – подспудная мораль баллады, похожей на басню. «Самоубиваются» при одном только известии о приближении Красной Армии те, кого не жалко. Туда им и дорога. «Старики лежали на кроватях ниже трав и тише вод, – убирать их, даже накрывать их ни одна соседка не придет… Пасторскую строгость сюртука белизна простынь учетверяла. Черные старухины шелка ликовали над снегом покрывала… черные от головы до пят, черные, как инфузории, мертвые ростовщики лежат». В прозаической записи эмоция другая, да и герои другие, хотя совпадает цветовая гамма самоубийства: «Наиболее острым актом сопротивления был, наверное, случай в Фоньоде – маленьком балатонском курорте, вытянувшемся двумя цепочками пансионов на южном берегу озера. В хорошую погоду здесь можно легко различить противоположный берег. Старик и старуха, жившие одиноко и скромно, послали письменное приглашение всем соседям – посетить их дом завтра утром. Собралось несколько десятков человек. Они увидели старинную двуспальную кровать, застланную белыми покрывалами. На кровати рядом лежали застегнутые на все пуговицы, в черном, старики. На столике нашли записку – не хотим жить проклятой жизнью. Кажется, на меня эта история подействовала сильнее, чем на всех туземцев в Фоньоде». Здесь нескрываемое уважение перед удивительным актом сопротивления, а не презрение к убежавшим в смерть мерзким ростовщикам. Слуцкий приписал ростовщичество несчастным самоубийцам, вспомнив не венгерских, а советских ростовщиков. Об одной даме из этой славной когорты Слуцкий писал в своем мемуарном очерке, посвященном другу и однокурснику, неудачнику, смертельно больному поэту – Георгию Рублеву: «Должал Рублев преимущественно ростовщикам. Была тогда (в конце 40-х годов. – Н. Е.) старуха – вдова членкора Академии медицинских наук, дававшая деньги под заклад 10 % месячных». Слуцкий в своей балладе соединил фабулу одного события с персонажем из совсем другой жизни. Мужественные покончившие с собой венгерские старик и старуха «сконтаминировались» с советской ростовщицей, кончать с собой не собирающейся. Сюжет понадобился Слуцкому для пропагандистской «печатабельной» баллады, зато эмоция прозаической записи – уважение, смешанное с пониманием высокой необходимости такого поступка в таких условиях, – перекочевала в стихи Слуцкого о самоубийцах: «Самоубийцы самодержавно…», «Самоубийство – храбрость труса…», «Из нагана», «Гамарнику, НачПУРККА по чину…».
Вообще, судя по «Запискам о войне», зарубежный поход учил молодого «якобинца» XX века «с удовольствием катиться к объективизму», видеть прежде всего – факт, а уж потом давать идеологическую оценку факту. Слуцкий узнал, что мир – широк, что люди – разные. Слуцкий уже заселяет социализм, феодализм, капитализм людьми. «Единичность» для него становится важнее «типичности». Его милитаристские рассуждения разбиваются об историю восьмилетнего «царенка», болгарского Симеона.
«Советский человек, с его стихийным республиканизмом, привыкший к битвам титанов и величавости своих властителей, смотрел на балканских корольков с презрительным, но беззлобным удивлением. Верноподданность восьмилетнему Симеону казалась ему абсурдной. Между тем именно жалость и беззащитность царенка помогли ему удержаться на престоле. Немецкому происхождению, республиканизму всех четырех партий Отечественного фронта, казни дяди, отсутствию роялистского дворянства противостояло одно младенчество Симеона, ЕГО ВОСЕМЬ ЛЕТ ОТ РОДУ, – и победило». Кажется, что из этой удивленной записи, набранной заглавными буквами, много позже выросло жалостливое «Царевич». Не презрительное – «Царенок», но красивое – «Царевич». Не пощаженный болгарским народом восьмилетний Симеон, но непощаженный русским народом – четырнадцатилетний Алексей. «Стихийный республиканизм» оказывается связан с «величавостью властителей», с «титанизмом» и потому жесток, нечеловечен, недемократичен. «Кровь с одной лишь кровью мешая / жарким шумным дыханьем дыша, / Революция – ты Большая. / Ты для маленьких – нехороша».
Величие связано, сцеплено с бедой – эту свою мысль из «Записок о войне» Слуцкий оснастит рифмами в стихотворении «Судьба Монако»: «В историю же – не суется, история – не для малюток. А ежели со всей душою в историю Монако метит? Пусть отвечает, как большое. Большою кровью пусть ответит». В Слуцком-идеологе, в Слуцком-догматике всегда был силен человечный скептик, сгибавший все восклицательные знаки в вопросительные. Нельзя сказать, что догматизм для Слуцкого был неестественен, навязан извне? – и нельзя сказать, что идеологичность, догматизм были для него совершенно естественны, как кожа, как дыхание. Нет, это было нечто среднее между панцирем черепахи и латами рыцаря. Не нутряное, но сбросить трудно. Поэтому на любое безапелляционное «догматическое» утверждение у Слуцкого есть человечное мучительное, но тем более веское возражение. Сначала его не слышно, оно не формулируется, остается крохотной занозой в сознании, зато потом «обмозгованное», «обговоренное» с самим собой возражение отливается в ритмическую четкую формулу. На весь гром «великодержавья», на все пренебрежение «малым» и «маленьким» (из «Записок…» о мадьярах: «Мы – маленькая нация – пахнет мюнхенской капитуляцией»), на все восхищение «величавостью правителей» и «битвами титанов» – Слуцкий сам себе ответил, сам себе возразил стихотворением «Маленькие государства…». Резкая строчка, оскорбительное уподобление из известной эпиграммы («маленький, словно великое герцогство Люксембург») нейтрализуются. «Малость» не синонимична «мюнхенской капитуляции», вовсе нет. «В маленьких государствах столько мыла, что моют и мостовые. Великие же державы иногда моют руки, но только перед обедом. Во всех остальных случаях они умывают руки». Написанное после подавления венгерского восстания (1956), после разгрома чешского «социализма с человеческим лицом» (1968), это стихотворение оказывается расчетом за «великую историю», в которую лучше не соваться малюткам. «Маленькие государства негромкими голосами вещают великим державам, вещают и усовещают. Великие державы заводят большие глушилки и ничего не слышат, потому что не желают».
Однако уже в «Записках о войне» Слуцкий писал о «маленьком» и «слабом» как о замалчиваемой совести «большого» и «сильного»; той совести, которую и слушать-то не хотят. Это описание гибели «особенного человека» – венгерского коммуниста инженера Тота. «В 1945 году, в марте месяце, в маленьком венгерском городе Бая красноармейцы убили инженера Тота. <…> Тот был „особенным человеком” – так о нем и вспоминают в городе. Эрудит, путешественник, изъездивший целый свет, он был страстно влюблен в Россию, в ее грядущую многоэтажность, столь противоречащую особнячкам его родины. Это был, быть может, единственный горожанин, который принципиально считал, что красноармейцев не надо бояться, а коммунисту – нельзя бояться. Может быть, поэтому он в три часа ночи открыл двери запоздалым путникам. Его убили через полчаса. Жена Тота, которую пытались изнасиловать, рассказывала, что он говорил солдатам по-русски: я – коммунист. Протягивал им партбилет с надписью на русском языке. Страшные, видно, были люди. Такие доводы останавливали самых черных насильников». Ни в какую балладу эту историю Слуцкий не «преобразовал» и преобразовать не мог. Он и так написал в прозе своего рода «балладу о догматике», о венгерском Дон Кихоте, венгерском «майоре Петрове», уверенном в том, что «русский пролетарий не должон» убивать и насиловать. Его убивают так же, как в балладе убивают майора Петрова, «не спрашивая соцпроисхожденья», не обращая внимания ни на слово «Маркс», ни на слово «пролетарий».
«На другой день, тайно от горожан, тело Тота было предано земле. Секретарь обкома рассказывал мне, как они стояли у могилы – 20 человек коммунистов, ближайших друзей покойного. Молчали. Потихоньку плакали». Слуцкий так описывает эти похороны, словно хоронят не только инженера Тота, но и еще что-то очень важное, например, его (Слуцкого) довоенный «прекраснодушный идеализм»…
Остается сказать несколько слов об истории этих «Записок…».
Осенью 1946 года майор политотдела Борис Слуцкий приехал на недолгое время в Москву и привез с собой отпечатанные на машинке «Записки о войне», давал их читать друзьям и знакомым. Я уже писал, что у него было полное ощущение вернувшихся 20-х годов – с их пусть и жестокостью, но честностью, распахнутостью всему миру, с их рывком к почти осуществленному всемирному переустройству. Что же до жестокости – вынужденной, вынужденной, – то она будет обязательно исправлена теми, кто учтет опыт и войн, и революций. Слуцкий ошибся на десятилетие. Спустя десятилетие к власти пришел человек 20-х годов, и вместе с ним пришли «нераздельные и неслиянные» – мечта о мировой революции и распахнутость, открытость всему миру: наивный догматизм и реабилитации. Слуцкий вовсе не похож на Хрущева, но поэзия Слуцкого – странный парадоксальный аналог политики Хрущева. Они решали схожие задачи – «очеловечивания» сталинского наследства, освобождения от страха перед Хозяином, перед земным богом, просто освобождения. Слуцкий переделывал словесные клише сталинской эпохи, лишал их свинцового смертоносного запаха. «Подумайте, что звали высшей мерой / Лет двадцать или двадцать пять подряд. / Добро? Любовь? Нет. Свет рассвета серый / И звук расстрела… / Мы будем мерить выше этой высшей… / А для зари, над городом повисшей, / Употребленье лучшее найдем». Или: «Сын за отца не отвечает» – у Слуцкого: «Вы решаете судьбу людей? Спрашивайте про детей, узнавайте про детей – нет ли сыновей у негодяя».
Но осенью 1946 года что-то уже подсказало ему: воздух эпохи если и меняется, то совершенно неожиданно и зловеще. Слуцкий вернулся в армию, в румынский город Крайову. С дороги прислал друзьям письмо с просьбой «изъять из обращения» «Записки о войне». Друзья выполнили его просьбу, но, видимо, Слуцкий уж очень широко раскидывал свои «Записки…». Все экземпляры изъять было невозможно. Один «долетел» аж до Ильи Григорьевича Эренбурга. Слуцкий об этом не знал.
И мы не знаем, что именно случилось со Слуцким в 1946-м, отчего он стал рваться прочь из армии, армии-победительницы, занятой послевоенным переустройством завоеванных стран. Какие-то неясные намеки есть в его стихах: «Я знал ходы и выходы, я видел, что почем. Но я не выбрал выгоду – беду я предпочел. <…> Мне руку жали идолы – подлее не найдешь. Они бы немцам выдали меня за медный грош. Но я не взял, не выбрал, и мне теперь легко: как лист из книжки выдрал и бросил далеко». Видимо, этот выбор, этот «выдерг листа из книжки судьбы» тоже повлиял на развитие послевоенной болезни Слуцкого – пансинусита, непрекращающихся головных болей. В 1946 году он был комиссован как инвалид второй группы. Он писал: «Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками. 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал». Тем временем его «Записки…» жили своей судьбой. В «Людях. Годах. Жизни» Илья Эренбург рассказывает: «Когда я начал писать „Бурю”, кто-то принес мне толстую рукопись – заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных „Кёльнская яма”. Я решил, что это – фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий». В это время Слуцкий лечился по госпиталям, перенес две трепанации черепа. Во всех изданиях романа знаменитого советского писателя до 1949 года печаталось: «Потом был Кёльн, телеги с трупами; каждое утро бросали в яму умерших – иногда сотню. Бросали и живых, которые не могли встать на ноги. Миша Головлев сочинил стихи:
Когда мы в кёльнской яме сидели, Когда нас хлебом манили с оврага, Когда в подлецы вербовать нас хотели, Партийцы шептали: «Ни шагу! Ни шагу!» Читайте надпись над нашей могилой: Да будем достойны посмертной славы! А если кто больше терпеть не в силах, Партком разрешает самоубийство слабым.Миша крикнул эсэсовцу: „Скоро мы вас повесим!” Эсэсовец его застрелил. Воронов вспомнил стихи – Миша не выдержал».
В 70-е годы Слуцкий записал, при каких обстоятельствах он прочел в чужой книжке – свои стихи: «Я приходил домой и ложился на диван. Комната была большая и светлая, но стена, выходившая во двор, – сырая почти до потолка. Вода текла по ней зимой и летом, и грошовый гобелен, купленный отцом на толчке – единственное украшение этой стены? – был влажен, хоть выжимай. Под окнами стоял металлический шум. Иван Малявин гнул и гнул толстую проволоку в пружины, делал на продажу матрасы. Голова болела несильно, как раз настолько, чтобы можно было с интересом читать классика и прочно забывать к пятидесятой странице, что же делалось на первой. В библиотеки я не записывался, читал то, что было дома, – Тургенева, Толстого. Однажды, листая „Новый мир” с эренбурговской „Бурей”, я ощутил толчок совсем физический – один из героев романа писал (или читал) мои стихи – восемь строк из „Кёльнской ямы”. Две или полторы страницы вокруг стихов довольно точно пересказывали мои военные записки. Я подумал, что диван и тихая безболезненная головная боль – это не навсегда. Было другое, и еще будет другое». Потом усилием воли Слуцкий заставил себя вернуться к «стихописанию» («Стихи меня и столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы…»). Приехал в Москву, перебивался случайными заработками, читал в компаниях свои «непечатабельные» стихи, стал «широко известен в узких литературных кругах», встретился и подружился с Эренбургом. (Эренбург убрал из романа «Буря» стихи Слуцкого.) После смерти Сталина, когда стихи Слуцкого стали печатать, Эренбург опубликовал статью «О поэзии Бориса Слуцкого». О своей послесталинской известности Слуцкий писал: «Моя поэтическая известность была первой по времени в послесталинский период новой известностью. Потом было несколько слав, куда больших, но первой была моя глухая слава. До меня все лавры были фондированные, их бросали сверху. Мои лавры читатели вырастили на собственных приусадебных участках».
Впрочем, это уже совсем другая история.
Стереоскопичность памяти
(Петр Горелик. Служба и дружба. Попытка воспоминаний. СПб., Журнал «Нева», 2003)
Прежде всего – заглавие. Оно какое-то странное – детское, что ли? Может, из-за точной рифмы? Честно говоря, я не припомню, чтобы кто-нибудь называл не то чтобы мемуары, но и просто… прозу рифмующимся названием. Тургенев, правда, спрятал в название романа подразумеваемый палиндром: «Дым» – мы – «Дым», но это я, возможно, за Ивана Сергеича сам придумал…
Может, назвал из-за того, что поневоле вспоминается поговорка, присловье: «Не в службу, а в дружбу»?.. Не знаю, но название – странное. Объяснение в авторском предисловии только усиливает странность: «Много лет друг моей юности и всей жизни Борис Слуцкий донимал меня вопросом: „Когда ты начнешь писать мемуары?..” Так было, пока в середине 60-х не достал с полки общую тетрадь в кустарном переплете – салатный ситчик в розочку – и на первом листе написал: „Петр Горелик. ’СЛУЖБА И ДРУЖБА’. Мемуары. Том I”».
Кстати, из вышеприведенной цитаты уже видна одна особенность мемуариста Петра Горелика. Он не забывает детали. Крохотной, побочной, казалось бы, к делу не идущей, но идущей в дело. Не просто тетрадь, но «в кустарном переплете – салатный ситчик в розочку». Впрочем, речь сейчас идет не о детальности воспоминаний полковника в отставке Петра Горелика, речь покуда идет о странном названии. Оно немножко… смешное, не так ли?
Понятно, почему смешное: Слуцкий шутя придумал это название, дурачился, хохмил: «Не надеясь, что я когда-нибудь начну, Борис начал за меня: „Я рос под непосредственным идейным руководством Б. А. Слуцкого”». Шутка стала не вовсе шуткой или вовсе не шуткой.
В середине книги Горелик об этом пишет так: «За более чем полувековую дружбу мы были рядом не так много времени: всего семь школьных лет <…> Борис оказался стрелочником. Он вовремя перевел меня с накатанного школой и комсомолом пути, нивелировавшего личность, открыв передо мной иной мир <…> Борис превратил меня из „читателя газет, чесателя корост” (М. Цветаева) в „читателя стиха” (И. Сельвинский). Первоначального толчка хватило на всю оставшуюся жизнь…»
Да и с чего бы заглавие казалось таким уж шутливым? Оно (это заглавие) достаточно четко обозначает то важное, что было в жизни полковника Петра Захаровича Горелика: служба (долг, профессия, армия) и дружба (поэзия, искусство). Здесь впору поговорить о сугубой милитаризованности советского общества и государства. Еще один харьковский друг Горелика, Михаил Кульчицкий, посвятил ему стихи, где были строчки: «Первый снег, как спуск десанта…»
В самом деле, поэт смотрит на первый снег и видит… десант. Разумеется, милитаризованное сознание; у Кульчицкого, впрочем, и повесомее есть образы: пресс-папье, которое стоит на карте как танк, – но не это мне сейчас интересно. В конце концов, в юношеской анкете с одним-единственным вопросом: «Что такое поэзия?» – молодой Борис Слуцкий позволил себе такую вот шутку: «„Мы были музыкой во льду” – единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих», что свидетельствует не о милитаризованном сознании, а о каком-то ином.
Впрочем, тут (как говорит Писатель в фильме «Сталкер») всё такие тонкие, неуловимые материи. Горелик пишет о советском обществе с двадцатых до семидесятых годов. Мемуары свои он завершает описанием последних лет двух своих друзей – Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. Не потому завершает, что дальше вспоминать стало нечего, а потому, что закончилась целая эпоха; завершилось время.
Да, именно так – советское время, советская эпоха. Горелик со спокойной точностью описывает формирование, если угодно, воспитание чувств – советского человека, советского интеллигента. И хорошо располагает этого интеллигента: «служба» (армия) и «дружба» (поэзия). Здесь не обойтись без парадоксов и противоречий. Здесь не обойтись без особого рода восприятия истории.
Как там было сказано у друга Горелика, Слуцкого: «История над нами пролилась, я под ее ревущим ливнем вымок. Я ощутил размах ее и вымах…» Петр Горелик не так риторичен. Он – скромен. Скромен и наблюдателен. Он умеет описывать происшедшее, случившееся так, чтобы читатель ощутил не сам факт, но ауру факта, настроение случившегося.
«Запомнившейся колоритной фигурой Змиевского переулка (Харькова 30-х годов. – Н. Е.) был Кузьмич, изможденный и высохший старик с желтым пергаментным лицом. Он „заведовал” водоразборной колонкой, единственным источником воды в нашем переулке. В его обязанности входило следить за исправностью колонки, а зимой скалывать лед… В 1936 году, с выходом „Краткого курса”, полуграмотного старика партячейка обязала учить историю партии. Я по дружбе помогал ему запомнить, сколько раз „Плеханов уходил в кусты”, а он рассказывал мне эпизоды живой истории… Один такой эпизод запомнился. Дело было в 1905 году. На заводе начались повальные аресты <…> Стало ясно, что в организации завелся предатель. Подозрение пало на помощника мастера штамповального цеха <…> Решено было примерно наказать предателя, но до „смертоубийства” не доводить <…> Несчастного связали и положили под огромный паровой молот. Один из виртуозов кузнечного дела нажал на педаль, многотонная баба рухнула вниз, но, не коснувшись носа наказуемого, остановилась. Поседевшего от страха и лишившегося чувств человека вытащили и оставили лежать на земле <…> Единственное, что вызвало пафос рассказчика, – это оценка мастерства кузнеца, сумевшего с точностью до миллиметра управлять тяжелым молотом <…> Я понял, как жестока, беспощадна и несправедлива толпа, какую силу над толпой имеет ненависть, не важно какая, классовая, религиозная или национальная…»
Вот удивительное свойство времени (а может, и текста?). Меня ведь в этой истории тоже потрясла именно профессиональная сторона: как это – за несколько миллиметров до носа остановить многотонный молот? Я как-то даже на ненависть толпы и внимания не обратил.
Такое «двойное» восприятие (автор воспринимает – так, а читатель – не так) есть почти во всех эпизодах мемуаров. Вот молодой военный видит на фронте Пастернака:
«Здесь, в штабе, я узнал, что в армию приехала группа известных писателей: А. Серафимович, К. Федин, К. Симонов, П. Антокольский и – я с трудом поверил – Борис Пастернак <…> В одну из своих поездок в части, проезжая деревню Ильинское, где располагался Политотдел армии, я увидел живописную группу людей, плотно окружившую начальника политотдела полковника Н. Амосова <…> Но я искал глазами Пастернака.
Он стоял у плетня с противоположной от меня стороны. Мне показалось, что он здесь одинок. Сейчас я думаю, что это впечатление могло быть ошибочным, возможно, представление о его одиночестве слишком глубоко сидело во мне всегда, задолго до встречи, и все-таки память сохранила именно это впечатление. Да, он был здесь одинок…
Преодолевая робость, я спросил у полковника Амосова разрешения обратиться к Борису Леонидовичу Пастернаку (таков закон армейской субординации) <…> Получив разрешение, я подошел к Пастернаку. Он был смущен. Я достал из планшета его книги и громко, так, чтобы все слышали, попросил надписать на память о нашей встрече <…> Он подписал обе книги. На одной он написал: „Тов. Горелику на память о встрече в деревне Ильинке. 31 августа 1943 года. Борис Пастернак”. На другой: „Тов. Горелику на счастье. Борис Пастернак”. Кто знает, может быть, искреннее пожелание счастья привело меня живым в поверженный Берлин».
Читатель поначалу с ходу замечает одиночество Пастернака среди его более «благополучных коллег», потом – никогда не нарушаемую армейскую субординацию: даже если встречаешься с великим и любимым тобой поэтом, надо спросить разрешения у вышестоящего командира, и только под занавес обнаруживается (и это самое удивительное, самое… ммм… мистическое и потому незаметное) поразительная вера в то, что пожелание счастья великого поэта может уберечь, может спасти от гибели…
Нет, нет, что ни говори, странная книжка. Что запоминается по прочтении? Пейзажи… Горелик нигде не описывает пейзажи впрямую, непосредственно – однако видишь и Киев 20-х годов, и Харьков начала 30-х, и Одессу, и Западную Белоруссию, и послевоенную Чехословакию, и послевоенную Австрию, и Москву 40-х, и… Да вот, пожалуйте, пример: «Из киевской жизни всплывают в памяти разные, не всегда связанные между собой моменты… Почему-то запомнилась толстая, толщиной с кулак, истекавшая жиром сельдь залом, лежавшая на деревянной доске. Хозяин отрезал фунт и заворачивал в вощеную бумагу <…> В кредит (не больше чем на пятак) отпускала мне лоточница хрустящие бублики, обсыпанные маком. Я съедал их, возвращаясь из школы, чтобы насытиться, не подымаясь домой. Если лоточницы почему-либо не было, мама спускала мне сверху на длинной бечевке мешочек с бутербродами, а наверх подымала портфель». Вот этот портфель, который подымают вверх на бечевке в окно многоэтажного киевского дома, – он виден, а стало быть, виден и дом, и пейзаж вокруг дома… Эти все детали быта не так интересны мемуаристу, они у него получаются сами собой, потому что у него поставлена рука. Он умеет писать.
Ему, скажем, интересно и важно описать, как по-разному относились к потерям во время войны комфронта Захаров и генерал Горбатов. Но описывая это важное, он не забывает о деталях, об обстановочке:
«В огромном каземате старого русского форта Рожан, очищенного от хранившегося в нем картофеля, но сохранявшего запах прошлогоднего подгнившего урожая, собралось несколько сот генералов и офицеров. Я, по-видимому, был самым младшим по должности и, определенно, самым младшим по званию…
Генерал Захаров <…> упрекал генералов Горбатова и Романенко в том, что они не выполнили приказ – 3-я армия не дошла до реки Ожиц, 48-я армия не овладела городом Макув. И заключил он эту часть своего выступления требованием, которое потрясло меня и запомнилось на всю жизнь: „Если даю вам столько-то дивизий, столько-то танков, столько-то орудий – уложите все, но задачу выполните. О дальнейшем я подумаю и решу сам”. В каземате воцарилась тишина, которую нарушил вставший генерал Горбатов: „Я, – сказал он, – так выполнять приказы не буду”».
Если вспомнить о том, что до войны генерал Горбатов сидел, то особо и особенно зауважаешь его за это «оперативное неповиновение». Но запоминается оно, врезается в память, кроме всего прочего, из-за «каземата старого русского форта Рожан, очищенного от хранившегося в нем картофеля». Эта деталька, замеченная и оставленная в тексте, – периферийна, не важна; гораздо важнее то, о чем после войны напишет генералу Горбатову полковник Горелик: «Можно ли забыть фронтовое совещание, на котором генерал Захаров обрушился на Вас за невыполнение приказа и где Вы мужественно и достойно отстаивали свою позицию…»; гораздо важнее то, о чем рассуждает мемуарист Горелик спустя много лет: «Выполнение приказа – закон для подчиненных, это стержень воинской службы. Что же, оказывается, в тактике и оперативном искусстве, как и в микрокосме и макрокосме, действуют разные законы?» – но эти рассуждения подкреплены писательской, необъяснимой образной точностью. Каземат форта Рожан с сохранившимся запахом прошлогоднего картофеля – совершенно не важная, но необходимая деталь. Я это и называю: у писателя поставлена рука.
По нынешним временам писательские руки, за редким исключением, разболтаны и расшатаны, и взгляд писательский расфокусирован по нынешним-то временам. Не то у Горелика. Он четко и точно запоминает деталь, характерную, определяющую, и умело внедряет ее в читательское сознание.
Вот он описывает последнюю больницу последней болезни своего друга Бориса Слуцкого: «Стараниями К. Симонова и генерала Цинева, фронтового начальника Слуцкого, Борис был помещен в Центральную клиническую больницу, „кремлевку”… Лежали в отделении в основном люди пожилые, бывшие большие начальники. Некоторых Борису удалось разговорить. Он делил больных стариков на „отсажавших” и „отсидевших”. Однажды показал на двух мирно разговаривавших людей: „Вон на диване отсажавший рассказывает отсидевшему, за что его посадил”».
Рядом, на предыдущей странице, Горелик цитирует письмо Давида Самойлова: «Болезнь Бориса не умственная, как бывает у сошедших с ума, а душевная…» – и лучшего доказательства, что это было именно так, чем история про «отсажавших» и «отсидевших», не привести, но это писательское доказательство. Оно – не впрямую, не в лоб, но – между делом, обок, не ad veritatem и не ad hominem, но – ad marginem.
У Горелика лучше всего получаются странные ситуации, в которых схвачено что-то очень важное для времени и для человеческой души в этом времени: «В одном из бывших общественных зданий неподалеку от комендатуры (библиотека или школа), куда я зашел в ожидании машины, я наткнулся на груду искореженных книг. Случайно мне попался обрывок книги Анатоля Франса, страниц 80 – 100 из „Современной истории”, определить автора и название не составило труда: в верхней части страниц было указано: слева – автор, справа – название. Эти несколько страниц вызвали сумятицу в мыслях <…> Мы знали свой солдатский долг <…> Успехи под Сталинградом, Курском и у нас под Орлом окрыляли нас. Как возмездие, как Божью кару воспринимали мы известия о начавшихся бомбардировках немецких городов англо-американской авиацией. Трудно было сознанию солдата, очищавшего свою землю от оккупантов, принять утверждение Франса о бессмысленности любой войны… Для моего атеистического сознания была откровением мысль, с железной логичностью изложенная Франсом: по какому праву можно требовать от человека, чтобы он жертвовал жизнью, если его лишили надежды на загробное существование?.. Всего этого было для меня чересчур <…> Признаюсь, я настолько был выведен из состояния душевного равновесия, что не взял эти обжигающие руки странички с собой».
Пацифистская книга Франса, изданная в двадцатые годы, искореженная войной, валяющаяся на полу орловской библиотеки; советский офицер, который не может не согласиться с железной логикой французского писателя; а вот все-таки кладет страницы на пол, туда же, где взял, – и едет воевать дальше: все это создает особый стереоскопический эффект, едва ли не символический.
Здесь одна из особенностей Горелика-мемуариста. Он не забывает. Он помнит одно рядом с другим. Не одно, вытесняющее другое, но именно так – одно рядом с другим. Он помнит, как благодаря штатному пионервожатому Коле Курганскому смог получить образование: «Коля Курганский – молодой человек лет двадцати с чем-нибудь, из бывших рабочих паровозного завода, комсомольский выдвиженец <…> Внешне он ничем не отличался от рабочей молодежи нашей окраины. Скулы выдавали его татарское происхождение, но в те годы национальностью почти не интересовались <…> Он дружил с нами, поддерживал нас и помогал <…> Когда передо мной стал вопрос, учиться или кустарничать в подвале отца, и я должен был решиться на отчаянный шаг ухода из дома, именно Коля Курганский поддержал меня и помог. Коля знал о моих обстоятельствах и, ничего мне не сказав, пошел к отцу. Подробности их разговора мне на первых порах остались неизвестны. Но результат был таков: отец согласился ежемесячно оплачивать мои квартирные расходы. Речь шла о том, что я сниму скромный угол…»
И так же хорошо он помнит своего отца, ремесленника-кустаря, никогда не работавшего «на них»; его жизнестойкость, трудолюбие изображены с настоящей симпатией, с подлинным сочувствием: «Желание заработать на черный день постоянно толкало отца на экономические подвиги, а иногда и на авантюры. Ему казалось, что он чутко улавливает быстро меняющуюся конъюнктуру рынка, и нередко чутье его не обманывало <…> Небольшой темный подвал под квартирой видел многое: варка мыла сменялась изготовлением чернил, чернила сменял клей, за пуговицами из олова налаживалось производство эбонитовых пуговиц из старых граммофонных пластинок; в этом же мрачном, но слегка подбеленном помещении изготавливалось „вологодское” сливочное масло и знаменитые в Харькове треугольные вафли, скрепленные помадкой, весьма отдаленно напоминавшей шоколадную. Эти вафли почему-то называли „Микадо” <…> Сейчас я вижу в отце не только деспота. Время частично стерло детали, и я должен прежде всего признать, что отец был труженик <…> Удивительно, но ему очень долго, до старости, удалось оставаться при своем деле, то кустарем-одиночкой, то кооперированным кустарем. С кем он кооперировался, оставалось загадкой, но была такая возможность легализовать приватную деятельность, и он ею пользовался, во всяком случае, „на них” он не работал».
Стереоскопичность, объемность памяти, располагающая рядом комсомольского выдвиженца Колю Курганского и еврейского кустаря-ремесленника Захара Горелика, – замечательное свойство мемуариста.
Он не просто рассказывает о пережитом.
Он видит пережитое.
И я пережитое им тоже вижу.
Cага про Эпштейнов
(Роза Эпштейн. Книга Розы)
Кажется, Горький заметил, что любой человек может написать одну хорошую книгу. Просто сядет-присядет, вспомнит, задумается и запишет все, что происходило с ним и с его близкими. Только запишет честно. Изложит историю. И если жизнь была, то и книга будет. Роза Эпштейн так и поступила. Изложила историю своей семьи. Честно, бесхитростно, спокойно.
Она написала сагу. Ибо сага это и есть повествование о семье, о роде. Как правило, эти повествования очень длинные, будь то «Сага о Форсайтах» или «Сага о Ньяле». «Книга Розы» – короткая сага. Событий в короткий период истории семьи Эпштейнов набилось столько, что у их летописца нет такой роскоши – повествовать медленно и обстоятельно, описывать события долго и тщательно.
«По пути наш эшелон расстреляли немецкие самолеты, и в живых осталось чуть больше половины. В том налете пострадала и я – металлический осколок вонзился в спину в районе позвоночника. Фельдшер, который сопровождал эшелон, осколок тот вытащил и щедро залил рану зеленкой. Зеленки у него была трехлитровая банка, и она заменяла, при отсутствии других медикаментов, и обезболивающее, и антисептик». В одном абзаце – ад бомбового налета, чудо спасения, нехватка медикаментов в Красной армии.
Эффективная краткость стиля, не чурающегося ни канцелярита, ни диалектов. У этой эффективной краткости стиля Розы Эпштейн есть еще одна причина помимо густой событийности – профессиональные привычки Розы Эпштейн. Совсем юной девушкой во время Великой Отечественной войны она была диспетчером железных дорог в ближнем тылу. Поневоле научишься деловой и точной краткости.
Из описания Розой Эпштейн своей работы становится ясно, что было нужно, чтобы не погубить других и самой не погибнуть: наблюдательность, память, точное владение нужными словами и… понимание психологии других людей. Потому что с небес немецкие самолеты, а чуть пониже небес – свирепые свои начальники, генералы, наркомы, начальники НКВД. И если ты быстро, точно, убедительно не сможешь объяснить свое решение тому или другому рассвирепевшему начальнику, то в лучшем случае можешь получить табуреткой по шее, в худшем – расстрел.
Память, наблюдательность, выбор нужных слов, умение поместить сообщение в маленький отрезок текста, знание психологии – это и есть писательские свойства. Есть еще воображение, но Розе Эпштейн оно ни к чему. В ее памяти столько всего, что никакому воображению не угнаться. «Память сохранила и историю, рассказанную мне двоюродной сестрой Ритой – дочерью брата мамы Якова. Он перед войной работал главным бухгалтером на шахте Рутченковка. А его жена, еврейка, была учительницей физики и математики. Наши, когда оставляли Сталино, затопили шахты вокруг. В эти шахты немцы сбрасывали евреев. Не только евреев, но и коммунистов, комсомольцев. Риту вместе с мамой и сестрой Лидой вели к шахте, но в какой-то момент мать сумела выбросить Риту в толпу людей, стоявших вдоль дороги. А Лида вцепилась в руку матери: «Я с тобой. Как ты, так и я». И не отпустила ни на секунду, так их, державшихся за руки, немцы в шахту и сбросили».
Роза Эпштейн формирует свой текст, как формировала эшелоны в годы войны – быстро, ответственно, умело. О ее тексте трудно писать. Не только потому, что он по большей части драматичен, но и потому, что при всей своей драматичности он удивительно легко читается. Парадоксальная закономерность: чем легче читать книгу, тем труднее о ней писать. Легко читать «Книгу Розы» потому, что она уводит из повседневности. Но по прочтении такой книги возвращаешься в повседневность, обогащенный чужим, огромным личным опытом.
И вообще «понимаешь: люди совсем не злы, просто долго отпуска ждали», как писал поэт, чрезвычайно близкий «Книге Розы», Борис Слуцкий. Не в том только дело, что он декларировал: «Я историю излагаю…» – что как раз и делает Роза Эпштейн в своей книге. Но и в том, что, как и Роза Эпштейн, он был летописцем советского мира, поэтом советских людей.
«Книга Розы» появилась вовремя. Ностальгия по советскому прошлому захватывает все большие и большие слои населения. «Но, обнажая швы и пробелы, как субмарина из глубины, вдруг выплывает тема победы и вытесняет тему вины» – это поэт Михаил Щербаков весьма точно предсказал в конце восьмидесятых.
«Книга Розы» вроде бы вписывается в эту ностальгию. Зачин: «Я – последняя из живых очевидцев истории моей семьи, тесно переплетающейся с историей нашей страны, в которой было все: и революции, и строительство общества новой формации, и коллективизация, и репрессии, и защита Родины в годы Великой Отечественной войны, и восстановление народного хозяйства. Каждый из моих родных и близких вписал свою страницу в эту великую историю». Финал: «И еще всегда гордилась своей семьей, члены которой свято верили в идеи и идеалы своего времени и служили им верой и правдой».
Но между зачином и финалом само повествование, способное вызвать уважение к советским людям, но от ностальгии по обстоятельствам их времени и места излечить: «В то время мы из Москвы везли все: колбасу, сыры, мясо, кексы, консервы, апельсины, конфеты, сервизы. Посылки на почте больше 8 килограммов не принимались. Помню, прихожу в магазин и прошу: «Дочка, взвесь мне всяких консервов не больше 8 килограмм». Продавщица удивляется: «Кто это вам консервы взвешивать будет?» – «Дочка, я из Сталинграда, а у нас этого нет. Поэтому прикинь на весах, чтобы посылку приняли…»
«Книга Розы» – удачно названа. «Под розой» – средневековое словосочетание, означающее нечто тайное, секретное и, разумеется, очень важное. «Книга Розы» – «Книга тайны». Тайны советского мира. Это – военная тайна. Потому что этот мир был рожден войной и создан, приспособлен для войны, бедствий, лишений, терпения. Хорошие люди этого мира – солдаты. Инициативные, смелые, справедливые, терпеливые… солдаты
«Нет ничего ужаснее войны, нет никого прекраснее солдата», – написал в 1969 году советский поэт Леон Тоом, и эти строчки чаще всего вспоминаешь, когда читаешь истории, рассказанные Розой Эпштейн. «Это случилось 12 октября 1944 года на территории Румынии. Разведчики захватили немецкого генерала. Моей сестре Раисе, хорошо владеющей немецким, предстояло сопровождать генерала. Перед поездкой немец попросил его побрить. Во время бритья генерал перехватил руку цирюльника с опасной бритвой и полоснул себя по горлу. Операция Рае предстояла сложная, важно было не только жизнь генералу сохранить, но и связки, чтобы он говорить мог. Медсестра вспоминала: “Рая сделала уникальную операцию. Руки у нее были золотые. Она кончиками пальцев чувствовала нить жизни. Адский труд – операция длилась четыре часа. Мы рядом стояли, чуть не падали от усталости. Смотрели на Раису Соломоновну, как на божество”. Транспортировать генерала решили в повозке, запряженной лошадями. Вдоль дороги по обе стороны таблички были понатыканы: “Осторожно, мины!” Навстречу повозке выехала колонна мотоциклов. Лошади, испугавшись, понесли на минное поле. Генерала разорвало в клочки. Военврач Константин прополз сорок метров по минному полю до места, где лежала Рая. Она была еще в сознании и тихо прошептала: “Костя! Не надо – у меня все отбито”. Он выполз назад по своему следу и вытащил на себе Раю. Все время по пути в ближайший населенный путь Константин держал Раечку на руках и молил Бога, чтобы она выжила. Но через два часа моей сестренки не стало».
Но это не просто солдаты, тупо выполняющие приказы. Это – хорошие солдаты. Они умудряются так выполнять иные бесчеловечные приказы, чтобы не нанести вред своему подразделению. Вот бабушка Розы, председатель (голова) колхоза: «Глаза у бабушки были выцветшие, или по-украински “очи засмученные”. Усталость, озабоченность, невзгоды – все отражалось в них. На плечах этой женщины лежала огромная ответственность за колхоз, за тысячу человеческих душ… Еще запомнилась бабка Пелагея – рассерженная, напористая, которая приехала к нам в Сталино и рассказывает, что творится в ее голодной деревне: “Кат прошел по дворам, и посеять нечего – все выгреб”. Отец пытается урезонить тещу: “Тихо ты”. А бабушка гнет свое: “Вы ж, коммуняки, какие? Вы коты, як тот кат. Он все выгреб, а дети плачут и хозяйки плачут: «Шо ж вы робите? Мне ж годувати нечем». В 1930 году, когда пошла волна раскулачивания, собрала голова колхоза, Пелагея Полякова, сход. На нем постановили: имеющие две коровы одну должны отдать тем, у кого нет ни одной, а за это новые хозяева расплачиваются трудоднями. Может, и не очень выгодное решение, но в результате никто не был раскулачен и выселен. И сколько разных комиссий ни приезжало, подкопаться под это решение сельсовета не смогли. Так полуграмотная еврейская крестьянка спасла не одну семью колхозников».
Вот эта история, типичная для «Книги Розы», позволяет обозначить еще одну тайну советского мира. Он держался не только солдатами, но солдатами, которые были хорошими людьми. И здесь вспоминается уже не Борис Слуцкий, но Грэм Грин. Его удивительный роман «Сила и слава». Главный, смыслообразующий диалог между пьющим, грешным священником и преследующим его фанатиком революции, богоборцем и атеистом. В ночь перед расстрелом священник, выслушав революционера, отвечает ему примерно так: «Все это прекрасно, то, что вы сейчас сказали. Но ваша программа рассчитана на то, что все люди хорошие. А столько хороших людей вы просто не наберете…»
И то, где вы найдете, столько старух, которые в 1937 году, получив денежный перевод из Америки от эмигрировавшего в 1914 году брата, умудрятся потратить деньги на… строительство десятилетней школы в своем селе, рискуя получить срок за связь с американо-еврейским капиталом? Где вы найдете, таких стариков, живущих в полуподвале, как отец Розы, Соломон Эпштейн, которые, узнав, что гуманитарная помощь (все из той же Америки) попадает не нищим шахтерам, а начальству, дойдут до самого высокого начальства и добьются справедливости, в результате сами останутся в том же полуподвале?
А уж кто-кто, а Соломон Эпштейн, чудом выживший после расстрела петлюровцами в 19-м, расселявший шахтеров из казарм в уплотненные городские квартиры в 20-е годы, директор первой мебельной фабрики в городе, мог бы рассчитывать не на полуподвал. А он и не рассчитывал, потому что был хорошим человеком. Где вы найдете таких диспетчеров, как учитель молоденькой Розы Эпштейн, товарищ Абрамов? Сам, под расстрельной статьей, он приписал себе в книгу дежурств лишние 15 минут, чтобы вывести из под этой статьи свою сменщицу, Розу Эпштейн, после чего пошёл в столовку кашу есть, ожидая вызова НКВД.
Где вы найдете такую девчонку, как молоденькая Роза Эпштейн, которая после расстрела товарища Абрамова будет ходить в НКВД и добиваться выдачи тела для похорон, не обращая внимания на рык уполномоченного: «Да я тебя саму расстреляю!» И добьется. И похоронит. И на фанерном монументе над могилой напишет чернильным карандашом имя, фамилию, дату смерти, а чуть ниже: «Хороший человек».
Признаться, в этом месте «Книги Розы» я вздрогнул не только от самой истории, но еще и от узнавания ее. Любой мало-мальски образованный человек эту историю узнает. Это же… Антигона. Советская, еврейская Антигона образца 1944 года. Это не удивительно. «Книга Розы», как и положено сагам, эпос. Энергичный, короткий, но… эпос. Народная книга. Эпосу полагаются вечные сюжеты.
Эпосу полагается вера в конечное торжество справедливости. «Случалось, приглашали мужа моей сестры Беллы, бывшего военспеца, и на торжественные приемы. На одном из них – в Наркомате морского флота – Соболев встретил человека, лицо которого он запомнил на всю жизнь. Этот человек был в парадном кителе с адмиральскими нашивками и держался очень уверенно. Однако, увидев приближающегося к нему капитана второго ранга, адмирал побледнел и мягко начал сползать со стула. Подойдя, Соболев сжал кулаки и с размаху врезал ему по физиономии, сначала с правой, потом с левой руки. Все вдруг застыли, как в немом кино. Воспользовавшись тишиной, Анатолий Михайлович произнес слегка осипшим от волнения голосом: “Подлый, и ты еще смеешь приходить к морякам?! Товарищи! Этот человек бросил полторы тысячи раненых и скрылся с острова на единственной подводной лодке! Якобы за помощью! Но помощи мы не дождались!”».
Эпосу полагается обоснованная вера в то, что злодеи страшны, но их не так уж и много и кара их ждет жестокая и справедливая, потому что хороших людей больше… «Тетя Фрося обошла весь поселок и собрала восемьдесят одну подпись жителей под письмом, в котором заверяли немецкие власти, что знали родителей моей сестры Аграфены, что те были белорусами, поэтому и их дочь белоруска. Восемьдесят один человек подставили свои головы, защищая Груню. Ведь если бы немцы узнали, что это ложь, расстреляли бы всех. А правда про доносчика всплыла. Сами же гестаповцы, когда пытали Володю, мужа Груни, сказали, что про Груню им написал такой-то (фамилию назвали). Этот гад до войны был секретарем парткома танкоремонтного завода. Эта информация подтвердилась и тем, что жена этого предателя выгребла из шифоньера Шиммелей все постельное белье и скатерти, когда Груню в третий раз забрали в гестапо, а Володя ушел за ней. После освобождения Володя решил рассчитаться с предателем и позвал заводских работяг. Встретив гада, указал на него: “Вот эта сволочь писала доносы в гестапо”. Один из рабочих замахнулся ведром с чем-то тяжелым и ударил предателя по голове. Удар оказался смертельным. Но никакого расследования и уголовного дела возбуждать не стали. Все единодушно решили: “Собаке собачья и смерть!”»
Эпосу полагаются сильные характеры, под стать страшным и жестоким событиям, в которые они вовлечены. И такие характеры Роза Эпштейн умеет изображать. Чего стоит одна только сестра ее отца, тетя Цива, кузнец по профессии и диалектик по призванию? «В Сталино в то время не осталось церквей – их разрушили, синагогу закрыли. По пятницам вечерами к тетушке приходили евреи с Торой и читали талмуды в длинной комнате. Когда про это узнали власти, к Циве пришли серьезные люди. Ничего не добившись от Цивы, серьезные люди вызвали в горком моего отца и настойчиво попросили: “Соломон Борисович, повлияй на свою сестру…” Отец пошел к сестре и попытался объяснить, что своим поведением та может сломать жизнь и детям, и внукам. “Ах, коммуняка, как ты заговорил! – перебила брата Цива. – А почему вы не тряслись от страха, когда церкви взрывали и иконы валялись на улицах, как мусор? Молись на свой партбилет!”».
Безупречное возражение. Видно, что тетя Цива не только мастерски подковывала лошадей, но и очень внимательно, разумно слушала рассуждения знатоков Торы, собиравшихся у нее по пятницам. Ее выкрик попадает в самую суть проблемы богоборчества. Значит, ты – коммунист, революционер, утверждаешь, что Божьи законы никуда не годятся, что ты и твои товарищи построите мир по своим законам, лучше, чем Божий. Значит, Бога ты не боишься, а что ж ты своих же товарищей боишься? Настоящий диалектик была тетя Цива.
Ее племянница написала честную книгу о великом поколении и жестоком времени, в котором довелось этому поколению жить. Ее будут читать не только те читатели, которым интересна интересная книга; ее будут внимательно изучать историки и социологи как аутентичное свидетельство погибшего советского мира.
In memoriam
Динабург
Он был эксцентричен во всем. В одежде, в облике, в походке, в том, как он говорил, и в том, что он говорил. Однажды он заговорил о Гамлете: «Гамлет… он… подросток… он… маленький… нервный… капризный… да, балованный… королевский отпрыск. Он… и ведет… себя… как подросток, – он так говорил, речь его, его интонацию довольно трудно передать, для этого потребна или “лесенка” Маяковского или ритмизованная проза Андрея Белого. Он говорил одновременно и очень быстро, и очень запиночно, спотыкливо, там, где современный человек вставляет “как бы” или “так сказать”, он просто замолкал, подыскивал нужные слова, а потом несся дальше по пашне разговора, как по шоссе, не снижая скорости, – все удивляются, почему он не мстит сразу же? А как он может мстить? Он – маленький, подросток, а вокруг него здоровенные, вооруженные до зубов, закованные в латы мужики. Как только он получает возможность пустить в ход оружие, он сразу ее использует. Первый раз – когда закалывает Полония за занавеской; второй раз после боя с Лаэртом, когда наносит удар Клавдию…» – «Но позвольте, – возразил тогда я, – это очень эффектная трактовка, но она приходит в противоречие с текстом пьесы. Гамлет был в университете, в Виттенберге, какой же подросток?» – «Э, – махнул рукой Юрий Семенович Динабург, ибо речь я веду о нем, странном человеке, умершем в 2011 году в Петербурге, родившемся в 1928 году в Киеве, попавшем в советский концлагерь в 1946-м в Челябинске, – принца могли и в очень раннем возрасте отправить в университет. Такие случаи бывали. Приставить к нему двух старших товарищей и отправить».
Наверное, он и сам себя ощущал таким вот подростком Гамлетом… Лагерь (Шаламов прав) – отрицательная школа жизни, не прибавляет, а отнимает жизненный опыт. Динабург, попавший в концлагерь семнадцати лет от роду, так и остался умным, легким, нервным подростком с огромной бородой, копной волос, толстыми очками. Маленький, худенький, быстрый, он вызывал порой жуткую ненависть. Помнится, топали мы с ним по Невскому, беседовали не то о низкой политике, не то о высокой поэзии. Спустились в подземный переход от Публички до Гостиного двора. Навстречу нам мчал разозленный чем-то здоровенный жлоб. Такой человекошкаф, аккуратно подстриженный, в дорогом костюме и с тупой наетой мордой. Раскормленная такая, арийская тварь. По всей видимости, кто-то эту тварь бортанул, то ли партнер, то ли дама. Потому как человекошкаф был на стадии превращения в человекотанк. Не снижая скорости, он намеренно сильно толкнул Динабурга в грудь так, что тот отлетел к застекленному киоску. Я был настолько потрясен этой ничем не спровоцированной нами агрессией, что среагировал неправильно. Выкрикнул что-то оскорбительное. Жлоб остановился, вернулся и еще раз толкнул Динабурга, уточнив: «Не нравится?» Что было делать? Я утерся. Однако самое интересное было не то, как повел себя я, и не то, как вел себя жлоб, а то, как держал себя Динабург. Он стоял и совершенно спокойно смотрел так, как будто перед ним был не разъяренный жлоб, а оживший столб. Я не помню, сказал он что-то или промолчал, но и в самом молчании был вопрос: «Так. И что дальше?» Жлоб пофыркал, пофыркал, потоптался, даже поругался и устремился дальше избывать горе.
Мы двинулись к метро. По дороге Динабург как-то очень хорошо, окольно объяснил мою не житейскую именно что, а бытийственную ошибку. И на что я рассчитывал, крикнув в спину хаму ругательство? Что он поймет, как нехорошо толкать не понравившихся ему пожилых слабых людей? Или что в ответ на его оскорбления я с легкостью Джеки Чана ударом пятки в лоб отправлю великана в нокаут? Нет? Тогда зачем я кинулся в бой? Надо было стерпеть и промолчать. Он объяснил это не в лоб, как я сейчас, а (повторюсь) окольно. Он был вообще силен такими окольными, скользящими объяснениями. Как-то я вздумал посетовать на то, что в старших классах сейчас не читают статьи Ленина, и зря – яркий политический мыслитель, статьи его – пища уму. Динабург помолчал, прикидывая, как ответить, в конце концов эта «пища уму» сунула его в лагерь. Начитался, наконспектировался в старших классах про то, с какой легкостью можно взять власть для проведения единственно верной политической линии, решил попробовать. Нет, жаловаться он не стал. Он рассказал притчу: «Знаете, – сказал он, – нас в лагере однажды отправили ремонтировать дом. Мы ободрали обои, а под ними оказались старые газеты. Так я эти газеты тоже ободрал. Я их не то что прочел – наизусть выучил. Пища уму». Он замолчал. Дальше нужно было самому достраивать рассуждение. Если никакой другой пищи уму нету, то и Ленин сойдет; а если и Ленина нету – старая газета чем не пища уму?
В этих заметках я буду часто писать о себе, поскольку Динабург стал очень важной частью моей жизни. Интеллектуальной, что ли? Скорее пограничной между интеллектом и эмоциями. Помню, как в первый раз пришел к нему в гости в бывший Дом политкаторжан на набережной Невы, где он жил. Он выскочил к нам в белоснежном пышном жабо, в тренировочных штанах и… валенках. Мы переглянулись. Чаплин. Бродяга Чарли. По выходе мы так и решили. Ему не сказали. Он бы обиделся. Подобно Набокову и Ходасевичу, он терпеть не мог «идиотств Шарло», ему больше нравился Бастер Китон. Какой-то очень важный урок он мне преподал. Может быть, неправильный, не знаю. Как все важные уроки, этот не так-то просто вербализовать. Только приблизительно. Может быть, так: надо жить как хочешь. Самое важное в жизни – свобода. Не богатство, не слава, не успех и удача, но… свобода. Может быть, и так: в жизни совершенно не важна социальная реализация. Храм твой – внутри тебя. Весьма вероятно, что это ошибка. Но это было важно для Юрия Семеновича. Он был напрочь, наотмашь лишен очень важного для современного российского человека стремления к социальной реализации. В нем этого стремления не было ни на грамм, ни на гран, ни на грош.
Я сам видел и слышал, как хорошо укомплектованный, в меру интеллигентный человек уговаривал Динабурга: «Юрий Семенович, вот то, что вы мне рассказывали про архитектуру, запишите. Я издаю сборник. Обязательно помещу ваш текст. Если тяжело, я пришлю девушку, вы ей надиктуете, она запишет, вы проверите, исправите, мы опубликуем…» Юрий Семенович с откровенным, вежливым невниманием слушал, не в лад кивал, дескать, ну конечно, напишу, разумеется, надиктую – но и мне, и хорошо укомплектованному интеллигенту было ясно: ни черта он не напишет и не надиктует. Почему он упорно отталкивал от себя даже намек на возможность какой-либо социальной реализации? Бог знает. Жизнь человеческая, с одной стороны, весьма простая штука, легко поддается простейшему разложению на атомы социально-психологических причинно-следственных связей. Даже какое-то поучение, какую-то мораль можно из нее вывести. Однако тут-то и скрывается главный секрет, главный парадокс: во всех этих разложениях и поучениях теряется главное. Получается не истина, а так – схема, муляж, нечто неживое и потому глубоко неинтересное.
Я бы мог, пожалуй, выстроить такой муляж, такую схему. Мне даже придется это сделать, потому что без схемы никуда не денешься, если пишешь статью, мемуары или разрозненные заметки о таком сложном человеке, как Динабург. Здесь все объяснение лежит в одном факте – в раннем лагерном опыте юного интеллигента, каковым был Юра Динабург. И даже эпиграф видится (я его уже, впрочем, использовал) из Шаламова: «Лагерь – отрицательная школа жизни». Там не получаешь опыт. Там опыт от тебя отнимается. Лагерь отучивает от труда. Труд – проклятие. Не маленькая пайка убивает, а большая. Это Динабург запомнил очень хорошо. Оговорюсь, кому-то лагерь в чем-то может и помочь, но только не тому психофизическому типу, к которому принадлежал Юрий Семенович. Сын крупного челябинского инженера из команды Орджоникидзе, погибшего во время сталинского погрома квалифицированных кадров, Динабург не стеснялся говорить о том, что это гибель отца подтолкнула его к борьбе с советской властью, к созданию в городе Челябинске в 1945–1946 годах подпольной марксистской антисталинской молодежной организации «Союз идейной коммунистической молодежи». Это – к подростку Гамлету, который окружен вооруженными до зубов убийцами своего отца. Когда мать Юры поняла, чем занимается ее сын, она заметила: «Юра, это кончится очень плохо». Он спокойно возразил или подтвердил: «Это должно было кончиться плохо в тот момент, когда забрали отца».
Когда его везли в тюрьму, охранник весело сказал: «Ну, паря, света белого ты теперь не увидишь…» Динабург пожал плечами: «А я и так белого света не вижу, один красный. Зато теперь я увижу своего отца, как Одиссей Лаэрта, как Гамлет Гамлета-старшего…» Охранник крякнул и выдавил что-то вроде: «Ну, тебе с такими загибами совсем хреново придется… Гамлет, понимаешь, с Лаэртом…» Пришлось, конечно, хреново, хотя именно в лагере Динабург пересекся с самыми разными и более чем интересными людьми. Я обожаю его рассказ о встрече в Дубровлаге, знаменитом лагере, построенном еще в годы Первой мировой для пленных австрийцев, с московским буддологом, другом Михаила Булгакова. Динабурга перевели из первого его лагеря в этот. В прежнем ему удалось стырить книжку «Витязь в тигровой шкуре». Он надеялся ее почитать. Забрался на нары, засунул под матрас произведение Шота Руставели и услышал снизу: «Вы не знаете, который час?» – «Нет, – отвечал Юра, – не знаю, но я полагаю…» – «Подождите, – внизу заволновались, – вы сказали: „Я полагаю”? Подождите, молодой человек, я сейчас надену очки. Я, со своей стороны, полагаю, что у нас еще есть время до отбоя познакомиться и поговорить». Поговорили. Сначала о буддизме, потом о великом романе про дьявола, художника и Христа.
(Роман этот разлетелся, еще не напечатанный, широким веером. Я по крайней мере несколько… присел, когда в руки мне попал роман Макса Брода о Христе, написанный в 1946 году в Иерусалиме. На обложке было четко выведено: «Der Meister». А когда появился Понтий (weisse Mantel mit blutr_tigem Umschlag, именно, именно «белый плащ с кровавым подбоем»), я и вовсе потер в потылице. Макс Брод был в Иерусалиме завлитом «Габимы», московского еврейского театра, выехавшего еще в 1920-е годы в Палестину, но вокруг этого театра наверняка бродили и другие бывшие москвичи, а уж кому, как не Броду, не сжегшему рукописи Кафки, пересказать роман, главные слова которого – «Рукописи не горят»? Короткое это отступление я делаю для того, чтобы показать, какое широкое ассоциативное поле будило общение с Динабургом. Он попытался схватиться за колесо истории в юности, и с той поры он жил в истории. У него была (по большому-то счету) своя компания: Пушкин там, Шекспир, Гамлет. Ему с ними было интересно. Было о чем поговорить.)
Потом буддолога перевели в другой лагерь. В тот же день Динабург зашел в лагерную каптерку. Каптерщиком в Дубровлаге тогда был Виктор Викторович Лемешевский, более известный как архиепископ Мануил. Он не вылезал из лагерей начиная с 1920-х годов. После Дубровлага ему предстояла долгая жизнь. Келейником у него служил будущий митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн (Снычев). Сам епископ Мануил в начале 1960-х составил первый, наиболее полный биографический словарь иерархов Русской православной церкви. Но тогда он был каптерщиком. И к нему в каптерку как раз и зашел вечерком Динабург. «Ну что, – спросил каптерщик, – молодой человек, грустите? Угнали вашего наставника?» – «Да, – отвечал Юра, – грущу, но тут, понимаете, какое дело: благодаря ему в буддизме я более или менее разобрался, но есть у меня очень серьезный пробел. Ничего не знаю о православии, о христианстве. Я, например, даже не знаю, как вас называть по-настоящему, по-православному. Мирское имя Виктор Викторович, а настоящее, ну, православное?» Каптерщик помолчал, подумал, потом сказал: «Отец Мануил, но это сейчас не важно…» – «Вот, вот, – воодушевился Юра, – а мне бы очень хотелось побольше узнать о христианстве, о православии». Отец Мануил, Виктор Викторович Лемешевский, снова подумал, помолчал и ответил: «А вам ничего не надо узнавать о христианстве. Вы и так христианин».
Поди пойми, почему архиепископ Мануил ответил так? Может, потому, что принявший муки – уже христианин и ничего особенного ему знать не надо? А может, старый лагерный волк заопасался, заосторожничал и решил сквозануть? Может, и так и эдак, но что-то важное Виктор Викторович в Юрии Семеновиче заметил. Он был не от мира сего. Меньше всего я мог его себе представить выбивающим гранты, продавливающим диссер или протаскивающим публикацию в печать. Но «не от мира сего» не все христианство, в том-то и парадокс этой самой странной религии мира, что «не от мира сего» всегда соединялось в ней с ясным, порой жестоким, порой циничным пониманием того, что в мире сем происходит. «Нераздельно и неслиянно» – это хорошо было сформулировано на Никейском соборе, потому что в христианстве все «нераздельно и неслиянно». Вот и в Динабурге его «не от мира сего» неслиянно соседствовало с жесткими, шокирующими рассуждениями о сем мире. За несколько месяцев до чеченской войны он с испугавшим меня цинизмом ее предсказал.
Ход рассуждений был приблизительно таков. Ельцин в октябре 1993 года сохранил власть благодаря армии. Значит, чтобы армия не приобрела чрезмерного влияния, надо ее сунуть в такую ситуевину, чтобы стало ясно: московское хулиганье она разгонит спроста, но если дело дойдет до более или менее боеспособных единиц, вот тут начнутся сложности. Где у нас могут быть такие боеспособные единицы? В Чечне, каковая, как по заказу, волнуется, вот туда ее и бросят.
Повторюсь, «не от мира сего», безбытность, эксцентричность поведения, речи, одежды соединялись у него с поразительно ясным, жестоким умом. Ум, впрочем, всегда жесток. Это сердце – доброе, а ум – жестокий. Глупые и добрые, умные и злые – естественные пары. Таковым Динабург был всегда, даже тогда, когда вместе со своими друзьями Юрой Ченчиком и Геной Бондаревым создавал «Союз идейной коммунистической молодежи». Здесь парадокс с «не от мира сего» и пониманием сего мира достигает вершины, апогея, зенита. Потому что это ведь безумие, донкихотство и полное непонимание житейской ситуации – в 1945 году создавать антисталинскую организацию. Ведь это означает полное непонимание окружающей жизни в ее простейших бытовых формах и абсолютно верное понимание того, что сталинский режим обречен, что сроку жизни ему десять лет, не больше. Дальше будет что-то другое… Что? Другой вопрос. Надо сказать, что молодежные антисталинские организации возникали после войны по всей стране. Об одной из них написал поэт Анатолий Жигулин в повести «Черные камни». Самая трагическая история была с московской организацией. Троих ее руководителей во главе с тезкой и однофамильцем будущего поэта «оттепели», Борисом Слуцким, расстреляли. Но вот что любопытно применительно к челябинской организации. Французская исследовательница этого движения с удивлением обнаружила: в программных документах этой организации минимум революционной, идейной риторики, максимум четкого, совершенно верного анализа экономической ситуации и совершенно верных предложений, скорее реформистских, чем революционных, как эту ситуацию следует выправлять. Более того, во многом эти предложения были воплощены в жизнь Маленковым в 1953–1954 годах.
Программные документы «Союза…» разрабатывал Динабург. Юному политологу вовсе не обязательно разбираться в бытовых проблемах, разберется позднее, но если он за десять лет до… угадывает путь, на который встанет страна, то после этих угадок его хорошо бы в Оксфорд отправить подучиться, а его отправляют в Дубровлаг. Нельзя сказать, что он там не подучился, но образование его получилось хаотичным, вспышкообразным, скорее ассоциативным, чем строго систематичным. Собственно, и речь его была такой же вспышкообразной. Повторюсь, при всей быстроте его речи у слушающего возникало физическое, едва ли не зримое ощущение: слово в его речи отстоит от другого слова на уважительном расстоянии. Эту особенность многоточиями можно передать только приблизительно: «На допросе… я стал… объяснять… что на мою концепцию… оказали… огромное влияние… книги… Анатоля Франса „Восстание ангелов” и „Боги жаждут”. Кстати, Никита, я проверял. С 1946-го по 1956-й эти книги в Советском Союзе не переиздавались, – (позвольте теперь мне обойтись без многоточий). – Стал объяснять, в чем сходство моей концепции с концепцией Франса и где различия. Сейчас это не важно. И так далее, – (единственное словосочетание-паразит в речи Динабурга). – Мне протянули протокол допроса. Там чушь какая-то. Стенографистка – дура, ничего не поняла. Написала какую-то безграмотную отсебятину. Я говорю: „Я это не подпишу. Не мои слова. Я буду говорить медленнее, пусть записывает”. Говорил медленнее, почти диктовал, снова – чушь. Я говорю: „Не могу с этой вашей дурой работать. Давайте я лучше сам напишу«. Мне говорят: „Пожалуйста, пишите!” Вообще были на редкость вежливы…» Еще бы нет! Они стараются, липовые дела выдумывают, чтобы на погоны новые звездочки прикнопить, а тут и стараться не надо! Организация, манифест, программа, сейчас сам концепцию напишет. Молодец какой!
Безумец? Ему двадцать пять лет светит (в лучше случае), а он уточняет свои историософские взгляды. И где? В кабинете следователя. Он же антисоветскую организацию создавал, он что, не понимал, где живет, с кем имеет дело? Отца у него в 1937 году на его глазах не арестовывали? А раз понимал, то почему он себя так вел? Давайте приведем пример другого поведения. Вот видный советский философ, крупнейший знаток немецкой классической философии Игорь Нарский. Он социально и профессионально реализовался по полной. Он был чуть старше Динабурга. И в то время, как Юру вели на допрос, сам вел допросы. Он служил в органах МГБ на территории Польши. Знаток и ценитель Канта, он что, не понимал, что происходит в Восточной Европе? Не понимал, кому и чему он служит? Прекрасно понимал, не хуже, а, может быть, лучше Динабурга, но он думал о семье, о жене, детях и благодарных учениках. Он не собирался хвататься рукой за колесо истории. А Юра схватился. Сказалась марксистская закваска. Он ведь кроме Анатоля Франса еще кое-что читал. В выпускном своем сочинении за 10-й класс он привел огроменную цитату из предисловия Генриха Гейне к «Лютеции». Мне эта цитата тоже очень нравится. Однажды при Динабурге я принялся ее декламировать, ибо проза Гейне – проза поэта, ритмизированная, красивая, умная, недаром ее так любил Фридрих Ницше. Динабург с легкостью подхватил цитату и продолжил: «Я намалевал черта на стене. Я сделал ему прекрасную рекламу. Коммунисты, рассеянные одиночками по всему свету, узнали из моих статей, что они существуют на самом деле. Из моих статей рассеянные по всем странам общины коммунистов, к великому своему удивлению, узнали, что они вовсе не маленькая слабая секта, что они самая сильная партия в мире и что спокойное ожидание – не потеря времени для людей, которым принадлежит будущее. Это признание, что будущее принадлежит коммунистам, я делаю с бесконечным страхом и тоской. Только с отвращением и ужасом думаю я о времени, когда эти мрачные фанатики достигнут власти. И все же два голоса в моей груди говорят в пользу коммунизма. И первый из этих голосов – голос логики. Ибо если не опровергнуть посылку, что „все люди имеют право есть”, то я вынужден подчиниться и всем выводам из нее. И второй из этих голосов – голос ненависти, возбуждаемой во мне партией, страшнейшим противником которой является коммунизм. Я говорю о партии националистов Германии, этих обломков и потомков тевтономанов. Я всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, меня утешает сознание, что коммунизм, которому они попадутся на дороге, нанесет им последний удар. И конечно, не ударом палицы уничтожит их этот гигант – нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу».
Я был потрясен. Вот тут Динабург мне и сказал, что этой цитатой он закончил свое выпускное сочинение в 10-м классе, как раз тогда, когда разрабатывал программные документы «Союза…». Надо признать, что марксистская закваска была весьма сильна в нем, уже давно расплевавшемся и расставшемся с коммунизмом в любых его формах, да и с любой «идейностью», то есть «идеологичностью». Впрочем, это не кто-нибудь, а Карл Маркс сформулировал: «Идеология – ложное сознание», так что даже и в этом отношении Динабург был верен марксизму в большей степени, чем современные российские коммунисты, в которых он не без основания видел обломки даже не славянофилов, но черносотенцев. Помню поразившие меня рассуждения об отмене крепостного права. «Железные дороги, – сказал он. – Александру II не было дела до всяких там свобод. Ему надо было выиграть ту войну, которую проиграл его отец. А проиграл он ее из-за отсутствия железных дорог. Подвоза к Севастополю нормального не было. А что нужно для строительства железных дорог? Свободные рабочие руки. А где их взять в стране, где крестьяне – рабы помещиков? Значит, нужно освободить крестьян…» Любопытно, что нигде больше я не встречал такого сугубо материалистического, марксистского объяснения причин великих реформ. Даже марксистский ортодокс Михаил Покровский так именно, в лоб, не формулировал. Между тем я бы затруднился обозначить идеологическую составляющую мира Динабурга. Похоже, ее и вовсе не было. Она исчезла после Дубровлага. Слишком уж с разными людьми он там общался. Слишком много истин обрушивалось на его молодую умную голову.
«В Дубровлаге, – сказал он мне, – мы ждали войны с американцами. Мы знали о войне в Корее и со стопроцентной точностью предполагали, что она не может не привести к крупномасштабному столкновению США и СССР. Такого удара СССР не выдержит. Тогда – свобода. И как-то один украинский националист сказал мне: „А вы-то, русские, чему радуетесь? России же не будет…” Я удивился: „Почему это не будет?” Он начертил на песке карту СССР. „Все союзные республики отвалятся сразу, а дальше цепь автономий. Вот она – Кавказ, Волга, Урал, Сибирь. Цепная реакция. Они тоже будут отваливаться. И останетесь вы, русские, на комариной плеши размером с княжество Ивана Калиты”». Юра много чего наслушался в Дубровлаге. Там он встретился и подружился с одним из основателей эмигрантского движения евразийцев, пражским ученым Савицким, из патриотических соображений пошедшим на союз со Сталиным. Ему это не помогло. Отправили в Дубровлаг. Случайно Динабург выяснил, что Савицкий был в Риме. «В Риме? – поразился Юра, которому так и не удалось побывать за границей. – Вы были в Риме? Вы видели Сикстинскую капеллу и фрески Микеланджело?» – «Да, – отвечал Савицкий, – я видел это вопиющее безобразие, эту бесстыжую порнографию, этот труп великой средневековой европейской культуры я видел…»
Одну вещь из сшибки, из столкновения разных ментальных систем Динабург вынес. Он никогда о ней не говорил. Но было видно, что это прочно забито в нем. Истины не знает и не может знать никто. У каждого есть своя доля истины и своя доля ошибки: и у Савицкого, и у украинского националиста, и у отца Мануила… Истина – у всех и ни у кого. Пойди-ка ее поймай.
Хотел ли он после лагеря схватиться за колесо истории? Нет. Его переехало, его хорошо, убедительно переехало. Блок неплохо сформулировал: «Но, право, может только хам / Над русской жизнью издеваться». Это как раз к Динабургу, к его жизни, к его социальной нереализованности. Его многие любили и столь же многие ненавидели. И любовь, и ненависть были подлинные, мучительные, ибо совершенно бескорыстные. Ненавидели Динабурга как раз вполне социально реализовавшиеся люди. В Динабурге их дико раздражал вирус асоциальности. Разумеется, можно перевернуть ситуацию и заметить, что в других условиях Динабург вполне бы реализовался. Был бы эксцентричным профессором политологии, социологии, может, филологии. Но история вообще, история жизни в частности, не знает сослагательного наклонения. Он остался тем, кем остался. От него остались обломки и осколки, которые и вспоминаются. Например, его рассказ о том, как его бабушка, тогда питерская гимназистка, шла домой по Екатерининскому каналу – вдруг грохот, люди бегут, кто-то кричит: «Царя убили!» Пришла домой и вместо хрестоматийного: «Из латыни – пять, из математики – пять!» – с порога: «Царя убили!» Взрослые руками машут, ну что ты глупости болтаешь! А оказалось – правда убили… Все рассказы Динабурга были пронизаны таким вот странноватым, жутковатым юмором.
Он был весел – вот что в нем поражало, вот что к нему привлекало и что от него отталкивало. Я очень любил его устный рассказ о возвращении отца с Украины, оправляющейся от последствий «великого перелома». Четырехлетний Юра только что научился читать и уже одолел «Робинзона Крузо». Он обратил внимание на то, что самое интересное начинается в книге тогда, когда Робинзон обнаруживает след голой человеческой ступни на песке своего острова и понимает: «Людоеды!» Итак, отец вернулся в Челябинск из командировки. Юру отправили спать, а отец остался поговорить с матерью. Юра ловко проник в родительскую комнату и спрятался под стол. Отец что-то тихо рассказывал матери, а потом чуть повысил голос, и Юра услышал: «Появились людоеды…» С криком «Ура! Людоеды идут!» он выскочил из-под стола, к ужасу папы и мамы. Через четыре года его отца арестовали. Через двенадцать лет он был и сам арестован.
Я сознательно себя ограничиваю. Не лезу в Интернет, не читаю его воспоминаний, выволакиваю только то, что осталось в моей памяти. То, что чиркнуло моментально, быстро, но оставило след. Как-то мы говорили с ним о прозе Мандельштама, о «Египетской марке». «Джойс, – сказал Юрий Семенович, – это русский Джойс». Я подумал и с некоторой запинкой, пожалуй что… согласился. Типологическое сходство имеется. Юрий Семенович заговорил снова. Нет, нет, сходство вовсе не типологическое. «Египетская марка» – первый сознательный отклик на «Улисса» в русской литературе. Злоключения Парнока с его визиткой, попытки спасти бедолагу-карманника от утопления в Фонтанке впрямую перекликаются с путешествием Леопольда Блума по Дублину 16 июня 1904 года. Что же до Стивена Дедала, то здесь он вынесен за рамки повествования и в то же время он в этих рамках обретается – это автор «Египетской марки», тот самый, что восклицает: «Господи, не дай мне стать похожим на Парнока!» Я возразил: «Откуда было знать Мандельштаму об „Улиссе”?» Динабург махнул рукой, отсекая возражения: «Знал, знал, не мог не знать. Общался со Стеничем, переводчиком „Улисса”, железный занавес никогда не был таким уж непроницаемым, а в двадцатые годы дырок в нем было побольше».
С Динабургом было интересно. Он интонировал, с легкостью подхватывал чужую мысль, чужое наблюдение, если они казались ему достойными подхвата. Как раз тогда, когда он рассказал мне о Гамлете-подростке, я заметил, что мне-то всегда был интересен комизм Гамлета. Это же… комическая роль. Все твердят «печальный принц, юноша в черном», а он всю пьесу острит, язвит, издевается. Единственный человек, с кем он говорит вполне свободно, с удовольствием, – шут-могильщик: «И на какой же почве принц сошел с ума?» – «Известно, на какой, на нашей, на датской…» В этом смысле Гамлет изумительно похож на Швейка. «На Швейка?» – переспросил Динабург. Ну да, на Швейка. Ведь главный вопрос, который возникает у читателя «Похождений бравого солдата…», такой же, какой возникает у читателя и зрителя трагедии о датском принце. Швейк – он и в самом деле идиот? Или он прикидывается? Или он до того доприкидывался, что и впрямь сделался идиотом? Разве это не тот же вопрос, что возникает в случае с Гамлетом? А насколько сыграно, разыграно безумие юноши в черном? Ведь поставил же Михаил Чехов пьесу, в которой Гамлет был безумцем, в бреду прозревающим истину об убийстве своего отца! Может, Гамлет, как и Швейк, просто выгрывается в свое безумие? Динабург кивнул: «Тонкое замечание. Именно выгрывается. Знаете, в какой-то момент я понял, что здесь так не прожить. Нужна маска, роль. Роль безумца самая подходящая». – «Гамлето-швейковская?» – «Именно. Мне эта роль очень понравилась. А потом я испугался, потому что понял, что выгрываюсь. Очень опасно, очень».
Это был важный разговор. После него я понял, что самыми близкими героями для Динабурга были Швейк и Гамлет. Потому и рассказы его были такими странно веселыми. Это были рассказы гамлето-швейковского пошиба. Конечно, он моделировал себя. Выстраивал роль, как Гамлет, как Швейк. Ему не нравился взгляд на себя со стороны, потому что он сам привык смотреть на себя со стороны. Один раз я стал причиной его раздражения, даже ярости. Была у меня одна теорийка. Да она и сейчас у меня осталась. Взрыв ярости Юрия Семеновича меня не убедил, скорее напротив… Теорийка эта касается самоубийства Фадеева. Одной из его причин. Повторюсь, количество подпольных марксистских молодежных антисталинских организаций после войны было весьма велико. Ребят хватали, лепили им срока, в Москве расстреляли. Вопрос: что могло подтолкнуть ребят к такой авантюре? Ответ: «Молодая гвардия» Александра Фадеева – гимн молодежи, сунувшейся к черту в зубы, погибшей, но ведь победившей же, победившей! Мощная провокация: вперед, молодая гвардия, по стопам Ульяны Громовой и Олега Кошевого. Вот этого стыда Фадееву было не осилить. Возвращающиеся из ссылок и лагерей писатели – это бы ладно. Он мог и сам туда загреметь. Но поломанные судьбы подростков и юношей, соблазненных художественной риторикой, вот этот стыд, эта боль посильнее будут…
Динабург, когда услышал эти мои рассуждения, пришел в настоящую ярость: «Что? „Молодая гвардия”? Да мы отродясь эту гадость пропагандистскую в руки не брали. Читать? Вдохновляться? Мы Маркса читали, Гейне, Анатоля Франса. Джованьоли „Спартак” нам казался слишком пропагандистским, слишком примитивным. Читать откровенную пропаганду? Да за кого вы нас принимаете?» Я не удержался и почти съязвил: «За идейную коммунистическую молодежь образца 1945 года». Динабург помолчал и принялся рассказывать об одном из руководителей их союза, о Гении Бондареве (так его прозвали родители). Собственно, организация и состояла только из трех руководителей: Юра Ченчик, сын директора высоковольтной сети Челябэнерго, Гена Бондарев, сын уполномоченного министерства госконтроля по Южно-Уральской ж. д. и Юра Динабург, сын казненного начальника проектного отдела ферросплавного завода, завкафедрой теоретической механики ЧИМЭСХа. Это была провинция. Нравы там были несколько иные, чем в пуганых столицах. Никто не отвернулся от вдовы и сына Семена Динабурга. Юра был вхож в дома элиты. Учился в хорошей школе. Сидел за одной партой с красивой девочкой, дочкой следователя, который потом вел дело «Союза…». Так вот, Гена Бондарев в 1944 году пошел поступать в офицерское училище. Его не приняли. Слишком физически истощен. Порядочные люди есть и были везде. В том числе и среди уполномоченных министерства. Отец Гения и сам не жировал, и сын его не жировал. «После Хиросимы и Нагасаки, – рассказывал Динабург, – мы было уже собрались распускать нашу организацию. Наша программа – развитие группы „Б” в промышленности за счет группы „А” – входила в явное противоречие с необходимостью наращивать оборонный потенциал после появления атомной бомбы. Но после дискуссий мы все же решили продолжить борьбу. Мы не могли не видеть катастрофическое положение страны». Вопрос с «Молодой гвардией» остался открытым.
Я не слишком хорошо разобрался с послелагерной жизнью Динабурга. Из юноши, пытавшегося схватиться за колесо истории, он превратился (превратил себя) в принципиального, идейного маргинала. Может быть, он воочию увидел результаты поворота этого колеса? Поломанные человеческие судьбы и жизни… Не получится – тебе переломают хребет. Получится – ты переломаешь хребты другим. Лучше постоять в сторонке, подумать, понаблюдать.
Он был жаден до доставшейся ему после лагеря жизни. Разбрасывался. Если и попадались в его устных новеллах истории, не гротескные, эксцентричные, а скорее печальные, лирические, то в них-то как раз чудом каким-то просвечивала та самая жажда жизни. Но для начала – новелла смешная. Эксцентричная. После лагеря он вернулся в Челябинск. Мать повела его в баню. Он был худущий, маленький, в очках с огромными линзами. Очки он снял, взял шайку и, сбившись, вошел в женское отделение. Сначала сослепу ничего не понял, ничего не увидел, а когда рассмотрел, куда попал, то удивился не скоплению распаренных голых женских тел, а реакции женщин. Ни взвизгов, ни смеха. Сочувственное внимание. Вошел худущий заморыш. Кожа да кости и бритая голова. Челябинские бабы сразу поняли, с каких курортов прибывают такие… нудисты. Спокойно объяснили ему его ошибку.
А вот теперь лирическая новелла. Встреча с женщиной. Здесь, в Питере. Целый день проговорили. И ночь проговорили. Вы не ошиблись. Про-го-во-ри-ли. Женщины, как известно, любят ушами. Циник Шоу очень верно заметил, что вот то самое (о чем вы сейчас подумали) часто происходит еще и потому, что ему и ей просто не о чем разговаривать, оставшись наедине. Но делать-то что-то надо? Вот тогда и происходит «то самое». Чаще всего «тем самым» все и кончается. «Трахнулись и разбежались» – так это, кажется, теперь называется. А Динабург с той женщиной не разбежались. Поутру поехали к ней на дачу. Она заснула в электричке у него на плече. А он, чтобы солнце не било ей в глаза, держал над ее лицом ладонь. И вот эта ладонь, по которой скользят тень и свет, ладонь над лицом любимой – в ней было столько жизни и жажды жизни.
Он зацепился в Питере благодаря фиктивному браку, ставшему браком настоящим, сменил довольно много работ и жен, общался с ребятами из андерграунда, дружил с поэтом Кривулиным, философом Гройсом; последняя его работа перед пенсией (крохотной) – экскурсовод в Петропавловке. Экскурсанты ходили за ним табунами, раскрыв рты и уши. Один раз его увидел Ролан Быков, снимавший в Петропавловке гоголевский «Нос», и предложил поучаствовать в съемках. «В качестве кого?» – поинтересовался Динабург. Ролан Антонович охотно объяснил: «В качестве трупа. У вас такое выразительное лицо. Вам ничего не надо будет делать. Будете лежать в гробу в сцене погребения, а мы вас будем снимать». Динабург засмеялся: «Не-е-ет, в роли трупа я даже в вашем фильме не захочу сниматься».
Жизнь удивительно располагала его в пространстве. Кому же еще и рассказывать о царской политической тюрьме, как не тому, кто десять лет провел в советской? В Питере в последние годы жизни он жил в бывшем Доме политкаторжан. Этот дом специально построили для революционеров, прошедших через царскую каторгу. В 1937 году их всех повыдергивали в Большой дом. Динабург случайно оказался в этом доме. Но случайность – логика фортуны. Кому же еще, как не бывшему политкаторжанину, жить в Доме политкаторжан? Был ли он слаб? Был ли он сломлен? Всё не те, не те вопросы. Тем более что на них есть неприятный ответ. Если он и оказался сломлен, то это не его вина, а беда того общества, где бывший политкаторжанин выгрывается в роль Швейка, чтобы не загребли по второму разу.
Его любили женщины. Безбытного, нищего, эксцентричного, его очень любили женщины. Это – лакмусовая бумажка. Женщины так просто не любят. Что-то они чувствуют настоящее, если любят. Последняя его жена Лена вышла за него замуж, когда ей было восемнадцать лет. Они были женаты тридцать лет и три года, и разница в возрасте между ними была такая же. Она приехала в Ленинград из уральского города Серова на речке Какве. (В этот город был эвакуирован театр Ленком во время войны. Там ленкомовцы сыграли «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана. Моментально родилась эпиграмма: «В Серове на Какве был дан „Сирано”, серовцы сказали, что это…») Лена приехала поступать в университет. И не поступила, даже не поступала, потому что познакомилась на экскурсии в Петропавловской крепости с Юрием Семеновичем. Она стала его женой. В последние годы его жизни стала его глазами. Он почти ослеп, мог различать только яркие цвета и резкие контуры. Лена читала ему вслух Канта, Достоевского; все, что он просил.
Динабург чиркнул спичкой по Питеру, оставил в нем след, странный, прихотливый, эксцентричный, как он сам, как его речь, быстрая, умная и странно запиночная. Теперь таких нет. И больше не будет. Почву России хорошо пропахали, чтобы никогда, никогда здесь не появлялись странные чудаки, быстрые и легкие, способные всю ночь проговорить с женщиной о Гамлете и Шекспире, а наутро в электричке держать над ее лицом ладонь, чтобы свет солнца не бил ей в глаза.
Душа журналиста
Личное. Костя Крикунов умер в ночь с 11 на 12 апреля. Утро Дня космонавтики, ставшего днем национального траура двух соседних стран, Костя уже не увидел. Его все называли Костя. Было что-то в этом усталом, печальном, застенчивом, лысоватом человеке, что располагало не к фамильярности, но к доверительной короткости. Фамильярностью здесь и не пахло. Наоборот, в нем было нечто, что сразу обозначало грань, фиксировало: у этого человека – свой мир, свое понимание мира. Я виделся и говорил с ним всего один раз в редакции одной из тех бесчисленных газет, которые Костя создавал в лихие девяностые.
Помню, он сразу поразил меня своей несводимостью ни к одному из виденных мной до сих пор человеческих типов. Разбитной газетно-журнальный деятель? Мол, да пошли вы все со своей «культуркой»… Не мучайте наших читателей, торговцев мотками алюминиевой проволоки, своими акварельными пиццикато, запомните: Федор Михайлович Достоевский – великий русский писатель. Упор на «Михайлович», потому что то, что был такой Достоевский, наши читатели знают. Что он был Федор, помнят неотчетливо, а Михайлович – и не знали никогда… Мне нравились и нравятся такие ребята. Но Костя ничем на них не походил…
Интеллигент, филолог, поэт, погруженный в свой мир и едва ли замечающий заботы суетного света? Нет. Точно нет. Внешне Костя напоминал нормального работягу, только очень уж печального. Разговор съехал на Рида Грачева, и я поразился, узнав, что Костя любит и знает странную прозу этого писателя. Но удивление мое возросло еще больше, когда я понял, что Костя дружит с Грачевым. Ходит к нему в гости. Беседует с ним, слушает его импровизации на рояле. Видимо, было что-то в моем взгляде, в моем поведении, что заставило Костю усмехнуться, отодвинуться от письменного стола и достать из ящика фотографию. «Это я, – сказал он, – а это Рид Грачев…» Я сказал что-то вроде «уважаю». Костя снова усмехнулся и коротко рассказал, как в дни исчезновения Рида ездил в милицию, опубликовал в своей газете статью и сообщение о том, что пропал видный русский писатель Рид Иосифович Грачев. Бандиты, похитившие старика в расчете на то, что старик отпишет им квартиру, сообразили, что стырили не просто старика, и отпустили Рида.
В журналистской практике Константина Крикунова было много того, чем можно было гордиться. Он был во Владикавказе во время осетино-ингушского конфликта. Он не чертил по воздуху геополитические чертежи про Кавказ и Россию. Он беседовал с теми, кого убивали и пытали. Его первый репортаж об этих событиях был похищен, а его самого избили до полусмерти. Он восстановил свой репортаж по памяти и напечатал в тогдашнем «Часе пик». Потом этот репортаж был напечатан в его единственной книге «Ты» – лучшей книги о девяностых, не замеченной, не отрефлектированной. И да будет нам, не заметившим эту книгу, стыдно.
А тот репортаж остался и останется в истории русской журналистики, как книги и репортажи Политковской. На похороны Крикунова пришли ингуши, живущие в Питере. Для них его смерть была личным горем.
Во время первой и последней встречи с Костей я все время пытался его как-то классифицировать, найти ему полочку. Есть у меня такая черта: каждый человек рано или поздно занимает свою полочку. Всегда. Но Костя не вписывался ни в одну из известных мне «полочек». Дружба с Грачевым, внешность застенчивого работяги, печальные глаза пьющего интеллигента. И наконец, чтобы все полочки пошли вразнос: «Пойду сегодня „Убить Билла” смотреть», – сказал он с хорошей, доброй улыбкой человека, которому предстоит нечто очень славное и духоподъемное. «Э, – сказал я, – а… вы видели?» – «Да, – кивнул Костя, – видел… Хороший, легкий фильм, когда мне тяжело, я его смотрю…» Я был так изумлен, что даже спрашивать не стал, а что там «легкого». Я как раз посмотрел «Убить Билла» и просто тихо ничего не понял. До сих пор не понимаю, что Тарантино хотел этим боевиком абсурда человечеству сказать. А Костя понял, разобрался. Он вообще разбирался в искусстве.
Искусство прозы Константина Крикунова. Он был журналист. Хороший. Как Розанов, как Честертон. Журналист ближе всего к поэту. Он всматривался в мир. В детали мира. Для него была важнее всего деталь. Общие идеи не для него. Идеология не для него. Даже мораль не для него. Он знал деталь и сочетание деталей. Он отказывался судить мир. И кроме того, он знал, что поэзия не на вершинах, а в траве. Надо только уметь нагибаться. Скорость реагирования на малейшие раздражители – вот что нужно и поэту, и журналисту. И у того и у другого есть одно удивительное ощущение: мир меняется с невиданной быстротой, но что-то в этом мире остается незыблемым, вечным, постоянным, непрестанным. Из удивительного сочетания непрестанного изменения и неколебимого постоянства сложена душа поэта и журналиста. Из того же сочетания сложена и его работа. Странно и неправдоподобно звучит, но душа поэта и журналиста и есть его работа.
Журналист и поэт – наблюдатели. Всегда немного со стороны. В какой-то момент от пристального вглядывания в себя и в мир цельное мироздание может разлететься на куски, фрагменты, детали – и все же… остаться цельным. Неправдоподобно и странно, но именно журналист и поэт оказываются ближе всего к тайне мира, над которой ломают головы богословы и философы: как может мир быть цельным и раздробленным одновременно, изменчивым и постоянным, нераздельным и неслиянным.
Это и была проза Константина Крикунова. Проза журналиста и поэта. В той же степени журналиста, в какой и поэта. При всей ее странности, раздражающей своеобычности она довольно традиционна. У нее были предшественники и учителя. Сразу и с ходу: Розанов Василий Васильевич. Костя вежливо кланялся учителю новой российской прозы: «1 ноября. Дворники внесли во двор короб опавших листьев». Одна всего только запись в массе разрозненных заметок и фрагментов. Имеющий уши да слышит: «Опавшие листья» – знаменитая книга Розанова. Делил он эту свою книгу на короба: короб первый, короб второй. Это он первым рискнул бухнуть в литературу необработанный сырой материал – дневник, письма, заметки на манжетах, на коленке, на обороте нумизматического транспаранта. Это он первым стал не церемониться с читателем. Не нравится? Не понятно? Ну и закрой книжку. Отойди и не мучай себя. Но уж если нырнул, если открыл и остался, то останешься со мной надолго. Станешь моим другом, конфидентом. Тем, с которым можно на «ты». Первая и последняя книга Крикунова так и называлась – «Ты». Читатель – это тот, к кому обращается на «ты». Это – розановский подход. Это Розанов первым (в России) впустил в литературу секс во всем его бесстыдстве и первым по-настоящему отказался от деления тем на грязные и чистые. Это Розанов первым понял, что если ты рискуешь говорить о религии и Боге, Библии, монахах и попах, то ты не должен бояться говорить о сексе. И то и другое – интимное, тайное тайных. А о чем же еще говорить, как не о самом важном, тайном, интимном, потаенном. Значит, оставь стыд за пределами прозы Кости Крикунова и слушай о мощах Александра Свирского, о последнем Герое Советского Союза, авианаводчике в Афганистане Буркове, о порноактрисе Хае Хаким, о сыщиках, которые ловят карманников, о наркоманах в Питере и стариках в русских деревнях. Все это было у самого верного последователя и ученика Василия Розанова в русской литературе, Кости Крикунова. Были даже малоприятные розановские черты, нет, не интерес к сексу – это пожалуйста, а странно вывернутый русский патриотизм. Описание всевозможных русских нестроений, нищеты, безалаберности, жестокости, сиротства, пьянства внезапно, очень по-розановски прерывается истеричным (иного слова не подобрать) признанием в любви к этой нищей, несчастной земле, не умеющей ценить свои таланты, своих героев, даже не закапывающей, но вколачивающей в землю свои таланты, своих героев. А то и вовсе Крикунов начинал рассказывать нечто вполне несусветное, но очень розановское:
«По Университетской набережной, занесенной предпасхальным снегом, шел долговязый старик в летних штиблетах. За собой на веревке старик тащил высокую коробку на колесиках. В коробке был проект города-сада, национального парка-музея „Человек и среда”. Когда американцы предложили старику продать на корню этот проект, он потребовал в обмен на сделку остановить поставки американских товаров в Россию.
– Импоссибл, – ответил американец.
Сделка не состоялась.
Я спросил старика: почему он выдвинул такое сумасшедшее условие?
– Я хотел спасти экономику своей Родины, – сказал старик. <…>
– И чем кончилась эта история со спасением России?
– Через пару дней я пошел встречать из университета свою жену. В нашем дворе на Васильевском острове подошли трое. Один из них, и слова не говоря, ударил меня ногой в переносицу.
– Бабка кончилась, сматываемся, – услышал он.
Старик попал в больницу с сотрясением мозга, „скорая” не хотела брать, думала, что пьян. Этот случай он напрямую связывает с отказом продать проект заокеанским друзьям.
– Мой парк будет построен здесь, в России, – говорит старик. – Рано или поздно эта идея будет востребована, потому что нигде в мире ничего подобного нет. И вряд ли кто-нибудь может придумать что-либо в этом роде».
Длинная цитата дана для того, чтобы, во-первых, вы увидели, как работал Крикунов со словом. Он был одним из немногих в современной российской литературе писателей, кто обладал вымирающим ныне даром описания. Описывать не надо, потому что можно дать картинку, фотографию. Вот писатели и разучились писать зримо. А Крикунов был старомоден. Он был репортером старой школы. Минимум слов (в газете места немного) – и вы увидели: зиму на Университетской набережной, странного старика в летних штиблетах и его коробку с городом-садом. Во-вторых, надо было, чтобы стали виднее, очевиднее любимые крикуновские герои. Странные, ни на кого не похожие, выламывающиеся из обычного мира фрики, психи, гении, признанные и непризнанные, герои, таланты и поэты. В-третьих (это надо было бы поставить во-первых), стоило подчеркнуть розановскую, нелепую черту – вывернутый наизнанку патриотизм, позволяющий верить самым нелепым версиям. Господи, да вот прямо-таки в девяностые годы американцы на парашютах к нам сбрасывали хулиганье, избивающее стариков в парадных. Не дал архитектор Пионтек им проект своего города-сада, так вот же ему! Не дал Пионтек, так они у австрийца Хундертвассера подобный проект купят.
Земной шар талантами не оскудеет. Но идеология Крикунова была не очень интересна. Как и идеология его первого учителя, Розанова, она вычерчивалась с некоторым трудом. Оставалась на эмоциональном уровне. На уровне выкрика, рано или поздно прорывающегося из обиженного не за державу, за людей этой державы горла. Важнее другой учитель Крикунова. Учитель неожиданный, но опознаваемый. Осип Мандельштам. Он написал всего-то ничего в прозе: «Египетская марка», «Шум времени», «Путешествие в Армению» и «Четвертую прозу», но книжечки эти, одна другой страннее, оказались томов «премногих тяжелей». Вот и аукнулись в прозе журналиста начала ХХI века. «Дошло до того, что в литературе я люблю нарост, дикое мясо. „И до самой кости ранено все ущелье криком ястреба” – вот что мне надо», – писал Мандельштам. В прозе Крикунова такого «дикого мяса» литературы, такого «крика ястреба» было хоть отбавляй. В «Египетской марке» Мандельштам настойчиво советовал не уничтожать черновиков. Оставлять весь тот писательский хлам, который по законам классической литературы должен уйти в отвал. Почему? Потому что мир души настолько же шире твоего рационального, понятого тобой мира, насколько окружающий тебя мир шире тебя самого. Ты сам не знаешь, что в твоей душе важно, а что нет. Точно так же как ты не можешь знать, что в окружающем тебя мире важно, а что нет. Другой поймет. Или не поймет, но почувствует. Так именно и поступал Крикунов. Для того Крикунов поместил в книгу «Ты» свой детский дневник. Он воочию продемонстрировал, из чего растет литература. Между взрослым, фантастическим, осколочным, сюрреалистическим и детским наивным дневниками расположена собственно сама литература, документальные репортажи. Точная фиксация вещного, реального мира. Затрепано до дыр жеманное высказывание Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда…» Крикунов демонстрировал этот «сор». «Сор» не может не быть интересен, раз интересны сами «цветы». Здесь есть одна особенность Крикунова, о которой он обмолвился в детском своем дневнике. В детстве он занимался прыжками в воду. А что такое прыжки в воду? Это значит: ты должен в воздухе за какие-то секунды падающим своим телом нарисовать некий рисунок, вычертить арабеск, линию, узор. Жизнь тела связана с жизнью души. Стиль писателя рождается из его физического стиля. Писатель Крикунов делал то же самое, что и прыгун в воду. Моментально концентрировался и на небольшом отрезке вычерчивал арабеск, линию. Вы ее можете не заметить. Он войдет в воду, исчезнет, но резкость, быстрота прочерченной им линии останется. Поэтому он так любил диалоги. Поэтому его диалоги были так характерны, быстры. Авторы детективов могли бы им позавидовать.
«Близорукая тихоня, воспитанная на ахматовских „А у нас тишь да гладь, божья благодать, а у нас светлых глаз нет приказу подымать”, осознала себя петербургской Сафо. Но осталась скромницей – бабушкина комната в коммуналке, чистая постель и пишущая машинка – весь ее мир. Девчонка из тех, что прячет лицо в прическе и блестках очков. Оранжевые брюки-клеш и глухая кофта, застегнутая на полсотни пуговиц. – Ты замужем? – Нет. – Ты была замужем? – Да. – Хорошая книжка. – Да? – Выпьешь? – Вина. – Ты и вправду такая стеснительная? – А пошел ты. – Тебя зовут – Даша?
– Нет, – сказала она. – Только идиот может подумать, что Даша Кончаловская – не псевдоним».
Вот он, прыжок в воду – моментальный очерк. Резкое изменение сюжета на протяжении одного абзаца. От «близорукой тихони» через «а пошел ты» – к финальному: «Только идиот может подумать, что Даша Кончаловская – не псевдоним». И один абзац разом вычерчивает весь характер авторессы сборника эротических стихов «Лонное затмение». Вернемся к сродству журналиста и поэта. Этот абзац – короткое, энергичное стихотворение в прозе. Скоростной репортаж с минимумом изобразительных средств оказывается ближе всего именно к стихотворению. Ритм. Крикунов чувствовал ритм и нас, читателей, заставлял этот ритм почувствовать.
Вот тут и стоит перейти к третьему и самому значительному учителю Крикунова. Варлам Шаламов. Неистовый проклинатель всей классической русской литературы. Писатель, провозглашающий смерть любой литературной выдумки. И чем более она, эта выдумка, жизнеподобна, тем более – смерть ей. Только нон-фикшн. Только непосредственно пережитое и переданное с наибольшей точностью и быстротой читателю. Без черновиков. Сразу. На едином дыхании, чтобы читатель почувствовал ритм, а значит, и смысл происшедшего. Шаламов был парадоксалистом. Как так «Долой литературную выдумку!»? А почему же лучшим романом ХХ века Шаламов считал «Процесс» Франца Кафки? А потому что это не выдумка. Это четкая фотография кошмара, живущего в душе человека ХХ века. И кошмар этот оказывается соотносимым с кошмаром внешнего мира. Так и работал прозаик Крикунов. Фотография души была сцеплена с фотографически четким, моментальным снимком вещного, внешнего мира.
А журналист? А как работал журналист Крикунов, расскажут его друзья из этой среды, потому что, по абсолютно верным словам критика Сергея Князева, «Константин Крикунов был мало известен так называемому широкому читателю, но без него питерская журналистика была бы другой и наверняка была бы хуже…» У него не было снобистско-партийного пренебрежения к своим и не-своим. У него не было не-своих. Нет, пожалуй, были. Сволочи, погромщики, выжигающие груди женщин паяльной лампой, чем бы они при этом ни прикрывались – защитой осетинского народа или восстановлением российской государственности, национально-освободительной борьбой или укреплением властной вертикали. Это были не-свои. Все остальные были свои.
Его интервью с Борисом Стругацким, Александром Невзоровым, Виктором Конецким, Юрием Темиркановым, Хаей Хаким, Владимиром Старовым – образцовы. Я видел, как читал его интервью с Невзоровым человек, который работал со скандально известным телеведущим. Человек засмеялся: «Отлично. Абсолютно точно…» Он узнал интонацию, языковое поведение. Он узнал человека не по декларациям, не по словесным формулам, а по тому, для чего и существует искусство литературы; по тому, что словами не скажешь. Костя не укладывался ни на какую полочку. Он ссорился с работодателями и защищал своих сотрудников, как мог. Он был романтик, анархист. Не декларативно, не идейно, а… стихийно, природно. Он любил нарушать правила. В одной из своих газет он вел колонку от имени своей маленькой дочки Лизы, и называлась эта колонка просто: «А пошли вы все…» Пошли – и прошли мимо замечательного прозаика и журналиста Кости Крикунова, умершего накануне Дня космонавтики, объявленного днем национального траура из-за разбившегося неподалеку от Катыни польского самолета с правительственной делегацией.
Игра на победителя
Умер Виктор Топоров. Когда умирает большой человек, его масштаб ощущается по-настоящему. Пока он был жив, на него можно было злиться, можно было обижаться и раздражаться. Когда он умер, стало ясно, что без него будет пусто. Его место злого, остроумного, резкого, нелицеприятного критика останется вакантным. С ним можно, да и нужно было не соглашаться. Он не для того писал, чтобы с ним соглашались. Он писал для того, чтобы соглашающиеся или не соглашающиеся с ним думали.
Недаром он был мастером спорта по шахматам и многолетним участником Чигоринских турниров. Больше шахматистов среди русских литераторов не вспомнить. Только Набоков, который тоже был весьма зол и раздражающ и тоже был весьма не прям, не прост, не разложим на простые множители. Мир шахмат – мир различных фигур с разными правами и повадкой. Многообразных, но постижимых. Любые ходы можно просчитать, если подумать. Судьба этих фигур расчислена, ее можно предугадать, можно построить. Вполне возможно, что Виктор Топоров вот так видел и литературный процесс – и исторически, и сиюминутно.
Шахматы – игра жесткая. На победителя. Именно так и приучился вести себя Топоров. Без сантиментов – на победителя. Отсюда его пристрастность, его необъективность, его умение наносить больные, болезненные удары. Но эта боль была полезна. Он был солью нашей литературы. Не исключу, что он хотел быть ее вождем, ее учителем, руководителем. Отсюда его бескорыстная, заинтересованная возня с литературным молодняком. Пожалуй, только его литературные враги, которых он беспрестанно оскорблял, Житинский и Борис Стругацкий, столь же много и бескорыстно возились с молодыми писателями.
ЛИТО Топорова было известно еще в советскую пору. Тогда он возился с элитой молодняка, с теми, кто может прочесть иноязычный текст, понять и внятно сказать на родном, не повредив, не исковеркав. Он и сам переводил. Переводил здорово то, что было ему соприродно. Его перевод «Баллады Реддингской тюрьмы» Оскара Уайльда – лучший. «Любимых убивают все, но не кричат о том. Трус поцелуем похитрей, смельчак простым ножом». Он был горд и знал себе цену. Во время одной из редких с ним встреч я сказал ему, что мой отец, артист, когда выбирал, какой перевод баллады Уайльда читать с эстрады, выбрал его перевод, ибо он самый яркий, самый… Топоров чуть потянулся и спокойно подтвердил: «Ну так он действительно самый лучший».
Он был очень образован. Старательно маскировал высокую свою культуру грубостью и резкостью, ибо действовал в совершенно определенной традиции. Человек, переведший «Последние дни человечества» Карла Крауса, человек, более всех других немецких поэтов ценивший Готфрида Бенна, не мог не знать силу и плодотворность умной грубости, умной провокативности. Суждения его были полны скрытых цитат, которые было некому раскрыть, мы этого не читали. А если и читали, то мозг не так устроен, чтобы поймать цитату, спрятанную за фамильярностью или грубостью.
Один раз я сам с этим столкнулся. На вечере в кафе у Курицына, где Топоров читал свои переводы из немецких поэтов, я немного порассуждал на тему родства Топорова с Гейне, тоже не стеснявшимся в выражениях. Топоров подарил мне книжку с надписью: «Я – русский поэт, детка». Я обиделся, что еще за «детка»? И при чем тут «русский поэт»? И только спустя много времени до меня дошло: да это же переделанная цитата из «Зимней сказки» Генриха Гейне! «Kind, ich bin ein deutcher Dichter, bekannt im deutschen Land» – «Детка, я – немецкий поэт, известный в немецкой земле». Но чтобы словить эту цитату моментально, требуется плотный культурный слой. Увы, у нас он тонок и поверхностен.
Рискну утверждать, при всей своей подчеркнутой грубости Топоров всю жизнь пытался этот слой расширить, намывал, как сушу в Голландии, отвоевывал по квадратной миле, затыкал неизбежные пробоины в плотинах чем придется. Тем он и занимался в издательстве «Лимбус-пресс». За один только перевод буберовского «Гога и Магога», который Топоров доверил Елене Шварц, он уже заслужил почетное звание «культуртрегер», от которого бы с ироническим фырком отказался. Ибо он не старался нравиться, но неизменно старался увлечь и вовлечь.
История самой эффективной и плодотворной, самой интересной и объективной литературной премии России «Национальный бестселлер», чьим создателем и драйвером был он, тому яркое подтверждение. Со всей своей пристрастностью и необъективностью именно Топорову удалось создать литпремию, действительно отражающую весь литературный процесс России, поверх барьеров. Премированные или входившие в шорт-лист Леонид Юзефович, Александр Проханов, Гаррос и Евдокимов, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Фигль-Мигль могут нравиться или не нравиться, могут вызывать отторжение и неприятие, но они – живое воплощение современной русской литературы, наиболее яркие ее представители. И с этим не поспорит никто.
Как никто не поспорит с тем, что без Виктора Леонидовича Топорова в русской литературе будет пустее. Он заполнил собой какое-то очень важное место. Сергей Чупринин назвал его «постаревшим мальчиком из сказки про голого короля». Эффектно, но не слишком верно. Во-первых, потому, что многие из тех, кого обижал и оскорблял Топоров, «голыми королями» не являются; во-вторых, потому, что главная его сила была не в оскорбительных выкриках, как бы хлестки они ни были. Повторюсь, он – думал. Его всегда было интересно читать. Ты мог раздраженно отложить его колонку, его статью, начать с ним внутренний спор, еще раз пересмотреть его аргументы, выдвинуть свои, потом сообразить, что он тебя вовлек и увлек. Он никогда не был «пропагандистом и агитатором», но был спорщиком и игроком, не выигравшим, не проигравшим, но сыгравшим свою партию по-чемпионски.
Братья-ученые
Мысли на панихиде. В Манеже на панихиде по Борису Стругацкому один из его учеников, Вячеслав Рыбаков, ученый китаист, переводчик Танского кодекса на русский язык, писатель-фантаст, переписывающийся с Борисом Стругацким с третьего класса средней школы, сказал: «Братья Стругацкие – это та ниточка, которая связывала нас с будущим». Потом говорили депутат ЗакСа Борис Вишневский, Нина Катерли, губернатор Полтавченко. Что они говорили, разобрать было трудно, поскольку чья-то умная голова не сообразила, что Манеж не приспособлен для речей, в Манеже все было сделано для того, чтобы цокот копыт и крики форейторов глушись, уходили вверх и там исчезали… Чтобы справиться с этой антиакустикой Манежа достаточно было установить четыре динамика. Не установили.
Однако ж из речей Бориса Вишневского и Георгия Полтавченко что-то донеслось до пришедших проститься с Борисом Стругацким. Это что-то можно сформулировать так: благодаря книгам братьев Стругацких мы все, читавшие их в наши детство, отрочество, юность, стали лучше, чем мы могли бы стать. То, что Борис Вишневский и Георгий Полтавченко оказались в чем-то единомысленны, меня удивило и вернуло к мысли Вячеслава Рыбакова насчет «ниточки, которая нас всех связывала…»
Я подумал: а ведь и правда – Стругацких читали все. И гэбуха, и диссиденты, и слесаря, и ученые. Причем читали не потому, что братья хотели угодить всем. Вовсе нет. Никому братья угодить не хотели. Хеппи-эндов в их романах раз-два и обчелся. Но читали их все, как все слушали песни Высоцкого. На каком-то уровне песни Высоцкого и романы братьев Стругацких решали сходные задачи: осознания того мира, в котором все мы оказались. Это к ним всех и привлекало. Не знаю, как Аркадий, а Борис гордился таким резонансом. Мне повезло. Некоторое время я посещал семинар Бориса Стругацкого. Однажды речь зашла о бестселлерах и настоящей литературе. Я очень хорошо запомнил то, что сказал Борис Стругацкий. «Поставьте эксперимент, – сказал он, – возьмите двух людей. Одного человека, совершенно не искушенного в литературе и в искусстве, и эстета, можно даже сноба, попросите их назвать десять любимых книг. В их списках будут самые разные книги, но обязательно будут книги общие и для эстета, и для человека, в искусстве не искушенного. Так вот эти книги и будут настоящей литературой». Тогда я хмыкнул про себя. В те поры в общие для эстета и для слесаря книги несомненно попадали романы Стругацких. Как сейчас – не знаю. Потом я уже, в очередной раз безуспешно пытаясь понять, что говорит очередной человек, вслух прощающийся с любимым писателем, подумал о другом. Сначала обругал по новой умную голову из Комитета по культуре, не догадавшуюся установить четыре динамика, а после сообразил: ведь это то самое, что ненавидели Стругацкие – болото, неорганизованность, безделье, благодаря которому социализм в нашей стране превращается в казарму с концлагерем, а капитализм – в бардак со стрельбой.
С этим-то они и боролись не токмо что идейно, содержательно, но… сугубо литературно, так сказать, технологически литературно. В русскую литературу больших идей и глубокой психологии, пренебрегающую сюжетом, фабулой и потому – честно говоря – весьма размытую, не структурированную, они умело и плодотворно ввели фабулу, острый сюжет. Ввели четкую, едва ли не военную организованность. Достоевский только декларировал: «Занимательность я ставлю выше художественности», а братьям Стругацким удалось «занимательность» сделать художественной; художественность – занимательной.
Их творчество еще ждет своего исследователя, каковой соединил бы в себе и филолога, и социолога, и историка, ибо братья оказались внутри гигантского социального эксперимента – первой попытки построить счастливое общество без Бога, вне Бога или даже против Бога. Художественными средствами Стругацкие этот эксперимент исследовали. Они были прежде всего исследователями, учеными. Что почти никем не замечалось, ибо ученый – это что-то серьезное, что-то непонятное, а у Стругацких-то что? Боевики? Детективы?
Путь. Путь братьев Стругацких был типичным путем советских интеллигентов, людей, созданных этим обществом. Умных, образованных, совестливых, честных, думающих, сталкивающихся с жестким несоответствием теории и практики. Блокада – первое и самое жестокое столкновение из целого ряда подобных столкновений. В блокаду Аркадий эвакуировался вместе с умирающим отцом, в городе остались мать и Борис, семья навсегда разделилась. Оставшиеся чудом уцелели, отец погиб, Аркадий едва выжил, началась его длинная военная служба, с которой он в Ленинград так и не вернулся. Блокада – крах идеи коммунизма. Получалось, что пролетарий распределяющий уморит безжалостно все, что находится от него в зависимости. Миллион умерших от голода там, где было два миллиона подданных. От голода гибли даже в армии. Пайки-то учитывались, но местами не выдавались, все разворовывалось, съедалось, сбывалось, уходило водой в песок. Что должно было восстановить, разрушенный практикой мир всеобщего равенства? Правильно, гуманизм. Стало быть, гипотетическая победа гуманизма закрывает брешь, пробоину, оставленную вселенской катастрофой – мировой войной, революционной практикой. А где ресурс этой грядущей победы? Да навалом! Люди-то вокруг какие. Победители фашизма. Поэтому так важна первая книга братьев «Страна багровых туч», написанная на спор. Они ругмя ругали современную им советскую фантастику. Жена Аркадия предложила: «Чем ругаться, взяли бы да сами написали… Возьметесь писать, такая же чушь получится». Братья поспорили на бутылку шампанского. И выиграли. Вспомним фабулу. Водитель вездехода из пустыни Гоби, загорелый докрасна инженер Быков, получает назначение водить такую же почти машину по раскаленной Венере в составе межпланетного экипажа. Когда экспедиция стала на планете Венера погибать, геройский парень, ветеран азиатских пустынь, не подкачал. Мысль простая: ребята, нам космос раз плюнуть. Космос нам в награду за то, с чем мы на Земле справляемся. Нам бы свободы немножко и цель благородную, как крестьянину землицы. С этого начали братья Стругацкие. Их тема была гипотетический гуманизм, его исследование. Борис – астроном. Значит, методами астрономическими: наблюдать, записывать и обобщать данные. Аркадий – военный переводчик, японист. Во время подготовки Токийского процесса над военными преступниками работал переводчиком в Казанской тюрьме, где сидели плененные советской армией японские военные. Это уж потом он стал переводить Акутагаву Рюноске, Кобо Абэ и «Сказание о Есихицу». Значит, методами военного перевода с языка противника на родной, всем понятный. Анализ, обобщение, применение полученных данных в предложенных обстоятельствами условиях. Два человека – это очень много. Лаборатория.
Иногда метод поднимался на поверхность. Проникновенные страницы о сотрудничестве прогрессора Абалкина и голована Щекна имеют гриф: отчет написан стилем «лаборант». То есть читатель увлеченно следит за рассказом очень симпатичного человека о захватывающем приключении, но его предупредили: это – отчет и написан он стилем «лаборант». Шла исследовательская работа. Они были физиками-практиками. Есть такое понятие. Они проверяют теоретиков, дают им новые результаты, новые горизонты.
Исследовалось сочетание прогресса и гуманизма, революции и гуманизма. Ставился вопрос: что делать с отсталыми обществами? И что такое вообще отсталое общество? Менялись критерии отсталого общества. В начале пути у братьев Стругацких и сомнений нет в том, что советское общество – общество передовое. Надо бы только эту «передовитость» напитать гуманизмом. В середине пути они печально усмехнулись. Перед ними нарисовался феодализм или азиатский способ производства. К финалу оба подошли в разное время.
На чем споткнулся Алексей Герман? Что этому гению мешало закончить «Арканарскую резню»? Экранизация. Что за кадром не помещается. А Румата-то весь за кадром, его трагедия в том, что реальность, явленная ему, – это научное исследование. Потом придется вымыть руки и идти домой, даже умереть не дадут. Вынут из-под горы трупов, оживят и увезут в санаторий. Отдыхать. Набираться сил.
Они зафиксировали конец эпохи прогрессорства в романах «Волны гасят ветер» и «Жук в муравейнике». Бывший прогрессор Тойво Глумов уходит с иными, другими, люденами, поскольку ему стало не интересно с людьми. Интересный вопрос: когда становится не интересно с людьми, что происходит с гуманизмом? Пробоина блокады снова открылась и закрыть ее пришлось чем-то другим. Прогрессор уступил место исследователю. Воскрес Абалкин и пошел в стиле «лаборант» рассказывать про «Град обреченный», про «Отягощенных злом». Все как есть. Никакой базисной теории, зато здравый смысл, зоркий глаз, телескопы да словари с вражескими газетами. Беспощадный анализ, Киплингова бодрость. Если с бременем цивилизаторов и прогрессоров не сложилось, то законы джунглей не выдадут, в общем, устояли на ногах и после этого удара. Держали любовь и доверие читателей.
Кино и советский опыт. Впрочем, то, чего не понимали или не хотели понимать социологи, историки и филологи, очень хорошо поняли киношники-интеллектуалы, столь же крепко ударенные социальным экспериментом на одной шестой части суши, как и братья Стругацкие. Первым был Алексей Герман. Еще в 1968 году он хотел экранизировать «Трудно быть богом». Именно Алексей Герман, чьи фильмы, выстроившись в ряд – «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» – и есть попытка осмысления советского, и никакого другого опыта.
Симптоматично, что вторым режиссером-интеллектуалом, взявшимся экранизировать братьев Стругацких, был Андрей Тарковский. И не менее симптоматично то, что экранизация «Пикника на обочине» была сделана им после «Зеркала», все той же попытки понять, осмыслить, прочувствовать советский опыт, советскую историю, советский быт. Причем выбран был именно «Пикник на обочине» с его насмерть стреляющей последней сценой, последней, не вошедшей в фильм.
Сын негодяя и предателя, выбранный сталкером в качестве жертвы (ибо кто-то должен умереть, чтобы исполнилось желание и его (сталкера) дочка выздоровела), бежит к сердцу Зоны, не подозревая, что бежит к смерти, и кричит: «Счастье для всех даром! И пусть никто не уйдет обиженным!» Это же лозунг всех революций, невозможный, не осуществимый, но… записанный в первую революционную конституцию мира, в американскую конституцию, ту самую, где черным по белому Томасом Пейном сформулировано право народа на восстание. Екатерина II знала, о чем писала, когда на полях радищевского «Путешествия…» оставила маргиналию: «Бунтовщик хуже Пугачева. Он хвалит Томаса Пейна». В той же конституции тем же Пейном вписано: «Каждый человек имеет право на счастье».
В «Пикнике на обочине» была еще одна советская больная тема. Как ни страшно это сказать, впервые она была цинично сформулирована Сталиным и означала… предательство: «Сын за отца не отвечает». Спустя много лет тема эта была перетолкована, принципиально изменена поэтом Борисом Слуцким в мудрой его балладе «Сын негодяя», финал которой перекликается с финалом «Пикника…»: «Вы решаете судьбу людей? Узнавайте про детей. Спрашивайте, нет ли сыновей у негодяя».
Все это Тарковский элиминировал, убрал, с полного согласия братьев Стругацких. Сказался их опыт гениального соавторства, каковое все построено на притирании друг к другу, на неизбежных в этом случае компромиссах, на ощущении того, что естественно для одного соавтора, а что для другого. Любопытно в этом смысле вспомнить Лема, возмущенного работой над его романом Тарковского и Горенштейна. «Мои герои разговаривают языком передовиц газеты „Правда”», – презрительно и совершенно несправедливо заметил по поводу фильма «Солярис» Станислав Лем. У него было слишком хорошее мнение о передовицах газеты «Правда». Видимо, почти не читал эту газету. Стругацкие предоставили Тарковскому полный карт-бланш. Оставили голые стены, чтобы великий режиссер мог делать все, что он хотел. Более того, когда Тарковский решил снять неостановимый проход бронетехники перед самым въездом в Зону, сцену не из «Пикника на обочине», а из «Попытки к бегству», Аркадий Стругацкий отсоветовал ему это делать: «Убери. Зачем ТЕБЕ вся эта фантастика?»
Стоит заметить, что бессмысленный, жестокий, неостановимый ход лязгающих машин – одна из самых сильных и самых символичных сцен в творчестве братьев. Припомним «Попытку к бегству». На жуткой планете, где царит рабовладельческий строй в самой отвратительной его форме, оказываются два парня из светлого коммунистического будущего и… узник фашистского концлагеря, Саул Репнин, чудом попавший в петлю времени, угодивший в будущее, а оттуда в прошлое, очень, очень похожее на его настоящее. На планете какая-то сверхцивилизация оставила сложные машины. С машинами возятся рабы, согнанные в концлагеря.
Наобум святых давят кнопки, машины или взрываются, или начинают работать, или давят бедолаг, нажавших не ту кнопку, повернувших не тот рычаг, подвернувшихся под гусеницы или колеса. Саул Репнин и два парня из гуманистического, счастливого общества видят ползущую колонну бронетехники, давящей рабов. Два парня стоят в культурном шоке, а Саул ложится за пулемет и принимается расстреливать эту колонну. Символ, надо признать, сильнейший. Притом на все времена. Прогресс движется. Давит людей. Его ход не просчитываем. Нажимаешь на одну кнопку – рванет, на другую – поедет. Если он губит людей, что с ним делать? Пройдет несколько лет, и в «Улитке на склоне» Кандид скажет, показывая на старика Колченога: «Вот, если он окажется под колесами прогресса, я сделаю все, чтобы остановить эти колеса».
В «Попытке к бегству» Саул Репнин почти ничего не говорит. Его действие врезается в память; надвигающаяся на Саула колонна въезжает в память реципиента. Потому что это подлинный, мучительный, многозначный символ хода истории, после которого «оглядываясь, видишь лишь руины». Ход истории может оцениваться по-разному. Во времена «Попытки к бегству» жестокая коллективизация считалась магистральным ходом истории, а вороватый жулик, оказавшийся хозяйственным или еще каким руководителем, – случайностью, обочиной хода исторического развития, тупиком. Потом коллективизация была признана тупиком истории, а властный ворюга и жулик – магистралью истории, прогрессом, который неприятен, конечно, но… что поделаешь…
Однако образ надвигающегося на человека железа и в том и в другом случае остается, как остается и образ Саула Репнина лупящего по этому движущемуся железу из пулемета. Понятно, почему именно Тарковскому именно этот образ из прозы братьев Стругацких захотелось визуализировать. А братья не захотели такой визуализации. Как позднее выяснилось: правильно не захотели.
Если бы Алексей Герман в 1968 году снял «Трудно быть богом», кинематографическая рецепция творчества братьев Стругацких была бы на редкость логична. От «Трудно быть богом» через «Сталкера» («Пикник на обочине») к сокуровским «Дням затмения» («За миллиард лет до конца света»), в которых от повести братьев Стругацких и вовсе ничего не осталось. Только несколько фраз и жуткое ощущение гибели мира, близости конца света. Апокалипсису ведь все равно, сколько ему осталось до того, чтобы войти: миллиард лет или пять минут. Апокалипсис – он ведь всегда готов. Любопытнее всего в киношной рецепции братьев Стругацких то, что самая точная экранизация их повести «Гадкие лебеди» (поначалу изданной в «тамиздате», в Мюнхене, в 1989 году), фильм Константина Лопушанского по сценарию Вячеслава Рыбакова под тем же названием, как раз и вызвала некоторое несогласие Бориса Стругацкого.
Вячеслав Рыбаков вспоминает: Борис Стругацкий, прочитав сценарий ученика, сказал: «Вообще-то мы про другое писали… Но так тоже можно… Почему нет?» Именно так, по всей видимости, братья относились к любым экранизациям своих произведений: от философского «Сталкера» до мюзикла «Чародеи». Когда Федор Бондарчук завершал работу над «Обитаемым островом», Бориса Стругацкого спросили о фильме и писатель спокойно ответил: «Снять хороший боевик сейчас было бы вовсе неплохо».
Реконструктор
Советское искусство было лживо по определению. Но высшим пилотажем виртуозной лжи стал кинематограф. По фильмам классического Голливуда – будь то комедии, мелодрамы, вестерны, нуары или гангстерские картины – можно представить жизнь в Америке. По советским фильмам 30 – 40-х представить советскую жизнь ХХ века невозможно. В начале 1990-х стою я в очереди за картошкой, слышу девичий голос: «А вот как после войны-то хорошо жили… Дружно, весело…» Поворачиваюсь: так и есть – молодая девушка. Откуда ей знать, как жили после войны? Ее и в проекте-то не было. И вспоминаю: фильм недавно по телевизору показывали – «Весна». Вот оттуда-то она и узнала про счастливую советскую жизнь в 40-х годах.
Среди множества режиссеров 60-х годов, пытавшихся снимать киноправду, Алексей Герман был самым яростным и последовательным. «Правда – мой бог», – мог бы он сказать о себе. Его можно назвать Леопольдом фон Ранке кинематографа. Был такой знаменитый прусский историк, сформулировавший главную (по его мнению) задачу истории: wie es eigentlich war, то есть «как было на самом деле». И всё. Этого достаточно. Никакой символики. Единственный символический кадр в фильмах Германа – раскаленный пулемет в «Проверке на дорогах», валящийся в снег и шипящий в нем.
Кадр – отличный. Символ – точный, совпадающий с историей, рассказанной в фильме. Человек, рванувшийся к своим, искупивший вину, действительную или мнимую, и погибший. Раскаленным огнем – и в снег. Но именно этот кадр Герман и не любил. На одной из встреч со зрителями он говорил: «Не люблю я американское кино. У них всё трюки, гэги. Кто больше новых трюков придумает, тот и молодец. Мне американцы сказали: „О, помним! У вас в фильме пулемет в снегу шипит…” Вот и всё, что они увидели…»
Никакой субъективности, столь свойственной художникам: дескать, я так вижу, так помню. Это мой мир, я его создаю. У Германа – подчеркнутая объективность. Не я так помню, а я об этом узнал. Раскопал старые снимки, видеодокументы – и воссоздал. Герман был воссоздатель, реконструктор, борец с подменами. Он восстанавливал исчезнувшее – то, что было заменено в искусстве благостной или ложно-патетической картинкой. По радио из года в год поют псевдонародную песню: «Нынче ночью партизаны дом покинули родной, ждет тебя дорога к партизанам в лес густой» – значит, надо снимать «Проверку на дорогах» – честный фильм про партизан. Он турманом летит на полку и ждет своего часа.
Пошли приключенческие фильмы про войну – вот вам «Двадцать дней без войны». Сталинград, отражающийся в Ташкенте. Жесткий эвакуационный и военный быт. Именно быт, ибо Алексей Герман был поэтом быта. Налюбовались на брутальных красавцев с автоматами – вот вам обожаемый всей страной клоун Никулин в военной форме и без улыбки. Не только потому, что Никулин замечательный драматический артист, но и потому, что он с 1939 года по 1949-й служил в армии. Финская и Великая Отечественная – его войны. Он о них знает кожей. Против клоуна в военной форме ощерился ГлавПУР (Главное политуправление армии и флота). Германа и его выбор защитил Константин Симонов, автор сценария фильма: «Каким быть Жукову, пусть решает ГлавПУР, но каким быть моему герою, военкору, решаю я».
Забыли отвязную уголовщину времен сталинского порядка? Знакомьтесь – «Мой друг Иван Лапшин». И тоже – на полку. Помню реакцию публики после того, как фильм в годы перестройки вышел на экраны. Все журналы наперебой печатали разоблачительные материалы о 30-х, а тут… про милиционеров и бандитов, чего тут было запрещать? Милиционеры-то хорошие, а бандиты такие, что когда Лапшин палит в сдающегося главаря банды, ни у кого из зрителей сомнений не возникает, что он поступает правильно. Свирепое время и хорошие люди, которых угораздило в это время жить. Это главная тема всей трилогии Германа советского его периода – «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин». Свирепость времени, суровость быта цензоров и не устраивали. Люди-то что? Человеческий материал.
Следующий фильм, «Хрусталев, машину!» – антитеза той, прежней трилогии. Реконструкция эпохи доведена до гротесковой точности. Не фильм – археологический раскоп. Но есть там жуткая тема в сравнении с прежними германовскими фильмами. Всех хороших людей перебили, осталось только свирепое время. Невозможно долго экспериментировать с народом и страной – выживет, не выживет. Скорее всего, не выживет.
Правда так и осталась богом Германа. Что такое для нас средневековье? Нечто былинно-сказочное – рыцари, плюмажи, латы, турниры, Айвенго и Квентин Дорвард. Получите «Арканарскую резню» – грязь, жестокость, беспросветное рабство, тупой деспотизм. Напоминание: люди бывают и такие. И любой может стать таким. Слой человечности в человеке очень тонок. Прорвать его не составляет труда. Нарастить после этого прорыва человечность посложнее.
Воссоздание, реконструкция требуют большего времени, чем создание. Фильмы Германа строились, как атомные подлодки, как авианосцы, по десять лет. Зато и результат. Алексею Герману удалось более чем кому-либо другому обновить язык кинематографа. В каких только боевиках я не видел талантливое или бездарное воспроизведение облавы в «Лапшине». Словами не описать эту в высшей степени музыкальную, как по нотам построенную сцену. Герман умер, оставив сделанный фильм «Трудно быть богом». Жесткий, безжалостный, последний.
Прощание
Умер один из самых веселых и добрых писателей Санкт-Петербурга, а может, и всей России. Он пришел в литературу в начале семидесятых годов. Он смог писать так, что, открывая журнал с его повестью или рассказом, весь интеллигентный Ленинград улыбался. Это особое умение – умение вызывать улыбку. Житинский обладал этим умением. Он создавал свой мир, в котором было тепло, уютно, домовито. Поэт и писатель, многим ему обязанный, – Дмитрий Быков в одном из своих стихотворений точно обозначил особенность прозы Александра Житинского: «Там мы выживем, в снежной норе, мы тепла себе сами надышим».
«Сено-солома», «Хеопс и Нефертити», «Лестница», «Потерянный дом, или Разговоры с милордом», «Государь всея сети» и последний роман Житинского «Плывун» были сильны вот этим надышанным в снежной норе теплом. Он умел создавать вокруг себя свой мир. В 90-х он стал издателем и одним из первых стал выискивать в сети талантливых поэтов и писателей. В его издательстве «Геликон Плюс» впервые были напечатаны рассказы Дмитрия Горчева, романы Ксении Букши, стихи Али Кудряшевой. Он верно служил культуре. Ему было плевать на то, что двухтомный роман архитектора Александра Товбина «Приключение сомнамбулы» может быть не замечен. Он знал, что роман этот рано или поздно займет подобающее ему место в русской литературе, и потому опубликовал этот роман.
Когда уходит такой человек, остается чувство сиротства, ощущение покинутого, опустевшего дома. Символично, что последний его роман «Плывун» – во-первых, продолжение его первого романа «Лестница», во-вторых, посвящен странной взаимосвязи поэта и дома. Поэт и дом держат друг друга, пока хватает сил. Настоящий фундамент настоящего дома – поэт. Житинский писал символистские романы, прикидывающиеся юмористическими фантасмагориями. Безупречный литературный вкус, помогавший ему отыскивать талантливых людей, позволял ему соединять в своих текстах бытовую точность, фантастику, ненавязчивые, незаметные символы и мужественную сентиментальность.
Его любили и любят самые разные люди. Захар Прилепин в годы своей омоновской юности хохотал над ироническими повестями Житинского. Дмитрий Быков ставил «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» в один ряд с «Тилем Уленшпигелем», «Анной Карениной», «Исповедью» блаженного Августина. Проза Александра Житинского останется в литературе печальной улыбкой сильного человека.
Классика и история
Speak, Memory
«Память, говори!» Как называются воспоминания Набокова? Нет, не русскоязычный вариант «Другие берега», не американский «Убедительное доказательство» (чего – спрашивается?), но английский, тот же самый, что готовился к печати в Великобритании одновременно с «Убедительным доказательством»?
Speak, memory – вот как назывался этот вариант. Для чего, спрашивается, давать одной и той же книге разные названия? Да, да! Англо-американская версия мемуаров отличается от русской. Там даже фамилии разные. В русской версии кембриджский друг Набокова – Бомстон, в англо-американской – Несбит. И в той и в другой он – египтолог. В жизни он был политиком. Звали его Ричард Остин Батлер. Некоторое время он был министром иностранных дел Великобритании. Последняя должность – премьер-министр, 1963–1964 годы. Партийность – консерватор. Хорошая, ей-же-ей, должность для «египтолога». Но если пошли такие шуточки, такие мистификации в мемуарах, то хорошо бы поближе к ним присмотреться. К заглавию, например, английской версии.
Биографы и комментаторы хором пишут, что название получилось случайно, что издатели и сам Набоков думали, как привлечь к книжке барышень и старых дам – они-то и читают мемуары. А мне почему-то кажется, что в число «барышень и старых дам» должен был входить активно действующий политик, однокашник Набокова по английскому университету, Батлер-Бомстон-Несбит, – как бы он порадовался, обнаружив, что он египтолог.
А почему «египтолог»? А потому, что в 1951 году для Великобритании головной болью был Ближний Восток вообще и Египет в частности. Поэтому человек, занимавшийся политикой вообще и внешней политикой в частности не мог не быть «египтологом». Это только первый слой шутки, есть и другой. Судя по мемуарам, в бытность свою студентом Батлер активно интересовался событиями в Советской России, много беседовал о них с молодым Набоковым. Но что такое для образованного англичанина Советская Россия? Что такое вообще Советская Россия? Разве это не такая же древняя, мрачная, требующая расшифровки структура, как и Египет фараонов? Разве английский джентльмен не так же далек от этой архаики, как и от Древнего Египта? Разве нет зловещей схожести в государственном рабстве всех и каждого в Древнем Египте и в Советской России?
Нет-нет, стоит поглядеть, что это за заглавие такое удивительное в книге, где активно действующий политик, интересующийся СССР, превращается в египтолога. Откуда оно, это заглавие? Оно звучит цитатой. Так оно и есть цитата. Только не оттуда, откуда привыкли выколупывать цитаты комментаторы Набокова. Оно – из фильма. Оно – из лихого шпионского боевика. Впрочем, об этом боевике с уважением говорит герой романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи», мол, этот фильм я ставлю выше «Гамлета» Лоуренса Оливье. Мало кого из современных ему американских писателей Набоков хвалил. Сэлинджера – хвалил. Раз хвалил, значит, читал въедливо и досконально. Так читал, что мог с ходу ответить на вопрос литературной викторины: «Какой любимый фильм Холдена Колфилда и его сестры?»
Правильно! «39 ступеней» Альфреда Хичкока. Мемори, мистер Мемори – так зовут подручного шпионов в этом фильме, он маскируется под артиста, обладающего невероятной памятью. Память у него и в самом деле великолепная, только он не совсем артист. Правда, подстреливают его прямо на сцене. Главный положительный герой нагибается к умирающему подручному шпионов. Его жизнь зависит от того, что сейчас скажет мистер Мемори, мистер Память. С какими словами он обращается к мистеру Мемори? Правильно! Speak, memory! – «Память, говори!»
Лихое название для книжки, в которой (повторюсь) дипломат и политик превращается в египтолога. В 1964 году с предложением о сотрудничестве к автору бестселлера «Лолита» обратился автор фильма «39 ступеней» Хичкок. Сначала был телефонный разговор, потом – письма. Одно письмо Хичкока, одно – Набокова. На этом дело заглохло. Но названьице английской версии набоковских мемуаров все одно торчит занозой. Он так любил шарады, так любил словесные игры. Вслушайтесь: «спик мемори» – это же «шпик мемори». «Шпион Мемори», как и в том давнем фильме Хичкока.
На эту игру слов можно было бы не обращать внимания, если бы не тщательно, яростно скрываемый интерес Набокова к политике. Между тем этот аполитичный либерал не просто интересовался политикой. Он великолепно в ней разбирался. Чего стоит один только анализ русской истории, предложенный им Бомстону-Несбиту-Батлеру: «Русскую историю можно рассматривать <…> как своеобразную эволюцию полиции, странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах – и ныне достигшей такого расцвета…» Это что, не интересующийся политикой человек? Нет, это пишет человек, поразительно умеющий объяснить какие-то политические явления, прикинувшись полным профаном в этой самой области.
Ведь он что объяснил Несбиту-Бомстону-Батлеру? Ваши рассуждения о революции, реформе и прочих интересных вещах к России имеют самое касательное отношение, поскольку вы не учитываете одного очень важного факта: в России к власти пришла тайная полиция. Совершенно неважно, как она называется: жандармерия, ЧК, ГПУ или НКВД… Вот с этого и начинайте все свои рассуждения. Но сказал он это таким лихим образом, что не сразу и сообразишь, насколько он политически подкован.
Переписка. Хичкок собразил. Недаром среди всех режиссеров Набоков выделил именно его. Альфреду Аппелю он говорил, что «с нежностью вспоминает по крайней мере один хичкоковский фильм про кого-то по имени Гарри». Всякий, кто смотрел «Неприятности с Гарри», оценит две вещи: во-первых, «про кого-то по имени Гарри». Фильм все-таки не «про кого-то по имени Гарри», а про то, как несколько человек пытаются то спрятать, то выволочь на свет Божий труп того, кого звали Гарри. Во-вторых, «с нежностью»… Если и есть какая-то мораль в единственной комедии, снятой Хичкоком, то она сводится к тому, что есть такие говнюки, которые даже своей смертью способны причинить максимальное неудобство ближним и дальним. Такое, несомненно, вспоминается «с нежностью».
Может быть, поэтому Набоков, расчувствовавшись, продолжил разговор о Хичкоке так: «О, его черный юмор сродни моему черному юмору, если я не путаюсь в терминах…» Не путался. Набоков никогда не путался в терминах и в чем бы то ни было вообще. Он был всегда изумительно точен. Splitter – вот как его называли в энтомологических кругах, – рассекатель, аналитик, можно и крохобор. Он первым среди энтомологов принялся подсчитывать чешуйки на крыльях бабочек. Ученый, наблюдатель, что тут скажешь.
19 ноября 1964 года Хичкок написал Набокову. Он ссылался на бывший прежде телефонный разговор и предложил Набокову две истории, из которых американский (и русский) писатель мог бы сделать сценарии. Вот первое предложение Хичкока: «Первая идея, о которой я размышляю уже некоторое время, основана на одном вопросе, который, как мне кажется, никогда не рассматривался в кино и, насколько мне известно, в литературе. Это проблема женщины, которая связана, через брак или обручение, с перебежчиком (defector). Думаю, в случае замужней женщины можно практически не сомневаться в том, что она встанет на сторону мужа. Возьмем, например, случай Берджесса и МакЛина, где миссис МакЛин в конце концов последовала за мужем за железный занавес и очевидно, что миссис МакЛин никакими другими обязательствами не была связана. По-настоящему меня интересует вопрос о том, каким будет отношение молодой женщины, возможно, влюбленной или обрученной с ученым, который, возможно, является перебежчиком».
Прервемся: Хичкок поминает двух советских шпионов из знаменитой оксфордской «пятерки», вовремя «оторвавшихся». Хичкок готовит будущий свой триллер «Железный занавес». Видно, как Хичкок старательно тянет здесь свою тему: для любящей женщины ее избранник всегда прав! Что бы ни случилось – он всегда прав. Как бы убедительно ни было построено обвинение, любящая женщина никогда ему не поверит, всегда останется на стороне любимого.
«Киносюжет этого рассказа будет развиваться как путешествие за железный занавес. Драматическим центром будет проблема, перед которой окажется девушка. Как знать, может быть, она перейдет на сторону жениха. Может быть, сделав этот шаг, она совершит ужасную ошибку, потому что ее жених окажется двойным агентом. Вполне вероятно, что человек, выставляющий себя предателем, может быть правительственным агентом. Мы были свидетелями того, как ФБР находилось в неведении о том, что делает ЦРУ, а ЦРУ иногда не в курсе того, что делают на своих разведывательных постах разные высокопоставленные шишки».
Какая история возникает перед Набоковым, в воспоминаниях писавшем о том, как «однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923 году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то пражским холмам»? Какая история возникает перед ним, в начале шестидесятых отказавшимся писать предисловие к стихам все той же Цветаевой, поскольку она – гениальный поэт, значит, много прозорливее обычных людей, значит, не может не знать, чем занимался ее муж, стало быть, она – сообщница преступлений. Он – не Сартр, к книгам преступников, даже и гениальных, он предисловий писать не будет. Хорош аполитичный либерал, хорош адепт искусства для искусства! Тут такая ангажированность слышится, какая и вышеупомянутому Сартру не снилась. Но сейчас речь идет о другом, о том, обертоны какой истории услышал Набоков в хичкоковском наброске.
Той самой, цветаевско-эфроновской… В противном случае разве он ответил бы на это предложение таким контрпредложением, предварив его преамбулой: «Первая (Ваша история. – Н. Е.) поставит передо мной множество проблем потому, что я недостаточно знаком с методами американской секретной полиции, а также с тем, как работают несколько разведывательных агентств, по отдельности или вместе…
1. За девушкой, восходящей звездой не совсем первой величины, ухаживает подающий надежды астронавт. Она слегка снисходит к нему; встречается с ним, но, возможно, одновременно имеет других любовников или любовника. Однажды его посылают в первую экспедицию к далекой звезде; он отправляется и успешно возвращается. Теперь он – самый знаменитый человек в стране, тогда как ее подъем к звездным высотам остановился на весьма среднем уровне. Она только рада теперь, что он с ней, но вскоре осознает, что он уже не такой, каким был до полета. Она не может понять, в чем заключается перемена. Время идет, и она сначала обеспокоена, потом испугана, потом впадает в панику. Для этого сюжета у меня есть более чем одно интересное разрешение».
А у меня – только одно. Оно подразумевается. К девушке прилетает не астронавт, а инопланетянин, принявший облик астронавта. Здесь – ответ на цветаевско-эфроновскую историю для самого себя или для Хичкока, если он (в силу тех или иных причин) имел в виду эту историю. Нет, тут какая-то особая психология, инопланетная, что ли? Здесь не о шпионах и разведчиках надо вести речь, а об инопланетянах; здесь не безмерно любящая женщина, готовая следовать за своим мужем куда угодно, хоть к черту в зубы, хоть за железный занавес – здесь (повторимся) инопланетянка.
Впрочем, в первой хичкоковской истории помимо девушки был еще и герой. В нем Набоков тоже не мог не заметить что-то родное, больное и близкое. «Давайте представим себе, – пишет Хичкок Набокову, – для примера, что сын фон Брауна, такой же талантливый, как отец, работал над секретными проектами. Он стал настоящим американцем, оторвался от родственных корней. И вот вдруг в один прекрасный день он хочет поехать в отпуск к родственникам отца. Для секретных служб это выглядит подозрительно».
Кому это пишет Хичкок? Сыну видного политического деятеля дореволюционной России, оторвавшемуся от родственных корней, ставшему американским писателем, но такому же талантливому, как и отец, правда, в другой сфере. Вот тут и вопрос: в другой ли? Отец занимался политикой, а сын тщательно и умело подчеркивал, что политика ему глубоко отвратительна, неинтересна. Тем не менее даже в романах у него оставлено столько точных политических наблюдений, что делается странно, аполитичные люди так не пишут. Аполитичные люди не заметят между делом, что тьме и тоске советской жизни больше соответствует вечно мрачное выражение лица Косыгина, чем ухарские усы Сталина. Аполитичные люди не откликаются на историю о двойном агенте и влюбленной в него девушке историей о девушке, влюбленной в инопланетянина. Такую шутку-перевертень аполитичный не выдумает.
Но у Хичкока в запасе была еще одна история. Не шпионская. Он почему-то полагал, что Набоков больше заинтересуется шпионской историей. Наверное, у него были для этого основания. Между тем Набоков как раз про нешпионское предложение написал: «Вторая ваша идея для меня полностью приемлема». Вот она: «Юная девушка, которая провела всю жизнь в швейцарском монастыре, потому что у нее никого не было, кроме овдовевшего отца, и некуда было деться, вдруг по окончании колледжа выходит в Божий мир…» – а знаете, эта история недаром приглянулась Набокову. Одно начало чего стоит – для него, разумеется, чего оно стоит. Конечно, конечно, Набоков не девушка и не был никогда девушкой, но до девятнадцати лет рос в обстановке счастливого барского детства, после чего вышагнул в совсем не прекрасный, а очень яростный мир.
«Она приехала бы к отцу, управляющему большого международного отеля. У этого управляющего есть брат-портье, второй брат – кассир, третий – шеф-повар, сестра-горничная и мать, прикованная к постели, которая живет в мансарде. Матери – 80, и в семье царит матриархат». Еще одна любимая хичкоковская тема, доведенная до совершенства в «Психо», – властная мать, которой покорствует безвольный сын. Но Набоков на это, наверное, особого внимания не обратил. Его другое должно было заинтриговать, а может, и обидеть: «Вся эта семейка – шайка разбойников, которая использует отель как базу для своих злодеяний. И вот сюда-то попадает невинное создание девятнадцати лет».
Теперь еще раз прикинем: кому написано это письмо? Человеку, которого до девятнадцати лет воспитывали в определенных, едва ли не тепличных условиях, после чего человек этот оказался в иных условиях, в условиях большой социальной катастрофы. Каково было ему чувствовать и понимать, что социальную катастрофу готовил и его отец, один из лидеров радикальной кадетской партии, один из тех, кто добился у Николая II отречения? Шульгин вспоминает, что ручку, которой Николай подписывал отречение, взял себе Набоков-старший. На память.
На книге, подаренной Милюкову, Владимир Дмитриевич Набоков оставил надпись: «Революции – экзамен на зрелость народа. Провалимся – переэкзаменовки не будет». Провалились. То, что Набоков постоянно думал об этом провале, искал для него объяснения – ведь он остался верен политической и идеологической программе отца, – доказывает одна только фраза из жизнеописания Чернышевского, встроенного в роман «Дар»: «Весь пыл, мощь воли и мысли, отпущенные ему, все то, что должно было грянуть в час народного восстания, грянуть и хоть краткое время зажать в себе верховную власть <…> рвануть узду и, может быть, обагрить кровью губу России, – все это нашло болезненный исход в его переписке».
В этой фразе слышнее всего обида на нелепость, неправильность жизни: тот, кому предназначено было быть политиком, и крупным политиком, – вытеснен в беллетристику, где он, конечно, наломал дров… А мог бы столько добра принести родной земле и миру. Кажется, что обида эта автобиографична, лична, не к одному Чернышевскому относится, не к своему отцу, но… и к себе тоже. Может, о поэтической карьере Набоков и мечтал, но только не о беллетристической. Он для другого был предназначен. Человек, написавший стихи на смерть депутатов Учредительного собрания Шингарева и Кокошкина, нимало не изменил своим убеждениям и не изменился, когда написал «Под знаком незаконнорожденных». Никто лучше Набокова не обозначил разницу между свободой и отсутствием свободы. Никто лучше Набокова не описал будущего штурмовика, при том что все внешние признаки «из другой оперы» – очки, растяпистость, испуганность. Однако очкастый растяпа Франц из «Короля. Дамы. Валета» – будущий штурмовик, со всей его неприспособленностью к жизни, со всей его ненавистью и завистью к удачливым, богатым, веселым. Набоков для непонятливых американцев пояснил это в предисловии к американскому изданию своего романа. Оруэлл в 1945 году увидел пленного эсэсовца и с удивлением зафиксировал: «Очки, худоба, затравленный взгляд. Я немало видел таких среди безработных интеллигентов Парижа и Лондона. Этот парень нуждался в лечении, а не в наказании». Всякий, кто читал набоковского «Короля…», узнает в оруэлловском описании эсэсовца Франца, племянника Драйера, любовника Марты. Разве возможны подобные попадания в будущее у писателя, которому неважно, что писать и какие лекции студентам читать? У эротомана, которого интересуют только нимфетки, бабочки и слова?
Разве может человек, совсем не интересующийся политикой, опять-таки походя, à propos, дать издевательски точное определение сталинского национал-большевизма: «Советский Союз Русского Народа»? Вся идеология вколочена в четыре слова. Аполитичные эстеты так не шутят.
Набоков недаром ненавидел Фрейда. Набоков недаром с умелой и умной силой шуганул от своего творчества всех психоаналитиков. Набоков придумал великолепный ход, подсказанный «венским шарлатаном». Значит, вы утверждаете, что человека не интересует ничего, кроме секса? Что единственная побудительная сила творчества – подавленные сексуальные желания? Спасибо! Я выволоку на первый план секс – полюбуйтесь, какой я эротоман! Люблю, знаете ли, гимназисточек… И рявкну для острастки, чтоб не лезли в душу, потому что к гимназисткам я, конечно, отношусь хорошо – это понятно, но больше всего мне нравится политика.
Вернемся к переписке. Значит, вторая идея Хичкока Набокову понравилась. Посмотрим, как он на нее ответил. На первый взгляд – никак. На самом деле Набоков ответил и на первое, и на второе предложение Хичкока. Симметрично ответил. Первая история Хичкока – «про шпиона». Нет-нет, отвечает ему Набоков, это совсем не про шпиона, это про инопланетянина, а вот вторая ваша история – она как раз «про шпиона», про «перебежчика». Неужели не замечаете?
«2. Я хоть и невежда в области американской разведки, но зато собрал немало сведений о работе советской. Я уже некоторое время думаю написать рассказ о перебежчике из-за Железного занавеса в Соединенные Штаты. Постоянная опасность, которой он подвергается, постоянная необходимость прятаться и опасаться агентов родины, стремящихся украсть или убить его. Я бы сделал так, чтобы этот человек познакомился с доброжелательной американской четой, которая предложила бы ему пожить в безопасности на их ранчо на Западе. Но окажется, что они принадлежат к неким просоветским организациям и сдадут его тем, кто за ним охотится. Я придумал несколько чудесных сцен на ранчо и очень трагический конец».
Хичкок от этого варианта отказался. Может, почувствовал, что драматургия Набокова, его сюжет перекроют фильм? Хичкок ведь привык работать со средней литературой. А может, ему не понравился трагический финал? Полная безысходность? Ложное представление о всесилии советской разведки? Мол, до чего же мы дойдем, если будем снимать фильмы про то, что и на ранчо на Западе у нас обретаются советские шпионы? Было что-то в придуманном Набоковым сюжете уж очень зловещее, уж очень… профессиональное.
Агентом какой разведки был Набоков? И почему, спрашивается, Сирин? Зловещая птица, птица беды. Она предупреждает о беде, только ее никто не слушает. Сирена, которую не слышат… Вообще, при невероятном количестве материалов как мало о нем известно… Все, что известно, можно уложить в несколько предложений, и больше не выжмешь ничего из его жизни. Это будут хорошие предложения, потому что это то, что он сам хотел, чтобы о нем знали. Жил долго и счастливо, на собственные, нелегким трудом заработанные деньги. Умер в достатке, окруженный всеобщим уважением.
Все-таки агентом какой разведки он был? Наверное, Интеллидженс Сервис. А что? Они так и назвались: интеллигентный сервис, то есть, тьфу, – интеллектуальные услуги. Вербовать к себе на службу писателей – славная их традиция. Один Соммерсет Моэм чего стоит… Неужели на сына бывшего министра Временного правительства не обратили никакого, ну совершенно никакого внимания? То-то приятелем его в Кембридже оказался будущий дипломат и политик, которого Набоков с умелым своим подмигом превратил в египтолога – конфетка для тех, кто понимает!
Было в Набокове нечто, особо привлекающее контрразведчиков. Он умел играть. Чего стоит одна только как по нотам разыгранная аполитичность… И то сказать, из таких, как он, готовили будущую политическую элиту демократической, либеральной России, а получился… романист. Весь пыл, отпущенный на решение социальных, политических проблем, ушел в шахматные и литературные задачки – обидно. Тебя готовят в Высшую лигу, а ты вынужден довольствоваться дворовой командой. Нет, лучше я во всеуслышанье заявлю: да я вообще терпеть не могу футбола. С детства.
А умудриться, живя в Германии, убедить всех и каждого, что толком не знает немецкого языка, не читает немецкой литературы! Каким чудом ему удалось, не зная немецкого языка, перевести неологизм, придуманный Томасом Манном в книжке, не переведенной тогда на английский язык? (На русском «Рассуждения аполитичного» не изданы до сих пор…) Brokatprose – так назвал прозу д’Аннунцио Манн-младший. «Парчовая проза», с вашего позволения. Загляните в «Другие берега» и удивитесь: «Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит».
Вот так он играл. Если и ошибался, то случайно, ненароком. Ошибки и не заметишь, если не будешь вглядываться. Но умение играть, грубо говоря, притворяться, мистифицировать, соединялось у Набокова с недюжинным аналитическим даром. Как всякий настоящий ученый, он умел, но не любил обобщать. Его интерес к детали, к частности, к тому, что отличает одну вещь от другой, а не делает их похожими друг на друга, – незаменимое качество для того, кто должен написать точную аналитическую заметку.
И ради чего он сидел в Германии с женой-еврейкой до 1938 года? Не мог выехать? Нет, когда стало ясно, что нельзя не выехать, иначе погубишь семью – выехал. Чего ради общался с черносотенной частью эмиграции? Общался, и очень близко… Первый написанный по-английски рассказ «Помощник режиссера» написан о певице Плевицкой и ее муже – генерале Скоблине. Написан со знанием дела, с погружением, что называется, в материал. И вновь в этом рассказе ощутима обида – главным образом обида. Словно бы невыговоренное, несказанное: ну что же вы, ребята? Ведь легче легкого было понять, что все эти черносотенные патриоты давно уже закуплены ГПУ на корню. Куда ж вы смотрели? Почему единственный свой рассказ о шпионах Набоков назвал единственным, основанным на реальных фактах? В заметках к своему сборнику Nabokov’s Dozen он именно так и пишет: «На подлинных фактах основан только «Помощник режиссера». Для чего он подчеркивал реальную основу своего пародийного, похожего на издевательский пересказ шпионского фильма, рассказа? Только ли для того, чтобы доказать пошлым реалистам: жизнь гораздо больше похожа на нелепые сновидные фильмы, чем вы от нее ожидаете?
Чего ради в Праге он встречался с советским писателем, чекистом Тарасовым-Родионовым, автором романа «Шоколад»? Оно конечно, за сыном одного из лидеров кадетов, следили и с нашей стороны пристально. Удостоиться эпиграммы Демьяна Бедного в «Правде» – это значит «быть в списке». Демьян Бедный так написал по поводу одного ностальгического стихотворения Набокова: «Что ж, вы вольны в Берлине фантазирен, но чтоб разжать советские тиски, вам и тебе, поэтик бедный, Сирин, придется ждать до гробовой доски». Так что понятно, почему Тарасов-Родионов встречался с Набоковым, но зачем Набоков с ним встречался? Значит, были резоны.
Но – самое главное, самое мелкое, прячущееся в деталях – почему для американцев Набоков нечто «убедительно доказывает», русским рассказывает про «другие берега», а в Англии восклицает, словно гипнотизер какой: «Память, говори!» А ведь если верно мое предположение, то это одна из самых замечательных шуток разведчика в отставке, по совместительству опытного беллетриста. Бывший начальник или бывший сослуживец берет в руки книжку воспоминаний: ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там такое написал наш славный Nabokoff. Какое-то название странное, что-то оно мне напоминает…
И тут же неприятное предчувствие кольнет его, поскольку вспомнится давний шпионский боевик и агент по прозвищу Мемори. Батюшки светы, неужто разболтал? Вцепится в книжку и прочитает всю до дыр, до финала. И сразу полегчает – фууух. Он все про своих гувернеров и гувернанток пишет. Ну и напугал же он меня… Впрочем, он всегда был шутником, этот Nabokoff… И каково же было шутнику Nabokoff’у спустя много лет после своей шутки получить дельное предложение от того, кто ему ее подсказал: «А не напишете ли Вы для меня сценарий шпионского фильма, драматического, психологического, с этим, как его бишь, саспенсом?»
«Емеля, Емеля!..», или Стрельников / Сокольников
Емеля, Емеля! – думал я с досадою, – зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать.
А. С. Пушкин. Капитанская дочкаВ нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, упал и, уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.
Б. Л. Пастернак. Доктор ЖивагоЗагадка восприятия. Мне никого так не было жалко в этом странном романе, как Стрельникова-Расстрельникова-Антипова. Доктор Живаго (Юрий Андреевич) – какой-то важничающий резонер, действительно «лубочный доктор с мистическими позывами», Лара Гишар – какая-то истеричка под Манон Леско с философией, в самом деле – «чаровница из Чарской», а вот Стрельников со всем своим патетическим ррреволюционным антуражем вызывает сочувствие. Не исключено, что это сочувствие к революционеру, большевику, расстрельщику и позволило Набокову с удивлением написать Струве о том, что ведь никто не замечает «большевизанства» прославленного романа, хотя это «большевизанство» бросается в глаза непредубежденному читателю. Между тем роман должен был бы восприниматься (и в особенности Набоковым) как последний расчет со всем и всяческим революционаризмом. Сказано ведь над гробом Юрия Живаго Ларой Гишар: «Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части». Сказано не только мертвому доктору, но и читателю, естественно, и, что не менее естественно, – самоубившемуся мужу, который как раз и занимался большую часть своей жизни «мелкими дрязгами вроде перекройки земного шара». Нне убеждает. Даже Набокова, который тоже «мелкие мировые дрязги» старался элиминировать, не убеждает. Мертвая риторика. То есть со словами-то Антиповой-Гишар автор «Дара», пожалуй бы, и согласился, но уж больно обстановочка для произнесения этих слов выбрана неподходящая. Над гробом как-то не принято вспоминать «прелесть обнажения». Над гробом не вопят: «О я не могу! И Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое».
Стрельников не менее риторичен и патетичен, но его патетика, его риторика… человечнее. «..Мы жизнь приняли как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они». Логика, разумеется, тоже «из нашего арсенала». Мне в этом случае представляется такой диалог:
«Позвольте, да вы же мне все зубы вышибли?» – «Так ведь из любви же! И как я страдал, покуда ваши зубы выхлестывал! Вы просто представить себе не можете, как я страдал!»
Но эмоция убеждает, поскольку накануне самоубийства обложенный, как волк, сильный человек спешит оправдаться, спешит объяснить свою жизнь – и это не может не вызвать сочувствие, едва ли не уважение. В конце концов, революционер, который остается верен себе, который и пулю в себя пускает, чтобы не измениться, чтобы не изменить и чтобы не позволить другим изменить себя, человечнее поэта, в начале социального катаклизма с восторгом проповедующего: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости… В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого», – а в самом разгаре «хирургической операции» растолковывающего своему приятелю, вернувшемуся из ссылки: «Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама себя объезжала в манеже». Какая ж «хирургия» без репрессалий! Это уже не хирургия, а гомеопатия.
«Великолепный хирург», Стрельников подобных противоречий в себе не потерпит, может быть, поэтому его самоубийство кажется выходом, а не тупиком. Все читающие и читавшие роман знали и знают, что ожидало таких, как Стрельников: арест, допросы, процесс, расстрел. Самое главное – его ожидала даже не смерть, а перемалывание, переламывание перед смертью. Вот этого он избег своим самоубийством.
Сплетня и наука. Литературоведение делится на сплетническое и точное. Сплетническое разыскивает прототипы и хищно уточняет, кто кого и с кем. Точное считает икты, изредка обнаруживает архетипы. Сплетническое старается писать красиво, точное старается выражаться научно. Сплетническое подчеркнуто субъективно и нагло, точное по-научному скромно и старательно объективно. Такое деление повторяет (карикатуря) риккертовское деление на науки «объясняющие» и «понимающие». Сплетня – «понимает» (во всяком случае, задача сплетни – в понимании, верном или неверном). Точность – «объясняет» (во всяком случае, задача точности – в скрупулезном объяснении). Точность и «объяснение» – вне эмоций, вне вкусовщины. Зато сплетня и «понимание» распахнуты настежь как вкусовщине («понравилось» – «не понравилось»), так и эмоции («прошибло, знаете ли, слезу, а вот тут, в этом месте романа, понимаете, остался равнодушным»). Мне следовало давно предупредить: вы вступили в область сплетнического литературоведения.
Поиски прототипа. Симурден и Пугачев. Трудно понять, почему столь литературный, столь из-книжек-сделанный-герой внушает читателю такую симпатию. Едва лишь он появляется перед Юрием Живаго во всей своей революционной красе в штабном вагоне на Урале, едва лишь потрясенный доктор, которого Стрельников чуть было не расстрелял под горячую-то руку, во всяком случае обошелся… мм… неласково, про себя воскликнул: «Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств, не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились? Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли», едва лишь по изложении революционной карьеры Стрельникова Пастернак завершает главу энергичным, ритмическим: «Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила», как читающий сразу определяет: ну да! Старый знакомый! Гражданин Симурден из «Девяносто третьего года» Гюго и еще ближе, еще современнее – несчастный, обреченный гибели фанатик – Эварист Гамлен из «Боги жаждут» Анатоля Франса.
«Доктор Живаго» встраивается в традицию романов о революции. Не советских романов о революции, здесь-то как раз – полемика явная и подчеркнутая («Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается», – любопытно, что Лара Гишар говорит это еще в 1918 году, то есть еще до того, как «плохие книжки» о «разделенности на два несоприкасающихся лагеря» во времена Гражданской войны были написаны) – а, если можно так выразиться, либеральных романов о революции. В этом ряду и «Девяносто третий год», и «Боги жаждут» – самые сюжето– и темообразующие. Был, впрочем, еще один роман о социальном катаклизме, о слегка подзадержавшейся во времени и в пространстве сатурналии, который был столь же важен для Пастернака, как и западные, в слове воплощенные революции. «Капитанская дочка» – уральская повесть, как и «Доктор Живаго» – по большей части – уральский роман. В самом деле, вот в «Капитанской дочке» – никакой разделенности на два лагеря. Здесь взаимопересечения людей «во дни мытарств, во времена немыслимого быта» изображаются едва ли не с удовольствием, во всяком случае, не без юмора: «..Я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: “Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас Бог милует?” Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. “Здравствуй, Максимыч, – сказал я ему. – Давно ли из Белогорской?”»
Понятно, что такого рода юмор не близок Пастернаку (как, впрочем, и любого другого рода – юмор), но сама ситуация благодетеля из вражеского стана – не просто близка. Она – сюжетообразующа. Поначалу может показаться, что «Пугачев» «Доктора Живаго» – таинственный Евграф Живаго, выручающий двоюродного брата из всех мыслимых и немыслимых передряг благодаря таким же мыслимым и немыслимым связям в верхах новой революционной власти, но по размышленье зрелом придется отказаться от этого уподобления. Евграф – слишком таинственен, слишком могущественен, слишком далек от главного героя, слишком он deus ex machina, чтобы быть «Пугачевым». На Екатерину II – тянет, на Пугачева – нет. Пугачев – это тот, с кем складываются человеческие отношения, несмотря ни на что, несмотря на то что и расстрелять тебя может, а все равно сидишь и разговариваешь с ним по душам, и жалеешь его, и даже помочь ему хочешь, да где уж там, остается только вздыхать: «Емеля, Емеля!»
Такой герой в романе есть – это Стрельников-Расстрельников-Антипов, муж Лары Гишар, любовницы и любимой Живаго.
Просто сплетня. В воспоминаниях жены видного партийного деятеля Григория Яковлевича Сокольникова (Бриллианта), в годы Гражданской войны – командарма-8, прославившегося подавлением ижевско-воткинского солдатского восстания на Урале; в годы нэпа – наркомфина, смогшего провести весьма удачную денежную реформу; партийного оппозиционера в канун «великого перелома», совершившего отчаянную попытку соединить бухаринский «правый уклон» и троцкисткую «левую оппозицию»; обвиняемого на процессе 1937 года – да, так вот в воспоминаниях его жены, Галины Серебряковой, упоминается фамилия того человека, у которого Галина Иосифовна жила после ареста мужа и до своего ареста. Благодетеля звали Антипов.
Поиски прототипа. Маяковский. Тем не менее книжный, литературный Стрельников-Антипов кажется настолько живым, что именно ему подыскивают прототип. Интуиция не обманывает ни точных, ни сплетнических литературоведов – какая-то аура подлинности, мучительной подлинности окружает Стрельникова. Эта аура настолько убедительна, что Л. Долгополов, например, в своей статье «Владимир Маяковский и Юрий Живаго» (Russian studies. 1996, т. II, № 1) пишет следующее: «Едва намечена в воспоминаниях Пастернака проблема двойничества, которая как раз в романе “Доктор Живаго” получит наглядное выражение и которая также будет непосредственно связана с Маяковским (Живаго – Стрельников, Стрельников – Маяковский как варианты одной общей проблемы)». Если учесть, что в этой же статье процитировано такое утверждение Пастернака: «Этот герой (Юрий Живаго. – Н. Е.) должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским», то получается, что Стрельников едва ли не двойник Пастернака по «маяковской» линии. Это не так – Пастернак настаивает на «инаковости» Стрельникова по отношению к Живаго и вообще к любому поэту. Потому-то Живаго и не замечает Стрельникова (Антипова), что они – разные, из разных миров, пересекшихся только во время революции и Гражданской войны. Маяковского Живаго бы заметил, как заметил Маяковского и Пастернак, поскольку Маяковский был поэт, и прежде всего – поэт, то есть человек из мира Пастернака и Живаго. Настолько из этого мира, что Пастернак спешит сообщить об общности Живаго с ним, с Блоком, с Есениным и с самим собой, со всеми поэтами, так или иначе принявшими большевистскую революцию. А Стрельников – сама революция. Какое ж тут «двойничество»? Все равно что «двойничество» Гринева и Пугачева. Здесь не «двойничество», здесь – диалог со всхлипом!
Самое интересное, что Л. Долгополов и сам понял некоторую неправоту уподобления Стрельникова Маяковскому. Вот что он пишет после цитаты из письма Пастернака М. П. Громову про Живаго как среднее поэтическое Пастернака-Блока-Есенина-Маяковского: «Не поверили Пастернаку ни критики, ни историки литературы. Все они в один голос, от публициста Бориса Парамонова и до авторитетного ученого Витторио Страда, увидели Маяковского не в образе Юрия Андреевича, а в образе Антипова-Стрельникова, мужа Лары, Ларисы Федоровны». Вообще-то и Л. Долгополов не поверил Пастернаку, поскольку принялся рассуждать о том, что-де в образе Стрельникова Пастернак «запечатлел не художественную, а чисто человеческую («поведенческую», социально значимую) сущность Маяковского». Я один поверил создателю Живаго и Стрельникова.
Почему Маяковский? Да ведь понятно почему… Самоубийство. Самоубийство одаренного человека, близкого к революции; самоубийство человека, делавшего революцию и связанного сложными нитями с поэтом. Маяковский! Кому и быть! Между тем как раз самоубийство Стрельникова – антиподно, наоборотно самоубийству Маяковского. В описании самоубийства Стрельникова – преобразованный вздох сожаления, вроде вздоха сожаления Гринева: «Емеля, Емеля! Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь?» Ясно же, чем окончилась бы жизнь Стрельникова, если бы не его самоубийство. Его ошельмовали бы на процессе свои же, революционеры. Не таинственное романтическое самоубийство с каплями крови на снегу, как смерзшимися ягодами рябины, а позорный процесс и смерть в застенке. «Эх, Гриша, Гриша!»
Стрельников / Сокольников. Он учился с Пастернаком в одной гимназии, в пятой московской. Пастернак был младше Гриши Бриллианта, взявшего революционный псевдоним – Сокольников, и интересовался совсем другими вещами – музыкой, живописью, философией, поэзией, но шапочно приятельствовал. По крайней мере, вдове Сокольникова, Галине Серебряковой, приехавшей поговорить о романе (Галине Иосифовне, как и почти всем советским людям, роман не понравился), Пастернак сказал, что знал Григория Яковлевича задолго до их – Г. И. и Г. Я. – встреч в 20-х – 30-х годах. Во время Гражданской войны Григорий Сокольников был единственным командармом без комиссара. На что ему, партийцу с 1905 года, человек от партии? (Стоит вспомнить особое доверие, которым пользовался у большевиков Стрельников.) В 1918 году Сокольников сражался на Урале – как раз там, где воевал Стрельников. Более того, чтобы оставить знак о своем – приятеле? друге? (во всяком случае, человеке, в которого вглядывался с жадным интересом) – помимо созвучия фамилий (Стрельников – Сокольников) Пастернак пишет: «В его (стрельниковский) формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках перешедших на сторону белогвардейцев». Сокольников руководил подавлением солдатского восстания в городах Ижевске и Воткинске. Восстали полки с очень революционными названиями. В том числе и имени Пугачева. Восстали и в полном составе, с красными знаменами перешли на сторону белых. Впрочем, Пастернак оставляет и еще одну примету Сокольникова в Стрельникове: особая подтянутость, не щеголеватость, а… образцовость, что ли? «Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и все на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть, грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть, мятая, но производившая впечатление глаженой, полотняной». Именно так описывали Сокольникова друзья и враги – от жены, упомянувшей аж об «арийской внешности» своего мужа, до автора статьи в «Известиях» о процессе 1937 года: «Сокольников – лощеный холуй англо-германского империализма». Не какой-нибудь – лощеный!
Галина Серебрякова вспоминала, что в 20 – 30-е годы Сокольников и Пастернак встречались довольно часто; в дневниковой записи друга Пастернака Якова Черняка коротко говорится о вечеринке 1927 года дома у Сокольникова, где наркомфин и поэт беседовали о перспективах «нашей и китайской революции». Тогда Пастернака, как видно, интересовали «мелкие мировые дрязги». Потом стали интересовать только люди, интересующиеся этими самыми «мелкими и мировыми».
По-видимому, он хотел спасти от забвения своего – друга? приятеля? (см. выше) – который, как муха в янтарь, влип в его текст.
Сокольников, наверное, и не догадывался, как его «зашифрует» гимназический приятель. Пастернак отбросил все самое важное для анкеты, для точной науки – национальность (Сокольников – еврей; Стрельников – русский) и социальность (Сокольников из достаточной интеллигентной медицинской семьи; Стрельников – бедняк, пролетарий), оставил самое незначащее – созвучие фамилий и характеров, ну и собственное сочувствие.
Они не внемлют, не видят, не слушают меня…
Дата. По поводу этой даты должны порезвиться досужие остряки. Еще бы! День Дураков! День веселых обманов! И угораздило же в этот день родиться великому сатирику. Нет, Гоголю не слишком повезло с датой рождения. Совпадения – логика фортуны. 1 апреля – не только смешная дата. Это – печальная, страшная, позорная дата европейской истории. Первого апреля 1933 года нацисты провели в Германии бойкот еврейских магазинов и учреждений.
Такую развлекуху они придумали народным массам на день смеха. Побить стекла в магазинах у жидов и выпроваживать вон глупых или «ожидовленных» арийцев, буде они рискнут обратиться к еврейскому врачу или адвокату. Это был первый набросок, проба пера для погромов ноября 1938 года.
Можно было бы и не вспоминать про это, если бы Гоголь не был первым русским писателем, юмористически, с шутками и прибаутками описавшим еврейский погром. «Тарас Бульба» – знаменитое это ксенофобское, протофашистское произведение, кажется, до сих пор проходят в школах России. «“В Днепр их, панове! Всех потопить поганцев!” – эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе».
Вообще хилый, часто простужающийся, мающийся животом писатель в «Тарасе Бульбе» дал волю своему здоровому воображению и сублимировал все, что только мог сублимировать: «Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. <…> Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу – словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует; что между запорожцами и правительством стоит согласие; что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.
„Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, – сказал кошевой, – чтобы он ничего не боялся. Это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки“.
И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение».
В общем, национально-освободительная борьба во всем ее великолепии. Причем следует учесть, что борьба эта ведется козаками с теми, в чьих городах их сыновья получают среднее и высшее образование. Андрий и Остап приезжают на каникулы домой на хутор, а папа их – в бой! Жечь город, где они учились латыни и математике.
Человек. Он был страшен. Василий Васильевич Розанов, из всех писателей России, ближе всего стоящий к ненавистному ему Гоголю, это хорошо понимал: «Никогда более страшного человека <…> подобия человеческого <…> не приходило на нашу землю». Он был нелеп. Фантастичен. «Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся» (С. Т. Аксаков. «История моего знакомства с Гоголем»).
Уже будучи известным писателем, добивался кафедры в Университете. С помощью воспитателя цесаревича, Василия Андреевича Жуковского, был принят на работу в Университет, прочел несколько лекций и завершил благородный труд по воспитанию российского юношества. На экзамены пришел с перевязанной щекой, дескать, зуб болит, не могу говорить. Слушал отвечающих, кивал и соглашался с отметками, которые ставили его студентам его подчиненные. Он забивался от жизни в самый дальний угол. Он умудрился жить в 1848–1849 годах в Европе и не заметить всеевропейской революции. На улицах возводились баррикады, а он описывал приключения Чичикова в провинциальной России.
Он готов был затянуть себя в кокон с головы до ног. Защититься панцирем, париком, чем угодно. «Кстати, вещи, о которых я просил тебя, ты теперь можешь прислать через Pave, он мне их привезет в самый Рим. Помоги ему, если можешь, выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волосы – на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ними вдохновению испаряться быстрее. Тупеет мое вдохновение, голова часто покрыта тяжелым облаком, который я должен беспрестанно стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать. Есть парики нового изобретения, которые приходятся на всякую голову, деланные не с железными пружинами, а с гумиалистическими» (Из письма к Данилевскому).
Все тот же Розанов обзывал его идиотом. Не без оснований. Достаточно прочесть его задушевные «Выбранные места из переписки с друзьями», чтобы понять некоторую правоту Василия Васильевича. «Мужика не бей. Дать по рылу мужику дело не хитрое, но сумей пронять его словом». Он был на удивление пластичен. Словно перчаточная кукла, он надевался на любую руку. С украинским другом Максимовичем он был украинофилом. С Василием Жуковским – православным мистиком и российским патриотом.
Такая же пластичность поражает и в критических о нем суждениях. Он умудрился стать основателем реализма в России для Белинского и Чернышевского и тайновидцем для Мережковского. О нем писали как о безжалостном сатирике и чуть ли не адепте чистого, словесного искусства. Разброс критических суждений вынуждает вспомнить афоризм Честертона: «Когда об одном и том же человеке одни говорят, что он слишком высок, а другие – что слишком низок, это значит, что он нормального роста».
Когда один и тот же писатель воспринимается как мистик и реалист, как просветитель и обскурант, как зоркий наблюдатель окружающей действительности и погруженный в свой мир аутист, то это значит, что он – писатель. Писатель как таковой, par excellence, по существу, по самой своей природе. То есть полное, абсолютное, беспримесное чудовище. Может быть, поэтому он как никто до него и после него умел начать за упокой, а кончить за здравие. Написать огромный том издевательской, злой сатиры, с тем чтобы в финале выпустить «птицу-тройку» – до этого никто не додумывался.
В апреле 1917 года Томас Манн так описывал свое впечатление от этого «нехитрого, кажись, снаряда»: «До 1917 года, до того, как в России утвердилась демократическая республика, повсюду считалось, что Россия – страна, для которой в особенности потребна политико-социальная самокритика; и впрямь, кто измерит бездны горечи и мрака, из которых вырос комизм „Мертвых душ”! Но странно <…> национальная причастность великого критического писателя проявляется не целиком и не полностью в виде комизма отчаяния и безжалостной сатиры; по меньшей мере два или три раза она проявляет себя, как нечто позитивное, интимное, как любовь; да, религиозная любовь к матушке России вырывается более чем одически из этой книги; любовь – основа горечи и мрака, и мы прекрасно чувствуем в такие мгновения, что любовь оправдывает и освящает, да, освящает кровавейшую и жесточайшую сатиру. Можно представить себе выдачу лицензий на такие чувства в Германии? Можно представить себе гимны, поднимающиеся из глубин сатирического романа немецкого писателя, – гимны Германии? Невозможно. Отвращение задушит эту фантазию». Да, в общем, до Гоголя и в России-то это было представить себе трудновато. Отвращение не отвращение, но что-то бы точно задушило эту фантазию.
Рецепция. Лучший анализ творчества Гоголя был дан опосредованно, по касательной Василием Шукшиным в рассказе «Забуксовал»: «Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух.
– Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки – дольше влезет, – говорил отец.
<…>
Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил „Русь-тройку“ из „Мертвых душ“ <…> В уши сыпалось Валеркино: „Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились…“
Вдруг – с досады, что ли, со злости ли – Роман подумал: „А кого везут-то? Кони-то? Этого… Чичикова?“ Роман даже привстал в изумлении… Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. Вот так троечка!»
Буксующего на этом вопросе Романа Звягина доволакивает аж до учителя литературы, Николая Степановича. Реакция учителя замечательная и, надо признать, вполне гоголевская, если не салтыков-щедринская: «Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал… Вот ведь! <…> Вы сынишке-то сказали об этом?
– Нет. Ну зачем я буду?..
– Не надо. А то… Не надо».
Очень славная сцена. Не надо бы обращать внимание на то, что в тройке едет Чичиков. Ох, не надо… Беды не оберешься. Для Гоголя это-то и было самым важным. Павел Иванович Чичиков был его единственной надеждой. От его энергии и деловых качеств зависело превращение «мертвых душ» в живые. Первый том – ад. Второй – чистилище. Третий – рай. Во втором томе, в тех отрывках и обрывках, что от него остались, есть отблеск и сияньице этого дивного концентрического плана.
Прежде всего – анекдот, который рассказывает Чичиков Бетрищеву, со знаменитым не меньше, чем хрестоматийная «тройка» финалом: «Ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Ну и вслед за тем слова, которыми провожает Чичикова в тюрьму честный откупщик Муразов: «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович. Я думал о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько бы вы наделали добра! <…> Павел Иванович, Павел Иванович! Не то жаль, что виноваты вы стали перед другими, а то жаль, что пред собой стали виноваты – перед богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам. Назначенье ваше – быть великим человеком, а вы себя запропастили и сгубили».
Пал Иваныч на всем ходу, на птице-тройке, должен был просвистать сквозь ад первого тома, проволочиться сквозь чистилище второго и со свистом разорванного в клочки воздуха влететь в рай третьего. Его следовало бы полюбить «черненьким» в первом томе, услышать сокрушенные речи о его великих задатках во втором, чтобы в конце концов увидеть «беленьким» в третьем. Таков был гоголевский план, просматриваемый даже в первом, обличительном томе. План этот поразительно отдает кондовым соцреализмом. Недаром Абрам Терц, автор лучшей книги о Гоголе, которую он начал писать в концлагере, а закончил во Франции, первое свое сочинение посвятил социалистическому реализму. Пал Иваныч должен был в этот реализм вкатить на полном ходу, преображенным и осиянным. Что он, собственно говоря, и сделал. Должно быть, этого развития сюжета ужаснулся Гоголь. «Черненького» Павла Иваныча Чичикова можно полюбить. Но «беленького» Павла Иваныча даже и представить себе нельзя. Отвращение задушит эту фантазию.
Сиквел. Вот здесь-то и происходит удивительный поворот винта, разом меняющий всю картину. С гоголевскими персонажами хочется поиграть еще. Дописать их приключения. Мало ли сиквелов знает литература, но гоголевские сиквелы особого рода. Они вкладываются в предложенные обстоятельства другого времени, словно там и были. В 2008 году Лев Немировский и Мариэтта Чудакова обнаружили напечатанную в 1927 году текст «Повести о том, как помирились Иван Иванович и Иван Никифорович» Ивана Барканова.
Повесть ныне републикована издательством «Вита Нова» с комментариями и послесловием Чудаковой. Иван Иванович и Иван Никифорович в новых исторических условиях дожаловались друг на друга до того, что оказались в подвале Чека. Там и помирились. Дело даже не в самой повести 1927 года, а в том, что гоголевские герои настолько пластичны, что вполне вписываются в любую обстановочку.
Псой Короленко – современный поэт и бард – под гитарный перезвон и дудение трубы, перекладывая матом классический текст, мелодекламирует «О, не верьте этому Невскому проспекту…» – и текст живет. Римский папа Иоанн Павел I писал Чичикову письма. Он был вполне замечательным человеком, этот папа, впервые взявший себе двойное имя, отказавшийся от носилок, тиары, пригласивший на свою интронизацию представителей разных церквей, в том числе и РПЦ. Понтификат его продолжался всего 33 дня. Он умер 28 августа 1978 года. В бытность свою венецианским патриархом в 1976 году Иоанн Павел I, тогда еще Альбино Лучани, опубликовал сборник Illustrissimi («Глубокоуважаемые»): письма тем, с кем он хотел бы переписываться.
Там были письма Бернарду Клервосскому, Бонавентуре, Диккенсу, Гете, Франциску Сальскому и… Чичикову. Так что Павел Иванович смог обаять аж римского папу. Между тем – монстр и чудовище, под стать своему создателю. «Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, – предупреждал Гоголь в „Авторской исповеди“, – а потому не получили настоящей самостоятельности. <…> Герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. <…> Никто из моих читателей не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной».
Не всегда, не всегда… Порой смех застревает в горле, как в «Записках сумасшедшего» в самом лучшем финале русской прозы за два столетия. «Боже, что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучают меня? Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится передо мною. Спасите меня, возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой – Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!..» Опять и снова: до такого мог додуматься только Гоголь. Несчастный Поприщин правильно понимал свое величие. Неправильно только обозначил сферу его приложения. Он вообразил себя испанским королем, а был великим поэтом.
Тарас Бульба. Утопия и антиутопия
«А как его поедешь? – отвечал ямщик равнодушно, – не видишь разве, барин, какая утопия?» – «Утопия? – повторил доктор, захохотав, – что это за утопия?» – «Знамо, утопия, – повторил ямщик, протягивая руку вперед и указывая кнутом на море грязи, – вишь, утопнуть можно…» (местные обыватели называют так полужидкую грязь, похожую на расплавленное олово, которая заливает в весеннюю пору все дороги; если по ней проехать или пройти, то она всколыхнется на мгновение, но тотчас же засасывает все следы и – снова становится неподвижной).
Ю. Безродная. На окраине (степные очерки)Композиция «Миргорода» – симметрична, зеркальна. Безгеройным «Старосветским помещикам» соответствует безгеройная же «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Героическому и романтическому «Тарасу Бульбе» – героический и романтический «Вий».
Или – коли вы не согласны на героику и романтику в «Вии» – сформулируем по-иному: бытовым, нестрашным, лишенным какого бы то ни было эротического элемента – бытовые, нестрашные, опять-таки безо всякого даже намека на эротику «Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу». Страшному «Тарасу Бульбе» с сильным эротическим элементом – страшный же «Вий», буквально пронизанный эротикой.
Впрочем, есть куда более существенная «симметрическая» черта.
«Тарас Бульба» и «Вий» – украинские, малороссийские повести.
«Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – повести из жизни российской южной провинции.
В городок, где вечно ссорятся и мирятся Иван Иваныч – Иван Никифорыч, в именьице, где Пульхерия Ивановна ублажает и потчует Афанасия Ивановича, вполне мог заглянуть, заехать Пал Иваныч Чичиков – его мир, его проблемы.
Зато в яростном и страшном козацко-бурсацком мире «Тараса Бульбы» и «Вия» Пал Иваныч нелеп, невозможен.
Иной, совсем иной мир – утонувшая Атлантида…
Тараса Бульбу» мы «проходили» в школе. Я помню, как мама меня спросила: «Ну, кто тебе больше всех нравится в этой книжке?»
Я промямлил что-то про Остапа.
– Да? – удивилась мама. – А мне больше всех нравится Андрий. Он хоть к женщине по-человечески относился…
Я было хотел сказать что-то про предательство родины, но поостерегся, поскольку был долдоном во всех отношениях и знал, что взрослым перечить нельзя…
Зато в первый раз я задумался над несовпадением заданной авторской позиции и читательского восприятия.
То, что для Гоголя Андрий – отрицательный, а Остап – положительный, это для меня ни тогда, ни теперь сомнений не вызывало, но то, что для читателя сие далеко не так и не всегда так, – тоже факт, не требующий особых доказательств.
Между прочим, здесь исток симптоматической ошибки В. Солоухина, посчитавшего, что в «Тарасе Бульбе» у Гоголя прорвались тайные, тщательно скрываемые польские католические симпатии.
Вряд ли… Просто для современного читателя, не зашоренного, не отуманенного «должным» и «не должным», естественно сочувствовать Андрию, ушедшему в осажденный, голодающий город к любимой женщине от осаждающих город пьяных, сытых и жестоких запорожцев.
Сие было вовсе не естественно для Гоголя.
Симметрия, взаимоотражение продолжаются и в самих произведениях, будто специально поставленных друг против друга.
«Возвращение киевских бурсаков в родные гнезда» и в «Тарасе Бульбе», и в «Вии» служит истоком, началом сюжетного движения.
Правда, в «Вии» бурсаки, трижды помянувши черта, оказываются на ведьмином, а не на родительском хуторе.
Однако и здесь симметрия продолжается. Ворчливой бранью встречает бурсаков хозяйка хутора в «Вии».
Бранью и дракой встречает бурсаков хозяин хутора в «Тарасе Бульбе».
Пир в «Тарасе Бульбе» по случаю прибытия панычей: «Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная» – симметричен «пиру» Хомы Брута в овечьем хлеву: «…философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на правый бок…»
Такого рода симметрию, кажется, называют «пародией», и я, пожалуй, тоже буду пользоваться этим термином.
Ибо – в самом деле! – ночное любование «бедной матерью», «худощавой бледной старухой» своими сыновьями: «Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих… Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться… Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство…» – пародируется ночным посещением старухи, пришедшей к Хоме Бруту за самой что ни на есть любовью – без всякой, понимаете ли, сублимации: «Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.
– А что, бабуся, чего тебе нужно? – сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.
“Эге-ге, – подумал философ, – только нет, голубушка, устарела”. Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемоний опять подошла к нему… Старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова…»
Пародия, и пародия жутковатая.
В «Тарасе Бульбе» к бурсакам ночью приходит старуха, движимая естественной материнской любовью.
В «Вии» к бурсаку ночью приходит старуха, движимая противоестественной физической любовью…
Для Гоголя эти «любови» были связаны, сцеплены, как связаны и сцеплены оказались описания матери Андрия и Остапа в «Тарасе…» и ведьмы-панночки в «Вии».
«Слезы остановились в морщинах, изменивших когда-то прекрасное лицо ее… Она была жалка, как всякая женщина того удалого века… Она терпела оскорбления, даже побои… Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами» («Тарас Бульба»).
«Хорошо же! – подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи… схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала они были сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище… “Ох, не могу больше!” – произнесла она в изнеможении и упала на землю… Перед ним лежала красавица с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами» («Вий»).
Не правда ли, такое впечатление, будто пленку прокрутили обратно. В «Тарасе Бульбе» описывается, как молниеносно стареет и дурнеет молодая красивая женщина из-за оскорблений и побоев, в «Вии» из-за оскорблений и побоев безобразная старуха превращается в молодую красавицу…
«Вия» я впервые прочел лет в девять, кажется. Ничего страшнее я до этой книжки не читал. Страх рационально не просчитывался. Ну подумаешь, гроб летает, ну труп зубами стучит – ну и что?.. Тем не менее было страшно. Вероятнее всего, Гоголь удивительно верно и точно угадал местонахождение страха – затылок. Беззащитный, ничего не видящий, слепой затылок.
Страх – всегда за спиной, всегда в затылке. «Не оглядывайся!» – вот лозунг страха.
Почем ты знаешь, может, за твоей спиной мир обрывается в ничто, в бездну, может, мир за твоим затылком наполняется чудовищами, готовыми тебя растерзать? Как это проверить? Обернуться?
Но как бы ты быстро ни оборачивался, ужас за-спинной, затылочной бездны с такой же быстротой будет оборачиваться вместе с тобой, снова окажется за твоей спиной, за твоим невидящим, холодеющим от беспричинного страха затылком.
Впрочем, помимо этой точно угаданной метафизической основы страха в «Вии» присутствует еще нечто инстинктивное, первобытное, внятное инстинкту любого человека, но не проговариваемое, не называемое…
Прокручиваемая назад пленка есть и в «Тарасе Бульбе». После забитой, затурканной, старой, несчастной матери Андрий вспоминает молодую, счастливую, веселую панночку.
Панночка!
Вот связующее звено между «Тарасом Бульбой» и «Вием».
«Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте… Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе».
«Угнетенный народ» удивляет в тексте про бурсака, обмороченного ведьмой, и нимало не удивляет в тексте про «козацкие» войны на Украине…
Стало быть, и в самом деле между двумя этими текстами есть связь – недаром же они поставлены друг против друга в сборнике под названием «Миргород».
Недаром ведь и Гоголь метит погубительницу «доброго козака», бурсака Хомы Брута, и «доброго козака», бурсака Андрия Бульбенко, одним и тем же именем – панночка!
Панночка!
Кажется, что речь идет об одной и той же женщине, не о двух.
Панночка! Словно опознавательный знак: осторожно! Опасность!
Поглядим, нет ли еще ситуаций, персонажей «симметричных», пародийных, рифмующихся в «Тарасе Бульбе» и в «Вии».
Андрий – добрый козак, погибший, пропавший для всего козацкого рыцарства бесславно, как собака, из-за панночки, из-за бабы?
Хома Брут? «Славный был человек Хома! – сказал звонарь… – Знатный был человек! А пропал ни за что!»
Обращали ли вы внимание на схожесть убийства Андрия и Хомы?
«Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен…»
«“Не гляди!” – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. “Вот он!” – закричал Вий и уставил на него железный палец».
Прежде пули, прежде выстрела Андрия «убивают» узнаванием, взглядом.
Жест, приведший Андрия к гибели, такой же, как и у Хомы: оглянулся.
Вий так же опознает убийцу ведьмы Хому, как Тарас опознает изменника родины Андрия.
И обездвиживаются, остолбеневают Андрий и Хома на удивление сходственно…
Когда я в детстве читал «Тараса Бульбу», меня очень смешило «лыцарство, рыцарство» запорожских козаков.
К тому времени я уже одолел и «Айвенго», и «Квентина Дорварда», потому «рыцари» Пидсышок, Кукубенко, Закрутыгуба, Голокопытенко, Мосий Шило вызывали у меня веселый недоуменный фырк.
Ричард Львиное Сердце – и Пидсышок.
Айвенго – и Кирдяга.
Квентин Дорвард – и Голокопытенко.
Не исключу, впрочем, что Гоголь специально выбирал неблагозвучные фамилии.
Мол, да! У вас рыцарь Айвенго, а у нас лыцарь – Бульба! Чем мы хуже.
Тем не менее недоумение оставалось…
Комизм не исчезал.
Слишком уж различны, противоположны были рыцари Вальтера Скотта и лыцари Гоголя.
Во-первых, облик… Рыцари – они в латах, с тяжелыми двуручными мечами, со щитами. Рыцари – неспешны, медлительны. Крепости, медленно едущие крепости. Не мой дом – моя крепость, но больше! значительнее: я – моя крепость. У рыцарей замки, крепостные валы – и никаких тебе пищалей, ружей, мушкетов. А запорожцы? Степь, хуторки, ни тебе стен, ни тебе замков. Никаких, понятное дело, лат и щитов: «…простые были на них кольчуги свиты и далеко чернели и червонели черные, червоноверхие бараньи шапки их». И – скорость, не крепость в латах, но ветер по степи, степной пожар.
Во-вторых, количество. Рыцарь на то и рыцарь, чтобы быть одному. Ну – с оруженосцем. Рыцарь – единичен, штучен.
Уж скорее польские шляхтичи казались мне вальтерскоттовскими рыцарями: «…ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими…» «Смешаться в ряды с другими» не хотели ни Айвенго, ни Ричард Львиное Сердце.
Зато лыцари – тут уж держись, тут – «если в партию сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг». Кобиту убили? Зато мчит на подмогу Кукубенко. Кукубенко убили? Тут же появляется Мосий Шило. Шило застрелили? Зато рубится Степан Гуска… Здесь – роение, стая: не один против всех, а один за другим – все за одного. Здесь – «нет уз святее товарищества», то бишь: «Есть ли больнее дрожи, с сердца сорвав засов, себя бросать, словно дрожжи, в гуд родных голосов?..»
В-третьих, отношение к женщине. Всякий, кто прочитал хоть один рыцарский роман, знает: если есть рыцарь, то есть и дама сердца; если есть рыцарь, то женщину он, мягко говоря, не обидит – не унизит, не прибьет.
У Гоголя в «Тарасе Бульбе» галопом по страницам: «сборище бешеных рыцарей»; «одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего»; «обрезанные груди у женщин»; «не уважили козаки чернобровых панянок… У самых алтарей не могли спастись они; зажигал их Тарас вместе с алтарями».
Тогда, когда я в первый раз прочел «Тараса Бульбу», столь развернуто сравнить рыцарей и лыцарей я не мог. Но почувствовал верно: никакие не рыцари, а антирыцари, рыцари с точностью до наоборот.
Но если столь «рифмичны», столь «симметричны» Андрий и Хома, панночка и… панночка, старуха мать и старуха ведьма, то отец панночки, сотник, уже престарелый, с седыми усами, сотник, готовый зверски мстить за гибель своего дитяти, – уж не Тарас ли, справляющий жестокие поминки по своем Остапе?
Понимаю, что это самое зыбкое и фантастическое предположение, потому не стану на нем настаивать.
Замечу только, что и хутор сотника, и хутор Тараса располагаются Гоголем в пространстве на редкость похоже… одинаково…
«Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю… равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собой закрыла» («Тарас Бульба»).
«С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче…» («Вий»).
Хутор, «как будто ушедший в землю» в «Тарасе Бульбе», в «Вии» оборачивается «подземным миром», «царством гномов», проваливается под землю буквально…
Гоголь поразительно тонко, изящно оставляет несколько на то намеков.
Хома Брут, пытаясь улизнуть с хутора сотника, мчит сквозь целый лес бурьяна и давит ногами кротов (!). Где же еще под ногами столько кротов, что их давишь, словно жаб, как не под землей?
А вот описание дверей погреба на хуторе сотника: «На одной был нарисован сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: “Все выпью”. На другой фляжка, сулеи и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами…»
«Лошадь, стоявшая вверх ногами» – знак подземности, «наоборотности» мира, в который попал Хома, царства Вия, который, как известно, «начальник гномов» – подземных жителей.
Совпадение ли: «будто ушедший в землю» хутор Тараса, из которого на смерть уезжают Андрий и Остап, и «подземный хутор» сотника, куда на смерть приезжает Хома Брут?..
Я полагаю, что – нет.
Последние украинские, малороссийские повести Гоголя «рифмуются», перекликаются друг с другом вовсе не случайно. Их пафос – затемненный, скрытый в «Вии», откровенный в «Тарасе…» – весьма сходен.
В конце концов, стержнем и «Вия» и «Тараса Бульбы» является преступная любовь, страсть, признаться в которой нельзя без ужаса.
Вий и Тарас Бульба узнают, видят не просто изменника, не просто убийцу. И тот и другой узнают человека, осмелившегося допустить себя до личной, индивидуальной страсти, вдребезги разносившей роевой, стадный принцип жизни.
«Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист, Хома; жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им… и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело» («Вий»).
«Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки…» («Тарас Бульба»).
«Вий» и «Тарас Бульба» – рассказ о невозможности, о взрывоопасности ситуации «Ромео – Джульетта» в средневековой Украине, где сошлись-столкнулись четыре вероисповедания и мало если четыре нации.
Помните: Хома Брут, склоняясь над убитой им ведьмой, над любимой им панночкой, вглядывается в ее черты и будто слышит песню об угнетенном народе.
«Об угнетенном народе»? Каком это?
Во времена «Миргорода» Гоголь писал своему другу Максимовичу: «Бросьте в самом деле эту кацапию, да поезжайте в гетманщину… Туда, туда, в Киев!.. Он наш, он не их, не правда ли?»
Так, такими словами Гоголь никогда больше не выскажется, во всяком случае, не выпишется на бумаге…
Страница закрыта. «Вий» и «Тарас Бульба» – последние малороссийские повести. Повести об ушедшем в землю, погибшем мире.
Хому Брута обморочила панночка.
Мысль о «гетманщине» вместо «кацапии» – морок, мечта.
Так, по всей видимости, думает Гоголь. Так он чувствует.
Во всяком случае – это прочитывается в симметричном расположении друг против друга последних украинских повестей Гоголя.
Но если «Вий» – описание морока, наваждения, описание смерти, прикинувшейся жизнью, царства гномов, прикинувшегося малороссийским хутором у подножия горы, то «Тарас Бульба» – описание живого, действенного, реального мира, Атлантиды перед гибелью.
В этом смысле нельзя ли рассматривать «Тараса Бульбу» в качестве некой утопии? Утопии, опрокинутой в прошлое… Золотого века не в унылой «кацапии», где сечет и сечет дождик, и скучно жить на этом свете, господа, и хоть три года скачи, ни до какой границы не доскачешь, а в многокрасочной солнечной «гетманщине», где опасно, страшно, весело жить, но уж никак не скучно, и где границы – вот они, рядом, на то и Украина – окраинная, рубежная земля…
Да… утопия. Пожалуй что утопия.
И вот вам характерные черты утопии.
Коллективизм, неистовый, оголтелый.
Помните, я писал об индивидуализме рыцарей и роистости, массовидности лыцарей? Это ведь связано с отвержением-пренебрежением любви, индивидуальной страсти. Какая ж любовь, если все скопом, если – рой, стая?.. Здесь – не любовь, а свальный грех…
В школе у меня был приятель… ну, можно сказать… троцкист. Он умудрился, исхитрился прочесть «Русскую историю в самом сжатом очерке» М. Н. Покровского и очень этим учебником 20-х годов вдохновился.
У него была своя довольно оригинальная, я бы сказал, вульгарно-социологическая концепция «Тараса Бульбы».
Андрий (уверял он) – пролетарий, ландскнехт, младший сын Тараса. Гоголь кривит душой, когда пишет, что Андрию не видать «отцовских хуторов» после того, как тот перешел на сторону поляков. После смерти Тараса все его богатство и так перешло бы к Остапу, к старшему сыну, а Андрий остался бы на бобах – с вострой сабелькой, со смазливым лицом и знанием (нетвердым) «Горацыя»…
Взрывной материал (растолковывал мне мой приятель): Андрий – самый что ни на есть пролетарий, которому нечего терять.
Дело происходило у моего приятеля дома. Он достал с полки том протоколов VIII съезда РКП(б) и зачел вслух из речи Ленина: «Для нас, коммунистов, патриотизм есть вопрос третьестепенный…»
Андрий (продолжал он) в полном соответствии с Марксовой доктриной и едва ли не теми же словами, что и в «Манифесте коммунистической партии», заявляет о своем отношении к «патриотизму». И приятель зачел соответствующее место из гоголевской повести: «…что мне отец, товарищи и отчизна?.. Нет у меня никого!.. Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего…» Сравни (говорил мой приятель) с «Манифестом…»: «Пролетарии не имеют отечества – приобретут же они весь мир».
В самом деле, чем не Телемское аббатство на островах посреди Днепра? Один лозунг: «Делай что хочешь!».
«Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время… изучением какой-нибудь военной дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе…»
Свобода! Полная, нестесненная, нестеснимая. Денег – не надо, «потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали… лавочки и брали всегда даром…» Собственности – никакой: «Никто ничем не заводился и не держал у себя; все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батьки. У него были на руках деньги, платья, вся харчь, саламата, каша и даже топливо…»
Ну? Чем не телемцы? Чем не утопийцы в черных, червоноверхих папахах?
Поразительно, что совпадает «боковой», побочный признак «Утопии», утопий – пространственная деталь.
Утопия – всегда «остров», всегда четко очерченное, отграниченное от всего остального мира пространство, автаркическое, самодостаточное, замкнутое… Если не остров, то на худой конец – город, но город в островном, утесном существовании.
В одной из последних всерьез написанных утопий, в «Красной звезде» Александра Богданова (1907 год), даже планета (Марс) начинает походить на остров – планетарный, великолепно организованный остров в мировом неупорядоченном пространстве.
Но утопия – не просто остров, как и Запорожская Сечь – не просто острова. Это – острова счастья, беззаботности, радости.
Этого в Сечи хоть отбавляй: «Какое-то беспрерывное пиршество; бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой… бешеное разгулье веселья…»
Но в самый разгар телемского веселья, утопического счастья Тарас Бульба задает тот самый вопрос, который необходимым образом вылупится из любой осуществленной, овеществленной утопии.
«Так на что же мы живем, на какого черта мы живем, растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй мне, на что мы живем?»
Ответ на этот вопрос находится с полтыка – как на что? На войну! На зверства, убийства, разбои…
Если бы к запорожским козакам не прибыли с тяжкой вестью об угнетениях православных на Украине, они бы в Турцию, в Крым отправились воевать – нашли бы, где применить свои силы.
Гоголь, сам того не желая, в утопию веселой, разгульной жизни встраивает антиутопию убийств, поджогов, обрезанных грудей, ног, ободранных до колен, младенцев, вскинутых на пики и брошенных в огонь к их матерям.
Достоевский, рассуждая о вероятности абсолютно счастливого, сытого, веселого «хрустального» общества, замечал: «Возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградною физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это… с одного разу, ногой, прахом».
«Нередко происходила ссора у куреней с куренями: в таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх» («Тарас Бульба»).
Но это – так. Разминка тоже входит в разряд веселья, «хрустального счастья»… Главное, что двинувший сапогом по хрустальной стенке «подпольный человек» из Достоевского и Тарас, задающий вопрос «На что мы живем?» – побуждаемы одним и тем же: поиском смысла жизни в осуществленном всеобщем счастье. Коли он не обнаруживается, то можно и разозлиться.
Есть и третья черта утопий, в полной мере воспроизведенная Гоголем, – коллективизм, массовидность, толпинность, слитость в одно неотдифференцированное целое.
Раз уж речь зашла об антиутопических чертах утопии Гоголя, хочется обратить внимание на мрачноватые стороны этого коллективизма: «Если козак проворовался… его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть…»
Нет единичного убийцы. Убивают все – скопом. Никто не ответствен за убитого вора. Убит от ударов – всех. Убийство поровну – пустяки.
Насколько сам Гоголь чувствует, видит жутковатые стороны своего идеала? Трудно сказать.
Кажется, поразительный дар интуиции соседствовал в нем со странной, пугающей немотой…
Можно согласиться с Василием Розановым: страшнее писателя не было, душнее, безвыходнее, безысходнее.
Мне хочется остановиться еще на одной характерной типологической черте утопий, не всегда выделяемой в качестве главной, кажущейся побочной, такой же, как и «островность» утопий, но присущей всем им.
Я имею в виду асексуальность, отвержение женщины, вообще – эротического начала.
Начиная с первой, платоновской утопии (где отнюдь не поощряется двуполая любовь) эрос, индивидуальная страсть, женщина – подрывной элемент! враг!
Стоит «Андрию» встретить «панночку» – и идут сплошные, понимаете ли, разброд и шатания.
«Почувствовал он что-то заградившее ему уста; звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру…»
Вот отчего антирыцарство запорожских козаков, их асексуальность досягают до полного неистовства: «Даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина».
Мне кажется, что пришла пора поговорить о вере запорожских козаков, описываемых Гоголем.
Ведь именно за свою истинную веру бунтуют и дерутся козаки. Наибольшую ненависть у них вызывает уния, то есть попытка примирить две конфессии, католическую и православную, попытка соединения и упрощения – унификации обрядности.
Э нет – так не годится…
А как годится?
«Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил: “Здравствуй, во Христа веруешь?” – “Верую!” – отвечал приходивший. “И в Троицу святую веруешь?” – “Верую!” – “И в церковь ходишь?” – “Хожу!” – “А ну, перекрестись!’ Пришедший крестился. “Ну хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в который сам знаешь курень”».
И вся обрядность…
«Вот сколько лет уже, как, по милости Божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства; хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать, они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки; да и даяние было бедное, потому что они почти всё еще пропили при жизни своей…» И все благочестие…
Козакам Гоголя ни благочестия, ни обрядности не надо. Они и без того – богоизбранный народ. Их глас, их дела – Божий глас и дело…
Они напрямую общаются с Богом, без посредников. Душа убитого козака Кукубенки, того самого, что, «взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему (поляку) в самые побледневшие уста: вышиб два сахарных зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю…» – взлетает непосредственно к Христову престолу: «“Садись, Кукубенко, одесную меня!” – скажет ему Христос…»
Богоизбранность запорожцев Гоголь подчеркивает ненавязчиво, умело, почти так же, как и «подземность» хутора сотника в «Вии».
Стоит обратить внимание на сравнения, каковыми Гоголь аранжирует сыноубийство Тараса Бульбы: «Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова».
Это – описание жертвоприношения, сакрального акта, где и хлебные колосья, и агнец заменены самым дорогим – сыном…
Поразительно, как незамеченной остается еще одна аллюзия, еще одно напоминание о сакральности действия, долженствующего быть.
Казнь Остапа: «И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: “Батько! где ты? слышишь ли ты?”» Ведь это «сниженные», переведенные в бытовой план последние земные слова Христа: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Тем более симптоматично в этой ситуации ответное восклицание Тараса: «Слышу!»
Это тоже черта утопической модели – избранность, продвинутость по сравнению с другими прочими на порядок выше…
Между тем это «на порядок выше», эта слитность, съединенность, отвержение женщины, антииндивидуализм, жестокость поражают не просто архаическими, но именно невзрослыми, подростковыми чертами.
Как-то невольно вспоминается, что отряды красных кхмеров в Камбодже состояли из подростков или из очень молодых людей…
Не знаю, вольно или невольно, но Гоголь с первой страницы своего описания Запорожской Сечи подчеркивает невзрослость, подростковость лыцарей, про которых, ей-ей, очень хочется сказать: вот, в «войнуху» в детстве не наигрались…
«Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак… это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что, вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя, они производили набеги на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что, вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов…»
Не раз и не два повторит Гоголь свое сравнение запорожцев с детьми, со школьниками, с подростками…
«Запорожцы как дети: коли мало – съедят, коли много – тоже ничего не оставят».
Или еще лучше, еще простодушнее, еще беспощаднее: «Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом…»
Атлантида, описанная Гоголем, гибнет не только и не столько от внешних факторов, ей, Атлантиде, Запорожской Сечи – такой, какой ее описывает Гоголь, не сохраниться ни в федеративной католической Польше, ни в единой неделимой православной России, ни (в скобках заметим) на самостийной Украине… Любопытно, что дикая орда запорожцев, хлынувшая на цивилизованные города, рванула как раз таки с юго-востока Украины…
«Повзросление» Сечи привело бы к ее исчезновению, растворению.
Путь Тараса Бульбы ясен. Останься он жив, передался бы московскому царю, батьке из батек…
Призадумаешься, кто в этом случае больший предатель Украины, да и вольной Запорожской Сечи – Андрий или Тарас?
Есть удивительная (замеченная? не замеченная Гоголем?) перекличка-рифмовка в самой повести:
«Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства…»
То, что после «Тараса…» Гоголь более не возвращается к украинской теме, заставляет внимательнее прислушаться к словам Андрия: «Кто сказал, что моя отчизна Украина? Отчизна есть то, чего ищет душа наша!» Для писателя, из украинского сделавшегося русским, это едва ли не автобиографические, больные, болезненные слова.
Андрий – автобиографичен?
Вероятно. Как и Хома Брут.
Детские страхи Гоголя в том и другом образе сливаются со взрослыми размышлениями о том, чего же ищет душа наша, где ее «отчизна».
Кажется, Гоголь так и остался гениальным подростком, не повзрослевшим и потому давшим безжалостно точный образ «подросткового» мира с его жестокостью, бегством от ответственности, ненавистью к женщине и накрепко сцепленным с ней желанием женщины.
Образ утопии, вынашивающей антиутопию.
Мрия
Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.
Осип Мандельштам. Четвертая прозаОн бы был тогда лауреатом,
Я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
Он передо мной – не виноват.
Ярослав Смеляков. Письмо матери Бориса КорниловаМрия – мечта.
Украинско-русский словарьВ ранней юности он печатал в черносотенных журналах антисемитские рассказы. Едва успев окончить гимназию, ушел добровольцем на Первую мировую войну. (Империалистическую – так очень скоро станут называть эту войну в России.) Он успел еще чуть-чуть захватить гражданской войны в составе Добрармии. Громил с батарей бронепоезда «Великая Россия» дома красных предместий, о чем и сообщал в письме своему литературному учителю – Ивану Бунину. А потом хлебнул тюрьмы, чрезвычайки, голодухи и вот что сказал тому же Бунину (Ивану Алексеевичу): «Я убью, украду, солгу – но я не буду голодать! Голодать – это безнравственно». Голливудские мастера видеоряда словно бы подслушали этот выкрик из глубокой глубины души советского классика. Помните: в недооцененном снобами и интеллектуалами самом великом фильме всех времен и народов, в «Унесенных ветром», Скарлетт вырывает из земли какой-то корнеплод (редьку, что ли?), не обтерев, грызет эту горькую грязную редьку – и в зал, зрителям, человечеству, Богу, словно великую клятву: «Я не буду голодать!»?
Это надо помнить, когда теперь читаешь книгу Катаева «Алмазный мой венец». Это книга «Скарлетт», книга уцелевшего, выжившего, побежденного, перебежавшего на сторону победителей и поклявшегося не голодать. Цинизм Луи Фердинанда Селина рядом с катаевским цинизмом – просто детская игрушка, просто наивный энтузиазм простачка, не знающего жизни. Селин прямо пишет, что все громкие слова – патриотизм, интернационализм, революция, освобождение человечества, защита отечества – пыль и мишура, стекляшки-стеклышки, «мрия» по сравнению с правдой неистребимо шкурного в человеке, а Катаев проборматывает все необходимые слова о Революции (с большой буквы, это обязательно!), о «волнах ненависти, катящихся на нас с Запада» – и хитро (по-бендеровски) подмигивает понимающему. За всеми расшаркиваниями перед Революцией, которая «предоставила нам все», – «угрюмый тусклый огнь желанья», который мы – провинциалы, выкинутые в столицу огромным социальным взрывом, – смогли у-до-вле-тво-рить. «Он ехал в открытом экипаже на дутиках – то есть на дутых резиновых шинах, – модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами <…> к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красивый воздушный шарик, сопровождавший его, как ангел-хранитель, и ярко блестевший на утреннем московском солнышке. Меня он не заметил. Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я как старший брат <…> был доволен, что из него, как говорится, “вышел человек”…» Вот это – правда, а не «мрия», о которой Катаев говорил Мандельштаму. Вот так мы хотим жить! После ночных похождений ехать, покачиваясь на дутиках, и чтобы к пуговице пиджака был привязан красивый воздушный шарик!
Невозможно осуждать за это желание автора: если на вас навалится история, революция, разве будете вы виновны в том, что хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных этих лапах? Все клятвы Катаева в верности революции – дымовая завеса. Это Скарлетт заговаривает зубы победителям – северянам, чтобы сберечь свою землю, свою Терру. Терра Катаева, его земля, его поместье – искусство, проза, слова русского языка, которые он умеет располагать в единственно верном, правильном, прекрасном порядке, – откройте книгу и убедитесь.
Это – лукавая книга. Лукавство начинается с заглавия («Алмазный мой венец») и с объяснения этого заглавия. Пушкин-де выкинул эту сцену из окончательной версии «Бориса Годунова»: Марина Мнишек готовится к решительному свиданию с Самозванцем и из всех украшений выбирает – алмазный венец. (Понятно, почему выбирает. Самозванец должен понять, глядя на этот венец: перед ним женщина, готовая стать царицей.) Катаев пишет, что вот, мол, и я – надеваю на свою плешивую голову алмазный венец, чтобы встретиться с давно умершими друзьями своей юности. Лукавство – многослойно. «Алмазный венец»? Нужно быть уж совсем наивным зрителем, чтобы верить, что артистке, которая играет Марину Мнишек, действительно подают алмазный венец. Стеклышки, бутафория, «мрия» – Катаев сам об этом говорит: «В этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров… избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий… Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не лирический дневник… Но что же? Не знаю!» Знаете, как этот пассаж может быть истолкован? «Я все вру, – улыбаясь, говорит автор, – все выдумываю. Многого не помню. Я ведь – шут, – (улыбка у автора печальная; интонация – тоже), – фигляр, артист, самозванец. Я выдаю стеклышки за алмазы». Но это только один слой лукавого заглавия, лукавой отсылки к пушкинской сцене. А может быть, наивный зритель, принявший стеклышки за алмазы, – прав? Может быть, на сцене действительно польская паненка, готовая стать русской царицей? В этом ведь и заключается задача искусства: из «кажимости» сделать «действительность», из мреющей «мрии» – плотную правду. Поэты – вруны, самозванцы, но в их вранье больше правды, чем в плоской правде факта – вот тема этой книги. Катаев в лоб, прямо формулирует эту свою мысль: «Да, это ложь. Но ложь еще более правдивая, чем сама правда». Он с удовольствием описывает, как Птицелов (Багрицкий) «ужасно боялся моря», как всего один раз, вытащенный на морскую прогулку, «лежал пластом на палубе лицом вниз, поносил нас последними словами, клялся, что никогда больше не ступит на борт корабля», а через страницу (то есть уже на следующей странице) Катаев цитирует веселые героические строки того же Птицелова: «Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном…» Что здесь правда, а что – ложь? Неужели эти веселые строки – ложь, «мрия», а правда – толстый астматик, носом уткнувшийся в палубу прогулочной яхты? Пусть строки про «налетающую тьму» будут ложью, но это будет «ложь еще более правдивая, чем правда». Здесь надобно ощутить самый важный слой лукавого названия, самый смысл отсылки к пушкинской сцене: ведь Марина Мнишек готовится к встрече не с законным царевичем, но с самозванцем, с тем, кто больше, интереснее, чем просто царевич, с человеком, который сам себя делает царевичем, не так ли? У каждого – своя Муза. У Ахматовой – серьезная гостья, та, что «Данту диктовала страницы “Ада”», у Катаева – Марина Мнишек, такая же отчаянная авантюристка, блефовщица, самозванка, как и он сам…
Почему, когда рассуждаешь об этой книге, на ум приходят всякие пышные постановочные фильмы, что-то батальное, романтическое, шикарное и (одновременно) что-то скрывающее за всем своим шиком, за всей романтической батальностью – какую-то щемящую сентиментальную ноту расставания, разлуки, потери, поражения: не то Скарлетт, дающая клятву «не голодать», не то стареющий Наполеон из бондарчуковского «Ватерлоо», накануне поражения диктующий письмо русскому императору: «Я не узурпировал корону. Я поднял ее кончиком шпаги из грязи и сам надел ее себе на голову»?
Конечно, книга написана если не о «наполеонах», то о «Наполеоне», о самозванце, который стал королем, об одесском провинциальном газетчике, который стал русским классиком. По праву ли? Это уж нам решать, читая его книгу.
Эту книгу можно было бы назвать первым постмодернистским текстом в русской литературе. Несомненно – то, что Катаев называл мовизмом, позднее будет названо постмодернизмом. Текст Катаева пропитан, пронизан цитатами, перенасыщен ими. Катаев «оживляет» литературу, но и саму жизнь делает литературной, цитатной. Вот он бродит по Москве с синеглазкой (сестрой Булгакова), девушкой, в которую он влюблен и от которой ему предстоит отказаться. Вот он сидит со своей любимой перед бронзовой дверью храма Христа Спасителя… «Где-то вверху жужжит аэроплан, и мне кажется, что все вокруг, весь город умерщвлен каким-то новым газом, так как якобы уже началась новая война, и мы с синеглазкой тоже уже умерщвлены, нас уже нет в живых, а мы только две обнявшиеся тени…» Для тех, кто не услышал, в какой текст забрели несчастные влюбленные, Катаев повторит этот эпизод страниц через тридцать. «Прижались друг к другу, немного вздремнули. Город был пуст и мертв. Только где-то очень далеко и очень высоко слышался звук невидимого самолета, и мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа, началась всемирная война, и город вокруг нас умерщвлен какими-то химическими или физическими средствами..». Это же «Адам и Ева»! Знаменитая пьеса синеглазого (Булгакова), того самого гения, сатирика, фантаста, гофманианца, великого провинциала, из-за которого не задалась любовь синеглазки и автора – главного героя «Алмазного… венца». Для тех, кто не знает всех обстоятельств любовной катастрофы создателя «…венца» – отсылка к раннему катаевскому тексту, к рассказу «Зимой» 1923 года, в котором впервые появляется синеглазый: «…Ее брат. Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, нищеты и героизма. Но у него – синие глаза… Он разражается великолепным монологом о долларе: “Доллар – это, батенька, все. Я преклоняюсь перед долларом… А вы? Что у вас есть? У вас есть лакей? Нет! У вас есть одеяло? Нет… Я вам сейчас списочек составлю. А когда у вас все по списочку будет, тогда мы с вами поговорим о женитьбе. Но, конечно, не на моей сестре, это вы бросьте». Может, оно и к лучшему, что не задалась любовь синеглазки и автора – главного героя? Тогда вместо замечательной прозы было бы скучное семейное счастье. Вот другая сквозная тема книги Катаева: «Я думаю, у всех нас, малых гениев, в истоках нашей горькой поэзии была мало кому известная любовная драма – чаще всего измена любимой, крушение первой любви, рана, которая уже почти никогда не заживала, кровоточила всю жизнь».
Надобно внимательно вслушиваться в имена, которые Катаев дает своим героям. Почему Юрий Карлович Олеша – ключик? Да потому, разумеется, что в его истории, в истории его любовной драмы – ключ, ключик ко всей книжке Катаева. Недаром предваряют рассказ о несчастной любви ключика (Олеши) слова, словно бы комментирующие слова, предваряющие рассказ о любовной драме самого Катаева: «Ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть. Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила: любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена или просто любовь неудачная, в особенности ранняя, которая оставляет в сердце рубец на всю жизнь. В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее нанесенная рана, тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце концов к самоуничтожению». Любимая женщина ключика (Олеши) дружочек (Серафима Суок) уходит от него к колченогому (Владимиру Нарбуту), удивительному поэту, акмеисту, партийцу, руководителю издательства «Земля и фабрика». Этому человеку ключик неистово завидует. (И есть чему завидовать. Достаточно сравнить стихи Нарбута, которые цитирует Катаев, и стихи Олеши, чтобы понять, где подлинная поэтическая мощь, а где – декадентская немочь.) Этого человека Олеша окарикатурил в своей «Зависти». Из великого поэта сделал хозяйственника, «колбасника» – Андрея Бабичева. Себя, впрочем, тоже не пощадил – Кавалеров, низкопробный и талантливый завистник – вот ключик «Зависти». Любимая женщина Катаева синеглазка уходит от него из-за своего брата, синеглазого (Булгакова), гениального романиста, которому неистово завидует Катаев. Тогда становятся понятны пьяные рассуждения ключика: «Судьба дала ему, как он однажды признался во хмелю, больше таланта, чем мне, зато мой дьявол был сильнее его дьявола». Вне текста книги рассуждения Олеши – понятны. Дьявол тот, кто помог Катаеву выжить и не выжечь свой дар; словно верблюду проскользнуть в игольное ушко – стать богатым, государственно-признанным – и не убить карьерой свой талант. Олеша тоже сохранил, сберег свой талант, свой дар, пусть и исковерканным, искореженным, зато спился, грохнулся с высот государственного признания на дно нищенского существования литератора – люмпен-интеллигента. Конечно, его дьявол был слабее. Зато текст книги «персонифицирует» дьяволов ключика и Катаева. Это те, кто нанесли «сердечные раны», те, кому завидовали побежденные – ключик и Катаев. Нарбута (колченогого) Катаев впрямую называет «падшим ангелом». «Колченогий был исчадием ада… он был… падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в черном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон». С синеглазым (Булгаковым) он так не рискует. Он только намекает, только подмигивает сообразительному читателю: «Его любимой оперой был “Фауст”. Он даже слегка наигрывал с нами оперного Мефистофеля… Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада. <…> Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское».
Эта «персонификация персональных дьяволов» позволяет почувствовать как адвокатский цинизм Катаева, так и «качельную» структуру его книги. Ну и что (как бы говорит своим текстом Катаев), что, когда я стал классиком советской литературы – Булгакова (синеглазого) отлучили от литературы? Было время, когда он был признанным писателем, а я нищим, неприкаянным поэтом, общаться с которым он строго-настрого запретил своей сестре. Ну и что, что в то время, когда Олеша (ключик) – прославленный и увенчанный – пьянствовал в ресторане Дома литераторов, Нарбут (колченогий), забытый, изгнанный из литературы, погибал от дистрофии в колымском концлагере? Было время, когда Олеша был никем, а Нарбут – известным поэтом и большим начальником. Последние, мы стали первыми. А потом колесо фортуны повернется, и мы снова станем последними, а они – первыми. Но ни мы, ни они – не виноваты в «первости» или «последнести». Так уж получилось. «Он бы был тогда лауреатом, я б лежал в могилке без наград. Он передо мной не виноватый, я-то перед ним не виноват». Вот о чем толкует в своей книжке Катаев, когда-то сообщивший Мандельштаму (щелкунчику), как по-гречески будет «правда». Мрия.
Карл Радек в «Московском дневнике» Вальтера Беньямина
Вальтер Беньямин был в Москве с 6 декабря 1926 года по конец января 1927. Канун разгрома троцкизма. Осталось совсем немного времени до высылки из первопрестольной Троцкого, Радека, Раковского. Взят курс на стабилизацию. С левыми экспериментами покончено. По инерции левые течения в искусстве России еще будут существовать до 1934 года. Когда приход нацистов к власти поставит точку, жирный крест на революции в Германии – окончательная точка, могильный жирный крест ляжет на леваков в России.
Леворадикальный теоретик искусства, друг Брехта и Адорно по многим причинам не мог не сочувствовать оппозиции. Однако не сочувствовал.
Сталинистам с бухаринцами он, впрочем, тоже не сочувствовал.
Он приехал в Москву по многим причинам. Но причины сейчас не важны. Важен повод! Издательство «Большая Советская Энциклопедия» заказало немецкому профессору, доктору искусствоведения статью о Гете. (Нам, знаете ли, нужны солидные биографические статьи с хронологией, фактографией, с обильной библиографией, чтобы не было, знаете ли, верхоглядства. Этот вульгарно-социологический подход – у нас у самих в печенках. Для того-то и была заказана статья немецкому профессору.)
Немецкого профессора тошнило от фактов и фактиков, библиографических ссылок, дат, имен и прочего аппарата. Немецкий профессор жаждал целокупного знания, тотального мировидения. Словом, взаиморазочарование было неизбежно.
Интересно, через кого это взаиморазочарование произошло, кто был проводником этого взаиморазочарования, в ком это взаиморазочарование, так сказать, воплотилось.
«Радек увидел на столе рукопись и взял ее. Он угрюмо осведомился, кто автор. “Да здесь на каждой странице по десять раз упоминается классовая борьба”. Ему сказали, что творчество Гете, проходившее в эпоху обострения классовой борьбы, невозможно объяснить, не прибегая к этому термину. На это Радек: “Важно только употреблять его к месту”. (Вальтер Беньямин. Московский дневник. М., 1997. С. 118.)
На первый взгляд здесь все просто. Воздух эпохи дышал такой «самотермидоризацией», что даже троцкист Радек – и тот недовольно морщился от слишком частого употребления термина «классовая борьба».
Время начинало требовать «советского Брокгауза и Ефрона», а не анализа творчества кого бы то ни было с классовых позиций.
Лучше всех это понял Осип Мандельштам. В своей «Четвертой прозе» (почти одновременной с «Московским дневником» Беньямина – лето 1927 года) Мандельштам писал: «Мы… правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формы великое, могучее, запретное понятие класс.
«Кви про кво» – немецкий профессор едет на родину мировой революции и старается изо всех сил, куда только можно и нельзя «всаживает» и «засаживает» «запретное понятие» – «класс» с другим не менее запретным понятием – «классовая борьба».
А родина мировой революции неудержимо «национализировалась», «русифицировалась», превращалась в единственную в мире страну победившего социализма.
Даже Радек (тогда высмеивающий «строительство социализма в одном отдельно взятом уезде») и тот не принимал «классовости» рассуждений немцкого профессора.
Можно себе представить душевное состояние Радека, его, так сказать, внутренний монолог: «Это кто же такое пишет? Кто мне объясняет про классовую борьбу? Беньямин? Профессор? Из Германии? Нет – извините. Мы не для того профессоров из Германии выписываем, чтобы они нам объясняли про классовую борьбу. Про классовую борьбу мы и сами можем. И получше профессоров, поскольку сами ее ведем».
Такое объяснение годится, подходит, но кажется, что у происшедшего был второй план. Кажется, что перед нами не просто история на тему – «свой своя не познаша».
Вальтер Беньямин пересказывает главную идею своей статьи любимой женщине: «Такой человек, как Гете, целиком состоящий из компромиссов, тем не менее смог создать выдающиеся произведения <…> для пролетарского писателя подобное совершенно немыслимо. Но классовая борьба буржуазии принципиально отличалась от классовой борьбы пролетариата. “Измену”, “компромисс” в этих двух движениях невозможно схематически приравнять друг к другу» («Московский дневник». С. 120).
Что такое политический путь Карла Радека, начиная с «челночных поездок» от Парвуса к Ленину, от Ленина к Парвусу и кончая переходом – «перебегом» – от Троцкого к Сталину?
Сотрудничество Радека – революционера и антимилитариста – с германским генштабом – в прошлом. Измена «апостолу мировой революции» ради «серой кляксы», «самой выдающейся посредственности партии» – в будущем. Посредине, в настоящем – статья, писанная на родном, немецком, статья, в которой некто – очень ученый и очень левый – доказывает, что «измена» и «компромисс» не свойственны, не соприродны классовой борьбе пролетариата…
«Это кто ж такой умный – ученый – классовый? Это кто же такой марксист, такой знаток особенностей классовой борьбы пролетариата и буржуазии?.. Ах, из Германии! Ах, профессор! Теоретик искусств… Ну ты гляди… Из Германии туманной привез учености плоды, дух пылкий и довольно странный… Мне он будет рассказывать про “измену” и про “компромис”!»
Здесь «свой своя познаша»! Познаша – и еще как!
Беньямин ударил по больному, напомнил о том, что стараешься забыть; заставил задуматься над тме, над чем стараешься не думать…
Пройдет немного лет, и в ответ на упрек Сталина в криптотроцкизме Радек ответит полушутливо-полупечально: «Плечи, с которых сорваны погоны, болят всегда». Вероятно, впервые эти плечи заболели тогда, когда Радек прочел и понял рукопись статьи Беньямина о Гете.
Суворин. Драма на охоте
(Заметки)
Суворин и карьера. Он родился в 1834 году. Умер в 1912-м. Он записал рассказ Достоевского о том, что Алеша Карамазов станет революционером, террористом и погибнет на эшафоте. Он стал журналистом № 1 пореформенной России. Можно сказать, он вообще был первым европейским журналистом в России. В год его смерти о нем вышло несметное количество статей. Одну из этих статей написал будущий диктатор революционной России Николай Ленин. Статья повторяла все штампы леворадикальных обличений Суворина и отличалась от них только одним – названием.
Ленин на редкость удачно назвал свою статью о Суворине: «Карьера». Просто и ясно. Этим было выделено то главное, что было в Суворине. Каждый, кто писал о нем – и тот, кто ругмя ругал его, и тот, кто не мог скрыть своего восхищения перед его оборотистостью, талантом, силой, – каждый обращал внимание прежде всего на его карьеру. В этом было главное для Суворина. В этом была его буржуазность. Его, если можно так выразиться, «пуританская этика и дух капитализма». В этом был пафос жизни Суворина – в карьере.
В этой карьере было что-то… американское, именно что – американское. Может, потому так трудно описать и понять Суворина, что он сам собой помещается в иной контекст. «Американца» загоняют в русские рамки понимания, в русские условия бытия. Бедняк, до 14 лет не знавший никакой книги, кроме Евангелия, в 14 лет впервые прочитавший Пушкина, в 15 лет впервые попавший в театр. Нищий радикальный журналист, которому для поездки за гонораром из Москвы в Питер более достаточный приятель одалживает пальто и деньги на билет – и миллионер, издатель самой читаемой газеты, владелец модного театра, колумнист, близкий к «правительственным сферам». Таких метаморфоз Овидий не выдумает, а капитализующаяся действительность создает и не такие.
Он родился в избе, где в одном помещении спали мать, отец, пятеро сестер и братьев. Спустя десятилетия ему принадлежал огромный дом в Эртелевом переулке (ныне улица Чехова) в Петербурге. В своем романе «Всякие» он изобразил самого себя под фамилией Ильменев. [Роман «Всякие» запрещен судебным порядком и предан сожжению, в частности, за то, что в этом романе Суворин осмелился описать гражданскую казнь Чернышевского (в романе – Самарского). Описание этого события Сувориным сделалось хрестоматийным, по крайней мере, Набоков в «Даре» опирался на этот текст. Роман, написанный в 1866 году, опубликован только в 1909.] Поначалу, покуда только завязывается романная интрига, Ильменев (нищий радикал в крылатке) зовется романтически – незнакомец. Такой псевдоним и взял себе Алексей Суворин, принимаясь работать фельетонистом в «Санкт-Петербургских ведомостях» Валентина Корша. Под этим же псевдонимом он печатал свои первые колонки в «Новом времени». Незнакомец – это то имя, за которым закрепился образ либерального Суворина, Суворина времен его радикальной юности, которой он изменил ради карьеры.
Суворин и идеология. До дела Веры Засулич можно с полной уверенностью говорить о если не революционности, то весьма серьезном радикализме Суворина. После дела первомартовцев 1881 года Суворин молчит в течение двух недель. Репортаж о казни Желябова, Перовской, Михайлова, Рысакова, Кибальчича помещает в суворинском «Новом времени» Аверкиев, а сам Суворин, тогда еще соредактор и опытнейший журналист, отмалчивается. Выжидает?
Примеривается к обстановке?
Да и так ли уж он кардинально менялся, входя в фавор, делаясь рупором официоза? Достаточно приглядеться к тем, на кого делал ставку Суворин, из радикального Незнакомца становясь солидным консервативным издателем Алексеем Сергеевичем Сувориным, чтобы понять – Суворин не более менялся, чем менялся и сам официоз.
Лорис-Меликов, «белый генерал» Скобелев, Витте – всё это были политики, которых (употребим нынешний жаргон) пиарил Суворин. Реформаторские черты были сильны у всех. Популистские – невероятно сильны у Лорис-Меликова и Скобелева. Карьера Суворина совпала с его собственными идеями. Незнакомец «Санкт-Петербургских ведомостей» и раннего «Нового времени» столь же и так же идеен, как и Суворин официозного «Нового времени». Он изменил себе не более чем Анри Рошфор во Франции или Максимилиан Гарден в Германии. В компанию вот этих европейских журналистов следует помещать Суворина. Суворин, Рошфор и Гарден были идейны и искренни в своем антисемитизме, популизме, проповеди агрессивной внешней политики, в антидрейфусарстве, в конце концов. Это была та самая идеология, которая проявлялась ярче и четче с течением времени, с изменением самой российской ситуации. Это была та самая идеология, что и позволяла Суворину прежде всего и поверх всего думать о карьере, делать карьеру. И другим советовать делать то же самое…
Это Некрасов изменил себе, написав и напечатав оду Муравьеву-Вешателю, руководившему подавлением польского восстания 1863 года, потому и каялся в замечательных стихах: «Не торговал я лирой…» Суворину в общественно-политическом смысле каяться было не в чем. И обвинения российских либералов начала ХХ века были для него тем более болезненны, что сам-то он ни в коем случае не ощущал себя изменившимся, то бишь – изменившим идеалам своей радикальной юности.
Суворин и Лжедмитрий. Революционность Суворина нет-нет да и прорывается – то отрицательным отношением ко всему семейству Романовых, а то едва ли не панегириком Лжедмитрию Первому. Суворину должен был нравиться этот первый революционер России. Первый selfmademan русской истории должен был прийтись ему по сердцу, ибо то, что называется «самозванец», вполне может называться selfmademan – человек, сам сделавший себя и свою судьбу. А это куда как близко Алексею Суворину, разночинцу, сделавшемуся крупнейшим издателем России. Другое дело, что делание самого себя всегда чревато трагедией, а в России – в особенности…
Потому-то в симпатии Суворина к Самозванцу просматривался, прощупывался личный, автобиографический мотив. В 1902 и в 1904 годах Суворин несколько раз издает пьесу «Лжедмитрий и царевна Ксения», ставит эту же пьесу в своем театре. А в 1904 году издает не просто пьесу, но альбом – альбомище! – посвященный Самозванцу. Пьеса в этом альбоме не самое важное. Куда интереснее – предисловие. В нем Суворин рассказывает о том, что с 1605 по 1904 год в Европе про Самозванца было написано больше пьес и прочих художественных произведений, чем про какого бы то ни было другого российского царя. [Еще Лжедмитрия не убили в Москве, а в Мадриде уже на ура шла пьеса «Деметриус, император московский» не кого-нибудь – Лопе де Вега. Последнюю свою трагедию Шиллер писал о все том же Деметриусе, Лаубе трудился над означенной темой.] Была здесь у Суворина и национальная гордость великоросса: мол, да, мы им дали… Вынудили призадуматься, заинтересоваться… Была и язвительная шпилька, вставленная в бок правящей династии Романовых. [Не без очевиднейшего удовольствия Алексей Суворин пишет в предисловии к своей пьесе: до чего же жаль, что в России нет возможности выводить на сцену духовных лиц. Пьеса про Лжедмитрия из-за этого так обеднена. Одним из сторонников Лжедмитрия был Федор Романов, будущий митрополит Филарет, дядя первого Романова, Михаила. Шпилька всажена умело и нагло. На голубом, что называется, глазу. Ничего такого не сказано, но кивок сделан: вот Романовы, руки по локоть в крови ближайших родственников – и триста лет царствуют; а вот тот, кто наказал узурпатора, покусившегося на детоубийство, и – здрасьте пожалуйста: убили, сожгли и выпалили.]
Но самое важное – чувство близости к Самозванцу. В противном случае Суворин ни за что не стал бы так задерживаться на теме эпилепсии Лжедмитрия. Он даже решился изобразить припадок Лжедмитрия на сцене. Если бы не чувство родственности к этому лихому парню, все берущему с боем, он бы ни за что не записал в своем дневнике такое (через запятую расположив себя и Лжедмитрия): «15 апреля 1898… Читал об эпилепсии Ковалевского всё по поводу Самозванца и Ломброзо. Если мигрень – форма эпилепсии, то и я эпилептик. Взрывы гнева и проч., и проч.».
Даже более того! В автобиографии, которую Суворин принялся писать в 1887 году, описано его (суворинское) излечение от эпилепсии. С этого именно момента Алеша Суворин и начал помнить себя и окружающий мир. Начало памяти, исток сознания – поездка к старцу Тихону Задонскому, сумрачная келья, запах ладана… Именно эти воспоминания доверяет Суворин своему Самозванцу. Самозванец рассказывает Ксении то ли о своем спасении, то ли о первом пробуждении сознания. Это – закованные в ямб воспоминания самого Суворина.
Реабилитирует Самозванца Суворин по полной программе. Лжедмитрий вовсе не ставленник поляков! Он – умелый политик, гнущий свою линию. Он не служит ни католикам, ни полякам, он использует их. И в этом месте трагедии – личный мотив. «Ни в чем, – уверяет себя Суворин, – я не изменил своей шестидесятнической юности, юности эпохи реформ. Я не бездумно и подло служу самодержавию. Я провожу свою линию с помощью самодержавия».
В этой позиции был свой резон. В этом соотнесении себя с Самозванцем была своя истина.
Но даже и это не было самым главным, что заставляло Суворина спустя триста лет вглядываться в Лжедмитрия. Смутно, неясно все то, что связано с этим человеком и политиком. Кто он? Ксения в пьесе так именно и спрашивает Лжедмитрия: «Кто ты?» И Лжедмитрий толком не может ответить на этот вопрос. Преступник он или герой? Узурпатор или тот, кто наказал узурпатора? Коллаборационист, приведший оккупантов, или смелый политик, решившийся на нестандартный шаг? Это Суворин ощущал в самом себе – неясность, гадательность своего положения, своей позиции и – самое страшное – готовность к преступлению. Ради высокой цели, почему нет?
И это не главное… Главное, что вызывало симпатию Суворина к Лжедмитрию, что вынуждало его чувствовать в этом историческом деятеле начала XVII столетия своего, было вот что: этот рыжий парень, этот наглец из переводчиков при Патриархии, этот высокообразованный авантюрист шел от победы к победе. Все брал с бою – от столиц до цариц, и хорошо брал, уверенно, лихо, а в результате потерпел сокрушительное, страшное поражение. Вот это на склоне своих лет не мог не почувствовать Алексей Сергеевич Суворин. После целого ряда блестящих побед – такой финал…
Чехов и Суворин. Есть удивительная фотография: все суворинское семейство на террасе его феодосийского дома. И развалившийся на ступеньках в окружении дам, наглый, красивый, молодой – Чехов. Южнорусский тип красоты, ближе к итальянскому, чем к северному. «Соглядатай»? Экспериментатор среди семейства подопытных, среди «материала для литературы»?
Глава семейства стоит выше всех, на самой верхней ступеньке. Окладистая седая борода и «зверский взгляд маленьких умных глаз». Человек с «чертами настоящего преступника» и тот, кто жадно всматривается в этого человека, в его окружение. Два литератора, два разночинца, два selfmademan’a. Какой спектакль они разыгрывали друг для друга?
Считается, что первая жена Суворина была застрелена любовником Тимофеем Комаровым в номерах гостиницы «Бельвю», после чего Тимофей Комаров застрелился сам. После самоубийства своего сына в 1887 году Суворин вспоминает, как было дело тогда, в 1873 году.
Кажется, он пишет оправдательную записку. Богу? Будущим поколениям, если смогут расшифровать… почерк у Алексея Сергеевича был чудовищен, под стать дневнику. Он слишком любил заглядывать в чужие замочные скважины, чтобы не сделаться объектом чужого пристального внимания. Его запись в дневнике о гибели жены – гениальна. Она гениальна тем, что видишь то, о чем он не написал. В ту ночь, когда произошло двойное убийство, Суворина не было дома. Он метался по городу. Домой он вернулся минут за десять до того, как к нему приехал лакей, присланный из «Бельвю». Свой приезд в «Бельвю» он описывает так: «Вошел в комнату, полную народа. Она лежала на диване и, увидев меня, сказала: “Голубчик, миленький, простите меня, я вас обманула”. Я ничего не понял. Среди комнаты был круглый стол, за которым следователь разбирал бумаги, считал деньги, вынутые из ее кармана. Доктор давал ей какие-то капли. Я стал спрашивать ее, что случилось, и по выражению лица ее видел, что она удивлена, что я ничего не знаю. “Кто в тебя стрелял?” – “Комаров…” Она сейчас же ответила, а подумав, добавила: “В упор…” Потом ее понесли в больницу. Она бредила и прерывала бред словами: “Простите меня, простите!” В больнице ее положили на пол. Я бросился к хирургу, Кларку, кажется. Лакеи не пустили меня, я сделал сцену и бросился назад. Она умирала. Тяжко вздохнула два-три раза, и глаза ее остановились на мне».
У Чехова есть повесть, начинающаяся словами: «Муж убил свою жену!» Кажется, в ней был впервые применен прием, впоследствии блистательно использованный Агатой Кристи в «Преступлении Роджера Акройда»: о преступлении рассказывает сам не желающий сознаваться в совершенном преступник. Повесть эта, «Драма на охоте», была написана за три года до того, как Чехов познакомился и близко сошелся с Сувориным. Вполне возможно, что с этого именно времени Суворин всерьез заинтересовался молодым писателем. Как это он… попал?
Чехов в «Драме на охоте» обыгрывает два обстоятельства: известие об убийстве доставляют убийце в тот момент, когда он сам только-только вошел в комнату. Он отсутствовал всю ночь, только-только вернулся откуда-то, тут-то запыхавшийся слуга и огорошивает его известием… Второе, не менее важное. Жертва преступления, недоубитая, раненная насмерть, сознательно не узнает убийцу; все делает для того, чтобы отвести от него подозрение.
Суворин, как Камышев-Зиновьев, записал всю историю. Именно так и записал, как Камышев-Зиновьев из чеховской «Драмы на охоте», не сознаваясь в совершенном, но вольно или невольно оставляя следы…
Писатель Сергеенко засвидетельствовал в своем дневнике 10 июля 1899 года: «Мнение (Чехова. – Н. Е.) о Суворине, высказанное под секретом “только тебе”, что Суворин скрывает в себе все элементы настоящего преступника».
Но это только Сергеенко было сказано, а читателям России был выдан не то детектив, не то пародия на детектив, впоследствии экранизированная, если я не ошибаюсь, дважды.
Вообще была рассказана замечательная история со страстями и убийствами. Главный пуант этой истории состоял в том, что рассказчик, следователь и убийца оказался одним и тем же человеком. Записал всю историйку и пришел в журнал, дескать, вот такой случай из практики, прочтите.
«Драма на охоте» – литшутка, пародия на бульварщину, но получилось, что Антон Чехов написал эту шутку для одного только человека. Этот «капустничек» смог по достоинству оценить только один зритель.
Чехов написал два детектива. Один – откровенный: «Драма на охоте». Другой – прикровенный: «Володя». Оба связаны с семьей Суворина. Второй – страшнее. История, о которой догадался Чехов, была еще чудовищнее той, первой. Вторая жена Алексея Суворина была гимназической подругой его старшей дочери…
1 мая 1887 года стреляется сын Суворина от первой жены, гимназист, а 1 июня 1887-го Чехов печатает в газете рассказ о застрелившемся гимназисте – «Володя». Официальная версия самоубийства суворинского сына – провал на гимназических экзаменах. У чеховского Володи тоже с успеваемостью… нелады, но стреляется он от того, что его соблазняет, то бишь – насилует мамина подруга; не в силах вынести посткоитума – гимназист стреляется.
…Какой финт, однако, выкрутила судьба вокруг Алексея Сергеевича Суворина, сильного человека, капиталиста, издателя! Он женится на школьной подруге своей дочери после измены и гибели своей первой жены. Он хочет воспитать себе жену. Из просто-девочки сделать женщину, верную, преданную, без закидонов. И получает… За два года до самоубийства Володи Суворин пишет такое письмо Анне Ивановне Сувориной: «Я или с ума схожу, или уже сошел с ума. Но во всяком случае выслушай меня. Это – необходимо. Говорить я не могу. Ты не любишь читать писем, но это – последнее. Я не могу жить среди вражды, фальшивых отношений и сплетен… Большое множество жен поступает так, но каково это для мужей, когда они узнают, что ребенок как две капли похож на любовника. Повторяю, еще можно мириться с невидимостью, но, признавая за женой право располагать собой… Целую. Алексей»
В том же 1885 году Чехов пишет и публикует веселый и энергичный рассказ «Живая хронология» – о пожилом статском советнике Шарамыкине, его жене Анне Павловне, «живой и пикантной дамочке лет тридцати с хвостиком», и их детях, по возрасту каждого из которых советник Шарамыкин определяет даты визитов в их город итальянского трагика, тенора-блондина и пленных турков. «“После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых… Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкиного голоса, и всё ей руку целовали. Хе, хе… хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было… Анюточка, сколько нашему Колечке лет?” – “Мне, папа, семь лет!” – говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как смоль волосами…»
Это – веселый рассказ. В невеселом рассказе «Володя» соблазнительницу гимназиста зовут Анна Федоровна, она – «подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая с круглыми плечами». Это последний рассказ, который Чехов выполнил на литературном материале, предоставленном ему семьей Суворина…
И счастье в личной жизни… Гибель первой жены в 1873 году. Самоубийство старшего сына Володи в 1887 году. Смерть от дифтерита брата-близнеца Володи, Валерия, спустя два года. Смерть дочки Александры, сбежавшей с любовником от мужа в Кисловодск. Смерть зятя, Алексея Коломнина, от сердечного приступа после скандала на представлении антисемитской пьесы «Контрабандисты» в суворинском театре. Постоянные ссоры с другими детьми и второй женой. С сыном, Алексеем Алексеевичем Сувориным дело доходило чуть не до дуэли.
И рядом с этим – первая в России выходящая на европейском уровне суворинская газета «Новое время»; издание исторического журнала «Исторический вестник»; выход ежегодного «суворинского календаря»; «пробивание» сквозь цензуру разрешения на постановки «Власти тьмы» Толстого, пьес Гауптмана, «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылина, «Царя Федора Иоанновича» Алексея Толстого. Раньше, чем Москвин в Московском художественном театре, в театре у Суворина сыграл царя Федора Иоанновича – Орленев. Суворин был первым, кто всерьез обратил внимание на молодого Чехова. В его газете по его настоянию Чехов впервые напечатал свой рассказ не под псевдонимом, а под своей настоящей фамилией. Это Суворин убедил Чехова в том, что писательство – его настоящее дело.
И рядом с этим – подчеркнутая ксенофобия, антисемитизм, шовинизм. Болезненный какой-то, будто предваряющий нацизм, интерес к крови, к происхождению. У Суворина есть, например, изумительное рассуждение, прямо-таки просящееся в рубрику: «нацизм – аристократическое ощущение плебеев». Мол, у русских-то мужиков кровь чище, чем у русских дворян. Кто такие русские дворяне? Из татар, немцев, шотландцев, негров, шведов, французов – шелупонь разная, а вот у русских мужиков расовая чистота стопроцентная.
Суворин – человек трагедии. Вся выморочность, вся мощь и все бессилие русского капитализма – в нем. Он – настоящий герой Горького, Достоевского, Чехова. В нем что-то страшное. Именно страшное. Сила, работоспособность, талант, ум, злость, зависть. Закономерное сочетание – соединение юдофобии с женоненавистничеством…
Ощущение грязи, физической грязи от высокоталантливого «Дневника» Суворина таково, что с ходу вспоминается «опавший листочек» его верного друга и почитателя Василия Васильевича Розанова: «Пришел вонючий разночинец. Пришел со своей ненавистью, пришел со своей завистью, пришел со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окружило его ореолом “мрачного демона отрицания”, но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу».
В сущности, и сам Розанов был такой же вонючий и грязный разночинец; такой же буржуй, как и Суворин. Но Розанов – гений. В нем вся грязь сгорала, лакей становился демоном. И какую настоящую песню в прозе пропел Розанов своему другу и работодателю! Как точно он понял главную силу Суворина – его чутье на таланты. Каков зачин коротенькой розановской заметки о Суворине: «С четырьмя миллионами состояния он сидел с прорезанным горлом в глубоком кресле».
Кино
Мюнхен. Randbemerkungen
Заметки о фильмах Мюнхенского кинофестиваля 2009 года
Одуванчики и зайцы. Символ мюнхенского кинофестиваля – одуванчик. Заставку киношную такую сделали: разлетающиеся в разные стороны пушинки. Это – правильно. В Мюнхене не одуванчики – одуванчищи. Ехал в поезде из аэропорта в город. За окном тянулись баварские поля и перелески. На обочине поля увидел вот этот самый цветок. Огроменный. Ну если из окна вагона видно. Такие же огромные, отъевшиеся в Баварии – зайцы. В деревне Тутцинг на берегу Штарнбергского озера, где утопился последний баварский король Людвиг II – не просто утопился, еще и психиатра своего утопил… так вот, в той самой деревне, которая на наш вкус и взгляд больше напоминает небольшой ухоженный городок с отелями, ресторанами, салонами красоты, книжными магазинами и тэпэ (не закончить фразу), в этой самой деревне у подножия пестро раскрашенной статуи святого Флориана, гляжу, сидят два гигантских зайца и жрут траву. У нас на побережье Финского залива живут в дюнах лисы. Так вот эти тощие, запуганные питерские лисы раза в два меньше наглых, наетых баварских зайцев. Еще о Тутцинге. На небольшой площади установлена мемориальная табличка: «Гросс-Нидер-Эберсдорф – наша вечная родина…». Далее поясняется, что сюда, в Тутцинг, в 1945 году была выселена вся немецкая деревня Гросс-Нидер-Эберсдорф из чешских Судет. Ну вот, потомки тех переселенных, выселенных на берег Штарнбергского озера, в котором последний баварский король утопился сам и утопил своего психиатра, помнят про свою вечную родину в Судетах.
В золотом пиджаке. В мюнхенском аэропорту безумному королю, покровителю Вагнера, создателю Нойшванштайна и Байрета, куда валом валят туристы, поставлен памятник. Позолоченный, блестящий. Худенький человек с остроугольной бородкой сидит в золотом, сверкающем пиджаке, нога на ногу. Его отставили от престола по медицинским соображениям. Тратил много денег на музыку и другие искусства, ну и прочие странности. Например, распорядился, чтобы министры во время всеподданнейших докладов надевали бы маски. Хотя если подумать, какая уж тут такая особенная странность? Если у министров были такие физиономии, что глаза бы не смотрели, то почему бы их не попросить спрятать неприличие? Очень разумная мера. Тем не менее признали сумасшедшим, отправили на берег Штарнбергского озера под наблюдение психиатра. Психиатр наблюдал, видимо, не очень внимательно. Чего-то не заметил. В результате утонул вместе со своим пациентом.
И еще собор… Двухбашенный. Башни не островерхие, как привычно в Европе, но округлые, отдающие Востоком, Азией. Красно-кирпичный. Главный. На стене привинчено предупреждение: ахтунг, мол, внимание то есть, при снегопаде и сильном гололеде у собора ходить опасно. В притворе показывают след оттиснутой в камне ноги дьявола. Не копыто, но сапог со шпорой. Рассказывают легенду, будто собор был построен с помощью дьявола. Черт заключил договор со строителем. Строитель каким-то хитрым образом обманул беса. Тот, разобиженный, усвистал ни с чем, оставил напоминанием след ноги, обутой в сапог, оттиснутый в притворе.
Вечная тема немецкой культуры, да-с? Пакт с дьяволом, а потом можно его обмануть – дьявол же. Забавно, что у русского писателя, испытавшего самое сильное немецкое влияние, чем только не прикрывавшего это влияние – и украинской этнографией, и русским национализмом, – та же тема удачного для человека договора с дьяволом. Гоголь, разумеется, и кузнец Вакула, использовавший черта для амурных своих дел.
Здесь, в этом городе, Людендорф и Гитлер устроили первый нацистский мятеж. Странно, что никто не обращает внимания на прусского генерала, помогшего и Ленину, и Гитлеру. Ведь это была идея Эриха фон Людендорфа о помощи русским экстремистам, левакам, пораженцам. Пакт с чертом – причем двухсторнний, обоюдоострый. Если для монархиста, генерала, пруссака Людендорфа Ленин и большевики были чертями, то и для Ленина Людендорф был вовсе не ангелом. Спустя почти 10 лет тот же Людендорф в Мюнхене становится союзником Гитлера. Потом проходят еще два десятилетия и в том же Мюнхене, спасая мир от угрозы войны, Чемберлен и Даладье отдают Чехо-Словакию Гитлеру. Пожалуйста, пожалуйста, берите Судеты, где большинство населения – немцы, только не устраивайте кровавую бучу. Гитлер взял и Судеты, и Прагу, и устроил кровавую бучу.
Горная река и улицы. Изар, главная река города, – бурная горная река. Вроде Терека. Любопытно, что никак эта ее бурность и горность в немецкой литературе не отразилась. А на ней перекаты, водопады, построены какие-то шлюзы, водоотводы, каналы. По берегам – парки, на перекатах – виндсерфинги. Улицы называют сказочно. Лерхенфельдштрассе – улица Жаворонкового Поля. Или Парадизштрассе – Райская улица. В Пинакотеку, музей изобразительных искусств, созданный дедом безумного короля, Людвигом I, упирается небольшая улочка под названием «Марианна-Вереффкина-Вег» – «Путь Марианны Веревкиной». Марианна Веревкина – дочь коменданта Петропавловской крепости, ставшая мюнхенской авангардистской художницей. Именно так, от политической тюрьмы к авангардистской живописи и чтобы уткнуться в Пинакотеку. Главная улица города – Зонненштрассе – Солнечная улица. Она не пересекает город насквозь, как Унтер ден Линден – Берлин, Елисейские поля – Париж или Невский проспект – Петербург, но обнимает старый город кольцом, как Садовое кольцо – Москву. Сам город напоминает Петроградскую сторону Петербурга, в которую вдруг вонзается готическая, красно-кирпичная церковь или распахивается парк, больше напоминающий лиственный, пусть и небольшой, но лес. Да, и вместо широкой Невы – бешеная горная река.
А про кино? Виноват. Обрисовывал окрестности, кулисы и декорации. Дело в том, что то был семинар Гете-института «Ангажированное кино», приуроченный к мюнхенскому кинофестивалю. Семинар начался 21 июня, кончился 5 июля. Фестиваль начался 26 июня, кончился 4-го. До его начала нам показали мюнхенский киномир. Сначала отвели во второй день в небольшой подвальчик на Фрауэнхоферштрассе, где показывают авангардистское, некоммерческое, скажем так, неформатное кино. Подвальчик располагается во дворике, над ним справа – пивная, слева – театрик. Называется подвальчик-кинотеатрик Werkstattkino. В переводе «Киноцех», «Киномастерская». В фойе кинотеатра на красной стене – всевозможные объявления. Среди них – фотография смеющейся девчонки и текст под ней, дескать, Андреа Вольф, родившаяся в Мюнхене в 1978 году, сражалась за свободу турецкого Курдистана, 23 октября 1998 года была схвачена турецкими военными, пытана, убита, где похоронена – неизвестно. Стало быть, адвокат, семья требуют хотя бы тело вернуть. Турецкие военные в замешательстве. Они столько курдов наколотили, что обнаружить среди них тело немецкой девчонки, у которой невесть откуда взялась курдская грусть, для них затруднительно.
В подвальчике показали широкоформатный цветной фильм шестнадцатилетней Елены Хегеманн «Торпедо». Она – дочка восточногерманского драматурга Хегеманна. Сняла полубредовой фильм про ровесницу, у которой мама в разводе с папой. Мама – пьющая артистка, папа – богатый обормот. Мама то ли переедает наркотиков, то ли вполне сознательно кончает с собой. Девочка переезжает жить к тетке. Все это изображено и сыграно вне хронологии, нарубленным в капусту киношным месивом.
Единственный по-настоящему замечательный эпизод – самое начало. Неплохая машина, на крыше которой деловито и лениво прыгает девушка. Машина недовольно гудит. Прохожие несколько ошарашенно притормаживают, интересуются, к чему эти прыжки и ужимки? Девушка поясняет, что, мол, владельца хотела бы видеть, поговорить, встретиться. Следующий кадр: вслед за девушкой бежит потревоженный автовладелец. Встреча состоялась.
Фильм вполне чудовищен. Две вещи в этом девичьем кошмаре стоят внимания. Первая – прорезывающийся сквозь бред характер. Ощущение дежавю, где-то я уже с этой милой девочкой встречался, читал про нечто похожее, мне уже нечто подобное показывали. Только теперь изменен угол зрения. Скажем так, тот же предмет, объект, но только смотрят на него – лежа, что ли? Потом соображаешь, прикидываешь: да это же удивительное, но закономерное соединение двух персонажей: Лолиты и Холдена Колфилда.
Не «Торпедо», но мост между этими двумя подростками, в которых влюблены взрослые. Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание, откровенно графоманский, неряшливый характер кинематографического текста. Это – свидетельство того, что кино становится искусством. На редкость богатая и плодотворная мысль Тарковского о кино, которое еще не искусство, поскольку слишком уж тяжело делается. Когда снимать кино станет так же легко, как писать, когда появятся кино-графоманы, вываливающие на экран через камеру свои обиды, мечты, комплексы, вот тогда кино начнет делаться искусством. Тарковский пояснил свою мысль таким примером: когда кинокамера станет такой же привычной вещью для интеллигентного человека, как ручка, тогда кино станет таким же настоящим искусством, как литература.
Насчет Лолиты. Мюнхен – город Лолиты. Людвиг I, основатель Пинакотеки, дед Людвига II, влюбился в 14-летнюю цирковую танцовщицу, полуирландку, полуиспанку, родившуюся в городе Лимерик, умершую в Нью-Йорке. Звали ее Лола Монтес. На сцене она выступала под именем Лолита. Четыре года длился роман цирковой танцовщицы и короля. Свое восемнадцатилетие Лолита отпраздновала проездом через весь чопорный, католический город верхом на лошади в мужском седле, в штанах и с голой грудью.
Мюнхен восстал. Нет, нет, он политически восстал. Мюнхенцы потребовали удаления из города блудницы. Людвиг I покорился. Лолита отправилась в Америку, где и умерла. Про нее написана книга Клауса Фукса, немецкого коммуниста и исследователя эротического искусства, «Лолита. История любви в карикатурах» и снят знаменитый фильм Макса Офюльса «Лола Монтес». Фукс писал свою книгу в Америке, Офюльс снимал фильм в Баварии. На местной баварской киностудии под тем же названием Bavaria.
Bavaria. Нас туда отвезли. Небольшой поселочек на окраине города. Вокруг лес. Цеха. Декорации. Выстроена улица города. Деревенская улица. Стоит подводная лодка. В ней снимался фильм Вольфганга Петерсена «Лодка» – про подводную лодку во время Второй мировой. Водят экскурсии. Показывают павильоны. Вот здесь снимался «Астерикс», здесь «Лодка», здесь «Комплекс Баадер-Майнхоф».
Фильм про левых террористов – Баадера, Ульрику Майнхоф, Гудрун Эслин. Назвали они себя «Фракцией Красной Армии» (Rot-Armee-Fraktion), получили боевую подготовку в лагерях палестинцев и держали в хорошем напряжении западно-германское общество взрывами, ограблениями банков, убийствами представителей власти. В павильоне снималась камера Гудрун Эслин. Полка с книгами, телевизор, небольшой столик, застеленная постель на полу, скрипка в черном футляре.
В рецензиях про этот фильм пишут, что, мол, снятый по документальному исследованию Ауста, он ни в коем случае не героизирует и не романтизирует террористов. Это – ошибка. Есть в этом фильме нечто такое, что поневоле вспоминаешь один «опавший листочек» Василия Васильевича Розанова. «Да знаете ли вы, господа, что в террор можно влюбиться?» Именно так. Таких «Бонни и Клайда» изобразили от политики, что просто сердце вздрагивает и поджилки радостно трясутся.
После камеры скрипачки и террористки продемонстрировали улицу, на которой снимались «Будденброки», четырехсерийный телевизионный фильм по роману Томаса Манна, писанному в Мюнхене, про купеческую семью из Любека. Томас рассказывал про свое родное. Чучело медведя, стоявшее в вестибюле дома Будденброков с бронзовой чашей для визиток, он не просто описал в точности таким, каким оно было в доме у Маннов в Любеке. Он это чучело взял с собой в Мюнхен. Медведь с бронзовой чашей скалился в прихожей его мюнхенского дома на Поршингер штрассе.
История медведя и Nemec. Теперь этот медведь стоит на втором этаже мюнхенского Literatur-Haus’a, нечто среднее между Домом писателей и Литинститутом. Историю медведя стоит рассказать. Когда Томас Манн эмигрировал из нацистской Германии, его имущество было конфисковано и распродано. Медведя купил торговец кожгалантереей Матт. Медведь скалил клыки на прохожих в витрине его магазина. Потом чучело зверя досталось дочке Матта. Потом его внуку. И уже внук в 2000 году подарил зверюгу с чашей мюнхенскому Дому писателей. Дескать, он нужнее вам.
Нас привезли в Literatur-Haus на вручение премий выпускникам мюнхенской Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) (Высшей школы телевидения и кино) за лучший сценарий. Премия – 3000 евро. Получил, нашел спонсора, добавил спонсорских денег и – снимай. Премию получил Станислав Гюнтер за сценарий Nemec. Каждый из вошедших в лонг-лист премии восходит на трибуну к микрофону и читает синопсис своего произведения. «Дабы дурость или мудрость каждого видна была», – как писал по схожему поводу Петр Первый.
Станислав Гюнтер пояснил, что Nemec по-русски значит Дойч. Это прозвище главного героя, русского эмигранта. Он ворует произведения искусства для своего босса, Гаврилова. Попадает в тюрьму. Выходит из тюрьмы. Знакомится с вьетнамкой, приемной дочерью немецкого профессора, коллекционера. Вьетнамка и Nemec влюбляются друг в друга. Приемная семья не в восторге от будущего зятя. В общем, правильно не в восторге. Ибо на горизонте появляется Гаврилов. Он заставляет Nemca ограбить профессора.
Nemec грабить-то грабит, но в какой-то момент что-то его останавливает. Он убивает Гаврилова, возвращает награбленное профессору и женится на вьетнамке. Станислав Гюнтер родился в Челябинске в 1978 году. Вместе с родителями перебрался в Берлин. Снял два фильма на Украине. Кто-то язвительный спросил его, мол, сценарий уж очень похож на либретто оперы. Гюнтер охотно согласился. И добавил, что очень любит оперу. Другая язва принялась расспрашивать, а не доводилось ли ему воровать произведения искусства? Гюнтер признался: нет, не доводилось. Автобиографической основы в сценарии нет.
«Клептомания» и одесский Париж. Тырить произведения искусства на Западе не составляет труда. Они не только в музеях, но и в церквях. А церкви охраняются не так плотно, как государственные учреждения или частные коллекции. У них охрана одна – вера. При таком раскладе удивительно, как и вовсе-то эти учреждения не обчистили под девизом, сформулированным еще Мережковским в стихотворении, знанием наизусть которого Леонид Ильич Брежнев порой пугал подчиненных: «Братья, / Ночь темна, никто не видит нас, / Много хлеба, серебра и платья / Нам дадут за дорогой алмаз. / Он не нужен Богу: светят краше / У него, царя небесных сил, / Груды бриллиантовых светил / В ясном небе, как в лазурной чаше…»
Одну студенческую кинокомедию на тему ограбления церкви мы посмотрели в той самой мюнхенской Высшей школы, каковую закончил Станислав Гюнтер. Дипломные фильмы там снимают на деньги, которые раздобывают сами. Нашел спонсора – снял дипломный фильм. Получается неплохо. Комедия, которую мы посмотрели, тарантиновского разлива. Как совершенно справедливо заметил в свое время Сергей Добротворский: «Тарантино распахнул двери в тот мир, войти в который легко, но выйти невозможно».
Три комедии, посмотренные в Мюнхене «Бриллиантовая свадьба», «Под течением» и «Клептомания» – тарантиновского образца. Как ни странно, студенческая «Клептомания» лучше прочих. В ней есть какая-то веселая, гайдаевская, одесская дурь. Главный герой по имени Борис страдает клептоманией и тянет все, что только ни попадется под руку. В конце концов он уворывает из церкви статую Мадонны. Статуя оказывается невесть какой ценной. Объявляется чуть не интерполовский розыск.
Борис, перетрусив с социальной стороны, а с метафизической – угрызаясь и каясь, пытается тайно вернуть Мадонну в храм. В результате Мадонну возвращает, но сам гибнет. Результат – забавный, в равной мере свойственный и католической, и православной традиции. Грешник, который борется с грехом, почти свят. Ибо каждый грешен, но тот, кто осознаёт грех в себе, уже почти спасен. Тема (надобно признать) вполне тарантиновская. («А я… я – воплощение зла человеческого, но я стараюсь, я стараюсь быть пастырем…»)
Разумеется, у автора фильма, Штеффена Заке, поинтересовались, почему его герой – Борис? Режиссер ответил, что он знает: «Борис» по-русски вроде как означает: «Борись! Kämpfe!» – и ему показалось, что для его героя этот призыв очень органичен. Он ведь борется и со своим пороком в себе, и с всевозможными препятствиями вокруг себя. На вопрос, откуда он так хорошо знает русский язык, автор комедии «Клептомания», ответил интереснее. «Да нет, – сказал он, – я-то русский совсем не знаю. А вот моя бабушка русский знала прекрасно. Родом она была из немецкой колонии Париж, что под Одессой. И папа ее, мой прадедушка Хеер, был в этой колонии бургомистром».
«Потому что ты – человек…» Один дипломный фильм, показанный нам, был почти гениален. Это – документальный фильм. Называется он строчкой из стихотворения Брехта «Потому что ты – человек…» (Weil du Mensch bist), снят про детей в летнем оздоровительном лагере, но трактовки предполагает широчайшие: от еще одного убедительного инварианта «Повелителя мух» до вечной трагедии левого интеллектуала; от рассказа про детскую жестокость до сентиментальной истории про одиночество Дон Кихота.
В сущности, фильм попадает в самую суть спора между левыми и правыми. «Человек по природе добр, уберите мешающие его доброте социальные условия, и вы поразитесь силе его добра» – вот основа любого левого мировоззрения. «Человек по природе зол, всевозможные социальные ограничения только сдерживают его природное зло. Уберите эти ограничения, и такого монстра получите – ад содрогнется…» – основа любого правого мировоззрения.
На самом деле, и правое мировоззрение не так уж неправо, и левое не так уж ошибается. «Потому что ты – человек…» – вопрос и проблема, а не утверждение. Словом, снимается летний оздоровительный лагерь для детей в Швеции. Лагерь создан социалистической организацией, потому практикуется там детское самоуправление, и вожатые под гитару поют Брехта: Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei… – в общем, ты войдешь в наш единый рабочий фронт не только потому, что ты рабочий, но и потому, что ты – человек…
Удивительная, парадоксальная мысль Августа Бебеля, токаря, депутата рейхстага и руководителя Социал-демократической партии Германии в начале ХХ века: социализм приходит ко всем, у кого есть человеческое лицо. В социализме исчезают классовые, сословные различия, остается одно – человеческое, слишком человеческое. Мысль эта не так проста и демагогична, как может показаться на первый взгляд. Уже хотя бы потому не проста, что встает интересный вопрос, а что такое человек? Просто человек – вне классов, сословий, наций?
Попытка пересказа. Хороший фильм не пересказать, а хороший документальный фильм не пересказать тем более. Соединение движущихся картинок почти не перелить в слова, хотя уродливые условия советского общества создали невозрождаемый жанр: покадровый устный пересказ фильма. Каким-то чудом один человек увидел «Теорему» Пазолини и пересказал так, что спустя десятилетие другой человек посмотрел означенную «Теорему» и не смог избавиться от ощущения дежавю: я где-то уже это видел. Не слышал про это, но… видел.
Другое дело, что глаза бы мои на это не смотрели – но это другое дело. Ну попытаемся хоть как-то приблизиться к подобному чуду. Стало быть, по-советски говоря – пионерлагерь с детским самоуправлением и вожатыми. Среди детишек – один особенно запоминается: в очках, нелепый, маленький, все время с книжкой. И сразу в камеру заявляет: я – социалист. И прямым текстом все социалистические пошлости не только про фабрики рабочим, землю крестьянам, мир народам, но – главным образом про то, что «счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным».
Поскольку в зале сидят кроме датчанина Ларса Фрама, исландки Хрен Мариносдотир, южнокорейца Джун-Су Ли, индийца Дру Рая Нагара и бразильянки Данилы Бустаманте еще и болгарин Васил Русев, украинка Марианна Бондаренко, румынка Озанна Оанзеа, словенец Вен Джемержич, полячка Мария-Магдалена Гират, латышка Эллина Райтере, венгерка Анита Вираг и ваш покорный слуга, то в восточноевропейской части аудитории начинается всеобщий хихикс. А потом хихикс застревает в горле, потому что социалист этот маленький, нелепый, с вычитанными из книг представлениями о жизни, нипочем не вписывается в среду нормальных рабочих подростков, которые обижают, унижают его, издеваются над ним.
Бумажный солдат… Осчастливить мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а самого себя не смог сделать счастливым. Там есть сцена, где с носа бедолаги в шутливой (пока шутливой) драке сшибают очки… Он ползает по палатке и кричит: «Где мое лицо? Я потерял лицо… Где мое лицо…» Находит очки, выскакивает из палатки, бежит в лес, обормоты просто загинаются от смеха, знай себе повторяют очень смешные слова: «Где мое лицо? Я потерял лицо…»
Они – люди. Поэтому они могут быть очень жестоки, а могут быть очень добры. Потому что они люди. Последние кадры фильма – дискотека. Ребятушки танцуют на опушке, социалист лежит один-одинешенек в палатке, завернувшись в спальный мешок. Поворачивается к кинокамере, дескать, ну что вы на меня смотрите? Плохо мне… Отстаньте от меня. Он – одинок, слаб, обижен, потому что он – человек.
Документальные фильмы. У восточноевропейской части аудитории к режиссеру Штефану Хильперту естественным образом возникло два вопроса. Первый был похож на тот вопрос, который задали Бабелю в редакции «Нового мира», когда тот принес рассказы из своей «Конармии»: «Если вы знали, что в „Конармии” творятся такие безобразия, почему вы сразу не писали… в прокуратуру?» – «Если вы видели, что над ребятенком так издеваются, как же вы камеру не отложили и не вмешались?»
Ответ был приблизительно такого свойства, что у каждого свое дело: кто фильм снимает, кто детей воспитывает. Непрофессиональное вмешательство может только помешать, а не помочь. Второй вопрос был насчет родителей социалиста. Они-то фильм посмотрели? «Конечно, – отвечал режиссер, – конечно, посмотрели и решили, что несколько неправильно воспитывали сына»… Мудро, хотя и жестоко. Вообще документальные фильмы очень здорово снимают в Германии.
Тому есть несколько причин. У них рука не дрогнет. Во всех смыслах. Будут продолжать снимать и не вмешаются. Затем вот что еще: по нынешним временам разболтанной камеры, когда снимают, как в жизни, и изображение на экране мотает из стороны в сторону, словно ты на палубе большого парохода, немцы всё одно держат камеру, как оптический прицел на мушке снайперской винтовки. Документальность от этого не исчезает, но приобретает следы драматургической четкости, строгой сюжетности.
Документальные фильмы у немцев – замечательные. Комедии – странные. Детективы – чудовищные. Lost town (реж. Йорг Адольф) – документальный фильм про двух молодых немецких архитекторов из Мюнхена, решивших построить церковь в море у побережья Восточной Англии, – смотрится с напряжением настоящего детектива. Этот фильм стоит смотреть в связке с давним грузинским, советским еще фильмом «Необыкновенная выставка», ибо снят он про то же: про великую тщету художнических усилий в столкновении с враждебной или равнодушной реальностью.
Просто интересно, как грузины аранжируют эту тему в лирическую комедию, а немцы – в документальный, едва ли не документированный фильм. Два молодых архитектора из Мюнхена, он и она, придумывают построить церковь в море. Церковь в виде гигантского органа. В трубах органа отражаются море и солнце, восходы, закаты и корабли. Очень красиво, хотя и немножко инопланетно. Жутко-с. Хотя… любая новая архитектура поначалу… инопланетна. Потом глаз привыкает к ней, как нога к новому ботинку, но на первых порах зрение набивает мозоль.
Искусство и демократия. Итак, проект молодых архитекторов выигрывает конкурс. Им говорят: ищите место, согласие прихожан, часть денег мы вам дадим, часть раздобудьте сами – и будет вам счастье: церковь в море. Архитекторы находят место у побережья Восточной Англии. Побережье это сыплется, оседает; архитекторы готовы разработать проект по укреплению берега. Они даже такое место находят, где по легенде во время прилива слышны колокола затонувшей церкви. Церковь действительно затонула, насчет колоколов – непонятно. Чего только не услышишь в час прилива…
Архитекторы встречаются с властями городка, напротив которого собираются выстроить церковь. Власти говорят: «Да мы-то пожалуйста, но что скажут прихожане…» А прихожане говорят: «Нет! Лучше дайте нам денег на реставрацию старого храма, а помогать бредовому самовыражению сопляков из Германии мы не намерены…» Нет, они так не говорят. Они очень уважительно говорят о молодых талантах, но… им, прихожанам, здесь жить. Им не нравится гигантский орган, который высунется из моря напротив их домов. Они к другому привыкли. Нет, и все.
Фильм снят с великолепным пониманием правоты прихожан и правоты архитекторов. Становится понятно, что демократия вовсе не обязательно революционная сила. Она может быть консервативна, и еще как консервативна-то. В любой империи, хоть сталинской, хоть ленинской, хоть петровской, их и спрашивать не стали бы. Просто построили бы и рявкнули: «Привыкай к блестящим трубам, торчащим из моря!» Баста! А в случае демократии: убедите этих людей, что трубы будут хороши, что они им понравятся, тогда и стройте.
Архитекторы убеждают, но у них не получается. Потому что они молодые, житейски неопытные. В архитектуре разбираются, в человеческих отношениях не очень. Лица замечательные. Она – весело-спокойная, деловитая. Он – нервный и нервничающий. В какой-то момент, когда видишь, как на собрании прихожан он вертится, кусает губы, теребит бородку и сдерживает слезы, а она уверенно, с улыбкой отвечает на вопросы, возражает или соглашается, хочется крикнуть в экран: «Да спрячь ты этого своего психованного гения под стол и веди дело сама – лучше получится».
В общем, в другом городке им удается убедить прихожан построить такую церковь. И то, только потому, что на помощь приходит местный пожилой судовладелец. Согласие получено, место выбрано, теперь надо найти спонсора. И вот они уже с судовладельцем ищут спонсора. И не находят. А пока они ищут этого спонсора, чего-то еще строят, какую-то мелочовку. Сын у них рождается. Вообще жизнь идет, но вместе с этой своей жизнью они всюду таскают свою модель – трубы органа, встающие из моря.
Всякий, кто смотрел «Необыкновенную выставку», помнит глыбу каррарского мрамора, стоящую во дворе архитектора Эристави. Из этой глыбы он создаст такое… Да вот так и не создает. Потому что жизнь, среда, реальность, семья и всякое прочее. В конце фильма архитектор и архитектриса, получившие по всем линиям отлуп, выпивают у печального, пожилого судовладельца… Архитектор видит печаль того, кто изо всех сил старался им помочь, и говорит: «А все равно такую церковь построят. Не мы, так другие… Вся Англия может осыпаться в море, а такая церковь будет, раз ее придумали».
Панк-дворянка. Немецкая четкость. Точность. Даже когда они пытаются снять фильмы валандающейся из стороны в сторону камерой про валандающуюся из стороны в сторону жизнь, вроде фильмов Валерии Гай-Германики, у них все равно не получается. Все равно история рассказывается четко и картинка четка, ну порой слегка накренена, не более. В рамках семинара нам показали первый художественный фильм Юлии фон Гейнц Was am Ende zählt, получивший первый приз немецкой критики. Название перевести затруднительно. Точнее всего: «Главное то, чем все закончится…»
«Конец – делу венец» – уже похуже. Панковская коммуна в Берлине, куда попадает интеллигентная, робкая девочка. Это – немецкая панковская коммуна, поэтому подворовывают и балду гоняют они спорадически, а так-то взяли кредит, на этот кредит приобрели кораблик на Шпрее, приводят его в порядок, драют, чистят, чинят, чтобы потом починенный и отдраенный кораблик продать. Однако ж это все-таки панковская коммуна, поэтому в первую же ночь интеллигентную робкую девочку атаман, что ли, в общем, лидер коммуны трахает.
У девочки в результате ребенок. Она стесняется говорить, что беременна. И аборт делать боится. Рассказывает только своей подруге. Дальше начинается фантастика для нашей, российской жизни, но Юлия фон Гейнц – из дворянской, западно-берлинской, с жесткими традициями и условностями семьи, удравшая в панковскую коммуну – уверяет, что материал фильма почти автобиографический. Такой случай имел место быть с ее подругами. В скобках заметим: «фон», пусть и не барон, куда как ощутим в фильме прусской дворянки про берлинских панков. Поразительная, мимозистая, до вздрога брезгливость в соединении с такой же жизнестойкостью. Дворянка в панковской коммуне сразу выявляет главные особенности этого сословия: нежная кожа и крепкая кость. Поморщится, но… выживет. Первый фильм Юлии фон Гейнц был про современную дворянскую семью в Западном Берлине, про ее нелепые условности, спесь и оторванность от жизни. Это был документальный фильм. Художественный, стало быть, получился про погруженность в жизнь и про отсутствие каких бы то ни было условностей. В чем, как вы сами понимаете, тоже ничего хорошего нет.
Долго пересказывать все особенности социальной политики в Берлине не будем, но, в общем, две 15-летние девчушки под будущего ребенка получают двухкомнатную квартиру. Далеко от центра, конечно, и захезанную, до последней степени, и дверь можно ногой вышибить (что и происходит впоследствии), но… квартиру. Получают они такую квартирку благодаря тамошней комиссии по делам несовершеннолетних. Браво, комиссия! Одна из девчушек ребятенка рожает, и они принимаются ребенка растить.
Мужики им совершенно ни к чему. Только мешают. Когда один из нас (в смысле, мужиков) устраивает скандал с вышибанием ногой двери, ребенок в результате чуть не гибнет. Но девки его выхаживают и дальше собираются растить без привлечения мужского элемента. На прямой вопрос о мужененавистничестве своего фильма Юлия фон Гейнц ответила презрительным фырком, мол, все критики почему-то в это только и упираются. Почему мужененавистничество? У нее, например, муж и двое детей. Нет, это не мужененавистничество, это просто констатация факта: женщины не столько угнетаемы другими, сколько сами себя угнетают.
Лицо у Юлии фон Гейнц – удивительное. Долго не можешь сообразить, где же ты это лицо видел, а потом соображаешь: в Пинакотеке! На старых немецких картинах. Вообще на старых картинах. Переодень ее из джинсов и джемпера в роброны и кринолины – будет смотреться так, словно там и родилась, в робронах и кринолинах, а уж потом перебралась к лихим ребятам из предместий, ударом ноги вышибающим двери, чтобы выяснить, от кого вот этот ребенок и кто его из вас, баб, родил?
Макс Маннхаймер. Он живет в Мюнхене. И фильм про него сняли в Мюнхене. Он – один из немногих оставшихся в живых узников Освенцима и Дахау. Дахау – пригород Мюнхена. Одна из улиц города так и называется Дахауэрштрассе, ибо упирается туда, в пригород вроде нашего Купчина, где был устроен один из первых концлагерей. Маннхаймер был на фильме, снятом про него. Der weisse Rabe – Max Mannheimer («Белый ворон – Макс Маннхаймер») – так называется фильм. Старый седой человек рассказывает все то, что не может забыть.
Иногда шутит, иногда сдерживает слезы, иногда дает точную справку. После фильма я подошел к нему и обратился по-немецки. Он внимательно выслушал мой немецкий и, усмехнувшись, заговорил по-русски. Я изумился. Он пояснил: «У меня в Освенциме был друг. Он никаких языков, кроме русского не знал. А вообще я знаю польский, чешский, новоеврейский, английский… Я в Освенциме эти языки узнал». Я поинтересовался, не устал ли он. Он объяснил: «Если до 90 не устал, значит, уже не устану, а вообще мозг в ногах, если ноги держат, значит, все нормально».
Пакт с дьяволом. Случайно, закономерно, сознательно, подсознательно, но три самых характерных фильма мюнхенского фестиваля оказались про пакт с дьяволом, про договор со злом. Один – уморительная страшилка Терри Гилльяма «Воображариум доктора Парнассуса», которой и открылся кинофестиваль. Дьявола в этом фильме играет Том Уэйтс. И лучшего дьявола я до сих пор не видал. Он такой потертый, трепаный, грязный, даром что в котелке и с сигарой. Просто замечательный дьявол из воландовской свиты. Буддийского монаха, который вечно заключает с дьяволом пари и никак не может выиграть – впрочем, и проиграть тоже не может, – играет Кристофер Пламмер. Это не так хорошо, но тоже славно.
Лучше всех – вмешавшийся в вечную прю нищего, пьющего Добра и грязного, богатого Зла английский жулик в исполнении Джонни Деппа. Мало того что он сунулся в спор дьявола с монахом, он еще умудрился «кинуть» русских мафиози. А вот это уж совсем рискованно. Русские сцены в фильме уморительны. Когда мафиози таки очучиваются в лапах дьявола и Том Уэйтс на нечистом русском языке рычит с экрана: «Парррни! Мы рррвем когти в Чикаго!» – я испытал что-то похожее на извращенную гордость. И здесь мы им показали…
Русско-террорная тема. Скорее уж эмигрантская. Как без нее? Тарантиновская комедия Михаила Купчика Diamantenhochzeit («Бриллиантовая свадьба») не пересказываема по причине малоаппетитности фабульного задания: как извлечь из трупа бриллианты. Но главное не эта дурь, а то, сюжетным стержнем какого повествования она является. Это рассказ про то, как отпрыск польской эмигрантской семьи женится на дочери нормального мюнхенского бюргера. И сам жених, и его папа с мамой – без пяти минут преступники, авантюристы и обормоты.
Но… они живые, веселые, обаятельные. Они (вот ведь неожиданно перевернутая евангельская цитата) – «соль жизни». Без них жизнь станет донельзя скучной, хотя с ними жизнь уж чересчур интересна. Когда на свадьбу приволакивают труп с бриллиантами и полуживого бандита с револьвером, то саспенса тут не оберешься. Причем не на одной только свадьбе – это ясно. Вообще завидный, уважительный интерес к нарушителям общественного спокойствия заметен чуть не во всех фильмах.
Приз Бернда Бургермейстера за лучший телевизионный фильм получил фильм Нины Гроссе Der verlorene Sohn («Блудный сын») про исламского террориста. Фильм – плохой, но он интересен как симптом, знак. В семье у немецкой женщины два сына от разных отцов. Бывает. Один – современный немецкий обормот, ничем не интересуется, только музыку слушает. Другой – благородный араб. Очень интересуется борьбой за освобождение Палестины. Уже успел побывать в Израиле и возвращен оттуда в Германию – нельзя сказать, что с благодарностью.
За ним установлен надзор. Мама поначалу очень возмущается полицейским вмешательством, но когда понимает, что красивый, строгий юноша связан с самыми настоящими террористами, сама бросается к правоохранительным органам. Ан поздно. Поздно для ее сына, поскольку его приходится убить прямо на вокзале, чтобы он этот самый вокзал не взорвал. Мама видит гибель сына и рыдмя рыдает. Сюжетные несообразности фильма побоку. Немецкий детектив, как и русский, – ужас что такое. Происхождение, что уж тут сделаешь.
Англосаксонский детектив вышел из новелл Эдгара По, где главное – расследование. Русский детектив вышел из «Преступления и наказания», немецкий – из «Мадмуазель Скюдери» Гофмана. И там, и там главный расчет на то, что преступник или заносчиво проболтается, или, путаясь в слезах и соплях, покается и все расскажет сам. «Признание обвиняемого – царица доказательства!» – это Вышинский у Достоевского прочитал, потом уж применил на практике.
Главное в фильме – на редкость уважительное изображение убежденного террориста. Хлипкий, нервный, современный немецкий подросток изображен с не очевидным, но легко считываемым сожалением: вот ведь оболтус! Ну никакого стержня. Валяется на диване и рок-музыку слушает. Впрочем, я уже цитировал Василия Васильевича Розанова касательно того, что в террор можно влюбиться. Есть и еще один поворот темы, касающийся как раз русско-немецкого детектива. Невозможно представить себе англосаксонский детектив, в котором женщина сначала орала бы на полицейских: «Как вы смеете вламываться в нашу жизнь и шпионить за моим сыном», а потом к тем же полицейским с тем же темпераментом взывала бы: «Спасите, помогите! Мой сын счас взорвет вокзал, он уже взрывчатку взял и поехал…» А в нашем русско-немецком котле такой бурунчик вполне, вполне возможен.
Знак поражения. Воротимся к дьявольской теме. К теме зла, прочно вросшего в жизнь. Два самых сильных фильма мюнхенского фестиваля посвящены этой теме. Один получил почетный приз фестиваля. Это – фильм Михаэля Ханеке Das weisse Band («Белая лента»). Другой получил приз как лучший иностранный фильм. Это – Kinatay филиппинца Брилланте Мендозы. Они во всем разнятся, эти фильмы. Кроме вот того самого ощущения дьявольщины, вцепившейся в жизнь, умело и прочно расположившейся в окружающей действительности.
Фильм Ханеке – красив. Подчеркнуто старомоден. Хоть каждый кадр вырезай и вставляй в рамку. Натюрморт. Портрет. Жанровая сценка. Пейзаж. Причем пейзаж – и вот это особенно впечатляет – почти российский. Первый кадр – поле и березка. Восточная Пруссия – тоже ведь Восточная Европа. Но это прибранная, вылизанная, вычищенная Восточная Европа. От этой строгой прибранности и вычищенности в какой-то момент становится жутко.
Восточнопрусская деревня кануна Первой мировой войны. Фильм кончается тогда, когда начинается Первая мировая… По-моему, никто не заметил важности заглавия. «Белая лента». В фильме она не так часто и появляется. Пастор повязывает белую повязку на рукав своего сына, если тот в чем-то, по мнению пастора, провинился – онанировал, опоздал к обеду, соврал, в общем, согрешил. Ну и что? Почему важна белая повязка в фильме про Восточную Пруссию кануна Первой мировой, снятом немецким режиссером, который родился в 1942 году, в самый разгар Второй?
Белые повязки повязывали немцы, когда в город вступали войска союзников. Всё. Это – знак поражения, капитуляции. Елена Ржевская в своей книге «Берлин, май 45-го» пишет о том, как это жутко, когда целая страна повязывает белую повязку. Собственно, о том и снимает фильм Ханеке. О будущем поражении. Не военном – метафизическом. Не о поражении в войне с русскими, американцами, англичанами, но о поражении перед злом. История, рассказанная в фильме, проста, как и его кадры. Очевидна. Мораль вычитывается, словно в басне.
Свирепое прусское воспитание, страх наказания за малейшую провинность делает из человека – зверя. Пастор, воспитывающий своих детей в страхе божьем, воспитывает их в готовности к дьявольщине. Попросту говоря, в восточно-прусской деревне среди подростков образуется секта. Их запугали, задергали, передрессировали. У них слегка поехали мозги. Если они и так преступники, осужденные на вечные муки за опоздание к обеду, то почему бы не выпороть сына помещика, или не выколоть глаза сыну служанки доктора, или не поджечь господскую ригу? Если они и без того грешники, то почему бы не быть грешниками по полной программе?
Воспитательская жестокость порождает ответную жестокость. Ребята готовы к тому, чтобы повязать белую повязку поражения, но не потому, что опоздали к обеду, и не потому, что проиграли в двух войнах и потеряли вот эту тщательно ухоженную землю, а потому, что почувствовали сладость зла, сладость доставления слабейшему боли. Фильм – черно-белый. Подчеркнуто черно-белый. Во-первых, чтобы подчеркнуть его старомодность. Мол, можете считать, что я рассказываю страшную сказку, которыми так богата Восточная Европа. Во-вторых, чтобы подчеркнуть его притчевость, почти басенность.
«Белая лента» – кинематографический эквивалент четырех строчек из «1 сентября 1939 года» Уистена Одена:
What huge imago made A psychopathic god. Those to whom evil is done Do evil in return. (Из какой личинки возник Неврастеничный кумир. Кому причиняют зло, Зло причиняет сам.)Будни филиппинской полиции. На самом деле, это еще вопрос: строгое воспитание губит или не строгое. Покуда я был в Мюнхене, у станции метро «Зедлингер Тор» трое старшеклассников из Швейцарии, приехавших в Мюнхен отдохнуть и поразвлечься, перебрав пивка, до полусмерти измордовали пятидесятилетнего мужика. Я не думаю, что в их учебном заведении их жучили так же, как жучил своих отпрысков пастор в восточнопрусской деревне. А вот поди ж ты, ни с того ни с сего нанесли тяжкие телесные повреждения совершенно постороннему человеку. Так что неисповедимы дороги зла.
Однако вернемся к фильмам. Филиппинец Мендоза снял полную противоположность «Белой ленте». Насколько фильм Ханеке красив, напряжен, статуарен, настолько «Кинатай» – отвратителен, разболтан, раздерган. Оттуда ни одного кадра не вычленишь. Это не картинка к картинке, а жутковатый, подслеповатый какой-то поток, нервный, стиснутый, потный. День и ночь. Утром курсант полицейской школы женится. Днем идет на занятия в школу. Вечером и ночью едет на первое дежурство. На практику.
Женятся на Филиппинах тогда, когда дети появляются. Так что курсант – молодой отец. Отделение, к которому его прикрепляют на практику, элитное. Им позволено ходить без формы. Так что отличить полицейского от бандита нет никакой возможности. На этом сыграл когда-то Люк Бессон в «Леоне-киллере». Но у Бессона именно что театр, игра, а у Кинтаны – такой гран-гиньоль: «Груз 200» кланялся. За время ночной службы молодой курсант стал свидетелем того, как старшие опытные товарищи наказали провинившуюся торговку наркотиками. Избили, изнасиловали, затем расчленили тело и разбросали куски по дороге.
Усталый и измотанный будущий филиппинский полицейский после ночной смены возвращается домой, где его женушка с дитем на руках готовит ему завтрак. Реакция одного немецкого зрителя показалась мне любопытной. В самый жуткий момент, когда у полицейского, расчленяющего тело торговки наркотиками, сломалось мачете и рассерженный работник службы дня и ночи крикнул молодому, начинающему: «Да принеси ты мне нож нормальный, острый, он на кухне в столе…» – да, в этот самый момент немецкий зритель вздохнул и стал выбираться к выходу.
Он вернулся минут через пять с двумя бутылками пива. Так что следующий диалог он наблюдал уже под пиво: «Да… Совсем девчонка была. У меня дочка ее возраста». Жуть фильма Мендозы – в абсолютной будничности зла, в обыденности жестокости. Покуда один полицейский лупцует в подвале торговку наркотиками, другой задумчиво говорит молодому практиканту: «Жрать хочется. Сходи, купи гусиные яйца и пивка. Тут недалеко. На вокзале». Если в пересказе фильма появилась нотка ерничества, то это от невозможности передать жуткое, ошарашивающее впечатление. Некоторые вещи иначе как с дурацкой ухмылкой не перескажешь. Защитная реакция, что тут скажешь…
Еврипид Голливуда
(Квентин Тарантино. «Джанго освобожденный)
Ему упорно не дают главного «Оскара». Обходят по кривой. Он может получить «Оскара» за лучший сценарий, его артисты могут получить «Оскара», но весь его фильм никогда не будет отмечен главной наградой. Это напоминает ситуацию с великим драматургом древних Афин Еврипидом. Тот тоже никогда не выигрывал приз на Дионисиях. Первый приз получила только последняя его трагедия «Вакханки».
Негр на лошади. В сопоставлении Еврипида и Квентино Тарантино нет ничего незаконного. Древнегреческие трагедии были таким же массовым жанром, как и современный кинематограф. Во всяком случае, тот кинематограф, в котором работает Тарантино. Они были рассчитаны на любого зрителя, на искушенного и неискушенного. Они были рассчитаны на зрительский успех. Без зрительского успеха они и существовать бы не могли.
Ненаграждение призом, однако, некий важный знак. Чего-то болезненного, мучительного для древних афинян касался Еврипид, за что награждать не хочется. Точно так же и Тарантино касается чего-то очень болезненного. За такие прикосновения не награждают. Причем поскольку Тарантино очень умен, то прикосновения эти чувствуют профессиональные люди. Неискушенный зритель видит стрелялку, вестерн, боевик, правда, немного странный боевик. Эта странность только привлекает внимание зрительской массы.
Яркий тому пример: въезд негра Джанго и его белого друга в техасский городок. Техасский городок 1858 года замирает – негр в ковбойской шляпе въезжает в город. Он сидит, как влитой, в седле. Он едет, спокойный и невозмутимый, как герои Клинта Иствуда, Франко Неро, Юла Бриннера. Едет, как имеющий право. Так ведь это же он не в техасский городок 1858 года въезжает. Он въезжает в американский, а равно и мировой кинематограф. До сей поры в кино не было такого героя, какого сыграл Джеймс Фокс в фильме Квентино Тарантино.
Он играет роль, жанром вестерна предоставляемую белым. Умного, жестокого, играющего по своим правилам, хитрого, пусть и своеобразно благородного, но… убийцу. Такого еще не было. На самом деле это – взрыв жанра. Взрыв традиционного представления, заложенного в американской культуре. Можно было снимать восстание белых бедняков против призыва на войну за освобождение негров, как в «Бандах Нью-Йорка», можно было снимать несчастного негра-адвоката, за которым охотятся белые расисты, как в «Освобождении Лорда Байрона Джонса», можно было даже снять негра, который решается убить и убивает расиста, как в том же фильме, можно было снимать идиллический мир южных штатов, взорванный гражданской войной, как в «Унесенных ветром», но снять негра, такого же, как белый ковбой? Негра – охотника за головами, который на вопрос своего белого партнера и друга: «Тебе нравится то, чем я занимаюсь?» – фыркает: «Убивать белых и получать за это деньги?» Спрашиваешь…
Политкорректность. В Рунете одна неглупая и потому особенно противная расистка (а в России сейчас расистов побольше, чем в Америке) припечатала «Джанго освобожденного»: «Политкорректная муть». Мне очень понравилось ее определение. Во-первых, потому, что не стоит браниться словом «политкорректность». Это не бранное слово. Политкорректность – это вежливость в политике. Не более, но и не менее. Человеческие отношения очень сложны, а политические отношения и того сложнее, потому, если ты не в теме, не в материале, не уверен в своих знаниях человеческих и политических отношениях, по крайней мере будь вежлив, будь корректен.
Во-вторых, я-то помню время, когда после первых появившихся фильмов Тарантино мне приходилось безуспешно объяснять своим приятелям, что Тарантино вовсе не расист. «Да ты что, – говорили мне, – да он же нарушитель политкорректности. Да у него через слово – “ниггер”. Да у него негр-киллер издевается над белым, перед тем как убить бедолагу. Да у него Сэмуэль Л. Джексон в “Джекки Браун” играет такого негра-злодея, убийство которого воспринимаешь со вздохом облегчения…»
Приходилось вспоминать высказывание одного из основателей сионистского движения в России, Владимира Жаботинского: «Евреи должны иметь право на своих мерзавцев». Почему, если в фильме появляется обаятельный, умный, сильный белый злодей, никто и не подумает обвинить создателя фильма в негритюде (черном расизме)? Негры, как и белые, должны иметь право на своих мерзавцев. Что же до слов, то в серьезном фильме дело-то не в словах, а в человеческих отношениях. Мало кого я смог тогда убедить, до той поры пока сам Тарантино не сказал в одном из своих интервью: «Мне кажется, в прежней своей жизни я был негром на плантациях».
В-третьих, по количеству того, что можно счесть неполиткорректностью «Джанго, освобожденный», не уступит ни «Бешеным псам», ни «Криминальному чтиву», ни «Джекки Браун». И если этот его нынешний фильм воспринимается как «политкорректная муть», то это значит: «Еврипид Голливуда» расширил область политкорректности. Сделал возможным проговаривать то, что до него четко выговаривать было… невежливо, чтобы не сказать – непристойно.
И то, «черномазый» и «ниггер» в «Джанго…» употребляется столь же часто, как и в других тарантиновских фильмах. Доктор Шульц (Кристоф Вальц) в полном потрясении выслушивает от своего черного друга Джанго: «Ты хочешь, чтобы я сыграл черного работорговца. Но в черном работорговце нет ничего хорошего. Это еще хуже, чем ниггер-управляющий». Справившись с волнением, белый европеец, ставший американским охотником за головами, пристукивает по столу рукой: «Отлично, покажи мне самое черное, что есть в тебе».
Джанго показывает, скачет вдоль бредущих по дороге негров-рабов с жестоким присловьем: «Учтите, ниггеры, для вас я страшнее белого», останавливает Шульца, когда тот хочет выкупить пойманного раба и тем спасти от гибели: «За этого черномазого мы и пенни не дадим», спокойно отвечает рабовладельцу на вопрос: «Так что же мне с ним делать?» – «Это – твой негр» и так же спокойно смотрит на то, как беглеца терзают собаки. И все это только подход, только прелюдия к самой главной неполиткорректности Квентино Тарантино, к появлению идейного, убежденного черного раба, управляющего имением рабовладельца, Сильвера (Сэмуэля Л. Джексона).
Черный кардинал. Тарантино аккуратно, четко выстраивает свои фильмы. Инженерные конструкции его фильмов безукоризненны. В «Джанго» он проводит две параллельные прямые, которые по всем законам искусства и неэвклидовой геометрии пересекаются: белый доктор Шульц и черный Джанго – враги рабства, враги раздельного существования рас; белый плантатор Кэнди (Ди Каприо) и его черный управляющий Сильвер – сторонники рабства и раздельного существования рас.
Образованность, начитанность Тарантино странна. Кажется, что он порой играет в свою необразованность и нахватанность. Когда в «Бесславных ублюдках» нацисты гибнут в огне и дыме, а на огненном фоне проступает колеблемое пламенем и дымом лицо хохочущей еврейки, человек, хорошо знающий немецкую литературу, прочтет визуальную, видимую цитату: «Огненное зеркало правды» – образ из «Оды к радости» Шиллера, музыку к которой написал Бетховен. Знает эту оду Тарантино? Или это у него получилось случайно? Бог весть… Потому что даже если и знает, то не скажет. Это разрушит умело создаваемый им образ лихого парня, снимающего лихие кинухи.
Вот так и с темой «Кэнди-Сильвер» в «Джанго освобожденном». Знает ли Тарантино, что эта его история является точной иллюстрацией парадокса Гегеля о «господине и рабе»? Похоже на то, что знает. Гегель вот что заметил: раб становится господином своего господина. Тело, мозг господина слабеют, господин разучивается думать и работать, он без раба – как без рук и без головы. Раб становится его руками, его головой. На людях он может лебезить перед господином, льстить ему, но один на один – он распоряжается, он руководит.
Раба, добившегося такого положения, это устраивает, ибо он – за кулисами. Он не виден, ответственность лежит не на нем, на господине. Его власть, пожалуй, будет побесконтрольнее, чем власть господина. Всякий, кто смотрел «Джанго…», конечно, вспомнит одну из самых удивительных и точных сцен фильма: Сильвер, хихикая и дурачась, зовет господина «обсудить десерт». Белый господин отнекивается, мол, с ума, что ли сошел? На десерт – один пирог, чего там обсуждать? Негр отходит к двери и сурово, строго, как власть имущий, тихо говорит своему господину: «Тогда чего ты разболтался с этим ниггером? Жду тебя в библиотеке…»
И господин приходит к рабу в библиотеку, где раб так же спокойно и уверенно сидит в кресле, как Джанго в седле, вертит в руке бокал вина и как дважды два объясняет хозяину, которого чуть было не провели, как ему следует поступить. Жестоко, безжалостно, по-рабовладельчески… Он – хозяин, он – властелин плантации. Негласный. Теневой. Рабовладельцу тоже хорошо иметь такого серого, то есть черного кардинала. Он все сделает и все придумает. Тебе достанется жить, отдыхая.
Черный бунтовщик. Но у Тарантино есть не только Сильвер, черный кардинал белого плантатора. У него есть Джанго, черный бунтовщик, освобожденный белым европейцем. Вот эта тема будет поболезненнее, чем тема Сильвера. Тарантино сделал то, что мечтал и не смог сделать Василий Шукшин в своем фильме о Стеньке Разине. Шукшину просто запретили снимать этот фильм. Ибо фильм был бы о том, что жестокость рабства не может не породить ответную жестокость бунта.
Взрыва, который разнесет в клочья всю рабовладельческую культуру. Это правильно. Рабовладельческая культура и заслуживает взрыва и уничтожения. Но взрыв всегда страшен. Жестокость, даже заслуженная, справедливая, страшна. Поэтому Джанго, взрывающий имение плантатора, убивающий всех белых в господском доме, а заодно и черного управляющего, Сильвера, одевается в костюм хозяина, плантатора. Ибо какою мерою мерите, той и измерены будете. Или, как писал английский поэт Оден: «Кому причиняют зло, зло причиняет сам».
Почему этот фильм так важен для России? Понятно, почему… Русских крепостных освободили тогда же, когда и негров в Америке. Все исторические комплексы угнетенного, рабского состояния у нас налицо. Мы лучше, чем европейцы, поймем и Джанго, и Сильвера, и Кэнди-плантатора. Мы поймем отчаянный выстрел спокойного, разумного европейца в ответ на предложение плантатора. «Теперь, когда сделка завершена, давайте пожмем друг другу руки. Без этого сделка на Юге будет считаться недействительной». Вместо пожатия руки – выстрел, потому как есть такой уровень зла, социального и человеческого, на который, рискуя вызвать катастрофу, иначе как выстрелом ответить невозможно.
Красное Рождество
(Кира Муратова. «Мелодия для шарманки»)
Муратова и Балабанов. Слишком не мой режиссер, а значит, немой для меня режиссер. Блестяще разбирается в творчестве Киры Муратовой и разбирает творчество Киры Муратовой Манцов. Он же и обнаружил ближайшего «сродственника» Муратовой. Балабанов, разумеется. Есть две черты, отделяющие Балабанова от Муратовой, но они для Манцова, синефила и знатока кино, не важны. Первая – идеологическая. Штука в том, что Балабанов – cкажем так, консервативный революционер, милитаристский почвенник, а Муратова – коммунистка, красная. Бывают и бывали периоды, когда совместная ненависть к обществу потребления, к сытым мещанам и «гнилой демократии» стирает различия между «консервативными революционерами» и просто революционерами. Самый яркий и самый неизвестный тому пример: Карл Радек на открытии IV конгресса Коминтерна, предлагающий почтить память нацистского подпольщика Шлагеттера, расстрелянного в Руре по приговору французского военного трибунала. И зал встает. Шлагеттеру была посвящена драма Ганса Йоста. Одну фразу из этой драмы любил цитировать Геббельс: «Когда я слышу слово “культура”, я хватаюсь за револьвер». Эта фраза может быть поставлена эпиграфом к фильмам как Муратовой, так и Балабанова.
При этом надо оговорить: если по отношению к Балабанову обозначение «консервативный революционер» или «милитаристский почвенник» – неточная метафора, то по отношению к Муратовой коммунистка – абсолютно точное определение. Единственная ее надежда – на пролов (как у Оруэлла). (Любопытно было бы посмотреть, кстати, как экранизировали бы Оруэлла «1984» или «Памяти Каталонии» Муратова и Балабанов. Хотя Балабанова вряд ли заинтересовали бы воспоминания солдата испанских троцкистских вооруженных формирований. Для него-то настоящие герои – солдаты Франко, сражавшиеся за церковь и короля. И тоже неизвестно: английский парень с пулей в горле, скрывающийся от испанского и советского НКВД в городе, который он приехал защищать и защищал, – в общем, его тема).
Любопытно, что у Муратовой пробивается надежда и на очень богатых. У очень богатых как раз есть ресурс человечности. Главный ее враг – средний класс. Обслуга богатых. Те, что чуть выбились над нищетой. Для настоящих нищих это – Эверест, но для настоящих богачей – так… холмик. Вот в них никакой человечности. Отсюда – сцена с тетенькой в шапке, которая в начале «Мелодии для шарманки» крадет у детей пятисотовую заграничную банкноту. А что ей делать? Разменять деньги и отдать этим странноватым соплякам? Да их убьют с такими купюрами… Взять малышей с собой? (Это жест. Но на этот жест способен по-настоящему богатый человек. Он потому и богат, что способен на неординарные, лихие жесты. Может рискнуть). Сдать детей в социальную службу? Ага… Они оттуда-то и сбежали. Тетенька принимает единственно правильное для ее слоя решение. Просто забирает у детей деньги. Вот за это-то Кира Муратова этот слой и ненавидит настоящей горьковской ненавистью. Никакого прощения. Каленым железом, плевком в глаза.
Жестким подчеркиванием: голодные, брошенные дети, мимо которых вы спешите праздновать Рождество, – ваши дети, дети вашего социального слоя. При всей своей гротесковости Муратова умело фиксирует социальное происхождение детей. Это – дети интеллигентов; они – нищие, странноватые, у них некоторые нарушения в психике, но речь у них грамотная; они верно используют «взрослые» слова, они могут читать английские буквы. Повернись по-другому судьба, словно бы говорит Кира Муратова интеллигентному зрителю и, упаси, конечно, бог, но и ваш ребенок может оказаться на улице и сквозь окна будет смотреть, как прыгает по комнате счастливая девочка в костюме ангела. Социологический, материалистический, ну да, ну да, коммунистический подход.
Отсюда же, из коммунизма Муратовой, ее совершенно особое отношение к христианству. Когда-то давно прадед нынешней кинозвезды, «красный поп», расстрелянный в 1934 году теми, чей приход к власти искренно и бескорыстно приветствовал, отец Александр Боярский в своей книге «Христианство и демократия» совершенно верно написал: «Диктатура пролетариата есть Евангелие, написанное атеистическими чернилами». Очень глубокая и жуткая мысль. «Атеистические чернила» означают отсутствие в мире искупления. «Мне отмщение, и аз воздам» в этом мире не работает. Воздам я, чекист с револьвером, или Данила Багров с обрезом, или режиссер с кинокамерой. Я – Страшный суд этого мира, в котором голодные дети замерзают насмерть.
Ангелы в городе. Отсутствие искупления в фильмах Муратовой (и Балабанова) – самый сильный их элемент. Для них великий финал феллиниевских «Ночей Кабирии» – не более чем сентиментальная сопля, волящая опровержения. Помните, этот финал? Кабирию ограбили, чуть не убили… Обманули. Она идет по дороге, плачет. Ее обгоняет веселая компания на мотороллерах. Девушка из этой компании кричит Кабирии что-то вроде «Поздравляю» или еще что-то нелепо-ободряюще… Кабирия отвечает: «Граци, сеньора» и… улыбается. Этот в полной мере христианский финал немыслим ни для Балабанова, ни для Муратовой. Подозреваю, что в фильме у Балабанова Кабирия просто вскинула бы обрез и тут же порешила бы всех весельчаков. В случае с Муратовой и подозревать нечего, поскольку в «Мелодии для шарманки» она жестко и умело возразила Феллини. Мальчик Никита, замерзающий, голодный, полубезумный, бредет по городу. Его ведет интуиция, инстинкт, он вот-вот сейчас спустится в подземный переход и встретит своего отца, уличного музыканта. Бац, веселая, добрая, сытая, праздничная компания… Ой, какой мальчик, ой, просто ангел! Ангелу – воздушные шарики, чмок, чмок… Умилились, дальше потопали… Ангел на то и ангел, что ведет себя по-ангельски, по-христиански, по-феллиниевски. Не бьется в истерике, не кричит: «Да меня только что избили, обидели, выгнали, разлучили с сестрой, я один в этом городе, я сдохну скоро от голода и холода…» Ангел берет шарики, поворачивается и уходит от того места, где мог встретить своего отца и спастись от гибели. Улыбка Кабирии в этом фильме – не знак искупления, а знак гибели. Сцена эта важна в теологическом, если можно так выразиться, смысле. Поэтому в этой сцене произносится ключевое для фильма слово: ангел. Потому что фильм этот про путешествие двух ангелов в богатом, грешном городе… Если найдется хоть один праведник, который приютит двух странных, слабых, полубезумных детей, то город спасется; если нет – то городу кирдык.
Сцена эта важна и в формально эстетическом смысле, поскольку по ней видно, как здорово владеет Кира Муратова приемами ненавистного ей коммерческого кино. В особенности самого благородного из жанров коммерческого, условно говоря, голливудского, кино – фильма «нуар». Если бы она хотела, она вполне могла бы снимать и «нуар», и комедии. Сцена в казино – тому яркий пример. Но она не хочет… Ее отношение к тому, что очень условно можно назвать «Голливудом», очень напоминает отношение Франца Кафки к сказке. Ненависть. Отталкивание. И как Кафка только то и делал, что писал анти-сказки, так и Муратова только то и делает, что снимает анти-Голливуд. Именно «анти-». Не другое, внеположное, но возражающее в той же плоскости. Чего стоит появление доброй феи в сказочном платье в супермаркете… Это ж Голливуд чистой воды! Вот сейчас добрая фея с волшебной палочкой обнимет мальчика-сиротку, дождется его сестренку, и будут они жить-поживать и добро, заработанное мужем феи, проживать. А фиг вам, дорогие зрители… Не встретит фея никакого мальчика… Фее будут доверены самые страшные слова во всем фильме, прямая цитата из горьковского «Клима Самгина»: «А был ли мальчик? Может, и мальчика никакого не было?» Похоже на цитату из Достоевского, как и гоголевское: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит» похоже на Достоевского, но это – Горький.
Горький и Голливуд. Горький здесь не с ветру взят. Горький – самый близкий автор для Муратовой. В «Мелодии для шарманки» это в особенности видно. На первый взгляд фильм этот – осовремененная экранизация «Мальчика у Христа на елке» Достоевского. Но это «Мальчик у Христа на елке», прочитанный материалистическими, атеистическими глазами, то есть глазами Горького. В середине фильма скороговоркой перечислены все литературные предшественники «Мелодии для шарманки». Богатый почти праведник объясняет своей жене по телефону: «Ну такой мальчик, ну из Диккенса, Достоевского…» Горький не назван именно потому, что слишком близок. Остальные поименованы по понятной социологической причине. Рождение капитализма возвращает в XIX век, значит, актуальны становятся все писатели XIX века, писавшие о несчастных, бедных, униженных и оскорбленных, в частности о голодных, нищих, интеллигентных (что важно) сиротах, бродящих по большому, богатому, в лучшем случае равнодушному, в худшем – враждебному им городу. Другое дело, что сделано это без того напряжения, что делало произведения этих писателей бестселлерами. Художническое напряжение здесь направлено в другую сторону. Не привлечения зрителя, а принципиального и почти оскорбительного его отталкивания.
Здесь важнейшая формально эстетическая черта, отделяющая Муратову от Балабанова. Балабанов заинтересован в зрителе. В его художнический инстинкт вписано: зрителю должно быть интересно. Он и «Замок» Кафки экранизирует захватчиво, детективно. Антисценарий. Учился-то он у Алексея Германа, представителя той удивительной, право же, породы режиссеров, к которой принадлежит и Муратова. В их художнический инстинкт вписано полное и исчерпывающее презрение к зрителям. Их дело снять хороший (по их представлениям) фильм. А то, что во время демонстрации этого фильма после первых же 20 минут ползала хоть Каннского кинофестиваля, хоть кинотеатра «Победа» в городе Урюпинске как метлой выметет, это их не колышет. Зато те, кто останутся, будут раз по тридцать пересматривать их фильмы. Розановская стратегия. «Я с читателем не церемонюсь. Пошел к черту!» Если читатель (и зритель) после такого «приглашения на казнь» остается, то он – мой.
Анти-Рождество. Исчерпывающий пример такой стратегии – финальная сцена фильма. То есть можно привести и массу других примеров, например эстрадная, утрированная, антистаниславская игра актеров. Что-то вроде декораций в фильме Поланского «Пианист». Дескать, да вам и без того жутко, хотя я декорации выстроил гетто, а если бы я совсем к «жизненной правде» приник, что с вами бы было? Так и здесь. Артисты наигрывают. Да если бы они не наигрывали, вас бы и вовсе затрясло. Скажите, спасибо, что я вам этой утрированной игрой артистов напоминаю: фильм, искусство, гротеск, вам же от этого спокойнее. Или нет? Впрочем, здесь я, может, и ошибаюсь. Может быть, и в самом деле – не слишком хорошие артисты. Табаков-то не наигрывает и вписывается в гротеск Муратовой вполне органично.
Можно привести и другой пример манифестации такой стратегии. Вонючая бомжиха на вокзале, которая поет прекрасную украинскую песню. Ее гонят, мол, воняешь… Вот это и есть мое искусство, словно бы говорит Кира Муратова. Вот это – тот самый револьвер, заряженный вонью, поднятый против вашей чистенькой культуры, получите. Однако же эта манифестация достаточно динамична и эстетически безукоризненна.
Финальная сцена – подчеркнутый удар по зрителю. Жесткий и точно рассчитанный. Строительные рабочие находят труп замерзшего ребенка. Над ребенком – гроздь воздушных шариков. Открытое окно, в которое сыплет рождественский снег. Рабочие застывают над мертвым ребенком. Немая сцена в точности копирует многочисленные изображения поклонения пастухов, что вписано в (повторюсь) теологический смысл фильма. В начале мальчик находит картинку «Избиение младенцев». Бережет ее, носит с собой. Почему? Потому что фильм о современном «избиении младенцев». Этот мальчик, убежавший из детдома со своей сводной сестрой в поисках отца, странный, не от мира сего, может стать спасением сего мира. Не хочется писать мессия, уж больно слово… обязывающее, но (придется применить вульгаризм) типа того. И вот он гибнет. Анти-Рождество. Поздравляю вас, современные ироды, вам удалось то, что не удалось Ироду древности, убили еще в младенчестве, не дали дорасти до 33 лет.
Над ним склоняются «пастухи», простые, рабочие люди. Они поклонились бы ему живому и спасли бы живого, а так кланяются мертвому. Сцена – очень красивая. И в ту же секунду, когда зритель соображает: «Поклонение пастухов», один из рабочих начинает икать. Если бы он икнул один, два раза, это было бы необходимым противовесом неожиданно олеографически красивой сцены. Но он икает бесконечно долго. Как бесконечно долго бьет кирпичом по лицу человека Жан Габен в жутком фильме Марселя Карне «Набережная туманов». «Ударь раз, ударь два, но не до бесчувствия же», – говорили старые артисты про чересчур сильно действующие приемы искусства. Муратова бьет до бесчувствия. Все тот же револьвер, поднятый против культуры. Не нравится? Антиэстетично? Дурновкусно? Противно? А то, что маленькие дети (они могут быть и вашими детьми) замерзают насмерть в вашем городе, – нравится? Не дурновкусно? Не противно? Получите… А я хочу, чтобы вам от этого фильма икалось, как икается вот этому парню. Такой вот у меня – катарсис… Ну, в общем-то, икается.

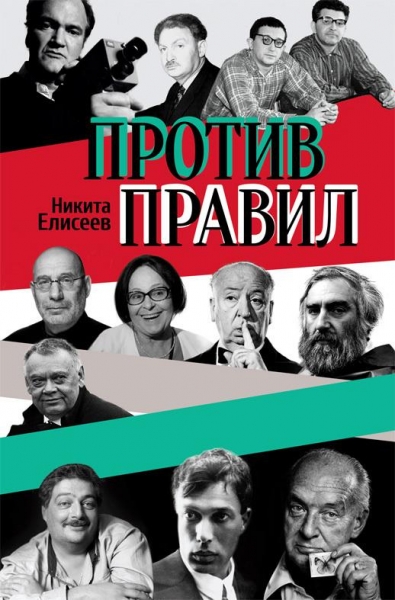
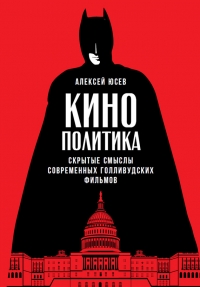

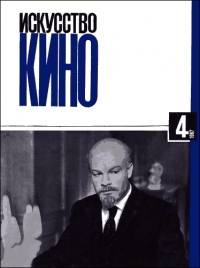


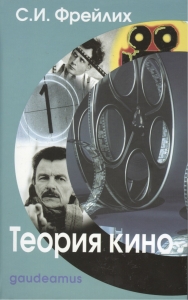
Комментарии к книге «Против правил (сборник)», Никита Львович Елисеев
Всего 0 комментариев