Андрей Михалков-Кончаловский.
Парабола замысла.
М.,”Искусство”. 1977г
Книга посвящена профессии режиссера, его работе над фильмом – от замысла до встречи со зрителем. Привлекая богатый материал своих постановок – “Романс о влюбленных”, “Первый учитель”, “Дворянское гнездо”, “Дядя Ваня”,- автор рассматривает широкий круг дискуссионных вопросов современной теории и практики. Книга дает интересный материал для размышлений как профессионалам кинематографистам, так и любителям киноискусства.
Содержание
Вступление. 4
Сценарий. 8
“Кинематографичность” и кинематографичность. 8
“Романс о влюбленных”. Первое потрясение. 10
Сценарный ход. 15
Начало параболы.. 16
С точки зрения зрителя. 18
Мир. 21
“Как в жизни” и “как в искусстве”. 21
Кстати, о Шекспире. 24
За “синей птицей”. 26
“Кирпичики” мира. 30
Сотворение мира. Подготовка. 33
Изображение. 33
Художник. Искажение мира. 35
Немного о костюме. 38
Несколько слов об еще одной существенной частности. 40
Поиски актеров. 41
Пробы.. 42
Герои. 43
Сочинение биографий. 46
Актеры на эпизоды.. 48
Второй план. 50
Композитор. 52
Режиссерский сценарий. 53
ОТСТУПЛЕНИЕ О ПРАВДЕ ЭКРАНА. 57
Похвала документалистике. 57
Метод съемки. 58
Импровизация. 61
Барьер подсознания. 63
О профессионализме и профессионалах. 66
Жанр. 70
За рамкой кадра. 72
Субъективная камера. 74
СОТВОРЕНИЕ МИРА. СЪЕМКА.. 76
Образ целого. 76
Ростки правды.. 77
Будь проклято это кино. 78
Момент условности. 81
Торт на третье. 85
Издержки риска. 87
Пробуждение на бетонном полу. 89
Ангел пролетел. 93
Сотворение мира. Монтаж.. 95
Силовые поля. 95
Высшее из искусств. 96
Ритм.. 99
Текучесть формы.. 101
Зритель. 106
Пятое рождение. 106
Дилемма. 107
Странности любви. 108
Пирамида восприятия. 110
Почему?. 110
Зритель и критик. 111
Куда ж нам плыть?. 113
Вместо заключения. 115
Вступление
Мысль написать эту книгу возникла у меня во время беседы с космонавтом Феоктистовым, организованной “Литературной газетой”. Тогда по ходу диалога невольно пришла мысль сравнить две траектории — фильма и космического корабля. Тут есть общее даже в производственной терминологии: “запуск фильма” — “запуск ракеты”. Правда, на стороне техники пока что явные преимущества. Траектория космического корабля контролируется точными, способными делать миллионы операций в секунду вычислительными машинами. Любое внезапное отклонение от намеченного курса — помехи, ошибки, непредвиденные случайности — ЭВМ может тут же учесть, внести соответствующие коррективы, вернуть корабль на заданную траекторию. Но ведь и путь, который проходит фильм от момента запуска (даже еще раньше — от рождения сценарного замысла), испытывает влияние тысячи разных отклоняющих воздействий: объективных, не зависящих от нас; субъективных, проистекающих уже по нашей воле, ибо по ходу работы приходят новые решения, открываются новые возможности. А помимо всего прочего режиссеру невольно порой приходится производить тысячу дипломатических ухищрений: обещать редакторам и руководству студии очередной шедевр, что-то утаивать от автора сценария, доказывать актерам, что жаждешь делать то, чего делать совсем не намерен.
Вся режиссура в кино — сплошной компромисс. Да, и в театре, я думаю, тоже. Все время приходится искать решения из всех возможных наиболее приемлемые — иногда даже самые вынужденные, скоропалительные, от отчаяния и безысходности, занят в театре актер, — приходится снимать другого. Забыли бороду в гримерной — возникает спасительная “находка”: пусть актер играет спиной. Нужна солнечная погода, а во все время экспедиции — на небе ни одного просвета. Задумана массовка на триста человек, а ассистентам с великим трудом удалось собрать пятьдесят. Сняли замечательный кадр, а пленка оказалась бракованной, заново переснять его уже невозможно. И все эти компромиссы не дают режиссеру задремать на ходу — постоянно приходится что-то придумывать, что-то изобретать, чтобы хоть как-то сохранить первоначальный замысел. То есть то, ради чего делается фильм.
Процесс создания фильма, на мой взгляд, точнее всего было бы уподобить траектории летящего снаряда. Чтобы накрыть цель, артиллерист заведомо берет прицел с превышением: он знает, что снаряд не полетит по прямой — ветер, гравитация, сопротивление воздуха окажут свое воздействие, выгнут первоначальную прямую в дугу параболы.
Когда снаряд уже в пути, скорректировать ничего нельзя. Это не ракета, где траекторию можно выправить на ходу.
Все поправки надо прикидывать заранее; мишень движется – давать опережение на стрельбу, дует ветер – учитывать его направление и скорость. Опыт режиссера и измеряется его способностью заранее предвидеть, куда “полетит снаряд” предугадать тот эффект, который произведет на зрителя родившийся в его фантазии художественный образ.
У молодого режиссера такой способности, естественно еще нет. Он в плену своего воображения – ему кажется, что все им придуманное гениально, потрясающе. Он берет прицел по прямой. А “снаряд”, не долетев, зарывается в песок. Все, что в замыслах казалось откровением, после долгих мук съемок, монтажа, укладки музыки оказывается любительским опусом. Бессвязным лепетом. Абракадаброй. Субъективное восприятие новичка приписало свойства искусства тому, что объективно ни эстетической, ни этической ценности не имело. Это в итоге и обнаружилось. И таких печальных примеров множество.
Островский в свое время сказал – точно и жестко: “чтобы быть артистом – мало знать, помнить и воображать – надобно уметь”. Вот насчет “уметь” в нашей режиссуре обстоит по большей степени плоховато. Процветает дилетантизм. И, что хуже всего под него еще стараются подвести теоретическую базу: все ошибки, просчеты, возникшие вследствие профессиональной безграмотности, объясняют, как заранее планировавшийся художественный результат.
Принцип “что получилось, то и хотели” в самом, что ни на есть широком ходу...
Я не думаю, что попытки научно анализировать искусство режиссуры плодотворны. Даже великий Эйзенштейн тщетно бился над тем, чтобы аналитически постичь законы конструирования художественного образа. Можно, конечно вычислить формулу, по которой построен шедевр, - только знание этой формулы не поможет рождению другого шедевра. Произведение, созданное на основе таких теоретических выкладок, по замечательному определению Таирова, можно уподобить младенцу, выращенному в колбе.
Искусство, общеизвестно, отражает реальность. Но сколь бесконечна в своем многообразии реальность, столь бесконечно и многообразие искусства. Нет и не может быть единой формулы для отражения даже самого простого явления. Оно способно стать поводом для создания многих миров, и, каждый из них будет неповторимым, субъективно авторским. В искусстве не может быть единственного “наилучшего” решения. Есть неисчерпаемое множество единственных решений, и каждое из них в своем роде наилучшее, о чем очень верно говорит Питер Брук в своей книге “Пустое пространство”. Нельзя создать, допустим, одну, самую величайшую из всех постановку “Гамлета”. Возможно огромное количество великих постановок, каждая из которых будет открывать в пьесе что-то свое, неожиданно новое.
Не хочу утверждать, что законы творчества непознаваемы. Это, естественно не так. Но познание идет путем гораздо более сложным, чем расчленение образа на первоэлементы. Оно прежде всего опирается на интуицию и опыт. Творчество – процесс не аналитический, а синтезирующий, обобщающий внутренний духовный опыт художника, основанный на улавливании им собственного душевного мира и выражения его средствами искусства.
Конечно, нужно изучать законы воздействия художественного образа, законы восприятия искусства. Нужно анализировать и произведения великих мастеров и свои собственные достижения и ошибки, просчеты.
Но во всех случаях нельзя не помнить об интуитивности творчества, о том, что каждый художник творит по своим индивидуальным законам и единый аршин на все случаи не применим.
Помню, когда учился во ВГИКе, я долго бился над тем, чтобы разгадать секрет финала “Ночей Кабирии” Феллини, хотел понять, почему же я плачу каждый раз, когда смотрю эти кадры. Я возился с этим куском пленки, как обезьяна с очками в известной басне, прокручивал его на монтажном столе, рассматривал каждый кадр, каждый монтажный стык, “пробовал на вкус”, “нанизывал на хвост и ничего не мог понять. В чем дело? Монтаж? Нет, монтаж самый элементарный. Мизансцена примитивная. Никаких изысков, никаких сложных, глубинных построений. Так что же потрясает?
Много позднее, сняв четыре или пять картин, я понял, что дело не в монтаже, не в мизансцене, не в ракурсе. Дело в мироощущении, во взгляде на жизнь на человека. Молодому режиссеру обычно кажется, что, повторив сумму формальных приемов мастера, он достигает той же силы воздействия. Но, когда смотрит готовый фильм на экране, поражается, почему же не получилось, ведь все было так гениально придумано?
Многое из того, что кажется мне получившимся в моих фильмах, я сам не могу объяснить. Не могу понять, в чем секрет воздействия тех или иных кадров. Вот, для примера, ночной разговор Сони и Елены Андреевны в “Дяде Ване”. Мы с актрисами Ириной Купченко и Ириной Мирошниченко бились над ним мучительно долго. М по себе текст бесконечно поэтичен. Так, что казалось бы, достаточно его искренне произнести, и, сцена найдена. Начинаем репетировать, в сцены нет. Нет того главного, что трудно уложить в четкие определения слов. Обе актрисы талантливы, играют хорошо, слезы на глазах настоящие, а ничего не получается.
Две женщины, любящие одного человека, тоскующие, одинокие, думающие каждая о своем. Их объятие – это всепрощение, проникновение друг в друга. Наконец, кажется все получилось Пусто. Нет жизни человеческого духа- того ради чего и можно браться за Чехова. Я был уверен, что сцена провалена. Но так и не переснял ее: не знал как. А потом, когда добавил в фонограмму звук капель раннего дождя, шорох листвы, оборвавшийся щебет утренней птички, вдруг возникло то самое ощущение, которое казалось безнадежно потеряно.
Откуда? Почему? Не знаю.
Законы профессии не раскладываются по полочкам. Они даются опытом, ошибками. Не страшно, что режиссеру для каждого фильма приходится изобретать новый велосипед – на велосипедах конвейерного производства далеко не уедешь. Ведь поэзия, вспомним слова Маяковского, вся езда в незнаемое.
Думаю, что все ученики Михаила Ильича Ромма, каковым и я являюсь, благодарны ему в числе многого прочего за то, что он не старался уберечь нас от ошибок. Он давал нам снимать весь тот вздор, который мы восторженно сочиняли. Мы придумывали невероятные монтажные переходы, ошеломляющие ракурсы, гениальные мизансцены — снимали, клеили, потели за монтажным столом. И потом с ужасом глядели на экран, мучительно сознавая кошмарный итог своих трудов.
Такое чувство испытал и я, когда снял свой первый, еще немой актерский этюд, в котором играли мои однокурсники Андрей Смирнов и Борис Яшин. Все было так красиво придумано! Глубинные мизансцены в стиле Вардема, глубокомысленные паузы, игра света и тени... И какой нелепой ахинеей все оказалось на экране! Но Ромм не мешал нам ошибаться. Иначе мы бы так и остались слепыми кутятами...
Есть ли какой-либо иной путь, кроме практического опыта и багажа сделанных ошибок, чтобы предугадать эффект воздействия будущего фильма? Есть. Но он слишком дорог и сложен, чтобы прибегать к нему в обыденной практике. Известно, к примеру, что Чарли Чаплин, создавая свои шедевры — “Золотую лихорадку”, “Огни большого города”, “Новые времена”,— поступал так: перед тем, как передать фильм прокатчикам, он показывал его без предварительного объявления в каком-нибудь небольшом кинотеатре в рабочем квартале. А ассистенты, сидевшие в разных концах зала, тщательно фиксировали реакцию зрителей: где они смеялись, где плакали, а где отвлекались от экрана и начинали откашливаться и переговариваться между собой. И все куски, где была не та реакция, какая хотелась, переделывались...
Исправить что-либо в уже готовом фильме по условиям производственным невозможно. Что остается? Выходить перед каждым сеансом с разъяснением, что именно ты собирался сказать и почему именно это сказать не получилось? С разъяснением, что ты, режиссер, автор, ни в чем не виноват — виноваты все другие? А вот в следующий раз ты уж обязательно сделаешь все исключительно замечательно... Увы, подобные разъяснения бесполезны.
Но в этой книге я все же пытаюсь воспроизвести некое подобие такой разъяснительной лекции — рассказать, что задумывалось, как все менялось по ходу работы, что в конце концов, получилось.
Речь пойдет главным образом о “Романсе о влюбленных”. Целая книга об одном фильме? Стоит ли он того? Чтобы не возникло недоумений, сразу же хочу предупредить, что шедевром свой фильм никак не считаю. По мнению многих, а со стороны, быть может, видней, и среди моих работ были более удавшиеся. Но никогда прежде передо мной не стояла задача такой сложности. Ни разу мне не приходилось решать столько мучительных проблем и, быть может, совершать столько просчетов.
Может быть, кого-то мои размышления о профессии натолкнут на размышления собственные. Ну, а потом и для самого себя не вредно попытаться привести сумму мыслей в какое-то подобие порядка. Впереди работа над новым фильмом. Я сейчас у самого начала новой параболы замысла.
Сценарий
“Кинематографичность” и кинематографичность
Я не раз выступал, в том числе и в печати, относительно сценарной проблемы. Суть этих выступлений сводилась к необходимости повышения профессионального мастерства наших сценаристов. Профессионалов в этой области у нас нет, или точнее — их крайне мало, хотя талантливых людей достаточно. Но они чаще всего пишут не как сценаристы, а как писатели, не представляя себе, как написанное ими будет выглядеть на экране.
Сценарная проблема — сложная вещь. В ней всегда будет оставаться много нерешенного. Каким же все-таки должен быть сценарий? Таким, где все ясно, все разжевано и понятно: бери и снимай прямо по написанному? Или же таким, где написанное только повод для творческого поиска режиссера, толчок для его воображения, где по прочитанному тексту только самому его автору или еще и проникшему в авторский мир режиссеру будет ясно, каков же все-таки должен быть снимающийся фильм?
Возможно, кому-то покажется, что сейчас я буду утверждать прямо противоположное тому, что доказывал прежде, когда выступал за сценарии однозначно точные, жестко выверенные по всем компонентам, запрограммированные на безотказную работу картины. Да, такие сценарии нужны режиссерам, которых на студиях называют хорошими производственниками, но не Отару Иоселиани, Андрею Тарковскому, Глебу Панфилову — они попросту откажутся по нему работать. Он им будет неинтересен.
Художников таких ярких, исключительных индивидуальностей трудно обеспечить припасенными в редакционном портфеле сценариями. Такие художники, как правило, сами себе пишут сценарии. И, кстати сказать, не всегда пишут их достаточно профессионально. Но это уже их личное авторское дело. Их право, в конце концов. Право каждого, кто подтвердил его хотя бы одной картиной, поставленной по своему сценарию.
В связи со сказанным вновь встает вопрос о кинематографичности сценарной литературы. Уже давно вошло в обиход представление, что кинематографично то, что написано зримо, наглядно, физически конкретно. Скажем, Эйзенштейн в подтверждение кинематографичности Пушкина разбирает строки из “Полтавы”. Все замечательно наглядно, можно, не выбрасывая ни слова, дробить текст на кадры режиссерского сценария. “Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр” — общий план, “его глаза сияют” — деталь, “лик его ужасен” — крупный план, и т. д. Все разбирается по кадрикам, а из них потом склеивается фильм, адекватный пушкинскому тексту. Только вправду ли это будет адекватный фильм? Ни разу еще на экране не удавалась пушкинская проза, не говоря уж о поэзии.
Точно так же и с Толстым. Михаил Ильич Ромм разбирал его в своих лекциях целыми кусками, по фразам, показывая нам, как ярко видение писателя, какой изобразительной силой обладает каждое его слово. Но, таким образом, толстовский текст как бы делился сразу на две неравноценные части. Первая, “кинематографическая”, состоит из кусков описательных, ясно простых по драматургии: Пьер стреляется на дуэли, Наташа танцует на своем первом балу и т. д. Вторая, “некинематографическая”, состоит из толстовских размышлений, лирических монологов, раздумий героев и все это, по-видимому, при экранизации надо то ли вообще отбрасывать, то ли пересказывать из-за кадра дикторским голосом. В общем, мне кажется, что это очень упрощенный подход к проблеме кинематографичности прозы, подобный анализ больше дает для уяснения законов литературы, чем для понимания сути искусства кино.
Мне думается, что понимание “кинематографичности” как зримости литературы, ее действенности и изобразительности сегодня уже изжило себя. Не в этом суть кино как искусства. Иначе самой кинематографичной литературой оказались бы бульварные романы и детские комиксы про индейцев. Скачки, драки, перестрелки — все наглядно, динамично, зрелищно и все — глупость, бессмыслица полная.
Сегодняшнее искусство режиссуры идет в глубину, ищет не внешней кинематографичности, а внутренней — той полноты человеческих чувств, отношений, характеров, которая открывается не в зримых образах, а за ними. В сценариях Отара Иоселиани — динамики никакой, не драматургия, а “стоячее болото”. По привычным меркам “кинематографичности” такой сценарий и ставить нечего. Но какое там богатство атмосферы непридуманной жизни, человеческая тонкость, ни на секунду не прерываемый ток душевной жизни героев. И если суметь почувствовать потаенную пружину этого внутреннего движения, выявить ее, обрастить живой плотью зримых образов, то родится произведение, способное непостижимым образом волновать нас, оставлять в душе след.
Так что же все-таки такое эта самая “кинематографичность”? Не знаю, не могу дать уверенного ответа на этот вопрос. Мне вообще порой кажется, что кинематографично все. Все можно передать на экране, хотя вряд ли все достойно быть переданным на экране.
И еще: есть разные пути кинематографического воздействия. Можно разжевывать событие, вкладывать его как готовую, препарированную формулу в сознание зрителя, навязывать ему единственно возможный путь восприятия,— и можно обращаться к его фантазии, давать ему простор для довоображения, для включения в сотворчество. Лично мне дорог именно этот, второй путь.
Кинематограф более всего воздействует не на рациональный мыслительный аппарат, а на чувство. Мандельштам говорил, что поэзия не в словах, а в том, что между слов. Можно своими словами пересказать содержание “На холмах Грузии” или “Я помню чудное мгновенье”, но для того, чтобы выразить смысл всего того, что сказано помимо слов в этих стихах, потребуются тома.
Вот это “то, что между слов”, каждый режиссер чувствует и передает на экране по-своему — двух одинаковых решений быть не может. Очень полезно было бы и поучительно, если бы хороший сценарий давали бы у нас ставить сразу двум или более режиссерам: как непохожи были бы эти фильмы! И при этом каждый из них мог бы быть очень интересным, если б, конечно, ставил его талантливый режиссер.
Нетрудно представить себе такой эксперимент. Взять, например, сценарий Отара Иоселиани — даже не сценарий, а режиссерскую разработку со всеми расписанными мизансценами, точками съемки, и дать ее какому-нибудь средней руки профессионалу. Пусть он снимает по ней фильм со всеми иоселианиевскими актерами, с тем же оператором, с тем же художником. Что получится? Ничего не получится. Можно повторить форму, но нельзя повторить душу. Слова будут все те же, но главное — смысл, чувство, интонация, наполненность слов и молчания — все уйдет, как вода в песок.
Не раз случалось, что по не бог весть каким примечательным сценариям получались прекрасные фильмы. Например, “400 ударов” Франсуа Трюффо — тонкий, щемяще волнующий фильм. А почитайте сценарий: сухая, малоинтересная проза. Все главное в ней скрыто и проявлено может быть только усилиями режиссера, который видит, как это снимать, который способен уловить неуловимое, увидеть то, что спрятано внутри строк.
Сценарий — обманчивая вещь. Написанное в нем слово не может, не меняясь, перейти на экран. Оно обретает иную плоть, иную образность. Искать однозначного соответствия между сценарным словом и экранным изображением бессмысленно. Одно и то же слово может быть облечено в тысячи чувственных образов, и каждый из них “верен”, если он талантлив, если он способен быть убедительным для зрителя. В этом счастье режиссерской профессии: нет единого “правильного” пути, есть бесконечное богатство точек зрения на мир.
Так каким же все-таки путем идти? Чего требовать от сценария? Внешней выразительности или внутреннего содержания? В идеале, конечно, нужно и то и другое. Профессиональные сценаристы как раз и стремятся к такому синтезу внешнего и внутреннего. Настоящий сценарист — не тот, кто пишет красиво и литературно, а тот, кто обладает талантом видеть — видеть мир, видеть облик будущего фильма.
Философы школы дзен полагают, что художником надо быть не затем, чтобы нарисовать картину, а затем, чтобы ее увидеть. “Увидеть” — это в художнике главное. Раскрывая страницы еще нечитанного сценария, я всегда хочу понять, что же сумел увидеть художник в мире — нового, еще не открытого до него.
“Романс о влюбленных”. Первое потрясение
После “Дяди Вани” у меня было много разных проектов. Фильм о Скрябине. Экранизация “Рассказа неизвестного человека” Чехова. “Борис Годунов” по Пушкину. Совместный с югославами фильм на материале гражданской войны. Фотофильм по “Евгению Онегину” Пушкина. И много другого разного. Но случилось так, что еще в то время, когда я сидел в монтажной, заканчивая “Дядю Ваню”, пришел ко мне Евгений Григорьев, принес свой сценарий “Романс о влюбленных сердцах” (так он тогда назывался) и попросил совета, кто из режиссеров мог бы за него взяться. К тому времени сценарий уже лежал на студии два года.
Начало чтения оставило ощущение бреда. В самом буквальном смысле слова. Но чем дальше я углублялся в сценарий, тем более он захватывал меня. Я уже заразился авторской эмоцией, проникся удивительным настроем вещи. А когда дошел до сцены смерти героя, то уже не мог сдержать слез. Я был потрясен.
Сценарий стал преследовать меня. Я уже окончил “Дядю Ваню”, уехал отдыхать, но мысль о “Романсе” не выходила из головы. Какой-то непостижимый, сказочный мир мерещился мне за страницами григорьевской поэмы в прозе. Страстный. Чистый. Неповторимый. Яркий. Я уже чувствовал, что не могу не снимать этот фильм. Сама мысль, что кто-то другой будет его ставить, уже была непереносимой. И это жадное чувство заставило меня сказать: “Беру!” Спустя месяц я позвонил в Москву и заявил, что буду ставить картину. Эту и никакую другую.
Случилось так, что все мои фильмы были разными, не похожими друг на друга. В этом не было сознательного намерения, к тому же каждый раз выбор был совершенно добровольным, каждый раз я искренне увлекался новым материалом, новым миром.
Есть художники, которые всю жизнь пишут одну и ту же картину. А есть другие мастера, которые, добившись замечательных результатов в одной какой-то манере, не боялись со временем ее сменить, чтобы испытать свои возможности в новых материалах и формах.
Не знаю, к сожалению или к счастью, но у меня нет единого мира, в который бы я старался проникнуть все глубже и глубже с каждой новой своей картиной. Но даже при всем том решение ставить сценарий Григорьева было зигзагом совершенно неожиданным. Я этот фильм не вынашивал, как, допустим, вынашивает свои замыслы Тарковский,— человек, верный всем самым давним своим проектам. Он носит их в себе и освободиться от них может, только воплотив на экране. Вот так говорил о себе Микеланджело: “Образы преследуют меня и заставляют изваять их из камня”.
Я же соглашаюсь ставить картины легко и иногда даже легкомысленно. За “Дядю Ваню”, к примеру, взялся почти случайно. Встретились в коридоре со Смоктуновским и решили: “А почему бы не поработать вместе?” Он предложил “Дядю Ваню”, я согласился...
И за “Романс о влюбленных” я взялся не из-за осознанной внутренней потребности — решение пришло непроизвольно, бессознательно. Впрочем, я всегда берусь за сценарии интуитивно, не анализируя, не взвешивая всех “за” и “против”. И за сценарий Григорьева взялся потому, что был в него безоглядно влюблен, не видел и не хотел видеть в нем никаких недостатков.
Что же такого особенного было в сценарии? Вроде бы сюжет элементарен, даже тривиален: таких любовных историй в кино уже было множество. Проблема — самая общая, никакой социальной остротой не отличающаяся. Все, о чем писал Григорьев, давно нам наскучило, чуть ли не обесценилось, стало расхожим общим местом. Язык совсем уж некинематографичный — напыщенный, в лучшем случае — высокопарный. Снимать все это, ясно было сразу, чудовищно трудно, а главное — непонятно как. На первом худсовете в объединении, где обсуждалась будущая постановка, все восторженно говорили о сценарии — Таланкин, Бондарчук, выражали глубокое удовлетворение, что нашелся, наконец, режиссер на эту вещь, но тут же растерянно пожимали плечами: как все это реализовать на экране, никто не представлял. И я, честно говоря, тоже не представлял. Хотя обычно, когда берешься за сценарий, уже примерно знаешь, как будешь его снимать.
И все же было в сценарии то главное, что дано лишь большой литературе — мироощущение, яркое и ясно выраженное. О простых вещах он говорил с поистине первозданной чистотой, страстью, и нельзя было не поразиться мужеству и таланту автора, взявшегося открывать новое в самом обыкновенном, в “простом, как мычание”.
Разглядеть авторский мир в том или ином сценарии — задача всегда сложная. Она требует режиссера-художника, режиссера, умеющего видеть. Здесь же был случай иного рода: сценарий уже предлагал совершенно определенный мир. Он был написан настолько самобытно, чувственно ярко, что не надобно было никаких усилий, чтобы его разглядеть,— надо было его осуществить. При этом сценарий не предлагал уже решенного изобразительного ряда. Автор этого сценария был человеком счастливым: он настолько был поглощен захватившим его чувством, что уже не думал ни о чем другом. Все прочее — стилистика, пластика, материальная среда фильма — оставлены были на усмотрение режиссера, которому предстояло, заразившись этим миром, воплотить, развить, умножить его на экране.
Собственно, это и есть, пожалуй, главная задача режиссера — развить, умножить мир сценария. Но сколько при этом благих намерений погибло (а ими, как известно, дорога в ад вымощена), сколько прекрасных сценариев осталось непонятыми, непочувствованными, не умноженными режиссерами. Драматургия Шпаликова, к примеру, не нашла себе режиссера, который сумел бы до конца почувствовать и адекватно выразить ее на экране. Он сам хотел это сделать в “Долгой счастливой жизни”, но он не режиссер, у него это тоже не получилось.
Не нашел себе режиссера-единомышленника и Рудольф Тюрин, да и Евгений Григорьев тоже — лучшие из его сценариев до сих пор лежат непоставленные.
Мучительно сложным оказывается путь на экран довженковского сценарного наследия. Не понята и проза Платонова, при всех попытках ее экранизации утраченным оказалось главное в ней — ее чистота, наивность, ее незащищенность и красота.
В общем, это извечная драма. Счастлив драматург, нашедший своего режиссера. Есть такие замечательные альянсы — например, в Италии, Уго Пирро и Элио Петри. Счастлив Бергман, который сам для себя может писать сценарии. Счастлив, я думаю, Феллини: он умеет каждый раз найти для сценария именно того автора, который нужен. Феллини ведь не нужны сценаристы, умеющие профессионально сколачивать драматургическую основу. Ему нужны люди, способные понять его мир, его устремления, вкусы, мечты.
Но сколько рядом с этими счастливыми исключениями трагедий! Сколько авторов, не сумевших найти для себя режиссера. Ведь и Чехов не смог найти режиссера, который бы до конца понял его пьесы, так, как они были написаны. Ведь Станиславский и его Художественный театр оснащали Чехова бытовизмом, упивались жизнеподобными деталями, к которым театр прорвался, наконец, отбросив котурны высокого, ложнопомпезного стиля. И этой стороной дела МХТ был увлечен настолько, что подчас забывал о сути, о главном.
В общем, каждому большому драматургу с той или иной мерой остроты суждено пережить эту драму отсутствия единения с режиссером. Очень много хороших сценариев не поставлены вообще. Другие поставлены, но не развиты, не умножены режиссерским талантом и видением. Все, что было в них своеобразного неповторимо-индивидуального, потеряно на пути к экрану, растворено в шелухе жизнеподобного повествовательства.
И все это тем более печально, что речь идет не просто о профессиональных, мастерски сделанных сценариях, речь идет о сценариях талантливых. Профессия не может создать мир, она может крепко сбить конструкцию вещи, дать ей динамичный сюжет, острые диалоги. Даже страсть, темперамент могут быть созданы чисто профессиональными средствами. Но авторский мир — это уже относится сугубо к сфере таланта. Авторский мир — это неповторимость, необыкновенность постижения, проникновения в какие-то самые существенные стороны жизни.
В этом смысле Григорьев у нас один из немногих кинодраматургов, сочетающих в себе профессионализм и талант. Его сценариям всегда присуща чрезвычайная конкретность авторского видения. Но “Романс о влюбленных” для него самого был исключением; в определенном смысле это был “негригорьевский” сценарий. В самом его тексте заложены такие отчаянные отступления от “ползучего реализма”, настолько вывернут и опрокинут привычный бытовой мирок, что если судить с точки зрения кинематографичности, как ее привыкли понимать на студиях, Григорьев написал не сценарий, а издевательство над сценарием. Герои поодиночке и хором говорят прописные истины: “Ах, мама, как я влюблена!.. Какой красивый он и сильный!” — говорит девушка. Выходит человек на балкон и кричит: “Какое солнце! Какие облака!” И братья его дружно подхватывают: “Какие облака! Какое солнце!” Отставной полковник напутствует новобранцев: “Вы помните, какой страны вы граждане и берегите честь смолоду”. И так далее. А как все это решить пластически?
Так что тут самое трудное было решиться, рискнуть, броситься головой в омут. Ну что ж. В кино нельзя не рисковать. Ведь каждая настоящая картина — эксперимент. Да и вся жизнь наша — тоже эксперимент, от начала и до конца. Каждый ее день дает нам какой-то новый опыт, и опыт этот ничем не заменить — он может быть только своим, собственным.
Читая “Романс о влюбленных”, я вспоминал гениальный сценарий Довженко — “Поэму о море”.
Вот удивительное произведение! В нем все сплавлено, перемешано неразделимо: реально происходящее и нафантазированное, происходившее когда-то и то, что еще только может произойти в будущем. Этот сценарий предупредил многие открытия “8 1/2” Феллини, он открыл новый этап движения кинематографа, новый этап осмысления человека кинематографом. Самые главные открытия Довженко — в людях: его герои ногами стоят на земле, а головой упираются в небо.
То же и у Григорьева. Он брал лирический сюжет, а открывал за ним картину эпическую. Эпическую — то есть подразумевающую измерение истории.
Напомню фабулу сценария. Есть юноша, и есть девушка. Они любят друг друга. Очень любят. А потом его призывают в армию, и он идет: это святой долг каждого человека, а в должниках наш парень никогда не ходил. Он служит в армии, в морской пехоте. Она его ждет. Потом случается несчастье: парень, спасая товарища, остается на оторвавшейся барже, и ее уносит в море. Приходит весть о его гибели. Девушка страдает. Это страшное горе. Но у нее есть друг, хороший человек, хоккеист. Он помогает ей справиться с горем. Она выходит за него замуж. Потом выясняется, что парень не погиб. Получается довольно-таки обычный треугольник. Самый банальный, в общем, конфликт. Все мучаются, и никто не виноват. Потом парень находит в себе силы перенести этот трагический случай. Выжить. Он женится на другой девушке. Все счастливы. Счастливы ли?
Сама любовная история — очень обыкновенная. Но дело не в ней. Дело в том, кок сценарий говорит о любви. А смысл таков, что любовь животворяща. Без нее человек умирает. В сценарии герой и в самом деле умирал от любви. Просто падал среди улицы и умирал. А потом мы вновь встречались с живым и ждали с беспокойством: сумеет ли он снова обрести в душе способность любить. Ведь без любви нет человека и нет человеческого в человеке. Мы живы до тех пор, пока несем в себе любовь. Или же надежду на любовь. Иначе мы мертвы. Мертвы духовно. Но помимо любви сценарий говорил об очень многом еще — о вещах самых простых и самых важных: о любви к Родине, материнстве, долге, чести, братстве. Говорить об этом трудно. Вообще нужно великое мужество, чтобы таких вещей касаться — не оступиться в риторику, в фальшь, в конъюнктуру.
Сценарий притягивал свежестью открытия, непосредственностью. В мире, созданном Григорьевым, все были свои, все — братья. Это были люди абсолютно открытые, искренние, привыкшие в полный голос выражать свои чувства — страдание, радость, все на свете. Трубач трубил на весь двор, на весь мир, славя приход нового дня, весну, любовь, верность. Все, чему радовалась и чем болела его душа, выливалось в звуках его трубы. Герой — моряк, мужественный человек, не боявшийся идти наперекор шторму,— сидел на берегу и плакал. И звал мать, как в детстве. Что это, слабость? Ничуть. Это полная внутренняя свобода, как у героев древнего эпоса или же, как у людей будущего. Без такой свободы духа глохнут и вянут человеческие чувства.
Вообще, Григорьев — человек искренний бесконечно, артист, он не может сесть за сценарий по принципу: “А не сочинить ли мне что-нибудь такое про любовь?” Он может писать только кровью сердца, браться за материал самый трудный, неподатливый. Я знаю, что когда он писал этот сценарий, то мучился страшно, однажды даже стул разбил о стену, когда не получалась сцена, не рождалось ощущение правды.
Думаю, что “Романс о влюбленных” для него самого был неожиданностью. Григорьев — писатель реалистической школы. В прошлом — шофер, работал на заводе. Его отец и брат — тоже шоферы. Характер у него непокладистый, бунтарский. Из ВГИКа его несколько раз выгоняли. Потом ходили делегации в ректорат, просили его восстановить — восстанавливали. В общем, человек он немало переживший, знающий жизнь, настоящей ярости реалист.
И сценарии его всегда были верными правде до мелочей, точными по характерам, по быту — “Наш дом”, “Три дня Виктора Чернышева”, “Горячий снег”. В них всегда чувствовалась страсть, и вдруг она прорвалась из него, как сель, приняв какую-то совершенно необычную форму: герои заговорили почти гекзаметром, высоким романтическим слогом. Многие не почувствовали в этом прежнего Григорьева, решили, что это компромисс, отказ от себя.
А это не так уже потому хотя бы, что Григорьев писал сценарий, не надеясь даже, что найдет на него режиссера — писал просто потому, что не мог его не писать. И честно говоря, он очень меня “зауважал”, когда я взялся его сценарий ставить, — он уже и не думал, что найдет сумасшедшего, который решится разделить с ним его безумие.
Знаю, что другого сценария, подобного “Романсу о влюбленных”, написать не сможет никто, прежде всего сам Григорьев. Потому что уже любой другой сценарий, написанный белым стихом, лучше он будет или хуже, все равно будет восприниматься как попытка подражания (либо самоподражания). Как что-то вторичное, уже отработанное кинематографом. Поэтому-то сценарное открытие, которое дал здесь Григорьев, надо было использовать, вычерпать до конца — первым делом самому драматургу. А за ним и режиссеру, конечно.
Навряд ли и я для Григорьева оказался “своим” режиссером, хотя с готовностью и впредь возьмусь ставить любой его сценарий. Но это уже будет другой сценарий, наверняка не похожий на “Романс о влюбленных”, потому что, повторяю, и для самого Григорьева это было исключение, неожиданность, прыжок в бездну. А вот за “Романс” я бы сейчас ни за что не взялся бы — не нашел бы в себе этого отчаянно влюбленного энтузиазма. Или если бы все же взялся, то сценарий решительно переделал.
Я уже говорил здесь, что хорошо бы по наиболее интересным, талантливым сценариям делать сразу несколько фильмов. Хотелось бы посмотреть и фильм, кем-то еще снятый по “Романсу о влюбленных”. Говорю это из чистого злорадства, уже на себе испытав пытку снимать этот сплав антиправдоподобия и настоящей, потрясающей правды. Не хочу утверждать, что в этой схватке я оказался победителем, но совсем не уверен, сможет ли кто сделать большее.
Сценарный ход
Беда большинства наших сценариев (думаю, это не только мое мнение) в том, что в них никак не найден, не оформлен сценарный ход. Они просто рассказывают историю. Скажем, бригадир Петя Иванов встретил крановщицу Машу Сидорову, и они полюбили друг друга. И весь сценарий занудно иллюстрирует эпизоды взаимоотношений этих маловыдающихся персонажей. Причем вся эта история может происходить в наши дни, а может — двадцать лет назад, а может — сорок или пятьдесят: сути дела это не меняет.
И подобная аморфность сценария чуть ли не официально одобряется уже на стадии заявки. Драматург приносит на студию документ примерно такого содержания: “Хочу рассказать о героическом труде рабочего класса”. И все дружно начинают его хвалить за такое замечательное намерение. И утверждают заявку, и выплачивают аванс. А замысла-то в этом еще нет, и неизвестно появится ли он.
Недаром американцы за сценарную идею платят по нескольку десятков тысяч долларов, хотя это может быть всего страничка текста. Или того короче. Ну вот, хотя бы, для примера: после долгих злоключений влюбленные, наконец, соединились на палубе корабля. Камера панорамирует от их счастливых лиц к спасательному кругу, на котором написано название — “Титаник”.
Эти четыре строки — уже готовый сценарный ход, причем блестящий, послуживший основой для одного из прославленных фильмов мирового кино (для “Кавалькады” Альберто Кавальканти). Вести влюбленных через все долгие перипетии к “хэппи энду”, а затем короткой элементарной панорамой камеры уничтожить всю эту утешительную идиллию, которую так долго ждал зритель, и оставить его в состоянии оцепенения (ведь он знает судьбу “Титаника”, и понимает, какая участь ждет героев) — это ход.
В “Романсе о влюбленных” сценарный ход строился не на том, что герой уходил в армию, а девушка, не дождавшись его, выходила замуж — это не ход, это штамп, общее место, — а на том, что сталкивались два мира: мир счастливый, праздничный, увиденный глазами влюбленного, и мир, потерявший смысл, цвет, душу, — мир без любви. Каждый из этих миров был вполне завершенным, заведомо исключающим, отрицающим саму возможность другого. В сценарии словно бы сталкивались два совершенно законченных, самостоятельных произведения, авторской волей, объединенные в одно. Это и было для меня главным: стык миров.
Начало параболы
Чезаре Дзаваттини взаимоотношения сценариста и режиссера проиллюстрировал как-то следующим примером. Застенчивый юноша увидел прекрасную девушку, мечтал о ней, вздыхал, наконец, осмелился с ней заговорить, пригласил в кино. Через сколько-то там недель уговорил ее зайти к себе домой. Включил музыку. Вскипятил чай. Осмелев, поцеловал в первый раз. И вот тут-то пришел другой и увел девушку к себе.
Другой — это режиссер. То, что сценарист вынашивал, как мечту, как самое дорогое, он, уже в силу самой своей профессии, присваивает и начинает все изменять, ломать, кроить и перекраивать на свой лад.
С того момента, когда сценарии попадает в руки режиссера, и начинается движение параболы.
В принципе никакого стремления нарочно что-то кроить и перекраивать на свой лад у меня не было. Единственным, определяющим стремлением было, как можно глубже проникнуть в тот замысел, который Григорьев мне доверил, постараться поточнее его воплотить. Но он и я — два разных человека, две индивидуальности. Значит, уже неизбежно отклонение от замысла, уже ножницы: при всем своем желании я не мог сделать фильм, который был бы “не моим”. А, кроме того, были и объективные обстоятельства.
Что такое профессиональный сценарий? Это сценарий, который в ходе съемок не требует никаких переделок. И, прежде всего он должен укладываться в размер фильма, в его временную протяженность. Всегда лучше, когда сценарий несколько короче, чем потребно для фильма, особенно когда снимает его режиссер, способный наполнять пространство экрана своим видением.
Ну, например, написали мы в свое время вместе с Тарковским “Андрея Рублева”. Он уехал на съемки, а буквально через два-три месяца звонит мне в панике из Владимира. “Что делать? — говорит.— У меня материала на целую серию, а снял всего одну новеллу”. “Как одну?” — спрашиваю. “Не влезает, — говорит. — Все разрастается, как квашня на Дрожжах”. Прикинули — в том варианте сценария, который был напечатан в “Искусстве кино”, материала примерно на четыре фильма. А нам надо все уложить в двухсерийный метраж. И вот прямо на ходу мы начали резать по живому, выбрасывать куски. Вылетела целиком новелла, в которой Дурочка рожала на яблоках, вылетела новелла о чуме, вылетела прекрасная новелла “Голод”, описывавшая мор, уход мужиков из деревни. Уже было ясно, что все это нечего и снимать — все равно в картину не влезет.
Кусок оттуда, кусок отсюда, тут кое-как сшито, там линия так и осталась оборванной... Сейчас, с дистанции времени, легче увидеть недостатки нашего сценария: он, как мне кажется, и без того был недостаточно выверен по нарастанию внутреннего развития, а вынужденные купюры сделали его еще более рыхлым, дробным по драматургии.
Так что первое изменение, которое претерпел сценарий Григорьева, — это сокращение, подгонка по метражу к прокатной длине будущей картины, втискивание в размер. И одна за другой полетели в корзину сцены, подчас замечательные, прекрасно написанные.
Сейчас уже бессмысленно гадать, что было бы, если бы были вычеркнуты не эти, а какие-то другие сцены, не те, а иные диалоги, — ничего уже не поправишь. Но точно знаю, если бы снять все, что в сценарии было, фильм длился бы не два двадцать, а четыре с половиной — пять часов. Он распался бы на куски, не спаянные общим движением сюжета, общим ритмом.
Эти недостатки, кстати, и в фильме присутствуют, но о них позже.
В сценарии, в самом первоначальном его литературном варианте не было финала, всего того, что происходит с героем после того, как он на наших глазах умирает от любви, от невозможности пережить потерю Тани. Григорьев стал дописывать сценарий: практически это была работа как бы над второй серией картины, в которой надо было показать зарождение нового чувства, прорастание жизни в душе героя. И надо было сделать это максимально кратко, уложить целую серию в метраж эпилога, постскриптума к основному рассказу. Григорьев написал такой эпилог, сделал его максимально Лаконичным, и все равно, если сравнить сейчас его текст с вошедшим в картину, станет ясно, как много осталось за ее пределами.
Я иногда задумываюсь сейчас: а не лучше ли был бы фильм, если бы в него уместить все, что написал Григорьев? Думаю, все же не лучше. Фильм и так, мне кажется, грешит длиннотами. В нем чувствуются драматургические просчеты, провисы — к этому я еще вернусь, — которые были заложены уже в сценарии.
Очень много различных вариантов было придумано для завершающей, финальной сцены картины - Григорьев искал и искал эту конечную точку с необычайной тщательностью, терпением, с предельной требовательностью к себе. Прекрасная была у него сцена, где встречались Сергей с Людой, с детьми и Таня с мужем, с младенцем в колясочке. Просто так вот встречались, шли, разговаривали о жизни. “Как дела?” — “Нормально”. Все прошло, страсти остыли, жизнь катится своим чередом, все со всем смирились. Обыденность этого конца была страшной, безысходной. А я искал катарсиса, очищения, которое приходит после пережитой боли, когда сквозь асфальт, сквозь камни душа прорастает к новой жизни. И к этому мы тянули своего героя. А когда почувствовали, что нашли эту точку, в которой возникло просветление, чувство надежды, сценарий обрел ту форму, ту меру законченности, которая давала мне основание верить, что это может быть снято.
Параллельно со всеми этими переделками сценарий стал меняться и по другим направлениям. Дело в том, что Григорьев поместил действие фильма в мир совершенно условный, абстрактный, идеализированный. Был город с черепичными крышами, брусчатые мостовые, узенькие улочки, тенистые парки. По городу катили на цветных мотороллерах девочки и мальчики с разноцветными воздушными шариками. Женщины ходили в кружевах и в шляпах. Стояли прекрасные статуи. И все в этом мире были радостны и счастливы — одним словом, утопия. Сказки Андерсена.
Не знаю, как получилось бы все это, если бы было снято точно по написанному. Может быть, гениально. Скорее всего — чудовищно. Но в любом случае лично я так снимать не мог. Условность такого рода не в моем характере, вне моих возможностей. Повторяю, она не в характере самого Григорьева — во всех своих прежних сценариях он был нетерпим к любым условным формам. Если бы какую-либо сцену из “Романса” вставить, к примеру, в его же “Наш дом” или в “Три дня Виктора Чернышева” (по чисто фабульным мотивировкам это вполне допустимо), то такая врезка колола бы своей фальшью, маньеризмом, крикливой высокопарностью.
В общем-то кинематограф уже преодолел барьер боязни условности. И есть режиссеры, которые раскрашивают в разные цвета лица героев, деформируют внешний материальный мир — лично я такой манеры не принимаю, она мне претит. Значит, нужно было приспособить сценарий к моим возможностям, и, значит, все круче и круче пошла выгибаться дуга параболы.
С точки зрения зрителя
Прежде, работая над сценариями и ставя фильмы, я, в общем-то, меньше всего задумывался о том, как их будет смотреть зритель. Под таким углом я фильм никак не анализировал. Просто старался увидеть будущую картину, фантазировал. Что из воображенного, из нафантазированного мною казалось хорошим, то входило в сценарий. Плохим — не входило. А иногда и входило, поскольку ничего лучшего не придумывалось.
Главной задачей для меня на определенном этапе было проникновение в мир писателя — Тургенева, Чехова. А это подчас оказывалось делом настолько сложным, что ни на что другое уже не хватало сил. Скажем, “Дядя Ваня”. Тут надо было столько понять самому, осмыслить, что именно ты хочешь сказать, как ты хочешь это сказать, прочувствовать всю эту сложную вязь взаимоотношений героев и твоих собственных отношений к ним, что все остальные задачи неизбежно отходили на второй план. То есть была надежда, что раз ты сам сумел нечто уловить и почувствовать в Чехове, то и зритель проникнется тем же.
В общем, даже тогда, когда специально о зрителе не думаешь, все равно подсознательно ощущаешь за собой его присутствие как бы на втором плане. Но здесь, при доработке сценария “Романса”, у нас с Григорьевым с самого начала присутствовало стремление вывести зрителя на первый план, поставить его как бы перед собой. Заранее понять, предугадать, как он будет воспринимать тот или иной сюжетный поворот, как будет реагировать на тот или этот поступок героя, на каком градусе эмоций будет сопереживать происходящему на экране. То есть была попытка несколько отчужденного самоанализа, попытка спроецировать свои фантазии на сознание зрителя, держать под контролем его восприятие, чтобы в каждой данной точке сценария, а затем фильма ход рассуждений и эмоций смотрящего подчинялся тому, что надо мне как автору. Ну, например. Парень ушел в армию, девушка его ждет. Все замечательно. Появляется хоккеист, симпатичный парень. У зрителя уже мелькает мысль: “Что-то новое появилось. Что это за тип? Что сейчас будет? Неужели какая-то новая любовная история?” После этого герой погибает, зритель видит траурную церемонию, горе матери. Но, естественно, он беспокоится теперь о судьбе живого, о Тане. Вместе с ней он должен перестрадать, переболеть ее горе, ее одиночество и затем прийти все же к выводу, что надо ей выйти замуж — это для нее самый хороший выход. То есть зритель сам должен был хотеть, чтобы Таня вышла за хоккеиста. И он радуется, что она полюбила его, хотя понимает, что чувство ее — от отчаяния, от страха быть одной. Хлоп, а вот тут-то выясняется, что герой жив. И зритель загнан в тупик. То, чего он сам желал, оказалось ловушкой. Что теперь делать? Как быть? Может, для Сергея лучше было бы вообще не выживать?..
В первый для себя раз я стремился вести зрителя через лабиринт возможных оценок и отношений к событиям и героям картины по единственно возможному руслу, жестко контролируя его эмоциональное и логическое восприятие. Хичкок и Полянский владеют искусством направлять зрительскую мысль, отсекая все возможные тропинки, по единственно необходимому для них пути, блуждать вместе с течением сюжета по его извивам и хитросплетениям, а затем загонять зрителя в угол, обнажая, что путь-то был ложным. Выхода-то из него нет.
Главное, конечно, не в том, чтобы, в конце концов, ход оказался ложным (он может быть и истинным), главное — чтобы зритель шел именно туда, куда вы его ведете. Должен признать, что, к сожалению, с этим я не справился. Многие зрители так и не пошли за мной, не согласились с тем, что Таня должна была стать женой хоккеиста, сочли ее поступок изменой...
В прежней моей практике был случай, когда сценарий очень резко менялся и перерабатывался при его экранизации — речь идет о фильме “Асино счастье”. Причем все переделки производились прямо по ходу съемок: просто, начав снимать, я понял, что не смогу сделать картину, если оставлю все, как было в сценарии Юрия Клепикова. А сценарий-то был хорошим, я и сейчас иногда задумываюсь: стоило ли его менять? Отличный бы фильм по нему мог быть. Хотя, конечно, совсем иной, чем я сделал.
В работе над “Романсом о влюбленных” я уже считал себя стреляным воробьем, знал, что все доработки сценария надо сделать до съемок. Знал, что тут на импровизации не выедешь. Хорошо импровизировать, когда герои говорят своим обычным повседневным говорком, но не заставишь же актеров импровизировать белыми стихами. Условность мира фильма ограничивает возможности импровизации на площадке. Поэтому хотелось все выверить, все выправить заранее.
И тем не менее очень многое из того, что надо было сделать, не было сделано. Почти все просчеты будущего фильма оказались заложенными уже в сценарии. То, что я их проглядел, могу объяснить лишь своей нетребовательностью, непростительной либеральностью к сценарию и его автору. Потому что анализ сценария режиссером должен быть беспощадным: не важно, чей это сценарий — твой собственный или чей-то еще. Я же сценарий обожал, был влюблен в каждое слово, которое говорили герои. Я как бы растворился в Григорьеве. Мироощущение сценария стало моим мироощущением. Я был ему верен, хотя отлично понимал, что оно ортодоксально утверждающе, что сценарий яростно слеп, при всем огромном потенциале трагизма, заложенном в нем. Автор полностью становился на точку зрения влюбленного героя и счастливыми глазами смотрел на все вокруг. Он принимал все.
Но в том-то неповторимость и острота сценарного хода “Романса”, что безоблачность первой части снималась скепсисом второй. Здесь автор и его герой прозревали. Когда жизнь била Сергея в под-дых с такой силой, что в глазах темнело, к нему возвращалась способность видеть вещи такими, каковы они есть. Он обнаруживал бездну пустоты вокруг себя и свое одиночество в мире, который еще вчера был для него единой семьей друзей и братьев. То есть, и Григорьев и я вслед за ним шли по пути героя — от ослепления к прозрению.
Мне и сейчас по-прежнему очень дорог этот сценарий, но, как некогда говорил Чаадаев, “время слепых влюбленностей прошло”, и я могу трезво анализировать все невыправленные драматургические просчеты.
При всей цельности и последовательности избранного Григорьевым сценарного хода внутри него требовалось найти более точные акценты. Нельзя было так восторженно говорить об армии — романтичность интонации этой части нужно было снизить долей юмора. Нельзя было и так бегло проговаривать историю замужества Тани. Мы вовсе не хотели, чтобы зритель счел ее предательницей — речь шла лишь о смерти души героя и о необходимости возрождения ее для новой жизни.
Я не выверил сценарий с точки зрения непрерывности его эмоционального воздействия.
Асафьев писал о Рахманинове, что мелодия у него всегда стелется, как тропа в полях. То есть при всех ее изгибах, сменах чувств происходит не просто замена одной краски другой, но прежде всего прибавление одной краски к другой. Идет движение, продиктованное необходимостью своей внутренней логики, воздействующее на зрителя непрерывностью своего хода. Совсем не обязательно, чтобы этот ход был все время плавным, он может становиться и дробным (так ведет свою “мелодию” Тарковский в “Зеркале”), но мы должны ощущать все смены, все перепады этого движения как необходимость. Если же чувство эмоциональной непрерывности хода у зрителя-слушателя разрывается, возникает сбой, провал в восприятии.
В произведениях больших кинематографистов всегда присутствует эта — воспользуемся музыкальным термином — линеарность развития, качество, которое закладывается уже в сценарии. Каждый сценарий, поэтому должен быть проанализирован режиссером с точки зрения непрерывности его эмоционального движения. Непрерывность — не есть монотонность. Напротив, она, прежде всего, предполагает смену одного чувства другим. Смех вытесняется страхом, напряжение снимается облегчением, страдание разрешается в катарсис. Все время идет движение.
Я не потрудился в достаточной мере сбить более жестко сценарий по ритму. Ускользнула от внимания и опасная двух финальная форма картины, амбар Клейн, автор книги “Американский киносценарии”, считает, что фильм обречен на успех тогда, когда развязка совпадает с кульминацией. В “Романсе о влюбленных” две развязки: первая действительно совпадает с кульминацией, вторая же существует вне кульминации, действие как бы размывается, уходит в растворение. А это вещь рискованная. И она потом сказалась в зрительской реакции. Многие начинают думать, что со смертью героя фильм кончается. Они даже встают, чтобы идти к выходу. А оказывается, что им снова надо садиться. Происходит эмоциональный сбой, возникает раздражение, и оно мешает правильно воспринимать дальнейшее. Зритель чувствует себя обманутым. Он сам обманулся, но вместо того, чтобы обратить раздражение против себя, переносит его на фильм. Так что какие-то из законов восприятия мы не учли, не сумели заранее предупредить их отрицательный эффект.
Сценарный этап работы — это только начало, только отрезок параболы — пути реализации замысла. А сколько еще ждало нас сюрпризов — катастроф и спасительных находок.
Мир
“Как в жизни” и “как в искусстве”
Для многих зрителей до сих пор наиглавнейшим критерием, по которому они оценивают фильм, является жизнеподобие — бывает так в жизни или не бывает. Если бывает, значит фильм хороший; не бывает, значит — плохой. По тому же принципу делается и большинство фильмов — в них все точь-в-точь как в жизни — и костюмы, и мебель, и производственные проблемы, и ходовые в быту словечки. Все как по правде, а искусства нет. Есть нечто бесформенное, невнятно жизнеподобное. Ползучий реализм. Ролан Быков грустно пошутил в одном своем выступлении: “Мы уже научились делать фильмы, похожие на жизнь. Хорошо бы нам еще научиться делать фильмы, похожие на искусство”.
Лично я тоже считаю, что злостным тормозом нашего кинематографа стало правдоподобие. Мы в нем погрязли. Было время, когда это правдоподобие завоевывалось с великим трудом. Оно было первостепенной необходимостью. Такие картины, как “Дело Румянцева” или “Дом, в котором я живу” и еще много других, которые, ломая некоторые эстетические догмы 30—40-х годов, принесли с собой на экран реальность современной жизни, драмы “обычного человека”, потребовали от художников героического напряжения таланта. Теперь правдоподобие стало вопросом ремесла. Только из рук вон неспособный человек или неудачник не умеет сегодня снять картину, где все “как в жизни”. Но получается парадоксальное явление: на экране все “по правде”, все натурально одеты, прилично загримированы, реальный конфликт, взятый чуть ли не прямо из вчерашней газеты, а на жизнь все равно не похоже. Не похоже, потому что не волнует. А вот жизнь, она нас волнует. а любых своих проявлениях. Вам на ногу в троллейбусе наступили — вы тут же реагируете словом или действием. А снять то же самое в кино?
Зритель скажет: ну и что особенного, что в этом интересного?
На многочисленных пленумах и совещаниях мы дружно призываем друг друга изучать жизнь. И затем едем в колхозы, на стройки, беседуем с шахтерами, буровиками, сталеварами, ткачихами, после чего, вооруженные “знанием жизни”, садимся за рабочие столы и сочиняем нечто жизнеподобно-занудное, аморфное и в дальнейшем именуем это “нечто” сценарием.
Быть может, и неосознанно, не облеченное в эстетические формулировки, но широко бытует такое мнение, что произведение кино уже чуть ли не в готовом виде существует в действительности, как скульптура в глыбе мрамора. Художнику надо только отколоть лишние куски, и получится прекрасное изваяние. А если он и не отколет, то оно все равно будет продолжать существовать в этом камне, ждать, пока кто-то другой его же не вырубит из глыбы.
Конечно, произведение искусства и его материал очень тесно взаимосвязаны, только характер этой связи совсем не прост и не однозначен. Эту скрытую под мрамором скульптуру, прежде чем освободить от ненужных обломков материала, надо угадать, создать в своем сознании, наполнить собственным видением, а затем... нет, не вырубать, молоток и зубило здесь не годятся — надо выцарапывать ногтями.
Каждая картина — это определенный мир, существующий и развивающийся по собственным законам.
Познать этот мир — это значит понять, что из реального мира спроецируется на экран, какие между этими двумя мирами (экранным и действительным) возникнут параллели и взаимосвязи, какие традиции кино развивает данный фильм и каким образом он связан с сегодняшней жизнью — не с приметами быта, фасонами мод и причесок, а с духовной, с общественной жизнью.
Те же проблемы встают и при работе над экранизациями. И здесь надо понять, как соотносится мир, созданный талантом писателя, с миром, который предстоит создать на экране, и как перекликаются духовные проблемы общества тех лет, когда создавалось произведение, с нашими сегодняшними проблемами.
К примеру, снимая “Дворянское гнездо” Тургенева, я не слишком погружался в изучение иконографического материала. По части бытовой среды, костюмов, обстановки интерьеров в фильме наделано множество ляпсусов (по большей части намеренно наделано — нас интересовала не точность деталей, а образная убедительность целого для обычного сегодняшнего человека, неспециалиста, не знатока русской истории), хотя потом критики упрекали меня как раз за увлечение фактографией помещичьего быта.
Изучение материала шло по другой линии. Я читал всего Тургенева, все о Тургеневе, все вокруг Тургенева. Старался осмыслить главный камень преткновения всех философских споров российской интеллигенции — славянофилов и западников. А тот вопрос, из-за которого кипели страсти в веке девятнадцатом, — вопрос путей развития России между Востоком и Западом, вопрос патриотизма — актуален и сегодня и будет актуален всегда.
Как относился Тургенев к этим спорам, на чьей он был стороне — это надо было понять прежде всего. Есть такая книжечка “История одной вражды”. В ней рассказано, как и почему возникла никогда потом не утихавшая взаимная неприязнь Тургенева и Достоевского. Они встретились в Германии, и Достоевский обвинил Тургенева в ненависти к России. Он не мог простить ему слова Потугина, героя “Дыма”: “Наша матушка Русь православная провалиться могла бы в тар-тарары и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы родная: все бы преспокойно оставалось на своем месте...” А когда Достоевский вдобавок обрушился с бранью на немцев, Тургенев, побледнев, сказал: “Говоря так, вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского”. Достоевский не мог “слушать такие ругательства на Россию от русского изменника” и никогда не мог простить Тургенева тот его “слишком оскорбил своими убеждениями”.
Этот спор для меня продолжался и в картине: есть ли у человека духовные корни, Родина, нужна ли она, зачем и кому нужна? Эти вопросы вечные, логически неразрешимые, недоказуемые и тем и интересные. Пытаясь по-своему дать на них ответ в экранизации “Дворянского гнезда”, я не забывал и об этом разговоре Тургенева с Достоевским, что, впрочем, не уберегло меня впоследствии от обвинений в “славянофильстве”.
Работа над экранизациями, а затем и над “Романсом о влюбленных”, убедила меня в том, что не имеет существенного значения, какая конкретно вещь Чехова, Достоевского или, например, Шекспира, выбрана для постановки. Потому что важен не сюжет и даже не актуальные проблемы, поднятые в произведении,— важен мир писателя. А этот мир можно угадать и выразить в экранизации любого его сочинения, даже самого слабого. Как в капле воды отражается весь мир, так и в одной самой короткой новелле можно увидеть отражение написанного в десятке томов. Можно даже взять книгу какого-то другого писателя и, перенося на экран, насытить ее миром Достоевского, или Чехова, или кого-то еще. На практике такой опыт у меня уже был — в “Первом учителе”. Мир этой картины складывался из умножения двух миров — Чингиза Айтматова, автора литературного первоисточника, и поэта Павла Васильева, творчество которого впервые открыло мне Казахстан и Киргизию.
Павел Васильев — поэт чрезвычайно яркий, страстный, подчас даже жестокий в своем творчестве. Погиб он в расцвете таланта, в 1937 году. Он считал себя потомком древних кочевых племен, с молоком матери впитал культуру Средней Азии, где родился и вырос. В то же время духовная утонченность, поэтическая восприимчивость позволили ему самобытно претворить национальный колорит и по-своему, оригинально и мужественно говорить об истории, о судьбе среднеазиатских народов. Особенно потрясли меня его “Песни киргиз-казахов” и поэма “Соляной бунт”. Никогда не забуду в этой поэме строк о старой киргизке, которую убивает казак при подавлении народного восстания. Он рассекает ей шашкой лицо и...
Старуха, пятясь, пошла дрожа
Развороченной,
Мясистой губой...
Выкатился глаз
Старушечий, грозен,
Будто бы вспомнивший
Вдруг о чем,
И долго в тусклом,
Смертном морозе
Федькино лицо
Танцевало в нем.
Быть может, именно поэзия Павла Васильева и стала для меня отправной точкой в решении взять повесть Айтматова для первой своей картины. Киргизия, какой я ее знал по стихам Васильева, была страной людей с открытыми и первозданными чувствами, с яростным накалом страстей.
Другой художник, повлиявший на облик фильма “Первый учитель”,— великий японец Куросава. В его картинах вселенная живет по особым, трагическим законам. Если идет дождь, то это уже не дождь, а падающий с неба кипяток или серная кислота. У героев температура постоянно выше сорока градусов, они поднимаются до вершин духа и падают до бездны отчаяния, все накалено, все на пределе чувств: надежда и отчаяние, любовь и ненависть.
Под воздействием всего этого и складывался мир моего фильма. Температура айтматовского “Первого учителя” была в нем превышена на много градусов.
Кстати, о Шекспире
Я часто думаю, каким должен быть на экране мир Шекспира, чтобы передать всю его мощь, страсть, исступленность чувств. Только один раз на сцене я видел Шекспира, оставившего ощущение подлинного шедевра. Совершенства. Ни с чем не сравнимого наслаждения. Это был “Отелло” в лондонском театре “Олд Вик”, где играл Лоренс Оливье. Впервые в жизни я почувствовал, как просто и как безмерно трудно ставить Шекспира. Просто, потому что не было ни занавесов, торжественно вздымающихся над сценой, ни многозначительных символов, ни великолепия декораций. Но какие актеры там были! По сцене ходил закутанный в белый бурнус негр, разбуженный раб подымающейся Африки. Из разреза бурнуса торчала голая — до бедер — нога, на запястьях звенели браслеты и между ног болтался меч. Это не был венецианский мавр, облагороженный цивилизацией и наученный всем правилам этикета. Это был дикарь, аристократ духа, обманутый белой женщиной, белыми людьми. Здесь были ответы на проблемы столкновения культур Востока и Запада, на расизм, на сегодняшние судьбы Европы и Африки. И каждое слово было так отточено по форме, что пронзало, дыбом вставали волосы. Я был потрясен.
Только дважды в жизни я испытал такое потрясение от классики — от Шекспира, сыгранного Оливье, и от Баха, которого исполнял Глен Гульд. Баха многие прекрасно играют, но Глен Гульд играл волшебно. Два с половиной часа я сидел очарованный, абсолютно окаменевший и остолбеневший от этого чуда наполненности, от способности художника вдохнуть в музыку всего себя.
Ставить Шекспира — немыслимо сложно. Но (кажется, я уже начинаю хвастаться) со временем обязательно сниму Шекспира. Я еще не знаю, как именно его решать, но, по-моему, уже нащупал, с какой стороны к нему подступиться. Во всяком случае, без глубокого сенсуального, чувственного начала ставить Шекспира нельзя. И еще без ощущения бога — самого ближайшего, ежесекундного его присутствия.
В книге про Михаила Чехова я прочитал о том, как он играл в “Потопе”. В этой пьесе у него всегда была одна и та же роль — Фрэзер, но он много раз в корне менял трактовку этого персонажа. В одной из этих трактовок он придумал себе своеобразного перципиента, с которым вел непрерывный диалог. Этим перципиентом был бог, которого он словно бы воочию, во плоти видел где-то чуть повыше своего пенсне. И диалог Чехов вел не с другими героями пьесы, а именно с ним. Только с ним. Он все время призывал его в свидетели. И если он говорил: “Подлец! Подлец! Подлец!”, то и эти слова были адресованы богу. Это ощущение примитивной божественной веры, материализации воображаемого бога производило ошеломляющее впечатление на зрителя.
Действительно, поразительное решение. Воистину шекспировское.
Вот то же ощущение материального присутствия бога для людей ушедших веков зачастую поражает, когда сталкиваешься с материалами истории. Ну вот, к примеру, рассказ о том, как бояре Романовы пытались заставить царя Василия Шуйского отречься от престола. Поведал о том сам Шуйский, доживая свои дни при дворе какого-то богатого польского магната. Когда собирались гости, магнат говаривал: “А сейчас я вам русского царя покажу”. И приводили лысенького старичка, который под водочку рассказывал, как царствовал в былые времена на московском престоле. А поляки хохотали, теша свою шляхетскую гордость и комплекс неполноценности тем, что русский царь у них заместо шута.
Бояре Романовы, которых возвеличил в своей “Истории государства российского” Карамзин, намеренно исказивший историю в угоду правящей династии, в действительности были большими негодяями. Они ненавидели Бориса Годунова, строили против него различные козни и возводили на него всяческие напраслины. Они были главными претендентами на престол и ничем не брезговали в борьбе за него. Так вот во времена недолгого царствования Шуйского, как сам он рассказывал, заявились к нему два брата Романовых, схватили под микитки и поволокли в Успенский собор. Он пытался сопротивляться, но они саданули ему в живот так, что у него аж брюхо скрутило. Тащат эти два здоровых лба упирающегося старика через кремлевскую площадь, а рынды стоят себе невозмутимо, делают вид, что ничего не видят. Приволокли, поставили перед образом (а образ для них все равно, что реальный бог), говорят: “Отрекайся!” — “Не буду!” — “Отрекайся!” — “Не буду!” — “Отрекайся!” — “Не буду!” Тогда младший из братьев (старший держал старика, согнув его перед образом) спрятался за спиной царя и начал гнусавить стариковским голосом: “Я, господи, отрекаюсь от престола...” Но Шуйский исхитрился вывернуться и закричал, обращаясь к образу: “Ты слышишь, господи! Это он говорит. Он отрекается!” И этот Романов никогда уже больше не смел претендовать на царский трон, не чувствовал за собой права на это. Потому что господь сам слышал, как он отрекся.
Вот это средневековое ощущение бога, как истинно сущего, материального, потрясающе может зазвучать именно у Шекспира. Какой “Макбет” может тогда получиться! Когда герой не просто идет на кровавое злодейство, но творит его, зная, что на него направлен вечный глаз. Как у Гюго в “Легенде веков”, где этот вечный глаз преследует Каина даже в подземном мраке:
И яму вырыли, и Каин подал знак, Что рад он, и его в провал спустили темный. Когда ж простерся он, косматый и огромный, И каменный затвор над входом загремел, — Глаз был в могиле той и на него глядел.
Пожалуй, разговор о Шекспире на этих страницах возник не случайно. “Романс о влюбленных” некоторое отношение к Шекспиру все же имеет, потому что Григорьев осмелился рассказать эту историю в шекспировском ключе, взять человеческие чувства в момент крайнего напряжения.
Современная драматургия по большей части строится на том, что герои говорят не то, что думают. А зритель уже сам должен догадаться о том, что подразумевается между строк. Наиболее ярко такой тип драматургии впервые определился у Чехова. На том же построены все пьесы Осборна, Олби и многих других сегодняшних авторов.
А у Григорьева в “Романсе” герои говорят во весь голос то, что в жизни мы стараемся держать про себя, стесняемся выносить на люди. Скажем, мать напутствует Сергея: “Мой сын! Твои отец и мать тебя родили сильным и красивым. Не забывай, откуда ты, в чьем вырос доме, в какой стране... Будь честен и высок, чтоб не седела твоя мать от горя и позора”. И это при всем народе. Или: “Ты не прав, мой брат! Я все оставил, чтоб прийти сюда, спасти тебя, как ты меня однажды: ты от смерти, я от бесчестия”. Это говорит Сергею Альбатрос, причем говорит в момент драки. Ничего не скажешь, подходящее время! Это же все вранье с точки зрения нормальной человеческой логики! В лучшем случае нескромность, бестактность. Кстати, и зрители, к которым я обращался еще в начале работы над фильмом через журнал “Советский экран”, писали мне, что так громко о своей любви не кричат о ней молчат. Когда душа переполнена чувством, слова излишни.
Все верно! Но вот у Шекспира в “Ромео и Джульетте” герои говорят, говорят, говорят о своей любви. И не испытывают при этом никакого неудобства. Потому что у искусства свои законы. В искусстве человек может выразить себя до конца, выплеснуться, разорвать оковы “здравого смысла”, выпрыгнуть из себя самого, как пытался выпрыгнуть из собственных ребер Маяковский в “Облаке в штанах”: “Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца”. В этом тоже шекспировская страсть и безмерность.
За “синей птицей”
Фильм для режиссера — все равно, что пригрезившаяся мечта. Ее хочется поймать, удержать в руках, заставить перейти из мира грез в явь, на полотно экрана. И весь процесс работы над картиной — это погоня за “синей птицей”, за ускользающим видением на мгновенье открывшегося чудесного мира. Не каждому, даже талантливому режиссеру удается ухватить эту птицу за хвост.
Ощущением от сценария Григорьева было открытие. Как будто человек умылся, стер с себя прах повседневности и, посмотрев на окружающий мир чистыми глазами, увидел его новым, свежим и ярким. И даже в том мире, который был в последней новелле, в мире без любви, за монотонностью изложения чувствовалось биение сдерживаемой страсти. Каким же путем возможно было перенести в фильм и эту свежесть открытия и эту глубину страсти? Этого никто не знал. И я, естественно, тоже.
Ключ к миру “Романса о влюбленных” дали мне слова Пастернака о Скрябине. Кстати, именно Скрябину литературная Россия обязана рождением поэта Пастернака. В юности Пастернак увлечен был музыкой, пытался сам сочинять и первые свои опыты показал Скрябину. Тот посмотрел ноты и сказал: “Молодой человек, вы не талантливы”. Пастернак поверил его словам и навсегда ушел в литературу.
А скрябинскую музыку Пастернак обожал. Он писал, что в ней “трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества шаловлива, стихийная и свободная, как падший ангел”. В этой музыке его поражал язык, до безумия новый, свежий, “как нов был жизнью и свежестью дышавший лес”. Эта музыка “рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений”.
И мне вдруг поверилось, что вот таким вот языком можно выразить мир Григорьева — обвалом чувства, экстазом, нагромождением образов, бессвязным лепетом счастья. Когда бессвязность возникает от эмоциональности, она воздействует фантастически. Самая простая история становится безмерно волнующей. Скажем, девочка прибежала из школы. Получила пятерку по рисованию. Не бог весть какое событие. А она полна восторга. И все, что пытается Рассказать, для всех слушающих лишено связи и смысла. Воздействует на них сам захлебывающийся язык рассказа, переполненность счастьем, вырастающая из обрывков слов.
В кино уже были прекрасные опыты такого экстатического повествования-лепета — у Бунюэля в “Андалузской собаке” и в “Золотом веке”, у Калатозова в “Журавлях”. Весь предсмертный бред Бориса, призрачное свадебное шествие, возникающее из кружения берез, Вероника с фатой, теснящие друг друга двойные и тройные экспозиции, счастливая лучезарность несбыточного — блестящий пример такой бессвязности, нагромождения, возникающих из музыки и рушащихся обломков-образов.
По ходу работы над фильмом я веду своего рода рабочие дневники, куда записываю все, что может пригодиться,— цитаты из книг, из высказываний других режиссеров, случайные наблюдения, свои размышления. Вот одна из первых записей оттуда по поводу языка фильма: “Может быть, создать фантастическое, нереальное, насыщенное движением, двойными экспозициями, наплывами, засветками — обвал с небольшими четкими паузами. Импрессия счастья. До безумия. Язык заплетающийся, захлебывающийся. И тогда — свободно импровизированные поступки, сценки, свободное поведение, лишенные заданности мизансцены”.
Причем если у Калатозова этот эмоциональный, построенный на взрыве образности кусок очень короток и изображает не явь, а ускользающее видение умирающего, то я хотел с помощью двойных экспозиций рассказывать целые куски сюжета, большие куски — чуть ли не полкартины собирался подобным образом строить. Была у меня эта безумная мысль. Мне кажется, что иногда лучше доводить принцип до логического конца, даже до абсурда, но таким путем ярче выявляются его возможности.
На поиск именно такой стилистики толкала условность сценарной литературы. Если бы снимать все в жизнеподобной, бытописательской манере, то эта возвышенность стиля начала бы восприниматься как олеография, фальшь, котурны. Чтобы избежать этого, нужен был обвал пластики. На зрителя должен был обрушиться такой напор экранного изображения, чтобы не было ни времени, ни возможности продохнуть. Чтобы каждый следующий образ возникал тогда, когда зритель еще не успевал целиком воспринять предшествующий, вобрать, осознать все впечатления от него. Нужно было построить прекрасный целостный мир, чтобы взорвать его, разрушить до основания, а затем, во второй части, на его обломках построить другой мир, совершенно иной, но такая режиссерская задача меня волновала давно в “Дворянском гнезде” я пытался ее осуществить. Мне хотелось создать мир сентиментально-тургеневского романа, глубоко надуманного, в общем, какие он пописывал где-нибудь на железнодорожных станциях за бутылкой бужоле. В его письмах нередко можно встретить строки примерно такого рода: “Вчера было скучно. Долго ждал поезда. Сидел в ресторане. Хорошее было вино. Выпил бутылку, и пошел сюжетец”. Вот эти “сюжетцы” он в своих романах сочинял мастерски. А потом тот же барин Тургенев брал перо и писал пронзительнейшей правды кусок крестьянской жизни — свои “Записки охотника”.
То есть для меня существуют как бы два Тургенева. Один — умело конструировал сюжеты, живописал дворянские гнезда, создал целую галерею образов прекрасных, одухотворенных героинь. А другой великий реалист, пешком исходивший десятки Деревень, видевший подлинную жизнь, встречавший множество самых разных людей и умевший замечательно правдиво, с огромной любовью о них писать, вспомнить хотя бы его Чертопханова и Недопюсина. Ведь это же великие образы русской литературы. Создав их, Тургенев вообще мог бы бросить писать — слава ему и так навек была бы обеспечена.
Вот этих двух Тургеневых мне и хотелось столкнуть в “Дворянском гнезде”. Создать мир цветов, сантиментов, красивый, роскошный — такой торт со взбитыми сливками, а потом шлепнуть по розовому крему хорошеньким кирпичом. Взорвать одну эстетику другой. Преподнести зрителю ядреную дулю: после сладостной музыки и романтических вздохов — грязный трактир, столы, заплеванные обглоданными раками, нищих мужиков, пьяных Лаврецкого с Гедеоновским, ведущих разговор о смысле жизни. И в том же трактире — тургеневские певцы. Мне хотелось показать, как бесконечно далеки друг от друга эти баре и эти мужики: одно слово что русские, а между ними — пропасть, проложенная цивилизацией и историей. И эта пропасть во многом определила дальнейшие пути России.
Вот в этом нищем трактире Гедеоновский — Меркурьев произносил свой монолог о счастье, о России (его текст мы взяли из “Гамлета Щигровского уезда”). Это должен был быть очень серьезный поворот и в самом характере Гедеоновского и в философии всей картины.
Сцена была снята. В ней играли замечательные актеры, согласившись играть буквально крохотные роли, потому что поняли, как важна она для меня — Ия Саввина, Евгений Лебедев, Николай Бурляев. Очень интересна была Алла Демидова в гриме мальчика-инока. Но сцена у меня не получилась, я допустил в ней просчет. Я создавал мир этой части теми же барочными средствами, с тем же обилием деталей, с тем же подчеркиванием вещной среды, что и мир “дворянских гнезд”. Поэтому, вместо того, чтобы его разрушить, стать его эстетическим антиподом, “Певцы” его словно бы продолжили, хоть и на другом материале, с участием других героев. Они не опровергали, а, напротив, только стилистически укрепляли начало фильма, ибо следовали тем же законам. Поэтому от задуманного финала пришлось отказаться, и я его безжалостно смыл, несмотря на все протесты друзей. Считал, что лучше уничтожить свидетельство своей неудачи, чем хранить его. Сейчас ругаю себя за это — по многим причинам. Во-первых, теперь уже эта сцена не кажется мне больше столь безнадежно плохой. Во-вторых, игра Меркурьева заслуживала того, чтобы быть сохраненной хотя бы для архива — как знать, может быть, ничего похожего ему уже сыграть не придется. Ну, а в-третьих, хоть этот кусок и оказался для картины излишним, он мог бы существовать как самостоятельная короткометражка. Можно было бы что-то доснять специально для нее, соединить ее с какой-то другой из тургеневских новелл. Мог бы получиться любопытный диптих: рассказ о бедности, сделанный с барочным режиссерским перебором, и рассказ о богатой жизни, о дворянской усадьбе, решенный лаконично, с минимальным количеством деталей.
Так или иначе, но мысль столкнуть два взаимоотрицающих мира в “Дворянском гнезде” осталась нереализованной, и эту режиссерскую задачу я смог осуществить лишь в “Романсе о влюбленных”. Причем поначалу замысливалось оба мира картины сделать еще более разнополюсными, еще больше сумбура, экстатичности, условности должно было быть в первой части фильма.
В кинематографе всегда сосуществовали и параллельно развивались две ветви: одна стремилась к предельно точному воспроизведению реальности, другая — к свободе от жизнеподобия, к условности. Какими бы путями ни пошло в дальнейшем кино, оно всегда будет колебаться между этими полюсами. Что же касается моих личных пристрастий, то сейчас я испытываю определенную тягу в сторону условности. Сегодняшний кинематограф в этой области накопил богатый арсенал возможностей. Теперь мы гораздо шире используем на экране область воображаемого, сновидений, подсознания, ирреального. Причем все это облекается в совершенно конкретную плоть чувственно осязаемого, так что уже не провести разделительную черту — где явь, где греза. Кино научилось проникать в сознание человека, отражающего мир. Поэтому особое значение приобретает сознание, точка зрения человека, который воспринимает этот объективный мир. Мир сам по себе бесстрастен, не одушевлен чувством и мыслью. Ими наделяет его сознание воспринимающего, оно искажает реальные пропорции мира, вносит в него свою энергию, свои душевные пропорции. Оттого немая вещь способна стать на экране говорящей, даже вещающей. Вещей вещью. На этом пути уже немало сделано Тарковским, Висконти. Но все равно кино пока что дошло лишь до полпути возможного — быть может, до уровня Гоголя, творившего сто с лишним лет назад. А после того литература сделала гигантский рывок вперед — Достоевский, Кафка, Фолкнер...
Еще одной важнейшей причиной, заставившей искать максимально активную изобразительную стилистику, была необходимость сделать органично воспринимаемым белый стих, которым говорят герои.
Собственно говоря, единого пути для всех эпизодов фильма здесь быть не могло. В тех кусках, где пафос открыт, где герои говорят высокие слова типа: “Да здравствует любовь!.. Труби, Трубач!” или: “Смерть за Родину — это жизнь!”, нужно было открытое забрало, игра ва-банк,— либо актер сумеет сказать эти слова, и они будут волновать, либо не сумеет — и все окажется фальшью. Такие высокие слова можно говорить только в экстатическом состоянии, тут уж бояться белого стиха нечего — он вытекает из внутреннего состояния героев.
Другое дело, когда тем же белым стихом говорятся вещи будничные, житейские. Скажем, мать говорит Тане: “Не торопись, всему черед свой. Ты — девушка, иди милуйся с милым, коль любится. Выйдешь замуж — рожай детей, целуй их и расти, жди мужа, береги семью и по ночам уж глупо будет шляться — всему своя пора. Зима — зимою, лето — летом, а осень — осенью,— очередь всему своя...”
Как это снимать в кино? В театре проще — сцена позволяет декламировать. А в кино декламация сразу режет уши фальшью. Что делать? Бегло проговаривать стихи? Прятать их, будто это вовсе и не стихи, а проза? Но тогда зачем вообще было Григорьеву писать стихом? И в итоге я решил стихи не прятать, произносить их открыто, обнаженно, но обрушить на них такой интенсивный изобразительный ряд, который как бы снизил приподнятость белого стиха, растворил его в пластике, не дал бы зрителю ощутить банальности прописных истин, которую только бы подчеркивала условность речи героев.
То есть: там, где состояние героев экстатическое, все сконцентрировано в едином фокусе — на лице актера. Там, где интонация обыденная, можно уйти от лица говорящего, погрузиться в атмосферу среды, в экранную пластику.
И я смог убедиться в дальнейшем, что этот путь верный. Что таким образом можно поставить в кино “Евгения Онегина”, не выбрасывая ни строки. С Анатолием Васильевым, выпускником Высших режиссерских курсов, мы собираемся такой фильм сделать. Изобразительный ряд будет состоять из статичных фотографий, но сама их пластика, ритм их смен и чередований будет таким насыщенным, что можно будет не проглатывать, не пробалтывать стихи. Они могут звучать в полный голос.
Кино — в главном искусство зрительное. Изобразительный образ настолько силен, что в общем-то можно смотреть картину с плохим звуком. Или на незнакомом языке. Я уж не говорю о временах Великого Немого, когда звука вообще не было.
Бывает, что в комнате стоит телевизор, и на него почему-то обращены все глаза, хотя звук отключен и на экране ничего занимательного не происходит: сыплется зерно с элеватора или чугунные болванки едут по транспортеру. А все равно интересно, потому что идет смена изображений. Наверное, вот так же первобытные люди часами смотрели на огонь в пещере или на прилив набегающих волн в океане. Сегодня эти два древнейших, извечных развлечения человеку заменил телевизор. Он заменяет и костер и зрелище движущейся воды.
В общем, если есть пища глазу, если она производит на зрителя эмоциональное впечатление, то и звуковой ряд, каков бы он ни был, обретает эмоциональную окраску. И потому в “Романсе о влюбленных” при всей активности словесного ряда — ряда- чрезвычайно условного — я почувствовал, размышляя над будущим фильмом, возможность сделать даже такой “антикинематографический” диалог органично воспринимаемым.
“Кирпичики” мира
Вся наша эмоциональная память полна когда-то испытанными ощущениями и далекими воспоминаниями, образами смутными и ясными, чувственными представлениями, таящимися в глубине. Когда режиссер читает сценарий, они оживают, выплывают наружу, помогая фантазии представить себе созданный талантом сценариста мир. Идет отбор, в чем-то подобный отбору необходимых кадров из бесконечного вороха хроники. Реализация любого сценария, то есть материализация его мира, требует от режиссера привлечения всего жизненного опыта, мира чувств, воспоминаний, образов, фантазий.
Не буду пытаться восстановить сейчас ход своих мыслей в работе над “Романсом”, того, как по кирпичикам складывался мир фильма, что находилось и что отбрасывалось, что шло в строку и что — в корзину. Всего уже не вспомнить, да и не к чему вспоминать. И все же по заметкам в тетради попробую восстановить какие-то частности, пунктир непрерывно шедшего поиска. Вот некоторые из записей.
“Ветродуй. Платье для ветра. Найти покрой раздувающейся куртки”. Хотелось передать на экране летящесть одежд, спутанность волос, ощущение теплого ветра. То, в чем выражается ощущение счастья.
“Не забыть легкость — легкость всего: движения, камеры, панорам, проездов, весь этот ритм”.
“Жизнь героев должна начинаться на улице, а кончаться в бесконечности”.
“Нет, нельзя пропустить такую возможность: показать замечательных арбатских чудаков. Этот старый незабвенный Арбат с переулками, мезонинчиками, проходы Тани с письмом... Глобус на Новом Арбате, небоскребы, а тут же рядом полудеревенская, патриархальная красота XIX века”. Этот стык меня тоже все время волновал. Поленовские дворики, а рядом аж ночной ресторан “Арбат”. С ревю, джазом и “шикарной” жизнью.
Шло — намеренное и ненамеренное — подглядывание реальной жизни. Постоянно. Все эти наблюдения так или иначе вбирались в копилку фильма. Во времена режиссерской молодости поток деталей, которые хотелось вместить в картину, был вообще безмерен. Хотелось все снять, передать впечатления от множества увиденных в жизни образов, насытить этими ощущениями картину. Была такая неутолимая жадность. Со временем этот отбор становился все строже, хотя и сейчас количество деталей, которые хочется употребить в дело, явно избыточно.
Вот некоторые из таких подсмотренных деталей:
“Кот переходит пустой двор”. Этот кадр потом был в фильме. “Быт улицы. Точильщик. Старушка продает лотерейные билеты. Сколько разных почтальонов!”
“Из окна в летний двор, по которому гуляет пух, льются звуки рояля”. Это тоже было в картине.
“Летают занавески. Хлопают двери”.
“Матрасник”. Я шел по улице, увидел во дворе мастера, перетягивающего матрас. Потом у нас в фильме тоже появился такой эпизодический персонаж. Его сыграл поэт Глазков.
“Старушка сидит в кресле и качает головой. Через несколько минут мы снова обращаем на нее внимание, и она снова все качает головой”. На подобную фигуру меня натолкнул Сэлинджер, я тогда его много читал. Мне все хотелось понять, как-то вычленить для себя, откуда берется у его героев ощущение их случайности, легкое и грустное касание к жизни. В одном из его рассказов был персонаж — профессор, все время качавший головой. От этого и в фильме потом появилась старушка, все время непонятно кому и чему качавшая головой.
В последней части фильма по первоначальному замыслу все должно было разить рекламой. Назойливое просперити: парикмахерские, свадьбы, Интурист, “посетите Кавказ” и т. д. А в итоге все стало решаться совсем иначе.
“И все-таки пора найти этот проклятый язык”. Подобные записи повторяются в тетради все время. Появились и совершенно безумные идеи.
Вот цитата из пастернаковского стихотворения: “В трюмо испаряется чашка какао, качается тюль, и — прямой дорожкою в сад, в бурелом и хаос к качелям бежит трюмо”. Я так прямо и надумал снять: трюмо, дымка поднимающегося из чашки пара, персонаж (Таня) выходит из кадра, а затем наезд на зеркало, на дробящееся отражение, в котором через окно виден сад и в нем уже далеко бегущая по дорожке героиня. Эдакая ностальгическая романтика из XIX века. Слава богу, что я от этого сподобился в конце концов удержаться. Ведь когда в сознании возникает яркий образ, он кажется замечательным. Мы в его плену, его власти. А потом нередко, глядя на экран, хватаемся за голову: какой кошмар! Еще записи. “Так я хочу. Если лирик забудет этот лозунг, он перестанет быть лириком”. Это Блок. “Пробиваешься к профессии каждый раз как бы абсолютно сначала. Все время метания, как перед решающим боем”. Такое постоянно было состояние. И вдруг запись: “Наконец-то стало ясно, как снимать”. Хотя потом вот это “ясно” много раз рушилось как карточный домик.
Был момент, когда возникла уверенность, что язык фильма должен быть легкий, прозрачный, в духе Боттичелли или Рафаэля. Чтобы кадр был очищен от быта, от тяжести материального, и таким путем рождалось бы ощущение радости, безумия, случайного дыхания мира.
А вот по поводу последней части: “Нужно попытаться рассказать легко и с юмором эту часть новеллы, чтобы юмор граничил с трагедией. А потом — правда, страшная и скучная в своей страшности. Страшная своей обыденностью”. И еще: “Так вот в чем дело. Нужно искать то же, что и в “Дяде Ване”. Тот же затаенный скрытый смысл. Те же полные таинственного мгновения молчания. Ту же духовную наполненность человеческой души, мысленно обращенной к высшему...” И сразу вслед за тем: “Как сделать неслыханно просто?..”
Шли поиски мира. Осмысление материала. Нет, не сравнение сценария с жизнью: что похоже, а что не похоже. Важно в конце концов добиться не правды внешних примет, а правды человеческой души. В кино, я думаю, надо стараться знать все, охватить как можно больше, но лишь затем, чтобы потом все забыть. Оставить в центре одно — человека. В начале работы над фильмом через журнал “Советский экран” я обратился к читателям с просьбой написать, кого бы из актеров они хотели бы видеть в главных ролях. Речь шла не только о профессионалах, уже известных по кино или по сцене, но о любых знакомых им людях, человечески, духовно близких нашим героям. Лавины, которая последовала за этим брошенным камушком, я не мог ни предположить, ни предвидеть. Нас завалили тысячами писем. Причем разговор в них шел гораздо шире тех вопросов, на которые мы просили дать ответ. Иногда писали целые коллективы — воинские подразделения, заводские цеха. На своих собраниях они обсуждали наше обращение, коллективно решали, кому из самых лучших, из самых достойных — передовиков производства, отличников воинской службы — можно было бы доверить роли в нашей картине. С прекрасной, наивной чистотой и серьезностью люди писали о своем отношении к любви, к жизни, к кино. Всех наша тема затронула, равнодушных не было. Правда, были считанные письма, отметавшие нашу тему как нелепый анахронизм. “Какая там любовь,— написал какой-то прыткий ловелас.— У меня в каждом городе по жене”.
Но в тысячах других писем с полной и совершенной искренностью, без тени юмора, люди говорили о своем отношении к нашим героям, одобряли или осуждали их, писали о них, как о людях уже знакомых, о своих соседях. Короче, возникло такое зрительское душевное движение навстречу еще несостоявшейся картине, что меня стал преследовать страх, чувство неловкости, словно бы я дал гарантии, которые, может быть, никогда не сумею выполнить. Уже тысячи зрителей ждали от меня своего фильма. А я все еще не мог понять, каким ему быть. Но назад дороги тоже уже не было.
Метания, сомнения, срывы, какие-то вдруг померещившиеся надежды. И вдруг запись в тетради: “Теперь все ясно. Прокул эсти профани”. То есть: прочь с дороги, невежды. Я уже все нашел, все знаю... Если бы это было так!
После одного из просмотров уже законченной картины Владимир Дмитриев, киновед, один из хранителей госфильмофондовского собрания, грустно сказал, покидая зал: “Вы могли бы сделать гениальную картину”. Фильм, как видно, ему не понравился, но возможность какого-то близкого проникновения в мир истинного искусства, открытия чего-то очень существенного для нашего кинематографа он почувствовал. Не хватило где-то каких-то “чуть-чуть”. Увы, они в искусстве решают все.
Сотворение мира. Подготовка.
Во время съемок “Дяди Вани” я как-то столкнулся в студийном коридоре с режиссером, который как раз тогда же работал над картиной по Чехову. “Как дела?”— спрашиваю. “Надоело,— говорит,— сил нет. Хоть бы скорей кончить все это к чертовой матери”. Я потом шел и думал: “Боже мой! Если бы это только от меня зависело, я бы снимал свою картину как можно дольше, лишь бы не расставаться с таким богатством”.
Того режиссера я могу понять. Он, видимо, почувствовал, что из литературы ничего больше взять не может, а раз так, то и вещь кажется вычерпанной, и писатель — неинтересным. Должен же кто-то быть виноват в том, что мысль идет не вглубь, а скользит по поверхности — либо драматург, либо режиссер. Потому-то, наверное, у моего коллеги и возникло ощущение, что Чехов — плохой писатель. Надоело его снимать...
Мне в жизни везло: я никогда не снимал по литературе, которая мне не нравилась. Точнее говоря — не нравилась в процессе работы. Пусть я ошибался, бывал ослеплен — осознание приходило позже. А во время съемок я был весь поглощен материалом, обожал его, был счастлив этим обожанием.
Такое чувство не покидало меня все время работы над “Романсом о влюбленных”. У меня ни на секунду не могла возникнуть мысль: “Надоело — во!” Это же несчастье — снимать то, что не любишь. Я даже заметил, что не позволял себе ни тени мысли, что хоть кто-то из артистов, снимавшихся в картине, в чем-либо мне антипатичен. Это сейчас я точно знаю, как я к каждому отношусь — кого люблю, кого нет. А тогда — буквально боготворил всех. Это происходило подсознательно. Иначе я просто не смог бы работать: невозможно заниматься любимым делом, искусством, с людьми, которые ! тебе неприятны, неинтересны, в которых не видишь своих друзей.
Я не знал, как будет складываться работа над фильмом, кто будет вместе со мной его делать, но то, что именно так я буду ко всему и всем, связанным с этой картиной, относиться, ощущал с самого начала.
Изображение
На фотографиях рабочих моментов съемок режиссер чаще всего с сосредоточенным видом смотрит в глазок камеры, оттерев оператора от его рабочего инструмента. Я этим тоже был грешен, особенно на первых порах работы в кино. Мне все время хотелось самому увидеть кадр, сдвинуть его границу чуть вправо или чуть влево, проверить, так ли выходит на крупный план актер и верно ли выстраивается задуманный мизанкадр.
Сейчас я придерживаюсь в корне иной точки зрения: считаю, что режиссеру вообще лучше поменьше смотреть в камеру — это дело оператора. Суть вопроса здесь не в этике взаимоотношений двух профессий, а в эстетике кино. Убежден, что в сегодняшнем кинематографе мизанкадр изжил себя. Он сразу выдает свою выстроенность, нарочитость. Зритель понимает, что на экране обман, липа.
Изощренные мизанкадры такого крупного мастера, как Бардем, сегодня, как мне кажется, не впечатляют. Также и выверенная математика композиций “Ивана Грозного”: скажем, на переднем плане сверхкрупно профиль Ивана, а за ним тысячные толпы народа, идущего звать его назад, на трон — подобный кадр, повторенный в сегодняшнем фильме, оттолкнул бы своей заданностью. Мертвая, застывшая форма убивает содержание.
Сейчас зритель развращен документалистикой и ее приемами, вторгшимися в сферу игрового кино. Ведь самые впечатляющие документальные кадры чаще всего сняты небрежно, бесформенно даже, без заботы о красоте композиции или мизансцены. Но факт, ощущение правды факта — это самое волнующее. На язык художественного кино хроника повлияла кардинально: приемы подглядывания жизни, погружение действия в живую атмосферу жизни, отказ от всяческой нарочитости, от эффектных перекосов композиции и красивых ракурсов — все это сегодня вошло в плоть киноискусства.
Поэтому в “Романсе” я старался в камеру вообще не глядеть. В идеале: я организую жизнь, а оператор ее снимает — как хочет, сам, без моего вмешательства. Если оператор тонко чувствует режиссера (а именно с такими соавторами мне повезло работать), то он обязательно снимет так, как мне хочется. Даже еще лучше. Потому что у режиссера поневоле вырабатывается некий штамп мизансценирования: хочется, чтобы в кадре все было получше видно. А когда лучше всего видно? Когда актеры глядят в камеру: им нужно разговаривать между собой, а они смотрят на меня. И сразу же выпирает условность, пропадает правда.
Вот почему в подготовительный период я поменьше стараюсь оговаривать с оператором вопросы композиции (конечно, и ими я тоже занимаюсь, но стараюсь все же максимально передоверить их оператору), а главное внимание фиксирую на характере изображения. Эту сторону дела считаю крайне важной.
Размышляя о будущем фильме, я люблю смотреть фотожурналы, отбираю фотографии, вырезки — все, что дает толчок фантазии, помогает придумать образ каких-то эпизодов. Скажем, такая вещь, как степень размытости изображения, может оказаться необычайно существенной для всей стилистики. В “Мужчине и женщине” это замечательно найдено — именно характером изображения Лелюш добился ощущения непередаваемой свободы, поэзии, ощущения праздника.
В поисках решения своих фильмов я обычно обращаюсь к тому или иному изобразительному материалу. В “Дворянском гнезде” это были гравюры, живопись того времени: Рерберг любит прибегать к живописным приемам, переносить на экран законы живописного освещения. И мы добивались сочности цвета, яркости солнечных бликов, соответствия характера изображения всей барочной стилистике картины.
В “Дяде Ване” изображение во многом шло от фотографий эпохи — только не тех, где люди позируют, рассевшись в благополучном порядке, а тех, которые как бы схвачены случайно, как бы подсмотрены глазом “любительской” камеры — подобные снимки в те годы были редкостью. Кстати, уже потом, когда таких фото набралось множество, пришла мысль сделать из них ударный монтажный кусок и на него положить титры — поначалу это никак не планировалось.
Изобразительная среда фильма строилась на глубоких темных тенях, на пыльных интерьерах, рождающих у зрителя ощущение духоты, ощущение того, что герои наглухо заперты в этом доме. Если в “Дворянском гнезде” цвет играл активную роль, его гамма была живописной, изменчивой, то “Дядя Ваня” решался монохромно, характер фотографии был намеренно охристым, как бы дагерротипным. Монохромными были и костюмы героев, и стены в декорации, и вещи.
Порой и в композиционном решении кадров я отталкивался от фотографии. Например, в “Первом учителе” я долго бился над съемкой массовки. Как я ее ни ставил, все получалось фальшиво, нарочито — сказывалось отсутствие режиссерского опыта. Но оказалось, что кто-то из группы попутно делал любительские снимки этой сцены. Когда одна из фотографий попалась мне на глаза, я понял, как надо делать. Я просто взял этот снимок, схваченный в совершенно случайный момент, и по нему стал компоновать массовку, искусственно добиваясь в кадре “случайности” расположения людей, умышленно срезая рамкой пол-лица или часть фигуры.
И на экране получились не жестко закомпонованные по всем правилам кадры, а полные свободы, стихийности, ощущения жизни врасплох.
Работая над “Первым учителем”, мы много смотрели фильмов 20-х годов. Мы старались создать картину как бы “немую” по стилистике: добивались крупнозернистой фактуры изображения, какая бывает у фильмов, много раз контратипированных, сознательно избегали любого движения камеры, даже панорамирования — камера все время была статичной.
Многие фильмы, которые привычно называются черно-белыми, по сути таковыми не являются — они серо-серые: и черное в них серо и белое серо. Мы же в “Первом учителе” последовательно добивались изображения именно черно-белого, без промежуточных теней. Даже костюмы наш художник Михаил Ромадин открыто делал черно-белыми — брал черный ситец с белыми горошками или подбирал черные халаты с белой полоской. Те же принципы позднее были частично использованы и в “Асином счастье”.
Обдумывая решение “Романса о влюбленных”, мы с Леваном Пааташвили много внимания уделяли тому, как создать ощущение взрыва цвета, ослепительности, чтобы и зритель вобрал в себя тот же захлеб счастья, которым живут герои. Но ослепительность на экране нельзя создать за счет интенсивности света, она возникает из перепада, из контраста между светом и тьмой. Вы жмуритесь, когда выходите на свет из темной комнаты. То же и в кино: должен быть провал черноты, чтобы потом глаза пронзила яркость света. Поэтому в первой части фильма много кусков темных, провалов, за которыми следуют кадры, близкие по прозрачности к засветке. В этом ключе Пааташвили придумал решение сцены в ванной: в темноту врывается слепящий луч, рисующий почти светящийся контур вокруг тела героини.
А во второй части фильма изображению предстояло утратить этот перепад яркостей, оно становилось именно серо-серым (не черно-белым), служебным, невыразительным, как и сама жизнь героя — жизнь без любви.
Художник. Искажение мира
В принципе искусство никогда не есть прямое отражение реальности. Оно так или иначе ее деформирует. Причем зритель, как правило, и не ощущает, что перед ним искаженный образ мира. Не ощущает и потому, что это чаще всего делается достаточно тонко, как бы скрыто от глаза, и потому, что сам зритель внутренне и не ждет от искусства буквальной копии действительности — ему интересна субъективная точка зрения художника. Ведь в противном случае нет надобности и в самом искусстве, вполне можно удовольствоваться наблюдением самой жизни.
Бывает, что режиссер красит в красный цвет лошадей, а в синий — горы, искажает фигуры и лица оптикой, монтирует позитив с кусками негатива — по-моему, это все “от лукавого”. Кинематограф очень чувствителен к условности, принимает ее с большим трудом, а то и отторгает вовсе — как чужеродную ткань.
Очень немногие режиссеры обладают этим редким даром наделять ирреальность убедительностью наидостовернейшей реальности. Таков, к примеру, Орсон Уэллс. Его “Процесс” — вещь совершенно сюрреалистическая, но погружена в реалии обычного мира. Глядя на экран, проникаясь чувством страха, который преследует героя, мы не можем понять, не пытаемся даже задуматься, за счет каких средств это достигается. Все едва уловимо: быть может, чуть перекошены декорации, преувеличены пропорции помещений, стенки все какие-то шершавые. И возникает образ страшного мира, гораздо более пугающий, поражающий, чем гипертрофированно-изломанные закоулки экспрессионистского “Кабинета доктора Калигари”.
Вот это насыщение фильма незаметными глазу, формирующими образ мира искажениями — задача, в чрезвычайной степени зависящая от художника картины. Поэтому я вообще работе с художником придаю даже большее значение, чем работе с оператором.
Создание мира фильма происходит уже на уровне эскизов. В первых своих картинах я добивался от художников самого тщательного их выполнения. Так работал Ромадин по “Первому учителю”, так он же вместе с Двигубским и Боймом делал эскизы к “Дворянскому гнезду”, которых там вообще было несметное количество, и все выписывались с предельной скрупулезностью. Эти эскизы определяли общее видение будущей картины, выражали ее эстетическую идею.
Но постепенно — то ли с опытом, то ли просто с возрастом — отношение к эскизам менялось. Чтобы получился хороший костюм в фильме о современности, можно вообще обойтись без эскиза. Чтобы построить хорошую декорацию, важна прежде всего работа художника в самой декорации, а эскизы могут быть самыми приблизительными, дающими лишь общий абрис, общий контур образа, который должна нести в себе декорация.
Роль декорации в кино и в театре по своему существу принципиально различна. Театральная декорация требует живописности, она должна окидываться одним взглядом. В кино декорация не должна окидываться одним взглядом, она всегда продолжается за рамкой кадра. Если же вся декорация вмещается в кадр, то объектив оказывается удаленным от нее настолько, что теряется всякое значение ее качества — оно попросту не видно. Поэтому в кинодекорации первостепенное значение имеет фактура — то, что в театре не играет столь существенной роли.
Добиться качественных фактур в кино — дело, требующее терпения. К примеру, работая над “Дядей Ваней”, мы с художником Николаем Двигубским решили, что декорация должна быть с облупившейся, потрескавшейся краской. Конечно, на экране это выглядит красиво, создает образ запустения, угасания жизни, но ведь до экрана все надо создать в декорации, а это до чрезвычайности сложно.
У кинохудожников много разных секретов. Есть и секрет достижения эффекта облупившейся краски. Для этого красят по сырой, непросохшей олифе, как то часто делают халтурщики-шабашники, ремонтирующие квартиры. При такой технологии краска, высыхая, вздувается пузырями, отколупывается. Но, как видно, нашу декорацию покрасили недостаточно “халтурно”, краска не отваливалась. И Двигубский целые сутки не выходил из декорации, от руки прописывая все трещины, изломы и вздутия краски на стенах, дверях, окнах. По сути он создавал огромный абстрактный холст размером в двести восемьдесят квадратных метров и делал это с величайшим тщанием, вкусом, любовью. Ведь от таких мелочей зависит не только материальный мир фильма, но духовный мир героев, существующих в этой вещественной среде.
Я понял для себя одну важную вещь: заранее представлять себе кадры в будущей декорации, строить ее под определенную экранную композицию — метод порочный. Как бы ни была изощренна фантазия режиссера, — реальность всегда богаче.
Именно в силу того, что она постоянно рождает случайности. Поэтому в последних своих картинах я даю художникам полный простор для самостоятельного творчества: они строят декорацию, а я уже в ней ищу с актерами мизансцену. Сложности, возникающие при этом,— не помеха работе. Они только подстегивают фантазию, дают импульс творческим поискам.
В “Романсе о влюбленных” задача художника была особенно трудна и серьезна — надо было найти решение двух миров: одного, лишенного всякого критического осмысления, радужного, где все прекрасно; и другого, где все пусто, постыло.
Поскольку я с самого начала отказался (здесь уже говорилось об этом) от пригрезившихся Григорьеву андерсеновских черепичных крыш, брусчатки, воздушных шариков и цветных мотороллеров,— мы с художником Леонидом Перцовым избрали иной путь материализации сценарного мира, погружения его в реальность сегодняшней жизни.
Мир первой части фильма нам хотелось сделать поэтичным, красивым, приятным глазу. А что нам милее всего в Москве? Старые дома, переулки, дворы, пусть обшарпанные, но связанные с памятью детства, со странными чудаками, со старушками-божьими одуванчиками, с ароматом патриархальной старины. И я предложил для съемок двор, который давно заприметил в Трубниковском переулке, знаменитый своим винным заводом в подвале и знатоками этой районной достопримечательности. Двор странный — с темными арками, глубокими колодцами стен, загадочными переходами. Казалось бы, в таком месте лучше всего снимать триллеры в стиле Хичкока или Полянского — оно словно специально создано, чтобы пугать своей мрачностью, создавать гнетущее настроение. Но я знал, что его можно сделать солнечным — это в дальнейшем и получилось. Квартиру героини мы сделали такой, как в старых домах — с узкими коридорчиками и комнатами, с абажурами, с кружевами и бахромой — во всем милый, немного мещанский уют.
Решение материального мира в фильме может строиться на разных принципах. Скажем, Бергман очень часто изолирует своих героев от фона, очищает чувство и мысль от помех бытового окружения. А можно, напротив, насыщать фон, вдыхать чувство в материальный мир — прекрасно умеет это делать Тарковский, его картины всегда отличаются необычайной атмосферой, наполненностью предметной среды. Того же я пытался добиться в “Дворянском гнезде”— мне важно было выразить состояние человека через окружающую его вещную среду.
В “Романсе о влюбленных” этому предметному окружению также придавалось важнейшее значение — через него раскрывался контраст двух миров.
Первый мир — старые дворы, обжитые, обшарпанные стены, цветы на окнах, длинноволосые шевелюры, в достаточной мере фривольные для пуританского вкуса.
Второй же мир целиком строился по законам “как надо”. Новый бетон, квартиры образцово чистые, без следов обжитого уюта стены. Все новое, все хорошее, все добротное. Новые импортные костюмы, аккуратные прически (стиль полубокс) — все упорядочено, введено в рамки благопристойности. Скажем, у младшего брата по-прежнему куртка с вышитой бабочкой, перекочевавшая из первой части, но и носит он ее иначе и сам он другой. И старший брат уже не в джинсах, а в пиджаке, при галстуке — тут уж ни один пенсионер не придерется: все по образцовым нормам общежития — ни лохм, ни гитар. Но нет и индивидуальности, нет жизни — обыденность раздавила свободу, мечту.
Противопоставление двух миров, достигавшееся всеми компонентами — выбором натуры, интерьерами, костюмами, гримом — все это решалось прежде всего с художником.
Немного о костюме
В принципе костюм в кино играет гораздо более важную роль, чем декорация. Потому что главная декорация жизни человеческой души неизменна на протяжении веков, это природа. Ее не надо строить: и лес, и небо, и море — декорация вечная. Если одеть человека в тогу и снять его на фоне зеленого луга, мы попадем в древний Рим; если на том же лугу мы снимем человека в рыцарских доспехах — это уже будут средние века; если же человек будет в современном костюме, то мы будем воспринимать ту же “декорацию” как современную. Поэтому лично я к костюму всегда отношусь с огромным вниманием.
Существуют три измерения костюма на экране. Первое включает то, что видно на крупном плане. И чем крупнее план, тем важнее роль костюма. Потому что видна фактура, видна малейшая липа, неточность, небрежность — оторванная пуговица, плохой материал. От того, как сделаны оборки и как отработаны плечи, как завязан галстук и какой свежести рубашка, как заломлен бархатный берет или фетровая шляпа, зависит наше отношение к герою, наше понимание его характера. Вот почему до пояса костюм должен быть отработан идеально.
Кстати, именно об этом на студиях чаще всего забывают. Бывает, что костюм сделан точно в стиле эпохи, а все равно что-то в нем не удовлетворяет. Такое ощущение у меня было, к примеру, на просмотре “Анны Карениной” А. Зархи, хотя костюмы там делала Людмила Кусакова, талантливый, интересный художник. Все верно по истории, точно по силуэту, а не учтено главное: важен не силуэт, а какие-то даже неприметные в общем рисунке детали — загиб краешка шляпы, кусочек кружева на воротнике, легкая оборка на груди — все то, что работает на крупном плане как наиглавнейшее. А когда костюм шьется целиком, эти “мелочи” пропадают, ускользают от внимания. Так что одна из важных задач режиссера — следить за этим, думать о соотношении крупности кадра с тщательностью отделки костюма.
На среднем плане костюм существенной роли уже не играет, фактура не видна, так что проработка деталей нижней части костюма не требует особой тщательности, если, конечно, по каким-либо причинам на ней специально не акцентируется внимание.
И третье измерение костюма, где он снова обретает свою полную нагрузку,— общий план. Здесь уже первостепенную роль начинают играть силуэт, конфигурация и складки. К примеру, можно снимать актера в одинаковых костюмах, но сшитых из разных материй. Для крупного плана делать костюм из материи, дающей правильное ощущение фактуры, для общего — из имеющей красивую складку. И из двух этих костюмов в восприятии зрителя сложится единое живописное решение, единый образ.
На студиях бытует достаточно стандартная технология создания костюма: художник рисует эскиз, мастерские шьют то, что нарисовано. В результате для каждой картины все делается совершенно новое: новые костюмы, новые ботинки — все вроде культурно выполнено и все мертво.
А мертво потому, что вещь не обжита, не стала и не могла стать своей для актера. Мастерские шьют костюм для героя точно по мерке. А сегодняшний человек (девяносто девять из ста) не шьет себе костюм, а покупает готовый — магазинный ассортимент сейчас вполне достаточен, чтобы с известным допуском одеться на свой рост и вкус. То же и относительно обуви. Зачем шить для героя ботинки, когда проще их купить? Причем лучше даже купить не новые, а ношеные, в “комиссионке”.
Конечно, можно костюм постарить, выбелить плечи (одежда обычно выгорает со спины, а проедается спереди), подтемнить подмышки и т. д. Есть люди, которые умеют это делать феноменально, ювелирно. Работа эта адски сложная — я помню, сколько труда и времени ушло у нас на “Первом учителе” (благо, это еще была моя дипломная работа — на все хватало сил и энтузиазма), чтобы старить костюмы, чтобы они выглядели много раз стиранными, пожухшими от солнца и пыли. Но все это работа не пошивочного цеха. Это уже работа художника. Он прописывает каждую деталь в костюме, как художник прописывает холст,— в дело идут и хлорка для отбеливания, и краска, которой после отбелки восстанавливают в каких-то местах первоначальный цвет, одним словом, тут масса разных хитростей и своих секретов. Но идти на такую трату труда, по-моему, стоит лишь в том случае, когда нельзя найти реальные вещи, в которые можно одеть героя.
Есть такой рабочий, профессиональный термин — “отбор”. Так называют костюмы, не шитые специально для картины, а купленные в комиссионных магазинах, на барахолке, подобранные из старья в студийных костюмерных, на складах. Из этого самого отбора можно подобрать костюм, в котором будет и характер персонажа, и образ времени, в которое происходит действие, и, естественно, точность фактур. Чем больше и разнообразнее эта самая куча тряпья — отбора, тем больше возможностей она дает для лепки самых разнохарактерных вариантов костюма. Это можно уподобить монтажу хроникального материала или, еще точнее, монтажу идущей в открытый эфир телевизионной передачи. В такой работе очень важен момент случайности, импровизационности, хотя, как говорил Мейерхольд, импровизация хороша тогда, когда она как следует подготовлена. Надо иметь точное представление о персонажах, перебрать огромное количество старья, случайных вещей, чтобы создать из них художественный образ. Так что такой путь работы, с одной стороны, облегчает работу художника по костюмам (отпадает необходимость в эскизах), а с другой — намного ее усложняет. Раньше художник, нарисовав эскиз, мог считать свою задачу исполненной, теперь он должен сидеть на площадке, так сказать, дорисовывать свой эскиз на самом герое.
Создание костюма путем отбора, естественно, далеко не всегда возможно. Если можно набрать достаточный гардероб современной одежды, то, допустим, заношенных костюмов времен Гамлета на студиях не найдешь. Но даже если бы они там и были, мы бы ими вряд ли воспользовались: они были бы слишком правдоподобны и не связаны с современной эстетикой костюма.
Если, к примеру, перелистать иллюстрации к книге А. Липкова “Шекспировский экран”, рассказывающей об экранизациях Шекспира в мировом кино, то обнаружится любопытная вещь: в каждом фильме герои одеты по моде того времени, когда фильм снят,— по моде десятых, двадцатых, сороковых или шестидесятых годов нашего века. Художники стилизуют старинную одежду под сегодняшний день. А где стилизация, там уже нужны эскизы, там требуется пошив костюмов. Отбор же возможен главным образом в том случае, когда костюм решается натуралистически, в точном соответствии тому, каков он есть или был в действительности.
В “Романсе о влюбленных” мы часто прибегали к созданию костюма из отбора. Вообще в этом отношении работа над фильмом была очень сложной. Нужно было сделать костюмы такими, чтобы они, с одной стороны, не привлекали к себе особого внимания, а с другой — не ощущалось бы и безразличия к ним. С одной стороны, костюмы должны были быть вполне натуральными, а с другой — поэтичными, создавать настроение, создавать мир фильма.
Поэтому с крайней тщательностью, по крупицам, отыскивались такие вещи, как панамка на голове старушки, вязаная кофточка Тани, бумазейная куртка героя, сшитая по джинсовому покрою. Костюмы персонажей двора подбирались в единой теплой гамме, они как бы составляли одно большое лоскутное одеяло — старое, выцветшее, но опрятное, приглаженное и очень уютное. Обаятельность — вот что было нашим главным требованием к костюму в первой части фильма. Каждая вещь должна была быть любимой. А любимая вещь — никогда не новая. Она вам идет, вы ее чаще всего надеваете, она обношена, обжита, она — своя. Так, во всяком случае, относится к вещи интеллигентный человек, а не нувориш, который хранит ее в нафталине, поскольку видит в ней прежде всего денежную стоимость. А во второй части фильма все вещи уже новые — аккуратные, отглаженные, чистые, но чужие...
Несколько слов об еще одной существенной частности.
Есть в кино такая малозаметная профессия — ассистент художника по костюмам. В нашей кинолитературе и на самого художника по костюмам не часто обращают внимание, а уж на его ассистента и подавно. Между тем, как известно, от малого человека на своем участке дела зависит весь его исход. Кутузов понимал, что судьба Бородинского сражения в конечном счете определяется капитаном Тушиным. Такие капитаны разных профессий решают успех дела и в кино.
Что делает ассистент художника по костюмам? Он выбирает ткани. Казалось бы, невелика работа. Но она необычайно важна и сложна. Ассортимент тканей, выпускаемых нашей промышленностью, все мы знаем, не слишком велик. А у кино требования повышенные, нередко нужны не просто красивые современные ткани, но ткани, которые были модны в прошлом или позапрошлом веке, в городе или в деревне, у нас или за границей. Нужно знать, какие ткани были в ходу тогда-то и там-то. Нужно знать, какие ткани выпускаются сейчас, где они выпускаются, какая из этих тканей может заменить на экране какую-нибудь сарпинку или чертову кожу, о которых сегодня уже и забыли вспоминать.
У художницы по костюмам Людмилы Кусаковой, с которой я работал на нескольких своих картинах, была ассистентка Наташа Личманова, которую та берегла и держала при себе, как самого необходимого помощника. Личманова обладала даром отыскивать в каких-то самых отдаленных провинциальных городишках, на стареньких фабриках уникальные ткани, которые по сей день делаются там на станках, оставшихся еще с прадедовских времен.
Сложность задачи ассистента по костюмам не только в том, что нынешний выбор тканей мал — когда он велик, тоже не легче. Разнообразие имеющихся материалов требует выбора, и в нем нельзя ошибаться. Так что для этой профессии нужны не просто знания, умение ориентироваться в иконографическом материале, но подлинно художническая интуиция, рождаемая талантом и опытом. От точно выбранного материала зависит правдивость костюма, от правдивости костюма — правда характера, а от нее, как известно, сама способность фильма волновать нас.
Поиски актеров
В подготовительном периоде предстояло найти тех реальных людей, которые смогут воплотить грезившиеся мне идеальные образы. Мне казалось, что фильм должен быть совершенно очищен от быта. Что герои должны быть идеальной красоты: девушка с прекрасным лицом, с тонкой, стройной фигурой — некий тип славянской “боттичеллиевской Весны”, юноша с благородно-возвышенным рафаэлевским или, быть может, рублевским обликом. Мы начали искать таких идеальных героев.
Обращаясь к читателям “Советского экрана”, я питал наивную надежду, что сами зрители помогут нам найти героев с яркой, интересной внешностью. К сожалению, тот выбор лиц, человеческих типов, который могут предложить режиссеру ВГИК и даже все театральные институты, более чем ограничен. Не в обиду поступающим на актерские факультеты, должен сказать, что очень многие из тех, кто обладает несомненными данными для этой профессии — и внешними и внутренними, —сторонятся ее, считают ее занятием несерьезным, даже зазорным. Мне не раз приходилось сталкиваться с подобным мнением, особенно распространенным в провинции. Когда я снимал “Асино счастье”, одну из ролей играла Деревенская девушка — с красивым лицом, очень Русского типа, с безусловной актерской одаренностью. Я буквально умолял ее идти во ВГИК, обещал, что помогу ей поступить, дам рекомендацию к Герасимову. К моим словам она отнеслась с полным равнодушием. “Да нет, — говорит. — Зачем? Несерьезно это”.— “А что серьезно?” — “Я в доярки пойду, это серьезно”.
Есть и другие молодые люди, которым в актерскую профессию мешает идти застенчивость, внутренняя целомудренная скромность, благоговейность отношения к искусству. И в итоге получается, что в кино, в театральные институты нередко идут те, кто считает актерство легчайшим и кратчайшим способом стать знаменитым, добиться успеха и славы...
Так что поиски наших “идеальных героев” оказались делом мучительным. Мы переворошили актерские отделы всех студий, театров, перебрали тысячи фотографий, пришедших к нам по почте, мы искали героев на улице. Я еще не знал всех трудностей, которые нас здесь ожидают. Не мог даже точно очертить все те требования, которые должно предъявить к нашим исполнителям. Скажем, я знал, что героиня должна быть очень пластична. Но не знал, что она должна быть темпераментной, чувствовать ритм, уметь говорить стихами. И я не представлял, как это трудно — говорить в кино стихами. Это мне открылось лишь тогда, когда я впервые пришел на кинопробу. Привели актера, девушку-актрису, мы начали репетировать. И я почувствовал, что все мертво. Каждый жест, каждое слово. Разве я мог представить, что стихи так сковывают актера — безмерно, чудовищно? И сколько актеров мы ни пробовали, нас ждал провал за провалом. Крах.
Пробы
По временам в нашей профессиональной кинопресе возникают дебаты: нужны или не нужны актерские пробы? Дело это для актеров малоприятное, что-то вроде визита к зубному врачу. Актер поставлен в положение девицы на выданье: возьмут или не возьмут? Он не знает, утвердят ли его на роль, а должен себя показывать, обнажать нутро. Некоторые от этого страшно зажимаются. Другие, наоборот, играют “в пол ноги”, по принципу: “Если я вам нужен, вы меня и так возьмете”. Вообще на пробах актер играет всегда хуже, чем потом в фильме, — он волнуется, ему хочется понравиться, он еще не успел как следует войти в образ.
К тому же нередко пробы обставляются унизительным образом. Нет ни подходящего костюма, ни нужного парика — все случайное, добытое кое-как в соседних группах (в своей еще ничего нет, все не готово). Случается и так, что пробы нужны режиссеру для чистой проформы. Он давно уже знает, что будет снимать свою жену, но пробует еще шесть заведомо неподходящих кандидаток, чтобы потом сказать на худсовете: “Вот видите, товарищи, как я искал актрису! Но ничего не могу поделать — роль получается только у моей жены”.
С другой стороны, зарубежный опыт показывает, что и без проб можно прекрасно обходиться. На Западе этот институт категорически отсутствует. Ни один уважающий себя актер не станет пробоваться, если заранее не имеет гарантии, что с ним заключат контракт. Ведь у него каждый день на вес золота. Если по каким-либо причинам актера в назначенный день не снимают, ему выплачивают неустойку — огромные суммы. К примеру, Шон О'Коннери за каждый вынужденный день простоя получает пять тысяч долларов. Какой смысл ему при этом зря терять время, бросать деньги на ветер!
И все же институт кинопроб — вещь замечательная. Убежден в этом. Актер получает возможность примерить на себя будущую роль, понять, что за характер предстоит воплотить. Режиссер же, со своей стороны, тоже получает возможность взять “пробы грунта”, проверить не только способность актера, но и намечающуюся стилистику фильма, качество драматургии, характер декорации, изобразительную трактовку материала.
Кинопробы нередко становятся открытием новых талантов — именно в ходе их я нашел впервые пришедших в кино Аринбасарову, Бейшеналиева, Купченко. И даже когда имеешь дело с мастером, уже давно заслужившим наилучшую актерскую репутацию, пробы все равно не излишни. Скажем, Смоктуновскому не было надобности доказывать ни мне, ни худсовету, что он может сыграть дядю Ваню, — его участие в картине было решено задолго до проб. Но он сам же на них настоял — ему важно было посмотреть, что у него получится, как получится.
Мы искали грим. Искали, что из экспрессии Смоктуновского в этом гриме экран воспринимает, что усиливает, что ослабляет. Пробовали разные трактовки: один и тот же монолог Смоктуновский произносил и с мягкой интонацией, и с истерикой, и с иронией. Он пытался нащупать какие-то зерна, определяющие характер роли, размышлял над ней, старался понять мой замысел, раскрыть мне свой, найти то единство в понимании образа, без которого была бы невозможна дальнейшая работа. Мы сняли с ним девять проб! И это оказалось неоценимо пoлeзным в дальнейшем, уже в ходе съемок. Ведь это в театре режиссеру с актером вольготно — они знают, что окончательный вариант можно нащупать когда-нибудь потом, по ходу репетиций. В кино же тот вариант, который снят, и является окончательным.
Пробы должны носить не односторонний характер (режиссер выбирает актера), а в равной мере творческий для всех участников этого процесса. Тогда они могут стать делом и плодотворным, и радостным.
Для тех актеров, которые снимались редко или вообще не играли прежде в кино, пробы нужны еще и затем, чтобы понять, какое качество обретает лицо актера на экране. Ведь внешняя сторона актерской выразительности в кино чрезвычайно важна. Бывает, лицо человека во всем красиво, правильные черты, благородный облик, а на экране — никакого впечатления. А случается — совершенно наоборот: в жизни не лицо, а обмылок какой-то — все неправильно, непропорционально, дефекты, веснушки, черт-те что! А на экране все обретает какую-то неожиданную новизну, свежесть, обаяние. Происходит преображение, умножение качеств. Экран не только безжалостно подчеркивает все неправильности в чертах лица, но и выявляет в нем нечто новое, простому взгляду недоступное. Скажем, лицо Татьяны Самойловой всегда великолепно на экране, оно значительно, оно каждый раз сообщает нам что-то интересное, хотя я совсем не уверен, что эта актриса каждый свой план наполняет внутренним смыслом.
Герои
Актера на роль героя долго не удавалось найти. И тут ассистенты приводят Владимира Конкина. Молодой, красивый, нежный, лицо прелестное, ангельское. Отрок. И мне уже казалось: “Вот он, герой. Нашелся!” Сцены любви на пробах играл замечательно. Но по сценарию этот персонаж проживает жизнь романную — через юношескую любовь, армию, мнимую смерть, через возвращение, еще одну смерть, уже настоящую — смерть от любви, через воскресение, “жизнь во мгле”, приходит к возрождению Души. То есть от шалого восторга семнадцатилетнего мальчишки он вырастает до чувств умудренного горем зрелого человека. Его судьба — своеобразная энциклопедия любви, энциклопедия чувств. И вот вторая часть роли Конкину оказалась органически чуждой. Как только мы ему чуть поседили виски, вылезла фальшь. В самой лепке его лица недостает резкости, мужественности, он не сумел перешагнуть через возрастной барьер.
Я понял, что несложно найти актера, который сыграл бы одну из половин роли — либо щенячью юную радость любви, либо мужественность и выстраданность чувства. Но вот отыскать исполнителя, которому обе эти задачи были бы в равной мере посильны, — дело обреченное. Я знал только трех актеров, которые бы сумели вытянуть подобную роль от начала до конца. Первый — молодой Петр Алейников, актер, которому, по-моему, до сих пор нет равных по обаянию, второй — Альберт Финни, каким он был в молодости, во времена фильма “В субботу вечером, в воскресенье утром” или “Тома Джонса”, — актер абсолютно народный и при этом изысканный, лукавый, темпераментный, страстный. Третий — Майкл Йорк, Тибальт в “Ромео и Джульетте” Дзеффирелли. У него зрелая мужественность сочетается с детской наивностью взгляда, юношеской чистотой. Но все эти кандидатуры были из области абстрактных мечтаний.
Так я пришел к мысли, что решающим моментом в выборе актера должна все же стать его способность сыграть конец роли. Начало, безусловно, дело важное, но если оно будет сыграно хорошо, а финал провален, то и вся роль будет провалена. Зритель покинет зал, не поверив во все то, что мы хотели ему рассказать. Практики знают, что картина получается тогда, когда первый эпизод сделан эмоционально ударно и последний эпизод — тоже эмоционально ударно, но только еще сильнее, чем первый. Если же наоборот — последний эпизод слабее первого, успеха не будет.
Киндинов у нас сначала пробовался на роль Хоккеиста. И уже после того, как на роль Сергея мы перебрали не один десяток артистов, я во время просмотра материала проб вдруг подумал: “А что если взять Киндинова?” Был небольшой кусочек в его пробе, где он смотрел на Таню очень хорошим — грустным, серьезным взглядом, чувствовалась в нем человеческая зрелость.
Когда Киндинов пришел на репетицию, я без всякого предуведомления дал ему текст Сергея. “Давай! — говорю. — Попробуем”. И он загорелся. В нем проснулась какая-то удивительно трепетная струна, которую он сумел продержать все два часа репетиции, что совсем не просто. Я увидел, что из множества пробовавшихся на роль кандидатов наконец нашелся один, способный насытить слова героя не только безусловной верой (этого мало), но внутренним горением, приподнятостью, трепетом, восторженностью — всем тем, чем поражал и притягивал текст Григорьева.
В конце концов в работе киноактера важны не слова — важна интонация слов, важно то физическое состояние, с каким они произносятся.
Так вот вся роль Сергея, впрочем, в равной мере и почти все другие роли, требовали особого физического состояния — наполненности, постоянного полета души. Идет вроде бы ничем не примечательный текст: “Доброе утро, мама!” — “Доброе утро, сын!” — “Какое солнце! Какие облака!” — “Какие облака! Какое солнце!”. Актеру работать с таким текстом чрезвычайно трудно — именно потому трудно, что это общее место. А по сути весь диалог в сценарии был на грани общих мест. Значит, надо было изнутри наполнить его чувством, что оказалось задачей совсем нелегкой. Очень у многих актеров, пробовавшихся в нашем фильме, текст звучал либо напыщенно, либо пусто, то есть и в том и в другом случае — фальшиво. Киндинов же, к счастью, в первой же пробе на Сергея убедил меня в том, что способен жить в особом ритме — трагическом, приподнятом, лихорадочном даже, с температурой тела не 36,6, а как минимум — 38.
Так вместо мечтавшегося тонкого рафаэлевского юноши в нашей картине появился здоровый, достаточно неуклюжий парень с грубой лепки лицом — Киндинов.
Не меньший сюрприз ожидал нас и в итоге поисков “боттичеллиевской Весны”. Было много разных кандидатур, сомнений, проб. Когда в нашей группе появилась Елена Коренева, особого впечатления она на меня не произвела. Хотя в лице было что-то интересное, необычное: чуть раскосые глаза, припухшие веки, во взгляде — совершенная апатия, придававшая ее лицу долю загадочности. Мы поговорили — из разговора я почувствовал, что к роли она вполне равнодушна. Дня через два Коренева пришла на репетицию. И как только она раскрыла рот, сказала первую реплику, произошло чудо — каждое слово звучало абсолютной, совершеннейшей правдой. Хотя слова немыслимые по сложности: “Как я люблю тебя! Как я люблю твое лицо!” Такой текст для актера — пытка, слова застревают во рту, он стесняется их произносить. А раз стесняется — все превращается в фальшь. Так открыто говорить о своих чувствах может только человек с очень чистой душой.
Репетиции с Кореневой я начал сразу с самых сложных кусков. В любом из них, с любым из партнеров она была совершенно естественна, не знала, что такое “зажим”. Мы сняли, наверное, около десятка кинопроб (они нужны были не для нее, а для ее партнеров), и ни в одной из них она не повторяла себя. Разные интонации, разная мера чувственности, разная пластика. Это было поразительно. И всегда — предельная внутренняя органика. И та же способность жить в приподнятом, восторженном, нереальном для нормальных людей ритме.
Короче, вместо “идеальной героини”, которую мы так старательно искали, в нашем фильме появилась девушка маленького роста, юркая, с довольно острым, совсем не элегическим характером, в чем-то похожая не то на Джульетту Мазину, не то на Ширли Мак-Лейн. В общем, “ни кожи, ни рожи”, как впоследствии написала одна возмущенная зрительница, гневно заклеймившая нас за этот выбор.
Так что по части героев парабола нашего замысла дала загиб совершенно непредвиденной крутизны — оба они были полной противоположностью тому, чего мы сначала хотели. Но они были единственными из всех, кто убедил меня, что фильм вообще может быть снят, — я уже начал терять в это веру. Должен сказать, что Григорьев был буквально потрясен выбором героев. Коренева — еще куда ни шло, но Киндинов... Это казалось ему полной катастрофой.
Григорьев перестал ходить к нам на съемки, пропал, исчез из виду. Видимо, ему было бесконечно больно думать о том, что все потеряно — фильм убит. И лишь много позже, уже на подходе к концу работы, он посмотрел материал и воспрял духом — понял, что роль у Киндинова получается.
Даже сейчас, по прошествии немалого времени, мне трудно до конца осознать все те последствия, к которым повлек выбор именно этих актеров, — он органически перестроил всю внутреннюю концепцию режиссерского замысла. Он изменил даже изобразительное решение фильма. Поначалу мне казалось, что изображение должно быть столь же идеальным, как и сами герои — чистым, ясным, с четкой лепкой светового рисунка, как, допустим, в “Дочери Райана” Дэвида Лина. Но с изменением характера героев каллиграфизму уже не оставалось места — все сдвигалось в сторону преувеличений. Поиск изобразительности шел от безмятежной ясности к сбивчивости, шалости, безумию счастья.
Вообще выбор актера — удачный или ошибочный — оказывает самое решающее воздействие на дальнейшее движение замысла. В “Дворянском гнезде”, к примеру, мне пришлось менять его целиком. Потому что понял (с опозданием понял), что актер попросту не тянет. Не может сыграть, выразить то, что я хотел. Возникла необходимость восполнить этот провал какими-то иными средствами, субъективизировать взгляд камеры, наполнить атмосферу, вещный мир, природу тем чувством, которого не нашлось внутри героя. Пришлось делать упор на то, что поначалу хотелось дать эскизно, намеком. Перестроился весь замышлявшийся образ картины.
Неожиданные превращения происходили и с другими героями “Романса”. С Трубачом, например. Он мне виделся здоровым парнем, веселым, скуластым, который хорошо говорит, красиво двигается. Взял я на эту роль Олялина. Фактура отличная, самоигральная. В вестерне ему бы цены не было — лицо, скулы, одним словом, мужик! И когда он выходил в кадр с гитарой, выглядел классно. Но как только ему надо было открыть рот, чтобы заговорить белым григорьевским стихом, все рассыпалось. И в состоянии полного отчаяния я пошел к Смоктуновскому, как к палочке-выручалочке: “Иннокентий Михайлович, спасай! Я не знаю, что с этой ролью делать”. “Ладно, — говорит, — сыграю”. А он и вправду такой актер, что вроде бы может сыграть все.
И так вот вместо красавца-парня появился какой-то странный тип, лишенец, городской дворовый сумасшедший, чуть ли не стиляга. Так что и тут пизанская башня моего замысла дала такой крен, что уж не знаю, как она вовсе не рухнула. Как совсем меня не раздавила. Я же из последних сил пытался ее как-то удерживать в более или менее вертикальном виде.
Сочинение биографий
Прежде чем искать актеров на те или иные роли, надо еще было понять, кого этим актерам предстоит играть. Потому что написанное Григорьевым было попросту неснимабельно (если позволительно воспользоваться таким словообразованием). Кто были герои сценария? Он и Она. Но этого же мало для актера. Его герою нужна профессия, биография. Нужно знать, из какой он семьи.
Ну, скажем, мать Тани, которую сыграла Ия Саввина, появляется на экране в костюме железнодорожной проводницы, о чем у Григорьева, естественно, не упоминалось ни словом. Откуда это взялось?
В сценарии есть фраза, которую говорит Тане мать: “Мужчин не знаешь — у них свои заботы: друзья, работа, политика, война, будь проклята — на то они — мужчины”. Действительно, а где в этом доме мужчины, где отцы? По сценарию ни у Тани, ни у Сергея отцов нет. Когда я спросил у Григорьева, почему это, он ответил: “Ты понимаешь, эта картина не только современна — она символична. В ней для меня — история нашей нации. А у большинства из нас отцов не было. Погибли — кто на гражданской, кто — во время Отечественной. В общем последние пятьдесят лет вся тяжесть лежала на Русских матерях”.
Нам не хотелось давать отцам в обеих семьях одинаковую судьбу. Танина семья (такую мы придумали ей биографию) принадлежит к старой русской интеллигенции. Когда-то этот дом знал лучшие времена, но годы испытаний, через которые пришлось пройти, наложили свой отпечаток. Отсюда рудименты прошлой жизни в квартире Тани, отсюда появилась эта бабушка, бессловесное создание в кружевах (в сценарии никакой бабушки не было). Мне захотелось, чтобы в этой квартире была такая триада женщин.
Незадолго до смерти моя бабушка пришла посмотреть свою правнучку и так вот втроем они стояли у ее кроватки — бабушка, моя мать и моя сестра. “Мы, как матрешки, — все друг из друга повыскакивали”, — сказала тогда бабушка. “Как матрешки” — это вспомнилось, когда думал над “Романсом”, над миром Таниного дома.
Я люблю старух, испытываю к ним нежность — они одухотворяют мир, придают ему эпичность. Во всех моих картинах, начиная с “Асиного счастья”, есть старухи — и в “Дворянском гнезде” и в “Дяде Ване”. В “Романсе” я населил ими целый арбатский двор. И в той картине, которую снимаю сейчас, их тоже, как видно, будет немало.
Так вот, возвращаясь к Таниной матери: она стала проводницей. Образования ей в силу тех или иных причин получить не удалось, жизнь оказалась совсем не той, о которой мечталось в юности. Ей трудно, она редко бывает дома. Она вынуждена тащить на себе не только дочку, но и бабушку, которую я ей подсунул.
Мужа у нее нет, видимо, было какое-то разочарование в мужчине, печальный жизненный опыт. Она в чем-то человек сломанный — светлый и сломанный. Поэтому для нее очень важно, чтобы Таня не осталась без мужа. Она толкает дочь на то, чтобы та вышла за Хоккеиста, всячески приветствует это замужество. И хотя с точки зрения своего жизненного опыта она права, тут есть и немалый налет мещанства.
Таня — ребенок без отца, единственный ребенок, балованный. Да и сама Танина мать должного воспитания так и не получила. Из этих досочиненных нами к сценарию биографий рождался и облик квартиры, ее вещественный мир — несколько странный, и сохранивший что-то интеллигентское, и впитавший долю мещанства, и поэтичный, и в чем-то убогий.
Этим же определялся и характер взаимоотношений матери с дочерью.
А в семье Сергея взаимоотношения между матерью и сыном принципиально иные. Это дом потомственных пролетариев. Аскетичный. Построенный на четких обязанностях. Мать — не просто мать, а праматерь, наставница своих сыновей. Она аристократка духа. В такой семье муж не мог бросить жену. Он мог погибнуть на войне или умереть от фронтовых ран. Мать растила трех своих сыновей, дала им спартанскую закалку. Две квартиры в одном доме, но миры совершенно разные. В доме Сергея — ни одной лишней мелочи, даже занавесок там нет. Диван со слониками на полке, на стене — рабочие грамоты, фотографии, во всем — прямолинейная ясность. На столе молоко и хлеб — не еда, а причастие. И три сына, как три библейских отрока.
Все этапы работы над фильмом продолжается борьба режиссера с материалом сценария. Нужно подогнать этот материал “под себя”, овладеть им, то есть добиться того, чтобы он ожил на экране, стал правдой. В подготовительный период моя борьба со сценарием “Романса” шла прежде всего по пути конкретизации, приближения его к земле. Пока сценарий не стал ногами на землю, снимать его было нельзя. Иначе получилось бы впечатление абстракции.
Кстати, эта печальная участь постигла некоторые произведения Александра Грина. Его старались снять вообще красиво, вообще романтично, а получилось чудовищно. Потому что на экране не могут быть просто матросы, просто костюмы, просто паруса (а ничего более определенного у самого Грина о них не сказано) — все должно обладать полной мерой конкретности, индивидуальной характерности. Единственная картина, которая хоть в некоторой степени дала Грину необходимую материальность — это “Колония Ланфиер”. Может быть, я и сам когда-нибудь соберусь ставить Грина, “Бегущую по волнам”, например. Оставлю это себе как мечту на старость лет. •
Актеры на эпизоды
Не могу удержаться и не повторить здесь всем известную, затасканную до банальности формулу Станиславского: “Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры”. Актеры обычно воспринимают это как слабое утешение, как попытку моральной компенсации за то, что им предлагают играть нечто едва заметное в сценарии. Тем не менее формула сама по себе по-прежнему остается глубоко справедливой и, даже исходя лишь из своей практики, могу утверждать, что чем меньше роль, тем ярче должен быть персонаж, а стало быть, и индивидуальность артиста, его играющего. Иначе лишь блеклая тень промелькнет на экране и тут же сотрется в памяти.
Прекрасен подбор эпизодических актеров у Феллини, у Джерми. Большие мастера в этом смысле есть и у нас, в частности, Данелия — он умеет наделять эпизодических персонажей острым рисунком, характерностью.
У меня тоже из картины в картину — тяга к поискам характерности. Не могу, правда, сказать, что мне это всегда удается, но этой стороне работы над фильмом я всегда стараюсь уделять побольше внимания. Скажем, снимая “Первого учителя”, мы очень тщательно искали актеров на самые вроде бы незначительные, второстепенные роли. Был, допустим, там совершенно эпизодический персонаж по имени Сатымкул. На его роль мы нашли человека с очень выразительным, “самоигральным” лицом — бильярдиста. Но мне тогда показалось и этого недостаточно, чтобы персонаж врезался в память. Поэтому я решил наделить его еще физическим дефектом — заставил актера дергать плечом, изображать тик. Вообще, чем короче время, отпущенное персонажу, тем ему необходимо быть ярче: маленькая роль не позволяет завоевывать зрителя постепенно — она должна сразу убеждать в своей жизненной правдивости.
Естественно, характерность — не значит патология. Это умение выразить индивидуальность образа, внешнюю и внутреннюю. К этому я стремился и в “Романсе”, хотя не могу сказать, что все персонажи получились достаточно индивидуальными, но кое-чего, на мой взгляд, удалось и добиться.
Мне вообще хотелось решать картину в области преувеличенной характерности. Скажем, адмирал представлялся мне неким подобием Дон Кихота — бесконечно высокий, бесконечно грустный, такой черный телеграфный столб в шинели до самых пят.
Пригласили на эту роль Николая Гринько. Никакого вдохновения мое предложение у него не вызвало. Уже потом он признался, что когда прочел сценарий, ничего интересного для себя не увидел. Согласился просто потому, что хотел поработать со мной.
А роль-то очень трудная. В ней всего три эпизода: маневры, похороны и лазарет. И слова все ходульные до невозможности, до степени бреда: “Достойный сын родителей. Горжусь, что есть такие моряки и сыновья. Как адмирал и как отец — спасибо!”
Я объяснил Гринько, что представляю себе адмирала человеком слегка рассеянным, смешливым, с некоторыми странностями, слабостями, если смотреть на него с точки зрения военного, тем более морского офицера. Гринько почувствовал эту странность своего героя и сыграл ее, как мне кажется, достаточно тонко и деликатно. Причем еще надо учесть, что военные, по понятным причинам, относятся к подобным образам с необычайной придирчивостью и ревностью. Они никогда не позволят, чтобы высший офицер допустил на экране что-либо выходящее за рамки устава. Так что актер был поставлен в более чем жесткие условия.
После просмотра готовой картины Гринько с изумлением сказал: “Знаете, получилось. Когда еще раз будете смотреть, я с женой приду”. Он совершенно не верил, что из роли может выйти что-либо стоящее — поэтому даже жену с собой не привел...
Другая сложнейшая по сценарию роль — мать Сергея. Мать Тани играть проще, она решена в бытовом ключе. А мать Сергея — вся на котурнах. Текст совершенно плакатный: “Ваш брат, мой сын выполнил свой долг... Мой мальчик... ты не должен плакать, потому что смерть за Родину — это жизнь”. Последние слова Григорьев взял прямо из кубинского гимна, и на Кубе, когда шел фильм, они поднимали зрительный зал с мест, вызывали овацию. Женщины плакали. У нас же аудитория иного склада, лобовым ходом ее не взволнуешь.
Григорьев шел в своем сценарии напролом с отвагой безумного: поднимал на щит самые ходульные стершиеся слова, верил, что сумеет вернуть им первозданный смысл. И вслед за ним я не считал себя вправе отступать от того же пути, хотел разделить с автором его мужество.
В нашем кино есть две-три актрисы, которые из фильма в фильм выступают в ролях мужественных матерей со скупой выстраданной слезой. Сложилось, я бы даже сказал, своеобразное амплуа— “мать со слезой”. В общем-то таких матерей играть нетрудно — есть набор приспособлений, за которые можно спрятаться, есть возможность утеплить, заземлить образ. Мне не хотелось прибегать ко всему этому — хотелось сохранить григорьевскую прямоту, трагическую ноту образа.
Я искал на эту роль женщину с очень русским лицом, женщину с плаката— “Родина-мать зовет!” Кстати, думаю, что на этот плакат образ матери перешел с киноэкрана — из пудовкинской “Матери”. Я же собирался вернуть его с плаката опять в фильм. На эту роль пробовались очень сильные актрисы, но, думаю, я не ошибся, остановив свой выбор на Елизавете Михайловне Солодовой. Из ситуации, почти обреченной, она вышла победительницей, у нее всего четыре эпизода в картине и все на эмоциональном пределе. Солодова сыграла свою роль высоко и прямо, трагически просто, трагически мощно. Вообще она произвела на меня впечатление очень мощной актрисы.
Перелистывая свои рабочие записи по фильму, я все время натыкаюсь на пометки типа: “главное — одухотворенность лиц”, “нужны лица, излучающие свет”. Этому принципу я старался следовать в подборе актеров на любую из ролей, даже на самую маленькую. На тех, кто должен был промелькнуть среди многих лиц арбатского двора.
Вот еще запись: “Двор. Все — свои, родные. Одна семья”.
Мне очень важно было создать ощущение душевного единения, отсутствия тех печальных конфликтов между соседями, которые неизбежны в любом коммунальном общежитии. Идеальные отношения между людьми, нарисованные в сценарии Григорьева, мне хотелось выразить духом двора, его обитателями, тем, как они поддерживают друг друга. Хотелось создать ощущение единого организма, полной открытости людей друг другу.
Этими людьми Трубач, играющий по ночам на трубе, никогда не воспримется как хулиган, не уважающий норм их общежития. Он тоже член их семьи, для них его игра на трубе — веление высшей необходимости. Он сообщает всем свою радость и боль своего сердца, а это также и их радость и их боль.
Мне кажется, что целый ряд из персонажей двора у меня получился. Прежде всего — фотограф, которого сыграл журналист Григорий Цитриняк. Он появляется всего три раза, буквально на считанные, секунды, но в нем есть точный характер такого дворового активиста, энтузиаста-самоучки, работающего где-то поблизости на углу в заштатном ателье. Получились также матрасник, сыгранный поэтом Николаем Глазковым, старуха, которая говорит: “Ах, дети, дети, как вы достаетесь”. Всех этих персонажей в сценарии не было, но они внесли в картину некий аромат, дух старой Москвы, которая уходит и никогда не уйдет до конца.
Но времени и пространства, чтобы развить эти фигуры, более широко населить ими обитаемую поверхность экрана, не оставляла драматургия. Несмотря на все произведенные на ходу доработки, сокращения, она все равно оставалась такой плотной, что не давала возможности отойти хоть на шаг в сторону. Она подгоняла меня сзади, как паровоз. А я бежал впереди, как заяц в снопе света, по рельсам, в туннеле, из последних сил стараясь не угодить под надвигающуюся машину. Какие уж тут режиссерские отступления! Дай бог хоть как-то вместить то, что наворочал в сценарии Григорьев.
Второй план
Выбор актеров на роли второго плана определяется соотношением между героями и фоном. Для сравнения возьму параллель из театра: освещение сцены. Можно залить все пространство равномерным ясным светом, а можно каждый раз выхватывать прожектором то, что является в данный момент главным. В принципе и движение камеры и монтаж планов направляет наше внимание на главное. Но камера беспристрастна, в поле ее зрения могут попасть самые разные лица. Они могут промелькнуть и могут надолго врезаться в память — все зависит от того, какому принципу следовал режиссер в выборе этих лиц.
Первый принцип: герой действует на фоне некой общей массы. Неважно, близко или далеко находится эта массовка от камеры, она все равно массовка.
Это одни и те же люди, кочующие из фильма в фильм, из римского форума на ковбойский дикий Запад, из заводского цеха — в хоромы Грановитой палаты. На всех больших студиях от “Мосфильма” до Голливуда принцип использования массовки идентичен. Она изображает “народ”. Меняются костюмы — не меняются характеры. Их нет. Они здесь не нужны.
Внимание на этих лицах никогда не акцентируется. И не дай бог, чтобы акцентировалось: сразу бы вылезла фальшь этого условно-кинематографического “народа”, на фоне которого действуют два-три героя и пять-десять эпизодников. Таков традиционный американский принцип. Есть и иной принцип, который я бы назвал итальянским, хотя, конечно же, есть множество итальянских картин, снятых вполне по-американски. Скажем, “Ромео и Джульетта” Дзеффирелли: у него очень ярко выписаны герои, а фон — бесцветная масса, ни одного запоминающегося лица. Это “вообще итальянцы”, “вообще веронцы”.
А вот для сравнения — “Евангелие от Матфея” Пазолини. Какое обилие лиц, появляющихся, быть может, один-два раза на протяжении всей картины, иногда просто внутри общей панорамы! Им не дано ни слова, а они запоминаются. Потому что каждое лицо настолько индивидуально отобрано, за каждым — судьба, эпоха, народ, история, дыхание фильма, эпос. Камера фиксирует каждое из этих лиц — не скользит с равнодушной небрежностью, а активно обращает на них наше внимание. То же самое у Феллини. Он может посадить в кадр какую-нибудь странную женщину, в очках, с перьями в прическе, и мы ее помним с не меньшей отчетливостью, чем главных героев, хотя по всем меркам актерской иерархии это “массовка”.
То же бывает и в живописи. Взять хотя бы “Явление Христа народу” Иванова. Главное действующее лицо — Христос, но помимо него художник фиксирует наше внимание на множестве разных лиц, и все они существенно важны, все запоминаются.
Прекрасные примеры емкого, психологического, типажно безукоризненного подбора персонажей массовки дает и советская школа кино, особенно созданные в двадцатые-тридцатые годы фильмы Бориса Барнета, Марка Донского, Николая Экка. Нет сомнений в том, что их работы повлияли на поиски мастеров итальянского неореализма.
Два эти принципа в корне различны, и я надеялся, что смогу в “Романсе” пойти по второму пути, “набить” кадр лицами, каждое из которых характер, личность. Сделать своего рода набивную ткань. Скажем, сцену смерти героя я собирался снимать в метро, на станциях ВДНХ, а платформу заполнить людьми с выставки, представителями всех национальностей, узбеками в своих халатах, туркменами в мохнатых тюльпеках, женщинами в вышитых украинских нарядах — одним словом, задумывался Вавилон. Весь мир должен был участвовать* в этой трагической мистерии.
Но снимать эту сцену в метро нам не разрешили. И пришлось переносить сцену на железнодорожную платформу. Но вместе с этим переносом пропало реальное обоснование для столпотворения острохарактерных лиц, в корне изменился облик, эмоциональный строй всей сцены.
Впрочем, изменение первоначального замысла решения второго плана объясняется и более влиятельной причиной — характером самого сценария. Так сказать, “итальянский” принцип требует специальной драматургии, в ней должно быть просторно режиссеру. То есть, огрубляя, в сценарии должно быть меньше действия, меньше текста, тем более такого, как григорьевский, эмоционального, наполненного значением, смыслом.
К тому же у этого текста обнаружилась непредвиденная особенность. Мне казалось, что ощущение нарочитости стиха будет легче сгладить, если уйти от лица говорящего и на экране показывать лица слушающих. Но, как оказалось, закадровое звучание сообщало интонации стиха выспренность, декламационность. Стихи воспринимались гораздо более естественно и органично, когда произносящий их занимался в кадре каким-то своим бытовым делом — была ли то Таня, ставившая цветы в корзинку, или ее мать, раскатывавшая тесто. Вообще, способность Саввиной говорить стихами так же свободно и просто, как прозой, удивительна.
Короче говоря, я был лишен возможности держать камеру на лице слушающего. И потому сколь ни привлекательным был для меня “итальянский” принцип, реальной возможности для него не было.
Не позволял сценарий. Я вынужден был идти по привычному пути, высвечивать вниманием главных персонажей. И теперь мне уже не нужны были какие-то особые лица для фона, я мог их брать прямо из мосфильмовской массовки. Из того стандартного набора, который кочует из картины в картину. Как бронзовые канделябры. Например, те, которые были у меня в “Дворянском гнезде” — я их потом видел на экране бесчисленное множество раз и уже испытываю к ним чувство, близкое к ностальгии. Интересно, кто их сегодня снимает?
Вот из таких же примелькавшихся лиц состоит массовка на любой студии. Скажем, на “Мосфильме” есть одна дама, длинная, сухая, похожая на англичанку. Она снимается во всех картинах и почему-то всегда вылезает на самое видное место в кадре. Как я ни пытался ее запрятать куда-нибудь поглубже, ничего не получилось: она все равно пробилась к самой камере.
Вообще, массовка — это особый мир людей, со своими сложными взаимоотношениями, со своей подчас героической преданностью кинематографу. Когда-то я даже мечтал снять такую картину — “Человек из массовки”.
Композитор
Александр Градский возник на пути нашего фильма неожиданно, случайно. Начинали работать мы с Мурадом Кажлаевым, у него уже вызревала музыкальная тема картины — такая мягкая симфо-джазовая музыка. Однажды Кажлаев повел меня в Дом звукозаписи, хотел показать мне интересного певца, который, как ему казалось, обладал выразительной напряженностью голоса, необходимой для исполнения задумывавшихся песен. В тот день у этого певца как раз была запись.
Мы пришли. Через окошко аппаратной увидели длинноволосого “вьюношу”, который вел себя в студии весьма эксцентрично, например, катался по полу от радости, когда что-то удачно получалось, — одним словом, испытывал терпение звукооператора. Терпение у звукооператора было — он не торопясь ждал, пока мальчишка перестанет кривляться. Я услышал через микрофон несколько его музыкальных реплик и почувствовал, что парень действительно очень интересный. Ему сказали, что мы пришли к нему. Он ответил: “Пускай подождут”. Ждем. Прошло сорок пять минут. У Кажлаева терпение уже лопнуло. Как-никак секретарь Союза композиторов, депутат Верховного Совета, кавказский темперамент ко всему прочему. “Все, — говорит, — хватит. Почему мы должны его ждать”. Я его все же удержал. Наконец дождались — через час парень к нам вышел. Кажлаев разговаривать с ним уже не мог, настолько весь был вне себя. Так состоялось наше знакомство с Сашей Градским.
Через месяц случилось ЧП: у Кажлаева появились срочные дела, ему пришлось отказаться от продолжения работы. И мне пришла мысль попробовать в качестве композитора Градского: у него было знание современной музыки и еще — ощущение бита, того нерва, который нужен именно для этой картины. Разыскал Градского. Спрашиваю: “Музыку написать сможешь?” — “Конечно, — отвечает. — Могу”. — “А ты когда-нибудь писал?” — “Нет”. — “Но ты понимаешь, что музыка в кино — это не просто так песенки?” — “Ну и что. Мне все запросто — я гений”.
И мы с ним стали писать музыку. Парень он, конечно, талантливый, но о композиции имел довольно смутное представление. Ему было всего двадцать один год, он учился в Гнесинском, на оперном факультете. Руководил ансамблем “Скоморохи”, неплохо сочинял шлягеры, песни, но толком не знал ни оркестровки, ни симфонического голосоведения, ни развития музыкальных тем. Так что тыкались мы с ним во все эти проблемы, как кутята. Конечно, мне помогло то, что я сам учился музыке двенадцать лет, в том числе и в консерватории. Притом я был пианистом, а он певцом, поэтому анализ формы я знал не хуже, а лучше композитора.
Впрочем, я тоже еще не представлял, какое место займет музыка в фильме. Я знал, что в картине должно быть много музыки, но не знал еще, что ее роль будет так велика. Не представлял, например, что герои у меня в финале запоют. Не знал, что картина включит в себя элементы мюзикла и рок-оперы. Это все возникало уже в процессе съемок.
Режиссерский сценарий
В подготовительном периоде полагается писать режиссерский сценарий. В нем весь текст разбивается на кадрики, против каждого пишется крупность — “кр.”, “ср.”, “общ.”, в отдельной графе метраж — “2 м*, “4 м”, “0,5 м*. Этой работой стараюсь не заниматься вообще, отдаю ее второму режиссеру. Потому что это бессмыслица, проформа для планового отдела. Было бы безумием всерьез верить, что можно за четыре месяца, за полгода до съемок знать, какова крупность того или иного плана, который еще неизвестно где, неизвестно в каких условиях будет сниматься. Какое будет небо? Солнечное? Пасмурное? Какие актеры будут играть? В каком состоянии они придут на площадку? Как будут одеты?
Метафизика априорного решения крупности плана осталась нам в наследство от тридцатых годов, когда господствовал некий стандарт единого решения для любой сцены: общий план, чтобы видно было, где происходит дело, средний — чтобы показать, чем заняты герои, два крупных — чтобы зритель увидел лицо каждого из героев в момент произнесения ответственной реплики. Действие механически фиксировалось на пленку, сама же картина рождалась позже, не в момент съемки, а на монтажном столе. И сейчас некоторые режиссеры работают все по той же схеме. Но это схема мертвая.
Понять реальную крупность плана можно только в момент съемки, когда ты уже в декорации, когда вместе с актерами найдена мизансцена, когда ясно все — свет, движение камеры, хронометраж куска. Писать же, как это принято в конце наших режиссерских сценариев: “крупных планов — 462 м, средних — 1214 м, общих — 964 м” — бессмыслица, заведомый обман. Потому что все равно потом окажется, что вместо крупного плана снят средний, или что этот крупный объединен с общим, с панорамой, или вообще от всей этой сцены по ходу съемок пришлось отказаться. Так или иначе, но все перекраивается. Никакой, самый замечательный режиссерский сценарий не докажет, что режиссер талантлив, что он интересно видит свою будущую картину.
Нигде в мире не тратят время на эти канцелярские хитрости. Пишут просто название объекта и отводимый на него метраж: лес — 14 м, поле — 120 м, квартира — 64 м — все в зависимости от действия, происходящего по сценарию в каждом из объектов.
Впрочем, там нет и деления на такие стадии, как “литературный сценарий”, “режиссерский сценарий”. Есть просто сценарий, в котором нет никаких живописных красот, ни цветистых описаний прелестей раннего утра, пенья жаворонков и запаха трав, ни проникновенных интроспекции в душевное состояние героя, произносящего взволнованную реплику: “Здравствуй, Маша!”
Все эти иероглифы мы пишем только для редакторов, чтобы они уже по написанному все увидели, все представили. Если не будет этих завитушек пера, на студии скажут: “Это же непрофессиональный сценарий! Где литература?” Нам еще со ВГИКа внушили, что старшая сестра кино — литература, что главный носитель идеи фильма — слово. Конечно, кино очень многому обязано литературе, но нельзя забывать и того, что младший братец уже совершеннолетний, давно уже стал на свои ноги. У него свой нрав, свой голос.
Никто не спорит, роль слова в сценарии велика и существенна. Только не оно выражает суть фильма. Главное, повторяю, — пластический образ, изображение. То, о чем меньше всего думают те, кто принимает наши сценарии. Все внимание студийного редактора обращено на слова, которые произносят герои. Если в словах ничего предосудительного нет — значит, сценарий хороший. Можно снимать. Но ведь смысл любой звучащей с экрана реплики зависит от того, с какой интонацией ее произносят, какова общая атмосфера сцены — все это может окрасить любые слова значением, прямо противоположным буквальному.
Поэтому ту работу, которой занимаются режиссеры, переводя литературный сценарий в режиссерский путем вычеркивания многочисленных ремарок типа: “Ярко светило весеннее солнце. Пахло полынью и разноцветьем трав”, можно было бы и не делать вовсе. Можно было бы сразу писать: “Натура. Поле. Утро. Федор. Здравствуй, Маша!” И т. д. А сбоку в отдельной колонке пишется, что делает Федор и что делает Маша и как они одеты. Этого достаточно.
Короче говоря, то, чем действительно нужно заниматься режиссеру при составлении режиссерского сценария — это: 1) реквизит и 2) расчет экранного времени.
О реквизите нет надобности говорить подробно — просто надо максимально предусмотреть все необходимое, чтобы потом не было неожиданностей. А время — проблема самая серьезная.
Кино — искусство временное, как музыка. И знание ее законов, умение анализировать музыкальную форму хотя бы в самом общем виде для режиссеров чрезвычайно важно. Вот чему надо было бы учить во ВГИКе. Даже самое поверхностное знание законов симфонического развития, нагнетания, спада, волнообразного движения, пауз и кульминаций — все это может принести режиссеру неоценимую помощь. Лично мне очень много дали годы, проведенные в консерватории: все свои картины я стараюсь выстраивать по музыкальному принципу.
Работа над этим начинается уже на стадии режиссерского сценария — надо уметь правильно рассчитывать временную длину каждого эпизода. Скажем, Френсис Форд Коппола (а он не только режиссер, но и блестящий сценарист) считает, что длина эпизода должна соответствовать той сюжетно-смысловой нагрузке, которую он несет в сценарии. Конечно, это не прямолинейная связь: чем важнее эпизод, тем длиннее он должен быть. Но если эпизод важный, он имеет право быть длинным. Если же его роль чисто служебная, то нужно делать его максимально коротким. Могут и здесь быть отклонения от этого железного закона: скажем, если эпизод идет после кульминации. Тогда, даже если в нем нет никакой значительной информации, его можно потянуть подольше — пусть зритель попереживает, прочувствует важность свершившихся прежде событий, отдохнет, даже слегка соскучится, чтобы быть готовым к восприятию новой плотной порции эмоциональной пищи.
Короче говоря, расчет длины эпизодов — вопрос режиссерской стратегии. Точно продуманная по времени конструкция может спасти фильм, даже если материал где-то плохо получился. В “Романсе” в этом плане я допустил ряд просчетов. В середине картины провис — действие топчется на месте минут двадцать.
Еще одна важная проблема в период работы над режиссерским сценарием — съемочные объекты. Чем меньше их количество, тем легче потом будет работать. Трудно даже подсчитать, сколько времени уходит на смену каждого объекта!
Директора картин пишут в своих отчетах: “Переезд на новый объект. Освоение”. Но смена объекта — это вовсе не только переезд, освоение — не просто расстановка дигов на новом месте. Суть проблемы — в актере. Ему надо обжиться, обнюхаться, как собаке в новом помещении. Не важно, где будет съемка — в поле, на шахте, в конторе или комнате, — в любом случае это место должно быть для актера родным, своим. И если относиться к этому серьезно, как то и делают наши большие артисты, то на освоение, обживание нужно время, нужна затрата душевной работы.
А есть умельцы, коими славен Театр киноактера, — им и времени-то никакого не надо ни на смену места, ни на смену профессии. Они берут в руки гармошку или отбойный молоток или надевают очки — и мгновенно становятся колхозниками, шахтерами, профессорами. Беда только в том, что сразу видна “липа”. Видно, что это не колхозник, не шахтер и не профессор, а актер-актерыч.
В Америке мне рассказывали про то, как Роберт Редфорд готовился к съемкам картины об Уотергейтском деле, где он сыграл журналиста, одного из тех двух, которые предали гласности скандальную информацию, приведшую к отставке президента США. Казалось бы, велика ли проблема для профессионала сыграть журналиста? Любой мастеровой не моргнув глазом вызовется это сделать. А вот Редфорд полтора месяца как тень ходил за своим прототипом, жил его жизнью, сидел с ним рядом на всех планерках, читал гранки, разговаривал с людьми. Надо — вставал в шесть утра, надо — сидел до полуночи. Он сжился со своим героем, с его профессией. У него каждый жест, каждый взгляд нажит, впитан в плоть, в подсознание. Потому-то он и стоит тех миллионов, которые ему платят за участие в фильме. Если он будет работать с меньшей отдачей, найдется другой актер, который сумеет сыграть то же еще профессиональнее, еще точнее и глубже.
Я, например, для себя решил, что в новой картине “Сибириада” актеры (не знаю еще их имен), которые будут играть у меня нефтяников, хотя бы недели две проработают на буровой в качестве рабочих. Если кто не выдержит — не буду снимать, хочу, чтобы не было ощущения симуляции, чтобы зритель видел перед собой настоящих людей, занятых настоящей работой.
Возвращаюсь к смене объектов: конечно, и здесь все зависит от меры требовательности к себе актеров, режиссера. Можно снимать в первый же день, как только расставили диги. Но чтобы добиться ощущения правды, надо “пожить” в объекте, походить в нем хотя бы два-три дня.
Сценарий “Романса о влюбленных” в этом отношении был кошмарно трудным: двадцать четыре объекта на натуре, восемь — в павильоне,, еще шесть декораций с достройками на натуре, плюс десять объектов комбинированных. Итого сорок восемь объектов, и ни от одного из них нельзя было отказаться, так уж написан сценарий. А чем больше количество дробных объектов, тем больше времени неизбежно уйдет на их освоение.
К тому же руководящий товарищ, лично запускавший нашу картину в производство, сказал, что метража в картине на одну серию. Я возразил: “Нет, на две”. — “Нет, — говорит он, — на одну серию. Или будете снимать одну серию, или не будете снимать вообще”. И пришлось запускаться с одной серией, проводить подготовительный период из расчета одной серии, считать нормы выработки по одной серии и т. д., и т. д. В итоге я приступил к съемкам, еще не будучи готовым снимать, не зная, как снимать, нащупывая все уже по ходу работы. Мы стали отставать от плана — отставание нарастало с катастрофической быстротой.
Но потом, когда на подходе к концу съемок в главке смотрели материал картины, тот же товарищ авторитетно подтвердил: “Да, здесь две серии”. Как будто это не было ясно с самого начала!
...Я все возвращаюсь к тому, о чем уже говорил прежде: какой же все-таки сценарий считать хорошим? Тот, который снимать легко, или тот, который снимать трудно? Я сам же не раз утверждал, что надо писать сценарии, обреченные на успех, — ярко написанные, хлесткие, выразительные по пластике, со стремительно развивающейся фабулой. И всех этих качеств, на мой взгляд, действительно очень не хватает нашей сценарной литературе. И все же что касается меня лично, то предпочитаю снимать “трудные” сценарии, в которых открывается некое шестое чувство, четвертое измерение, та неуловимость, та человеческая глубина, которая не выражается ни в слове, ни в фабуле, ни в поступке. Таковы “сценарии” А. П. Чехова. Такой сценарий мне предстояло снимать и на этот раз — “Романс о влюбленных” Григорьева.
ОТСТУПЛЕНИЕ О ПРАВДЕ ЭКРАНА.
Как же все-таки рождается на экране чувство правды, то доверие зрителя к сыгранному актерами зрелищу, к заученным ими чужим словам, к чувствам, которых, может быть, им никогда не приходилось испытать в жизни? Почему мы проникаемся верой в эту “ложь”, почему она потрясает нас, исторгает смех и слезы, оставляет незабываемый след в душе? Как искусственный мир достигает истинности искусства?
Похвала документалистике
Недавно мне попалась статья из итальянского журнала “Чинема Нуово”, автор которой вполне убедительно доказывал, что документальное кино — тоже ложь. Он брал для примера документальные фильмы времен Муссолини. В них все вроде бы правда: величественно стоящий на балконе Муссолини, восторженно приветствующий его народ. И в то же время — все ложь. Фашизм живописал свой автопортрет (статья так и называется — “Автопортрет фашизма”) теми красками, какие были ему по душе — радужными, приподнятыми. Кадры были документальными, трактовка их — тенденциозной, фальшивой. Так что не могу не согласиться с автором, утверждающим, что документальный кадр — это лишь определенный метод фиксации жизни, заставляющий зрителя настроить себя на то, что перед ним правда.
И все же, думаю, неправильно считать, что нет разницы между игровым и документальным кино, что и то и другое есть “ложь”. Естественно, документальное кино не существует без отбора, без монтажа, без образности, рождающейся от столкновения кадров. И все же главная сила документального кино, его истинная поэзия в том, что является его исключительным преимуществом, чего нет ни в одном другом роде кинематографа, — в поэзии факта.
Есть такой удивительный мастер фотографии — Анри Картье-Брессон. Горжусь, что лично с ним знаком, что могу считать себя его другом. Это человек удивительной чистоты и честности. Ему около семидесяти, и он по-прежнему не расстается со своей неизменной “леечкой”, его рука буквально срослась с ней. Этот человек посвятил жизнь тому, чтобы создать не только определенную школу в искусстве документальной фотографии, но провести в нем свою оригинальную философию. Он не позволяет себе как-либо выкадровывать свои фотографии, укрупнять какие-то их детали в качестве самостоятельного снимка, срезать края; он считает, что его фотография являет собой произведение искусства только в том виде, в каком была зафиксирована. Без какой-либо организации жизни перед камерой. То, что влезло в кадр, и есть, грубо говоря, композиция. Картье-Брессона волнует прежде всего факт. А схватить этот факт он умеет как никто. В портретах его такое поразительное открытие психологии человека!
Искусство Картье-Брессона — кульминация искусства факта. У него много последователей. Например, Марк Рибу, снимавший войну в Северном Вьетнаме. Для него каждый кадр мог быть жизнью оплачен, но он шел на этот смертельный риск во имя правды, во имя факта.
Есть фотографы, которые великолепно снимают салонные фото, рекламу, обложки модных журналов — портреты, натюрморты. Всё с изысканным вкусом, всё красиво, точность формы, свежесть видения. А есть фотографии, снятые довольно посредственно, невыразительной длиннофокусной оптикой, с грубым крупнофактурным зерном, иногда даже вне фокуса, смазано. И они потрясают. Потому что за ними факт, событие. Так, например, снято убийство Кеннеди. Так сняты многие сенсационные кадры, обошедшие весь мир.
Если попытаться перебрать в памяти все документальные фильмы, какие можно вспомнить, то среди них окажется совсем не так уж много интересных. В мировом кино найдется совсем немного документалистов, делавших свои картины на уровне большого искусства. Не думаю, что в художественном кино люди талантливее — просто в документалистике работать труднее.
В художественном кино режиссер имеет возможность организовывать жизнь. А где организация, там уже можно обойтись и без режиссерского таланта, достаточно таланта продюсерского. Если собрать в группу знающих, профессиональных сотрудников, пригласить опытных, “самоигральных” актеров, все может быть сделано без режиссера. Можно припомнить достаточно отмеченных признанием картин, сделанных режиссерами вполне посредственными. В документальном кино такое невозможно. Художник там оставлен один на один с жизнью, ему не за кого спрятаться. Он должен быть личностью, индивидуальностью — иначе ничего не получится.
Сегодняшняя техника документального кино — скрытая камера, сверхчувствительные микрофоны и т. д. — дает возможность синхронно снимать, наблюдать героев вблизи, во всех их индивидуальных проявлениях. Мы можем слушать на экране живую, несрепетированную речь со всеми шероховатостями и междометиями, с поэзией случайностей, мы можем видеть, как происходит в человеке зарождение мысли, чувства, как складываются отношения в группе людей. Но кроме этой возможности приближения к факту важна еще мера отдаления от него — мера, дающая возможность осмыслить наблюдаемый материал, соотнести то малое, что схватил глаз камеры, с большим — с жизнью всей страны, мира, с историей.
Соотношение микромира с макромиром, крохотного с большим — это, кстати, не менее важно и для игрового кино. “Романс о влюбленных” Григорьева без этого не вышел бы за рамки обычной любовной истории. Самой заурядной.
Метод съемки
“Настоящий взгляд в кино не придумаешь, — цитирую Робера Брессона. — Если вам его удастся поймать и запечатлеть — это чудесно. Чудесное, неожиданное выражение лица...”.
Как же добиться на экране такого настоящего взгляда? Если просто попросить актера: “Ну-ка, сыграй мне сейчас жизнь человеческого духа”, ничего ведь не получится, как бы он ни старался. Об этом надо думать задолго до съемки, вести к этому актера издалека, исподволь, чтобы добиться от него такого неповторимого проявления, а добившись, не пропустить — схватить, афиксировать его.
Бесполезно настаивать на “правильности” какой-либо из существующих методик работы с актером в противовес всем прочим. Единого рецепта здесь быть не может. Характер работы с актером каждый раз зависит от метода, которым снимается фильм. А метод этот каждый раз определяется характером самого фильма. Вообще от умения выбрать необходимый картине метод съемки зависит минимум 40 процентов ее будущего успеха.
Наиболее в общем распространен метод, сложившийся в практике 30—40-х годов, предполагающий, что действие заранее придумано, расписано на бумаге, отрепетировано, разведено по мизансцене — полностью готово к моменту, когда его предстоит фиксировать на пленку. На этих принципах живет классическая школа американского кино и вся традиционная режиссура Европы.
В общих чертах работа здесь происходит так. Готовый сценарий репетируется с актерами, как пьеса, а потом по частям снимается. Снимают общий план сцены, несколько средних планов, парочку укрупнений и еще несколько планов в резерв, для большей свободы монтажа.
Традиционность такого метода совсем не означает, что он плох или больше уже не годен. И среди недавних картин есть такие, где он дает образцы великого кинематографа — например, “Бумажная луна” Питера Богдановича.
В 50—60-е годы пришла на смену иная стилистика, где мизансцена обрела гораздо большую сложность и подвижность, где камера следит за перемещением актера, в зависимости от необходимости включает в кадр всю площадку сцены или фиксирует внимание на чьем-то одном лице — одним словом, монтаж сцены вмещен внутрь кадра, все как бы смонтировано уже в самый момент съемки (естественно, и такой метод не исключает монтажа, до-съемок крупных планов и т. п.). Фильмы Феллини очень часто построены таким образом. Но, в принципе, и этот метод есть лишь модификация первого, его усовершенствование, вызванное развитием киноязыка. И тут и там мизансцена разведена заранее, отрепетирована, любой из актеров (в идеале) точно знает, что и как он должен сказать и сделать.
Пожалуй, именно с французской “новой волной”, с Трюффо, с Годаром в кино пришла новая эстетика — эстетика случайности. Взрыв документализма, происшедший в послевоенном кинематографе, принес на экран аромат непреднамеренности, свободы, импровизации, “хэппенинга”.
Вот, кстати, проблема, выдвинутая в связи с этим Франсуа Трюффо: “Один из наиболее интересных вопросов: следует ли продолжать делать вид, что рассказываешь хорошо придуманную историю, которая должна представлять интерес как для кинематографа, так и для зрителей. Либо, наоборот: следует признать, что выбрасываешь на экран черновик фильма, родившегося в мечтах, который помогает нам, то есть людям, продвинуться в развитии не только искусства, но и в познании человеческого существа”. Сам Трюффо считает этот вопрос нерешенным. И действительно, возможен и тот и другой путь.
Ни в одной из своих картин я не повторял метода съемки. “Первый учитель” снимался жестко — имеется в виду не только жестко фиксированная точка камеры, но и то, что с актерами все было отрепетировано до мелочей. В “Дворянском гнезде” мы “шалили”, как бы дурачились слегка — хотелось, чтобы и в актерской игре была легкость, акварельность тона сродни стилистике картины. В “Дяде Ване” мы бесконечно анализировали с артистами каждый поступок, каждый нюанс поведения. “Асино счастье” снималось методом провокаций, импровизаций на площадке, где и режиссер и оператор лишь в самых общих чертах могли представить, что сейчас произойдет перед камерой. Да и актер тоже нередко не знал сам, как поведет себя в момент съемки. А иные и вовсе не знали, что в данный момент их снимают.
Лет десять или больше того назад мы с Андреем Тарковским размышляли на тему: “Что такое киномизансцена?”. В этом вопросе наша позиция исходила из стремления полемизировать с Эйзенштейном, утверждавшим, что мизансцена должна выражать смысл происходящего в кадре. В самом примитивном изложении: если на экране царь и подданные, то царь должен возвышаться над ними; если царь унижен, то он соответственно должен быть ниже их. Эйзенштейну в этом смысле был свойствен художнический экстремизм, он любил доводить принцип до абсолюта. Он даже заранее рисовал будущий кадр на бумаге, не боясь засушить его.
Мы решили, что надо разрушить эту формальную схему. Мизансцена не должна нести никакого априорного смысла — она должна быть красивой по пластике, свободной, запоминающейся. В известной мере этот принцип был проведен Тарковским в “Ивановом детстве”. Сейчас, после более чем десятилетнего опыта работы в кино, я понимаю, что и эйзенштейновская мизансцена и наша, как мы тогда ее понимали, плод теоретизирования, отвлеченного от своего экранного, чувственно воспринимаемого результата.
Беда многих режиссеров, в том числе и документалистов, что они не могут освободиться от красиво придуманного кадра, от эффектной мизансцены. Скажем, пришла в голову замечательная мысль снять сцену через колесо телеги или через трещины разбитого стекла, и человек уже не может оторваться от своей находки. Он уже не думает о том, какое чувство вызовет такой кадр на экране, нужно ли оно для его рассказа.
В “Асином счастье” я впервые для себя решился отказаться от мизансцены, перестал мыслить кадрами. Многие сцены снимались спонтанно, скрытой камерой, без всяких заданных актеру мизансцен. Но и это не был некий “абстракционизм” (в противовес “формализму”). Случайность мизансцены была лишь поверхностной видимостью таковой. Ведь мизансцена диктовалась сутью действия, теми чувствами, которые переживали актеры перед камерой. Они двигались по велению своей души, и это движение отливалось в мизансцену, так или иначе отражавшую их состояние. Стихийность и логика были здесь заодно.
Работа над “Асей” убедила меня в том, что съемка фильма по расписанным кадрикам режиссерского сценария: “план — крупный, метраж — 2 м” — бессмыслица, графоманство. Сколь бы ни была богата режиссерская индивидуальность, попытка навязать ее обедняет актера. И также — самого режиссера. Ведь главное — поймать “чудесное, неожиданное выражение лица”. Не надо вымучивать его из актера. Должно быть оставлено место для случайности — ведь талантливый артист каждый раз играет неповторимо. По-моему, вообще лучше всего, когда актер, приходя на площадку, еще не знает, как он сегодня будет играть.
Скажем, во время съемок “Дяди Вани” я много раз приходил на площадку, совершенно не зная: как буду снимать сцену? Что мне делать с актерами. Поставить Соню у окна? Посадить Елену Андреевну за рояль? Ничего пока не известно. Но есть актеры, есть декорация. Можно попробовать один вариант, другой. Не пытаюсь никак разводить мизансцену — хочу просто создать в декорации жизнь. Предлагаю актерам найти занятие, которое соответствует их состоянию в образе. Смоктуновский сел на стол, стал играть какими-то шариками. Ира Купченко подошла к букету в вазе, стала перебирать цветы. Но еще ничего не получается. Пробовали так и этак, дурачились. Потом занервничала Мирошниченко. Подошла к окну, говорит: “Чего мы ждем? Надо снимать”. Я понимаю, что надо снимать, но как снимать? Уже есть какие-то проблески нужного ощущения сцены, какое-то подобие нужной атмосферы, но все в единый образ еще никак не складывается. Не готово. Оператор махнул на нас рукой и ушел в буфет, потеряв остатки надежды, что сегодня что-то будет снято. А мы все пробуем, прилаживаемся к материалу, нащупываем какие-то живые черточки. Возникают какие-то токи, какие-то связи между людьми в декорации. И вдруг чувствую: сцена ожила. Послал вытаскивать Рерберга из буфета. Говорю ему: “Вот садись здесь. Сейчас мы для тебя разочек сыграем”. Но сам я, не задумываясь о том, подсознательно, уже посадил оператора на точку, с которой, как мне казалось, все наиболее выразительно видно. Это уже был штамп, который я невольно ему навязывал. Но все вроде было достаточно естественно и по игре актеров и по пластике. Рерберг подумал немного, говорит: “Ладно. Давайте снимать”.
Стали ставить свет, водрузили камеру на место. Все уже изрядно поустали. Пришел второй режиссер. Я попросил его сделать с актерами еще один репетиционный прогон, а сам ушел отдохнуть в соседнюю комнату — была там в декорации клетушка с какими-то битыми стеклами, ненужной мебелью. Сел в кресло, слышу доносящиеся обрывки разговора. И вдруг совершенно неожиданно для себя начинаю наблюдать за движением мизансцены через щель приоткрытой двери. Точка совершенно случайная, никакой заданности. С нее-то и не видно почти ничего. Видна часть женской руки, актриса, стоящая у окна, потом Смоктуновский прошел через кадр. Какая-то странная жизнь происходит за дверью. Причем домысливается гораздо больше, чем видно, чем можно было придумать, корпя над режиссерским сценарием для взаимного с плановым отделом самообмана.
За столом такую мизансцену никогда не придумаешь. Ее можно выносить только в результате совместных усилий режиссера, актеров, оператора. Это сложный многоступенчатый процесс: точка съемки отыскивается, когда найдено поведение актеров, поведение — когда родилась атмосфера сцены, атмосфера — когда нащупано внутреннее самочувствие героев, потаенные токи их взаимоотношений. Только в этом непрерывном, требующем полной отдачи процессе выкристаллизовывается глубина и неповторимость жизни человеческой души, ее богатство, раскрывающееся в неожиданности проявлений. То есть, суммируя все сказанное: мизансцена не есть фиксация придуманного режиссером решения. Мизансцена — это процесс.
Импровизация
Проблема импровизационного кинематографа во многом упирается в проблему актера. Речь идет даже не о мастерстве и не о профессии, а о человеческой сути. О личности.
Импровизация дается либо гениально одаренным актерам, каким был Михаил Чехов, к примеру, либо людям, абсолютно раскрепощенным внутренне. К сожалению, таково уж свойство нашего национального характера, что даже артистически одаренный человек редко бывает у нас внутренне свободным. Нам свойственна застенчивость, замкнутость. Подобные психофизические свойства не способствуют в целом развитию кинематографа импровизационного, кинематографа открытого самовыражения. Поэтому наши попытки ставить какие-то эпизоды фильмов в стиле “хэппенинга”, как правило, оканчиваются конфузом.
Мой опыт работы в таком вот импровизационном ключе связан в основном с фильмом “Асино счастье”.
Решение ставить сценарий Ю. Клепикова было принято еще задолго до того, как я поехал снимать “Первого учителя”. Сценарий мне нравился — за ним виделась обаятельная, нежная картина — история любви. Но когда дело дошло до выбора актеров, я увидел, что все роли словно бы заранее расписаны — эта для Мордюковой, эта для Рыбникова. Был там и свой дед Щукарь и свой дед Мазай. И я почувствовал, что если буду снимать профессионалов, не смогу преодолеть ощущения штампа, примелькавшегося “киноколхоза”. Мне самому неинтересно будет ставить такую картину, а значит, и зрителям потом неинтересно будет ее смотреть.
Так возникла мысль снимать неактеров. Занялись их поисками. Ассистенты поехали в разные города, деревни искать подходящих людей. Но надо было и как-то подстраховать себя на случай осечки. Пригласили мы Ию Саввину — я с ней до того не был знаком. Говорю: “Ия, разговор начистоту. Если мы найдем неактрису — мы вас не снимаем. Если не найдем — мне бы очень хотелось, чтобы Асю играли вы”. Она согласилась. Стали снимать пробы — пробовали много, ей самой это было интересно. И по ходу проб возникла мысль провоцировать актрису прямо в кадре, в момент съемки. У нее, к примеру, была уже отрепетированная мизансцена, а я внезапно из-за камеры говорил ей: “Ась, поди к двери”. Или вдруг спрашивал: “Ася, где соль?” Она отвечала: “Да там, сам возьми” — и продолжала игру. И вот эти неожиданные “подлянки”, которые я ей подбрасывал, оказывали какое-то возбуждающее действие и на актрису, и на меня самого. Появился какой-то азарт, было очень интересно работать.
Я почувствовал, что Саввина реагирует быстро и с удовольствием. Почувствовал, что этот метод таит в себе какие-то интересные возможности.
Потом начались пробы с неактерами. Нашли удивительных людей, артистичных, раскованных. Нашелся на роль председателя очень талантливый человек, который и на самом деле был председателем колхоза. Героя сыграл электромонтер из Владимира — примечательная личность. Человек был по-своему обаятельный, но наглец редчайший. Ничего не боялся. За то время, что мы снимали картину, он успел трижды жениться — в одной деревне причем. И не просто так — ушел от одной к другой: каждый раз играл свадьбу — с шумом, с гульбой. Он принес в картину какое-то удивительное дыхание, свою неповторимость.
Для съемки таких актеров не могло быть никакого апробированного метода — его надо было искать. Собственно, очень важная часть работы над картиной и состояла в мучительном поиске нужного метода.
Скажем, я очень скоро почувствовал, что непрофессионала нельзя снимать с одной камеры. Кстати говоря, точно так же лучше снимать и профессионалов. Потому что актер, даже невольно для себя, играет той стороной, которая обращена к камере. Если ставишь его к ней боком, он все равно норовит как-то в ее сторону повернуться, так и играет с перекрученной шеей. А уж если попытаешься поставить его к камере спиной, начинаются обиды: “Почему меня спиной, а его лицом?” После чего лицо актера каменеет и работать с ним дальше уже невозможно.
Если же поставить две камеры на прострел сцены, актер не знает, материал какой из них войдет в картину. Он вообще перестает о них думать. А когда на площадке три камеры (чем больше, тем лучше), актер становится еще свободнее. Подсознание вообще перестает работать на то место, с которого снимается сцена. Возникает как бы четвертая стена, о которой мечтал Станиславский. Не знаю, нужна ли она в театре (там, по-моему, актер должен открыто играть на зрителя, играть условно), но в кино, как правило, просто необходима. Актер забывает о рампе.
“Асю”, например, мы снимали с двух, а то и с трех камер. Иногда вторая камера нужна была для чистой видимости, ставили к ней какого-нибудь осветителя, который ни черта в этом деле не понимал, просто с озабоченным видом смотрел в глазок. Но эта “лжекамера” производила необходимый эффект — она нейтрализовала для наших неактеров гипноз основной камеры.
Вообще ощущение риска, чреватой полным провалом авантюры, не покидало нас все время работы.
Но иначе тут было нельзя — или пан, или пропал.
Были сцены, где мы отказывались от съемки последовательными планами — сначала организовывается один кадр, затем другой, затем третий. Мы организовывали не кадр, а всю сцену, массовое действие, которое иначе просто невозможно было снять. То есть, естественно, можно: набрать актеров, развести мизансцену, расставить для фона массовку. Но опять бы получилось что-нибудь, вроде “киноколхоза”.
А хотелось ощущения правды, стихийности, подсмотренной живой жизни. Надо было снимать проводы. Собралась массовка человек в двести крестьян. Признаюсь, на съемке не обошлось без алкоголя. Люди стали танцевать, петь частушки, пошло гулянье. Причем это был совсем не простой процесс, не хроникальная съемка деревенской жизни: люди прекрасно понимали, что они играют — играют для кино. Нашелся, правда, один тракторист, который забыл обо всем, кроме выпивки, — он потом так заехал со своим трактором в овраг, что пришлось его вытаскивать краном. Но в принципе это была игра, выступление, с одной стороны стихийное, с другой — организованное нами, направлявшееся по заранее продуманному руслу. А алкоголь нужен был как допинг — для внутреннего раскрепощения, для того, чтобы человек получал от своей игры удовольствие.
Повторяю, при всей спонтанности, случайности такого массового действия, оно было подготовлено, продумано, организовано (режиссура без организации — попросту безобразие). Но был оставлен простор для каждого из участников. Операторы снимали без всякой моей подсказки, я их в момент съемки и не видел. Один сидел высоко — на операторском кране, другой — вместе с камерой был скрыт за брезентом грузовика. То, что они сняли, я увидел спустя много дней, когда пришел проявленный материал.
Барьер подсознания
“Нужно делать до конца то, что хочешь сделать. Если вы человек легкомысленный — снимайте легкомысленные фильмы. Не слушайте людей, которые говорят, что вам следует снимать серьезные картины”, — говорит Франсуа Трюффо. С другой стороны, нельзя не согласиться и с Бергманом, который видит одну из важнейших функций художника в том, чтобы расширять границы своих возможностей.
По моему, это замечательно верно.
Актерское творчество в очень большой мере зависит от умения правильно определить рамки собственной психологии, собственной индивидуальности. Чем сильнее личность индивидуума, тем более он способен расширить эти рамки.
Актеру, впрочем, как и любому человеку искусства, очень часто мешает страх, неверие в свои силы, боязнь, что выбор жизненного пути сделан ошибочно.
Есть такая популярная брошюра “Искусство быть собой”. Написал ее Владимир Леви, психолог, задумавшийся над тем, как помочь своим читателям лучше понять самих себя, расширить свое представление о себе как личности, осознать свои возможности, научиться управлять своими эмоциями.
У Леви есть хороший пример, помогающий лучше понять природу такого рода психологического барьера.
Допустим, на земле лежит бревно. Любой человек без труда может пройтись по нему взад-вперед. Но если приподнять его хотя бы на два метра, не говоря уж о том, чтобы проложить над глубокой пропастью, для огромного большинства прогулка по нему становится невозможной. В чем дело? Ведь бревно то же самое. Оно не стало ни более узким, ни более скользким. Все же это знают. Что мешает людям?
Мешает психологический барьер. Он повышается. Причина в том, что сознание тесно связано с подсознанием. Хотя сознание говорит, что бревно то же самое, что по нему вы только что ходили, подсознание напоминает, что теперь вы можете разбиться. Вы фантазируете, как летите вниз, ломая руки-ноги. Этот страх уходит в подсознание, и оно начинает влиять на всю психику — цепенеют конечности, движения парализованы. Хотя другой человек, допустим, циркач, канатоходец, пройдет по такому бревну, не страшась, ни секунды не задумываясь.
То же самое и с актером. Он прекрасно играл сцену один перед зеркалом, потом на репетиции, а вышел на сцену — все пропало. Режиссер в панике, бегает за кулисами: “Что случилось? Он вчера все так замечательно играл!” А случилось то же, что при подъеме бревна на высоту — повысился психологический барьер. Появился зритель в зале. Или, что в кино равнозначно тому же, — глаз съемочной камеры.
Чтобы преодолеть подобный барьер — это уже относится к личным качествам актера, — надо тренировать волю, воспитывать в себе характер. Нет людей, не знающих страха, разве что за исключением немногих безумцев. Но победить в себе страх доступно любому самому обычному человеку. И история знает немало трусов, снискавших себе славу великих героев. Скажем, из книги Манфреда очевидно, что и Наполеону был знаком страх. Но он был и великим артистом, умевшим скрывать свою слабость. Малодушные поступки он умел обращать в глазах окружающих в славные подвиги. К примеру, его внезапный приезд в Париж из Египта был попросту бегством. Он оставил армию на верную гибель. Но Париж принял его как спасителя Франции...
Помочь актеру преодолеть психологический барьер — задача, во многом зависящая от самого режиссера.
Вообще в режиссерской профессии немало родственного профессии психотерапевта, психопатолога. Он каждый раз имеет дело с человеческой индивидуальностью, неповторимой, своеобразной. У каждого своя мера таланта, ума, внутренней свободы, профессионализма. Чтобы получить необходимый для фильма результат, режиссеру каждый раз приходится как-то воздействовать на психофизическую основу актера, возбуждать ее, в чем-то менять, провоцировать, стараться полнее выявить человеческую суть.
Ну, например, в “Асином счастье” есть сцена, где один из героев, сидя у трактора, рассказывает о своей жизни. У Клепикова был написан монолог, две страницы текста. Конечно, если бы роль играл, предположим, артист Гриценко, никакой бы проблемы здесь не было. Он бы текст выучил, раскрасил искренней интонацией — все было бы очень похоже на правду. Но у меня был не Гриценко, а простой, в общем, мужик, именно тем и интересный, что он настоящий, из жизни.
Попросил его выучить текст. Он не поленился, выучил. Стал его произносить — кошмар! Весь напрягся, глаза стеклянные — невозможно ни смотреть, ни слушать.
“Ну ладно, — говорю. — Это потом. Ты мне лучше про свою жизнь расскажи”. И он стал рассказывать — легко, естественно. “Как же, — думаю — мне его “расколоть”, чтобы он и монолог так же произнес”. А от клепиковского текста я здесь отказываться не хотел, там были важные для сценария моменты.
На следующий день опять говорю ему: “Ну-ка, расскажи еще разок про свою жизнь”. Он говорит, я его прерываю вопросами, напоминаю про то, что он вчера рассказывал, переспрашиваю какие-то детали.
Потом говорю: “Слушай, ты мне будешь про свою жизнь рассказывать, а я тебе буду вопросы задавать как по сценарию. И ты мне отвечай, как в монологе написано”. Короче говоря мы начали играть с ним в такой словесный пинг-понг: он мне про себя, а я его втискиваю в сюжет. Спрашиваю, что там случилось с ним на фронте? Где в это время была его жена? И целую неделю каждый день часа по два мы с ним вели такой диалог. К концу он уже сам стал путать, где его жизнь, а где жизнь героя фильма. Все сплавилось в один рассказ, который для него уже был совершенно органичен. Чужая судьба, чужой текст вошли в подсознание. И когда на съемке он сел перед камерой, из него уже ничего не надо было тянуть. Все полилось само собой. Мы сняли большой, трудный монолог с единого дубля (вообще на “Асе” дублей у нас было очень мало — два-три и, как правило, все равноценны). Текст словно ожил — он уже не был механически зазубрен, он стал своим, актер принес в него какие-то свои слова, обороты, случайные придыхания, междометия. Каждое слово звучало естественно, органично.
То есть ощущение правды в игре актера рождается тогда, когда высвобождено его подсознание. Причем чем больше сознательных усилий затрачивает актер в своей работе над ролью, тем шире раздвигаются границы возможностей его подсознания. Он уже не должен думать в момент игры, что и как он делает. Он внутренне свободен. Он может плыть в потоке своей роли, не боясь внезапных препятствий — его подсознание внутренне готово к любым случайностям, к импровизации.
О всех этих вещах в последний период своей жизни чрезвычайно серьезно думал Станиславский, работы которого мы, кинематографисты, в силу общей своей неграмотности знаем крайне плохо. Он еще только нащупывал подходы к практическому решению этой проблемы, но всю важность ее понимал прекрасно. Вот его знаменитое высказывание: “Что — сознательно, как — бессознательно. Вот самый лучший прием для охранения творческого бессознания и помощи ему; не думая о как, а лишь направляя все внимание на что, мы отвлекаем наше сознание от той области роли, которая требует участия бессознательного в творчестве”. К сожалению, Станиславский не успел в достаточной мере развить в этом направлении свою теорию.
Высвобождение подсознательного — в актере, в самом себе — и есть самое сложное в процессе работы режиссера над картиной. Скажем, я знаю, что Бертоллучи, когда у него не получается фильм, обращается к своему психоаналитику. Во время съемок “Последнего танго в Париже” он летал к нему из Парижа в Рим каждый раз, когда чувствовал, что какие-то внутренние комплексы стопорят фантазию, что “не поется”.
Что касается лично моей практики, то обычно вся первая треть снятого для картины материала полна шлака, рудиментов случайного. Много потом приходится переснимать наново. Мир картины еще не стал моим миром. Он только вызревает. Но в какой-то момент ты внезапно чувствуешь, что этот “материал дикой лошади”, как точно определил его Айтматов, начинает поддаваться. Он уже не выбрасывает тебя каждый раз из седла. Он уже вошел в тебя, стал частью подсознания. Фильм, так сказать, “пошел”.
О профессионализме и профессионалах
Многолетнее господство бесформенности в режиссуре, штампа простоты под видом “жизненной правды”, невнятного бормотания вместо культуры речи привели к потере актерского профессионализма. Талантливым актером у нас считается тот, который умеет плакать настоящими слезами. Но это же еще не искусство. Несложно накачать себя до состояния истерики, но важно-то ведь, чтобы слезы были настоящими в зрительном зале, а те только на экране.
Основой воспитания наших актеров является искусство театра переживания, что в целом правильно. Но нельзя забывать и о великой культуре театра представления, о выразительности формы, о пластике тела. Актеры, с которыми Эйзенштейн ставил своего “Мудреца”, умели ходить по проволоке, жонглировать, делать кульбиты и сальто. Наверное, сегодня только в театре на Таганке найдутся исполнители, способные справиться с такими задачами. В подавляющем большинстве наши актеры играют исключительно посредством “мизансцены лица” — культура жеста, пластики в полном загоне.
Актера, в совершенстве овладевшего возможностями своего тела, Таиров сравнивал со скрипкой Страдивари. И действительно, есть великие мастера, для которых их физическая природа словно бы уже и не ставит никаких преград. Лоренс Оливье может играть и жалкого актеришку в заштатном кабаре и мужественного Отелло, движущегося по сцене со стремительностью черной пантеры. Тембральная красота голоса потрясающа — даже не понимая ни слова по-английски, вы ею совершенно покорены и захвачены.
Большинству же наших актеров подобные страдивариусовы высоты и не снились. Инструмент, подходящий для сопоставления с их телом, — расстроенная трехструнная балалайка, из которой с трудом извлечешь “чижика-пыжика”. Актеры двигаются так, как в жизни привыкли двигаться. Работу с некоторыми просто приходилось начинать с обучения азам сценического движения. Большинство не умеет даже кричать — переходят с дисканта на фальцет. Одним словом, техническая подготовка актеров в наших училищах явно оставляет желать лучшего.
С другой стороны, и режиссеры наши не могут похвалиться умением работать с актером. Этому толком нас и во ВГИКе не учили, да и в театральных вузах основу основ — систему Станиславского — иногда преподают люди, далекие от практики, не способные осмыслить эту великую науку с позиций сегодняшних достижений искусства. А между тем системой Станиславского пользуются во всем мире, и она себя оправдывает прекрасными результатами.
Мы же в студенческие годы к учению Станиславского относились презрительно — всерьез заниматься им считалось дурным тоном. Это был “пройденный этап”, “мертвечина”, “схоластика”. Только позже, сняв несколько фильмов, я всерьез занялся системой (занялся, потому что почувствовал необходимость в умении вести разговор с серьезными актерами на уровне их профессии) и понял, что изобретавшиеся мною велосипеды давно уже известны — надо было просто читать Станиславского. Скажем, проблема физических состояний (то есть комплекса психофизических и физиологических ощущений, переживаемых героем в момент действия), которой я очень тщательно занимался на съемках “Аси”, как выяснилось, всерьез интересовала Станиславского с Немировичем-Данченко в последний период их деятельности, и можно было немало полезного почерпнуть и у них.
Печальное следствие нашего вгиковского высокомерия — девальвация режиссерской культуры. Если сегодня профессиональный, грамотный актер, придя на площадку, спросит: “В чем зерно роли?”, режиссер (не хочу называть здесь имен некоторых моих коллег) предпочтет взять кого-то другого, кто не станет говорить старомодные слова “зерно”, “сверхзадача”, “сквозное действие”, а просто пройдет в декорации от окна к столу, повернется, скажет нужную реплику. Со своей стороны и актеры тоже уже предпочитают не тратить зря времени на разговоры.
Говорят, что А. Грибов, наученный опытом работы в кино, приходя в павильон, первым делом предупреждает режиссера: “Ты сиди, сиди, дорогой. Я тебе сам все сыграю”. И ведь для многих режиссеров ничего другого и не надо: актер сыграет, оператор снимет.
Мы как-то разговаривали о профессии с Александром Григорьевичем Зархи, человеком, которого я знаю и люблю с детства. Он мне честно сказал: “Я плохой режиссер для артиста. Он у меня играет так, как мне надо”. Я вспомнил его “Анну Каренину”, и ведь действительно там в любом из актеров чувствуется сам Зархи — и в Гриценко, и в Яковлеве, и даже в Татьяне Самойловой.
Конечно, и такой метод работы имеет свои резоны, да и бесполезно предписывать художнику, каким путем идти. Одни режиссеры опираются на актера, стараются вызвать в нем личную реакцию, раскрыть его как цветок. Другие не жалеют сил, переснимают по двадцать и больше дублей (таков, к примеру, Брессон), добиваясь идеально точного нюанса, единственно приемлемой для них интонации, хотя актеру, быть может, и не понять, почему она должна быть именно такой. Лично мне дороже тот путь, где актер не скован, не зажат в шоры, не замучен режиссерским диктатом.
Нужно сказать, что и “жесткий” метод работы вовсе не означает, что режиссер не ценит актера. Очень часто и ценит, и любит, но все равно навязывает свой рисунок роли. К примеру, про Григория Львовича Рошаля, человека, известного своей бесконечной любовью к актеру, мне рассказывали, как однажды он кричал на съемке исполнителю: “Больше мысли в глазах! Больше мысли!” А актер развел беспомощно руками, и в глазах такое немое отчаяние: “Извините. Больше не могу. Больше нету”.
Сколько раз приходится видеть, как актера втискивают в чуждые ему рамки образа. Даже сама практика съемок с отметками мелом на полу, по которым актер должен пройти оттуда досюда, а затем к камере на крупный план, по сути мало чем отличается от методов немого кино, когда режиссер кричал от камеры прямо по ходу съемки: “Подойди ближе, дыши глубже”. Потому что и то, и то — насилие над живой душой, над свободой актерского самопроявления.
Из-за такой вот укоренившейся практики, из-за возведенного в систему непрофессионализма очень трудно бывает хоть как-то реабилитировать в глазах серьезного, культурного актера режиссерскую профессию. Актер уже заранее настроен на диалог с дилетантом, с человеком, не знающим азов системы, принципов актерского анализа роли. А диалог необходим: ведь каждый — и режиссер и актер — приходит на площадку со своим видением роли, быть может, верным, быть может — ошибочным. Значит, нужно найти какую-то общую, единую позицию, либо же хотя бы попытаться понять, насколько разные точки зрения могут сблизиться.
В “Дяде Ване” я хотел снимать Бориса Андреевича Бабочкина, пригласил его на роль Серебрякова. Мы начали репетировать, по ходу дела я попытался ему что-то подсказать, очень деликатно, со всем почтением к его таланту и возрасту. “Молодой человек, — отрубил Бабочкин. — Вы мне не подсвистывайте. Я со свиста не играю. Я сам”. На этом наша совместная работа кончилась. Продолжать ее было бессмысленно, контакта при таком отношении возникнуть не могло.
Нахождение взаимопонимания между актером и режиссером — процесс, начинающийся задолго до съемки, вызревающий в репетициях, в разговорах. Конечно, каждый раз ожидать, что такое истинное взаимопонимание возникнет — дело безнадежное; у каждого актера свой характер, своя индивидуальность. Один требует постоянного внимания, другого надо оставить в покое. Одного нужно подогревать похвалами, другого — злить, выводить из себя, вплоть до запрещенных приемов, до оскорблений. И актер сам идет на это, потому что знает, что иначе у него не получится. Одному необходимо множество репетиций, другой играет только один дубль, весь в нем выкладывается, на второй уже не остается сил.
Сергей Федорович Бондарчук рассказывал, что так вот работает Род Стайгер. Когда снималась сцена прощания с войсками, он ушел с площадки, где-то в сторонке стал вдруг метаться, биться, кричать что-то, потом вернулся в кадр, где ему надо было просто стоять и молчать. И в безмолвный кадр он принес такую неповторимость молчания, такой вулкан спрятанных во внутрь чувств, что накал их сразу же дал кульминацию. Еще раз повторить такое же состояние он уже не мог. Сказал: “Сегодня больше я не снимаюсь”. И ушел со съемочной площадки. Чтобы уметь так работать, мало просто таланта. Нужен профессионализм.
К сожалению, подготовительный период работы актера и режиссера над ролью в кино чаще всего скомкан по множеству причин. В том числе и потому, что к этому просто серьезно не относятся. Мы вообще относимся к актеру безобразно, потребительски. Это даже в оплате труда проявляется. Что же потом удивляться, что актер приходит на съемку неподготовленным!
Я часто завидую театральным режиссерам — в их работе гораздо больше творчества, чем дрязг. Они дышат с актером одним воздухом, день за днем репетируют на сцене, никто в зале не посмеет нарушить этого священнодействия. Театр немыслим без уважения к сцене, к искусству, к актеру. Съемочная же площадка — чуть ли не сумасшедший дом: гвалт, ор, все ругаются со всеми — осветитель с оператором, реквизитор с ассистентом режиссера, костюмер с актером, актер тут же дозубривает роль и дожевывает бутерброд, а режиссер пытается что-то с ним репетировать — говорит, где встать и куда пойти. Потом раздается отчаянный вопль помрежа: “Тишина!”, ругань и возгласы: “Дай светок! Левее лучок!” — замолкают, перед носом у актера хлопают доской и начинается “творчество”. Через минуту дубль снят, “творчество” окончено, и опять возникает привычная атмосфера кинематографического бедлама со ставшим нормой неуважением к актерской индивидуальности.
В театре актер еще до спектакля, не спеша, настраивает себя на процесс творчества, а потом, когда закулисная возня утихает и в зале устанавливается благоговейная тишина, выходит на сцену. На протяжении целого акта, целого часа божественного творчества ничто ему не мешает, не выводит из найденного состояния. В кино же сама внезапность начала съемки, мгновенная перемена всей атмосферы на площадке выбивает актера из самочувствия, которое так мучительно отыскивалось. Он ощущает себя человеком, которого раздетым вытолкнули на улицу, в середину толпы зевак. Он зажимается, все реакции тормозятся, то, что было найдено на репетициях, исчезает бесследно. Дыхание творчества задушено вульгарной пошлостью обстановки.
И актеры, серьезные театральные актеры, по-своему адаптировались к подобному стилю “антитворчества”.
Я вспоминаю опыт своей работы с Василием Васильевичем Меркурьевым, замечательным человеком и художником, который играл в “Дворянском гнезде” Гедеоновского. Для него был написан прекрасный монолог, увы, в конце концов в фильм не вошедший. И вот Меркурьев пришел в павильон и первым делом говорит ассистенту: “Напишите мне текст на доске покрупнее”. Я воспротивился: “Нет, — говорю, — Василий Васильевич. Писать не будем. Давайте текст учить”. “Как же так, — говорит, — батенька. Я так не привык. Мне читать надо”. В театре он давно бы все выучил, а здесь кино — базар, толкучка. То, что на сцене наживается долгими репетициями, здесь надо “с колес” выдавать на камеру. И мое стремление к той же обстоятельности работы, что и в театре, не помогло, скорее — лишь помешало. Меркурьев текст выучил, но напряжение зубрежки, страх забыть слова поглотили все. Он говорит, а в глазах ученический испуг, паника. Впрочем, в фильм монолог не вошел не только потому, что он не дался актеру, — не получилась вся сцена...
Всерьез думать, заботиться об атмосфере, окружающей актера на площадке, научил меня — спасибо ему за это — Сергей Федорович Бондарчук. Он пришел в павильон, увидел всегдашний кинематографический бедлам, сказал: “Сегодня я сниматься не буду” — и уехал. И он был прав. Потому что без атмосферы уважения к актеру нет уважения и к творчеству, к искусству кинематографа.
Теперь я поступаю точно так же: не прихожу в павильон и не привожу туда актеров до тех пор, пока не окончится вся производственная ругань. На площадке постоянно должен жить дух искусства: перепад между атмосферой репетиций и атмосферой съемки недопустим. Максимальное внимание к актеру придает совершенно иную окраску всей работе. Отношение к актеру просто как к члену съемочного коллектива неправомерно. Он — главное. Без глубины, без искренности его переживаний экран пуст.
Крайне вредно сказывается на работе актера в кинематографе и то, что приходится играть роль обрывками, вне всякой сценарной последовательности и логики — щепотка оттуда, щепотка отсюда. Вследствие этого очень часто мозаика роли распадается на несоединяющиеся осколки — их стыки не были продуманы, прожиты, у актера не было времени и возможности проследить диалектику образа в его развитии.
Френсис Форд Коппола сейчас предпринял любопытный эксперимент: он купил себе небольшой театр, чтобы в нем начинающие режиссеры могли бы вместе с актерами ставить на сцене сценарии задуманных ими фильмов, проверять свои способности. Проверять точность драматургии, ее воздействие на зрителя. (Естественно, не всякий фильм можно предварительно сыграть на сцене — у Феллини, допустим, это вряд ли бы получилось, но стилистика, в которой работает Коппола, такую возможность допускает.) И это не просто благотворительная затея преуспевшего на своем поприще мастера. Коппола отлично понимает, что если спектакль получился, то фильм по нему можно будет снять за десять дней — роли уже прожиты актерами, все отшлифовано, осталось только перенести действие в павильон.
Жанр
Сегодня стали общим местом слова о том, что современный кинематограф тяготеет к смешению жанров, к отказу от жанровой чистоты. Верно, тяготеет. Верно, жанр в самом чистом его виде на экране встречается все реже. Только все это не повод для аморфности, жанровой невнятицы, которую нередко пытаются оправдать подобными рассуждениями. Чтобы смешивать жанры, надо очень точно знать, что смешивается.
Как бы ни усложнялась, ни трансформировалась жанровая форма в современном фильме, она должна быть. Жанр — все равно есть жанр. Он необходим. Это правила игры, которые режиссер с первых же кадров заявляет своему зрителю, чтобы тот знал, в какую игру с ним играют — в шашки или в поддавки, допустим.
Удар палкой по голове может быть и в трагедии, и в психологической драме, и в жестокой мещанской мелодраме, и в цирке. Действие всюду то же самое, а зрительская реакция совершенно различная.
В цирке мы покатываемся от хохота (и это при том, что у человека, которого стукнули, фонтаном брызжут слезы), в мелодраме — проливаем слезы сочувствия, в драме — сопереживаем, в трагедии — молчим, цепенеем от страдания. Но в любом случае автор должен нас так или иначе предупредить, что именно он собирается нам показать.
К сожалению, культуре жанров у нас долгое время не уделялось никакого внимания. Для сравнения: на Западе зритель, еще только покупая билет, уже знает, что он сейчас увидит: вестерн, мюзикл, хоррор, гангстерский, семейную драму, комедию.
Жанровая дифференциация фильмов складывалась на протяжении десятилетий. Зритель на ней воспитан.
У нас же зритель воспитан на том, что кино должно быть похоже на жизнь. Он приходит в зал с единственным, уже поминавшимся здесь недобрым словом, критерием: “Похоже на жизнь,— значит, фильм хороший, не похоже — плохой”.
Тем же рецептам следует и редактура студий и сама режиссура. В этом одна из главных причин того, что из фильма в фильм перекочевывает аморфность, невнятица, серость языка, серость героев и сценарных ситуаций.
А ведь как часто искусство бывает непохоже на жизнь! Когда Собакевич, встав на ногу своего собеседника, начинает вести с ним разговор, — это совершенно неправдоподобно. Но у Гоголя это правда. Точно так же мы верим Платонову, герой которого режет колбасу на гробе любимой жены. А другой его персонаж — отец из “Фро” — засунул голову в духовку и плачет над макаронами — и это тоже правда, хотя совершенно вне всякой житейской логики.
Юрий Олеша упрекал Толстого за то, что тот погрешил против истины, сказав устами Наполеона: “Какая прекрасная смерть!” “Смерть отвратительна, — утверждал Олеша. — Она не может быть прекрасной”. И в жизни это действительно так. Но вся эстетика вестерна строится на том, что смерть красива. Вестерн не был бы вестерном, если бы в нем не было этих лихих поединков, перестрелок, эффектно падающих на пыльную землю тел. Хотя, между прочим, на наших глазах люди убивают друг друга.
Жанр — это особый угол зрения на жизнь. “Круче ракурс надо”, — любил в свое время говорить Барнет. И у него, кстати, было это замечательное чувство “угла зрения” в самых разных жанрах — в комедии, в детективе.
Мы, к сожалению, не научились еще использовать возможности, заложенные в тех или иных жанрах. Например, в комедии. Ее считают чем-то вроде довеска к серьезной продукции. Это для историй про тещу, про ссоры влюбленной парочки. А между тем комедия может быть жанром социальным, героическим, философским. Ведь слово, сказанное в шутку, часто оставляет более глубокий след, чем преподнесенное всерьез.
В плачевном состоянии находится у нас и трагедия. Тут много причин. Некоторые из них коренятся в самой истории, в тонусе общества.
Еще Карл Маркс говорил, что самые большие возможности для трагедии дает эпоха социальных сдвигов, революций. Наша страна уже прошла через этот исторический этап, который, кстати, дал немало трагических произведений (фильмы Довженко, рассказы Бабеля, “Тихий Дон” Шолохова). Сейчас многие аналогичные процессы можно наблюдать на Кубе. Поездка туда произвела на меня неизгладимое впечатление.
Когда перед толпой народа, запрудившего всю площадь, Фидель Кастро говорит: “Нам придется идти на большие жертвы, много работать придется”, его поддерживают общим криком одобрения. Или взять прощальное письмо Че Гевары, которое Фидель зачитывает на той же площади. Че Гевара победил. Он мог пользоваться плодами своей победы. Но он предпочел снова идти на бой во имя свободы. В поведении людей на Кубе, каждого человека, поражает это чувство сопричастности истории. Оно как бы разлито во всей нации.
Естественно, и жизнь нашего общества, хоть и в иных формах, дает материал для трагедии. Все дело в масштабах личности, которую изберет художник, в ее способности на свободный поступок. “Белый пароход” Айтматова — трагедия, хотя, вроде бы, взяты самые бытовые, обыденные явления, ситуации. Но дело здесь в мироощущении писателя, в его таланте. Он не боится вести своего читателя к очищению через страдания и страх.
Представляю, сколько сложностей было у Болота Шамшиева, когда он “пробивал” свой “Белый пароход”.
Сколько усилий приложила редактура, чтобы “просветлить” финал, внести “оптимизм”. К счастью, на этот раз героя все-таки не спасли, как то обычно стараются сделать — стараются, естественно, с самыми благими намерениями. Забывают при этом лишь о законах трагического жанра. Его оптимизм не в том, что герой в последний момент счастливо избежал гибели. Оптимизм трагедии в том очищающем катарсисе, который она вызывает у зрителя. Герой гибнет, но мы понимаем во имя чего. Он продолжает свою жизнь в нас, зрителях. Трагедия требует от героя гибели.
Критик Соллертинский по поводу Четвертой симфонии Бетховена сделал лаконично простую запись: “Трагедия. Гибель. Праздник”. Это чрезвычайно важное наблюдение — смерть в трагедии празднична, мы идем от скорби к радости, к осознанию тех важных исторических процессов, закономерностей, которые за этой смертью стоят. Естественно, умение воспринять смерть трагического героя как праздник зависит и от уровня нашего эстетического сознания.
Мейерхольд говорил: “В трагедии должен быть сухой голос. Слезы недопустимы”. То есть должна быть некоторая бесстрастность авторской интонации, по существу, являющаяся высшей формой страсти. Когда эмоциональное состояние напряжено до предела, можно говорить тихо, сухо, даже невнятно, но сказанное будет потрясать.
В “Оптимистической трагедии” у Самсонова герои орут, актеры рвут страсть, а температура зрительного зала не повышается ни на градус. А в “Семи самураях” у Куросавы — герои молчат, То-сиро Мифунэ изгиляется почти как Крамаров. Но во всем такая страсть и обжигающий накал правды, что мы потрясены. Куросава не пытается вызвать зрительское сопереживание и именно этим добивается эффекта трагедии. За миром его фильма стоит масштаб личности автора — без него трагедии нет.
В григорьевском “Романсе о влюбленных” такой масштаб был.
За рамкой кадра
“Нельзя ошибаться в том, что показываешь, а особенно в том, чего не показываешь”. В этих словах Робера Брессона выражена важная мысль о соотношении между видимым и довоображаемым, между кадром и закадровым пространством. Здесь есть принципиальная разница между плоскостью экрана и зеркалом сцены при всем их кажущемся подобии.
Человек, ушедший со сцены, уже вне действия, он, быть может, вообще больше не появится в спектакле. Человек, вышедший за рамку кадра, продолжает существовать в поле нашего внимания — наше сознание доигрывает для себя его присутствие. Режиссер даже может намеренно, по своему произволу вывести героя за черту видимого. Самый тривиальный пример: влюбленная парочка обнимается, а камера стыдливо панорамирует от них к облакам, давая простор зрительской фантазии.
В театре взгляд зрителя свободен. Даже если единственный световой луч фиксирует наше внимание на лице актера, а все остальное погружено во тьму, мы можем блуждать взглядом по этой черноте, пытаться выловить контуры декораций или силуэты других актеров. В кино же мы подчиняемся воле режиссера, он навязывает нам свою точку зрения. Мы заворожены гипнозом камеры. Она предписывает нам, на что смотреть, сколько смотреть. Она может нарочно, дразня наше воображение, показывать на экране что-то совершенно несущественное, второстепенное. Но тем больший смысл будет обретать то, чего мы не видим.
Снимать так — искусство, которым мы, к сожалению, еще не овладели. Отношу это в полной мере и к себе. Считаю уязвимым местом своих картин стремление к буквализму, происходящему из боязни, что зритель, упаси бог, чего-то не поймет, не так поймет.
Подобное недоверие к зрителю вызывает у многих режиссеров, особенно у начинающих, болезнь “крупных планов”, стремление всю игру актера сосредоточить на лице. В то время как поразительный эффект может дать общий план, где лицо актера почти что не читается — но сама атмосфера кадра помогает донести все, что задумал автор.
Снова обращусь за примером к творчеству Бергмана. Этот режиссер не боится показывать на экране самые шокирующие, бьющие по нервам сцены — и он имеет на это право, ибо сердце его полно мудрости и сострадания, которые даже саму жестокость возвышают в степень искусства. Но он великолепно владеет и поэтикой недосказанного, причем изумительно точно умеет найти те узловые точки, где умолчание в тысячу крат действеннее прямого показа.
Я вспоминаю поразительную кульминацию его “Источника”—отец изнасилованной и убитой девочки молится, ведет диалог с богом, обвиняет его в несправедливом устройстве мира. Снимай этот фильм я, сцена наверняка решалась бы на крупном плане, и в лице, глазах я бы постарался отыскать всю глубину и трагизм переживаемого героем чувства. И актер (допустим, это был бы какой-то хороший актер из Вахтанговского театра) уже тут бы не пожалел труда, чтобы показать, каким богатством выразительной мимики владеет его лицо. Он, наверное, даже обиделся бы, если бы кто-то сказал, что крупный план здесь излишен. Как же так! Ведь это же лицо. Глаза. Зеркало души!
А Бергман? Он ставит героя на общий план, спиной к камере. Причем этот актер — Макс фон Сюдов, человек с лицом редкой выразительности и красоты лепки. Но здесь он работает спиной. И когда потом Бергман укрупняет кадр — он укрупнит ту же спину: лица мы не видим. Возникает удивительное: спина выразительнее лица. Актер и режиссер дают зрителям не готовую к усвоению информацию, а толчок, заставляющий работать фантазию. И, как обнаруживается, довоображая, домысливая, насыщая экран своим переживанием, своим творческим сознанием, мы получаем больше, чем может дать самый талантливый исполнитель. Оттого сцена потрясает нас.
Я специально интересовался, каким методом Бергман работает на площадке. Оказывается, он часами сидит, ничего не снимая. И вся группа, в полной готовности, ждет, притихнув, боясь помешать этому священнодействию. Замечу еще, что думать на площадке — удовольствие дорогое, особенно для Бергмана, который сам является продюсером своих картин и, стало быть, крайне заинтересован снять максимально быстрее.
Чем же он занимается во время этих обдумываний? Он мысленно перебирает все возможные варианты: что вместить в кадр, что оставить за его пределами, что приблизить к камере, что удалить от нее на максимальную дистанцию — перебирает в тысячный, тысячепервый, тысячесотый раз. Он отсекает таким путем свои собственные штампы, привычные приемы творчества, он все время ревизует свое собственное представление о кино, о его языке, о выразительности.
Все это вопросы ремесла, профессии, но мы их слишком часто вообще упускаем из виду. На наших студиях повсюду к съемке относятся как к процессу производственному. Но ведь съемка — процесс творческий, индивидуальный, авторский. Чтобы фильм жил, режиссер каждую сцену, каждый кадр должен тысячу раз прожить, продумать, проверить. Но все должно быть решено до того, когда будет сказана команда “Мотор!” и пойдет пленка. В этот момент уже сделан окончательный выбор — быть может, роковой, быть может, счастливый. Но с этого момента уже ничего переделать нельзя.
Субъективная камера
В конце 60-х годов Пазолини написал очень интересную статью о субъективизации камеры. Он внезапно открыл для себя, что точка зрения камеры не имеет права быть беспристрастной, как, допустим, у хроникера. В хронике все происходящее на экране увидено “холодным взором”, автор никак не проявляет своего отношения к событиям. Игровой же кинематограф тем и отличается, что в нем создатель не скрывает от нас своей точки зрения — он пишет ее камерой точно так же, как писатель пером. Все показываемое зрителю увидено глазами автора.
Причем Пазолини даже считал, что камера должна глядеть на события с точки зрения персонажа — того или иного, а не с точки зрения автора. Взгляд героя придает видимому нами более эмоциональную окраску.
Эта проблема кажется мне крайне важной и в то же время крайне сложной, запутанной. Даже в собственных картинах бывает трудно разобраться, с чьей точки зрения увиден тот или иной кадр. И в картинах других режиссеров тоже часто не легко осознать момент, когда меняется точка зрения — переходит от автора к персонажу или от персонажа к персонажу. Но при анализе очень важно уяснить, с чьей точки зрения увидены события, почему именно так они увидены.
Очень интересная была статья Сергея Антонова о Достоевском — “От первого лица” (напечатана в 1972 году в “Новом мире” № 10—11). Он дает разбор романа “Бесы” — очень кинематографичный разбор в своей сути. Речь идет о том, от чьего лица рассказывается история. В момент чтения мы обо всем этом не задумываемся, нас интересует поскорее узнать, что произойдет дальше. Но оказывается, что рассказчик к происходящему не нейтрален, причем и рассказчик-то не один. Повествование ведется главным образом со слов очевидца. К нему сам автор относится с иронией и нескрываемым недоверием. Очевидец — обыватель, восторженный либералишко, он все время что-то привирает. Прибегая к посредничеству очевидца, Достоевский вводит в рассказ момент отчуждения, своего иронического отношения к событиям. Но когда в рассказ входит Ставрогин, сохранять подобную интонацию уже невозможно, и Достоевский незаметно, может быть, даже непроизвольно соскальзывает на свой собственный, авторский голос.
Все это принципиально существенные моменты и в кино.
То есть и в кино важно точно найти дистанцию между автором и рассказом — либо полностью раствориться в нем, объективно фиксируя мир, либо, не скрывая, выражать свое отношение к происходящему, либо же показывать все с точки зрения персонажа — одного или разных.
В этом плане, как мне кажется, в “Андрее Рублеве” допущен некоторый просчет. Драматургический принцип построения сценария здесь в чем-то сродни “Сладкой жизни”. И тут и там в центре повествования один человек, все пропущено через его восприятие. В “Сладкой жизни” — это журналист Марчелло; его почти и не видно на экране, он появляется считанное число раз. В картинах, построенных по принципам объективной драматургии, главный герой должен был бы все время действовать — здесь он не действует, он наблюдает. Автор в известной мере идентифицирует себя с ним.
Оценка героем событий (пусть это всего лишь бесстрастное наблюдение — в самом факте этого равнодушия тоже очень важный смысл) не прекращается ни на мгновение.
В принципе с тем же прицелом выстраивался и сценарий “Рублева”. Глазами художника мы должны были видеть весь мир — радость, горе, надежду, отчаяние, человеческое величие, человеческую низость.
Но, как мне думается, Тарковский попал под обаяние материала — материала и вправду впечатляющего, мощного: фактура земли, бревен, ливни, раскисшая земля, толпы людей, монахи, татары, кровь, огонь...
Он всем этим настолько увлекся, что начал снимать какие-то важные куски, не окрашивая их отношением Солоницына — Рублева, не пропуская через его внутренний мир. Оттого по временам пропадает оценка материала героем — материал расползается. Хотя сам по себе он очень интересен. А вот в новелле про колокол эта мера субъективизации изображаемого найдена очень точно, и оттого она так нас захватывает.
В сценарии по-настоящему профессиональном всегда должен присутствовать заранее заданный автором взгляд на события. К сожалению, как правило, сценарии у нас пишутся от лица рассказчика, не имеющего никакой индивидуальности, пишутся одинаково бесцветно и невыразительно. А между тем даже простое смещение точки зрения на вещи может дать эффект поразительный. Ну, скажем, посмотреть на них с точки зрения ребенка. На экране убивают человека — это, конечно, всегда можно поставить впечатляюще. Но если увидеть то же глазами ребенка — все обретет иную глубину, пронзительность.
Несколько лет назад я написал сценарий о террористе, где все было пропущено через восприятие его ребенка, девочки.
Она растет одна, в деревне. Он приезжает “в свободное от работы время”. Девочка с ним играет в “дочки-матери”, стирает для него, гладит. Он для нее — любимый отец. Она — единственная радость в его жизни. Потом он уезжает — где-то там устраивает взрывы на аэродромах, горят самолеты, гибнут дети. Чужие дети. А потом он снова приезжает к ней, опустошенный, усталый. И с ней он снова человек. А потом снова уходит. И однажды не возвращается. А она его ждет... По-моему, очень интересный мог бы получиться фильм. Причем не так уж важно, где происходит действие. А вот оценка всего через взгляд ребенка — здесь не вопрос формы. Это вопрос смысла фильма, его идеи...
Мы пока еще не научились сколько-нибудь серьезно использовать возможности субъективизации зрения в кино. В театре такой возможности практически нет. Там дистанция между героем и зрителем определяется только трактовкой (режиссерской и актерской) персонажей. В кино же посредник — камера — позволяет необычайно свободно, многопланово препарировать, целенаправленно трансформировать мир фильма. Наделять его тем смыслом, который нам нужен.
СОТВОРЕНИЕ МИРА. СЪЕМКА
Образ целого
Когда я уезжал в Киргизию, чтобы начать съемки своей первой полнометражной картины “Первый учитель”, мне страшно было даже подумать о том, что предстоит снять целых 2700 полезных метров. Казалось: “Боже, какой это адский труд. Сколько кадров!” Но с практикой робость перед длиной и числом съемочных планов незаметно исчезла. Обнаружилось, что есть вещи потруднее.
Как известно, картина состоит из эпизодов. Эпизоды состоят из кадров и склеек между кадрами. Кадры состоят из внутрикадровых движений. И все-таки, если фильм есть, то состоит он не из кадров, склеек, перемещений персонажей и снимающей камеры. Он состоит из человеческих отношений и их развития. Без этого картина холодна и пуста.
Мне кажется, что по-настоящему я это понял только в работе над своими последними картинами. Даже не понял, а почти физически почувствовал. Человеческие взаимоотношения представляются мне осязаемо материальными, их можно выразить пластически, зримо.
Раньше, снимая фильм, я представлял себе кадры — из них выстраивался образ целого. Сейчас, работая над картиной, я стараюсь представить себе только одно: человеческие характеры, их проявление, их взаимоотношения.
Раньше импульсом к съемке был “гениально” придуманный кадр, возникало желание поскорее спроецировать на экран то, что увидел внутренним взором. Я до мелочей представлял себе будущий кадр, все происходящие в нем движения. Я точно знал, где их оборву, чтобы состыковать со следующим кадром. И даже открывая в дальнейшем какие-то новые для себя пути, добиваясь легкости и импровизационности языка, текучести фактур, я по-прежнему исходил из пластической образности. Не знаю, не могу проследить точно, когда во мне произошла эта перемена, но сейчас стимулы к съемке стали у меня совершенно иными. Желание стать к камере пробуждается, когда я до конца представляю себе идею фильма, характер героя. Когда чувствую необходимость проанализировать его поступки, материализовать их, воплотить в актерской игре.
В общем произошел некий диалектический скачок от формы к содержанию, к человеческому существу. Меня привлекают сейчас самые простые вещи, я обнаруживаю в них глубину, которой не замечал прежде. Хочу, например, снимать Гайдара — “Голубую чашку”, “Чука и Гека”, “Судьбу барабанщика” — пронзительнейшие по простоте, ностальгические вещи, так тонко и глубоко рассказавшие о своем времени...
Я бы солгал, если бы стал рассказывать о процессе съемок как о последовательной реализации стройного замысла. Увы, на практике (я, естественно, говорю о своей практике) ни последовательности, ни стройности нет в помине. Мы следуем не осмысленной очередности сцен и эпизодов, а просто подчиняемся наличной возможности — снимаем то, что сейчас можно снять. Снимаем куски из начала, из середины или из конца, лишь очень приблизительно представляя, какое место найдут они в будущей картине, в ее ткани. То, что приходит как случайность, потом оказывается важной закономерностью. То, что задумывалось как закономерность, потом оттесняется на периферию, становится побочной частностью. Сцена должна найти свое место в ряду многих сцен, из них должен сложиться целостный мир. А целостность нащупывается постепенно, в поиске. Мир фильма отыскивается по крупицам: вот здесь угадалась атмосфера, здесь — актерское чувство, здесь — тональность звучания, тут — получилось, там все надо переснять заново — в том же ключе, а быть может, в несколько ином. Или уже ясно, что от этой сцены надо вообще отказаться. Лично у меня приблизительно вся первая треть материала любой картины полна брака — все еще неясно, все еще только ищется.
Решая вопрос о выборе метода съемки, я понял, что единым он здесь быть не может. Надо искать его не для сценария в целом, а для каждого отдельного эпизода. Скажем, мы почти не прибегали в “Романсе” к импровизации. Но первая любовная сцена снята именно таким путем. В принципе же искалась некая экспрессивная подача игры, преувеличенность чувства. Мы старались отыскать приподнятость состояний, атмосферы и максимально быстро зафиксировать все на пленку. Быстро — чтобы не улетучился порыв, взволнованность. Мне вспоминается, как еще во времена моего детства к нам часто приходил Рихтер, днями сидел за роялем, играл. Однажды что-то у него никак не получалось — кажется, Скрябин. И вдруг он прибежал возбужденный, бросился к клавишам. Говорит: “Я понял, я понял, в чем все дело. Это должно быть как сткло”. Не “стекло”, а “сткло”. В самом слове образное ощущение раскаленной текучей массы, внезапно обретшей жесткую форму. Брошенной из пламени в ледяную воду... Легкость, непосредственность, незавершенность, нужная “Романсу”, могла прийти только как результат продуманности, осмысленной выстроенности формы.
Ростки правды
Рано или поздно, но наступает момент, когда к съемкам все готово, надо выходить на площадку... Первый съемочный день. Вот тут-то и начинается главный этап борьбы режиссера с материалом сценария, с написанным в нем вымыслом, который надо сделать “правдой”.
Ощущение правды возникает не тогда, когда актер правдиво сыграл, а оператор его грамотно снял — все в фокусе, хорошо освещено. Бывает, что и картинка резкая и актер вроде не фальшивит, а на экран все равно смотреть невозможно: липа, картон, в лучшем случае какая-то полуправденка.
Не найдено общее дыхание, атмосфера. Разрозненные компоненты не складываются в единую картину. Материал сопротивляется насильственному обращению с ним. Ведь чаще всего съемка и выглядит как прямое насилие над сценарием: актеров насильственно собрали в одной декорации, насильственно вручили им чужие слова, осветили насильственным светом и развели по насильственной мизансцене. А правду насильственным образом создать невозможно. Для актера все должно стать своим — и слова, и костюм, и декорация, и его отношение к партнеру. Когда он начинает не правильно произносить хорошо заученные слова, а жить, чувствовать, проникаться общим настроением с другими актерами, материал перестает брыкаться. Сквозь кору фальши начинают пробиваться ростки правды, впервые возникает ощущение: “Вот оно!”
Первую сцену — сцену любви — я снимал и переснимал несколько раз. Иногда даже собирались, ставили камеру и так и расходились, не сняв ни метра — не получалось. Уж чего только мы не делали, и музыку заводили для настроения, и говорили о любви и о разном, и Пушкина читали, и ресницы приклеивали — не идет. Все фальшь. А уж какая вокруг, под Серпуховом, природа была замечательная — деревья, небо. Откладывали съемку на следующий день. Ждали чуть ли не неделю, все зря. Ни у Кореневой, ни у Киндинова сцена не шла. Слова были — любви не было. В состоянии полного отчаяния уже, наверное, раз в четвертый я стал снимать эту сцену прямо на мосфильмовском дворе, в яблоневом саду, посаженном Довженко, в последний день лета. И вдруг она получилась. Нежданно для меня самого.
Сейчас я уже могу объяснить, почему она получилась тогда и не получалась раньше. Героям надо было прожить какую-то жизнь, привыкнуть к себе в этой роли и друг к другу, обносить свои джинсы, надо было проникнуться этим особым миром, чтобы он вошел в подсознание. И это накопление постепенно шло. Мы уже сняли сцены счастья и прощанье перед уходом в армию, было прожито целое лето, ставшее воспоминанием о прекрасной экспедиции на берег Оки, они уже видели себя на экране. Они уже могли жить легко, свободно.
Великий Михоэлс сравнивал актера с планетой. Если индивидуальность актера богата, если он живет в своей роли, то его планета обитаема, на ней есть чем дышать живому существу. Аромат личности актера ощущается ранее, чем им произнесено первое слово. Но как часто, несмотря на богатую технику, безукоризненную дикцию и гордую осанку, у актерских планет нет этой “атмосферной оболочки и нет, следовательно, признаков жизни, нет даже надежды на появление этой жизни”.
Добавлю от себя, что этот аромат, эта оболочка есть результат колоссальной работы над ролью, длительного внутреннего процесса. И если эта работа потрачена и аура образа возникла, то актеру уже не надо тратить сил, чтобы убедить нас в правдивости своей игры — правда живет в нем самом.
Конечно, есть большие артисты, которые умеют входить в роль быстро, не прилагая таких усилий для обретения этой магнетической оболочки. Но в любом случае в кино она особенно хрупка, эфемерна. Столько непредвиденных производственных помех грозят ее навсегда разрушить!
Я не жалею, что столько труда потратил вместе с актерами на эту маленькую сцену. В нее надо было вжиться. Через неудачи, через страдания мы приходили к каким-то своим маленьким звездочкам.
Будь проклято это кино
Мне даже сейчас страшно вспомнить, что на съемках в Казахстане мы чуть не убили мальчика. И все из-за этой безумной системы, при которой актера удается выцарапать у театра иногда всего на семь-восемь часов.
Чтобы добраться до того места, где тогда велись наши съемки, нужно было пять с половиной часов лететь на самолете, да еще два с половиной часа ехать на машине. Актера прямо из машины сажают на грим, одновременно декорация заливается водой, два часа съемок, и обратно в машину, на аэродром. Актер, конечно, играет плохо, ему некогда хоть как-то настроиться. Условия ужасные. Преследует обстановка скоропалительности, спешки — лишь бы успеть снять, лишь бы уложиться вовремя.
В кадре должна была обвалиться крыша — почти прямо на наших героев. Девочке, державшей на руках мальчика, надо было дойти до отметки — так, чтобы балки рушились за ее спиной. Она остановилась раньше — не дошла до отметки. Ей кричат — она не слышит, да и трудно услышать что-нибудь. Ветродуи воют, брандспойты хлещут струями, она по пояс в воде — вода холодная, семь градусов. На девочке одет резиновый водолазный костюм — до шеи, под одежду. На руках — мальчик. И крыша валится прямо на мальчика — острым концом бревна. Если бы чуть правее или чуть левее упало — не знаю, чем бы все кончилось, наверное, самым худшим. И как бы повернулась судьба моя и всего фильма — тоже неизвестно. А так, слава богу, отделались испугом: мальчику чуть оцарапало щеку.--
Далекие экспедиции, связанные со съемками актерских сцен, — предприятие безумное. Из-за всех этих случайных, коротких актерских наездов лихорадит не только работу группы — лихорадит замысел, причем не только сцены или эпизода — генеральный замысел всей картины тоже. Он хрупок — вроде бы незначительные коррективы могут сыграть для него роковую роль.
В столь дальние края нас занесла необходимость снять затопленную деревню: нужно было плоское место, которое можно было бы залить водой — неглубоко, сантиметров на сорок — и совместить в кадре плоскость нашей залитой декорации с уходящей до горизонта гладью воды. Подходящее для такой съемки озеро удалось найти лишь в Казахстане. Установили в нем торчащие верхушки деревьев и на понтонах крыши — затапливать дома целиком, естественно, никакой надобности не было. Не обошлось без курьезов — смешных и печальных одновременно. В одно прекрасное утро мы обнаружили, что вся наша декорация исчезла. Пришли на место — ни одной крыши нет. Наш директор Александра Тимофеевна Демидова чуть не поседела от ужаса. Что случилось? Может, украл кто? Кстати, могли и украсть — в тех краях с лесом трудновато, нам пришлось гнать эшелон из Москвы. Оказалось, что крыши украл ветер, угнал их (хоть они были исправно заякорены) аж за восемь километров — парусность у них огромная, как их ни крепи, но когда с гор начинает дуть карадум, не спасешься. И все наши крыши пришлось два дня собирать с катером по всему озеру. Крыши собрали, а актера нет. Так и стали снимать их без него, в надежде что крупные планы Киндинова как-нибудь доснимем отдельно... Короче, все производство фактически состоит из бесконечной борьбы со все новыми подвохами — ждешь их отовсюду, от людей и от природы.
В сценарии были очень хорошие эпизоды военной службы Сергея — написанные с улыбкой, с юмором, с точным чувством нужного картине стиля. Мне такие сцены снимать трудно. Юмора, что ли, не хватает. Мне вообще не даются смешные сцены. Но эти куски я не смог снять и по другой причине.
Из десяти съемочных дней, которые были отведены на съемки военных эпизодов, мы смогли заполучить Киндинова только на два — больше не позволил театр. Я сижу на берегу моря, два полка и шесть военных кораблей ждут команды, солдаты смотрят в рот режиссеру. Я должен им сказать, что делать. А делать нечего, актера нет. И тогда как спасительный выход возникло решение ввести эпизод маневров, прямого отношения к развитию сюжета, увы, не имеющих. Мы сняли их как дивертисмент, как радостный сон человека, видящего все — и военную службу тоже — счастливо-влюбленными глазами. В нашем фильме появилась армия, скажем прямо, весьма далекая от реальности, идеализированная — с удовольствием ее в таком виде воспринимают военные, во всяком случае в своем большинстве.
И очень сказалась вся эта трансформация на характере героя. Я не мог снять за два дня гигантскую сцену — четыреста метров. Такие вещи с ходу не получаются, нужна работа с актером, поиски характера. Я стал приспосабливаться к тому, что можно было успеть снять. И так вот потерялась немалая часть обаяния образа, появился налет ходульности. Такой крутой поворот дала парабола фильма, и вину переложить не на кого — режиссер отвечает за все.
Сцену затопления мы должны были снимать летом, а снимали в ноябре. Военные маневры снимали тоже поздней осенью в Крыму — летом не успели. Из-за этого неправильное распределение занятости актеров, из-за этого вечная лихорадка — актер уезжает то на гастроли, то в какую-то загранпоездку, то просто по горло загружен в театре.
А всей этой лихорадки могло бы не быть, если бы картина сразу была запущена в производство как двухсерийная, в чем я тщетно пытался убедить руководство. Из-за этого в группе постоянно нарастало отставание от плана, хоть мы и всеми силами старались его наверстать.
Все лето нам пришлось просидеть в том самом дворе в Трубниковском переулке, где мы “поселили” своих героев. Надо было начинать с этого объекта, хотя он был самым сложным. Не постановочно, не актерски сложным (хотя все это тоже присутствовало) — сложным тем, что он определял дыхание фильма, всей его первой половины. Надо было нащупать это дыхание, атмосферу, пристреляться к материалу. Отставание накапливалось не потому, что я снимаю медленно. Снимать быстро нетрудно надо сначала понять, как снимать. Поэтому я ковырялся так долго, снимал старушек, какие-то детальки, нащупывал стилистику, климат этого мира. Наш директор, Демидова Александра Тимофеевна, святой человек, с великой любовью относившаяся к картине, старалась помочь нам как могла. Не теребила, не паниковала — ждала терпеливо, пока я пристреляюсь. А я все никак не мог обрести уверенность, что мир найден. И так и не отсняв до конца двор, уехал в Крым снимать маневры.
А потом снова мы возвращаемся во двор. Цветы с собой привозим: московские давно уж увяли — октябрь месяц. И снова нас проклинают жильцы, потому что мы запускаем на всю катушку магнитофон с записью песен, а где-то там лежит больной, не то с инфарктом, не то с инсультом, которому мы не даем ни жить, ни умереть. Господи, сколько было всяких бед и трудностей, из которых все время надо было выпутываться!
Уже поздняя осень, а еще не снят эпизод поисков пропавшего героя. Надо ехать во Владивосток, а впереди еще столько актерских сцен в павильоне! И эпизод-то безумно сложный, написанный без всякого учета возможностей реализации: множество объектов в эпизоде на сорок метров. Что говорить, Григорьев написал талантливо. Но попробуйте это снять:
“Трое наших пропали без вести.
В штабе над оперативными картами склонились оперативные работники. На карте очерчен район Охотского моря.
С аэродромов взлетают самолеты. Туман, туман над морем. Молчит море.
Над безбрежными океанскими просторами летят поисковые гидросамолеты. Туман, туман. Ракеты, сигнальные ракеты.
Вертолеты ощупывают, облетают каждую прибрежную скалу. Ищут локаторы, работают радары. Все меньше становится на карте район поисков.
Опять меняют курс корабли. Ищут военные, идут рыбаки. Крик несется над просторами океана...”
Это нетрудно написать: “Все меньше становится на карте район поисков”, а как передать это в кино? Ведь надо же, чтобы это была не просто информация “происходит то-то и то-то”, надо было захватить зрителя ощущением поиска, напряженностью ожидания.
И в момент полной безвыходности родилась спасительная идея: построить эпизод на фотографиях, к которым я прибегал уже не в первый раз (в “Дяде Ване” они были, в “Асином счастье”). Я понял, что статичные снимки можно смонтировать в нервном ритме поиска, и пришло ощущение великого освобождения, возникающее всякий раз, когда чувствуешь, что избежал ненужной работы.
Иногда бывает: пишешь какой-то эпизод в сценарии или снимаешь какую-то сцену, но не идет, не получается. Непонятно, как быть. И вдруг думаешь: “А может, все это и не нужно?” Смотришь — действительно не нужно.
В “Романсе” мы дважды снимали сцену возвращения Сергея домой. Он входил, говорил: “Мама, я вернулся! Я дома, дома...” Мать говорила: “Дети! Откройте двери, столы раздвиньте — пусть все приходят...” Не получалось. Выходило надуманно, холодно. “А может быть, сцена не нужна? — подумал я. — Ведь она по содержанию дублирует следующую — в доме Тани”. И не стал переснимать в третий раз. Отказался от сцены вовсе. Не знаю, быть может, если бы она удалась, то была бы нужной в фильме. Но сейчас я не ощущаю ее отсутствия.
Момент условности
До “Романса о влюбленных” я снимал картины, где основным был момент безусловности, правдоподобия, реализма в обыденном значении слова. Все строилось на понятных зрителю жизненных законах. К условности я относился весьма нетерпимо. Не любил Брехта, мне казалось, что он холоден. Сейчас я понимаю, что не любил не Брехта, а то, как его ставили.
Думаю, что в искусстве для меня всегда будет оставаться главным единственный критерий: волнует или не волнует. Волнует — значит, попадание. Значит, это искусство. Ведь искусство всегда сначала действует на чувство, на подкорку, а потом уже на сознание. Форма же брехтовских спектаклей апеллирует непосредственно к сознанию. Происходит своеобразное смещение: содержание оттесняется, подменяется формой. То же могу сказать и о пьесах Пиранделло. И он и Брехт казались мне чересчур рациональными в своих поисках театральной формы. Думаю, я ошибался. Эти художники сознательно идут самым трудным путем, не боятся обнажать себя, показывать самые уязвимые свои стороны. Они открыто говорят зрителю, что он видит не “правду”, а специально рассказываемую для него историю.
Обо всем этом приходится говорить так подробно, потому что с самого начала работы над фильмом перед нами стала проблема условности, предопределенная самой формой сценария. Правда, там еще не было условности столь определенной и открытой, какая оказалась потом в фильме. Но был белый стих, которым разговаривали герои, была некоторая условность отношения к драматургическому материалу, выражавшаяся в опущениях психологически важных моментов развития. Манера изложения несла в себе отпечаток детских дадаизмов, в ней было что-то напоминающее обороты из старых сказок: “А потом она вышла замуж за другого и жила с ним долго и счастливо”. И еще был Трубач, персонаж, не укладывавшийся ни в какие рамки жизнеподобного кино, впрямую обращавшийся к зрителям с программно важными авторскими словами.
Современный кинематограф к подчеркнутой условности обращается нередко. Можно припомнить множество мюзиклов, где с экрана звучит не прозаическая речь, а пение. Или такой фильм, как “Шербурские зонтики”. По теме он очень близок нашему, а конечная задача — совершенно иная. Там в основе всего — эстетизация. Зрителю предлагается наслаждаться искусством, а не сопереживать героям.
Нам же хотелось, чтобы зритель тоже знал, что перед ним не кусок действительной жизни, а специально для него разыгрываемое “действо”, но при этом сопереживал бы героям, страдал, плакал. Нам хотелось сделать нашу “неправду” такой, чтобы она волновала. Эти задачи были для меня новыми. Прежние мои картины построены на психологической, реалистической игре актеров с подробным прослеживанием развития отношений. Здесь же надо было шагнуть в область неведомого, быть может, даже запретного для меня как режиссера. Испытать, получится ли у меня это. Искать.
Сложность была в том, что для такой картины нужен был режиссер не моего склада. Я люблю из кадра в кадр постепенно, длительно прослеживать развитие отношений. Здесь же нужен был художник типа Ильенко или Урусевского, тяготеющий к языку поэтическому, к кадрам-метафорам, к нагромождению пластической образности. В сценарии было множество мест, требовавших достижения эмоциональности в пределах одного-единственного кадра. Когда на экране идет длинная, подробная сцена, актеру не столь уж трудно прийти к накалу чувства. Но если вся сцена укладывается в один-два кадра, то снимать ее так же трудно, как экранизировать Библию. В Евангелии масса фраз типа: “И он шел и все смотрели на него”. Кто смотрел? Как смотрел? Какие чувства выражало каждое из этого множества лиц? Можно ли все их вместить в один кадр так же легко, как в одну фразу? Пазолини, сняв “Евангелие от Матфея”, справился с задачей потрясающей сложности — достиг глубины и эмоциональной заразительности при аскетичном лаконизме языка. Ему достаточно всего трех кадров — лица девы Марии, смущенного Иосифа и голубя, чтобы рассказать всю предысторию рождения Христа. За внешней простотой формы — предельная ее насыщенность. Сценарий “Романса о влюбленных” выдвигал задачи подобной же сложности. В общем, на формирование картины в ее окончательном облике коренным образом повлияли два главных момента: первый — Трубач, персонаж-интермедиатор, связующий реальный мир людей, сидящих в зале, с вымышленным миром экрана; второй — музыка.
По первоначальному сценарию музыки в картине должно было быть совсем немного. Была песня Булата Окуджавы “Неистов и упрям — гори, огонь, гори...”, которую Трубач пел на свадьбе Тани и Хоккеиста, была прощальная песня, которую герой пел, уходя в армию. Еще была в конце колыбельная. Все песни естественно входили в действие, так же как, скажем, в финале “Белорусского вокзала” совершенно органично возникла песня о войне. Мне еще в начале работы над картиной думалось, что такой путь не единственно возможный, хотя я еще не мог представить, как все повернется дальше.
Перед самым нашим отъездом в экспедицию на Оку в отчаянии и панике было сочинено три песни, одной из которых была “Песнь о любви” (“Только я и ты, да только я и ты...”). Найдет ли она себе место в фильме, я еще не мог знать. Хотел положить ее как закадровый музыкальный фон на сцену любви. Потом пришла мысль: “А что, если герой возьмет в руки гитару и сам споет эту песню?” Она была вполне органичной здесь: влюбленные только что купались в реке, играли, дурачились — песня была естественным выражением их чувства. Впрочем, песня строилась так, что ее звучание обретало и более широкий смысл: начинал петь герой, а продолжал и оканчивал за него уже автор.
В том месте реки, куда мы приехали снимать, стояла большая старая баржа. И как-то сама собой возникла мысль сделать из этой железяки некий странный ковчег, приют влюбленных. Мы загнали на палубу коз, втащили мотоцикл, развесили на веревках одежду для сушки — пространство ожило.
Я увидел, что здесь можно сыграть продолжение (отсутствовавшее в сценарии) любовной сцены, которую мы еще не сняли. Палуба была такой просторно-свободной, что словно сама требовала, чтобы на ней танцевали.
Лена Коренева не могла предвидеть, что в нашем фильме ей придется танцевать. Да я и сам этого не знал. Но, увидев, как она пластична, я понял, что танец не составит для нее проблемы.
У меня на фильме работала очень способная девушка-балетмейстер Светлана Люшина, студентка театрального училища, очаровательное существо с удивительным чувством пластики и полным отсутствием профессиональных штампов — им неоткуда было взяться, она только училась. Я ее пригласил, еще совершенно не зная, какая от нее понадобится помощь. “Что-нибудь придумаем, — сказал — работа тебе найдется”. И когда возникла мысль поставить танец на барже, Люшина тут же показала, послушав музыку, какие здесь должны быть движения. Причем она сразу очень точно почувствовала, что здесь должен быть не мюзикл, не серьезное выражение счастья в танце, а игра, ироническое передразнивание мюзикла, чуть-чуть гримасничанье.
Кореневой повторить этот танец сразу не удалось. Не получается? Ничего. Есть время, пусть учится. И пять дней Коренева училась танцевать. И потом сыграла всю сцену легко, с юмором, не скрывая, что это игра, сохраняя нужную меру неверия в нее.
Когда мы посмотрели эти кадры на экране, стало ясно, что какие-то черточки мира сразу удалось схватить. Это был материал из нашей картины, хоть в сценарии ничего похожего и не было. Были какие-то цветы, нелепые козы, игра, ужимки — чувство полной безмятежности и безответственности.
Мы нарочно усиливали в фильме элемент игры, которая нужна была и для того, чтобы хоть отчасти заслонить котурны написанного белым стихом текста. Влюбленные играют в игру: она — Заяц, он — Серый волк (самые популярные персонажи современного кино, нынешние народные герои). Эта игра была тем актерским приспособлением, которое помогало обрести нужную меру отчуждения от роли.
Все большее и большее место отвоевывала себе в фильме музыка. Она вторгалась в действие подчас совершенно непроизвольно, неожиданно для нас самих. Скажем, в сценарии не было цыганской песни “Загу... загу... загулял, загулял мальчонка, да парень молодой, молодой...”. Предполагалось, что Сергей, выйдя от Тани, будет играть на гитаре ту же песню, которую пел, уходя в армию. С этой песней мы и сняли сцену. Снимали ее в конце августа. Был холод, лили дожди. Киндинов пришел на съемку с распухшей губищей — подхватил какую-то лихорадку. Играть в полную силу не мог. Да и меня не покидало ощущение фальши. Почему? Я еще не мог понять почему.
Мы точно следовали сценарию. А там сцена написана в стиле, прямо скажем, евангелическом.
“Он вышел на улицу.
Два брата ждали его. И другие люди, которые знали и любили его.
Он прошел мимо них, мимо хоккеистов, мимо братьев и никого не заметил.
Он шел и ничего не видел. Он просто шел, не зная и не помня, куда он идет.
А люди, которые шли за ним, ждали его.
И его брат, тот, что был постарше, заглянул ему в лицо, чтобы напомнить о себе, но он — не увидел его. И брат сказал ему:
— Брат, нас ждут”.
Точно так все и было снято. Получилось претенциозно, лживо. Надо было искать какой-то выход. И он нашелся, когда я случайно услышал спасительную, известную всем цыганскую песню: “Загу... загу... загулял, загулял...” Мне вдруг все стало ясно: он не должен обнажать своих переживаний. Что он будет выносить на люди свою боль! Он должен выйти рубахой-парнем: “Ничего не случилось! Все в полном порядке! Сейчас я вам спою, сейчас я вам сыграю! Подумаешь, разлюбила — велика беда...”
Всю трагедию должно сыграть окружение. Василь Васильевич. Брат. Мать. Женщина, сестра фотографа, которая идет рядом, подпевая ему. Они всё видят, всё понимают, но у них достаточно душевной чуткости, чтобы еще раз не напоминать парню о перенесенной травме. Они тоже изо всех сил делают вид, что все прекрасно. И тогда мы уже понимаем, что для Сергея все рухнуло.
Слова песни, набравшись нахальства, я написал сам, первое четверостишие осталось таким же, как в оригинале, а два других родились той же ночью:
Ты боли, боли, боли голова, Лишь была, была, была бы цела! Нам разлука да не страшна, Коли встреча да суждена. Ох, товарищи, держите вы меня. Я от радости займусь, как от огня, Не осиной в сыром бору, А соломою на ветру.
Люшина поставила для этой сцены танец — даже не танец, а приплясывание с гитарой. И всю сцену мы пересняли за день (уже в конце октября). На мой взгляд, получилось достаточно убедительно.
Постепенно по ходу съемок шло нагнетание условной стилистики. Вначале каждая песня была конкретно оправдана — герой взял гитару и запел. Потом кто-то запел и без всякого житейского оправдания. Потом запел хор. А дальше вообще уже началась рок-опера. Еще раньше в кадре вдруг появился диг, чуть приоткрывая, что мы показываем не “жизнь”, а “поставленную жизнь”. А дальше мы все более нахально светили дигами в кадр, открыто нарушая все законы правдоподобия. Потом даже показали самих себя у съемочной камеры. Стилистика входила в фильм как бы подкожно, органично вызревая, развиваясь в нем.
Когда я впервые попробовал ввести в кадр диг, то сам еще не знал, к чему это приведет. Страшно было. На просмотре материала аж взмок от волнения: что это? Брак, что ли? Оператор недосмотрел? Может, лучше вырезать все это к черту? Но постепенно обреталась уверенность, что найденный путь — верный. Что и дальше надо идти по нему. Я вдруг почувствовал, что передо мной не стена, а пространство. В него сначала протиснулась рука, потом голова и плечо, потом оказалось, что можно войти целиком.
По выходе фильма я не раз объяснял интервьюерам, что все эти диги в кадре нужны для того, чтобы по-брехтовски обнажить прием, показать, что на экране некое разыгрываемое “действо”. Интервьюеры понимающе кивали головами и уходили полностью удовлетворенные. Пожалуй, сейчас уже необходимо сделать одно существенное добавление.
Я стал искать на этом пути, потому что почувствовал необходимость принизить действие, напомнить, что показываемое — “ложь”. Сознательно шел на это.
Способность художника возвыситься над своим материалом, оторваться от него, взглянуть со стороны кажется мне наиболее важной в режиссуре. Найти ту дистанцию, без которой, по-моему, невозможно никакое большое искусство.
Возьмем, хотя бы, фильмы Иоселиани, братьев Шенгелая. Эти художники прекрасно чувствуют меру отрыва от своих героев, взгляда на них с чуть иронической высоты. Таково же и искусство Панфилова. В отношении этих художников к своему рассказу есть гоголевская сложность, приподнятость и отстранение, ирония и над повествованием, и над самим собой.
Когда на сцене танцевала Уланова, в зале плакали, хотя все же понимали, что это балет, чистая условность, что перед ними никакая не Джульетта, а балерина, которая каждый день машет ногой у станка, отрабатывает технику. От реальной жизни все безмерно далеко, а потрясает, ибо воспринимается как явление искусства.
Того же хотелось добиться и мне: оторваться от реальности, от амебного жизнеподобного повествования, соединить условность фильма с безусловностью зрительского отклика, волнения, сопереживания. Знаю, что получилось у меня не все и не везде, но тем не менее, по-моему, все же получилось.
Когда в финале цветной части, в сцене смерти Сергея, мои герои запели, я увидел, что это волнует, что границы условности позволяют и столь откровенное смещение реальности. Возможно, я даже несколько перехлестнул здесь за грань необходимого — но меня уже занесло. Сами обстоятельства — то, что сцену, задумывавшуюся как летнюю, приходилось снимать зимой, — требовали особой формы для этой кульминационной сцены.
Торт на третье
Позволю себе сравнение из гастрономической области. Вы уже в начале обеда прослышали, что на третье будет какой-то необычайно вкусный пирог, и загодя начинаете прикидывать, как бы оставить для него местечко: вот это блюдо мы только чуток попробуем, это побыстрее от себя отодвинем, а вот уж когда дело дойдет до третьего, там-то впихнем в себя все. Ждешь этого пирога и из-за него не обращаешь внимания, как основательно и вкусно приготовлено многое другое.
Для меня в “Романсе” несколько сцен были тоже таким “третьим” — они мне казались гениальными. Три куска: проводы в армию, возвращение героя, смерть героя. Особенно смерть героя. Такая бездна трагического одиночества была в этой сцене! Такая обреченность! Человек остался один, раздавлен обломками собственного тела и никто не может ему помочь. И он кричит в отчаянии, срывает с себя одежду, бросает всем вызов: “Мало вам? Возьмите! Я никому не должен!.. Если я один, пусть будет так...” Он презирает всех. Никто не нужен ему, потому что потеряно главное — любовь.
Потрясение этой сценой сохранилось навсегда — сколько я ее ни перечитывал, всякий раз не мог сдержать слез. Поразительно! Человек умирает от любви. Не было еще такого. И многое другое из-за этого ушло от внимания. Я спешил. Думал: ну, ладно, это как-нибудь поскорее снимем, зато уж когда дойдем до той сцены!..
В этом сказался недостаток моего режиссерского профессионализма. Естественно, не все куски в любом сценарии в равной степени важны — на одних надо концентрировать внимание, другие можно пробегать. Я думал больше всего о кусках кульминационных, которые ясно для себя видел, которые не могли не получиться. А думать, видимо, надо было прежде всего о кусках поисковых, для меня самого неясных. И тут кое-что осталось недоработанным, хотя работали мы много.
Кадры, в которых Сергей тащит Альбатроса по снежной пустыне, сняты совсем невыразительно — прямо по хрестоматии. Сначала пытались сделать все с пиротехническими сложностями, повесить над белой равниной полярное сияние. Пробовали, пробовали — не получилось. Не получается — бог с ним. Снимем, как получается.
Я рвался к финальной сцене. А дошел до нее уже без сил, не рассчитал дыхания на длинной дистанции, выложился до самого главного рывка. Уже зима началась, актеры устали, я устал — язва замучила. И сцена не получилась на том высочайшем накале, которого она требовала.
Сначала, как уже говорилось, я собирался снимать смерть героя в метро, на станции ВДНХ. Когда в метро снимать не разрешили, родилась мысль снять ее на железнодорожной платформе, под проливным дождем, очищающим летним ливнем, при огромном стечении народа, с проносящимися мимо поездами. Мне виделась мокрая толпа, зонты, склоненные фигуры над умирающим человеком, прилипшая к телу рубаха на герое, сквозь полураспахнутый вырез — кусок обнаженного тела, накал чувственности. Хотелось, чтобы во всем была библейская простота и яростность, дыхание трагедии, чтобы пахло эпосом. Ведь здесь точка высшего накала, кульминация сценария и фильма.
А пришлось снимать платформу зимой. Зимой актерские сцены на улице снимать трудно. Тем более любовные. Актер играет хуже — ему зябко. Пар изо рта. Страсть стынет. Когда дело касается кусков натуралистического, жизнеподобного плана, мороз не помеха, он даже помогает — мешает актеру врать. А у нас игра должна была быть открыто антинатуралистической, условной.
Даже когда сцена перекочевала из метро на железную дорогу, с летней натуры — на зимнюю, я все же хотел сохранить здесь обилие острохарактерных лиц, внезапно возникающих человеческих типов. Но пришлось отказаться и от этого. Оказалось, что станция, на которой мы получили возможность вести свои съемки, являет собой столь унылое, безрадостное зрелище, что единственное спасение — снимать ночью, увести все в темноту, скрыть печальное убожество экстерьера. К тому же зимой день короткий, ничего снять не успеешь — уж лучше начинать, когда стемнеет. Из-за всего этого мы расставили повсюду — на платформе, на мостике, на лестницах — диги. Они принесли с собой некоторую праздничность, но одновременно и холодность — возникла форма цирка, условность.
Финальный отъезд от платформы возник случайно. Мы кончили снимать объект, была какая-то грусть во всем окрестном пространстве, да и нам самим было печально расставаться с этим прекрасно-условным миром, с героем, способным умирать от любви. И от этого родилась мысль снять прощание — уехать с камерой вдаль от этой платформы, где праздничная жизнь и праздничная смерть, сделать этот праздник угасающим островком среди бездны тьмы. Так мы и сняли — сняли тут же, мгновенно. Снять нетрудно, трудно придумать, как снять.
Издержки риска
В сценарии были куски, написанные откровенно* плакатно. “Смерть за Родину — это жизнь!” — говорит мать. “Служу Советскому Союзу!” — говорит герой. И для Григорьева в таких словах нет ни выспренности, ни ходульности. В нем самом живет та искренность веры, какой жили наши двадцатые годы, когда дух времени требовал лозунговой ясности и прямоты обращения художника к массе.
Сегодняшний же наш зритель к плакату относится иначе. Он пробегает мимо него, не задерживая взгляда. Плакат часто не волнует, не вызывает эмоционального отклика. Да и вообще у плаката и у искусства разные пути воздействия: плакат обращается к рацио, искусство — к чувству.
Все это, конечно, можно было предвидеть, но мы с Григорьевым хотели как бы бросить вызов зрителю: “Сейчас вы увидите плакат, но и он заставит вас плакать”. Мы шли на риск, и, пожалуй, из всех плакатных кусков он оправдался лишь в одном — в эпизоде пролета матери в самолете над страной.
В сценарии было написано:
“Самолет летит над страной. Урал показался, кузница. Европа пошла на убыль. Азия началась.
Мать глядела на свою страну, смотрела внимательно, смотрела строго и нежно. Смотрела, как хозяйка, как мать большой погрустневшей страны”.
Это читать приятно — попробуйте снять: “Европа пошла на убыль!” Попробуйте насытить экран теми же ощущениями!
Мы долго возились с этой сценой. Снимали в самолете так и эдак, пробовали всякое. А потом Киндинов принес свои фотографии — себя в детстве, отца, мать, тетку. Кстати, и в квартире Сергея у нас висят фотографии самого Киндинова маленького, с отцом, его дяди — военного, поэтому вся его родня смотрит картину всегда затаив дыхание и обливаясь слезами, а с матерью вообще чуть сердечные приступы не случаются. Уж она-то Солодовой сопереживает до конца.
И вот когда пришла эта идея фотографий, сцена сразу ожила, обрела эмоциональность. Не было бы их, вряд ли кого бы затронул такой, скажем, монтажный ряд: мать смотрит в окно — земля, мать снова смотрит в окно — снова земля. А здесь эта лозунговая эпичность входит в сознание через личное чувство матери, рассказывающей какому-то случайному попутчику о своих детях.
Я попросил Солодову придумать себе монолог — мне не важно было, какие будут у нее слова, я знал, что положу на эти кадры песню. Солодова придумала себе текст, и всю сцену мы сняли за десять минут — хватило одного дубля. У всех в тот день было праздничное настроение: чувствовали, что найдено верное решение. А когда оно есть, остальное идет легко.
И в ряде других мест фильма мне хотелось сохранить тот открытый, лозунговый пафос, который был присущ сценарию Григорьева. Поэтому я вставил в картину плакат “К коммунизму идем!” и огромный краснофлотский флаг во весь строй морской пехоты. К сожалению, для этих кусков фильма, так же как и для слов матери: “Смерть за Родину — это жизнь”, мне не удалось найти достаточно эмоциональную форму — в них чувствуется элемент холодности. Некоторым зрителям это вообще помешало воспринимать все дальнейшее. Если бы я сумел каждый лозунг “отработать” на личное чувство, насытить его эмоцией, так же как сцену пролета матери на самолете, можно наверное было бы пробить отчужденность зрителя. Но, увы, не всегда удается найти то, что ищется, даже если ищется мучительно и напряженно.
В фильме, на мой взгляд, не получились две сцены, которые могли бы избавить нас от многих зрительских и критических претензий. Не получилось перерождение Тани и возвращение Сергея.
Мне не удалось внушить зрителю чувство, что он умирает вместе с героиней. Если бы это получилось, он бы глядел на Таню уже глазами ее матери, думал: “Боже, как она несчастна”, он сам бы хотел, чтобы она вышла замуж. И сценарий написан именно с таким расчетом. Но сцена, необходимая для именно такой зрительской реакции, не была написана достаточно подробно — зритель не успевал поверить в перерождение Тани. Поэтому мы усилили, драматизировали ту сцену, в которой мать, втолковывая Тане житейские прописи, заставляла ее бить тесто. Здесь уже начало вырисовываться какое-то пробуждение Тани от сомнамбулизма горя, но для эмоционального выхлеста этого оказалось мало. Мы придумали сцену с Игорем на катке — к сожалению, она у нас не получилась. И фигура Игоря из-за этого оказалась недостаточно прописанной.
Не выстрелила до конца и сцена возвращения Сергея. Снимали ее мы трижды, а верный ход никак не находился.
Мы долго думали над тем, как же должна вести себя в этой сцене Таня. Начали с того, что все идет точно по сценарию: слезы, потрясение, она роняет цветы, принесенные Сергеем, мать, рыдая, убегает из комнаты. Он тоже потрясен, шатается от горя. В итоге получилась слезливая, истеричная сцена. Пересняли ее еще раз. Кое-что уже нашлось — линия поведения матери Тани, например. Но остальное пока не удавалось.
Особенно важна эта сцена для зрителя. Он ждет, как же поведет себя герой, куда повернется сюжет дальше. А герой ведет себя так, будто он слеп. Что он — не знает, что у Тани есть муж? Ведь мать же ему сказала: “Туда... ты не ходи... Там гнездо чужое... голубка с голубем... Тебе там делать нечего, мой сын...” А он после всего этого входит к Тане, целует ее, вручает цветы и говорит: “Здравствуй... Ты меня ждала, и я вернулся...” И только когда она произносит: “Я уже другая. Той — нет...” — до него что-то начинает доходить.
У нас вылетела предшествующая сцена со словами матери: “Не ходи туда”, но все равно — как объяснить поведение Сергея, его слепоту? Конечно, и это объяснимо — и мерой его влюбленности, и мерой отстраненности и мерой неверия. Но и тут проблем масса: сознательно ли он не верит или просто сейчас он глух и слеп? Он не может поверить или он не хочет поверить? От того, какой мы примем ответ, зависит и игра актеров. Причем именно актеры и задают все эти вопросы, а что делать режиссеру, кому их задавать? Автору? Но зачем тогда брался за фильм, если до сих пор не можешь понять, как его снимать? Поэтому делаешь вид, что знаешь. С умным видом врешь актеру, объясняешь мотивы поступков героя. А сам пробуешь — так и эдак, тычешься во все стороны, до тех пор пока вдруг не выбредешь на нужное направление. Пока не откроется какой-то момент истины. Вот в какую сторону мы решили в итоге гнуть палку.
Таня потрясена. И потому пытается скрыть свое потрясение. Она говорит с легкостью о самом страшном только для того, чтобы самой не опрокинуться, не забиться в конвульсиях, не закричать, не умереть.
Потом ей все это отольется слезами, а пока она делает веселый вид, говорит беззаботно — и ей это удается. В стремлении к легкости мы упустили что-то важное.
Потому многие зрители возмутились; разве это была любовь, если она так легко от него отказалась и так легко встречает его воскресшего? Конечно, если бы мы сыграли мелодраму, залили бы экран слезой, подпустили воплей отчаяния и раскаяния, тот самый зритель получил бы именно то, чего желал. Он был бы удовлетворен свершившимся возмездием судьбы. Но мне-то как раз и казалось, что такой вариант будет самым легкомысленным и плоским. И сейчас думаю, что путь был выбран верный.
Но, видимо, мы “перелегчили”. В этой сдержанности таились возможности гораздо большего драматизма. Немногие зрители разделили со мной мое восприятие этой сцены. Видимо, надо было прорезать безмятежность и легкость Тани вспышками прорывающегося отчаяния. Во всяком случае, эта сцена давала гораздо больше возможностей, для открытий, чем мы сумели использовать. Мы не дожали ее до той высоты, которой она требовала.
Пробуждение на бетонном полу
В Финляндии я занимался со студентами режиссурой.
Однажды я предложил им такое задание: “Придумайте кадр, выражающий ваше представление о счастье”. Они долго думали, молчали, быть может, стеснялись высказываться. Наконец одна девушка говорит: “Я представляю себе такой кадр: лес, весна, я иду навстречу любимому”. А другой парнишка предложил: “А я бы снял кошку на печке. Я помню, в детстве вошел в избу, а там на печи кошка”.
В обоих случаях обычная ученическая ошибка — попытка выразить человеческое чувство вне человека. Чтобы передать счастье ожидания любимого, надо связать переживаемое чувство с ним, он не может просто подразумеваться, что должны иметь о нем чувственное представление. Чтобы кошка выражала счастье, мы должны видеть человека, для которого это воспоминание выражает счастье. Любое чувство может быть передано только через человека. Он — самый могучий источник чувства. Наверное, существуют и иные пути, но лично я могу идти только этим. Даже если я заблуждаюсь, это то заблуждение, которое помогает мне делать фильмы.
Мир первой части “Романса о влюбленных” был миром счастья. Миром свободы. Миром, где нет обязанностей, есть одни права. Точнее, где даже обязанности воспринимаются как права, где исполнение их уже воспринимается как наслаждение, доставляет счастье. Это был мир свободных людей.
Во второй части фильма должен был возникнуть мир, во всем противоположный первому. Там уже никаких прав — одни обязанности. Никакой поэзии — все говорят прозой. Все очень узнаваемо, привычно-знакомо: четыре стены своей квартиры, работа, родные, столовая, универмаг, метро. Но дело даже не в том, что действие переместилось в какие-то иные интерьеры — материально и они не слишком разнились от интерьеров первой части. И в них можно было бы создать для зрителя ощущение счастья. Дело в том, чьими глазами мы смотрим на этот мир. А мы воспринимаем все через восприятие человека, потерявшего любовь, жажду жить, творческий импульс. У него нет желания хоть в чем-то сделать этот мир иным. Это уже скорее не жизнь, а существование в его чистом виде, экзистенция.
После восторженного счастливого мира первой части, где зритель, поддавшись наркозу, погружается в прекрасную грезу любви, его вдруг пробуждал внезапный удар, словно посреди сна его стряхнули с перины на холодный бетонный пол.
Эта часть сценария, в общем-то, была написана добрее, чем мы представили ее в фильме, хоть в ней и были заложены убийственные по своей будничности фразы и ситуации. Но тем не менее остался оттенок прежней романтической стилистики. Герой в сценарии очень скоро приходил к любви: была Девушка, продававшая пластинки в музыкальном магазине, была взволнованная песня Мирей Матье, и в душе героя уже начиналось просветление. А когда он становился отцом и по коридору родильного дома нес свою девочку, весь мир для него начинал звенеть счастьем.
Но я понял, что если буду погружать героя в такой с оттенком романтизма мир, удара о бетонный пол не получится. А я был уверен, что он должен быть. Мне хотелось сразу огорошить зрителя ударом под дых. Отсюда вместо магазина и песен Мирей Матье появилась столовка с борщами, громом подносов и грязной посудой на столах. Появился жующий герой — а нет ничего оскорбительнее для возвышенного чувства, чем зрелище человека, запивающего киселем шестикопеечную котлету через минуту после того, как он у нас на глазах умер от любви. Мне хотелось, чтобы и у зрителя возник во рту тот же вкус алюминиевой ложки с налипшим комбижиром.
Режиссерской работе здесь предшествовала сценарная — я нарочно усугублял пропасть между первым и вторым миром. У Григорьева Люда появилась для героя внезапно — он ее увидел и остолбенел.
Но мне подумалось: неужели же человеку с умершей душой достаточно увидеть первую симпатичную девушку, чтобы снова прозреть? Гораздо точнее будет, если он решится на женитьбу без всякого чувства, следуя лишь инстинкту жизни: надо же как-то жить, продолжить род. Он оттает намного позже. И любовь придет позже. А пока во всем механистичность — сознание отключено. Девушку, которая станет его женой, он давно знает, видит ее каждый день. Видит и не замечает. Она тоже его видит каждый день, они общаются, но это общение чисто рефлекторное. Так пришла мысль сделать Люду подавальщицей в столовой.
Что говорить, ведь каждый из нас, взрослых людей, хотя бы раз в своей жизни умирал, переживал утрату большой любви, быть может, первой, быть может, уже не первой, терял веру в себя или в людей, разочаровывался в надеждах. Смерть уже побывала в нашей душе — вот почему мне и хотелось показать на экране эту столовку как царство теней, людей в ней — тенями самих себя. Здесь у героев не отношения, а не более чем иероглифы отношений: здравствуй, подай, бери, посуда там, картошки нет, рупь двадцать. Идет привычный автоматизм жизни.
Однажды он вдруг подумал: “Почему бы мне на ней не жениться? Хорошая же баба, чего там”. И в момент, когда герой говорит: “Выходи за меня замуж”, происходит прорыв автоматизма — по-моему, эта сцена у Киндинова получилась. “Я тебя люблю” звучит как пощечина — для героя, для зрителя.
Для девушки это несбыточное счастье, а для него мучительно — ощущение собственной лжи, рожденная ею ярость, стыд. Стыд этичен. Маркс говорил, что это самое революционное чувство.
Здесь герой впервые проснулся. А затем снова заснул, как замороженный человек под новокаином, на секунду пришедший в сознание. Дальнейшее — продолжение автоматизма жизни: свадьба, покупки в универмаге, переезд на новую квартиру. Все в порядке. Все нормально. Герой изо всех сил старается казаться нормальным человеком, убедить в этом себя и других. Ну, а раз человек так упорно пытается доказать свою нормальность, может быть, он на самом деле ненормален? Нам хотелось, чтобы таким ощущением проникся зритель. Ведь в самом деле, наш Сергей в последней части “Романса” — человек совершенно нормальный: хорошо работает, примерный семьянин, читает книжки, занимается спортом, заботится о родных, дружит с соседями. Все нормально! Нормально!! А он мертв.
Все фальшь. И все знают, что это фальшь. Но молчат, сочувствуют человеку, судорожно цепляющемуся за жизнь, старающемуся забыть о потерянном. Не выдерживает младший брат, он экстремист, ему по возрасту положено быть экстремистом. В сцене на кухне он, что называется, срывает бинты с незаживших рубцов, сыплет соль на раны брата. “Я люблю!” — пытается защищаться Сергей. “Не верю!” — отвечает брат. Эту сцену, наверное, надо было бы поставить острее, пронзительнее, чтобы в ней ощущалась вся болезненность насилия, производимого над обороняющейся душой.
Герой неистово пытается обрести все внешние атрибуты прочного существования — квартира, холодильник, мебель. Но никакой позитивной мысли за этим нет. Мне вообще кажется это крайне важной сегодняшней проблемой — погоня за внешней, экономической стороной бытия: машинами, квартирами, полированной мебелью, дорогой посудой, которой не пользуются, редкими книгами, которые служат лишь для украшения полок. Корни всего этого те же, что и в жизни Сергея, — нет любви, нет одухотворяющего чувства, желания украшать землю, создавать человеческие ценности. А без всего этого нет человека.
И вот когда во время разговора на кухне герой слышит, как Люда заступается за него, говорит: “Этот ребенок от любви. Матери всегда знают...”, во второй раз приходит спасительное чувство стыда, наступает еще один момент пробуждения от новокаинового сна.
Снимая эту сцену, я вдруг понял, что здесь важно даже не столько то, что произойдет сейчас с Сергеем, сколько то, что произойдет со зрителем. Важно не столько то, как Сергей сейчас относится к Люде, сколько то, как зритель к ней относится. Таню зритель мог даже и не полюбить, но Люду он полюбить обязан — без этого не будет фильма. Если же не полюбит, то как бы Сергей — Киндинов ни изображал любовь, все пропадет втуне. Зритель все равно подумает: “Ну и болван! Нашел себе чувырлу...”.
Поэтому нам надо было снять эту сцену так, чтобы зритель раскрылся навстречу Люде, растормозился от механического восприятия происходящего, в которое он втянулся вместе с Сергеем. Тогда в него можно будет понемногу закладывать новое отношение к ней, тогда он сможет ее полюбить. А если полюбит, то все поймет и простит. Всему поверит, даже если артист плохо сыграет. И сможет тогда вместе с Сергеем забыть Таню.
У Купченко, которая играла Люду, была очень непростая задача. Всего пять эпизодов, и за это время они с Сергеем должны познакомиться, пожениться, родить ребенка, он должен ее полюбить и зритель тоже должен ее полюбить.
У меня и прежде случалось так, что я начинал снимать другую актрису, а потом понимал свою ошибку и приглашал Купченко. Здесь я собирался снимать с самого начала именно ее, но вдруг перед самым началом съемок черно-белой новеллы (мы вели съемки не в последовательности сценария, но к работе над второй частью тем не менее приступили уже после того, как целиком отсняли первую) мне показалось, что ей недостает характерности, и вся группа в истерике и спешке стала искать другую актрису, что мы, конечно, от Купченко тщательно скрывали. И не зря, поскольку нужного сочетания характерности и духовной наполненности ни у одной из многих пробовавшихся актрис найти не удалось.
Так что в итоге мы снова вернулись к Купченко. Ей роль далась нелегко — это был новый для нее человеческий тип, потребовались долгие поиски характерности.
Сложность тут была и в том, что для женщины с такой судьбой требовались наивность и преданность во взгляде. Искренность. Беззащитность. А по своему опыту все мы знаем, что все эти буфетчицы, девушки из общепита очень хорошо защищены, броней закрыты. Так что все это надо было оправдать. В общем, понадобилась очень серьезная работа, хотя роль-то вроде бы совсем маленькая — считанные эпизодики.
Что касается поисков внешнего, материального мира, то здесь мы стремились к минимализму средств. Не могу сказать, что ограничивать себя в пользовании выразительными возможностями кино проще, чем прибегать ко всему их многоцветному обилию. Напротив, порой подобная скупость средств достигается с много большим трудом, чем самые замечательные “режиссерские находки”. Но в данном случае наши поиски не были особенно сложными — ведь речь шла о самом знакомом, о том, что встречается на каждом шагу. Стандартная квартира, стандартная мебель, телевизор, на экран которого мы поместили Зайца и Волка из мультфильма. То, что в первой части было игрой счастливых влюбленных, детством, мечтой, превратилось в иероглиф потребления. Все неэмоционально, нейтрально. Материя в этой части лишена смысла, хотя она и присутствует в виде шкафов, холодильников и прочих вполне осязаемых предметов. Но это просто объемы, заполняющие пространство, — у них нет лица, нет души, нет поэзии, которой обладал вещный мир первой части. Вещь, обладающая лишь сугубо функциональным назначением, не окрашенная личным отношением к ней человека, безглаза и безуха — она мертва. На этом все здесь и строилось.
Смысл всей части определялся не вещным миром, не отсутствием цвета, а человеческими отношениями, характером существования героя — тяжелым, будничным, сонным.
Это не только на экране: и в жизни человеческие отношения доминируют над миром материальным — их изменить намного сложнее, чем изменить окружающие нас вещи.
Ангел пролетел
И все же главная задача второй части — в этом прекрасная суть григорьевского сценария — не в том, чтобы разрушить мечту, а в том, чтобы и в этом невыдуманном, неидеализированном мире найти свои ценности, найти нравственную опору человеческому существованию. Зрелость отношения ко всему — к любви, к людям, к миру — тем и отличается, что человек приходит к ней выстраданным путем. На место рухнувших ценностей и надежд приходят иные, покоящиеся на жизненном опыте, пусть горьком и трудном, но своем.
В начале второй части мы показали мир без любви, мир, вроде бы неспособный дать человеку ничего, кроме материального достатка. Но затем надо было показать, что и в этом мире человек может найти свое счастье.
У Новеллы Матвеевой есть стихи: “Когда волшебно все, даже бумажный сор, даже палку-мешалку я вспоминаю до сих пор”. Если взглянуть с любовью по сторонам, то откроется вечный, непреходящий смысл в самом будничном. И нам надо проследить, как оттаивает душа человека, как к нему возвращается жизнь, как мир вокруг одухотворяется любовью, надеждой, верой.
Прекрасную, мудрую фразу Григорьев дал Люде: “Жить — большее мужество, чем умереть”. По-моему, здесь высказана очень важная мысль о том, что легче, в общем-то, идти до конца в отрицании чего-то, вплоть до гибели, чем принять выстраданную необходимость терпеливо преодолевать трудности, соразмерять себя с окружающим миром, с обществом, делать для живых то, что в твоих силах, и стараться менять к лучшему то, что можно изменить. Понимание всего этого и есть выстраданный результат зрелости, которая приходит на смену категоричности и нетерпению юности. С этой вот точки зрения и хотелось проследить, как постепенно, медленно вырастает в человеке приятие мира, помогающее найти силу жить.
Первый росток в душе героя пробивается — пробивается мучительно, болезненно, — когда он приходит в родильный дом. Сама простая мысль, что родился ребенок, его дочь, вызывает почти потрясение. Он со страхом чувствует, что становится опять человеком. И вот здесь я собирался снова вернуть в картину цвет. Герой должен был посмотреть вокруг себя и снова все увидеть цветным. Но как мы ни думали, убедительное решение не находилось. Чувствовалась во всем какая-то неестественность, насильственность, дурная претензия. И я понял, что цвет еще рано вводить, он должен возникнуть позже — возникнуть незаметно, а не резким ударом.
И вообще мне стало ясно, что не на том, возникнет или не возникнет цвет, надо концентрировать внимание, а на эволюции чувства — не только любви, на обретении человеком способности снова наполнять чувством мир.
Кульминацией этого развития стала сцена у кроватки. Люди не говорят ни слова, но между ними идет все время внутренний диалог. Люда, мать Сергея, брат Сергея, соседка — они все понимают, что все хорошо, что произошло то, чего так хотели, так ждали, так боялись. Но как хрупко все это! И то же ощущение, то же осознание приходит и к Сергею. Так мы и сняли эту сцену — намеренно бесцветно. Все внимание на душах человеческих.
Бывают такие паузы, наполненные неуловимостью и трепетностью ощущений, о которых в старину говорили: “Ангел пролетел”—люди растворялись в вечности и друг в друге.
Я записал себе в тетради: “Весь фильм — это ожидание чего-то. Это пристальное внимание друг к другу. Из глаз — в глаза. Переглядывание, словно узнают друг друга, словно видят друг друга в первый раз. А вернее — как в последний раз”.
Конечно, мне вовсе не нужно было, чтобы зритель именно так буквально и прочитал с экрана: “Они видят друг друга в последний раз”. Мне достаточно было, чтобы он ощутил минуту просветления.
Потому так значительны стали паузы. Дождь за окном. Мать смотрит на всех, словно она чувствует, что скоро умрет, и оттого особой ценностью наполняется все, что есть вокруг. И из всего этого рождалось ощущение проникающего света. Я бы даже сказал — символическое ощущение.
Блок сказал: “Символ так многолик и многозначащ и всегда темен в последней глубине”. Символ не должен быть ясным до конца. В нем должна быть невысказанность, невыразимость, недоступность даже. Этим и завораживает великое искусство.
Я записал в дневнике, что в картине должно быть слово “вечно”. Я хотел, чтобы конец картины был размытым, просторным для дыхания, рождающим ощущение незавершенности. Собственно, примерно ту же ритмическую формулу я использовал и прежде — в “Дворянском гнезде”, в “Дяде Ване”. И здесь в финале вместо точки — многоточие. Приглашение к раздумью...
Сотворение мира. Монтаж
Силовые поля.
Строительство архитектурного здания фильма не обязательно начинается от начала, от фундамента. Оно идет отдельными частями, блоками, они подгоняются друг к другу, подгонка выявляет какие-то непредвиденные силовые линии воздействия частей друг на друга — они не просто механически складываются, но взаимовлияют, меняют распределение акцентов в каждой из частей, их эмоциональную насыщенность, смысл, способность воздействовать на зрителя.
Всего этого невозможно предусмотреть заранее, расписать на бумаге. К этому приходится идти путем эмпирическим, бесконечное число раз просматривая материал, черновые варианты монтажа, стыки соседних эпизодов. Без просмотров, постоянной проверки на самом себе невозможно обойтись, но это же притупляет остроту восприятия, режиссер перестает видеть свою же картину; по существу, он снова оказывается способным воспринимать ее, когда она уже озвучена и сложена. И тогда-то вот выясняется, что казавшееся напряженным провисает, что эпизодик, считавшийся проходным, вдруг обрел новизну дыхания, а другой, в “гениальности” которого не было сомнений, потерял силу и остроту. Человек не ясновидец: невозможно заранее предсказать всю полноту значения, какую обретает кадр или эпизод в организме целого.
Скажем, сцена возвращения Сергея, его выход во двор после разговора с Таней, сама по себе воздействовала удивительно эмоционально. Люди плакали, глядя на экран. Плакали члены нашей группы, хотя уж они-то наверняка знали, что все это игра и вымысел. А когда тот же кусок стал в фильм, сила его воздействия угасла. У некоторых он даже стал вызывать чувство неловкости: зачем это младший брат вдруг запел “Ты вернулся к нам!”, зачем этот хор, подхвативший его слова? И я сам утратил то волнение, с которым смотрел эпизод в материале. А прежде казалось: “Вот оно! Получилось!”
Лично у меня постоянно случается так, что, отобрав лучший из дублей, я сам же его меняю на другой после того, как эпизод смонтирован. Выясняется, что прежний “лучший дубль” был совсем не лучшим. Существует какое-то пересекающееся воздействие силовых полей, заставляющее по-новому воспринимать и оценивать те же самые кадры.
Можно привести не один пример, когда материал картины обещал нечто потрясающее, шедевр. А потом смонтировали, и все изумленно развели руками: “Как же так? Куда же все делось?” Фильм получился ничем не выдающимся.
Не сомневаюсь, что вполне возможен и обратный случай: материал так себе, где-то что-то интересное проскальзывает, но в общем-то все неясно, смотрится с трудом и что-либо определенное о будущей картине сказать совершенно невозможно. А получается шедевр. Мне кажется, что именно такое ощущение должен оставлять материал картин Бергмана. Скажем, если размонтировать на материал его “Персону” (исключив из него одну лишь сцену, где две героини хлещут друг друга по щекам), то именно такое впечатление и остается. Потому что нет в материале внешнего напряжения — ни скачек, ни драк, ни погонь, есть напряжение внутреннее, разлитое в материале, растворенное, такое же неуловимое, как гравитационные волны — одна из самых значительных сил, существующих во вселенной, пока не поддающихся фиксации никакими умнейшими приборами, какие только есть в распоряжении всесильной сегодняшней науки. Но когда эти рассеянные по кадрикам токи вливаются в единое русло, из них рождается мощнейшая волна, средоточие духовной страсти художника. Это как хаос цветных осколков, вдруг собирающийся зеркалами калейдоскопа в прекрасный узор, как угольная пыль, из атомов которой может сложиться прочнейшая на свете, играющая красотой граней решетка алмазного кристалла. А может и не сложиться — так и останется пыль, пачкающая кашица.
Высшее из искусств
Самым великим из искусств, когда-либо создававшихся человеком, я всегда считал и буду считать музыку. Она способна потрясать и исторгать слезы, она единственная способна передавать чувство непосредственно, напрямую связывать сердце художника и сердце слушателя. И какое богатство ощущений!
Какие колоссальные потенции в музыкальной форме! Какое разнообразие возможностей для композитора-автора!
Слушая музыку я часто обнаруживаю параллели с кинематографической формой. Музыка наталкивает на поиск решения, будущие фильмы порой начинают обретать свой облик именно в музыкальных контурах.
Я часто задумывался о способности музыкального произведения начинаться прямо с кульминации. Первый концерт Чайковского, например. Вступительный аккорд — уже обвал чувства. Вы порабощены, вы плачете, а ведь это только самое начало. Способно ли какое другое искусство с той же силой, так стремительно исторгать чувство?
В кино нужен процесс, нужно долго-долго рассказывать историю, знакомить с обстоятельствами, заражать эмоциональным соучастием. Конечно, чисто сюжетными моментами нетрудно огорошить зрителя с первых же кадров фильма: показать, допустим, летящую в пропасть машину, тело, прошитое автоматной очередью, горящий дом. Но ошеломить — еще не значит исторгнуть чувство.
Я еще в студенческих тетрадочках набрасывал себе заметки о том, как бы начать фильм прямо с кульминации чувства, с рахманиновских аккордов. Хотелось попробовать такую форму строения, но сценарии, по которым я снимал, не давали для того повода. А когда читал “Романс о влюбленных” Григорьева, сразу же пришла в голову мысль: “Ведь тут же сразу обвал чувства. Не информации, а именно чувства”. И захотелось рискнуть. Еще до титров подчинить зрителя внезапному: “Как я люблю тебя!” Это было чрезвычайно сложно. Нужно, чтобы зритель сразу подпал под обаяние происходящего, поверил героям, их любви, хотя ничто его сюжетно к этой сцене не подводило. Это самые первые слова, которые звучат с экрана: “Как я люблю тебя!”
Причем надо учесть еще и реальную обстановку кинозала в начале просмотра: хоть свет и погас, но еще проталкиваются к своим местам опоздавшие на журнал, снимают шарфы и шапки, зритель рассаживается поудобнее, пристраивается поближе к соседке, шелестит конфетными бумажками. И так первые две-три минуты любого фильма. Значит, мне надо было заставить зрителя перестать жевать, создать то напряжение ожидания, которое бы втянуло его эмоционально, подготовило бы почву для слов: “Как я люблю тебя!”
Но это уже те вещи, которые создаются не наполненностью актерской игры, а режиссерским расчетом — ведь есть объективные законы зрительского восприятия, которые можно заранее учесть. Что и было сделано. На экране кадры грозы, одно лицо, другое лицо, шелест капель, падающих с листьев, и в зале уже тишина, зритель захвачен — он ждет. Он понимает, что сейчас произойдет что-то чрезвычайно важное. И можно уже обрушивать на него аккорды любви. Если бы этот аккорд не прозвучал в полную силу, то не было бы кульминации, был бы просто пролог, введение, вступительная информация к дальнейшим событиям. А это бы нарушило архитектонику всего фильма, строившуюся по музыкальным принципам: кульминация, спад, затем новое нарастание и новая кульминация.
А вообще считаю, что из всех искусств самое близкое к кино — музыка. Законы драматургии и законы музыкального развития — по сути едины. И там и тут есть завязка и развязка, развитие тем (перипетии), главная и побочные темы (главный и побочные сюжеты), противосложение тем — контрапункт и т. п. Порой чуть отличаются термины, но смысл у них тот же самый.
Далее: и кино и музыка — искусства, обладающие строго выверенной временной конструкцией. В театре расчет времени тоже, конечно, важен, но там к нему все же не предъявляются столь жесткие требования. Архитектоника спектакля не так зависима от хронометра — быть может, потому, что у экрана большая информативная насыщенность, чем у зеркала сцены, а потому любая затяжка во времени более утомительна и более ощутима. Монтажная структура фильма так же зависима от ритма и темпа, как и музыкальная. Излишне медленное исполнение способно убить музыкальное произведение. То же и в кино, хотя драматургия экрана в этом плане более свободно позволяет варьировать — растягивать или нагнетать свое течение во времени.
Длина кадра зависит от его содержания. Локальный кадр может быть весьма коротким, кадр, насыщенный информацией, требует достаточной длительности, чтобы быть воспринятым. Но длина кадра сама по себе не нейтральна, не пассивна по отношению к его содержанию — она способна влиять на него, воздействовать на смысл.
Скажем, в “Первом учителе” все начало построено на чрезвычайно долгих статичных планах, и сама их бесконечная продолжительность внушает мысль о заброшенности, оторванности от мира клочка земли, где будут происходить события, об остановившемся здесь течении времени — все идет, как шло когда-то: ничто старое не меняется, ничто новое не приходит.
Как пришло такое решение? Мне нужно было для фильма несколько общих пейзажных планов. Снимал их Рерберг без моего участия, я впервые их увидел в просмотровом зале, когда пришел смотреть материал. Кадры, как в таких случаях обычно делается, были сняты с запасом метража. Начинается просмотр: я пришел на него со свежим глазом — восприятие не притуплено никакими предшествующими впечатлениями. Неожиданно для себя обнаруживаю любопытные смены зрительских состояний, происходящие по ходу созерцания одного и того же кадра. На экране пустой выжженный пейзаж, ничего особенного не происходит. Первые четыре секунды — смотреть интересно: притягивает новизна картинки, некоторая необычность ее. Прошло шесть секунд — я уже рассмотрел все, что можно было рассмотреть в кадре. Прошло десять секунд — мне уже скучно, жду, когда же наконец появится следующий кадр. Прошло двадцать секунд — и я снова возвращаюсь вниманием к экрану, мне снова интересно смотреть, у меня уже новое отношение к кадру, хотя он тот же самый, неподвижный, ничего нового в нем не появилось. Но я уже насыщаю экран своим отношением к увиденному, своей эмоцией.
Меняя длину кадра, мы можем регулировать течение зрительской эмоции. Мы можем обрывать кадр тогда, когда зритель еще не успел от него абстрагироваться, то есть не получил еще возможности дать ему свою оценку. Мы можем обрывать кадр и тогда, когда глазу не хватило времени воспринять изображение: это будет вызывать у зрителя состояние раздражения, будоражить подсознание.
В “Дяде Ване” я применил такой игольчатый удар в сцене прощания Елены Сергеевны с Астровым. Они стоят у окна, разговаривают. “Я об одном вас прошу: думайте обо мне лучше”, — говорит она. “Останьтесь, прошу вас. Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего”, — отвечает он. И вот в общий план двух стоящих у окна фигур я врезал внезапно возникающий, очень короткий, клеток всего на десять-пятнадцать, крупный план Елены Андреевны, умышленно снятой с близкого расстояния деформирующей короткофокусной оптикой. Получилось очень экспрессивное, удлиненное лицо с большими удивительными глазами. Если бы этот кадр длился так долго, чтобы его можно было рассмотреть, то лицо актрисы показалось бы зрителю уродливым, но я заранее знал, что врежу его всего на доли секунды, он будет как перчинка в супе, как жемчужина в короне. Две темные фигуры у окна, затем мгновенный укол — крупный план, и снова общий — тот же коридор, те же фигуры.
Я снова хочу здесь вспомнить Прокофьева. Мой дед писал его портрет, слушал его игру и как-то однажды говорит: “Какая замечательная гармония! Продлите, продлите ее еще”. А Прокофьев отвечает: “Э, нет. Вот как раз потому, что вам хочется продлить, я сменю ее на другую”. Если бы продлить, получилось бы сентиментально, а обрыв воздействует, как удар, пробуждает от грезы.
Здесь, по-моему, высказана очень важная эстетическая мысль. Существует, скажем, поток музыки Рахманинова или Чайковского, где гармония развивается линеарным потоком, где мы наперед знаем, какова будет следующая гармония, даже если слышим произведение в первый раз. Мы предугадываем течение потока звуков и получаем удовольствие от того, что его предугадали. Но есть музыка иного рода — трепетная, ломаная, неожиданная, как у Прокофьева или Скрябина, где мы не успеваем увлечься одним образом, как он разрушается, подобно песчаному замку, и вместо него возникает новое видение, увлекающее нас и исчезающее внезапно как раз тогда, когда кажется, что мы уже почти настигли его. Эти неожиданности смен способны даже почти физиологически, чувственно раздражать нас, вызывать ощущения сенсуальные.
То есть, в принципе, можно идти двумя путями: первый — автор проецирует вперед ощущения зрителя-слушателя и следует им, дает зрителю именно то, чего тот ждал; и второй — автор ломает ожидавшееся течение потока, своей волей нарушает предвкушаемое зрителем-слушателем удовольствие, дает ему совершенно новые ощущения, быть может, еще более прекрасные, быть может, бьющие и шокирующие. Из-за этих раздражающих ударов вся духовная структура воспринимающего — и сознание, и подсознание — находятся в наэлектризованном состоянии, активизируется мыслительный процесс, усиливается чувственный момент ощущений.
Ритм
В 20-е годы в нашей стране была издана книга Карла Бюхера “Работа и ритм” — фундаментальный, капитальный труд, знание которого очень важно для любого художника — для кинематографиста в особенности. В этой книге исследуется вопрос о взаимоотношениях работы (а, как известно, именно она сделала человека человеком) и такого чисто биологического фактора, как ритм. Ничто в природе, ни одно движение невозможно вне ритма — прилив и отлив, круговорот дня и ночи, солнечные затмения, вдох и выдох, биение пульса. Существуют определенные ритмы, способные чрезвычайно интенсивно воздействовать на человеческий организм. Медитация, любые повторения, начиная от “алла-бис-мила” и кончая “господи, помилуй”, ритмические удары колокольного звона, всевозможные коллективные сектантские моления способны привести человека в состояние чрезвычайной экзальтации, вплоть до экстаза. Ритмические повторы звуков или зрительных образов способны даже вызвать приступы эпилепсии у особо восприимчивых людей. Поэтому даже в самом чисто зрительном ритме фильма заложены могущественные воздействия на биологическую основу человека — возможности, надо сказать, совершенно нами не изученные и как следует не используемые.
Можно, например, насильственно укорачивая длину кадров, довести зрителя до состояния, близкого к обморочному. Он еще не успел усвоить какую-то порцию впечатлений, как в него впихивают новую. Наступает перенасыщение, захлеб впечатлениями, у зрителя уже чисто физиологическое ощущение, что не хватает дыхания. Естественно, такими активными средствами надо пользоваться с предельной осторожностью. Если не дать достаточно времени для роздыха после таких ударных воздействий, то зритель вообще может потерять способность к дальнейшему восприятию. Говоря терминами бокса — оказаться в нокдауне.
Всю первую часть “Романса о влюбленных” мы строили на этом свойстве восприятия — постоянно прибегали к эффекту стробоскопа, мигающего изображения, искусственно создавали у зрителя ощущение, что он не успел разглядеть чего-то главного.
На этом приеме построен пробег Тани вслед за автобусом, увозящим Сергея на военную службу. Пробег переходит затем в проезд через всю страну, все также прорезаемый вспышками стробоскопического мелькания. Все это заранее рассчитывалось самым тщательным образом — мы снимали через специальный стробоскоп, специально подбирали натуру — колонны домов, пролеты моста, мчащиеся навстречу поезду, и все это придавало движению ощущение разорванности, захлебывающегося ритма. Этот кусок длится на экране всего сорок секунд, а в нем сорок кадров — предельно коротких, клеток по двадцать.
По тому же принципу строился и пробег влюбленных в начале картины. Мы построили на мосфильмовском дворе недлинный участок забора, всего метров двадцать, и снимали пробег через стробоскоп, так что бегущие Сергей и Таня то исчезали от нас за темными дощатыми решетинами, то на мгновение появлялись в их просветах. И из многих коротких кусочков, снятых на одном и том же месте, я потом смонтировал единый бесконечный пробег (практически все снятые дубли вошли в картину) по тому же несложному принципу, который позволил Эйзенштейну во много раз растянуть длину Одесской лестницы. А подложенный под изображение тихий шелест гитары, несовпадение этих затаенных звуков и ликующего бешеного ритма движения родили в итоге ощущение интимности, нежности, чистоты дыхания. Ощущение счастья.
Вслед за этим пробегом в картине уже начиналась почти феерия чисто физиологических воздействий на психику зрителя, воздействий ритмом. Я хотел всю историю любви, до самого конца, рассказывать захлебывающимся языком на стремительном ритме. И не сумел, не хватило дыхания. Таким языком можно рассказать эпизод, можно два, но дальше нужны замедления, паузы. Действительно, если проанализировать “Романс”, то первые тридцать минут смотрятся ошеломляюще. Я сам с удивлением обнаружил это. Знал, что у картины должен быть активный, мобильный ритм, но что он окажется таким бешеным, не мог даже предположить. Внешний ритм — совершенно безудержный: проезды, движение, непрерывная смена образов. Но скоро от всего этого восприятие тупеет, стремительность уже воспринимается как монотонность. Почему? Потому что внешний ритм нарастает, а внутренний стоит на месте.
Я допустил ту ошибку, против которой так умно и точно предупреждал Михаил Чехов в своем письме в ВОКС после просмотра эйзенштейновского “Ивана Грозного”.
Он напоминал в нем о том, что ритм (темп) бывает внешним и внутренним. Первый из них достигается внешними средствами выразительности. Второй, состоящий в смене душевных состояний героя, зависит исключительно от актера. Отдавая должное таланту и мастерству русских артистов, Чехов, однако, обращал внимание на то, что актеры говорят чрезвычайно механически, делая форсированные голосовые паузы. От этого их речь становится напыщенной, ложно-многозначительной и лишенной чувства. Внешний ритм речи не может компенсировать отсутствие внутреннего. Поэтому “зритель начинает чувствовать неудовлетворенность и душевный холод среди всего богатства и красоты”.
Роль паузы, на которую обращал внимание Чехов, чрезвычайно важна в искусстве. Каждое движение — внешнее или внутреннее, душевное — выразительно лишь в силу контраста с двумя соседствующими. Паузы могут быть различного рода: одни предшествуют действию, подготавливают зрителя к восприятию дальнейшего. Другие — следуют за действием, помогая суммировать и углубить впечатление. Это создает сложные ритмические волны, динамику приливов и отливов. Монотонное, лишенное пауз исполнение роли свидетельствует лишь о том, что актер не изучил ее.
В принципе я всегда стараюсь продумывать в картине паузы, ритмические убыстрения и замедления, удары, кульминации. Но здесь в погоне за взволнованностью, сбивчивостью языка, за внешним ритмом, я не уделил достаточного внимания ритму внутреннему. Я впал в иллюзию, что избытком одного можно компенсировать отсутствие другого. А надо было еще на уровне сценария устранить тот драматургический провис, который возник из-за неправильного соотношения частей.
Что получилось в итоге? Ритм безудержно нарастает, ритм ошеломляет, а событие стоит на месте. Двадцать пять минут в картине ничего не происходит. После первого “как я люблю тебя!” вплоть до прощания перед уходом в армию ничего не происходит, а затем снова ничего не происходит. Они любят друг друга, он служит, она ждет, грохочут военные маневры, а событие остановилось. Идет сплошная фанфарная труба, вал-захлест внешней динамики, а внутри — неподвижность, я продолжаю гнать вперед все тот же бешеный ритм — у меня уже нет другого выхода.
Вдобавок ко всему я впервые для себя снимал здесь на широком формате. Естественно, я понимал, что у него своя специфика, свое решение экранной плоскости (представьте себе “Броненосец “Потемкин”, переведенный на широкий формат: его смотреть будет невозможно — глаз не охватит кадра, все превратится в кашу), но все же внутренне продолжал мыслить мерками обычного кадра. Поэтому динамика внутрикадрового движения оказалась несоразмеренной с масштабом экрана, фильм перенасыщен ею, его трудно смотреть. От внешнего ритма рябит в глазах.
А затем вдруг после долгой статики лихорадочно задвигался внутренний ритм. Появился Хоккеист, и одно за другим начались события. Шторм на море, Сергей гибнет, Хоккеист любит, Таня страдает, они женятся, выясняется, что Сергей жив... Событий множество, а времени на их анализ нет. Но мне уже не остается ничего иного, как мчаться в слепой любви вслед за скороговоркой сценариста. Куда бегу? Бегу к финалу, к смерти героя от любви. К заветному торту на третье, о котором мечталось с самого начала работы.
Так или иначе, но архитектоника фильма повторяет архитектонику сценария. И в этом, думаю, была моя ошибка. Просторно разлегшись на кусках, обстоятельно проработанных сценаристом, я не уделил достаточного внимания кускам, наспех проговоренным, написанным достаточно функционально. А чем короче сцена, тем более глубокими должны быть в ней мотивировки, тем концентрированней должен быть сгусток наполняющих ее эмоций. К сожалению, душевные ходы героев в целом ряде мест сценария не были в достаточной мере исследованы, и я в своем режиссерском анализе не углубил их. Это в первую очередь относится к линии замужества Тани. Конечно, умный зритель понимает необходимость и правильность ее решения, а надо было бы, чтобы он это не понял, а почувствовал, чтобы сам всей душой желал этого. Значит, надо было подробнее и глубже проследить вызревание этого решения, показать духовную и душевную смерть Тани так, чтобы зритель сам после этого мечтал увидеть ее женой Хоккеиста. А это не сделано. Допущен драматургический просчет. Кто виноват? Виноват режиссер. Он же сам выбирал сукно на костюм, сам смотрел, из чего будет шить. На кого же теперь пенять, если материал пополз по швам...
Текучесть формы
Очень, по-моему, глубоко и интересно высказался Родион Щедрин об архитектонике своего балета “Анна Каренина”. “Мы стремились, — говорит он, — к симфонической непрерывности повествования. К сплошному потоку музыки, где сцены не только гибко переходят друг в друга, но наплывают, даже перекрывают одна другую. Лишь таким путем, думается, можно выстроить архитектонику столь насыщенного полифонией и контрапунктом произведения, каким уже в замысле является переложение романа Толстого”.
Чувствуется, что это говорит музыкант. Его интересует не литературная, а симфоническая непрерывность, наложение сцен друг на друга, единое течение потока, необходимое музыке. Уверен, что и кинематографу также.
В свое время Феллини предложил термин “суспензиальность”. Он говорил, что фильм должен не дробиться на четкие эпизоды, но быть подобным суспензии, чем-то вроде часов Сальвадора Дали, стекающих со стола. Один эпизод должен вливаться в другой. И действительно, когда смотришь картины Феллини, “8 1/2” например, обнаруживаешь эту текучесть переходов. Или иногда вдруг — внезапный слом, и кажется, что уже начался другой эпизод, а это все продолжается прежний. Подобная же суспензиальность формы свойственна и музыке Скрябина, где даже прерывность течения, его внезапные обвалы являются продолжением единого потока развития.
Мне вообще часто хочется проводить параллели между фильмами и музыкой. Скажем, Чаплин у меня неизменно ассоциируется с Моцартом — их произведения похожи своей легкостью, четкостью и дробностью формы. “Ватерлоо” Бондарчука, или американские фильмы типа “Унесенных ветром”, или “Дочери Райана” вызывают в памяти симфонизм Чайковского — в них та же широта, ясность, линеарность потока. А в картинах Бергмана поражает их сложная полифоничность, близкая баховской фуге. Возможно, эти ассоциации достаточно субъективны, но, думается, все же есть и некоторые объективные основания для таких параллелей.
Вот эта музыкальность течения фильма выстраивается на многих уровнях — перетекания одного крупного блока в другой, эпизода в эпизод, кадра в кадр.
Сценарий Григорьева первоначально делился на четкие четыре части: “Любовь”, “Разлука”, “Возвращение”, “Новоселье”. Такое деление было слишком громоздким для фильма, длящегося чуть более двух часов. Поэтому я стал думать о том, как бы перекомпоновать картину, разбив ее на три части. Потом и от этого деления мы отказались и просто поделили картину на две неравной длины новеллы без названий — цветную и черно-белую. Это уже были два взаимоотрицающих и взаимоуничтожающих мира, недаром нашлось так много зрителей, не сумевших воспринять их как одно целое: одни восхищаются первой частью и не принимают вторую, другие, наоборот, хвалят вторую и бранят первую.
Ошибка, допущенная в соотношении внешнего и внутреннего ритмов, повлекла за собой и перекос в архитектонике всего фильма, конструкция стала заваливаться. Чтобы уберечься от этого, надо было перестраивать монтажную форму картины еще на уровне сценария. Ведь, по сути дела, монтаж задается уже драматургией картины.
Монтаж продолжается и в момент съемки. Выбор метода съемки есть одновременно и выбор метода монтажа. Скажем, съемка по принципу Рене Клера: “Мой фильм готов, осталось его только снять” сохраняет за монтажером лишь самые простейшие функции: ему надо отрезать на концах кадров хлопушки и засветки и затем склеить все в сценарной последовательности.
Если же режиссер не программирует кадр, а просто организует событие, поток жизни перед камерой, фиксирующей все это почти хроникальным методом (так я снимал “Асино счастье”), то концы и начала кадров теряют свою первостепенную важность. Здесь в процессе монтажа требуется поиск, выстраивание конструкции из навала материала, из непригнанных друг к другу кусков.
Есть блистательные профессионалы-монтажеры, которые в бессистемном ворохе кадров уже умеют видеть будущий фильм. Скажем, Бондарчук на “Ватерлоо” снял 140 тысяч метров пленки. Чтобы только просмотреть этот материал, надо было пять дней с утра до полуночи сидеть, не выходя из просмотрового зала. Де Лаурентис пригласил монтажера, тот познакомился с материалом и сразу сказал: “Я смонтирую вам из этого картину, которая будет длиться два часа семнадцать минут”. Он чуть ошибся. Получилось два часа четырнадцать минут. Это профессионализм. Такое дается лишь великим опытом. Не зря Де Лаурентис заплатил ему за работу пятьдесят тысяч долларов.
Монтажеры старой школы, такие, как Ева Михайловна Ладыженская, с которой я работал над “Первым учителем”, всегда очень гордятся своим умением посредством монтажа перевернуть весь смысл фильма: один эпизод переставить из конца в начало, другой — полностью перекомпоновать изнутри, третий — сократить до минимума или вообще выбросить. И в итоге действительно получается картина, совершенно непохожая на ту, что снималась. Могу допустить, что иногда это спасает “аварийные” картины, но не думаю, что у профессионального режиссера снятый материал можно тасовать, как карточную колоду. В принципе, чем больше перестановок допускает отснятый материал, тем слабее режиссер. Но при таком методе съемок, который был у Бондарчука на “Ватерлоо”, при намеренном обилии чернового исходного материала допустима, даже необходима свобода монтажных перекомпоновок в конструкции и эпизодах, и всего фильма в целом. Вообще подгонять разные методы съемок и, соответственно, монтажа под единую колодку бессмысленно.
Замечу, что количество отснятого материала само по себе еще ничего не гарантирует. Один режиссер снимает экономно, не тратит ни метра лишнего — оказывается, снятого вполне достаточно. Другой снимает с запасом, не скупится на дубли и варианты, а фильм не монтируется — не хватает материала. Почему? Потому, что процесс монтажа начинается задолго до клея и ножниц: сначала все должно быть смонтировано в голове.
Я уверен, что знаменитая Одесская лестница была смонтирована Эйзенштейном еще прежде того, как была снята. Я уверен, что и Бергман в те часы, когда в раздумье, “без дела” сидит на готовой к съемке площадке, тоже монтирует, по многу раз проигрывает в голове сцену, течение кадров, их стыки, гравитационные поля, распределение эмоционального напряжения. То есть монтаж начинается в драматургии, продолжается в момент съемки и лишь завершается в собственно монтаже, склейке кадров. С другой стороны, такова уж диалектика кинематографа, что и драматургия обретает свою завершенную форму лишь в монтаже — на бумаге она лишь контур самой себя.
Я уже рассказывал здесь, как долго мы бились, чтобы снять начальную (сразу же кульминационную!) сцену любви.
В сценарии у Григорьева эта сцена строилась на таком диалоге:
— Как я люблю тебя! — говорила она.
— Как я люблю тебя! — отвечал он.
— Как я люблю твои глаза! — говорила она.
— Как я люблю твои глаза! — повторял он. Так и было снято. Однако ни одна из реплик
Киндинова меня до конца не устраивала — чувствовалась в них какая-то фальшь. Можно сказать, что и в сценарии все фальшь, но одновременно, по счету искусства, все — великая правда. И я долго думал в монтаже, как же смонтировать сцену так, чтобы сохранить атмосферу этой григорьевской “песни песней”. И тогда пришла мысль построить эпизод иначе. Говорит только она, Таня, тем более что у Кореневой все реплики получились. А он молчит.
“Как я люблю тебя!” Молчание. “Как я люблю твои глаза!” Молчание. “Какие у тебя губы!” Молчание. И в эпизоде стала возникать какая-то новая драматургия, стало появляться напряжение, которого в сценарии не было. Почему он молчит?
Представьте себе сценарий, в котором написано:
—Как я люблю тебя! — говорит она. Он молчит.
—Как я люблю твои глаза! — шепчет она. Он молчит.
Эпизод имел бы совершенно иной смысл. Но здесь смысл оставался прежним, он лишь еще более усиливался молчанием, отсутствием слов. Рождалось ощущение, что человек лишился дара речи от потрясения любви. И эта пауза вдруг взрывалась в конце потоком слов, которые сразу обрели гораздо большее значение: “Как я люблю тебя, я знаю, что люблю, как я хочу сделать для тебя...” Напор чувства прорвал оцепенение.
Я трижды снимал этот эпизод честно по сценарию, хотел его сделать именно таким, как в сценарии, а он оказался иным, но одновременно тем же самым. Можно ли было бы уже в сценарии все это придумать? Наверное, можно. Но так или иначе эпизод окончательно “написался” уже в ходе монтажа.
Примерно то же самое происходит и в театре. Режиссер ставит пьесу, а потом по ходу репетиций вызывает автора и говорит: “Здесь у меня что-то не получается. По-моему, это надо вот так переделать”. И вместе с драматургом они доводят пьесу до окончательной формы. Ту же роль выполняет в кино монтаж — соединяя драматургию с режиссурой, он отливает ее в завершенную форму.
Если монтаж эпизодов можно уподобить соотношению крупных частей в музыкальной архитектонике, то монтаж кадров — соотношению нот. Нота идет за нотой, склейка за склейкой, и точно так же как сочетание двух нот создает качественно новое звучание, так и стык двух соседствующих кадров рождает новый образ. Скажем, сцена свадьбы Тани кончалась стоящим в одиночестве Трубачом, букетом цветов на окне, спящей Таней, а затем мы видим воскресшего из мертвых Сергея. И возникает неуверенная ассоциация, что, может быть, все это ей снится. Вот эта расплывчатость, множественность рождаемых монтажом ассоциаций кажется мне очень важной — ассоциации, навязывающие единственно возможный смысл, оказываются засушенными, лишенными эмоциональности. Множественность смысла есть результат не случайности, а точного подбора соседних планов.
Кстати, некоторые образные связи, рождающиеся на стыках кадров, возникают, так сказать, попутно, по ходу выстраивания главной конструкции. Думаешь: “И это мы прихватим с собой. И это пригодится в картине”.
При стыке двух соседних кадров часто не учитывается элементарно простая вещь, способная буквально убить фильм, даже если он безупречно выстроен по драматургии, по соотношению и внутренней структуре всех эпизодов. Называется она простонародным словом “держок”, и обращать на нее внимание в свое время научил меня Николай Экк.
Суть этого явления сводится к следующему. В каждом кадре есть свой зрительный центр, вы всегда смотрите на то, что является для вас самым важным. Если этот центр статичен, то и ваш взгляд пребывает в статике; если он перемещается по кадру, то и ваш взгляд перемещается вслед за ним. Когда в момент стыка новый зрительный центр оказывается не в том месте, где остановился ваш глаз в конце предшествовавшего кадра, то вам приходится заново нащупывать опору своему вниманию. Глаз дергается, возникает неосознаваемое раздражение — “держок”. В конце концов вы можете просто покинуть зал на середине просмотра, так и не поняв, что же вас так раздражало в картине. Никакой новой образности “держок” создать не может, а разрушить восприятие уже созданных образов вполне способен.
Поэтому очень важно на протяжении всего фильма сохранять единство зрительного центра. Он должен литься, не прерываясь перетекать из кадра в кадр. Тогда незаметными станут склейки. Тогда можно допускать массу всевозможных неправильностей и нарушений монтажных законов — зритель все равно не обратит на них никакого внимания.
Многие режиссеры стремятся к эффектной необычности кадра: изобретают какой-нибудь мудреный профиль, сдвинутый под самый обрез рамки, оставляют пол-лица или полруки на фоне какого то эффектно высвеченного пространства. Все это позволю себе утверждать, от лукавого. Не буду приводить дурных примеров, но даже такой великолепный по пластике фильм, как “Мольба”, по сути своей антикинематографичен. Он построен на принципах фотографической композиции. Каждая композиция сама по себе прекрасна, а фильма нет — нет того перетекания образности, эмоций, чувственной напряженности, которые одушевляют экран. У фотографической и кинематографической композиции различные законы. Кинокомпозиции совсем не обязательны изыски формы, острота, необычность ракурса, которые покоряют нас в искусстве фотографии. Кинокадр может быть вполне аморфным, неброским, построенным по самым элементарным принципам — все главное по старинке в центре кадра. А сочетание таких кадров способно потрясать, если, конечно, в них уловлен неповторимый миг жизни человеческого духа.
...Я не старался здесь создать какую-то стройную, завершенную концепцию монтажа. Их было и еще будет много, и они постоянно вступали и будут вступать в противоречие друг с другом. Скажем, Эйзенштейн и Пудовкин говорили о монтаже совершенно противоположное. Не хочу вторгаться в спор гигантов, тем более что Лев Борисович Фелонов во ВГИКе всегда ставил мне по монтажу тройки.
Зритель
Пятое рождение
Прежде чем фильм станет фильмом, он должен родиться по крайней мере пять раз. Первое рождение — сценарий, второе — поиск решения, третье — реализация, четвертое — монтаж и, наконец, пятое — встреча со зрителем, поскольку без нее нет и фильма, даже если он готов, смонтирован и в аккуратных коробочках хранится на полке.
В конце концов любое произведение, будь то книга, симфония, живописное полотно или фильм, начинают свою жизнь лишь в момент встречи со своим зрителем, читателем, слушателем. К кино это относится в особой степени. Книга может лежать в библиотеке, это клад, который всегда можно снять с полки. Также и грампластинка с прекрасными музыкальными записями — ее в любой момент можно поставить на проигрыватель. Но фильм нельзя снять с полки и пересмотреть заново любимые фрагменты. Нет пока что таких домашних собраний. Так что картина живет недолго. От нее остается в памяти лишь какой-то след — приятный или неприятный, или, что самое печальное для создателя, вообще никакого следа не остается. Уж лучше ненависть, чем такое равнодушное забвение.
По счастью, результат труда кинематографиста все же более ощутимо реален, чем театрального режиссера или актера. Потому что хоть в архиве, но картина все же сохраняется. А спектакль исчез, от него остались лишь слухи, мемуары, часто недостоверные, рецензии, часто несправедливые. Если почитать, что писали, например, в 20-х годах о Михаиле Чехове, то можно подумать, что актер он был ниже среднего. Так разнесли и его Гамлета и Хлестакова — живого места не оставили. А сколько рядом было расхваленных актеров и спектаклей, о которых теперь никто и не вспоминает.
Что говорить, любое, самое прекрасное переживание со временем тускнеет либо же стирается вообще. Бесполезно надеяться, что твой фильм избежит этой участи. И все же если он каким-то лучом света озарил то хорошее, что есть в душе зрителя, сделал его лучше хоть всего на несколько минут, на несколько секунд, то и это уже результат, ради которого стоит работать.
Воздействие фильма нельзя приравнивать к его сиюминутному эффекту. Результат труда, допустим, плотника виден сразу — он сделал табуретку, на которую можно тут же сесть. А результат труда художника скажется, быть может, через десятилетия. Тогда дадут всходы те семена, которые он посеял. И если то были сорные семена, то этот производственный брак уже неисправим...
Иногда я хочу послушать, что говорят зрители, выходя из кинотеатра, и так бываешь благодарен, когда чувствуешь, что фильм нашел в душе зрителя истинный отзвук. Это та радость, без которой было бы трудно жить.
Дилемма
Я вспоминаю, как однажды зашел в кинотеатр. Меня интересовало, как идет “Романс о влюбленных”. Прежде подобные вопросы меня мало занимали. Ни в “Первом учителе”, ни в “Асином счастье”, ни в “Дяде Ване” я о зрителе не думал совсем. Но в “Романсе” я о зрителе думал с самого начала, мне хотелось найти контакт с залом, говорить с людьми, вызвать их отклик. Поэтому и после выхода картины я нередко наведывался в соседний кинотеатр узнать, как она идет. “Романс” шел хорошо, директор принимал меня как дорогого гостя, но мне были интересны не только прокатные цифры, а живая реакция людей. Поэтому я иногда присаживался где-нибудь в уголке зрительного зала, смотрел, слушал.
Молодежь в основном реагировала на фильм так, как и задумывалось, я чувствовал, что картина сделана для них, но были и иные зрители. Помню одну немолодую толстую женщину, которая ворочалась, кряхтела весь сеанс, а когда потерявший свою любовь герой вышел от Тани, зарыдала-запела труба и хор подхватил: “Ты вернулся к нам!”, она не выдержала и сказала: “Господи! На какую муть деньги тратят. Безобразие!” Сказала громко, на весь зал. И мне это слышать было больно и обидно до слез. Что я теперь мог поделать? Остаться с ней после сеанса, растолковать ей то, чего она не поняла, дать ей прочесть статью А. Липкова в журнале “Искусство кино”, которая объяснила смысл фильма с той точностью и глубиной, какой я только мог желать?
Ничего тут уже сделать было нельзя. Этот зритель был для меня безвозвратно потерян. И не только эта конкретная женщина, но, как я могу судить по полученным письмам, и достаточно большая часть зрителей, которая мою картину не приняла. Даже не просто не приняла, а отнеслась к ней с резкой неприязнью. Между картиной и этой частью зрителей возникла стена отчуждения. А картина уже была как бы продолжением меня самого, и потому эта категоричность неприятия, естественно, вызывала во мне очень болезненную реакцию. Именно в этой картине мне так обидно было быть непонятым. Наверное, как раз потому, что я надеялся быть понятым, рассчитывал на это.
Вообще взаимоотношения художник — зритель — проблема вечная. И всегда останется неразрешимой дилемма, каким путем идти: заниматься ли чистым самовыражением, петь, как соловей, закрыв глаза, и потом с удивлением обнаруживать, что твоя сладкоголосая песня находит своих почитателей, либо же мучительно искать те пути и средства, которые сделают твои чувства понятными и близкими людям. Быть может, это разделение носит несколько умозрительный характер, поскольку в чистом виде каждый из этих принципов вряд ли существует. Тем не менее суть дилеммы от этого не меняется, и можно найти достаточно примеров, когда она вырастала в трагедию художника. Например, Лев Толстой. Сначала он писал для себя, потом, отрекшись от прежних своих книг, — для народа. Все написанное “для народа” — детские сказочки и популяризаторские, морализирующие сочинения — едва ли можно рассматривать как произведения искусства. Но тем очевиднее обнажается само существо проблемы: Толстой хотел, чтобы его произведения приносили пользу — немедленную, практическую, утилитарную.
Можно понять и тех художников, которые не хотят говорить никакими иными словами, кроме тех, которые сами собой из них исторгаются. Найти эти слова, превратить их в связный поток речи — процесс мучительный. Вот так заика учится говорить в прологе “Зеркала” Тарковского. И все же в таком самовыражении надо различать процесс и результат — ведь результат может оказаться совсем не тем, на какой мог надеяться художник, с абсолютной искренностью обнажая свою душу.
Когда меня стараются убедить в том, что главное для художника — естественность, свобода самовыражения, искренность, я отвечаю, что всем этим качествам вполне отвечает коровье мычание. Только поди разбери, о чем она мычит. Так что одной искренности или естественности мало, важно, чтобы твой язык для других не оказался тем самым мычанием. Если бы великие пророки прошлого, своим словом поднимавшие народы на исторические деяния, говорили бы на тарабарском языке, за ними бы никто не пошел. Их слово не дало бы ростков, не нашло бы всхожей почвы. А ведь каждый художник в меру своих сил и таланта пророк. Он пытается понять мир и словом своим передать это понимание мира другим.
Потому жалко те великие произведения, которые не нашли пути к сердцам людей. Жалко и зрителей, не сумевших их понять. Можно назвать немалый ряд прекрасных фильмов, которые так и остались вещью в себе.
Странности любви
Способ взаимоотношений со зрителем художники чаще всего выбирают интуитивно, подсознательно. Они могут вообще о нем не думать, а высказываться в своих фильмах как бы самопроизвольно, выражать преследующие их образы на полотне экрана. Мне кажется, так работают Тарковский, Иоселиани, Мельников, Георгий Шенгелая.
Но хотя и у великих поэтов можно найти немало гордо-презрительных слов по поводу своих читателей, и я уже цитировал блоковское “Прокул эсти профани!” (“Прочь с дороги, профаны!”), и Пушкин сказал: “И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. ...Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?”, я думаю все же, что нет такого художника, которому был бы безразличен отклик на его произведение. Да и странно было бы, если бы поэт или живописец, композитор или кинематографист не радовались бы, видя, как рожденное ими в трудах и муках становится достоянием тысяч, а то и миллионов людей.
Встреча со зрителем не может не волновать художника, сколько бы он ни говорил о своем безразличии к хуле или овациям публики. Стоит посмотреть на любого режиссера в день премьеры его фильма в Доме кино, на то, как он со вспотевшим лбом сидит на микшере и выкручивает звук на полную громкость, в безумной надежде, что это поможет лучше воспринять его фильм. Когда режиссеры говорят о своем безразличии к зрителю, это либо заведомая ложь, либо попытка скрыть от других свое болезненное отношение к этой проблеме — во всяком случае, таково мое мнение. Достаточно почитать хотя бы Шкловского об Эйзенштейне, чтобы понять, как тот был хрупок душевно. Когда Эйзенштейн встречался с предполагаемым критиком своей картины, он сразу же пытался защититься от него броней иронии, подшучивал над ним и над самим собой, чтобы упредить возможное нападение.
Ведь мы же, режиссеры, все обнажаем себя напоказ зрителю и становимся беззащитными против любого его удара. Как быть? Не обнажаться? Но тогда для художника нет и жизни. Не ради того же, чтобы в прекрасном одиночестве смотреть свой фильм в пустом зале, мы его делали.
В мемуарах о Рахманинове есть великолепный штрих. Он окончил играть прелюд, в зале ураган — столпотворение, овации, цветы, все в неистовстве от восторга, а Рахманинов стоит за кулисами весь бледный, трясущийся, взмокший. Вытирает руки. “Боже мой, — говорит с отчаянием. — Что я наделал! Я же последнюю точку смазал. Какой ужас!”
Это для меня высшая форма взаимоотношений со зрителем. Никакие хвалы и восторги не должны заглушить собственной, по максимальному счету, профессиональной самооценки, анализа своих удач и поражений. Если художник упоен своими достижениями настолько, что уже не видит в них никаких недостатков, то его путь в искусстве можно считать оконченным. Чему примеры имеются и в кино.
Конечно, отношение к собственной картине — вещь всегда сложная, болезненная. Если ты делал картину чистыми руками, искренне, не жалея сил души, то страшно потом даже самому себе сознаться, что что-то не получилось. Поэтому вольно или невольно стараешься слушать тех, кто тебя хвалит. От тех, кто тебя порицает, стараешься побыстрее отвернуться, забыть, стереть из памяти их упреки. Но проходит время, фильм постепенно обретает статут собственного, не зависимого от тебя существования, становятся очевидными промахи, осознаешь, что можно было бы сделать иначе, интереснее, лучше. Приходит нужная мера объективности в оценке своей работы.
Кстати, при этом происходят неожиданные, не поддающиеся рациональному объяснению вещи. Скажем, удивительные скачки претерпевало мое отношение к “Дворянскому гнезду”. Я делал эту картину, стараясь сохранять достаточную индифферентность по отношению к будущему зрителю. Через какое-то время я показывал эту картину в Париже, в зрительном зале был Антониони. Я смотрел на свое детище с чувством ужаса. Сидел и думал: “Боже мой! Что я делаю? Что я — с ума сошел? Зачем я вытащил на люди это бездарное кино?” Убежав из зала, я поклялся никогда в жизни больше не смотреть этой картины. Она была мне отвратительна.
А совсем недавно “Дворянское гнездо” показали по телевизору, и, честно признаюсь, я смотрел фильм с удовольствием. Причем, как мне показалось, он не постарел, разве что за исключением каких-то несущественных частностей. Для меня самого это было неожиданностью, поскольку многое в той картине было данью ушедшей стилистической моде и, казалось бы, уже в силу этого она должна была потерять свое обаяние. Но, вопреки опасениям, это не почувствовалось — я смотрел фильм с нежностью, волнением и какой-то ностальгической грустью, так, словно перечитывал письма любимой женщины. Видимо, существует какая-то интимность во взаимоотношениях художника со своим творением — свои моменты поэтической близости и размолвок, свои огорчения, свои счастливые минуты.
Пирамида восприятия
Я уже говорил здесь, касаясь музыки, о двух возможных путях взаимоотношений с аудиторией: давать ей то, чего она ждет, либо же идти вопреки ее ожиданиям. Естественно, наиболее популярен тот вид искусства, где ожидаемое сбывается, где зритель или слушатель получает именно то, что ему хотелось получить. Конечно, там, где автор ведет своего собеседника через тернии, сомнения, через душевную борьбу, получаемый результат обладает большей глубиной, многозначностью, сложностью смысла. Но при всем том нельзя сказать, что и иной путь, где все однозначно ясно, где добрые добры, а злые злы, в чем-либо художественно неполноценен. Можно припомнить достаточно шедевров, созданных именно по таким правилам игры. Вестерн, комедия, мелодрама, как правило, обладают однозначной ясностью, зритель четко знает, на чьей стороне должны быть его симпатии. И среди произведений этих жанров немало образцов высокого искусства. Чаплин соединил два популярнейших жанра — мелодраму с комедией — и достиг непревзойденных вершин. Хотя вроде бы все элементарно просто: борьба добра и зла протекает в форме до примитивного ясной.
Но как только мы пытаемся усложнить подобную концепцию, исходить из того, что в каждом человеке есть доля добра и доля зла, то в той или иной мере теряется ясность реакции зрителя, ему уже требуется осмысливать свое отношение к героям, сомневаться, решать, чью сторону принять в идущей борьбе. Повышается барьер восприятия, который надо преодолеть. И на этом какую-то часть зрителей мы неизбежно теряем. Поэтому Рахманинов более популярен, чем Скрябин. Поэтому многие прекрасные произведения кино остаются закрытыми для большой аудитории.
Схему восприятия фильма широкой публикой, наверное, правильнее всего было бы представить в виде некоторого подобия пирамиды, поставленной на свое острие. Есть великие произведения, которые нравятся буквально всем, но массовость этого приятия, скорее всего, означает, что воспринят самый поверхностный, неглубокий слой — фабула. Второй слой — ту потаенную мысль, которую надо вычитать за сплетениями фабулы, — воспринимает уже существенно меньшая часть аудитории. И еще меньшая — третий слой: уровень режиссуры, актерской игры, ассоциативную глубину образного языка. И уже самая малая часть зрителей — и профессиональных и самых обычных — воспринимает глубинные слои: авторский мир, целостную философию картины. Короче, пирамида так или иначе завершается острием, точкой — может быть, это сам автор, а может, даже и ему не дано понять, что же в конце концов он сотворил.
Способность зрителя не ограничиваться тем, что лежит на поверхности, а черпать более глубоко из произведения, зависит в большой степени от его воспитания — эстетического, духовного, нравственного.
Главное, чем, мы надеялись, наш фильм захватит зрителя, — это сама тема любви. Притягательность ее поразительна. Сколько о ней уже было картин! Но зритель снова и снова идет в кино, чтобы видеть на экране все то же самое.
Почему?
Быть может, потому что фильмов о любви много, а любви в них мало. Мало картин, где бы по-настоящему глубоко и интересно раскрывались бы взаимоотношения человеческие. И еще потому, что жажда любви у всех нас чрезвычайно велика.
Я думаю, что в нашей стране эта тяга людей друг к другу особенно сильна. Это исторически сложилось, я бы даже сказал, географически. Просторы безграничные, километры расстояний между людьми. И чем больше расстояния, тем сильнее тяга к общению: каждый встречный — желанный гость.
Может быть, отсутствие подобных просторов в Западной Европе, когда открываешь окно и тут же в другое окно упираешься и спешишь опустить штору, чтобы отгородиться от всего мира, способствовала тому, что естественная для человека тяга к общению перешла в свою противоположность, в то, что принято именовать некогда модным, а теперь уже изрядно затасканным словом “некоммуникабельность”.
Мы пытались рассказать в “Романсе” о неисчерпаемой глубине этого чувства — любви, о том, как она освещает и преображает мир, о ее духовном огне, без которого невозможна жизнь. Есть события, о которых пишут в учебниках, как о великих моментах истории. Но разве между ними история прекращается? Нет, она продолжает твориться — постепенно, незаметно. Мы хотели, чтобы зритель увидел во встрече любящих друг друга людей событие историческое.
Зритель и критик
Итак, запущенный нами снаряд достиг некоей тверди, испытав по пути все отклоняющие воздействия, какие можно и какие нельзя было предположить. Если уж сравнивать себя с астронавтами, то все тяготы езды в незнаемое были нами отпущены щедрой пригоршней — и обшивка корабля раскалялась, и заклинивало приборы от немыслимых перегрузок, и запас кислорода был на последнем пределе. Но ничего, прибыли. Что же ждалось довезти с собой? Не потерялось ли в пути то, ради чего затеивалось все путешествие? Та основная мысль, которая в искусстве словами неформулируема. Ведь если бы ее можно было сформулировать, то и фильм, наверное, не надо было бы снимать — во всяком случае, именно так ответил Толстой критику, просившему его изложить основную мысль “Анны Карениной”: если бы все можно было сказать в нескольких строчках, зачем писать тома?
Чем же в итоге встретила нас “терра инкогнита”, именуемая “зритель”?
Я думал, что у картины будут сторонники. Я не тешил себя надеждой, что у нее не будет противников. Но такой яростной реакции, такого накала страстей не мог даже предполагать. Степень приятия, равно как и степень неприятия, была удивительной, что, как я теперь склонен думать, само по себе совсем неплохо. Сшиблись непримиримые оценки. В Алма-Ате, в казахском университете обсуждение фильма окончилось дракой — студенты философского и филологического факультетов (гуманитарии, интеллигенты!) нешуточно побили друг друга. Поразительно!
У меня у самого было несколько весьма накаленных встреч со зрителями. Например, в Польше, в варшавском молодежном клубе “Квант”. Я попросил пойти со мной Анджея Вайду, думал, что уж если начнется особо свирепая атака, он меня как-нибудь защитит. А Вайда сказал: “Я сам перед ними беспомощен. В прошлом месяце они меня раздолбали без всякого снисхождения. Кричали мне: “Вайда, вы не имеете права делать картины о молодежи. Вы нас не знаете. Вы старый человек”. И действительно, аудитория оказалась беспощадной, воинственно откровенной в своих высказываниях, симпатиях и антипатиях. Разговор шел на очень высоких нотах.
Схватка между сторонниками картины и ее противниками была просто яростной. Некоторые меня пытались уличить в нечестности, в том, что я мимикрирую, пытаюсь протаскивать реакционные идеи, вбиваю в головы догматические лозунги. Но расстались мы в общем друзьями. Кажется, мне удалось их убедить в искренности своих намерений, а единственное, чего бы они мне никогда не простили, — это неискренности.
Вообще отношение к моей картине у большинства зрителей, а также у критиков вытекало, как в музыке, из чисто интуитивного ощущения. Ведь приятие и неприятие музыкального произведения практически всегда определяется не рациональными доводами, а чисто эмоционально, бессознательно. По большей части и отношение зрителей к “Романсу” было лишено всяких логических построений, оно выражалось, скорее, не словами, а междометиями. Кстати, и та женщина, которая на весь зал сказала: “На какую муть деньги тратят!”, произнесла это не когда попало, а в один из самых эмоциональных моментов. Видно, и у нее в душе что-то на этом месте подперло, только вылилось все в реакцию протеста. Наверное, ее еще раздражало и то, что какая-то часть зрительного зала, здесь особенно близко воспринимала фильм.
В принципе мне и хотелось сделать картину, которая бы покоряла зрителей своим чисто эмоциональным ходом. В какой-то степени это получилось, и все же форма оказалась для многих чересчур сложной. Условность помешала некоторым принять фильм эмоционально. А раз так, то одновременно возникли и многие возражения и недоверие к автору.
В общем, хотя эффект воздействия (как позитивный, так и негативный) сделанного выстрела оказался неожиданно могучим, я не могу сказать, что попал в цель. Как я ни старался, выверить параболу снаряда до конца я не смог. Пожалуй, направление стрельбы в целом оказалось верным, но некоторые из помех можно было бы заранее предвидеть и устранить.
Может быть, главной ошибкой картины было наличие в ней чрезмерного количества задач разного уровня сложности. Концептуальная ясность григорьевской жизненной философии растворилась в многоплановости драматургических посылов. Манера изложения предполагала и открытое забрало, с одной стороны, и иронию — с другой. И утверждение набивших всем оскомину понятий и инверсию, переосмысление их. И рациональность плаката и эмоциональность интимного чувства. И обнаженный пафос и сокровенность душевной жизни. Таковы были правила игры, но не все, даже эрудированные и подготовленные, зрители смогли их принять. Лозунг, возникавший среди потока чувства, казался оскорблением чистому вкусу, ирония не совмещалась с искренностью. Виктор Розов, например, решил, что вся первая часть фильма насквозь иронична — герои уж там чересчур голубые, все слова невыносимо правильные. Он мне так и сказал: “Вообще-то фильм хороший, только иронии вам чуть-чуть не хватило”. А когда я попытался объяснить, что все это для меня серьезно, то критик Лев Аннинский, присутствовавший при том же разговоре, пришел в ярость и разделал меня под орех в “Комсомольской правде”. Он не мог поверить, что все это было сказано искренне, а коли нет искренности, то и автор приспособленец, конъюнктурщик, одним словом, негодяй, и церемониться с ним нечего.
Были зрители, которые поддались наркозу первой мажорной части, они меня упрекали за черно-белый конец: “Зачем ты его приклеил?” Среди этих зрителей, как ни странно, оказался Сергей Аполлинариевич Герасимов.
Другие, напротив, бранили первую часть, говорили: “Зачем тебе эти розовые сопли? Это все дурной тон, подражание Лелюшу, кривляние под Запад. Вот во второй части мы узнаем тебя, твой реализм. Это правда. Это кино”.
Бернардо Бертоллуччи, которому я показывал картину в Италии, вообще в ней ничего не понял. Он сказал: “Как же так? Мы, левые художники, боремся у себя в Италии со всем этим американским стандартом — мотоциклами, длинноволосыми прическами, гитарами, со всей этой буржуазной пошлостью, а ты возвел ее в ранг идеала. Фильм ужасен!” Как ни парадоксально, в этом плаче его критика мало отличалась от гневных писем жильцов из какого-то жэка, бранивших меня за проповедь распущенности нравов и за то, что Трубач трубит по ночам, мешая отдыхать трудящимся.
Я не склонен упрекать кого-либо из зрителей за непонимание того или иного в картине. Зритель, как говорится, всегда прав, на то он и зритель. Я сам был должен думать о том, как предупредить непонимание, подумать о языке фильма, о каких-то излишних поверхностных раздражителях, от которых можно было бы картину избавить, не проиграв в смысле и сути.
Я не склонен упрекать своих зрителей и в предвзятости — это критики порой приходят смотреть фильмы с уже готовым отношением к ним. Обычный же зритель, как правило, не знает, что ему сейчас покажут, как он к этому отнесется, будет ли он свистеть или аплодировать. Но есть вещи, вызывающие у него идиосинкразию. Причем очень часто это идиосинкразия к форме, а не к сути. Из-за частого употребления формы выветрилась суть.
Поэтому, как пишут на аптечных этикетках, “перед употреблением надо взбалтывать” — искать новые формы для выражения простых, вечных, необходимых нам всем истин.
Куда ж нам плыть?
Каждый художник, осознанно или стихийно, идет к своему зрителю с проповедью определенных нравственных ценностей. В этом плане всех художников с известным огрублением можно поделить на разрушителей и на созидателей. Первые проповедуют пессимизм, неверие, отказ от нравственных ценностей; вторые утверждают человека и человечность.
Прекрасно сказал Фолкнер в речи на вручении Нобелевской премии: “Современные... писатели и писательницы забыли о проблемах борющейся души. Но только эти проблемы рождают достойную литературу... Писателю придется учиться заново. Ему нужно понять, что страх — самое низменное из чувств, и, постигнув это, уже навсегда забыть о страхе, убрать из своего творчества все, кроме правды о душе, страх вечных истин — любви, чести, жалости, гордости, сострадания и самопожертвования, без которых любое произведение обречено на скорую гибель. И покуда писатель не сделает этого, над его трудом нависает проклятие. Он пишет не о любви, а о вожделении; о поражениях, в которых никто не теряет чего-либо ценного, о победах без надежды и, что хуже всего, без жалости и сострадания. В его горе нет всем понятного горя, и оно не оставляет глубоких следов. Он пишет не о человеческой душе, а о волнениях тела. И покуда он не поймет этого, он будет писать так, как будто он стоит и наблюдает конец человека и сам участвует в этом конце. Но я отказываюсь принять конец человека...”
“Я отказываюсь принять конец человека” — это и есть линия водораздела между “бесами” и созидателями.
Своими фильмами мне тоже хотелось бы спорить с теми, кто говорит о конце человека. Я понимаю, что о конце можно говорить по-разному: можно кричать от отчаяния и можно злорадствовать. Но в любом случае разрушать легче, чем строить. Подвергать все сомнению — это, конечно, важно и необходимо. Но сначала все же должны быть созданы те ценности, которые потом можно подвергнуть сомнению.
Сценарий Григорьева прекрасен был еще и тем, что в нем нет виноватых. Так посмотреть на вещи] по-моему, важнее, ведь дело не только в личной вине кого-то. Само движение вперед может порождать трагедии. И такие трагедии — трагедии любви, в особенности, — будут всегда, покуда жив человек. В любых обществах, какими бы совершенными они ни были.
Если искать общее в моих картинах, то оно, наверное, обнаружится в теме искупления. Герои в моих фильмах проходят путь через страдания к звездам. И это не только их личный, особенный путь. Впрочем, звезды у каждого могут быть разные, и к одним и тем же звездам можно лететь в разной компании (и в разной компании страдать кстати).
Генри-Дэвид Торо замечательно сказал: “Не важно, дойдет ли корабль до гавани, важно, чтобы он не сбился с курса”.
Я часто вспоминаю эти его слова.
Вместо заключения
Иногда мне хочется переснять свои прежние фильмы. Если бы я сейчас ставил “Дядю Ваню”, то все бы решал иначе. Я посмотрел бы на все совершенно другими глазами, сделал бы комедию.
Дядю Ваню показал бы бесконечным, изумительным ничтожеством, и доктора Астрова тоже ничтожеством, пьяным, мятым человеком, несущим какую-то ахинею. И Елена Андреевна была бы похотливой женщиной с влажными чувственными руками, неумело пытающейся изобразить скромность. И Соня выглядела бы нелепой идиоткой. Но сквозь все это прорезалась бы великая любовь к этим людям. Как они несчастны! Как никчемны и жалки! Как смешны! Как трогательны! Как они прекрасны!..
Когда я снимал “Дядю Ваню”, мне казалось, что идеальный режиссер для этого фильма — Бергман. Или Тарковский. А сейчас думаю, что совсем не они, а скорее Трюффо, Панфилов, Иоселиани — люди, умеющие смотреть на мир с печальным, одновременно добрым и злым юмором, с иронической улыбкой. Ведь нередко слово, сказанное шутя, не всерьез, оказывается гораздо более глубоким, мудрым и действенным, чем слово тяжеловесно-серьезное, старающееся убедить всех в своей чрезвычайной значительности.
Я, наверное, мог бы сейчас взяться и за постановку фильма по какому-то из своих прежних сценариев, по “Андрею Рублеву”, например. Но вот “Романс о влюбленных” повторно ставить не смог бы никогда. Потому что только один раз можно решиться на такое безумие. И самое главное потому еще, что уверен в правильности пути, которым шел. Кое-что, конечно, можно было бы улучшить, кое-каких просчетов избежать, но ничего принципиально нового я в сценарии не смог бы открыть.
Есть литература, допускающая очень широкий диапазон возможностей для своего прочтения, — таков, к примеру, Чехов. А есть та, у которой не много входных подъездов, а всего один, даже не подъезд, а узкая щель в сплошной стене, одна-единственная, позволяющая проникнуть к сути. Таков, по-моему, “Романс о влюбленных” Григорьева.
Я не раз слышал, в том числе и от близких друзей, что не к чему мне было браться за этот сценарий, потому что каждый фильм — это часть жизни, часть биографии режиссера, к каждому надо относиться продуманно и ответственно, предвидеть все — потом уже вернуть назад что-либо поздно. Я не жалею об этой картине: с ней прожито счастливое время — безумного полета вниз головой. “Не бойтесь, — говорил А. П. Чехов, — надо делать только то, что хочется, к чему тянет. Время потом разберет”.
Есть режиссеры, для которых успех одного фильма превращается в ярмо. Они уже боятся не достичь прежней высоты, боятся, что о них подумают хуже, чем думают сейчас. Только одним путем можно избавиться от гнета прежних успехов: каждый раз идти на риск, в незнаемое.
“Свободен тот,— писал Рильке,— кто может быть ежедневно новым, кто опровергает самого себя”. С удовольствием цитирую эти слова, поскольку в том, что я делал и говорил (думаю, и в этой книге тоже), мне не раз случалось отрицать свои прежние взгляды, опровергать былые мнения.
Режиссерский опыт вырабатывает способность к самоанализу, к зрелому самоограничению, к умению отказываться от самых гениально продуманных сцен и кадров во имя главного — сути фильма, чувства, которое хочешь в нем выразить. И все равно, даже сняв пять больших фильмов, трудно избавиться от ощущения себя мальчиком на елке — столько всего хочется унести с собой, столько передать на экране!
Когда я поступал во ВГИК, у меня не было сомнений, что знаю о режиссерской профессии все. Когда начал снимать свою первую большую картину “Первый учитель”, уже думал, что знаю почти все. Затем, уже снимая “Асино счастье”, понимал, что знаю далеко не все... И с каждой новой картиной рамки профессии все больше и больше раздвигаются, и мир кинематографа становится все более и более проблемным. И понимаешь, что этот мир настолько необъятный и бездонный, что для того, чтобы постичь его, не хватит всей жизни.
P.S. Сейчас, когда эта книга совершает свое путешествие по кругам издательства и типографии, я уже поглощен работой над новой картиной. Со времени выхода на экран “Романса о влюбленных” прошло два года, и, честно говоря, о многом из того, что написано здесь, я думаю иначе, чем прежде. И даже сама сущность кино в достаточной степени представляется иной. Каждый новый фильм, более того — каждый новый съемочный день по-новому ставят вопрос о природе кино и дают на него новый ответ.
Движение вперед в искусстве напоминает ходьбу вперед затылком: неплохо видна трасса пути пройденного, но все, что впереди, скрыто от глаз. Можешь наблюдать лишь оставленные тобой следы — следы на песке...
Ноябрь 1976 г.



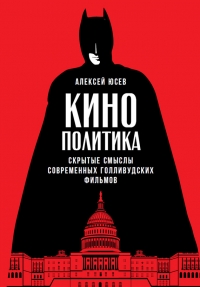

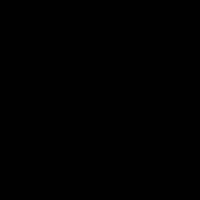

Комментарии к книге «Парабола замысла», Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский
Всего 0 комментариев