МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1925 № 4
*
Изд-во «П. П. СОЙКИН»
ЛЕНИНГРАД, — СТРЕМЯННАЯ, 8.
Ленинградский гублит № 3017
Тип. Гос. Изд. им. Гутенберга,
Ленинград, Стремянная, 12.
Tиp. 25.000
СОДЕРЖАНИЕ
«ГОЛУБЫЕ ЛУЧИ»
Рассказ Н. Квинтова. Иллюстр. А. Порет
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ». Задачи №№ 3 и 4
«ПРИЛИВ»
Рассказ Ф. Пирса. С английского перев. Анны Б.
«4. 4. 4»
Рассказ Н. Москвина и В. Фефера
«НОВЫЕ РОДЫ СПОРТА». С 2 иллюстр.
«ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ»
— III. «ТАЙНА РОСТА»
Рассказ К. Фезандие. С английского
«В ДОМЕ КРИВОГО ФЕРМЕРА»
Рассказ А. Гербертсон. Иллюстрации М. Михайлова
«ПАТЮРЕН и КОЛЛИНЭ». (Эксплоататор солнца)
Рассказ Б. Никонова
«ЧЕЛОВЕК НА МЕТЕОРЕ»
Повесть Рей Кеммингса. Часть III.
С англ. перев. Л. Савельева
«ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА».
Восточная сказка В. Розеншильд-Паулина.
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ». Задача № 5
«ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ ОКЕАН»
Первый перелет цеппелина из Германии в Америку.
«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ»
Откровения науки и чудеса техники:
— «МИР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ и МИР ВИДИМЫЙ»
Статья проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца) с иллюстр.
— «НОВАЯ СТРАНА?» — «НЕИЗВЕСТНАЯ КУЛЬТУРА?»
— «ЛУЧИ СМЕРТИ». С иллюстр.
— «ЧУДЕСА КИНЕМАТОГРАФИИ». С иллюстр
— «ФОТО-СКУЛЬПТУРА». С иллюстр.
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК на 3-й стр. обл. (отсутствует)
Обложка исполнена художником М. Я. Мизернюком
…………………..
«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ» выходит ежемесячно книгами, со множеством иллюстраций русских и иностранных художников.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год с доставкой и пересылкой 6 руб., на 6 мес. — 3 рубля, на 3 мес. — 2 руб. Отдельный № — 50 к., с пересылкой — 70 коп. При коллективной подписке допускается рассрочка подписной платы, за поручительством кассиров, по 50 коп. в месяц. Необходимо обозначать, на что посылаются деньги и с какого № надлежит высылать журнал.
ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ:
Ленинград, Издательство «П. П. Сойкин». Стремянная, 8.
ГОЛУБЫЕ ЛУЧИ
Рассказ Н. Квинтова
Рисунки А. Порет
I
Саллинг проснулся, быстро встал на ноги, оглядел внимательно комнату. Здесь ему предстояло, может быть, прожить целый год. Он прошелся кругом, качая головой: в так хорошо обставленной комнате он еще никогда не жил.
Бежав из царской России пять лет тому назад, в поисках работы он все время скитался по Америке, не имея оседлости. От голода его спасла только физическая сила. Спасла она его и вчера, когда, найдя случайную работу по разгрузке парохода, он привлек внимание стоящего в порту человека, который нанял его на таких странных условиях, что Саллинг еще сейчас не мог понять толком, в чем дело.
— Вы будете получать 100 долларов в месяц, — сказал ему человек, по фамилии Рейтс, — на всем готовом. Вы должны охранять дом, парк, где стоит дом, и лабораторию. Днем вы свободны — но не имеете права уходить от дома дальше километра. Если я вас уволю раньше срока, вы получите за год. Если вы уйдете раньше срока, вы платите обратно все полученное. В доме большая библиотека — днем вы можете в ней работать.
Саллинг подумал и сказал: — Баста! я согласен!
Его очень привлекала библиотека, лаборатория и сам Рейтс — резкий, сухой, но подвижный, — быстрый, словно сделанный из резины и стали. Потом они пошли в кабачек, где Саллинг много пил пива и виски.
Дальше он плохо помнил. Он знает только, что ехал на автомобиле, — дело было уже ночью, — должно быть часа два-три; подъехали к большому дому, потом Рейтс показал ему комнату, и вот теперь Саллинг ее осматривал, вспоминая вчерашнее. Комната имела шкаф с книгами, два зеркала, письменный стол, мягкие кресла, рядом — ванную. Кровать была в нише, закрытая занавеской.
— Здорово! — сказал он, — сроду не живал в таких. Ну, ладно! посмотрим, что будет дальше.
Он оделся, вышел и сразу остановился, как может остановиться человек, внезапно очутившийся в неведомом чудесном мире, о котором говорят только в сказках.
— Вот так история! — проговорил он, — это — сад, это — действительно сад! Он никогда не видел такой массы самых удивительных, необычайных цветов, которые заполняли затейливых рисунков клумбы. Больше всего поразили Саллинга маленькие деревья и статуи. Прямо перед ним стояла статуя Науки. Это была слепая женщина, которая протягивала руки вперед; к ней подползали в виде отвратительных чудовищ Невежество, Лень и Война. Лицо статуи было необычайно прекрасно. Саллинг стоял и смотрел, не отрываясь от чудесного лица.
Перед ним стояла статуя Науки. К ней подползали отвратительные чудовища: — Невежество, Лень и Война…
— Что приятель, нравится? — раздался голос. Саллинг оглянулся. На одной из клумб сидел старик, подвязывая цветы.
— Здравствуйте, — сказал Саллинг.
— Здорово, — проговорил садовник, — а вот посмотрите туда.
Саллинг посмотрел. Он увидел большой шар, весь сделанный из цветов. Окраска цветов была так необычайна, что Саллинг, не веря себе, быстро подошел и посмотрел, даже тронул шар рукой.
— Живые, — пробормотал он. Старик громко и весело смеялся.
— Настоящие, настоящие, — проговорил он.
— Я никогда ничего подобного не видел, — сказал Саллинг.
— Что, хорошо?
— Удивительно!
Старик был доволен. Ему, видимо, очень нравилось восхищение и изумление Саллинга.
— Больше года я бился над этим шаром.
— Это сделали вы?
— Ну, конечно, я, или, вернее, я и мисс Файфтс, дочка профессора.
— Файфтс? Тот самый Файфтс, — воскликнул Саллинг, — который утверждал, что животные видят мир не таким, каким видим его мы? Который изобрел очки, надев которые, люди сходили с ума?
— Ну да, тот самый, которого люди называют сумасшедшим, которого чуть не убили и которого правительство изгнало из университета, после того как он подарил человечеству много великих изобретений, — проговорил с раздражением садовник.
— Вот как, — сказал Саллинг, — так он здесь?
— Здесь. И вон его лаборатория.
Вдали виднелось большое белое здание с громадным, как на церквах, куполом.
Старик поднялся и произнес: — Пойдемте. М-р Рейтс сказал, как вы проснетесь, то сходите к нему.
Саллинг густо покраснел.
— Ничего, ничего, — сказал старик, — отчего молодцу и не выпить — бывает!
Они вошли в дом, который стоял невдалеке от лаборатории, прошли корридор.
— Когда кончите разговор, — сказал старик, — то заходите ко мне, я — садовник, зовут меня Анден. Вы играете в шахматы?
— Да.
— Хорошо, хорошо. Я живу там, где оранжерея. Вот кабинет м-ра Рейтса.
Рейтс сидел за столом и что-то писал.
— Ааа, — сказал он, улыбаясь.
— Простите, мистер, — сказал Саллинг.
— Ничего, — сказал Рейтс. — Ну, как вы устроились?
— Хорошо, — сказал Саллинг. — Как здесь красиво! Прекрасно…
Рейтс достал из ящика деньги и, отдавая их Саллингу, сказал: — 100 за месяц вперед.
— Благодарю вас.
— Относительно обеда, завтрака и всего иного — вот, и Рейтс протянул ему бумагу. Здесь все написано, — добавил он. — Если что надо, обращайтесь ко мне. Собак вам покажет Анден. Они слушаются только его.
Саллинг поклонился и хотел уйти.
— Саллинг, — сказал Рейтс, — вы помните все условия?
— Да, мистер, — сказал он твердо. Перед его глазами почему-то мелькала статуя Науки и отвратительное чудовище, ползущее к ней.
— Да, мистер, — повторил он, — вы можете быть покойны.
II
Салин, переделанный американцами в Саллинга, лихорадочно рылся в библиотеке. Все происшедшее с ним за последнее время было так необычайно и таинственно, что требовало объяснений.
Вот уже второй месяц, как он здесь. Он караулит ночью, гуляя со своими собаками. Днем — занимается, играет в шахматы с Анденом, помогает ему ухаживать за цветами, или работает с ним в оранжерее. С остальными обитателями он не сошелся. Это были, как на подбор, угрюмые, замкнутые люди, никогда не выходившие из парка. На волю, в город ездили только двое: управляющий и помощник Андена, неповоротливый, глуповатый немец, по фамилии Шимлер. Саллинг не знал даже, в какой стороне город. На все его вопросы Анден прямо сказал: — не велено говорить. — Другие молчали. Профессора Файфтса он никогда не видел. Говорили, что профессор совсем не спит и работает целые дни и ночи. Часто из лаборатории доносился шум, как взрывы, и раз даже Саллингу послышались стоны.
С профессором работал Рейтс и еще один человек, по имени Вирт. Это был небольшого роста, плотный человек. Саллингу казалось, что он смотрит на него, как коршун на цыпленка, как змея на птицу. Саллинг его ненавидел.
Ему припомнилось, как один раз он помогал Андену подрезать цветы в какой-то затейливый узор.
— Мисс Файфтс!
Саллинг поднял голову и увидел мисс.
Лицо ее было задумчиво и странно печально.
— Боже, — где я видел это лицо? — подумал Саллинг, вглядываясь в нее.
Мисс Файфтс никогда не выходила одна. Ее всегда сопровождала пожилая женщина, не спускавшая с нее глаз.
— Что, она стережет что-ли ее? — размышлял Саллинг. — Когда мисс проходила мимо, Саллинг снял шляпу и поклонился. Она удивленно и как-то — испуганно взглянула на него.
Старик Анден заговорил с нею о цветах. Она страстно любила цветы и все чудеса сада, и сам Анден находился под ее покровительством.
Говорили, что профессор ее любит без памяти.
— Вспомнил, — сказал себе Саллинг, — у ней лицо, как у статуи Науки.
Когда она кончила говорить, то, проходя мимо Саллинга. громко ему сказала:
— М-р Саллинг, это хорошо, что вы любите цветы.
Анден, провожая ее взглядом, смотрел на нее, как на высшее существо, которое случайно ходит по земле.
Прошло несколько дней. Саллинг поправлял испорченную дождем дорожку. Вдали показалась мисс Файфтс. Сзади Анден что-то показывал её спутнице.
Поровнявшись с ним, мисс Файфтс быстро сказала: — Бегите отсюда, бегите!
Саллинг вздрогнул, но быстро овладел собою.
После этого случая он стал внимательнее. Он увидел, что в усадьбу часто привозили животных — собак, обезьян, один раз даже привезли клетку кошек. Зачем они? Почему их так много? Куда они деваются?
Саллинг пошел к Рейтсу и сказал, что нужен револьвер. Он рассказал целую историю, что в западной стороне парка видел ночью двух мужчин, которые быстро удалились при его приближении. Он хотел их остановить, но один из них вынул револьвер. Рейтс очень обеспокоился, подробно и долго расспрашивал Саллинга про этот случай, выдал ему оружие и велел стрелять в случае попыток проникнуть в усадьбу.
Все это мелькало у него в голове, когда он искал в библиотеке старые газеты, в которых описывалось изобретение профессора Файфтса, и те ужасные очки — очки смерти, как их называли газеты. — В чем дело? Что такое? — спрашивал себя Саллинг, почему я должен бежать? Что может угрожать мне?
Он тщетно искал в библиотеке: кроме нескольких старых журналов, в которых был портрет профессора и ничего не объясняющие газетные заметки, интересного и подходящего к делу не было.
Он пошел прямо к Андену. Анден сидел в своей комнате, около него лежала собака, которая приветливо застучала хвостом по полу.
— Ну, молодец, — сказал Анден, указывая на шахматную доску, — она ждет и скучает.
Саллинг проиграл первую и вторую партии.
— Что-то вы не в порядке, — заметил Анден.
— Анден, — проговорил Саллинг, — вы наверное знаете, что делают они в лаборатории…
Анден быстро встал, взглянул в окно и закрыл дверь.
— Тише, — сказал он, — об этом нельзя говорить.
— Вы что-то знаете, но не хотите или не можете мне сказать, но я узнаю сам.
— Упаси вас бог! выкиньте это из головы, если… если…
— Что? — наклонился к нему Саллинг.
— Вот что, мой мальчик, — сказал старик, — будем ухаживать за цветами, играть в шахматы, а остальное — дело не наше. И что это вам взбрело в голову? Бросьте это!
— Я не могу, и сама мисс…
— Что? что? — крикнул Анден.
Его глаза остановились, лицо стало ярко-красное, голос дрожал и прерывался. Он вскочил на ноги и, крепко ухватившись обеими руками за край стола, не отрывая глаз, смотрел на Саллинга.
Собака вскочила и, словно угрожая неведомому врагу, зарычала.
— Что, что мисс? — повторил садовник.
Саллинг тоже вскочил и, глядя прямо в глаза Андену, тихо проговорил: — Мне мисс сказала недавно, чтобы я бежал отсюда, а сегодня я получил вот что. Он протянул Андену клочек бумаги. Анден схватил его и прочел: «бегите, бегите отсюда, как можно скорее, ради вашего счастья и жизни. Ф».
— О, боже, — простонал Анден, — так значит это правда!
Он опустился на кресло и закрыл лицо руками.
Саллингу казалось, что старик рыдает.
— Что такое, Анден? да скажите мне что-нибудь! я ничего не понимаю!
Анден встал, вышел в другую комнату и скоро вернулся оттуда, держа в руке газету и журнал. Он молча протянул Саллингу и указал в газете место, обведенное карандашом.
«Очки Смерти»[1] — таков был заголовок заметки.
«Знаменитый профессор Файфтс вчера, в заседании научной ассоциации физиологов, делал доклад о своих последних работах.
Профессор утверждает, что видимый человеком мир совершенно не таков, как воспринимается нами. Человеческий глаз — это такой несовершенный инструмент, при помощи которого может быть постигнута лишь незначительная и неверная часть мира. Например, белый луч не есть на самом деле белый — это сумма нескольких ярко окрашенных лучей, чистая вода— голубого цвета и т. п. Можно привести бесконечное количество примеров несовершенства глаза, но достаточно указать хотя бы еще на солнце и луну, которые кажутся нам на горизонте значительно больше, чем тогда, когда мы их видим в верхней части неба.
Помимо этого, т.-е. несовершенства глаза, сама окраска предметов в; природе настолько мало изучена, что представляет обширное поле для научных изысканий. Всем хорошо известно, что внутренняя окраска вещества зависит от свойства поглощения определенных лучей внутри этого вещества. Так, например, тонкий слой золота пропускает зеленые лучи, серебро — голубые.
Исходя из этих положений, профессор Файфтс говорит, что истинная природа видимых нами предметов, или, скажем мы, ограничив мысль Файфтса, окраска, в действительности, совсем иная. Цвет предмета слагается для нас из свойств глаза плюс свойства поглощения цветовых лучей тем предметом, на который мы смотрим.
На основании всего этого профессор утверждает, что впечатление, получаемое мозгом от внешнего мира, в конечном итоге, есть результат опыта рода, «переданного ребенку его родителями и целым рядом поколений.
Профессор говорит, что видимый мир — вовсе не таков, каким мы его ощущаем. Сославшись далее на ряд философов: Канта, Шопенгауэра и других, профессор демонстрировал кошку, которая, будучи проф. Файфтсом подвергнута особому химическому воздействию, может отчасти воспринимать мир в реальном виде.
Кошка легко и свободно проходила через железную стенку и поднималась на воздух, когда ей навстречу посылали через рупор сильные волны электрических лучей.
По окончании опыта кошка упала замертво, причем ее сводили страшные судороги и корчи, и из ее тела выходила голубая жидкость, моментально исчезавшая.
Доклад профессора кончился ужасно. Профессор предложил кому-либо из присутствующих одеть особые очки, чтобы видеть «истину». Очки надел ассистент Талерс, и тут произошла тяжелая сцена.
Едва надев очки, Талерс громко крикнул: «голова, голова, ничего нет, ничего, все бежит, бежит… — и с громким криком, страшно извиваясь, упал на пол.
Едва надев очки, Талерс громко крикнул: «голова, голова, ничего нет, все бежит, бежит!»…
С него поспешили снять очки, но было поздно. Талерс умер. Из его головы вытекала какая-то голубая жидкость, которая моментально исчезала. Возмущенное опытом собрание, в страшном негодовании, упрекало проф. Файфтса.
По достоверным слухам, профессор Файфтс оставляет университет и уезжает из нашего города».
Саллинг медленно сложил газету. Тяжелое подозрение мелькнуло у него в толове.
Что такое, Анден? В чем тут дело? Анден молча протянул ему журнал. Статья называлась «Голубые лучи».
«Каждому известно, насколько несовершенное орудие представляет человеческий глаз. Читатель еще с детства, вероятно, помнит, так называемые оптические фокусы: одинаковой длины и толщины линии, расположенные известным образом, производят впечатление совершенно различных. Кажется, что одна линия короче, другая — толще. Между тем, взяв циркуль, вы убедитесь, что они одинаковы. Также рельсовый путь — рельсы кажутся вдали приближенными друг к другу. Переменный электрический ток состоит из. ряда последовательных вспышек и потуханий, а глаз видит лишь сплошное горение. Как на простейший пример несовершенства глаза, укажем на кинематограф. Каждый припомнит такие обманы зрения, не говоря уже о так называемых миражах, которые видят в пустыне. Все эти ошибки глаза называются оптическим обманом.
Отсюда можно заключить, что глаз человеческий очень и очень ошибается. Раз доказано, что глаз ошибается в таких-то и таких-то случаях, то можно с уверенностью сказать, что могут быть и еще ошибки глаза, такие ошибки, которых мы пока не замечаем.
Вот от этого простого положения исходит знаменитый учюный, профессор Файфтс. Он утверждает, что весь видимый нами мир совершенно не таков, каким мы его видим. Проф. Файфтс построил аппарат, сущность которого, конечно, тайна, но основное заключается в следующем. Животное подвергается действию особых, голубого цвета лучей, исходящих из аппарата. Благодаря действию этих голубых лучей, животное получает способность, по словам профессора, видеть мир таким, какой есть, т.-е. глаз видит потухание и зажигание переменного электрического тока, видит, что все окружающие предметы несутся с невероятной быстротой, вращаясь, подобно солнечной системе, видит колебания воздуха от музыки, видит тепловые лучи и т. п.
Действительно, животные, подвергнутые действию этих лучей, производят странное впечатление. Они своими движениями то напоминают человека в темноте, среди незнакомых ему предметов, и словно обходят что-то, неведомое нам, то вдруг начинают свободно подниматься по совершенно гладкой стене, напоминая своими движениями лунатиков. Но эти опыты с животными находятся еще в стадии разработки, так как животные очень быстро умирают странной смертью, в страшных мучениях, и после смерти все тело их покрывается голубой жидкостью, внезапно появляющейся и внезапно улетучивающейся. Последнее явление, по словам профессора Файфтса, объясняется насыщением тела голубыми лучами, которые в теле превращаются в жидкость, исчезающую со смертью животного, так же как в теле человека вдыхание воздуха, т.-е. сложного газа, перерабатывается в различные химические элементы и выделяется человеком в виде углекислоты.
По словам видных ученых, открытие профессора Файфтса произведет полный переворот в науке».
Саллинг молча сложил журнал и положил его на стол. Великое открытие-профессора Файфтса его поразило. Несколько минут они молчали.
— Анден, что это значит? в чем дело? — сказал Саллинг, указывая рукой, на журнал.
— Все, здесь написанное — сущая правда: профессора прогнали из города. Он построил здесь лабораторию; вот уже скоро два года, как мы здесь, живем.
— Но в чем его учение? Что это за голубые лучи? Что это все такое?
— Мой мальчик, — сказал Анден, — я знаю только цветы: физика, химия или что там другое — для меня непонятно. Но, — старик приблизил свои? губы к его уху: — здесь есть человек, который тебе все расскажет или даст прочитать.
— Кто это? — крикнул Саллинг.
— Тише, тише! — Анден оглянулся кругом: — это Шимлер.
— Что!? — воскликнул Саллинг, Шимлер?.. этот неповоротливый немец?
— Тс… это вовсе не Шимлер. Это-сын известного профессора Чильтоуна.
— Шимлер?… Чильтоун?.. — бормотал Саллинг, — дико смотря на Андена. Все события последних дней выбили его из колеи. Все, происходящее здесь с самого дня его приезда и, особенно, последние дни, наполняло его мозг такими вопросами, что ему казалось порой, что его голова лопнет, как сильно раздутый шар.
— Садись-ка сюда, — указал ему Анден на кресло, — и слушай.
Саллинг встал, схватил кружку и наполнил ее водой. Выпил один раз, два, три…
— Будет, будет! — смеялся Анден, — ты не лилия.
— Фу! — проговорил Саллинг, садясь в кресло. — Ну и дела!
— Да, — проговорил Анден. — Ну, ладно, слушай. Этот Шимлер на самом деле — сын Чильтоуна. Его отец — старый товарищ нашего профессора: только он был в университете в другом городе, хотя приезжал к нам часто работать. Потом уехал в Европу. В это время подвернулся Рейтс и совсем забрал нашего профессора в руки. За ним явился и Вирт. Оба они простые ассистенты, хотя Вирт, кажется, врач. Вот тут-то и случилась история с Талерсом, что ты читал здесь, — показал Анден на газету. — Ну, как это случилось, сейчас же приехал и Чильтоун. Они тут крупно говорили, а дело, однако, кончилось тем, что Файфтс и слушать его не хотел. Профессору пришлось уехать из города. Рейтс нашел здесь усадьбу, построил лабораторию, и мы все переехали сюда. Только раз мне и говорит мисс: Анден, ты помнишь профессора Чильтоуна? Помню — говорю. Ну, так вот, его сын придет к тебе, как немец Шимлер и ты его возьми помощником, но — никому, понимаешь, никому ни полслова. Так все и вышло. Шесть месяцев тому назад пришел Чильтоун, весь обросший волосами, как обезьяна, грязный, рваный, родная мать бы не узнала, и нанялся к нам. Рейтс взял сразу, узнав, что он иностранец. Ты — русский, он — немец. Американцы здесь, кроме профессора, Вирта да Рейтса, только я, да управляющий.
Анден замолчал.
— Что он тут делает, этот Чильтоун? — нахмурив брови, спросил Саллинг.
— Этот Чильтоун — родной брат мисс.
— Брат? — удивился Саллинг.
— Да. Жена Чильтоуна вышла второй раз за нашего профессора.
— А где же она теперь?
— Скончалась. Как родила мисс, так через два дня и скончалась. После ее смерти Чильтоун с Файфтсом и подружились-то, — помолчав добавил Анден.
— Вот что! — облегченно вздохнул Саллинг.
— А ты что думал? — спросил Анден, хитро прищурив глаза.
— Нет, я так!.. — начал Саллинг, чувствуя, как краска смущения заливает его лицо.
— Эх! — покачал головой Анден. — Ты не робей!
Саллинг, низко наклонив голову, стал набивать трубку.
III
На следующий день Саллинг около 3-х часов пришел к Андену. Чильтоун был уже там. Он молча протянул Саллингу руку.
— Я знаю от мисс Файфтс о вас и Анден говорил мне, что вы можете помочь нам, и человек надежный. Я вам расскажу, что знаю сам, но нам нужно торопиться — я еду сегодня в город.
Они сели вокруг стола. Анден закурил свою неизменную трубку, и Чильтоун начал:
— Современная наука признает существование особых химических лучей, таких лучей, которые обнаруживаются в спектре белого луча. За фиолетовым лучем был найден иной луч, невидимый глазом, но обнаруживаемый химически. Профессор Файфтс утверждает, что все существующие в мире предметы имеют химические лучи. Он утверждает, что световые лучи — это не что иное, как химический элемент, как воздух, вода и т. п. В данном случае профессор Файфтс близко подходит к теории света Ньютона, допускавшего существование особого рода вещества, из которого состоит свет. Это учение ныне наукой отвергается. Вот ссновное положение, из которого исходит профессор Файфтс.
— Кроме того, Файфтс утверждает, что все предметы имеют особые лучи, посредством которых глаз человека воспринимает предмет. Нечто подобное имеет наука в открытии Герцом в 1888 году электрических лучей, дающих одинаковые со световым лучом явления. Следя дальше, — продолжал Чильтоун, — за мыслью Файфтса, — неизбежно следует придти к выводу, что химическое свойство светового луча и химическое свойство лучей, испускаемых различными предметами, — одинаково.
— Все, без исключения предметы, — продолжал он, — имеют особые лучи. Профессор их называет просто по цвету голубыми лучами. Как луч от солнца, от свечки, от электрической лампочки — все эго по существу испускает химически-однородный луч.
— Дальше: вот этот стол, — Чильтоун дотронулся рукой до стола, перед которым они сидели, — вот этот шкаф, эта чашка, это дерево, вы, я — все… все в мире имеет голубые лучи.
— Понятно? — спросил он Саллинга.
Саллинг задумчиво покачал головой и сказал: — не совсем.
— Вам трудно потому, — сказал Чильтоун, — что всякая новая и смелая мысль, которая опрокидывает установившееся понятие, всегда трудно усваивается мозгом. Но я вам поясню это. Возьмем этот стол. Вы его видите днем, при искусственном свете, и не видите ночью. Почему? Потому, что солнце, лампа дают видимые вами лучи, которые как бы схватывают стол и отражают в ваш глаз. Но наукой точно установлено, что есть лучи, которые существуют, но которых глаз не воспринимает в силу несовершенства своего устройства.
Все знают, что есть микробы, которых невооруженный глаз не видит, а видит только в микроскоп. Так и здесь. Есть ультрафиолетовые лучи— глаз их не видит, они обнаруживаются только на фотографической пластинке. Есть инфра-красные лучи — их можно обнаружить, например, посредством повышения температуры тела, на которое они падают.
Отсюда следует, что нужно иметь особый прибор для глаза, чтобы видеть невидимые простым глазом лучи. Профессор Файфтс изобрел такой прибор. Стол в темноте так же видим, как и при солнце, потому что стол, как и все в мире, имеет самостоятельные лучи. Это установлено Файфтсом. Другими словами, благодаря профессору Файфтсу, известно, что нет темноты, нет света, а есть только лучи, видимые нами или невидимые. Вот и все. Это ясно?
— Теперь я понял, — сказал Саллинг. — Но, мистер Чильтоун, объясните мне, почему кошка проходит через железо, почему она ходит по воздуху, почему умер Талерс, что это такое «очки смерти», что это за голубая жидкость?
Чильтоун опустил голову, — его лицо стало задумчиво и печально.
— Саллинг, — сказал он, — вы мне задали тяжелую задачу.
— М-р Чильтоун, — вскричал Саллинг, — я поклялся себе спасти профессора, но я должен все знать о нем, — это не любопытство, нет… нет, клянусь вам! Вот моя рука, — если вы верите мне, то вы должны меня понять…
Чильтоун взял его руку и крепко пожал ее.
— Я верю вам, — сказал он, — спасибо. — Анден, — обратился он к садовнику, — я нашел благодаря вам хорошего товарища.
— Правильно, м-р Чильтоун, — оживился Анден, — я его сразу узнал, он хороший человек, — проговорил он, хлопая Саллинга по плечу. — Я не ошибся: кто проработал, как я, сорок лет с цветами, тот в людях не ошибается, — добавил он, садясь в свое любимое кресло.
Чильтоун улыбнулся.
— Ну, слушайте, Саллинг. Тяжелая это история… Современная наука доказывает, что некоторые видимые нами предметы, — начал Чильтоун, — имеют иную окраску, так, например, цвет золота в действительности — красно-оранжевый, серебра — оранжевый, меди — ярко-пурпуровый и т. д.
Профессор Файфтс говорит, что все в мире одного цвета — голубого. Этот голубой цвет есть не что иное, как свойство любой материи. Отсюда — все по химическому составу однородно. Все, выражаясь грубо, окрашено одной природной голубой краской. Профессор Файфтс изобрел особые очки, надев которые, человек видит при солнце, в темноте, безразлично при каких условиях, все голубым, т.-е. истинным. Луч света, по Файфтсу, есть химический элемент (это очень важно помнить), — значит — с этим лучом можно производить химическую реакцию; как, напр., вода есть химический элемент, и водой можно насытить, напр. материю, сделав ее мокрой, так лучом можно насытить другое тело. После пятилетних опытов профессору Файфтсу удалось насытить кошку на 80 % голубыми лучами — кошка стала как бы сплошь состоять из лучей, — глаз, конечно, это уловить не может. Так же было поступлено и с железом: оно было насыщено голубыми лучами. Электрические лучи, например, свободно проходят через стены, дверь и т. п. (это наукой установлено); отсюда — кошка проходит через железо, как луч солнца через стекло. Кошка ходит по тепловым, или, вернее, по неизвестным нам лучам — потому что она легка, как муха.
— Вот как я могу объяснить опыты Файфтса. Но животное, насыщенное голубыми лучами, долго прожить не может — оно умирает, и из него исходит голубая жидкость. Что это такое? Это есть опять не что иное, как лучи, но они видимы всеми, как жидкость, потому что они были сгущены в кошке в колоссальном количестве. Это такое же явление, как переход газов в воду.
— Понятно? — закончил Чильтоун.
— Да, — протянул Саллинг с восхищением. — Ну и молодчина же этот Файфтс! Вот голова — воскликнул он изумленно.
— Да, — сказал Чильтоун, — и такой человек попал в когти к Вирту и Рейтсу. А теперь его проклинают во всем мире, как убийцу талантливого Талерса.
— Но Талерс, — что было с ним? — спросил Саллинг.
— Я сейчас вам объясню, — сказал Чильтоун. — Как вам известно, Талерс, надев очки, вскрикнул: — ничего нет? все бежит! Нужно предполагать, что эти, поистине, очки смерти давали возможность видеть все предметы, испускающими голубые лучи. Талерс видел сплошной поток лучей, и он крикнул «ничего нет», т.-е. все, видимое им простым глазом, потеряло форму — остались только потоки лучей. Потом он крикнул: «все бежит». Это Файфтс объясняет тем, что все предметы (элементы) состоят из атомов, строение которых есть не что иное, как подобие нашей солнечной системы. В атоме ядро — это есть солнце: вокруг ядра, как планеты, движутся электроны, — и Талерс, увидя это вращение электронов, крикнул: «все бежит».
— Между прочим, — сказал Чильтоун, — наука говорит, что ядро атома имеет водород, — этот газ, видимо, основа всякого атома — железа, воды, кости, дерева, человека и т. п. Это косвенно подтверждает теорию Файфтса об однородности всех лучей.
Чильтоун немного помолчал.
— Да, — продолжал он — поток голубых лучей хлынул через очки в голову, и произошла смерть. Все видели, как эти лучи, в виде голубой жидкости, вытекали из Талерса. Это то же явление, что и с кошкой.
Наступило молчание.
— А теперь что делается в лаборатории? — спросил Саллинг.
Анден пугливо поднял голову и внимательно посмотрел на Чильтоуна.
— Саллинг, — сказал врач, — вы — мужественный человек, но пока об этом ни слова. Сегодня я еду с управляющим, вернусь завтра, и тогда я посвящу вас в мой план, а сейчас — ни слова. Хорошо?
— Идет! — воскликнул Саллинг.
Чильтоун встал и, пожав его руку, вышел из комнаты. Через несколько минут послышалось пыхтение автомобиля.
Саллинг задумчиво ходил по комнате, ступая тяжело, как будто нес какую-то тяжесть. Он внезапно остановился перед Анденом, медленно опустился в кресло и, глядя на него в упор, спросил:
— Анден, скажите мне правду, что вы думаете?
Старик поднял голову. Его лицо было печально, и на глазах блестели слезы.
— Саллинг, — сказал он тихо. — Вы славный парень. Вы любите цветы. Я вас тогда полюбил, когда вы стояли, широко раскрыв глаза, перед статуей Науки. Да, Науки! И потом, Саллинг, мисс никому не говорила того, что сказала вам. Бедняжка страдает. Избави ее бог от Вирта!
— Вирта?!
— Да — он ее жених.
— Что вы говорите, Анден! Возможно ли это?
— Увы, это так! Она не может любить его — эту змею. Его никто не может любить. Он погубил профессора — и погубит ее.
— Анден, это нельзя, это нельзя! — Саллинг поднялся. Его лицо было гневно, и кулаки сжимались.
— Что можем мы сделать? — покачал головой Анден. — Саллинг, — вы хороший человек, бегите отсюда, теперь это скажу и я. За ночь вы уйдете далеко.
— Скажите же мне, наконец, что такое? Какая опасность мне угрожает? Анден, вы должны сказать правду.
— Саллинг, слушай, мой мальчик, до тебя было три ночных сторожа. Правда, они были плохой народ, смеялись над цветами, любили водку и скверно смотрели на женщин, но, Саллинг, — голос старика перешел в топот, — все они внезапно исчезли.
— Исчезли?
— Да, Саллинг, исчезли. Рейтс сказал, что они убежали. Но теперь то я думаю другое. Я думаю, что они там, — кивнул он в пространство.
— Где там?
— В лаборатории.
— И-и… Анден, вы думаете?
— Да, мой мальчик, теперь я думаю, что их взяли для опытов.
— Для опытов?
— Да, профессор хочет узнать правду. Бегите, Саллинг, бегите. Я вам помогу.
Саллинг протянул свою руку и, найдя руку садовника, крепко ее пожал.
— Спасибо, Анден, но я не сдвинусь, с места.
— Саллинг, вы — безумец.
— Нет, Анден, нет! Помогите мне. Мы спасем мисс и, может, ее отца.
— Саллинг, что хотите вы делать? Вы забыли ваш разговор с Чильтоуном.
— Нет, Анден, я его помню, но то, что Чильтоун думает делать уже полгода, я сделаю в одну ночь. Больше я ждать не хочу. Хорошо, что он уехал.
— Саллинг, что ты задумал?
— Я сам спасу профессора и мисс. Я их спасу.
— Саллинг, что ты задумал! — повторял садовник, смотря на него с испугом.
— Анден, приготовьте сегодня автомобиль, самый сильный. Вы это можете сделать. Поставьте его у калитки к северной стороне.
— Саллинг, что ты задумал!
— Ничего дурного, Анден. Сделайте так, как и говорю.
— Только, мой мальчик, не надо крови.
Саллинг снова пожал руку старика и вышел из комнаты.
IV
Саллинг теперь больше не сомневался: он тоже нужен для «опытов».
— Ну нет! — сказал он, сжимая кулаки. — Меня не так просто взять. — Он решил сегодня ночью увидеть профессора, узнать от него всю правду и, если Вирт станет на дороге, — то горе ему! Анден говорит, что он погубил профессора, что погубит и мисс. Ну нет, этому не бывать! Он чувствовал, как нежное чувство просыпалось у него в груди. Он вспомнил печальное лицо мисс и почувствовал себя готовым на все.
— Всякий план хорош, когда он исполняется быстро, — сказал он. — Итак, сегодня ночью.
Как всегда, Саллинг ходил по парку, зорко смотря по сторонам. Он несколько раз подходил к лаборатории и пристально смотрел на нее, словно хотел проникнуть своим взглядом через стены. Лаборатория совсем не имела с кон. Ее крыша была сделана в форме громадного стеклянного купола, который почти каждую ночь ярко светился. Сейчас там было темно. Саллинг решил на рассвете проникнуть туда во что бы то ни стало. Что будет дальше, он не знал, но там, за этими стенами, укрывался Вирт, и Саллинг спасет от него мисс и профессора. Саллинг медленно пошел дальше. Вдали показался огонек сигары.
— Это — Рейтс, — подумал Саллинг. Рейтс часто гулял по ночам.
— Ну как, Саллинг, — спросил Рейтс, — не скучаете? Ночи теперь стали холодные.
— Да, мистер, становится свежо.
Рейтс подошел к нему. Саллинг увидел его лицо, и вдруг перед ним близко мелькнула рука, вспыхнул ослепительный голубой свет, острая боль пронзила все тело, и Саллинг потерял сознание.
V
— Саллинг, мистер Саллинг!..
Саллинг открыл глаза и прямо перед своим лицом увидел мисс Файфтс.
— Слава богу! Вы живы!
Саллинг несколько раз открыл и закрыл глаза. Он все видел в голубом свете: лицо мисс Файфтс, ее платье, вся лаборатория и какой-то странный, похожий на аппарат кинематографа, предмет, стоявший вдали, — все было голубого цвета. Саллинг хотел пошевелиться и не мог. Он увидел, что сидит в кресле. Его руки, ноги, голова и корпус были крепко привязаны ремнями к креслу.
— Да, мисс, я жив, но я привязан.
— Я развяжу вас, бегите отсюда, я велела Андену приготовить автомобиль. Мисс Файфтс быстро развязала ремни. Вдруг вдали послышались голоса.
— Помните, Вирт, это — в последний раз, я больше не могу.
— Профессор, — послышался голос Вирта, — вы посмотрите, какой это великолепный экземпляр.
Дверь отворилась, и Саллинг увидел профессора, Вирта и Рейтса.
— Дитя мое! Дитя, зачем ты здесь. Уходи отсюда, уходи.
— Мисс Файфтс, вам здесь не место, — проговорил Вирт, — пожалуйста, — он подошел к ней.
— Вирт — вы — подлец! — вскрикнула мисс Файфтс. — Отец, сию минуту отпусти этого человека!
Саллинг больше не мог. Он быстро поднялся во весь свой громадный рост. Раздался крик. Это Рейтс бросился на него. Ударом Саллинг опрокинул его на пол, и Рейтс упал замертво.
В это время раздался выстрел. Стрелял Вирт. Гигантским прыжком кинулся Салинг к нему, схватил его и, высоко подняв над собой, с силой бросил на землю. Послышался пронзительный крик Вирта, страшный шум и треск..
Випт упал на странный аппарат, который под тяжестью его тела рухнул на пол. И тогда Саллинг увидел, как из этого аппарата вырвался необыкновенной красоты голубой луч, который достиг купола и то место, где он коснулся его, вдруг стало перед глазами Саллинга быстро вращаться. Словно сотни и тысячи мельчайших тел внезапно, по какому-то необъяснимому закону природы, — получили движение и жизнь.
Вирт упал на странный аппарат… Вырвался необыкновенной красоты голубой луч… Тело профессора изогнулось в дугу…
— Мой аппарат, мой аппарат, мои лучи! — профессор бросился к аппарату.
Вдруг Саллинг увидел, что тело профессора изогнулось в дугу и медленно стало выпрямляться.
— Отец! — вскрикнула мисс Файфтс и бросилась к телу профессора.
Тогда Саллинг схватил ее в свои руки и бросился бежать из лаборатории.
Он видел, что вся комната наполняется голубым светом и как-то странно начинает двигаться. Саллинг, продолжая бежать, бросился в корридор, который отделял дом от лаборатории, пробежал ряд комнат и выбежал в парк.
Сзади раздался страшный треск — рухнул стеклянный купол.
Саллинг бежал через парк, держа в руках потерявшую сознание мисс Файфтс. С ним вместе бежали собаки, громко лая. Он добежал до калитки, увидел автомобиль и Андена.
— Боже! Что случилось? — воскликнул старик.
— Скорее, скорее! — проговорил Саллинг. Он положил мисс Файфтс на руки Андена, который стоял в автомобиле, и вскочил сам на руль. Сильная машина плавно двинулась вперед.
Раздался собачий лай.
— А! — вспомнил Саллинг. Он задержал автомобиль и свистнул. Собаки одна за другой прыгнули в автомобиль, одна уселась рядом с ним. Автомобиль быстро двинулся вперед. Когда они отъехали километров семь, раздался сильный шум, как во время бури. Они оглянулись.
Там, где была вилла, стояло большое зарево странного голубого цвета.
НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ
ЗАДАЧА № 3.
Найдите пять слов из трех букв, у которых различна только начальная буква, и остальные две — общие. Значение слов: дерево, часть дерева, связка, овощь, жесткокрылое.
ЗАДАЧА № 4.
Прочитайте, что здесь написано.
ПРИЛИВ
Рассказ Ф. Рихардсона Пирса
С английского пер. Анны Б.
— Скоро у нас будет маленький… Молодая женщина, произнесшая эти слова, робко взглянула на только что вошедшего в хижину мужчину. Но смысл ее слов, повидимому, не проник в сознание Блунта.
Он, — суровый, грубый человек, — пошатываясь, ввалился в комнату. Она, — черноглазое существо чуждой расы, — кротко ждало, когда он заговорит. Но он молча сбросил со своих широких плеч на пол тяжелую ношу. Что то звякнуло, из пакета потекла какая то жидкость и на неровном полу хижины образовалась лужица, издававшая резкий запах алкоголя. Мужчина был слишком пьян, чтобы сообразить, что случилось. Он тупо взглянул на пакет, высыпал на землю все содержимое, схватил разбитую бутылку и бессмысленно уставился на нее.
Клоох, — как звал Блунт девушку-индианку, — стала с детским любопытством разбираться в пакете. Она срывала обертки и, когда, наконец, нашла, что ей было нужно, тихонько вскрикнула от удовольствия. В руках у нее был мешочек с сахаром. Жадными руками засовывала она себе в рот лакомство.
Блунт следил за молодой женщиной со стула, на который упал всей тяжестью своего тела. Он не покупал для нее сахару. Торговец, верно, дал его в придачу.
— Эй! — крикнул он вдруг, — ты заболеешь, если съешь все это сразу. Дай сюда!
Она послушно отдала мешочек, и он швырнул его на верхнюю полку шкафа.
— Сахар будет лежать там до тех; пор, пока я тебе не позволю взять, его, — сказал он: — больная Клоох. мне не нужна.
Она робко произнесла несколько-слов, но не договорила и замолкла. Она поняла, что момент был неподходящим для обсуждений нового события в ее жизни.
Два года тому назад повстречалась, она на своем пути с Блунтом. Ранней весной пробивают себе рыболовные суда дорогу с севера через пролив. Унимак в Берингово море. Они бросают якоря в Бристольском заливе, покрытом еще маленькими ледяными-айсбергами. Тут в сезон собираются люди всех стран, образованные и необразованные, честные люди и преступники.
Они приезжают сюда работать. В свободное время они играют в карты, дерутся и так же случайно убивают друг друга. Некоторые сходят с ума, другие умирают, но работа всегда есть, для всех.
С озер и из рек сюда идет в огромных количествах лосось. Тела их серебрятся на солнце, когда их гонят в бухту. Тут их ловят, бьют, сейчас же-приготовляют и укладывают для консервирования в большие жестяные банки. Краны поднимают эти банки и? переносят их по воздуху на пароходы. Пароходы погружаются все глубже и глубже в воду, а к осени волны почти омывают палубу. Тогда суда уходят так же бесшумно, как и приходили, и? оставляют за собой безжалостную полярную зиму.
Блунт обратил внимание на девушку-индианку, ловко работавшую у этикетной машины. Он стал нашептывать ей слова, которые ее сначала пугали. Потом она начала понемногу верить его словам. Блунт, не задумываясь, перешагнул границы, разделяющие расы, и заключил союз, не закрепив его законом.
Когда наступила осень, девушку стал томить страх. Уедет ли он с другими на юг или останется с ней? Он остался потому, что в хижине было тепло и провизии было запасено в большом количестве и еще потому, что дешево можно было доставать «white mule», как звали в том краю водку. Всю долгую зиму он просидел у огня и дремал. Когда он сердился за что-нибудь на молодую женщину, он ее бил, но она и не ждала другого. За то она чувствовала себя бесконечно счастливой, когда он изредка относился к ней дружелюбно…
Клоох вполне можно было назвать хорошенькой. У нее была грациозная, стройная фигурка и в темных глазах ее горел скрытый огонь. Только ноги у нее были большие и бесформенные. Но это было наследием ее предков, сидевших на корточках у огня или зажимавших ноги в байдарках. Блунт никогда не отдавал себе отчета в том, как безгранично его любит эта женщина. Сам он из ревности запер ее — в одинокую хижину, где ни один мужчина не мог ее видеть.
— Послушай-ка, Клоох, — как то раз сказал он ей. — мы в этом году должны заработать много денет. Я найму моторную лодку. Ты, как туземка, знаешь мели, где больше всего лосося. Ты покажешь их мне. Надо заработать много денег. Возьмем на подмогу одного или двух парней-индейцев, а?..
Она была счастлива, что может ему пригодиться. Он стал работать с рассвета и до глубокой ночи. Иногда им помогал молодой индеец, Кукулак. Его звали так потому, что он был родом из бухты Кукулак. Он любил Клоох задолго еще до появления Блунта и с покорностью относился к настоящему положению вещей. Он знал, что так долго не протянется. Охотно работал он для молодой женщины и для своего счастливого соперника. Блунт называл его «сивас» и обращался с ним пренебрежительно, как со всеми туземцами.
Молодая женщина внимательно следила за Блунтом, когда он с наступлением осени стал считать свои деньги и временами нерешительно поглядывал на рыболовные суда. Страх терзал ее сердце. Какое решение примет Блунт?.. Но Блунт швырнул все деньги в ящик, который был у него спрятан под полом хижины, и пробормотал:
— Заработок хороший, можно продержаться еще год!
Жатва этого года, если возможно, была еще обильнее, но молодая женщина уже не знала беспокойства. Теперь она крепко держит его на всю жизнь, — думала она. В глазах ее сияла радость материнства.
Но сегодня он был так пьян, что не мог понять ее радостных слов. Соображаясь с его состоянием, молодая женщина вышла в соседнее помещение, служившее кухней. Он посмотрел ей вслед мутным взглядом.
— Вот нагрузка судов почти и кончена, через две недели они уйдут в приличные для порядочного человека страны. Через две недели, а тогда… — он чуть не падал со стула, но снова выпрямился резким движением, — а тогда я тоже уеду.
Он встал, покачиваясь прошел по комнате, повалился на кровать и мгновение спустя крепко заснул.
Через несколько часов он проснулся в очень плохом настроении. Обед был давно уже готов.
— Эй, ты! — крикнул он, — я есть хочу! Что с тобой сегодня приключилось? Вечно шатаешься по комнате. Пусть лентяйничают индейцы!
Она торопливо принялась ухаживать за ним. Поев, он уселся в ногах кровати, потирая болевшую голову.
— Когда придет сивас, — сказал он, — скажи ему, что мы на ловлю завтра не поедем. Мне нужно пойти поговорить с начальником.
На мгновение молодая женщина почувствовала прежний страх. Потом тихонько улыбнулась. Теперь был как раз подходящий момент. Она опустилась к ногам Блунта, прижалась нежной щекой к его коленям и шепнула ему несколько слов…
Блунт медлил ответом. Он побледнел и грубым движением оттолкнул ее голову назад, чтобы лучше — видеть ее лицо.
— Что это значит? — произнес он со сдерживаемой злобой. — Ты лжешь, Клоох, как все индейцы, когда они имеют дело с белыми. Ты знаешь, зачем я иду к начальнику и хочешь меня удержать. Но я белый человек! Не воображаешь ли ты, что я проживу всю свою жизнь с женщиной вашего племени? Ври себе дальше, меня все равно не удержишь.
— Ты не хочешь ребенка? — спросила она дрожащими губами на своем ломаном английском языке.
— Ты лжешь! — повторил он, злобно тряся ее за плечи, — ты знаешь, что ты лжешь. Перестань, слышишь?
Она всхлипнула. Но он продолжал кричать на нее.
— Говори ты настоящим языком, слезы тебе не помогут. Я решил ехать и так и будет!
— О нет, — умоляла она, — подожди, пока родится ребенок… такой большой, хорошенький ребенок… он будет похож на тебя, на своего… на своего… — она искала нужное ей слово и, найдя, улыбнулась сквозь слезы и продолжала — большой, хорошенький ребенок, совсем, как его паппи! Ты останешься со мной и с ребеночком.
— Скоро у нас будет маленький… — робко сказала Клоох.
Блунт встал. Молодая женщина бормотала жалкие, бессвязные слова. Но он оттолкнул Клоох и полуиспуганно, полусердито смотрел на нее. Потом молча одел свои мокасины, шубу и исчез во мраке ночи…
На следующее утро Блунт причалил свою моторную лодку в бухте, где стояли рыболовные суда. Уоллес, начальник, сидел у своей конторки. Он работал ежедневно от пятнадцати до восемнадцати часов, чтобы справиться к концу сезона с кипучей работой. Проходя под дождем по гавани, Блунт слышал бряцание воротов, стук жестянок. Когда Блунт вошел, Уоллес поднял голову.
— Здравствуй, Блунт, — равнодушно произнес он.
— Доброе утро, мистер, — ответил Блунт. — Я хочу в этом году вернуться с пароходом. Место-то верно найдется?
— Вы хотите вернуться? — удивленно спросил Уоллес.
— Да, почему бы нет? Я, ведь, могу ехать, когда хочу. А разве нет?
— Пусть так. А как же будет с девушкой-индианкой?
— Ах, это Клоох-то!.. Ей все равно. Ведь, она чувствует иначе, чем мы. А если бы и не так… она скоро забудет.
— Я в этом не совсем уверен. Я хорошо знаю туземцев и ваш не первый случай. Прошли те времена, когда мужчина мог себе брать индианку и через несколько месяцев спокойно бросать ее на произвол судьбы. Вы можете сесть на обратный пароход, но я уверен, что не успеем мы дойти и до пролива Унимак, как получится радиотелеграмма, и вас задержат, пошлют обратно и заставят исправить то, что вы наделали.
Уоллес нетерпеливо барабанил по разделявшему их столу и убедительно продолжал.
— Если бы у вас осталось что-нибудь, похожее на честь, я прибег бы к ней. Но это не произведет на вас никакого впечатления. Вы заработали груду денег, возвращались с полной лодкой, когда другие не имели никакого улова. И кому вы обязаны? Этой девушке и ее замечательному знанию местности. Послушайтесь моего совета, узаконьте ваш союз. Для вас это будет только барышом. Но, во всяком случае, общество, представителем которого я состою, взяло на себя обязательство доставить вас обратно на родину и я должен выполнить это обязательство.
Лицо Блунта все сильнее и сильнее краснело от злости. Но он дослушал Уоллеса до конца.
— Я еду с судами, — сказал он. — Мне нет дела до радио и жандармов. У меня двадцать тысяч долларов и если меня накроют, я себе найму хорошего адвоката.
— Вы заработали вместе эти двадцать тысяч долларов, а берете их все себе? Меня это нисколько не удивляет.
Спокойствие сразу покинуло Уоллеса и он вскочил со злобой.
— Мы исполним наше обязательство и доставим на родину ваш несчастный труп, а теперь убирайтесь вон с моих глаз… трусливая собака!
— Убирайтесь вон с моих глаз, трусливая собака!..
Засунув руки в карманы, Блунт мрачно ходил взад и вперед по набережной, ища выхода из своих затруднений. Кукулак, спускавший в воду моторную лодку, прервал свою работу и стал наблюдать за взволнованным Блунтом. Кукулака удивляло, что Блунт не на ловле. Если он не в состоянии работать с похмелья, почему бы ему не выспаться хорошенько? Что делает он здесь в такой ранний час?
— Гм, — бормотал про себя туземец, — Блунт не рад ребеночку…
Вдруг Блунт резко повернул и ушел, делая большие шаги. Кукулак последовал за ним по набережной до маленькой хижины. Тут встречались самые отчаянные парни из рыболовов и рабочих консервной фабрики. Человек, по имени Култус Джим, отвергнутый обществом, открыл здесь трактирчик и поставлял желающим «white mule». Блунт громко постучался в дверь и его скоро впустили. Кукулак, прильнув к тонкой стене, прислушивался, что происходит внутри. Сначала он услышал, как раскупорили бутылки и розлили содержимое по стаканам. Со вздохом облегчения выпил Блунт ядовитый напиток. Потом последовало молчание.
— Култус, — произнес, наконец, Блунт, — ты парень бывалый, много лет шатаешься в этом краю. Что нужно сделать, когда хочешь уехать из этого проклятого места, а на шее у тебя какая-нибудь Клоох?
— Надо от нее отделаться! — ответил Култус. — Ничего другого не придумаешь. Туземцы ценят белых людей и не выпускают их. Послушайте меня, я их знаю. Надо от нее отделаться.
— И чтобы меня за это повесили?
— Если тебя поймают, — возразил? Култус. — А если тебя застигнет в открытом море буря и ее смоет за борт..
Это. ведь, не преступление, а всего только несчастный случай.
Блунт протянул ему банкнот.
— Ну, это все пустая болтовня, — сказал он, — возьми эти деньги и забудь, о чем мы говорили.
Култус знал людей.
— Спасибо, спасибо, — пробормотал он, пряча деньги, — я ничего нс слышу, я ничего не знаю и не вижу. Иначе я не был бы здесь сегодня.
Кукулак со всех ног бросился кратчайшим путем к хижине Блунта. Клоох открыла ему дверь и он увидел, что она плакала. Кукулак готов был убигь Блунта, причинявшего ей столько горя. Но в миссионерской школе его выучили уважать белых, как бы ни были непонятны их поступки.
— Он сделал тебе больно? — спросил он.
— Сердцу, а не телу — глухо ответила она.
— Это еще больнее. Но потерпи, он уйдет с кораблями и все кончится.
— Нет! — крикнула она, — он не смеет уезжать. Он должен остаться со мной и с маленьким. Наш ребенок родится, когда выпадет январский снег. Пойди от меня к начальнику. Он справедливый и заступится за меня.
Кукулак медленно покачал головой.
— Это ни к чему. Он решил ехать. Лучше, чтобы начальник и полиция не вмешивались. Он из страха к ним хочет тебя убить, потому что ты можешь ему помешать. А мертвые молчат.
В глазах ее выражение удивления сменялось страхом и горем.
— Он-бы меня убил? — спросила она. задыхаясь. — Меня и маленького, который у нас будет?
Кукулак передал ей разговор Блунта с Култусом.
— Вот о чем они говорили, — сказал он. — но я буду тебя оберегать еще больше, чем прежде.
Она взглянула на него с благодарностью. потом на лице ее появилось выражение ненависти.
— Помни, — предупреждал ее Кукулак, — что ты не должна с ним выходить в море.
Потом Кукулак ушел. Она молча проводила его. В груди ее боролись любовь и ненависть. Сомнения терзали ее. Быть может Кукулак ошибся…
Блунт вернулся домой вскоре после двенадцати часов. Клоох ждала, что он будет злой и пьяный. Но взгляд его был ясен, он посмотрел на нее с улыбкой и бросил ей мешочек с сахаром. Она взяла сахар и окинула Блунта острым взглядом. Он поцеловал ее и шепнул:
— Ты славный зверек, Клоох. и я, верно, проживу здесь эту зиму.
Тогда она поняла, что Кукулак говорил правду. Он хотел неожиданной лаской усыпить ее недоверие, она поняла его цель…
Все следующие ночи Кукулак провел под лодкой возле хижины Блунта. Ему было ясно слышно все, что говорилось в хижине.
— Клоох, начальнику нужна еще рыба. Мы отправимся завтра.
Она возражала, но Блунт настаивал и, к ужасу Кукулака, она согласилась. Кукулак крепко заснул до утра. Но на восходе солнца он спустил свою моторную лодку, выехал в море, но скоро вернулся, точно с большой поездки.
— Эй, Блунт, — крикнул он, — поедем сегодня на ловлю. Поедем! Надо зарабатывать деньги.
— Мы едем сегодня вдвоем с Клоох. Ты нам, может быть, понадобишься в другой раз.
Кукулак взглянул на море. Дул резкий ветер.
— Что-ж, хорошо, — сказал он, — я зайду завтра.
Пока Блунт перетаскивал в лодку кое-какие снасти, Кукулак шепнул Клоох.
— Ты хочешь с ним ехать?
Она кивнула головой.
— Не надо, не надо, — умолял Кукулак, — он, ведь, только этого и ждет.
— Сегодня — мой день, — спокойно ответила она, — не беспокойся за меня и за ребеночка. Он будет здесь и тогда, когда наш маленький согнется от старости. Иди теперь!..
Кукулак нерешительно повиновался.
Морской отлив в Беринговом море уходил далеко за горизонт. Далеко, сколько охватывает глаз, тянутся песчаные низьменности и холмы в перемежку с тинистыми болотами и лужами воды. Потом медленно начинается прилив. Волна за волной заливает глубины, пока вся равнина не покроется волнующейся водой. Огромные, пенистые валы бьются о берег. Точно бурный поток мчатся они к берегу, наводя ужас на людей и животных. Громовой голос волн слышен уже издали. Бывает, что прилив задерживается в одном месте, точно поджидая большую силу природы — ветер.
Блунт часто наблюдал приливы, и их могучая сила удивляла и пугала его. Он знал, что при таком ветре сегодня можно ждать сильной волны. Ветер хлестал уже воду луж на песчаной равнине. Но сегодня он не боялся. Он выведет лодку далеко в море, где нет опасности от прилива. Он еще раз внимательно оглянулся в хижине, взял мешок с провизией и ведерко с водой и приказал Клоох следовать за собой. Она молча взяла теплую одежду и пошла с ним. Она хорошо знала все скрытые опасности мелкой воды и, по обыкновению, села за руль. Ее маленькие, сильные руки обхватили колесо, и лодка, движимая мощным мотором, помчалась в открытое море. Блунт обслуживал машину, помещавшуюся под декой. В холодные дни это было, по крайней мере, теплое место. Точно стрела мчались они вдаль. По временам Клоох меняла курс. Если бы Блунт видел это, он пришел бы в ужас, но услышав раз его шаги, она быстро изменила направление. Он бросил взгляд вокруг, не увидел других лодок и снова сошел вниз. Клоох оставила руль и спустилась к нему в машинное отделение. Быть может, ее погнала в море любовь и надежда на то, что судьба ее почему либо изменится, что в последнюю минуту явится спасение.
— Ты радуешься ребеночку? — шепнула она ему с блестящими глазами.
Он ласково погладил ее, но руки его дрогнули, коснувшись ее шеи.
— Конечно. Клоох. Беги к рулю, а то мы еще наскочим на мель.
Она сейчас же повиновалась с кажущейся покорностью.
— Никогда не была она так близка к смерти, как сейчас, — пробормотал Блунт, посматривая на свои руки. В душном машинном помещении пронеслось едва заметное дуновение воздуха. Открылось сверху маленькое окошко, и темные глаза индианки впились в Блунта. Потом окошко снова бесшумно закрылось. Тихонько прошмыгнула она в заднюю часть лодки и развязала веревки, привязывавшие шлюпку. Это была байдарка, легкая лодка из кожи с единственным отверстием посредине для гребца. Потом она вернулась к рулю. Всего в нескольких метрах впереди белелась вода над мелью. Опытным взглядом рассчитала она расстояние, силу течения и быстроту лодки. Она дала рулю еще поворот и остановила его. Потом вернулась к байдарке. Сильными руками подняла она лодочку и опустила се за борт.
С громким треском вонзилась моторная лодка в песок… Блунт упал на пол. Он с трудом поднялся, проклиная неловкость Клоох. Потом стал возиться с мотором. Лодка дрожала и качалась в бесплодных попутках освободиться. Блунт остановил мотор и бросился наверх. Лицо его стало пепельным, когда он понял, что произошло. С ловкостью, присущей только туземцам в управлении байдарками, мчалась молодая женщина по волнам. Крошечная байдарка почти исчезала под волнами, весла двигались с равномерностью машины. Блунт сложил руки рупором и заревел ей вслед. Он умолял, кричал, — ничего не помогало.
Он погиб, если на помощь не подоспеет какая нибудь лодка. У киля бурлила мутная вода. С ужасом видел он, что лодка все глубже зарывается в песок, а там, впереди, где только что была вода, обнажились мели.
— Что со мной будет? — стонал он. Для него было почти так же мало надежды на спасение, как и для лодки, если он не… его испуганные глаза искали берег. Он сбросил теплую одежду…
Блунт прыгнул через борт и выругался — вода была ледяная. Там, где он стоял, вода была ему по колено, но к берегу она становилась глубже. Он бросался на мели из стороны в сторону и проклинал свою участь. В его беспомощном положении ему приходили в голову страшные мысли. Час прошел в бесплодных душевных мучениях. Но когда ушла последняя вода, он в бешеном беге помчался к берегу.
Сначала он бежал, шлепая по мелким лужам, увязая в тине, напрягал силы до последней степени. Потом дорогу ему преградила полоса воды. Не задумываясь проплыл он ледяную воду, но за этой полосой ему стали встречаться такие илистые места, через которые ни пройти, ни проплыть нельзя было. Пришлось их обходить, и эти препятствия истощали его силы и терялись драгоценные минуты, оставшиеся до прилива.
Его ужас увеличивался при всяком новом препятствии. Он поплыл было по встретившемуся на его пути озеру, но вернулся обратно. Судороги свели ему ноги. Напряжение совершенно измучило его, он шатался, выбравшись снова на песок. Но страх перед приливом снова погнал его вперед, к берегу.
— Я добегу, я добегу! — кричал он; почти обезумев. — Только бы сил, чтобы добежать, чтобы задушить ее, проклятую… только бы отомстить ей, а там хоть умереть…
В ушах его загрохотали точно отдаленные раскаты грома. Он тяжело поднялся с земли, на которую упал, обессилев. Над дюнами, покрывая шум ветра, несся странный звук, похожий на глухой рев. Он несся, приближаясь и усиливаясь.
— Прилив, прилив! — крикнул Блунт. Песок под его ногами был сухой и твердый. Еще была возможность спасения. Громкий стук его сердца, порывистое дыхание легких почти заглушали рев приближавшихся волн.
Он пробежал еще километр, силы покидали его. Потом он вдруг остановился. Точно бездна ада, лежало перед ним широкое илистое поле.
Вой прилива слышался все ближе и ближе. Он обернулся и увидел с силой надвигавшиеся волны. Еще на расстоянии многих миль, на горизонте стального цвета резко выделялись сверкающие пеной гребни. Он увидел, как исчезали песчаные холмы и как все выше и выше становились волны.
Чувство самосохранения снова погнало его вперед. Ноги его увязали в песке все глубже и глубже. С криком отчаяния увяз он, наконец, по колени. Из его широко раскрытых глаз смотрело безумие. Губы, только что произносившие угрозы, бормотали бессвязные слова. И вдруг Блунт рассмеялся резким, страшным смехом, странно гармонировавшим с безумной гримасой на его измученном лице. Рев прилива заглушил яростным шумом этот безумный хохот. Из волн поднялась еще на мгновение белая, длинная рука. Потом волны помчались дальше, унося все в бурлящем водовороте…
* * *
Клоох беспокойно вертелась и вздрагивала. Потом она медленно открыла глаза. Земля под нею была вся мокрая от ее промокшего платья. Невдалеке лежала байдарка. Она провела рукой по глазам, чтобы смахнуть ужас пережитого. Впереди, насколько мог охватить глаз, была темная поверхность Берингова моря.
— Всегда, — прошептала она, — всегда останется он с нами, со мной и с маленьким, который родится с январским снегом…
С воды к ней донеслись равномерные звуки моторной лодки. Она остановилась и зашуршала по песку, Кукулак нашел молодую женщину на берегу. Он перенес ее в лодку, закутал в теплое одеяло и влил в рог горячего чаю.
Он утешал ее на ужаснейшем английском языке, ласково поглаживая:
— Завтра мы поженимся, правда?..
Но тут ему уже не хватило его познаний в английском языке. Он должен был нарисовать ей будущее в сверкающих красках, а для этого ему необходим был родной язык.
4, 4, 4
Рассказ Н. Москвина и В. Фефера
Иллюстрации М. Мизернюка
Глава 1 Глаза в небо
Сапоги милиционера были поставлены на перекрестке трамвайных линий Арбатской площади.
Ноги милиционера находились несколько севернее, но не надо думать, что они были вынуты из сапог, попросту ноги ютились у задней их стенки, где каблучный гвоздь добрую неделю сверлил пятку.
Если колючему ветру можно было разгуляться в милицейском сапоге, то ему нельзя было сунуть и носа в дамские лаковые и замшевые туфельки: самим ножкам не хватало места.
Холодный ветер разгулялся бы в валенках, стоящих тут же, если бы не хозяйские штаны, плотно приставшие к волосатым икрам и честно выполняющие свой долг. Но больше всего — в куче кожаных сапог: новых, с отчетливым рантом, пожилых со стертым швом, старых с подкинутыми подметками, наконец — без определенного возраста: на них нельзя было различить ни подметок, ни шва, ни ранта, были и сапоги из рыбьей кожи — заплаты не блестели как чешуя, но по количеству чешуй их было столько же, если не больше.
Ветер разгулялся бы в куче сапог…
Вся коллекция обуви переминалась в такой тесной куче, что востроносому ветру нельзя было прорваться между шубами, шинелями, ободранными пальтишками цвета подметок, полушубками и манто.
Ветру оставалось одно: играть в поднятых человеческих ноздрях.
Когда откидывают голову назад, показывая черные впадины ноздрей — вы можете заранее сказать, что обладатели их смотрят кверху. Вы угадали: глаза всей толпы, запрудившей Арбатскую площадь, были направлены в небо на четыре темных летящих пятна. Форма и полет пятен настолько необычны, что и извозчичьи лошади стряхивают с глаз путанную гриву, чтобы тоже взглянуть кверху. От них не отстают и собаки, садятся на промерзлую землю и поднимают ввысь холодные резиновые носы.
Даже и ворона на непокрытой голове чугунного Гоголя вывертывает оранжевый глаз на летящие пятна.
Один только взгляд самого угрюмого Гоголя, закутанного в негреющий плащ, попрежнему опущен вниз.
_____
По Цветному бульвару, вдоль клетчатой решетки, двигалась звездоголовая масса красноармейцев, ее топот переходил в крякающий гул, она теснила всклоченные группы торговцев и обмызганных баб, обсасывала трамвайные столбы, мальчишки, перебирая вермишелями ног, отскакивали на тротуары к мертво-глазеющим женщинам.
В наступившей перед песнью тишине прорвался коленкоровый голос: «Папиросы ира…ра», но был затоплен цыканьем: «Ччш, ччщ, ц…».
По рядам прозыбился неразборчивый окрик, и красноармейцы растянули рты:
«Как родная мине мать Праважаалаа, Тут и вся моя семья Набежаалаа…».В промежутках и поющие, и слушающие невольно отсчитывали безмолвный такт.
Во время песни мороз становился менее заметным. Песнь набухала в густом воздухе, обрывалась клочками в открытые форточки, перекачивалась в слуховые окна, а больше всего звенела в ушах прохожих.
«В Красной Армии штыки Чай, найдутцаа, Бис тибя болшеваки Абай………….».Куплет кончили только несколько жидких голосов, остальные застряли в горле. Сейчас не до песни. Звездные шлемы откинулись назад, растягивая шеи. Строй смешался и замедлил шаги.
Мальчишки скинулись с тротуаров и ковыряя небо пальцами, завопили: «Уту, угу…… летят, летят……».
Звездные шлемы откинулись назад, растягивая шеи. Мальчишки завопили: — летят! летят!..
Четыре темных пятна бесшумно плыли в сизом воздухе. Впрочем некоторым казалось, что их меньше, а прыгающий мокроносый папиросник божился, что их больше десятка.
— Три.
— Четыре.
— Извините-с, это метеоры.
— Метеоры, дура.
— Рас, два…… восемь, восемь штук и есть.
Лишь человек в коричневом клетчатом пальто, с ремешком от бинокля через плечо, знал лучше всех, сколько пятен. Любопытство победило профессию. Вместо того, чтобы орать:
— Аа, вот настоящие, полевые, театральные, раздвижные бинокли, — молча притиснул к глазам холодные стекла. Победа любопытства была непрочной: всовывая в растопыренные, недоумевающие руки заграничный бинокль, тем же голосом предлагал:
— За пять копеек — разгадка неба, только за пять копеек разгадка неба.
Образовалась очередь и, как около всякой очереди, сбоку наросты.
Отделившийся от красноармейской части комсомолец Василий Шнурков ухитрился влезть вне очереди и бесплатно. Когда три пары рук разрывали раздвижной бинокль, нашлась четвертая, более расторопная — шнурковская.
В те секунды, когда бинокль оседлал его глаза, — Вася успел заметить, что пятна были грушевидно-металлическими телами с блестящей перетяжкой в середине; из тупого конца выбрасывались клочки дыма, оставлявшего в небе темноватый пунктир.
_____
Шнурков отпросился у командира «сбегать погреться» к своим товарищам в Колобовский переулок., Не только греться нужно было Шнуркову, его заело любопытство, а в Колобовском живут его приятели — комсомольцы Тесемкин и Колчанов. Может быть они знают, что это за новые машинки.
На стук в дверь вылезла старушечья голова, склоненная на бок, с шеей, похожей на запыленную гармонику:
— Чево расступался, не видишь, ребят нету.
— Откуда же видатъ-то?
— Откуда… со вчерашнего дня нету, а тебе письмо есть, возьми.
Шнурков прошел в комнату. Пусто. Из под кровати выдвинуты старые штиблеты, покрытые слежавшейся пылью. Одеяло сдернуто наискось. Москвошвейская куртка брошена через спинку расхлябанного стула. На полу обрывки бумаги и пустые коробки из под «Червонца». Портрет Ленина сдвинут в сторону. Поправил. На столе он поднял обрывок какого то чертежа. На оборотной стороне надпись: «Васяка. Вернемся через 2 дня, а может и совсем не вернемся. После расскажем. Зиновьева верни в библиотеку». Шнурков задумчиво взял книгу.
На столе он поднял обрывок чертежа и прочитал…
Глава 2-я Шесть бутылок пива
Берлинская тюрьма «Моабит» была старинной, крепкой стройки. Современные западно-европейские тюремные усовершенствования коснулись ее слегка: в конце девятнадцатого века — провели электричество, в начале двадцатого — на заключенных стали надевать автоматические наручники, деликатно приспособленные так, чтобы не повредить кожи. Тюрьма оставалась тюрьмой. Гости в ней не переводились. В последнее же время трудно было определить чего в ней было больше: кирпичей или заключенных.
Архитектор, построивший тюрьму, не предполагал, что надзиратели могут быть такими плотными и жирными, как теперешний Брот, в противном случае сделал бы более просторные корридоры.
Тюремному надзирателю Брот во время обхода приходилось сжимать свое грузное, налитое тяжестью тело, чтобы пройти на повороте, там, где плоские засаленные двери смотрели мертвыми номерами 201. 202, 203. Не нужно думать, будто Брот был настолько толст, что всякая элементарная ловкость была ему чужда.
Совсем нет. Когда он поочередно прижимал свои уши, похожие на клочки газеты «Дейтше Рундшау», к дверям камер, — то тело его не без грациозности складывалось, как пуховое одеяло в чемодане. Ухо, прилипшее к дверному глазку, впитывало случайный разговор.
Брот был ревностным служакой, и то, что он слышал у дверной щели, становилось добавлением к делу по обвинению шести немецких комсомольцев в государственной измене. Ноги Брота зудели от усталости, он уперся студенистой рукой в колено, не стало легче. Начала ощущаться спина, тогда он отстегнул сзади подтяжки.
Облегченно вздохнул и, переменив ухо, пытливо заморгал рыжими веками. Отрывистые и не всегда внятные слова на этот раз были приправлены не то приглушенными рыданиями, не то смехом. Надзиратель, видимо, не доверял своей памяти, иначе он не вытащил бы засаленной, перегнутой пополам книженки и не спешил бы записать. Страница за страницей ступенчатыми буквами, сползающими к концу строки.
Надзиратель Брот подслушивал и записывал…
Брот ухмыляется, радуясь неожиданной откровенности молчаливых заключенных. Он доволен. Мясистые скулы ежатся и лезут к глазам, навстречу редким колючим ресницам. Чистых страниц все меньше. Их бы совсем не осталось, если бы не помешали.
Звуки в тюрьме наперечет: крысы, охрана, узники. Охрана меньше всего стесняется, подковные сапоги слышны далеко по корридору, они то и прекратили терпеливое занятие Брота. Недовольно, отрываясь от щели, спросил: — Кого?
Брякнувший приклад помешал расслышать первую цифру.
— Ага, вот тут, и 202, и 203 и 201. Разматывать или к сукну?
— На суд.
Жильцы каменных гнезд прислушивались к перестукиванию прикладов на месте и гудящим клочкам слов.
По увеличенному топоту на обратном пути поняли, что серые шинели кого то увели.
Надзиратель из смежных камер для смертников Курцман видел, как за хвостом шествия семенил Брот, заглядывая по дороге в книжонку.
Курцман остался один, миллионный раз оглядел примелькавшиеся стены и, вспомнив радостную походку Брота, подумал: «уж не получил ли повышение». Завистливая усмешка сменилась сочувствием: недаром же Брот самый старый из надзирателей. Выпить при таком предлоге не вредно.
Вернувшийся с опущенными мешками щек, Брот мало походил на человека, удачу которого можно было бы вспрыснуть. Не замечая его выражения, Курцман хлопнул по широкому плечу:
— Прыгаешь зайчиком, в генералы попал, выпьем, что-ли?
— Выпить? Почему не выпить, для нас одна и радость…
— Ну, ну, заливай.
— Что заливать-то, подвели меня мои-то…
— Как подвели?
— Сговорились, а я дурак уши распускал, да записывал, докладываю, а меня на смех подняли: они, говорят, над тобой посмеялись, узнали, что подслушиваешь, вот и мололи.
Курцман: Ко мне в камеру попадут, запляшут, шуточки плохи…
Брот: — Нет, насчет этого не думай.
— А вот посмотришь, ко мне, готов об заклад биться. Полдюжины пива идет?
— Что ж, идет, на чужой счет я всегда готов.
_____
Выиграли и тот, и другой.
Пятерых комсомольцев, приговоренных к десяти годам, вернули в прежние камеры, а шестого, за оскорбление суда, отвели в камеру смертников.
Поэтому за пять бутылок платил Курцман, а за одну — Брот.
Глава 3-я Господин Гюнерт — деловой человек
Немногочисленные сюртуки придвинулись к круглому столу. На сукне лежали: пальцы короткие, пухлые с перепонками, сухие и поджарые, меловые манжеты и пепельницы с белыми окурками.
Беседа боевой группы тевтонской партии продолжалась. Уже были рассказаны подробности суда над комсомольцами, уже было высказано недовольство черезчур мягким приговором.
Руки слушателей попеременно отделялись, отделялись от стола, двигались в воздухе, люди откидывались назад, выбрасывая слова и междометия; некоторым пришлось ограничиться восклицательными знаками.
Внимательно слушая негодующие возгласы господина Гюнерт, инспектор государственных тюрем застенчиво улыбнулся.
А когда он воспользовался случайной паузой, уши его покраснели (впрочем, может быть это только показалось).
Господин Гюнерт мягко протестовал против крайних мер:
— Мы живем в цивилизованной стране, мы никогда не пойдем против закона, мы слишком умны для этого, я подчеркиваю, что мы не пойдем против закона.
Взгляды присутствующих отразили беглый всплеск глаз господина Гюнерт.
— Я полагаю, мы перейдем к другим делам…
_____
Шерстяные волокна табачного дыма носятся по кабинету Гюнерта. Их прорезают колечки с еще четкими контурами, которые плавно свертываются восьмерками и расходятся в общей сигарной мути.
Свет отражается на двух обручальных кольцах. Одно, одетое на суховатый палец Гюнерта, — спокойно, другое — на плюшевом пальце надзирателя Брота — взволнованно колеблется менее плавными движениями, чем табачные кольца рядом.
— Вы меня поняли, Брот, от вас требуется немногое. Вы только откроете камеру. Кстати, вас, кажется, повышают, да, да, я могу сказать наверное. Впрочем это зависит от вас…
— Вы меня поняли, Брот, — сказал Гюнерт…
_____
В одном из этажей правого корпуса тюрьмы «Моабит» два смежных корридора. В одном — смертники, в другом — осужденные на заключение.
Если бы пол камеры 317 был сделан не из такого крепкого материала, как бетон, то частые шаги комсомольца Карла Румер оставили бы на нем две втоптанных полосы, пересекающиеся в середине.
Карл Румер шагал безостановочно по своей камере…
Карлу Румер осталось жить восемь часов.
Время для него не измерялось часами, а минутами отдыха, когда он резко опускался на костяную кровать, вдавливал голову в плечи и снова разгибал ноги, чтобы продолжать однотонный, измеренный путь.
Когда бы глаз надзирателя Курцмана ни заполнял собой дверной глазок, — он видел то же самое: молчаливо шагающего по диагонали человека.
Лицо этого человека при тусклом маслянистом свете казалось темным смазанным пятном, на котором выделялся зеленоватый блестящий лоб и челюсти, настолько плотно сжатые, что между ними нельзя было бы просунуть и ногтя.
_____
Когда на другой день из камер заключенных Брог выводил комсомольцев на прогулку, он не переставал ворчать. Когда заключенные проходили по корридору смертников, Брот ткнул большим вывернутым пальцем в неживую дверь камеры 317, освободившейся этой ночью, и сказал:
— Стоило бы и вас за ваши разговоры…
Встретив Курцмана, улыбнулся:
— А твой жилец ночью погулял? Курцман засмеялся: — Тю, тю, отгулялся.
Глава 4-я Четыре, четыре, четыре
Профессору Юлиусу Баб по дороге в редакцию «Астрономического Вестника» пришлось остановиться, протереть очки, с любопытством, задрать голову и удивленно хмыкнуть носом.
В то время, когда подслеповатые щелки втирались в небо, незрячая рука шарила в кармане, пытаясь зацепить аккуратную книжечку с золотым обрезом. Зацепила, вытащила. Карандаш нацарапал: «27……бря 16 ч. 34 м. мною замечены четыре темных пятна эллипсоидообразной формы, упавшие в предместьи Берлина (S. W.). Полагаю, что это метеориты плеяды Андромеды, наблюдаемые впервые датским ученым………… Проф. Ю. Баб».
На другом листке профессор сбоку добавил: «Напомнить о гонораре за статью в № 16».
_____
У боковой калитки тюрьмы «Моабит» остановились четыре фигуры. Волосатая рука дернула за заржавленную проволоку. Колокольчик задребезжал. Часовой потянулся сладко, с хрустом, так что полосатая будка сразу стала тесной, и, как потревоженный пес, вылез на тюремный двор. Вторичный звонок заставил его ускорять шаги. В открытую дверь калитки — пропуск с подписью Гюнерта. Движение заспанными глазами: — правильно.
— Вам куда?
— Проведите к надзирателю Брот.
У полосатой будки часовой корявым пальцем ущемил белую пуговку и сдал посетителей дежурному.
Четыре фигуры последовали за дежурным.
_____
В камере тихо. Скользкие зеленые стены могут вытравить жизнь не только у взрослого человека, но и у юношей. Дни тягучи и однотонны. А сколько таких дней в десяти годах, сколько?
На двух засунутых в углы кроватях, тощих, как скелет клячи, сидят четверо. Пятый, Зюблихтер, за треножным столом тянет мутную воду с радужными кругами на поверхности. Ссохшиеся губы Зюблихтера теснят радужные пятна. Вода со вкусом жести. Но губы снова сухи и воспалены. Зюблихтер болен. Кружка с грязными остатками воды снова поднесена к ненасытному рту. Но губы не гонят радужные пятна.
Губы сжаты; но за то уши чутко ловят незнакомый, легкий, сверлящий шум на верху. Может быть это галлюцинация больного Зюблихтера? Нет!
Четверо других, здоровых комсомольцев, тоже слушают. Зыбкое недоумение тихо крадется по их лицам…
_____
Спуск элипсоидных аппаратов «КИМ» на крышу тюрьмы должен был происходить с большой осторожностью; по сообщению немецких товарищей, площадка этого участка крыши слишком мала, по краям — сигнализация. Аппараты не должны выступать по краям, но и не скучиваться в середине над камерой заключенных комсомольцев. Здесь крыша должна быть вскрыта.
Из переднего эллипсоида высунулся цилиндр, слизнул лист железа и въелся в каменную кашу — радиоаппарат Бухарского пущен в ход. Глушитель съедает свист и хрустенье. Внутри полого цилиндра яростно вращается кварцевая лопасть, пережевывающая камень, дерево и железо, ссыпая в небольшие конусы их остатки, обращенные в пыль.
В образованное отверстие с ровными краями наклоняются четыре головы.
_____
Вынув пузатые серебряные часы, надзиратель Брот высчитал: сейчас должны придти.
Внимание!
Внимание отвлечено легким, хрустящим шумом из камеры.
— Что они там делают?
В глазок: внизу пятеро заключенных с испугом смотрят на круглое отверстие в потолке, затемненное четырьмя свешивающимися головами.
Брот улыбнулся: Вот они с какого конца. Здорово придумали! Явились во время, как говорил Гюнерт. Только лучше бы через дверь. Впрочем, не все ли равно, как с ними покончат? Мое дело маленькое.
Брот видел, как заключенных, одного за другим, черные силуэты втягивали в отверстие.
Остались двое. Фюрст и Зюблихгер. Когда спустили веревочную лестницу, то Зюблихтер не мог за нее ухватиться так цепко, как делали его товарищи. Рука дрожала. Ноги не слушались. Фюрст помогал, но безуспешно.
Надзиратель на минуту оторвал глаза от отверстия: в конце корридора шаги, смена, надо кончать скорее, Брот влетел в камеру.
— Что же вы копаетесь, крикнул он кверху, — забирайте скорей, да и к стороне.
И он сам подсадил больного Зюблихтера и, отдуваясь, перебирал руками, осторожно его поддерживая, и даже торопливо помог Фюрсту.
Брот сам подсадил больного Зюблихтера…
— Ну, с богом.
Брот в этот момент напоминал доброго папашу, посылающего детям прощальное родительское благословение.
Вздох надзирателя прерван ударом волосатой руки по плечу:
— Брот, мы от Гюнерта.
И угреватое лицо с отъехавшей вбок челюстью надвисло над ухом Брота.
Белый листок бумаги перед расширенными глазами Брота.
— А разве эти…… от Гю……
Брот успел только разобрать подпись, как жесткая веревочная петля сверху туго обхватила колыхающийся его живот и быстро подтянула к отверстию.
Но отверстие не было на него рас-читано, он застрял размокшей пробкой в узкой бутылке. Тогда его чуть-чуть опустили и встряхнули. Брот скрылся.
Брот скрылся в отверстии…
В камере остались четыре разинутых рта, одна раскрытая дверь и один дырявый потолок.
_____
Профессор Юлиус Баб, возвращаясь домой из редакции, вместе с книжечкой вынул носовой платок, оглушительно высморкался в правый угол и сделал новую заметку:
«Опровержение».
В нашей заметке «Еще о метеорах» сообщалось о падении в Берлине четырех эллипсообразных тел.
К сожалению, мы были введены в досадное заблуждение, так как метеоры оказались авиационными машинами оригинальной конструкции».
Профессор хитро улыбнулся:
«Эту заметку я дам, когда первая будет набрана».
Глава 5-я В Москве
Василий Шнурков, участвующий в октябрьской демонстрации, первый увидел опускающиеся снаряды и, стараясь перекричать оркестр, завопил.
— Вон они, те самые.
Бегущая тень от снарядов покрыла поднятые головы, знамена комсомольцев и пионеров и смолкнувший оркестр.
Толпа едва успела расплескаться по сторонам, как четыре грушеобразные машины с задержанным присвистом коснулись земли.
На мостовой образовалась плешь, по краям ее стояла всклоченная, удивленная толпа.
В центре плеши клокотали наседкой тяжелые машины с надписью «КИМ». Потом металлические груши поднялись на тупой конец и откупорились.
Вася Шнурков встретил вылезающих приятелей криком:
— Вон вы куда пропадали.
Четыре комсомольца соскочили со снарядов. Один из них, Колчанов, поднял руку кверху. Смолкло.
Он подробно говорил об изобретенных машинах, о полете в Германию для оказания помощи немецким комсомольцам, имена которых известны из каждой газеты,
— Ребята, вы уже знаете, что Карл Румер расстрелян. С остальными дело удалось. Вот смотрите.
Немецкие комсомольцы присоединились к говорившему, приветствуя демонстрантов шапками, руками и возгласами.
— Еще не все, мы привезли редкий экземпляр вымирающего животного для нашего музея Революции. — Он указал на взъерошенного Брота. — Честь имею представить: надзиратель берлинской тюрьмы «Моабит», хер Брот. «Руками не трогать».
Хлопнул Брота по плечу:
— Гут камерад (хороший товарищ).
Демонстранты один за другим взрывались от смеха.
Когда смех заразил всю толпу, — от грома, вырывающегося из раскрытых ртов, сыпалась штукатурка на соседних домах.
_____
Если бы через минуту можно было посмотреть с крыши дома, с которого только что сыпалась штукатурка, на тысячеголовую толпу внизу, — в глаза бросились бы десять распластанных человек.
Они не шевелили ни руками, ни ногами, но вместе с гем двигались с толпой.
Их несли на руках.
Кто же десятый?
Десятый — живым плакатом: Брот.
Он смотрел на демонстрантов и думал:
В России, наверно, тюремный режим не так строг, как у нас. У них, видимо, для преступников есть такой день в году, когда их выпускают гулять на улицу.
НОВЫЕ РОДЫ СПОРТА
Недавно за границей появился новый род спорта: катание на коньках, снабженных тремя или четырьмя маленькими автомобильными колесиками с пневматическими шинами. Новые коньки дают возможность, как видно на фотографии, производить прыжки и ездить по любой дороге и даже без всяких дорог, со скоростью 10–15 верст в час.
Другое изобретение относится к области водного спорта. Это особые лыжи, позволяющие передвигаться на воде; они состоят из легких, надувающихся цилиндров из водонепроницаемой материи, к которым могут прикрепляться особые башмаки. Обе лыжи связаны между собой двумя тягами, не позволяющими лыжам расходиться в разные стороны. Иногда такие лыжи делаются из легкой жести и снабжаются в подводной части «карманами», открывающимися назад и обеспечивают лыже некоторый упор при движении (как это делает мех, шерстью вниз, которым иногда подбивают снеговые лыжи). Для равновесия и отталкивания служат две легких палки с широкими конусообразными поплавками на концах.
ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ
Рассказ К. Фезандие
С англ. пер. Л. Савельева
III
ТАЙНА РОСТА
От автора:
Какими причинами вызывается тот или иной рост? Почему в нормальной семье вдруг рождается карлик? Почему в другой, тоже нормальной семье, внезапно появляется ребенок громадного роста? Чем вызываются такие исключения? Всякий неестественный рост, всякое отклонение от нормы имеет определенные причины, и наука должна найти их. Когда причины эти будут известны, мы будем в состоянии регулировать рост или, иначе говоря, по желанию производить карликов или гигантов.
_____
— Я опять к вам, — весело закричал Сайлес Рокетт, входя в лабораторию доктора Хэкенсоу. — Моя газета «Нью-Йоркский Голос» хочет получить подробные сведения о ваших кроликах-великанах.
— Какие подробности нужны вам?
— Во-первых, верно-ли, что у вас имеются живые кролики ростом с быка?
— Да, это совершенно верно.
— Затем, мой издатель желает знать, каким образом вам удалось вывести кроликов такого размера?
— Ах, Сайлес! Как это, в сущности, ни просто, но добиться этого было не легко. Я не сразу пошел по правильному пути. Много лет я старался найти причину появления на свет великанов или карликов, но только после долгих исследований и опытов мне удалось открыть «тайну роста». В конце концов, я разрешил эту проблему, и в моем имении в Нью-Джерсей у меня имеется несколько образцов моих достижений в этой области, которые, я уверен, заинтересуют вас.
— Тайну роста? — спросил Сайлес. — Что это за тайна?
Доктор Хэкенсоу улыбнулся.
— Над этим вопросом бились многие ученые; были созданы различные теории для объяснения чрезмерно большого или малого роста. В общем же ученые считают, что причиной случайного появления великанов или карликов является метаболизм. Они приписывают это явление действию анаболизма и катаболизма.
— Что?.. Что?.. Что?..
— Метаболизм. Проще говоря, они считают, что это зависит ст способа питания и от рода пищи. Анаболизмом называется процесс разростания ткани, а катаболизмом — процесс разрушения ткани. Если животное или растение поглощают большое количество пищи и могут усвоить ее, то они достигают гигантского роста. С другой стороны, при недостаточном питании они остаются маленькими, — превращаются в карликов.
— Вздор! — воскликнул Сайлес Рокетт. — Уж не хотите ли вы уверить меня, что если я буду давать одинаковое количество пищи детенышам кролика и слона, то кролик достигнет такого же роста, как и слон?
Вопрос усвоения пищи
— Да, если он будет в состоянии вполне усвоить пищу. Иначе, вы его просто убьете этим. Теория метаболизма правильна, но я не извлек из нее большой пользы. Правда, мы ежедневно видим примеры, доказывающие правильность этой теории. Например, вокруг навозных куч растет необычайно высокая и пышная сорная трава; действительно, мне приходилось видеть, как такая трава достигает размера втрое или вчетверо большего, чем растущая на обыкновенном месте. Человек втрое или вчетверо выше нормального был бы великаном, ростом от восемнадцати до двадцати четырех футов. В случае с сорной травой, повидимому, количество пищи само по себе достаточно для того, чтобы вызвать чрезмерный рост. С другой стороны, вполне достоверны случаи существования карликовых растений. Японцы, например, с большим успехом выращивают карликовые деревья. Они выращивают карликовые яблочные деревья, вышиной приблизительно в один фут, великолепно развившиеся во всех отношениях, которые дают настоящие яблоки! Как я слышал, такой миниатюрный рост этих деревьев достигается тем, что им дают только такое количество удобрения и влаги, которое необходимо для их существования. Таким образом, они цветут из года в год и все-таки сохраняют свой уменьшенный рост.
— А что вы думаете относительно алкоголя? Я слыхал, что можно останавливать рост животных, давая им алкоголь?
— Да, такие случаи иногда бывают. Прежде было принято давать определенные дозы алкоголя домашним собачкам, чтобы они оставались маленькими. Это, повидимому, мешало им надлежащим образом усваивать пищу, и поэтому останавливало рост ткани. Некоторые ученые утверждали, что рост животных обусловливается мозговой железой, но эта теория не заслуживает внимания. Мы так мало знаем об этой мозговой железе, что при желании можно любую теорию основывать на ней и приписывать ей какое-угодно влияние.
Тут доктор Хэкенсоу помолчал минуту и затем продолжал:
— Опыты мои не подвинулись вперед, пока я не пришел к убеждению, что вопрос о росте сводится к вопросу о питании; и притом не в том смысле, как это обыкновенно понимают Один опыт над собаками привел меня к правильному взгляду на это дело. Вы, вероятно, видели домашних собачек, которых так любят дамы — таких маленьких, что они умещаются на ладони, из породы той-помераниан. И вот мне пришло в голову, что собаки, среди которых встречаются такие великаны, как датские доги и сен-бернары, и такие карлики, как той-помераниан, представляют собою благодарный материал для исследований и опытов. Итак, я взял одно оплодотворенное яйцо от собачки породы той-помераниан, а другое от собаки породы колли, и оба их ввел в матку собаки нормального роста. Когда она ощенилась, то, как я и предполагал, среди щенят оказался один породы той-помераниан и один породы колли. Первый так и остался маленьким, а второй рос нормально. Оба питались одинаково во чреве матери, ясно, что причину различного роста надо было искать в более раннем периоде, относящемся к моменту оплодотворения яйца.
Тут, когда я уже достиг успеха, я стал втупик и пошел по неправильному пути. Если, подумал я, я мог бы увеличить вдвое или втрое нормальную величину каждой клеточки тела животного, то и само животное стало бы вдвое или втрое выше нормального роста. И, наоборот, если бы мне удалось уменьшить размер клеточки, то и животное стало бы меньше ростом. Теория эта была весьма правдоподобной, но она меня ни к чему не привела. Все мои опыты в этом направлении окончились неудачей.
Так обстояли дела, когда мне пришлось прочесть о результатах некоторых опытов над яйцами рыб [2]), произведенных доктором Дришем. и опытов над яйцами морского ежа, произведенных Жаком Лебом. Доктор Дриш разрезал пополам яйцо рыбы, и ему удалось из каждой половины яичка выростить целую рыбу — одно яйцо произвело двух рыб! Жак Леб пошел дальше. Он взял яйцо морского ежа, выждал пока оно выросло до такого размера, что содержало в себе шестнадцать отдельных клеточек, и тогда разрезал его на шестнадцать частей. Каждую из этих клеточек он выростил отдельно, и ему удалось получить шестнадцать морских ежей из одного только яйца, от которого нормально могло произойти только одно животное.
Но когда морские ежи выросли, они сказались меньше нормального размера. Это обстоятельство и явилось лучем, осветившим проблему, над которой я работал. У морских ежей не было достаточного основного материала для дальнейшего развития, и они остались карликами. Очевидно, рост зависит от питания, но вся суть проблемы должна относиться к тому моменту, когда мы еще имеем дело с яйцом.
Карлики
Наука достигла также успехов и в обратном направлении. Экспериментаторы брали два отдельных яйца, соединяли их в одно, и из такого двойного яйца получали одного индивидуума. И индивидуум этот, как и следовало ожидать, был больше нормального размера. Значительный основной материал давал ему преимущество на жизненном пути. Моя проблема была разрешена!
— Вы хотите сказать, что можете, по вашему желанию, разводить животных — карликов и великанов, и выращивать карликовые и гигантские растения?
— Именно. Например, для того, чтобы произвести миниатюрного сенбернара, я беру клеточку оплодотворенного яйца от самки этой породы. Я выращиваю это яйцо в пробирке с соответствующей жидкой культурой и отделяю новые клеточки по мере их образования. Таким образом, я могу из одной яичной клеточки произвести сотню или больше карликовых собачек. Что бы получить собаку-великана я прибегаю к обратному процессу. Я беру несколько оплодотворенных яичных клеточек, соединяю их в одно большое яйцо и выращиваю.
— Это все так просто?
— Просто! Эго чрезвычайно сложно, и в связи с этим возникает много интересных проблем! Например, я могу получить дюжину гигантских собак из одного только яйца. Я выжидаю, пока яйцо достигнет такого размера, что будет заключать в себе шестнадцать клеточек, затем соединяю все эти шестнадцать в одну большую клеточку и выжидаю, пока она достигнет размера, при котором снова будет содержать шестнадцать отдельных клеточек, и продолжаю так до бесконечности. Это самый подходящий метод для получения чистокровной породы. Из одного яйца от самых породистых животных я могу получить сотню детенышей такого же размера, как их родители, или больше, или меньше, в зависимости от желания. Я могу создавать также помеси животных. Я беру яичную клеточку, из которой должен был бы развиться самец, и клеточку, из которой должна была бы произойти самка, и затем соединяю эти две различные клеточки в одно яйцо. Благодаря этому методу, я достиг поразительных результатов, скрещивая различных животных, и получал помеси, невозможные в природе. Я могу соединить яичную клеточку слона с клеточкой мыши и получить новый вид животного любого размера. Таким путем я могу соединить вместе дюжину различных животных, и, действительно, у меня есть помесь кита, носорога, собаки, кошки, страуса и семги, — из всех них получилось одно животное. Это дало самую удивительную комбинацию.
Но вернемся к предмету пашей беседы: я могу сказать, что вполне овладел вопросом о росте. Теперь я в состоянии разводить цыплят ростом со страуса, свиней величиной в носорога и коров размеров в допотопных чудовищ, исчезнувших с лица земли. Теперь нечего опасаться недостатка провианта. Один окорок будет кормить семью целый месяц, одного куриного яйца хватит на обед, а одна корова будет снабжать своим молоком целую молочную лавку.
— Сколько же молока дает ваша гигантская корова? — спросил репортер.
Некоторые затруднения
Доктор Хэкенсоу улыбнулся, вспоминая об испытанных им затруднениях.
— Да, Сайлес, — сказал он, — не легкая задача была выдоить такую корову! Слуги, которых я нанял, боялись близко подойти к огромным животным, которые могли смять их в лепешку, случайно наступив на них, могли могли смести их, как кегли, своим хвостом длиною в двадцать четыре фута. Подумайте только, как доить такое чудовище по два раза в день! Обычный способ доить коров был, конечно, невозможен в данном случае. Я прибег к помощи специальной машины, вроде той, которую употребляют на больших молочных фермах. Я даже придумал специальные стойла для этих животных, так что мои служащие могли приближаться к ним, не опасаясь их рогов, копыт или хвоста.
— А что вы можете сказать о ваших съестных продуктах гигантского размера?
— Мои гигантские съестные продукты годны особенно для приготовления очень лакомых блюд. Например, у меня есть такие большие перепелки, что из каждого экземпляра можно приготовить жаркое для большого банкета. У моих лягушек каждая лапка весит по несколько фунтов. Из печенки одного гуся можно сделать 1728 паштетов обыкновенного размера. И так далее.
— 1728! — воскликнул Сайлес. — Разве это так точно вычислено?
— Да. Я, видите ли, нашел удобным в моих работах по выращиванию великанов и карликов постоянно придерживаться определенной пропорции, соответственно делению фута на двенадцать дюймов. Так что, если животное в двенадцать раз длиннее или выше обычного, то его кубический объем и вес в 1728 раз больше нормального.
Для насекомых я значительно увеличил эту пропорцию, так как в целях изучения я стремился создавать большие экземпляры. Исследуя гигантскую бабочку, москита, паука, я получил очень ценные данные. К несчастью, в один прекрасный день гигантский паук сбежал и приполз на собрание старых дев, членов общества «клик-клак», как они сами назвали его, намекая на звук спиц при вязании.
И вот мой гигантский паук вполз в помещение, где собрались старые девы, и наделал переполоху. Замелькали чулки перепуганных дев… Достоверные свидетели рассказывают, что такого зрелища еще не видели в городе.
А на моих земляных червей однажды наткнулся мой шоффер, Пэт, переехал через груду этих гигантских пресмыкающихся и говорил потом, что ничего подобного он никогда не видел, по крайней мере, наталкиваться на такое препятствие ему еще не приходилось.
Гигантские растения
— Что вы скажете относительно ваших гигантских растений? — спросил Сайлес.
— С растениями у меня были большие затруднения. Неудобно то, что семена обыкновенно разлетаются в разные стороны, и когда из них выростают гигантские растения, то, естественно, фермеру с ними много хлопот. Самые ценные результаты получились у меня с пшеницей. Тут я переступил свою обычную норму увеличения естественного размера и довел величину пшеничного зерна до размера дыни. Одного зерна достаточно для хлеба, которым могла бы прокормиться целая семья. Мои гигантские ягоды тоже очень удобны для варки: у меня есть черника, брусника и смородина величиною в небольшую дыню, так что очень легко вынимать из них зерна. Вишни у меня размером с тыкву; собрать их не трудно, но будьте осторожны: если одна из них упадет вам на голову, у вас искры посыпятся из глаз. В общем, плоды мои имеют большой успех, и вы должны попробовать их.
Однако, не думайте, что я удовлетворился тем, что увеличил размеры наших обычных продуктов питания. Мне хотелось пойти дальше, мне интересно было произвести опыты над теми животными и растениями, которые теперь еще слишком малы, чтобы люди могли употреблять их в пищу, но из которых можно извлечь пользу, если увеличить их размер. Но зачем нам продолжать нашу беседу здесь? Вот мой аэроплан, садитесь и, скорее чем в полчаса, мы попадем на мою ферму в Джерсей, и там в течение пяти минут вы получите лучшее представление о моих великанах и карликах, чем в результате многочасовой беседы.
В тридцати милях от Нью-Иорка доктор Хэкенсоу устроил ферму, которая представляла собою, несомненно, интересное зрелище. Там были деревья, посаженные всего три года назад, но уже более высокие, чем калифорнские красные деревья. Трава на пастбищах была высока, как зерновые хлеба. Были животные и растения различных пород, и было много разновидностей, повидимому, чужеземных; на самом деле, то были насекомые и микроскопические букашки в увеличенном виде, но репортер не узнал их.
Там были гигантские деревья, посаженные всего 3 года назад…
Там был также аквариум с сардинками, величиною в семгу, и с семгами, величиною в небольшого кита, а в то же время в аквариуме находился миниатюрный кит, величиною с пискаря.
Микробы.
— Это еще что такое? — спросил Сайлес, указывая на ряд сосудов со странной жидкостью, в которой плавали существа невиданной породы.
Доктор Хэкенсоу засмеялся.
— Это мои любимцы! — сказал он. Это гигантские бактерии и бациллы. У меня здесь зародыши болезней: холеры, малярии, желтой лихорадки и многих других. Теперь, когда они достигли такого огромного размера, я могу лучше изучать их, чем через микроскоп, могу следить за их развитием и за воздействием на них лечебных средств. Я узнал много фактов, которые будут иметь величайшее значение для медицины и для других отраслей науки и жизни; вы должны знать, что микробы играют очень важную роль во всех областях, сама жизнь была бы невозможна без них. Я постепенно собирал гигантские экземпляры самых выдающихся разновидностей и уверен, что произведу переворот во многих отраслях науки благодаря тем познаниям, которые я приобрел.
Это — мои любимцы, гигантские зародыши холеры, малярии и др. болезней…
Так как каждая часть животного увеличивается в соответственной пропорции, то я могу изучить анатомию различных органов, исследовать красные кровяные тельца и фагоцитов, истребляющих болезненные зародыши; разные ткани и железы и их вы деления; могу наблюдать изменения, производимые при болезни ядами, противоядиями и сыворотками. Короче говоря, целый новый мир открыт для научных исследований.
— А ваши карлики?
— От них нет такой пользы и я сравнительно мало выростил их. Видите, там, наверху, стоит четырехлетний ребенок-великан и смотрит на своего брата — близнеца, четырехлетнего карлика, которого няня держит на ладони. Оба они произошли от одного и того же яичка… Не правда-ли, какая разница между ними? Первый ребенок ростом в пятнадцать футов, а его брат-близнец едва достигает пяти дюймов! Если бы я сделал его немного меньше ростом, я мог бы поместить его к себе в карман и мог бы пропустить его сквозь замочную скважину, если бы мне понадобилось узнать, что делается в запертой комнате. Он был бы неоценимым соучастником для шайки преступников. За ним вы видите оленя, такого крошечного, что его можно посадить в кофейную чашку, но такого же дикого и свирепого, как если бы он был нормального размера! Смотрите, он бежит сюда и начнет бодать рогами мои башмаки!
…Четырехлетний ребенок-великан в 15 футов стоит около своего брата-близнеца в 5 дюймов, расположившегося у няни на ладони…
С этими словами доктор нагнулся, взял на руку рассвирепевшее животное и стал показывать репортеру, как оно брыкается и отбивается, пока его не спустят опять на землю.
Сон
— Сегодня ночью, Сайлес, — продолжал доктор, — я видел очень странный сон. Мне снилось, что мне удалось сделать крошечного человечка, не больше микроба. Мне стоило большого труда научить его разговаривать со мной, но я устроил это таким образом: он говорил со мною при помощи громкоговорителя, а я отвечал ему при посредстве изобретенного мною инструмента, уменьшающего силу звука. Затем я поместил его в микроскопическую подводную лодку и впустил его в кровь кролика, дав ему распоряжение наблюдать и сообщить мне все, что он увидит по пути. Конечно, в такой подводной лодке он мог бы безопасно пройти по всем кровеносным сосудам и побывать во всех органах тела подряд. Я поручил ему особенно изучить процесс пищеварения и действие болезненных. зародышей. Я следил за его продвижением при посредстве рентгеновского аппарата и через неделю извлек его из тела кролика. Я жадно предвкушал удивительный отчет, который мне предстояло выслушать от него, как вдруг сзади меня, на ограде, замяукала кошка, и я проснулся!
Поразительный сон, не правда-ли?
* * *
На следующий день после этой беседы «Нью-Йоркский Голос» вышел со следующим, бросавшимся в глаза, заголовком:
ГИГАНТСКИЕ ЗВЕРИ ВЫРВАЛИСЬ НА СВОБОДУ ИЗ ЗВЕРИНЦА! БЕГСТВО ОГРОМНЫХ ЖИВОТНЫХ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ!
ДИКАЯ КОРОВА ЧУДОВИЩНОГО РАЗМЕРА НОСИТСЯ 110 УЛИЦАМ ГАРЛЕМА!
На самом деле произошло вот что: гигантская корова сорвалсь с привязи и рогами проломила изгородь, и огромные кролики, цыплята, собаки и разные другие животные разбежались, наводя ужас на женщин и детей в предместьях.
«Дикая корова чудовищного размера носится по улицам».
Мужчины с заряженными ружьями и вилами гнались за непрошенными гостями, к ним присоединились и полицейские. Но только после того, как целый полк солдат организовал систематическую погоню за беглецами, последние гигантские животные были перебиты.
Доктор Хэкенсоу щедро заплатил за все убытки, но не мог утешиться после гибели драгоценного зверинца, над созданием которого он упорно трудился в течение долгих лет.
…………………..
В ДОМЕ КРИВОГО ФЕРМЕРА
Рассказ А. Гербертсон
Иллюстрации М. Михайлова
Кокерделю ночь казалась заколдованной; так сильно хлестал дождь и дико выл ветер. Держаться на велосипеде было совершенно невозможно. Ему пришлось вести машину, пока, каким-то непонятным образом, он не потерял дороги и не очутился в открытом поле. Теперь, когда он опять нашел дорогу, или, вернее, какую-то дорогу, ему все-таки пришлось вести велосипед.
Он шел вперед, стараясь пробраться сквозь бурю и тьму ночи. Разумно-ли, — думал он, — продолжать итти против ветра? Не лучше-ли повернуть обратно? Но его направление было против ветра, а педантичность школьного учителе заставляла его продолжать путь, несмотря на то, что он понятия не имел, где находится и подозревал, что ветер переменился.
Внезапно все его мысли остановились. Что это впереди налево? Что-то высокое, белое, точно исполинский человеческий скелет, раскачивающийся взад и вперед, в такт ветру.
Сердце Кокерделя сильно забилось. Напрягши все мускулы на лице, он направился к страшному видению. Когда он добрался до него, то из-за силы бури и темноты довольно долго не мог разобрать, что это такое: указательный столб со сломанной дощечкой с надписью, качающейся из стороны в сторону.
Для разбитого и усталого Кокерделя эта дощечка явилась важнейшей проблемой. В какую сторону она указывала? Невозможно разобрать надпись, но Кокердель чувствовал, что всякая надпись подойдет ему. Должна же она на что-нибудь указывать, на ферму, поселок или город. Любое из этого, с обещанием отдыха и крыши над головой, в тысячу раз лучше, чем оставаться в открытом поле. Если бы он только знал, куда она указывала, когда была прикреплена к столбу.
Дорога, казалось, шла прямо. Но около столба было что-то вроде поворота.
— Вероятно, надпись относится к нему, — подумал Кокердель, — а то зачем же указывать продолжение дороги?
Рассуждение показалось ему обоснованным и, желая добраться «куда-нибудь», Кокердель повел велосипед к повороту.
Дорога, сперва широкая и гладкая, скоро стала ухабистой и каменистой. С трудом различая сломанные плетни, окаймлявшие дорогу, Кокердель решил, что она перешла в поле, тянущееся на неизвестное пространство. Итти становилось все труднее, но Кокердель настойчиво шел вперед. Внезапно ему показалось, что его настойчивость будет вознаграждена; он заметил очертание дома.
Кокердель был с левой стороны поля, дом же — с правой. Он перешел на другую сторону и наткнулся на дом. Он выглядел угрюмо и неприветливо. Нигде ни огня, ни признака жизни. Налево, сгибаясь под ветром, стоял ряд ломбардских тополей. Заросшая тропинка вела к дому.
Кокердель перескочил через забор и пошел по дорожке. Он остановился, вздохнув; как он и предполагал, дом был нежилым, и, повидимому, уже давно. Большинство окон было разбито, штукатурка обвалилась. Он обошел его, — всюду было то же запустение. Что-то зловещее и страшное смотрело из зияющих окон, как будто за ними таилось недоброе.
Мурашки пробежали по спине школьного учителя, но, выйдя в поле, в самую середину свирепствовавшей бури, он остановился в нерешимости.
Где ему, не знающему местности, бродить в поисках приюта? Глупости! Что он, — малый ребенок, который боится разбитых окон?
Он решительно повернулся и пошел к дому. С трудом перетащив велосипед через ограду, он подвел его к крыльцу; оно было с навесом и защищено от ветра. Кокердель сел, думая немного отдохнуть и переждать бурю.
Он сидел и смотрел в темноту.
— Чего бы я ни дал, — думал он, — за теплую комнату и постель!
. . . . . . . . . .
Вдруг Кокерделю показалось, что в окнах блеснул свет. Он чуть не вскрикнул от радости.
— Как это я не заметил, что в доме кто-то живет?
Он подошел к двери и храбро постучал. Ему необходимо получить ночлег, и, конечно, никто не может отказать ему в такую ночь.
Ответа не было. Он опять постучал. Кокердель еще держал в руках дверной молоток, когда услыхал медленные, шаркающие шаги, идущие, повидимому, по корридору. Какой-то мямлющий гслос произнес:
— Терпение, терпение! Куда так торопиться?
И дверь открылась.
Отворивший оказался старым, но еще сильным и довольно бодрым, хотя совершенно седым, с ввалившимися щеками, сгорбленным человеком. Он держал в руке фонарь. В корридоре другого освещения не было. Старик осветил лицо Кокерделя, и последний заметил, что у него только один глаз, а другой точно заклеен.
На мгновение все это оттолкнуло Кокерделя, но, вспомнив о буре, он сказал:
— Можете ли вы приютить меня на ночь? Я не знаю, где нахожусь, а искать дорогу в такую ночь совершенно немыслимо.
Незнакомец окинул его сердитым взглядом, держа фонарь перед ноет Кокерделя.
— Я даром никого не впускаю. Вы можете заплатить за ночлег? — ворчливо произнес он.
Школьный учитель вздрогнул.
— Я не богатый человек, но обычно плачу за то, что получаю, — сказал он сухо, намереваясь войти.
Тому эта фраза показалась недостаточно убедительной; он заслонил собою дверь, но вдруг порыв ветра, обдавший его холодным дождем, вырвал из него согласие.
— Ну, входите, что-ли, — грубо сказал он и захлопнул за Кокерделем дверь.
— Вам придется пройти в кухню, — продолжал он тем же ворчливым тоном. И, не дожидаясь ответа, пошел, указывая дорогу.
Единственным освещением в корридоре был фонарь одноглазого старика. Следуя за ним, Кокердель заметил, что одна нога его нелюбезного хозяина скверно действовала; он тащил ее за собою. Одет он был бедно и, не взирая на хромоту, ходил крадущейся походкой.
Кухня показалась приветливой усталым глазам учителя. Плита топилась, и огромная лампа освещала горшки, кастрюли и кирпичи пола. Большой чайник кипел, выбрасывая пар. Тяжелое деревянное кресло стояло у плиты, а другое — у стола в середине комнаты.
Хромой собирался погасить фонарь; Кокердель протянул к нему руку.
— Могу ли я взять его на минутку? — спросил он. — Мне нужно позаботиться о велосипеде.
Старик колебался.
— Поставьте его в сарай; он отперт, — сказал он и неохотно отдал Кокерделю фонарь.
Учитель вернулся, благодаря судьбу. Буря все еще не унималась. Он поставил фонарь на стол.
— Я промок до костей, — сказал он. — Вы ничего не будете иметь против, если я повешу сушить свое платье?
Хромой курил короткую, черную трубку, сидя в кресле у огня.
— Сушите что хотите, — коротко сказал он, — но у меня нет платья дать вам надеть.
Учитель снял свое пальто и повесил на гвоздь над плитой. Он пощупал пиджак, — этот тоже промок насквозь. После минутного колебания он снял его и повесил рядом с пальто. Стоя в одном жилете посреди кухни, он чувствовал, что единственный глаз хозяина со зловещим и вероломным выражением уставился на него. На рукаве его рубахи была заплатка; старик, казалось, заметил ее и как бы взвешивал цену человека, носящего заплатанные рубахи.
Кокерделя трясло. Его сорочка тоже промокла и прилипала к телу.
Хромой грубо заметил:
— Лучше лягте в постель. Тогда будете сушить все, что угодно.
Он засосал трубку, продолжая наблюдать.
— Да, пожалуй, — сказал учитель, — Если я долго останусь в этом платье, то простужусь. — Он остановился, затем спросил: —Нельзя ли получить чего-нибудь поесть?
— Если вы заплатите.
Кокердель ответил с нетерпением:
— Конечно, я заплачу.
— Это не трактир, — сказал хромой. — Я беру к себе от времени до времени кого-нибудь, если он в состоянии платить. Я ведь бедный человек. Но даром я не собираюсь никого держать у себя.
Он отставил чайник и придвинул к себе одну из многих сковород, украшавших плиту.
Пока он жарил яйца, учитель рассматривал кухню. Он сидел в кресле около стола и хорошо видел комнату. Мебели было мало: большой стол, два кресла и стул, различные кухонные принадлежности и блюда. Не было ничего лишнего. Рваный конец шторы, казалось, только что оборвался и придавал комнате жуткий вид.
Затем он заметил, что на каждой стороне окна висели стенные часы; они стояли. В углу стояли башенные часы, — эти тоже не шли. С бьющимся сердцем, сам не зная почему, учитель взглянул на камин. Там оказалось трое часов: одни из массивного черного кварца, двое других — из дешевого металла. Кварцевые часы, с плоским циферблатом, были неуютны, а металлические — поломаны и покрыты пылью. Кокердель перевел взгляд в угол. Там, около шкафа, еще часы. Эти были уж совершенно допотопными. Выражение их циферблата было тупо и угрюмо. Неподвижные стрелки, казалось, указывали неминуемо и ужасно… Но на что?
— У вас много часов, — заметил Кокердель.
— Что? — Одноглазый оглянулся, осклабившись.
Учитель был уверен, что тот слышал замечание, но повторил его.
Может быть. А почему же нет.
— И все стоят, — сказал Кокердель.
Старик обернулся на него почти злобно. — А зачем бы им итти? — спросил он.
Кокердель ответил мягко:
— Ну, конечно, не всем, этого бы не вынести, но одни…
— У меня есть карманные часы, — пробормотал старик.
Кокерделя осенила мысль: — О, я понимаю. Вы, вероятно, чините часы?
Одноглазый поставил кастрюлю.
— Я не чиню часов. Нет! и не продаю их! Можете не выбирать себе, даже если бы у вас были деньги заплатить за них, — сказал насмешливо старик. — Я принес их сюда, чтобы присматривать за ними, слышите? Чтобы они не болтали!
— Я принес сюда часы, чтобы присматривать за ними, чтобы они не болтали.
Кокердель похолодел, но промолчал.
— Быть может, — сказал одноглазый, взглянув на учителя, — вы сами что-нибудь смыслите в часах?
— Нет, ничего, — ответил Кокердель. — Я только думал, что жалко им всем пропадать даром.
— Держите свою жалость при себе, — заявил хозяин, сунув Кокерделю тарелку с едой. — Вот, напихивайтесь, что ли, и оставьте мои дела в покое.
Учитель принялся есть. Одноглазый старик пыхтел трубкой и смотрел в огонь, но Кокердель чувствовал, как иногда он исподтишка взглядывал на него. Наконец, учитель поднялся с облегчением. Атмосфера кухни давила его. Он бы с радостью покинул дом, но дождь все еще хлестал в окна.
— Однако, вы скоро, — сказал старик, вставая на ноги.
Дрожа от холода, Кокердель ответил:
— Я совершенно мокрый. Кажется, лучше лечь. — Он взял свое пальто.
— Да, разумно, — согласился старик. Он неприятно захихикал. — Я тоже разумный. Может быть, вы мне заплатите за еду и ночлег прежде, чем ляжете в постель?
Кокердель взглянул на него.
— Я увижу вас завтра утром.
— Возможно, возможно, — опять за хихикал старик, — я знавал гостей, которые исчезали, предоставляя хозяину стлать их покинутые кровати. Я не хочу рисковать.
— Как хотите, — сказал учитель и вынул из кармана тощий кошелек. Презрение вкралось в жадный взгляд старика.
— Сколько?
Хромой назвал нелепо-огромную сумму. Она равнялась почти тому, что было в кошельке учителя. Кокердель слегка покраснел, но заплатил и положил кошелек обратно. Хромой усмехнулся про себя, взял свечу и повел его.
В первом этаже были три двери.
— Не здесь, — проворчал старик. — Выше. Две из них пустые, одна — моя.
Они поднялись. На полдороге наверх в стене было окно. Неожиданный звук заставил Кокерделя насторожиться. Он остановился: на верхней площадке стояли часы.
— Наверху часы, — сказал учитель. Хромой поднял свечу.
— Трудная лестница, — сказал он, — а то бы я спустил их в кухню. Но они стоят: их не заводили много лет.
— Но они идут! — сказал учитель.
Они прислушались: тик-так, тик-так, тик-так… Часы шли и, казалось, тоже прислушивались.
Лицо хромого стало пепельным и конвульсивно перекосилось. Единственный глаз вылез на самый лоб.
— Вы бы заставили их рассказать вам, а? — прошептал он, задыхаясь, и, схватив Кокерделя за плечо, крикнул: — Вон! Убирайтесь вон!
Учитель провел рукой по своему растерянному лицу.
— Они ничего мне не говорят, — сказал он. — А в такую ночь вы не имеете права выгонять меня.
Но тот ничего не хотел слушать. Рука на плече учителя дрожала, как в параличе, и сжимала его.
— Так вы пришли меня накрыть! Да? — бормотал он. — Наконец то вы пришли, наконец-то.
Кокердель медленно произнес:
— Я просто школьный учитель, потерявший дорогу. Что вы сделали, что так волнуетесь? Я заплатил вам. Вы не можете выгнать меня.
— Я мог бы вернуть деньги, — сказал одноглазый.
— Я не возьму их; мне нужен отдых, — ответил учитель нетерпеливо. — Ну-с, сударь, стряхните-ка с себя ваши фантазии.
Старик приблизил лицо, уставив свой зловещий глаз на Кокерделя. Результат несколько смутил его. Не могло быть ничего невиннее выражения лица учителя.
Он сказал с расстановкой, выплевывая слова:
— И все-таки вы заставили часы итти!
Учитель внимательно прислушался. Шш, — часы остановились.
Опять оба насторожились.
На улице ревела буря. Дождь и ветер со страшной силой обрушивались на дом, но шум этот не мог бы заглушить тиканья часов: они действительно остановились.
Одноглазый прислонился к стене. — Да, остановились, — пробормотал он.
— Дело в том, действительно ли они шли минуту назад? — прошептал учитель. Он глядел на часы с озабоченным лицом.
— Вы же слышали их, не так-ли? — огрызнулся старик.
— Да, но это мне кажется невозможным. — Внезапно учителю пришла в голову мысль: — Вы же должны знать, как стояли стрелки, — сколько на часах было времени?
— На них столько же, сколько было, — ответил старик в менее враждебном тоне, взглянув на часы. — Все равно, я решил, что вы пойдете…
— Я пойду спать, — спокойно заявил Кокердель и стал подниматься по лестнице.
Пораздумав, старик последовал за ним. На площадке он обогнал учителя и открыл перед ним дверь. — Вот комната, если вам уж так хочется остаться, — проворчал он. — Довольно неудобно, но у меня нет лучшей. — Он собирался выйти.
Кокердель быстро оглянул комнату; в ней не было ни лампы, ни свечи. — Можно ли мне взять вашу свечку? Я, пожалуй, не справлюсь без огня, — попросил он.
Одноглазый неохотно поставил свечу на полку и вышел.
Учитель посмотрел на дверь; ключ торчал в замке. Он подошел и напряг слух. Он услыхал, как одноглазый спускался с лестницы, медленно и как бы нехотя таща поврежденную ногу. На площадке он остановился, будто прислушиваясь, не тикают ли часы, которые давеча привели его в такое волнение. Повидимому, все было в порядке, так как он продолжал свой путь.
Облегченный вздох вырвался из груди Кокерделя. Он отошел от двери. — Но все же странно, — думал он. — Я готов поклясться, что часы шли. Он тоже их слышал.
Постель была не очень привлекательна, но дрожь, охватившая Кокерделя, заставила его решиться попытать в ней счастья. Он снял свои мокрые сапоги и поставил их на решетку камина; он был полон мусора. Кокердель зажег его, думая, что это подсушит его сапоги. Затем он выпотрошил карманы своего пиджака и повесил его сохнуть на перила. Пока он занимался этим, стоя на лестнице, внезапно послышался настойчивый стук у входной двери. Кокердель чуть не вскрикнул от испуга. Пот выступил на его лице. В руке у него был смятый платок, он вытер им лоб.
— Какой я дурак! — подумал он. — Вероятно, это еще кто-нибудь ищет убежища.
Никто не отвечал на стук. Кокердель заглянул вниз, в пролет лестницы. Одноглазый не был глух и так скоро не мог уснуть: он, наверное, слышит. Но он не выходил. Стараясь увидеть старика, учитель нагнулся над перилами, и вдруг слух его уловил странный звук: тик-так, тик-так… Без всякого сомнения часы опять пошли. Неужели он находится в кошмаре? Но нет, все слишком реально в этом зловещем доме. Кокердель содрогнулся.
Снова застучали в дверь, и снова сильнее забилось сердце Кокерделя. И опять учитель успокаивал себя: — Наверное, это кто-нибудь в поисках ночлега. Да и ничего нет удивительного! — в такую ночь! Лучше бы мне спуститься.
Он поставил ногу на ступеньку. До его слуха донеслось тиканье часов: — Не ходи, не ходи, не ходи…
Кокердель подскочил как ужаленный. Лицо его побледнело и покрылось потом.
Стук на минуту прекратился. — Не ходи… не ходи… не…
Вдруг застучали с новой силой; казалось, стучавший преисполнен гневом и отчаянием. Шум был оглушителен.
— Это становится, положительно, глупым… Я должен спуститься, — пробормотал Кокердель. Он хотел взять с собой свечу и пошел за ней, но остановился. Угрюмо ругаясь, одноглазый старик выполз из своей комнаты. Кокердель слышал, как он спускался с лестницы и видел, как мерцало пламя его свечи.
Учитель все еще стоял, прислушиваясь; открылась дверь, последовал краткий разговор. Действительно, незнакомец требовал ночлега. Он добился этого скорее чем Кокердель, а тон одноглазого был любезнее, когда он вел его в кухню. Кокердель не видел незнакомца, но, судя по легкой, крепкой походке, решил, что он молодой человек.
— Ну, кажется, все в порядке, — подумал Кокердель, и вернулся в свою комнату, оставив дверь открытой. Он предполагал развесить свое платье на перилах.
Хотя он и забыл про часы, все же в нем было предчувствие какой-то неминуемой, ужасной трагедии. Он медленно снял носки; ему показалось, что ноги его мокрые; он взял носовой платок и вытер им ноги, а затем повесил его на камин сохнуть, Носки он положил на перила.
Когда он запирал дверь, из замка вывалился ключ; будучи очень близорук, он никак не мог найти его. Им овладело отчаяние. Он поймал себя на том, что механически говорил: — Что будет, то будет. Что я могу сделать? Кроме того, что же можно сделать?
Он разделся и, развесив по комнате оставшееся платье, улегся в постель с чувством тупого отчаяния.
Несмотря на это, он уснул.
Кокердель проснулся сразу, с полным сознанием окружающего, с уверенностью, что его разбудил звук, похожий на крик.
Учитель сел на «постель. — О, господи! Что же это! — прошептал он, напрягая слух. С момента его появления в этом страшном доме, он, кажется, только и делал, что прислушивался.
Но крик — если не повторялся.
Быть может, это это был крик — его воображение?
Но если так, то что же разбудило его?
В доме царила мертвая тишина. Шум бури значительно утих; вероятно, она близилась к концу.
— Это ужасное место, а я еще дал своим нервам волю, — думал Кокердель.
Он лег, стараясь успокоиться и взять себя в руки.
Несмотря на его усилия, в его сознание вкралась уверенность, что произошло что-то страшное. Сухое, худое лицо Кокерделя сводило судорогами. Он сделал движение, чтобы встать, но на площадке послышался шорох и сдержанное дыхание. Кто-то — вероятно, одноглазый, — ходил там, может быть, осматривая мокрый пиджак на перилах.
Дверь отворилась медленно и бесшумно. Учитель похолодел. Он сразу сообразил, что ему грозит опасность.
Не вполне понимая, зачем это делает, он притворился спящим.
И хорошо притворился. Пока одноглазый бесшумно крался по комнате, дыхание Кокерделя было совершенно ровным. Наконец, хромой подошел к кровати и остановился, заслоняя свет свечи рукой. Но ничто не выдавало Кокерделя.
Через несколько минут старик направился к двери и остановился там, по-видимому, ища ключ, потом спустился с лестницы.
Учитель вскочил с постели и подбежал к двери. Одноглазый не пошел в кухню, а был у себя в комнате во втором этаже.
Зажегши свечку, Кокердель быстро оделся. Он больше не раздумывал и не рассуждал. Казалось, он прекрасно знает, что ему нужно делать. Его бледное лицо было оживленно. Он двигался механически, будто под влиянием посторонней силы.
Он задрожал, когда надел свой мокрый пиджак. Держа в руках сапоги и носки, он бесшумно спустился с лестницы.
На площадке тикали часы: «торопись, торопись…».
Хотя Кокердель был очень напуган, все же у двери хромого человека он остановился. Дверь была только прикрыта. Учитель осторожно толкнул ее; если бы дверь только скрипнула или зашуршала, — одноглазый услышал бы; если бы он стоял лицом к двери, — он бы увидел. Но когда Кокердель заглянул в дверь, старик был спиной к нему: нагнувшись, он опоражнивал какой-то большой ящик. Учитель смотрел на него в упор; его взгляд был стекляным, как у лунатика; он втянул голову обратно и также бесшумно прикрыл дверь.
С лестницы вниз, вдоль по корридору, — не к парадной, а в кухню направился Кокердель. Нигде не было света. Дверь кухни была закрыта; учитель не сразу нашел ручку. А, наконец-то! Он вошел.
Лампа все еще горела. На полу было темное пятно; Кокердель брезгливо обошел его. Он догадался — это была кровь. Казалось, это не удивило его, хотя его бледное лицо стало еще бледнее.
Его блуждающий взгляд выражал ужас ожидания увидеть что-нибудь худшее… Ждать пришлось недолго.
Незнакомец сидел в кресле у огня, на месте одноглазого. На шее зияла огромная рана, — учителю стало дурно, он отвернулся. Было ясно, что тот мертв.
Незнакомец сидел в кресле у огне. На шее зияла огромная рана…
Кокердель стоял несколько секунд ошеломленный; наконец, с усилием перевел глаза на труп. Убитый был молодой человек. Судя по одежде, он был человек со средствами.
Кокердель заметил свое платье над плитой. Он взял его и, осмотрев, нет ли на нем следов преступления, надел. Затем он подобрал сапоги и носки, которые он поставил на обеденный стол.
Тише!.. Хромой спускался с лестницы. Кокердель быстро оглянулся, — дверь в углу: она вела в кладовую. Он вошел и запер дверь за собою. Луч света от лампы, на миг попавший в, кладовую, осветил дверь в противоположной стене. Он подошел к ней. Шум дождя усилился, — значит, она выходила на улицу. Дверь оказалась-запертой. Кокердель лихорадочно повернул ключ и выбежал на улицу. Не помня себя от страха, он вскочил на велосипед и понесся по полю по направлению к шоссе. От сильных толчков с его головы слетела шляпа, но он не остановился.
Когда Кокердель добрался до дороги, дождь совершенно прекратился. Он надеялся скоро добраться куда-нибудь и рассказать о своем приключении.
Но только два часа спустя он въехал в Болтонхенгар и прямо отправился в полицию.
— Болтонхенгар! — недоумевал учитель, слезая с велосипеда. — Я понятия не имел, что еду в этом направлении. Здорово же я заблудился вчера вечером!
Все-таки он был рад, что добрался до места, где есть живые люди.
Кокердель как раз застал инспектора полиции на месте. Через несколько минут, сидя в маленькой комнате, он рассказывал ему о своем ночном приключении.
Сперва инспектор внимательно прислушивался, но чем дальше рассказывал Кокердель, тем смущеннее становилось его лицо.
— Где, вы говорите, находится этот дом? — спросил он.
Кокердель объяснил: — на повороте с большой дороги, на значительном расстоянии от Болтонхенгара.
— Похоже на «Ферму тополей», — произнес инспектор таинственным тоном.
Кокердель взволнованно подхватил:
— Да, да, так называется это место. Вот дощечка с указательного столба. На правой стороне дома целый ряд ломбардских тополей.
— Понимаю, — сказал инспектор, внимательно наблюдая Кокерделя.
Пока учитель говорил, инспектор не спускал с него глаз. Да и в самом деле. Кокердель имел странный вид. На обычно строгом лице сохранились следы пережитого ужаса.
Кокердель кончил. Наступило молчание.
— Ну? — нетерпеливо спросил он.
— Что вы скажете? Как поступить? Человек мертв, — убит, это ясно, как день.
— Д-да, — неопределенно протянул инспектор.
— Но как же поступить? — понукал его Кокердель.
— Мне кажется, сударь, — осторожно начал инспектор, — что лучше всего вам было бы съездить куда-нибудь отдохнуть как следует.
Кокердель выпучил глаза. — Вы с ума сошли? Неужели вы ничего не предпримите? Или у меня, может быть, ум за разум зашел?
— Я бы этого не сказал но, вероятно, у вас нервное потрясение, знаете, или что-нибудь в этом роде…
Кокердель стоял прямо, в выжидательной позе, глядя на инспектора с изумлением.
— Видите ли, в тех краях есть только один дом, и тот нежилой: его называют «Фермой тополей». Лет пятнадцать тому назад ее хозяин, — одноглазый старик, — убил человека и ограбил его. За это его повесили. Предполагают, что он ухлопал, таким образом, немало народу.
Кокердель поднял руку. — Нет, нет! Быть этого не может! — вскричал он.
Инспектор сказал строгим тоном: — Успокойтесь, сударь! Возьмите себя в руки. Не распускайтесь. У вас было сильное потрясение, а вспомнив эту старую историю…
— Я о ней никогда не слыхал, — прервал его учитель.
Полицейский промолчал.
— Я плохо знаю это место и никаких историй о нем не слышал, — повторил Кокердель. — О, какая нелепость! — Он сел и закрыл лицо руками.
— Люди не могут помнить всего того, что читали, — настойчиво повторил инспектор.
— Но я же говорю вам… — начал Кокердель и снова рассказал ему всю историю сначала.
Инспектор недоумевал. — Ну, признаться, я не понимаю этого, но если вы позавтракаете, — я позабочусь об этом, — мы съездим туда вместе. Может это успокоит вас.
Учитель облегченно вздохнул. — Благодарю вас, — сказал он.
На рассвете они поехали. Инспектор достал ключи от дома, которые оказались в полиции. По дороге он говорил о совершенно посторонних предметах. Кокердель едва отвечал ему.
Когда они подъехали к повороту, Кокердель кивнул головой: — Да, это он самый. — Через минуту он крикнул: — Вог моя шляпа!
Она лежала у плетня. Он слез с машины и подобрал ее.
Они подъехали к дому. Кокердель взглянул на него и отвернулся, судорожно вздрогнув.
— Успокойтесь, — сказал инспектор.
Дом был пуст, окна разбиты. Они пошли по дорожке. Парадная была заперта. Инспектор достал ключ и отпер ее.
Голый пол корридора был покрыт пылью.
— Зайдемте в кухню, — предложил Кокердель, указывая дорогу.
Она была пуста и также покрыта нетронутой пылью. Ржавая плита и облупившиеся стены говорили сами за себя. Кокердель осматривался. — Здесь повсюду стояли часы, — сказал он.
— Да, — ответил инспектор, — я, помню, читал в протоколе, что здесь была масса часов.
— Одни стояли на лестнице, — заметил Кокердель.
Инспектор с любопытством взглянул на него. — Совершенно верно. О них забыли; они должны были бы быть здесь и теперь.
Они поднялись по лестнице: да, часы стояли на месте.
— Говорил ли я вам, что они показывали полночь? — спросил Кокердель.
— Да, — ответил тот.
Они пошли дальше.
— Вот моя комната, — заявил Кокердель, открывая дверь.
Комната была пуста и вся полна пыли.
Кокердель и инспектор вышли из дома. Запирая дверь, последний вдруг услыхал восклицание Кокерделя.
— В чем дело? — спросил он.
— Мой платок, — ответил Кокердель с торжеством. — Я им вытирал ноги и повесил сушить на камин.
Платок был аккуратно развешен на сучке куста, рядом с подъездом.
— Странный, очень странный сон, — произнес задумчиво инспектор, садясь с Кокерделем в автомобиль.
_____
Описанный выше случай, со всеми его удивительными подробностями, был доложен в Британском Медицинском Обществе и долгое время был предметом споров и обсуждений. Ученые, далекие от мистики и веры в сверхестественное и «сверхчувственное», еще раз убедились, насколько мы мало знакомы с психологией и физиологией сновидений.
ПАТЮРЕН И КОЛЛИНЭ (ЭКСПЛОАТАТОР СОЛНЦА)
Рассказ Б. Никонова
I.
Патюрэн умирал.
У его смертного ложа в общей палате больницы для бедных не было никого из близких. Их и не было у Патюрэна, пока он был жив. Иногда к нему подходила сестра милосердия и поправляла подушку. Больше ей нечего было делать: Патюрэн должен был умереть через пять-шесть минут.
Но над его изголовьем стоял один совсем посторонний человек, которого звали Коллинэ. Он не был ни родственником умирающего, ни даже его знакомым; тем не менее, Коллинэ явился к умирающему, едва только узнал, что он находится при смерти.
Он жадно прислушивался к бреду Патюрэна. Умирающий все время что-то говорил, так тихо и невнятно, что постороннему было невозможно понять его. Но Коллинэ, очевидно, понимал. Мало того, он торопливо записывал в книжку то, что говорил Патюрэн, и видимо волновался, словно выведывал у умирающего какую-то важную тайну.
— Что он говорит? — полюбопытствовала сестра милосердия.
— Так… Ничего особенного. Разные формулы и цифры. Это для вас неинтересно! — сухо ответил Коллинэ.
Коллинэ один во всем мире знал, что Патюрэн был великий изобретатель. Коллинэ тоже был изобретатель и работал над тою же проблемой, что и Патюрэн, но он был неудачник. У него ничего не выходило, а Патюрэн находился на верном пути. Коллинэ знал это наверное. Он был убежден в этом. Он, правда, не был знаком с Патюрэном: последний отличался редкой несообщительностью и замкнутостью и сурово отвергал всякие поползновения Коллинэ на знакомство. Но Коллинэ тщательно следил за деятельностью своего соперника я ему было ясно, что Патюрэн рано или поздно разрешит проблему.
Проблема эта заключалась в отыскании способа конденсировать солнечную теплоту. Мощная тепловая энергия солнца щедро разливалась по миру, по земле — и пропадала в пространстве. Наступала зима, и люди бедствовали от холода и искали искусственных способов отопления, истребляя леса, уничтожая многовековое богатство земли, каменный уголь и нефть. Бедняки мучились каждую зиму, не имея возможности покупать дорогие дрова и уголь. Сколько страданий причинял неимущему люду холод! И какое благодеяние сделал бы для них тот, кто нашел бы способ ловить и сохранять на зиму в особых недорогих приборах безмерно щедрые солнечные летние лучи!
Вот, об этом-то и думал всю жизнь Патюрэн. Этого-то он и искал. И первая дума его и первая его забота все время были о бедняках, о неимущих, о мерзнущих семьях рабочих в подвалах больших городов, о замерзающих в лесу крестьянах. Патюрэн уже давно находился на верном пути в деле разрешения проблемы. Еще несколько лет тому назад он уже производил чрезвычайно удачные опыты. Наконец, он достиг и полного разрешения вопроса и мог бы пережить величайшее торжество удачи. Но он замедлил с опубликованием, потому что изобретенный им способ был черезчур дорог. Им могли пользоваться только богатые люди. Патюрэн боялся, что при таких условиях его тепловой конденсатор будет использован различными фабрикантами и эксплоататорами для наживы, а беднякам не даст ничего. Поэтому он решил замкнуться в своих исследованиях, ничего никому о них не сообщать и почти маниачески уклонялся от всех, кто интересовался его изобретением. И ранее того необщительный и чрезмерно застенчивый, в последнее время он избегал людей с какой-то болезненной обостренностью. Во всех, кто домогался с ним знакомства, он видел хищников, жаждущих наживы— и, в сущности, не ошибался.
Именно, таким хищником и был Коллинэ. Этот человек, наоборот, мечтал о наживе, о корыстном использовании изобретения. В противоположность Патюрэну, который не думал ни о каких патентах и привилегиях и только о том и мечтал, чтобы дать возможность каждому человеку устроить простой и дешевый аппарат и бесвозбранно пользоваться им, Коллинэ жаждал добиться привилегии и продавать изобретение за бешеные деньги богачам фабрикантам, заводчикам, па-роходовладельцам и вообще всем крупным предпринимателям и предприятиям, нуждающимся в топливе. Он рассчитывал, что «солнечное тепло» даже при эксплоатации его путем привилегий и патента будет все-таки настолько дешевле и выгоднее дров, каменного угля и нефти, что все накинутся на него. Он предвидел громадные реформы на заводах, колоссальные изменения в их машинном оборудовании, почти полное уничтожение громоздких и дорогих топок и печей, И все это сулило колоссальные выгоды эксплоататору солнца.
Коллинэ с ловкостью настоящего сыщика следил за успехами Патюрэня. И когда Патюрэн заболел, и его отправили по распоряжению полиции в больницу для бедных, Коллинэ, как тень, последовал сюда за ним и ловил каждое слово, каждый шопот Патюрэна.
Он рассчитывал, что Патюрэн в бреду выдаст свою тайну. И он не ошибся…
Мозг умирающего работал лихорадочно. Патюрэн и в предсмертные мгновения не прекращал своей творческой работы. И словно торопясь пред наступлением вечной темноты и безмолвия закончить свою земную работу, спешно, но с удивительной ясностью делал математические выкладки и комбинировал химические формулы. И с удесятеренной быстротой все ближе и ближе подходил к решению проблемы.
Коллинэ, задыхаясь от волнения, ловил каждое его слово…
Коллинэ жадно ловил каждое слово умирающего…
И вот, почти все сказано. Тайна почти открыта. Почти…
Умирающий на мгновение остановился. Он, повидимому, пришел в сознание.
— Послушайте! — тихо прошептал он. — Я не хочу унести этого в могилу. Я нашел формулу амальгамы для приемника лучей. В нее входит…
И он стал диктовать формулу. Коллинэ записывал ее. Но умирающий ослабевал с каждым мгновением. Он шептал все тише и тише и, не сказав последнего, самого важного, слова, умер.
Это слово должно было явиться ключем к формуле. Без него она оставалась мертвой. Бывают такие замки, отпереть которые можно только путем подбора букв; но предварительно нужно знать определенное одно слово, по которому подбираются буквенные рычажки. Если этого задуманного хозяином замка слова не знать, то замок остается мертвым.
Коллинэ ломал руки от отчаяния. Разгадка была так близка… И всетаки она осталась навеки запертой. И ключ к ее замку умирающий унес с собой в могилу…
Но унес ли?..
II.
Коллинэ сидел в кабинете у главного врача больницы.
— Это великий изобретатель! — говорил он врачу: — Странный чудак, почти маниак, но гениальная личность. Представьте, что он завещал мне формулу своего открытия, но не успел договорить до конца. А открытие это такого рода, что произведет настоящий переворот в общественной жизни. Поймите мое отчаяние, доктор! Я прибегаю к вашему искусству, таланту, к вашему собственному гению… Оживите его!
Доктор задумался. Это был известный физиолог, знаменитый своими опытами над оживлением мертвых органов. Он заставлял жить отрубленные пальцы, мертвые сердца, желудки. Он помещал в особый физиологический раствор сердце, желудок и мозг мертвой собаки, соединенные стеклянными и резиновыми трубками, и эта неживая «теоретическая собака» жила растительной жизнью: мозг ее пульсировал, сердце билось, желудок переваривал пищу.
— Оживите его, доктор, — продолжал Коллинэ — Это будет величайший, беспримерный опыт… Пусть он будет жить еще хотя бы несколько минут, чтобы возобновилась деятельность мозга. Может быть, он хотя бы и бессознательно закончит то, что начал говорить и не закончил!
— У него есть родные? — спросил физиолог.
— Никого.
— Хорошо. Я распоряжусь, чтобы его отнесли в препаровочную.
В тот же день смертные останки Патюрэна были перенесены в отдельный павильон во дворе больницы. В этом павильоне доктор производил свои замечательные опыты. Коллинэ добился у него разрешения принести сюда-же аппараты Патюрэна, чтобы здесь же на месте начать свои опыты… Доктор, заинтересованный конденсированием солнца, охотно согласился на это. Ему самому хотелось посмотреть на удивительное изобретение.
Полиция, опечатавшая жалкое имущество бедняка-изобретателя, не воспрепятствовала Коллинэ забрать лабораторию Патюрэна и небольшой латунный прибор с валиком и приемником, который должен был воспринимать и сохранять тепловую солнечную энергию. У Патюрэна не было ни одного близкого человека. Никто не заявлял претензий на это имущество, а кроме того авторитет знаменитого врача, именем которого Коллинэ не замедлил прикрыться, также оказал свое влияние.
И уже через два— три часа после смерти Патюрэна физиолог приступил к своей удивительной работе.
Он отпрепарировал голову умершего, вынул его сердце, легкие, и, поместив их в стеклянный ящик, наполненный особым физиологическим раствором, соединил эти части тела Патюрэна сложной системой трубок, напоминавшей и игравшей роль аппарата кровообращения. Мертвенно бледное лицо Патюрэна с закрытыми, обведенными синевой глазами, возвышалось над уровнем жидкости. Оно казалось страшной маской, брошенной в воду и плавающей на ее поверхности.
Доктор открыл одну из трубок и ввел в сердце раствор, заменяющий кровь. И к удивлению, почти к ужасу Коллинэ, сердце стало биться, легкие сжимались и расправлялись. Странный препарат, сделанный из останков Патюрэна, этот «теоретический человек», состоявший только из Сердца, легких и головы, ожил.
Но это не было настоящей жизнью. И в то же время это не было уже смертью.
— Опыт, кажется, удался! — промолвил физиолог с улыбкой: — Но что с вами?
Коллинэ едва стоял на ногах. Он с трудом дышал и не отрывал расширившихся зрачков от страшного видения: мертвое лицо теоретического человека ожило: по нему пробежала судорога. Глаза приоткрылись, и тяжелый неподвижный взгляд их остановился на Коллинэ. Коллинэ вскрикнул и отвернулся.
— Неужели вы боитесь? — усмехнулся доктор: — Какой вы нервный. Понюхайте эфира!
И он поднес к лицу Коллинэ баночку с летучей жидкостью. Коллинэ стало легче. Поборов свое волнение и страх, он нагнулся над стеклянным ящиком и стал ждать…
Ждать не пришлось слишком долго. Доктор усилил концентрацию раствора, сделал какие-то изменения в системе трубок — и вдруг мертвые губы зашевелились, и из них вырвался свистящий звук человеческого голоса.
…Мертвое лицо «теоретического человека» ожило и он заговорил…
Мозг Патюрэна, очевидно, начал работать. И, очевидно, в нем продолжалась та же работа, которую прервала смерть. Коллинэ затаил дыхание и сжимал в руке записную книжку.
Мертвец упорно повторял одно и то же слово. Вначале его нельзя было разобрать, потому что хрип и свист, вылетавшие из губ Патюрэна, мешали слушателям. Но мало-по-малу голос мертвеца становился ровнее и яснее и повторяемое им слово вдруг стало понятно Коллинэ.
Это было название одного минерала, который входил как главная составная часть в амальгаму приемника аппарата. Именно, этот минерал и связывал солнечные лучи, и втягивал их в себя, в связи с другими составными элементами. Это и был ключ к разгадке.
Безумная радость поднялась в его груди. Теперь оставалось только достать указанный Патюрэном основной элемент и произвести опыт с уже готовым аппаратом.
А Патюрэн еще несколько раз произнес воскресшее и унесенное было в могилу слово и замолчал. Легкие продолжали сокращаться, сердце пульсировало. Но лицо опять приняло безжизненный вид и стало неподвижно. Патюрэн как-бы сознавал, что его долг, прерванный смертью, выполнен, и что теперь ему уже нечего делать на этом свете и остается одно: замолчать и уснуть навсегда со спокойной совестью.
— Вы думаете продолжать опыт? — спросил Коллинэ врача.
— Конечно! — пожал плечами физиолог — Я разработаю этот опыт как можно шире. Мы задержим как можно дольше вашего покойника здесь, на земле. Я предвижу кое-какие дальнейшие возможности. Почему вы задали мне этот вопрос?
— Так… — уклончиво ответил Коллинэ.
Он не мог сознаться, что оживший мертвец теперь почему-то уже стеснял его…
Бренное туловище Патюрэна, его руки, ноги, его уже ненужная мускулатура и покровы были сложены в гроб и похоронены на кладбище для бедных, на краю города. Но мозг, сердце и голова Патюрэна продолжали жить странной, неживой жизнью в стеклянном ящике в лаборатории физиолога. И трудно было сказать, какие идеи и образы таятся в этом неживом, но живущем мозгу.
III.
Коллинэ работал над аппаратом с лихорадочной поспешностью.
Амальгама была вскоре готова. Приемник был покрыт ею. Аппарат — такой маленький и несложный аппарат, с блестящим латунным валиком и раструбом как у граммофона, сверкал медью и никкелем. Теперь оставалось только пустить его в ход.
Стояла жаркая солнечная погода. Коллинэ пригласил врача, который чрезвычайно желал присутствовать при опыте, и вместе с ним вынес аппарат на крыльцо и поставил на солнце.
— Подождем до вечера, — сказал он: — А вечером пустим его в ход в комнате. Энергия будет излучаться как из жарко натопленной печки.
Аппарат тихо гудел, как гудит далекий аэроплан. Доктор потрогал его: поверхность валика была совершенно холодная. Он покачал с сомнением головой.
— Вы не верите? — рассмеялся Коллинэ — Между тем это математически верно. Сегодня вечером вы можете устроить себе чудесную паровую баню при помощи этого аппарата.
— Мне думается, что ваш Патюрэн просто маниак и строитель воздушных замков. Впрочем, это ваше дело. Меня интересует, вы сами понимаете, совсем другая сторона дела.
Аппарат все гудел. Солнце пекло. Белые стены павильона, где лежал теоретический человек, резали глаза своей ослепительной белизной. Коллинэ с наслаждением слушал гудение. Он ясно представлял себе свое грядущее финансовое могущество. Аппарат Патюрэна рисовался ему в гигантских размерах. И в еще более гигантских размерах рисовался ему завод, на котором будут изготовляться эти аппараты. Они захватят весь мир. Заводы, фабрики, пароходы, железные дороги — все придут на поклон к Коллинэ, все будут у его ног. Золото потечет к нему стремительным потоком! Патюрэн умер бедняком. Коллинэ будет долго и счастливо жить, воспользовавшись его гениальной мыслью. Нет, он не будет таким дураком, чтобы работать для бедняков и оставаться самому бедняком!
Аппарат гудел до самого вечера. Солнце зашло, небо окрасилось багрянцем заката — и только тогда затих чудесный ящик с валиком и раструбом. Коллинэ отнес его в лабораторию и поставил в соседней комнате. Ему не хотелось оставаться в одной комнате с живым мертвецом. Он всего охотнее провел бы этот вечер у себя дома, а не здесь. Но он ждал возможных осложнений в работе аппарата и надеялся, что мертвец опять заговорит и сможет дать нужные разъяснения.
Он сидел некоторое время над работой, делая вычисления. Незаметно подкрался вечер и стало темно. В комнате, выходящей на север, было прохладно, несмотря на то, что весь день снаружи стоял удушливый зной.
В дверь постучали. Это был слуга доктора. Он принес письмо: доктор извинялся, что сегодня не может придти в павильон присутствовать при опыте и просил начать опыты с аппаратом без него.
Коллинэ написал несколько слов в ответ и отпустил слугу. И с удивлением услышал, что тот щелкнул ключем в двери. Коллинэ сначала не сообразил, что это значит. Но потом понял, что слуга по рассеянности запер павильон; вероятно, он привык запирать его каждый раз на ночь.
Коллинэ потрогал дверь: да, она была заперта. Это было довольно глупо. Он стал кричать. Но слуга, очевидно, уже успел отойти далеко и не слыхал.
— Пустяки! — подумал Коллинэ: — Я все равно рассчитывал остаться здесь до утра. А в случае чего я, разумеется, могу выскочить в окно.
Он заинтересовался окнами, стал их рассматривать, искал форточки. И сделал неприятное открытие: окна были из толстого корабельного стекла и под стать всем остальным зданиям больницы были зарешетены мелким переплетом. Форточки были в потолке.
— Глупо! — подумал он: — Я попал в тюрьму. Этого только не хватало!
Впрочем, дурное настроение быстро рассеялось. Коллинэ решил привести аппарат в действие. Это была торжественная, долгожданная минута.
Он отодвинул задвижку у раструба, и аппарат стал снова гудеть. Из раструба хлынула горячая волна. Коллинэ вскрикнул от восторга и принялся танцовать вокруг стола, на котором стоял аппарат. Несколько раз он подбегал к аппарату, трогал его и даже ласкал его гладкие стенки. И с каждым разом убеждался, что волна излучаемой им энергии становится все горячее. Усиливалось и гудение.
В комнате стало заметно теплее. Градусник показывал уже 18 градусов. Коллинэ немного успокоился от взрыва радости, снял пиджак и жилет и решил опять заняться вычислениями. Но становилось все жарче. И это обеспокоило его.
— Странно, — подумал он, — энергия излучается с наростающей силой. Точно приближающийся звук — чем ближе, тем вдесятеро и вдесятеро сильнее.
И ему в первый раз пришло в голову, что ни он, и, очевидно, ни Патюрэн не подумали о регуляторе. Коллинэ почему-то казалось, что состав амальгамы сам по себе обладает регулятивным действием! Любая печь дает тепло медлительным потоком, но и при печах устраивают вьюшки и форточки. Как-же было не озаботиться этим здесь? Впрочем, может быть, регулятор в аппарате и имеется, но только Коллинэ не знает о нем ничего. Но где же этот регулятор?
Он стал внимательно рассматривать сконструированный Патюрэном ящик. Но в ящике не было ни одной зацепки, ни единого винтика, ни единой шайбы, которые могли бы играть роль регулятора. Коллинэ знал их все и знал, для какой роли они назначены. Все это было не то.
Он пробовал поднять повыше раструб. Но и это не удалось, и Коллинэ лишь обжег руку при этой попытке. От аппарата несло уже таким жаром, что нельзя было прикасаться к нему. Гудение все усиливалось. Казалось, что в комнате пущен в ход сильный мотор.
— Глупая история! — подумал Коллинэ — Как остановить аппарат. Боже мой, как его остановить? Уже нельзя оставаться в комнате.
Он обернул руки в толстую ткань и пытался задвинуть у раструба задвижку. Но с ужасом заметил, что латунная задвижка расплавлена и уже не действует. В то же мгновение ткань задымилась и вспыхнула, и Коллинэ еле успел стряхнуть ее с руки и затоптать ногами.
Он вдруг вспомнил о Патюрэне. О том существе, которое было Патюрэном, и которое лежало в соседней комнате в стеклянном ящике. Патюрэн должен знать, как остановить аппарат. Патюрэн скажет это!
Ему уже не пришло в голову, что с аппаратом все равно теперь ничего поделать нельзя. О регуляторе надо было подумать ранее. Теперь следовало-бы выбросить огнедышащий ящик с раструбом наружу, или самому бежать из этой ловушки. Но отчаяние лишило Коллинэ разума. Да и как было выбросить аппарат? Как было убежать отсюда? Может быть, Патюрэн знал еще одно последнее, загадочное, спасительное слово?
— Патюрэн! Патюрэн! — закричал он, наклоняясь над мертвенной маской, плававшей в ящике: — Патюрэн! Я погибаю! Мы горим, Патюрэн! Регулятор! Регулятор! Где регулятор?
По мертвому лицу пробежала судорога. Глаза приоткрылись и уставились на Коллинэ. Губы скривились, и послышался хриплый, визгливый смех.
Мертвый Патюрэн смеялся. Это был бессмысленный смех, как у идиота. Что вызвало этот смех? Какая реакция происходила в мозгу, обреченном на это мертвенное существование? Какие явления возникали в нем? Не те же ли, что у сумасшедших?
Коллинэ заметался по комнате. Он кинулся к двери, плотно захлопнул ее и забаррикадировал столом, стульями, шторой от окна. За дверью раздавалось громовое рычание, словно там сорвались с цепи и бесновались десятки диких зверей. Дверь дымилась. Солнечная энергия, пойманная в западню, вырывалась наружу со всею своей силой, нароставшей в течение целого дня.
А Патюрэн все смеялся.
Мертвый Патюрэн все смеялся…
Коллинэ изо всей силы ударил кулаком в толстое оконное стекло и разбил руку до крови. Страшная боль отрезвила его на мгновение, и он остановился, соображая, что ему делать?
Но делать было нечего. Окна не поддавались никаким усилиям. Стены были гладкие и толстые; потолок был высоко, форточки в потолке были маленькие. А дым и жара становились все невыносимее.
В соседней комнате раздался тяжкий удар словно от взрыва. Забаррикадированная дверь вдруг отскочила и повалилась, и в лабораторию ворвался столб пламени.
_____
Через четверть часа павильон пылал, как костер. Стены, сложенные из камня, были раскалены до красна. И к утру не осталось ровно ничего кроме груды этих раскаленных камней.
Ни лаборатории знаменитого физиолога с десятками приборов и препаратов, ни изобретенного Патюрэном аппарата, ни самого Патюрэна — этого «теоретического человека» в стеклянном ящике; ни живого человека Коллинэ.
Даже кости этого эксплоататора солнца были испепелены вырвавшейся наружу солнечной энергией.
ЧЕЛОВЕК НА МЕТЕОРЕ
Повесть Рей Кеммингса.
С английского
Часть III
(1-я и 2-я части помещены в №№ 2 и 3 за 1925 г. «Мира Приключений»).
Краткое содержание 1-й и 2-й частей.
На метеоре, составляющем часть одного из колец планеты Сатурн, неведомым образом появляется юноша, который не помнит ничего о своем прошлом. Он чувствует, что вследствие небольшого размера метеора тело его имеет слишком незначительный вес, так что передвигаться он может только с большим трудом. Он испытывает голод и жажду, ищет вокруг себя пищи и замечает вход в пещеру. Всматривается, а в это время из пещеры показывается девушка. Она тоже сразу видит его, внезапно поднимается вверх и, грациозно плывя по воздуху, изчезает.
Юноша, давший самому себе имя Нэмо, входит в пещеру и видит, что она озарена Фосфорическим светом, исходящим от скал, образующих ее стены. Он ложится на ложе девушки и тотчас засыпает. Проснувшись, Нэмо видит, что девушка стоит недалеко от него, и направляется к ней; она снова поднимается в воздух и уплывает к ближайшему выступу. Он гонится за ней, а она постоянно ускользает от него. Утомленный Нэмо снова ложится и засыпает. Просыпается от прикосновений руки девушки, поглаживающей его волосы. Они становятся друзьями. Она учит его, как прыгать на тысячи футов вверх и снова спускаться на землю, делая такие же движения, как при плавании в воде. Затем они возвращаются в пещеру, и девушка ловит и убивает крупное животное, похожее на ящерицу.
Они варят мясо животного и съедают его. Нона, как назвал Нэмо девушку, внимательно следит за юношей, всматривается в него и затем подходит к нему. Мгновение они молчат, сердце Нэмо начинает неистово биться, — внезапно он обнимает девушку.
Таким образом, Нэмо обрел мир и подругу.
Нона и Нэмо озабочены добыванием пищи, которой бы хватало им на жизнь. Однажды Нона, вернувшись в пещеру, показала Нэмо несколько моллюсков, которые оказались очень вкусными. Затем она ведет его на то место, где нашла их, чтобы набрать побольше. Они входят в ручей и пробираются по его течению. Вода становится все глубже и глубже, и, в конце концов, Нэмо видит, что Нона с головой погрузилась в воду. Внезапно и его голова оказывается под водой, и он чувствует, что водою наполняются его легкие. С большим усилием ему удается дышать; наконец, это становится все легче и легче. Он чувствует, что вода, в которую проникает большое количество воздуха, легко снабжает его кровь кислородом, необходимым для жизни. Они нашли кучу раковин, собрали, сколько им нужно было, и вернулись обратно к себе в пещеру. Развели огонь, сварили себе ужин и улеглись.
Когда среди ночи они проснулись, вся пещера их была охвачена огнем. Скалы из горючего материала воспламенились от очага, на котором они варили пищу. Они вырвались через выход из пещеры на поверхность метеора. Лишенные, таким образом, пристанища, они плывут по воздуху на противоположную сторону метеора. Там, на берегу широкого ручья, они устроились на том месте, где возвышается холм. Вдруг ветер со стороны пожара нагнал дыму и вредных испарений. Внезапная мысль пришла в голову Нэмо, он нырнул в воду, увлекая за собой Нону; вода была глубиною приблизительно в 30 Футов, и они пошли по дну ручья среди утесистых скал. Вскоре они натолкнулись на пищу и, так оставаясь под водой, съели ее.
Тут они увидели, что навстречу им идет группа существ, четверо мужчин и шесть женщин, по виду несколько похожих на людей, у которых, однако, вместо рук четыре щупальца, как у осьминога. Существа эти схватили Нэмо и Нону и связали их. Вдали показалась колесница, приблизилась к ним по дну ручья, и мариноиды, как назвал захватчиков Нэмо, склонились перед ней. Нэмо не последовал их примеру, и находившийся на колеснице метнул в него копьем. Нэмо был сражен и упал без чувств.
_____
I
Я продолжаю свой рассказ с того момента, когда прошло четыре или, может быть, пять месяцев (по вашему земному исчислению) после того, как мы с Ноной вступили в мир мариноидов.
Затем наступило великое событие для меня и для Ноны, которое я никогда не забуду. Сейчас вы прочтете о нем, прочтете о последовавшем за ним целом ряде происшествий, воспоминание о которых даже теперь так же волнует меня, как волновали они меня в то время, когда горячая молодая кровь переливалась в моих жилах.
Вы помните, что я свалился без чувств от удара по голове. Когда я пришел в себя, вождь мариноидов уже проехал дальше и существа, полонившие нас, потащили нас вперед.
Наконец, мы пришли в город. Город? — спрашиваете вы. — Город под водой? Почему же нет? Под городом я подразумеваю соединения тесно примыкающих одно к другому человеческих жилищ, где много народу живет близко друг к другу. Разве это не город?
То была столица страны мариноидов. Они называли ее Ракс — резким, немного гортанным, односложным звуком, который я передаю это четырьмя буквами.
Там мы поселились вместе с руководителем группы мариноидов, которые захватили нас в плен. Там научились мы языку мариноидов, приобщились к их цивилизации, приобрели друзей и врагов, надеялись, боялись и отчаивались. Я уже рассказывал вам, что мы только начали создавать свой собственный разговорный язык. Теперь мы полностью переняли язык мариноидов и через несколько месяцев настолько усвоили его, что могли выражать на нем все наши желания и стремления. Чтобы вы могли понять это, я снова напомню вам, что умственно мы созрели, но не были развиты. Мы воспринимали все, как слишком рано созревшие дети.
Более того, это общение с другими существами, обладавшими такой же способностью мышления, как и мы, способствовало быстрому подъему нашему над тем умственным уровнем, которым мы обладали. Мы научились одному величайшему, отличительному признаку цивилизации — обману. Но я благодарю судьбу, что мы сохранили еще простоту мысли и непосредственность натуры, которую так или иначе, повидимому, утрачивают в так называемом цивилизованном мире.
Жизнь в столице мариноидов
Вы хотите, чтобы я нарисовал вам картину нашего пребывания у мариноидов к концу этих месяцев. Мы устроились в жилище почти на дне и на самом краю города Ракс. Дно города! Что за странное выражение! Позвольте мне объяснить вам.
Здесь, на земле, вы живете в мире, который вы называете миром трех измерений — длины, ширины и высоты. Вы считаете, что ваши тела и все материальные объекты имеют три измерения. Совершенно верно. Но вы живете на поверхности шара. Большею частью, за некоторыми исключениями, конечно, ваши действия ограничиваются только двумя измерениями. Ваши птицы в этом отношении одарены большими способностями, они двигаются во всех направлениях. Рыбы ваши также.
Рыбы! Теперь вы поймете, о чем я говорю. В подводной стране мариноидов движение в вертикальном направлении происходит также естественно, как и в горизонтальном. Вот почему я говорю о дне города, так как Ракс был такого же большого размера в вертикальном направлении, как в длину и в ширину.
Город, как я себе представляю, имел грубые очертания круга около четверти мили в длину и почти столько же в ширину. Он был похож на огромный, широкий, низкий цилиндр, установленный на своем основании.
Город этот создан из морских растений. Огромные стволы поднимались с песчаного, покрытого тиной, водяного дна, подобно густому лесу деревьев, и росли, поднимаясь ввысь на тысячу или более футов. Широкие, похожие на листья, ветви покрывали их вершины, причем воздушные пузыри в воде поддерживали их в прямом положении.
Эти прямолинейные стволы являлись вертикальными балками, на которых были возведены постройки города. На восемьсот футов вверх с них были удалены ветви. Вьющиеся вокруг вертикальных стволов паразитные растения были отведены в сторону таким образом, чтобы соединять их. Поверх них сплетены другие канатообразные растения. В результате получился ряд ярусов, отстоящих футов на двадцать друг от друга — один над другим — всего от вершины до дна города сорок рядов.
Затем ярусы были разделены на отделения, которые служили жилищами. Одно из них я теперь опишу подробно, именно то, которое было предоставлено мне и Ноне в то время, когда случилось великое происшествие в нашей жизни.
Через весь город проходили, на известном расстоянии друг от друга, и вертикальные, и горизонтальные улицы, по которым внизу, наверху, поперек плавали и собирались жители. И местами были там кубические площади, нечто вроде парка трех измерений. Одна из них, самая большая, занимала центр города; около нее находилось жилище вождя.
Достаточно-ли ясно я объяснил? Материалом, из которого был выстроен город, дома его, похожие на медовые соты, с настоящими стенами и комнатами, служили живые, цветущие морские растения. Они росли быстро. Их рост легко было направить в желательную сторону. В течение трети человеческой жизни, не дольше, может вырости такой город.
Были-ли это растения одного и того же вида? Нет, казалось, что там сотня разновидностей — и каждая имела особое значение и употребление. Это было очень интересно. У вас, в ваших великих земных океанах, есть морская растительность. Вы можете себе представить, какой вид они имели. Главные стволы были твердые, гладкие, несколько тонкие, но ноздреватые — вроде стволов ваших банановых деревьев. Листья их переплетались и были красиво раскинуты; повсюду росли миллионы тонких стручков.
Когда я впервые увидел город Ракс, я был, помню, поражен искусством его архитектуры. Но скоро я стал восхищаться еще большему искусству, с которым поддерживалось и сохранялось его внутреннее строение. Главные стволы мало изменялись с годами. Но было необходимо тщательно следить за всеми деталями, постоянно удалять, перемещать, вырывать с корнем, вновь сажать растения. Самые стены человеческого жилища были разнообразного вида. Однако, каждый из жителей нес ответственность за свое жилище, выполнял связанные с этим обязанности, и поэтому город содержался в полном порядке.
Над городом были раскинуты громадные ветви главных стволов — темнозеленые, волнующиеся, кружевные, как листья огромного папоротника, с сотнями стручков вдвое большого размера, чем человеческое тело, которые представляли собою воздушные пузыри, поддерживавшие весь город.
Вечная тишина
Я говорил уже, что вода была невозмутима. Здесь, внизу, не слышно было журчания, кроме вызываемого движениями самих подводных существ. Природа застыла в вечном покое. Никогда не менялись полусумерки; температура оставалась всегда одной и той же; ни бури, ни звуки внешнего мира не нарушали покоя и тишины.
Таков был город Ракс — весь красиво сплетенный из тонких волокон. Город, который я мог бы снести с его основания и разрушить, изрубив одной из ваших земных сабель. И вам предстоит услышать, как однажды я сделал нечто подобное с таким же городом. Правда, я не разрушил его, а только… Но сначала я должен рассказать вам, что случилось до появления Боя, нашего мальчика, нашего малютки, сына, которого родила от меня Нона.
II.
Вначале мы жили в доме Каана, руководителя полонившей нас группы мариноидов. На его обязанности лежало собирать раковины со дна на площадях города.
Приходится все это кратко описывать вам: так много мне еще нужно рассказать. Сначала мы были предметом всеобщего любопытства в городе мариноидов. Но относились они к нам доброжелательно, а когда мы научились их языку, они гостеприимно приняли нас в свою среду. Мы немного могли им рассказать о себе, о внешнем мире, где дышат воздухом, о метеоре, о небесах, о великой вселенной, бесконечно малую часть которой все мы составляем, но и этого они не могли понять. Но мариноиды не насмехались над нами, — я обращаю на это ваше внимание, вы, жители земли! Однако, они не были слишком легковерными. Их вождь послал за мной, задавал мне тысячи остроумных вопросов и старался добиться, правдивы ли мои рассказы.
Теперь я уверен, что именно благодаря знанию вещей, о которых они никогда не мечтали, я занял выдающееся положение среди мариноидов. Благодаря этому и еще благодаря моей физической храбрости, которую мне пришлось в очень скором времени проявить.
В виду всего этого, я стал пользоваться большим влиянием в Раксе. Через несколько месяцев вождь стал часто совещаться со мной.
Когда родился Бой, они предоставили нам отдельное жилище в полное наше распоряжение. Каан очень хорошо относился к нам; мы считали его одним из наших лучших друзей. Он плавал по городу со мной и с Ноной, помогая нам выбирать жилище из числа пустовавших.
Можете вы представить себе, как мы совершали такое путешествие? Горизонтальные улицы были похожи на квадратные туннели в двадцать футов шириною и столько же вышиною; снизу и сверху — гирлянды сплетенной, заботливо подчищенной, темнозеленой растительности; по бокам — ряды домов. В домах были окна и двери с передвижными ширмами из растений.
Улицы были освещены искусственным светом. Вне города, в открытых водных пространствах, вода была сама по себе настолько светла, что казалась озаренной сумеречным светом.
Но в самом городе, прикрытом со всех сторон растительностью, могло быть слишком темно и потому неудобно жить. Вдоль улиц через определенные промежутки были протянуты поперечные перекладины из ползучих растений. С них свисали огромные стручки, вероятно, величиною в полчеловека. Стручки представляли собою воздушные пузыри, оболочка которых была чрезвычайно тонка и просвечивала. От этих стручков, висевших, как фонари, исходил зеленовато-серебристый свет. Он расходился книзу лучами, освещавшими насквозь всю водную улицу; тени мариноидов, проплывающих мимо него, казались странными, чудовищными.
Вам интересно будет знать, что это был за свет. Собирали в открытых водных пространствах маленькие, самосветящиеся организмы и сотнями помещали их в стручки с просвечивающей оболочкой. Подобные организмы вызывают «фосфоресценцию» в тропических морях вашей Земли. Только там они были большого размера, крупнее ваших светящихся червячков.
Домашняя жизнь мариноидов
Мы медленно плыли вдоль улиц. Мы встречали мариноидов, которые, направляясь по своим делам, проплывали мимо нас. Из окон или с порога дверей голые дети смотрели на нас большими любопытными глазами. На одной из горизонтальных улиц с более нарядными двухэтажными домами в углу маленького балкона сидела женщина и кормила своего грудного ребенка. Около нее двое старших детей играли блестящими опаловыми раковинами.
Мы свернули вверх, на вертикальную улицу. Там фонари были прикреплены к стенам домов. Дома стояли один над другим, каждый состоял из одного только низкого, сильно вытянувшегося в длину, этажа. Ноне они не понравились; один из них был свободен, и Каан предложил его Ноне, но она решительно отказалась. Я не мог высказать своего мнения; все казались мне подходящими и одинаковыми.
Мы плыли вверх и вскоре достигли центральной площади. Там находился дом вождя. Со всех четырех сторон и сверху окружало его открытое водное пространство. Главные столбы строения поднимались вверх над ним с красиво развевающимися листьями, мельчайшие стручки которых светились, как сотни прозрачных китайских фонариков; под ними, на крыше дома, был расположен сад. Там росли небольшие растения, блестящие белые раковины образовывали узоры, на почве из черной тины произростало что-то блестящее и красное, похожее на цветы. Перила крыши были окаймлены рядом маленьких освещенных стручков.
Дом Вождя находился на центральной площади…
Строение было вышиною не более пятидесяти футов. Оно имело и горизонтальные, и вертикальные балконы и широкую горизонтальную дверь наверху — дверь, сделанную из блестящих радужных раковин, соединенных вместе с помощью глины и того клейкого вещества, которое мариноиды добывают из какого-то растения. На небольшой площадке около двери помещалась повозка из раковин, в которую было запряжено морское животное; тут же ждал возница; в этой повозке я и увидел впервые вождя при встрече с ним.
Это был великолепный дом. Нона и я проплыли мимо него, жадно осматривая его. Но сердце мое сжалось, ибо я знал, что теперь, после того как Нона увидела его, нам будет еще более трудно выбрать себе подходящий для нас скромный, маленький дом.
Наступало уже время ложиться спать, когда Нона, наконец, нашла то, что ей нравилось. Она выбрала двухэтажный дом на перекрестке горизонтальной и вертикальной улиц. В нем была одна комната наверху и две внизу — вы назвали бы их маленькими комнатами, так как размером они были не больше пятнадцати кубических футов.
…В нашем доме, на перекрестке горизонтальной и вертикальной улиц, было 2 комнаты…
Но наверху дома был небольшой горизонтальный балкон. Нона могла бы лежать на нем и смотреть на проплывающих мимо мариноидов. И Каан рассказал нам, что по этим улицам обыкновенно проезжает вождь, когда вместе со своими спутниками отлучается из города. Я думаю, что благодаря именно балкону, Нона выбрала этот дом. Мне же нравилось, что мы будем жить очень близко от Каана.
В нашей спальне были скамьи вдоль стен, покрытые мягкой, эластичной грудой растений, вроде матраца — эту светло-зеленую растительность вы назвали бы губкой. В середине комнаты стояла большая красивая раковина, вроде стола; было окно, выходившее на балкон и на улицу с лиственной развевающейся шторой, которую можно было задернуть.
Вентиляция
Мы оставляли окно открытым для вентиляции. Вентиляция? — удивляетесь вы. — Вентиляция в водяном городе? Конечно! У вас самые простые рыбы погибли бы без притока свежей воды. Мы обыкновенно вдыхали воздух, растворенный в воде, и нам постоянно была необходима свежая вода с новым притоком воздуха.
По прошествии времени, предназначенного для сна, весь город «вентилировался». Приплывали животные — лоснящиеся, блестящие, темные суще-ста со скользкими телами, похожие на мокрых тюленей — и проталкивали сквозь улицу нечто, вроде щита. Щит был большого размера и заполнял почти всю улицу. Продвигая его, они прогоняли старую воду, а новая вода набиралась в город с другой стороны.
Я описал бы вам подробнее устройство нашего дома, но мне так много еще остается рассказать, что я принужден сокращать свой рассказ. В нижних комнатах у нас были круглые раковины для сиденья и место, где мы могли хранить и приготовлять пишу. Каждая комната была освещена фонарем, который можно было прикрывать колпаком из зеленого мха, чтобы комната погрузилась в темноту.
Нона была довольна нашим домом и тотчас начала строить сотни планов, как еще улучшить его. Все было в порядке, но нужно было много работать, подчищая и пересаживая растения. И вот однажды, когда мы только что проснулись и были заняты дома своими делами, Ог явился повидаться с нами. Вернее говоря, он пришел повидать Нону, так как я к нему относился недружелюбно. Его приход был непосредственной причиной того, что я вынужден был проявить свою физическую силу, о чем я уже упоминал.
У меня было два поединка с Огом. В первый раз это была замечательная рукопашная схватка перед домом вождя, которая привлекла к себе внимание всего города. К рассказу о ней я и перехожу теперь.
III.
Он стоял у входной двери нашего дома, разговаривая с Ноной. Это был молодой человек приблизительно моего возраста. Потом я узнал, что он не чистокровный мариноид, — но об этом я расскажу дальше. Он был немного выше Ноны, но ниже меня. Ноги его с перепончатыми конечностями были обнажены немного выше колен. От колен до плеч на нем была одета, по принятому у мариноидов обычаю, только одна одежда из зеленой плетеной травы. На выпуклой груди он носил украшение: плоскую, круглую вещь из маленьких, соединенных вместе раковин. Он шевелил своими четырьмя, похожими на щупальцы, руками. Густые, но короткие волосы на голове были у него заплетены. По временам он своей клешней расчесывал их, желая этим грациозным жестом произвести впечатление на Нону.
Лицо Ога, хотя черты его не очень отличались от моих за исключением более широкого рта и слегка выпуклых глаз, было, однако, очень неприятно. У него был слабо очерченный подбородок и самодовольное выражение лица, но больше всего мне не нравилась его манера смотреть на Нону.
Мне ли было ревновать к такому странному существу, как этот мариноид! Если вы так думаете, вы очень заблуждаетесь. Мы жили в стране мариноидов, и в этом мире только Нона и я имели странный вид. Мы явились уклонением от нормы, а не они!
Для меня Нона с ее развевающимися волосами, в короткой серовато-зеленой одежде, принятой у мариноидов, была самым прекрасным созданием на земле. Но, как заметил нам Каан, наши глаза — у меня и Ноны. — были посажены слишком глубоко, чтобы ими было удобно видеть по сторонам. Наши рты были слишком малы, чтобы как следует вбирать в себя воду, и грудь у нас была также слишком мала и неподвижна, чтобы надлежащим образом приспособиться к плаванию. Две руки наши могли сгибаться только в одном направлении, что, конечно, не давало таких преимуществ, как мариноидам их четыре руки; а с нашими ногами без перепончатых соединений мы всегда оставались бы очень посредственными пловцами. Все это было до того, как я показал свою мускульную силу; вскоре Каан изменил свое мнение.
Оскорбление
Я избегал Ога. Его бессознательно влекло к Ноне, несмотря на физическое несходство. Теперь я знаю почему. Он не был чистокровным мариноидом и потому не искал подруги среди их женщин, а когда появилась Нона, он почувствовал влечение к ней.
Тогда я еще не знал этого, но чувствовал. И Нона тоже боялась Ога, хотя наружно не выказывала этого.
Я находился в другой комнате, когда Ог пришел к нам, в наш новый дом. Он стоял и разговаривал с Ноной. И вдруг я услышал ее крик. Я быстро нырнул во внутреннюю дверь. Они поднялись почти к самому потолку, и Нона отбивалась от него, а он смеялся.
Я бросился на него, но он ускользнул от меня, и, прежде чем мне удалось схватить его, появился Каан и остановил меня.
Нона кричала. Каан удерживал меня. Кулачная расправа считалась тяжким преступлением в Раксе. Я мог по жаловаться на Ога суду и требовать его наказания, но не имел права лично расправляться с ним.
Однако Ог, нагло самоуверенный, сделал то, чего я ожидал. Он подплыл ко мне и слегка ударил меня по лицу своей верхней левой рукой. Он вызвал меня на публичный поединок.
Каан взял на себя все приготовления. Мы должны были драться по истечении ближайшего времени, предназначенного для сна, на площади перед домом вождя. Вождь во главе особого трибунала должен был с крыши своего дома наблюдать за поединком и постановить приговор.
Нона очень боялась, она плакала весь день. Каан уговаривал нас спать на этот раз в его доме, где жена его (я употребляю слово: жена, хотя оно не применимо здесь) могла бы позаботиться о Ноне.
Поединок должен был состояться без употребления какого бы то ни было оружия и, несмотря на страх Ноны, я не принимал его всерьез. Вспомните, что мне было только двадцать лет, а юность слепо уверена в себе. Но Каан был очень серьезно настроен. Тогда я не знал, что предполагался смертельный поединок. Этого хотел Ог, и весь город был взволнован этим.
В тот вечер Каан был расстроен, был очень любезен со мной и внимателен. Один раз он обратился ко мне с вопросом относительно моих приемов борьбы. Молодость так безумна. Я смеялся над ним. — Я стисну его руками раньше, чем он успеет прикоснуться ко мне, — хвастливо сказал я. — Но не будем говорить об этом теперь, друг мой Каан. Это пугает мою Нону.
Он сразу замолчал. Повидимому, он хотел сообщить мне нечто важное. Но после моих слов он, вероятно, подумал, что мне это известно. Мариноиды по натуре сдержанны; они не любят оказывать на вас давления, они предлагают, но не настаивают на том, чтобы вы поступали так, а не иначе.
Я совершенно не знал, что именно путало его; иначе я, должно быть, ждал бы поединка с тревогой, а может быть и со страхом.
Нона не хотела присутствовать при поединке.
Поединок
Площадь представляла собою блестящую, оживленную арену. Освещенные воздушные пузыри свисали с балконов дома вождя и с листьев в саду на крыше. Повсюду, сверху, снизу, со всех четырех сторон водяного куба рядами висели такие же фонари, так что вода, в которой нам предстояло бороться, была вся залита ослепительным, зеленоватым светом.
На крыше, за рядом фонарей, находился вождь и приблизительно десять мариноидов, членов трибунала; фонари были затенены, что напоминало рампу в наших театрах.
Вокруг арены, фасадом к дому вождя, было расположено несколько домов с балконами, где жили наиболее уважаемые мариноиды. Огни у них были тоже затенены, и только иногда лучи их скользили по воде. Балконы были переполнены мариноидами, мужчинами и женщинами.
Вокруг площади на перекрестках всех улиц столпились остальные мариноиды; сотня или больше лежали внизу, устремив взгляд вверх, а наверху толпа других уцепилась за верхнюю изгородь или разместилась в листве, наблюдая за тем, что происходит внизу.
Сани вождя были убраны с платформы; на их месте стояла стража, чтобы не подпускать никого близко к месту поединка. Когда я с Кааном прибыли, Ог один плавал около центра площади, обнаженный до самой, поясницы; он медленно перебирал ногами, размахивая четырьмя руками, как бы стараясь удержаться в равновесии. Все глаза были устремлены на него. Он самоуверенно, криво улыбался, как человек, готовый к поединку, ждущий своего противника.
Раздались возгласы, когда Каан и я проталкивались сквозь толпу. Каан. взял от меня верхнюю одежду и, сказав мне несколько прочувствованных, ободряющих слов, удалился. Я проследил за тем, как он поплыл вверх и присоединился к группе, окружавшей, вождя.
Толпа затихла, вода была беззвучна, — и вот внезапно Ог обратился ко мне с насмешливым, вызывающим окриком. От гнева молодая кровь закипела во мне. Я не чувствовал страха; я жалел только, что не было Ноны, и она не может увидеть, как я буду бороться с Огом.
Медленно поднялся я вверх по воде навстречу Огу. Но в эту минуту жена вождя, находившаяся рядом со своим мужем на крыше, позвала меня, и я подплыл туда, остановившись невдалеке.
— Я надеюсь, что ты окажешься победителем, — сказала она достаточно громко, чтобы слова ее были услышаны всеми. — Ты плохо приспособлен к борьбе, но право на твоей стороне.
Так выразила она мне свою симпатию, ибо Ог не пользовался популярностью в Раксе.
— Иди, желаю тебе успеха, — приветливым жестом она отпустила меня.
Я поплыл обратно, сердце мое радостно билось, а вдогонку мне раздался крик сына вождя — юноши моего возраста, который уже, кажется, проникся любовью ко мне:
— Нэмо, не давай ему возможности схватить тебя одновременно за голову и за ноги.
— Нет, — ответил я, — не дам. Благодарю тебя.
Я медленно поплыл обратно навстречу Огу. Я не понимал, о чем говорит сын вождя, но следовал его совету, пока только мог, но в разгаре поединка, как вы увидите, забыл об этом. Ог уже был настороже и ждал меня. Руки его и ноги перестали двигаться; тело напряглось, он медленно опускался вниз. Я устремился за ним, и не более десяти футов отделяло нас друг от друга. Я удивлялся, что он не нападает на меня, и ждал этого, чтобы схватить его за грудь и стиснуть изо всей силы.
Напряженная тишина была в ярко-освещенной воде; мы опустились почти до дна площади. Без всякого предупреждения, я согнулся, нырнул вперед и бросился на Ога так стремительно, насколько у меня хватало силы.
IV.
Я был хорошим пловцом; на вашей земле среди людей нет таких. Но скоро я убедился, что мне не сравняться с Огом. Он увернулся от моего первого нападения. Тело его с вытянутыми по бокам руками проскользнуло между моими руками. Розовой полоской промелькнуло оно вверх по освещенной воде.
Я бросился за ним. Он носился в листве, почти над головой вождя, поджидая меня. Презрительная улыбка на лице его взбесила меня. Как только я приблизился к нему, он повернул в другую сторону и снова нырнул, но я схватил его за ногу, когда он проносился мимо меня.
Из толпы слышались крики, когда мы барахтались, и вода бурлила вокруг нас. Я старался повернуться и схватить руками тело Ога. Но он снова ускользнул. Я знал, что, если бы мне удалось как-нибудь стиснуть его, то я мог бы раздавить его. Он, повидимому, тоже знал это.
Я все держал его за ногу, и он не пытался вырваться. Он, повидимому, готовился к чему-то. Теперь он с трудом плыл вниз, шевеля руками, но не ногами. Таким образом, наши тела образовали странную прямую линию, и было похоже на то, как будто одна лодка тащит на буксире другую. Затем Ог резко повернулся кругом. Я все еще держал его, и его тело, изогнувшись, как арка, оказалось над моим. Благодаря этому движению, голова его оказалась у моих ног. Он протянул руку, стараясь схватить меня за ногу, но это ему не удалось.
…Я все держал его за ногу, и он не пытался вырваться…
Я услышал смешанный крик ужаса и облегчения, вырвавшийся у толпы. Теперь я был над Огом. От этих вращательных движений я пришел в замешательство. То дно площади было над моей головой, то мелькали стороны и верхушки.
Он снова попытался схватить меня за ногу, и я, чувствуя какую-то неясную еще для меня опасность, быстро выпустил его и уплыл. Он не стал гнаться за мной, но перевернулся несколько раз и затем выплыл к центру площади. Я плавал в верхней листве и усиленно дышал. Грудь моя, казалось, была сдавлена. Я физически не в состоянии был безболезненно выдержать такое напряжение. Избытка кислорода, в котором нуждалась моя кровь, легкие мои не могли получить из воды. Мне следовало, наконец, схватить и стиснуть Ога.
Теперь некоторые из зрителей осыпали меня насмешками. Они думали, что первая схватка напугала меня, и я боюсь уже своего соперника.
Боюсь? Действительно, я начинал бояться. Я стиснул зубы, повернулся и вниз головой снова нырнул по направлению к Огу. Изогнувшись всем телом, он спокойно стоял, готовый к бою.
В десяти футах от него, я сразу остановился. Лицом друг к другу, мы постепенно погружались вниз. Один раз он двинулся вперед и протянул руку, чтобы схватить меня. Но я быстро нырнул в сторону. Мы были около дна площади, как вдруг Ог поднял все четыре руки над своей головой. Тело его изогнулось вперед, наподобие полумесяца. Казалось, это был благоприятный для меня момент.
Я кинулся на него. Он отступил, w когда я новым движением выпрямился, тело его, как дуга, изогнулось надо мной. Одной ногой он коснулся моей ноги, и одновременно пальцами ударил меня по голове.
Одно мгновенье я почувствовал, что его прикосновение как бы обожгло меня. Я вздрогнул от резкого толчка. Затем я потерял сознание, и мое неподвижное, безжизненное тело медленно погрузилось на дно площади.
V.
Я очнулся, и звуки нескольких голосов неясно донеслись до меня. Я не открывал глаз и лежал неподвижно, как бы в полудремоте, вспоминая поединок и думая, не умер ли я, может быть. Я припоминаю теперь, какие смутные мысли проносились в моей голове. Сначала я был один на метеоре, затем встретил людей, узнал, что такое цивилизация. С людьми и с цивилизацией пришло несчастье, пришла борьба. Однако, я нашел здесь не только врагов, но и друзей. Каана и сына вождя. Они предостерегали меня против Ога. И любовь я тоже обрел здесь. Нона!
Мысль о Ноне так подействовала на меня, что я совершенно пришел в себя. Голоса вокруг меня стали яснее и громче. Я открыл глаза. Я лежал на скамье в доме Каана. Около меня находились Каан и старый, сгорбленный мариноид, на обязанности которого было, как я знал, лечить человеческое тело и заботиться о нем, когда оно заболевает. Нона сидела на скамье около меня; ее прекрасные золотистые волосы развевались над нами. Лицо ее застыло и было бледно. Увидев, как я шевельнулся и открыл глаза, она разразилась рыданиями. Я протянул руки и привлек ее к себе. Моя Нона! И Каан!
Мой друг Каан сильно обрадовался, увидев, что я ожил.
Старый мариноид успокоил Каана по поводу моего состояния и ушел Нона лежала в моих объятиях. Сын вождя прислал узнать, пришел ли я в себя. Теперь счастье мое было безгранично.
Когда я очнулся, то давно уже наступило ближайшее после поединка время, предназначенное для сна, и все это время Нона и Каан находились около меня. Повидимому, больших повреждений у меня не было. Скоро я окреп настолько, что мог разговаривать с ними и узнал, что такое Ог сделал со мной.
Это оказалось просто, и когда я понял это, я содрогнулся при мысли о той опасности, которой я так безрассудно и так глупо подвергал себя. Ог привел меня в бессознательное состояние током животного электричества. Тела всех взрослых мужчин мариноидов имеют специальные органы, которые порождают электрический ток. Он может быть пущен в любое время, и его можно всецело по своей воле регулировать.
Я вспомнил, как Ог всячески ухитрялся заставить меня принять прямое положение, чтобы удар достиг наибольшей силы. Его тело изогнулось дугою над моим; он одновременно коснулся моих конечностей своими, и ток, пройдя через все мое тело, едва не остановил биение моего сердца.
Ог коснулся моей ноги и ударил по голове. Электрический ток прошел через мое тело.
Каан думал, что я знаю это и буду настороже. Мои слова заставили его предполагать это, ибо я отказался говорить с ним о поединке. И сын вождя хотел предупредить меня об этом. Я, конечно, слышал об этом естественном оружии, которым обладают мариноиды. Но по моей юношеской доверчивости забыл об этом, ибо пользоваться этим оружием считалось по законам мариноидов тяжким преступлением и разрешалось это только в публичных смертельных поединках.
Электрический угорь
Вы удивлены и, может быть, не верите этому физиологическому явлению. Напрасно, ибо у вас на Земле встречаются совершенно такие же явления. Конечно, только невежда решится бессмысленно не верить этому. В ваших водах, как вам известно, если вы только изучали подобные явления, водится электрический угорь. Ваши ученые называют его «gynmotus electricus». Он применяет по отношению к своим врагам ту же тактику, какую Ог применил ко мне. И с совершенно таким же результатом, ибо он может убить или оглушить рыбу большого размера, чем он сам. Многие из неосведомленных простых рыбаков испытали это на себе, ловя рыбу в маленьких речках, впадающих в реку Ориноко. Могу привести еще в качестве примера электрических скатов, целое семейство рыб, обладающих такими же свойствами, среди них так называемые «Торпедо» (torpedo marmorata). На них ваш ученый Гальвани изучал электрические свойства мускулов и нервов, применяя свои открытия к высшим животным и к человеку.
Скоро я совершенно пришел в себя, обогащенный опытом, с большими познаниями, чем раньше. И я дал себе клятву, что никогда вообще не буду пренебрегать советами друга.
Первым моим желанием было снова сразиться с Огом. Зная теперь, чего следует остерегаться, я был уверен, что могу одолеть его. Я отправился к тому месту, где он жил, но его там не было. Известие о том, что я хочу нового поединка — это было мое право — распространилось по городу. Ог, несомненно, думал, что я убит; когда я ожил и стал искать его, нигде нельзя было его найти. Прошло следующее время сна, и я узнал, что он оставил город Ракс. Сборщики раковин и моллюсков, работавшие под руководством Каана, сообщили, что видели, как он плыл по направлению к области Дикой Воды.
Он не вернулся обратно. Область, известная под названием Дикой Воды, была местом его рождения, как говорили, и единственные родственные связи были у него именно там, среди полудиких существ, населявших эту область.
Я был доволен. С исчезновением Ога — мой второй поединок с ним пришлось, конечно, отложить на долгое время — ничто в Раксе не нарушало моего с Ноной счастья. У нас было жилище, был сын, и мы любили друг друга.
VI.
Я уверен, что с вас довольно. Позвольте остановиться на этом. Может быть, вам немного надоело то, что я вам рассказываю. Я старый человек, и вы, жители Земли, говорите, что я люблю поучать. Это огорчает меня. Как вы знаете, я не могу терпеливо разговаривать с людьми, которые ничего другого не знают и не умеют, как только насмехаться, и уверяю вас, что я рассказываю вам события моей прежней жизни только потому, что вы просите меня об этом, и я думаю, что вам будет полезно прочесть о них.
Поучение? Из всего можно извлечь поучение. И если вы хотя кое-что примените к своей собственной жизни, вы окажетесь в выигрыше.
Окончание в следующем № 5 «Мира Приключений»
ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА
Восточная сказка В. Розеншильд-Паулина
— Ну, Абдулла, — сказал Мустафа-Риза-Оглы своему приятелю, — кажется, на этот раз проклятому Ахметке не удастся вывернуться! Пускай-же погибает подлая собака! Ведь, подумай, из-за него я впал в немилость, лишился должности великого визиря и был сослан ханом в отдаленную область! Ну, да теперь придется ему распрощаться со своей головой!
И Мустафа засмеялся жирным смехом.
— Да, — ответил Абдулла, поглаживая свою густую черную бороду, — участие в заговоре против хана — это не шутка. Теперь уж он не оправдается: слишком сильны улики против него. Да, Мустафа, ты мне должен быть навек благодарен за то, что я подкинул ему эти письма, которые нашли у него при обыске, сделанном по твоему доносу.
— О благодарности не беспокойся, — сказал Мустафа, — надеюсь, что теперь я войду в силу. Недаром хан вызвал меня из ссылки и назначил в число судей по этому делу. Вероятно, я опять буду великим визирем. Тогда уже я не забуду тебя и по-царски вознагражу!
— Да благословит тебя аллах за твою доброту и да сохранит он жизнь твою на долгие годы, — ответил Абдулла. — Но не пора-ли тебе идти во дворец? Смотри, уже солнце высоко, а в полдень назначено последнее заседание суда.
Мустафа распрощался с приятелем и отправился в ханский дворец, чтобы принять участие в суде над заговорщиками, в числе которых находился и невинно осужденный Ахмет.
Вопрос о том, что все преступники должны быть казнены, решен был судьями единогласно, но возникли споры относительно рода казни. Одни считали преступление настолько тяжким, что настаивали на четвертовании, другие же находили возможным просто обезглавить осужденных. Долго не могли они придти к соглашению. Наконец один из судей, — Хаджи-Магомет, — худой старик, с длинной седой бородой и крючковатым, как у хищной птицы, носом, в зеленой чалме и парчевом халате, болтавшемся на нем, как на вешалке, предложил такой исход:
— Одних осужденных можно будет четвертовать, а остальных просто обезглавить, — сказал он, — а чтобы знать, к кому какую казнь применить, заставим каждого сказать что-нибудь. Длинных разговоров не надо — мы и так уже слишком долго допрашивали их, пусть каждый скажет всего лишь несколько слов, все равно каких, — что ему вздумается. Если сказанное им будет правда, то к нему можно будет применить менее мучительную казнь, т. е. обезглавить, тот-же, кто скажет неправду, как недостойный никакого сожаления, будет четвертован.
Предложение это было тут же принято, так как жара была большая, и судьи порядком утомились.
Особенно понравилось оно толстому Мустафе.
— Воображаю себе, — говорил он, — как эти собаки будут изворачиваться, желая сказать что нибудь такое, что могло бы им помочь! Но главное-то ведь в том, что какие бы слова они ни произнесли, это всегда будет либо правда, либо неправда, — значит, — или голову долой, или четвертование! Спасения все равно нет! Ловко придумано! Да, достопочтенный Хаджи, твоими устами говорит сама мудрость. Да сохранит тебя аллах на многие годы!
Он громко засмеялся, и его толстый живот и отвислые щеки так и тряслись от раскатов смеха.
— А что, — сказал один из судей, хитрый и осторожный Асланбек, — что, если найдется такой осужденный, который скажет не правду и не ложь?
— Ты, Асланбек, — возразил ему Хаджи-Магомет, — всегда придумаешь что нибудь необыкновенное. Ну, посуди сам, разве может быть такой случай? Ведь все, что говорит каждый смертный, есть или правда, или неправда; бывает ли что нибудь среднее, чего нельзя отнести или к правде или к неправде?
— Конечно, конечно, — согласился Асланбек, — я и сам так думаю; а все-таки, вдруг найдется такой, который… например, этот проклятый Ахметка. Ведь известно, что он в дружбе с самим шайтаном.
— Э, досточтимый Асланбек, — сказал Мустафа, — я думаю, что и сам шайтан не придумает ничего такого, что было бы ни правдой, ни ложью, а неизвестно чем! — и он снова разразился смехом.
— Об этом нечего и говорить, — подтвердил Хаджи-Магомет, — такой случай невозможен. Но не будем терять времени; доложим о нашем решении нашему повелителю-хану — да будет прославлено имя его, — и велим привести преступников.
Хан одобрил состоявшееся решение, так как аллах наградил его добрым сердцем и великодушным характером, и он был рад, что хотя некоторые преступники избавят себя, быть может, ст излишних мучений.
Асланбек не скрыл от него своих сомнений.
— Ну, что же, — сказал хан, — если бы нашелся такой человек, который сказал бы что нибудь такое, чего нельзя будет признать ни правдой, ни ложью, то это будет означать, что сам аллах хочет его спасти и внушил ему такую мысль. В таком случае я торжественно обещаю помиловать его. Приговор ваш я утверждаю и повелеваю вам объявить мою волю осужденным. Велите привести их.
В то время, как происходило это совещание, несчастные осужденные в сырой и грязной темнице ждали решения своей участи. О том, что всех их ожидает смертная казнь, они уже знали и теперь желали только одного, чтобы аллах избавил их от излишних мучений. Некоторые точно в забытье лежали на грязной соломе, другие молились, а иные сидели молча, уставив глаза в одну точку, и, казалось, что мысли их витают где то далеко. Один только Ахмет имел бодрый вид. Он сидел в углу темницы, на связке соломы, и предавался размышлениям. Он думал о превратности человеческой судьбы, о непрочности земного счастья и о том бесконечном зле, в котором погряз род человеческий. Как далеки люди от истины; да и знают ли они — что правда и что ложь! Существует ли, наконец, вечная правда? Не есть ли это простая игра слов, простое измышление разума? И он стал думать о том, что способность слова, давшая человеку возможность выражать свои мысли, есть в одно и то же время и величайшее благо, и величайшее зло. Зло потому, что дает возможность человеку играть словами, скрывать и извращать свои мысли. Как часто бывает, думал он, что вылетевшее внезапно слово решает судьбу человека, и каким преимуществом в этом отношении обладают люди, умеющие во время сказать что нужно и как нужно.
Его размышления прерваны были приходом тюремщика, объявившего, что осужденных требуют для объявления окончательного приговора.
Когда они предстали перед судьями, Хаджи-Магомет объявил им утвержденный ханом приговор: «Каждый должен сказать что нибудь. За правду — голову долой, за неправду — четвертование!.. Если же кто нибудь скажет ни то, ни другое, то будет помилован ханом…».
Услышав этот приговор, Ахмет невольно припомнил свои недавние размышления о правде и лжи, об игре словами и силе удачно сказанного слова. Но, по мере того, как он припоминал эти рассуждения, новая мысль, повидимому, пришла ему в голову. Лицо его оживилось, он стал что то бормотать про себя и, наконец, уже вслух произнес:
— Да, да, без сомнения!., так, так и должно быть… Ну, Ахмет, кажется, твой час еще не пришел; нашего справедливого и милостивого хана я знаю и в слове его не сомневаюоь!..
Его соседи по несчастью поглядели на него и прошептали: бедный Ахмет видно рехнулся от страха перед казнью!..
Но Ахмет далеко не сошел с ума, он был теперь совершенно спокоен, и черные глаза его насмешливо смотрели на судей.
Последние торопились окончить дело и, не откладывая, начали допрос.
Жалко было видеть, как старались эти несчастные сказать что нибудь такое, что явилось бы несомненной правдой, которая освободила бы их от мук четвертования, когда сперва отрубают правую руку и показывают ее преступнику, потом делают то же самое с левой ногой, и только после этого рубят голову! Но многие по недомыслию, или по иной причине, говорили такие слова, которые судьи признавали за неправду, и их приговаривали тогда к мучительной казни четвертования.
Наконец наступила очередь и Ахмета.
— Ну, досточтимый Ахмет, скажи ка нам что нибудь умное и интересное. Позабавь нас немного! А то, признаться, эти глупцы нам порядком надоели! Надеюсь, что ты не последуешь их примеру! Хотя заранее можно предсказать, что все, что ты ни скажешь, будет ложь. Разве можно ждать чего нибудь иного от такого злодея, как ты! — произнес Мустафа и расхохотался своим жирным смехом.
— Все, что ты ни скажешь, будет ложь, — расхохотался Мустафа.
— Перестань! — остановил его Хаджи-Магомет. — Ты понял в чем дело, Ахмет? Скажи что нибудь, несколько слов, каких хочешь. Сказанное тобою решит твою судьбу.
Ахмет на мгновение задумался, затем, подняв высоко голову и глядя прямо в лицо судьям, громко и внятно произнес:
— Меня надо четвертовать.
— Меня надо четвертовать! — громко произнес Ахмет.
— Ха! ха! ха! — рассмеялся Мустафа. — Вот я и ошибся, думая, что он скажет ложь, а оказывается почтенный Ахмет изрек правду! Четвертование для такого закоренелого злодея может быть только истинной правдой!
— Как будто выходит так, — подтвердил Хаджи-Магомет.
— Итак, значит, Ахмета надо обезглавить, как сказавшего правду… Ведите следующего!..
— Постой, Хаджи, — остановил его Асланбек, — ты говоришь, что ему надо просто отрубить голову, но ведь он то утверждает, что его надо четвертовать, так выходит, что он говорит неправду, а за неправду что полагается? — четвертование.
— Это Мустафа все меня спутал, — рассердился Хаджи-Магомет, — понятно, что за сказанную неправду его следует четвертовать…
— Нет, погоди, — прервал его Мустафа, — как ни желал бы я полюбоваться, когда станут рубить этому негодяю руки и ноги, но, всетаки, должен сказать, что ты ошибаешься, а я прав! Ты говоришь, что его надо четвертовать, не так ли?
— Да, — подтвердил несколько опешивший Хаджи-Магомет.
— Хорошо, — продолжал Мустафа, — но ведь и он сам говорит то же самое; следовательно, он говорит правду и, значит, его надо обезглавить.
— Верно, — согласился было Хаджи-Магомет, но тут же спохватился. — Нет, так нельзя сделать; ведь если приговорить его к обезглавлению, имея в виду его собственное утверждение, что его надо четвертовать, придется признать сказанное им за неправду и следовательно?..
— Четвертование!.. — подхватили другие судьи.
— Тогда его неправда превращается в правду и значит?..
— Обезглавить! — крикнул Мустафа.
Тут уже ничего нельзя было разобрать, поднялся невероятный шум, слышны были возгласы: «правда, неправда, обезглавить, четвертовать…».
Наконец Хаджи-Магомету удалось успокоить спорящих, и все они направились к хану, мудрость которого была известна и который один мог решить, сказал ли Ахмет правду или неправду.
— Дети мои, — сказал хан, — дело просто. Произошел тот случай, возможность которого предвидел Асланбек. Ахмет сказал такие слова, которые в данном случае нельзя признать ни правдой, ни неправдой и сколько бы ни спорили вы, ни к чему иному не придете. Слово мое твердо: он должен быть помилован! Такова, видно, воля аллаха, который не хотел допустить, чтобы погиб невинный и внушил ему эти слова.
Повелеваю немедленно освободить Ахмета!
Вечером того же дня освобожденный Ахмет находился уже у себя дома и вместе со своей женой, красавицей Фатьмой, и ее братом Гассаном возносил хвалу аллаху, так чудесно спасшему его жизнь.
А Мустафа-Риза-Оглы не только не был назначен опять великим визирем, но получил повеление возвратиться в ту отдаленную область, откуда был вызван для суда, так как у хана явилось сильное подозрение, что он сделал ложный донос на Ахмета, чтобы окончательно погубить его.
НЕ ПОДУМАВ, — НЕ ОТВЕЧАЙ!
Задача № 5.
Вычислитель подал «заведующему хронометражным отделом бюро исследования траты времени» работу, в которой значилось:
«Принимая среднюю продолжительность человеческой жизни за единицу, высчитано приближенно (с точностью 16 знаков после запятой), что человек тратит на:
Сон 161/496 жизни
Работу 121/478
Выражение недовольства своей судьбой 103/336
Еду 11/131
Одевание и умывание 10/327
Получение жалованья 1/897
Решение вопроса о возможности сношений с Марсом 1/20 000
Попадание под трамвай 1/455 000
Чистку ногтей 1/964 480 000
________________________
Итого…… 1
Бегло просмотрев эти числа, заведующий заметил, что сумма их не дает полностью единицу, и что упущенная величина в переводе на время составляет 11/50,000,000 сек: за такую халатность по отношению к своим обязанностям вычислитель был уволен со службы.
Какой срок времени (в минутах) принимался за единицу средней продолжительности человеческой жизни?
ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ ОКЕАН
Первый перелет цеппелина из Германии в Америку
Жизнь догнала фантастику! Воздушный корабль уже летает над океаном!
И первое путешествие его было отравлено горечью: величайший из цеппелинов, гордость Германии, летел, чтобы остаться в Америке, в руках победителя.
Согласно Версальскому договору, немцам запрещена постройка больших цеппелинов и самая Фридрихсгафенская верфь — родина воздушных кораблей, — подлежит разрушению.
Перед отлетом в Америку цеппелин ZR3 совершил полет над Германией, чтобы страна могла полюбоваться им и проститься с ним…
Стоит дирижабль 2.200.000 долларов (около мил. руб.).
Мы помещаем ниже заимствованный из немецких газет отчет о полете через океан. Суховатый отчет этот в своей деловой простоте говорит сильнее самой яркой фантазии.
Пусть не посетуют наши читатели на некоторую протяженность отчета. Нужно запечатлеть в памяти исторический момент этого великого завоевания человеческого мозга, это высокое достижение мировой техники!
_____
Фридрихсгафен, 12 октября.
Прекрасное осеннее утро. Уже с 5 часов утра городок Фридрихсгафен полон жизни. Народ тысячами стремится к ангару Цеппелина. Перед главным входом собралась многочисленная толпа и терпеливо ожидает уже несколько часов разрешения на вход в самое здание. Сюда собрались с разных концов, многие издалека, чтобы пережить такую минуту.
Только после того, как все приготовления были уже совсем закончены, родственники. представители прессы и другие лица были допущены. Спокойно и деловито отдает д-р Экенер (руководитель путешествия) свои последние распоряжения. На его мужественном загорелом лице незаметно никакого особенного волнения. Также и офицеры, и экипаж удивительно спокойны. В пассажирской каюте расбросан багаж американских офицеров, на сиденьях лежат груды белых цветов, много их также и в других помещениях. Багажное отделение занято багажем экипажа: каждому лицу дозволено взять не более 20 килогр. В одном из маленьких помещений размещено 150 килогр. почты.
В уютной кухне, блистающей чистотой, сложены съестные припасы, — деликатесы и обыкновенные — тесно рядом друг с другом. Приготовлены тут же и обеденные карты, расчитанные на четыре дня пути. Например, на карте второго дня значится: утром, в 8 ч.: кофе, сухари, кекс и колбасы; в 12 ч. дня: крепкий бульон, ветчина, бобы в масле, пудинг и персиковый компот; в 4 ч. дня: чай, сухари, кекс, колбасы; в 8 ч. вечера: венгерский гуляш, в 12 ч. ночи: кофе, сосиски.
В помещении начальника собираются офицеры, позади д-ра Экенера весело кружится канарейка, — подарок-талисман одного американца. Воздухоплаватели, как и моряки, несколько суеверны. Так, настоящая причина почему, например, цеппелин не поднялся в пятницу, лежит в довольно распространенном среди них мнении, что пятница — несчастливый день. Хотя д-р Экенер лично и не разделяет такого суеверия в противоположность многим другим членам своего экипажа, но он все-таки принял его во внимание.
Вскоре после 7 1/2 ч. утра здание начинает наполняться народом. Родственники, представители прессы и науки, фотографы, съемщики для кино и другие лица, спешат отдать последний визит. Царит необычайная, почти торжественная тишина. На всех лицах лежит отпечаток глубокой серьезности переживаемого момента.
Вот входят офицеры, за ними последним д-р Экенер. Он наскоро прощается еще раз с женой и дочерью. Американцы: капитаны Штиль и Клейн, лейтенант Крауз и майор Кеннедей занимают свои места. Затем раздается короткая, резкая команда, корабль освобождается от балластных мешков и поднимается. Команда солдат и рабочих хватается за канат и медленно выводит цеппелин наружу. Последний обмен приветствиями.
Стоявшая доселе в молчаливом ожидании четырехтысячная толпа разражается гулом приветствий, криками ура, машет платками и шляпами, музыка играет национальный гимн и под этот общий прощальный концерт корабль подымается все выше и выше с развевающимся государственным флагом республики.
К сожалению, еще минута и корабль исчезает в густом тумане, все это утро спускающемся на землю; только недолгое время еще доносится глухой шум моторов.
После вылета цеппелина из ангара.
Пустым и унылым смотрит теперь опустевший ангар. Медленно затворяются ворота. Толпа мало по малу расходится, все как-то сосредоточенно-серьезны, многие женщины даже плачут; у всех надолго останется в памяти впечатление от такого, исключительного события.
Донесения с пути.
12 октября, 8 ч. 5 м.
«Перелетели Базель при высоте 300 метров в юго-западном направлении».
Народ, оповещенный о приближении цеппелина, стоял густыми толпами на улицах и крышах домов и шумно приветствовал его появление. На приветствие цеппелин ответил сбросом мешка с почтой. По всему можно заключить, что кораблем взято юго-западное направление, только будет зависеть от полученных метеорологических сообщений, изберет ли он путь чрез Бискайский залив или чрез южную Испанию.
12 октября, 2 ч. 5 м. пополудни.
В 150 килом. от Рошфора.
«Погода хорошая, на борту все благополучно».
По всем, полученным до сих пор сообщениям, путешествие протекает при прекрасной погоде. Настроение на корабле отличное. До сих пор не приходилось еще считаться ни с сильным противным ветром, ни с другими метеорологическими затруднениями. Средняя скорость составляла 120 килом, в час, средняя высота 600 метров. Пока все метеорологические станции обещают благоприятную погоду над океаном.
Цеппелин снабжен кроме того особым инструментом, сооруженным фирмою Герц в Берлине; с помощью этого инструмента можно кроме установления точной высоты положения, также получать своевременное извещение о приближении сильной бури и особенно циклона. Этот чрезвычайно чувствительный инструмент в состоянии предупредить о приближающейся опасности и дать возможность руководителю принять все нужные меры.
12 октября, 3 ч. 30 м. дня.
«После прекрасного перелета чрез среднюю Францию достигли устья реки Жиронды. Погода очень хорошая; на борту все благополучно. Корабль и машины в отличном порядке».
Таким образом, после оставления Фридрихсгафена достигнут Атлантический океан и за это время пройдено пространство приблизительно 950 килом. Теперь корабль оставляет твердую землю и начинает путь над океаном. В виду благоприятных метеорологических сообщений д-р Экенер решил избрать путь через Бискайский залив, тем более, что этот путь значительно короче, чем через Испанию. Пространство от устья Жиронды через Бискайский залив на Азорские острова и оттуда до Америки составляют круглым числом 5500 килом. Если путешествие будет продолжаться и дальше также благополучие, то можно ожидать, что это расстояние может быть пройдено в течении 50–60 часов.
13 октября, 7 1/2 ч. утра.
«Около 8 ч. вечера вчера пролетели над мысом Ортегаль (северо-западная оконечность Испании). Скорость прибл. 90 кил. в виду довольно сильного ветра. На борту все благополучно. Прекрасного зеленовато-голубого цвета простирается под нами бесконечный океан, необычайно красив он в своей беспредельности».
13 октября, 5 ч. 45 м. утра.
«Перелетели Азорские острова. На борту все в порядке. Вступили в радио-сношение с американской береговой станцией Чатам».
Лакегурст, 13 октября, 8 ч. утра.
Прямое радио-сношение с цеппелином. Положение его 41° сев. широты и 33° западной долготы, таким образом на полпути между Азорскими и Бермудскими островами. Все обстоит благополучно.
Аннаполис. 14 октября, 10 утра.
Перелет протекает благополучно и можно предполагать, что около 12 часов дня цеппелин достигнет Бермудских островов.
14 октября, 5 ч. дня.
Положение 47.20° западной долготы и 42,80° северной широты. Скорость до 75 миль в час. Капитан Штиль чрез крейсер «Детруа» и морскую станцию Бостона послал непосредственное сообщение, что корабль взял прямой курс на Лакегурст. Все благополучно.
Приготовления к встрече цеппелина в Америке.
Лакегурст, 14 октября.
Целыми поездами прибывают сюда толпы народа, желающего быть свидетелем при бытия немецкого цеппелина. Они не смущаются перспективой провести ночь на открытом воздухе. Они располагаются лагерем, защищая себя шерстяными одеялами и всякими другими способами от морского ветра и ночной свежести. Только около полудня следующего дня можно ожидать прибытия корабля. Ангар расположен в 1 1/2 ч. езды железной дорогой от морского берега, расположен посреди поля, окаймленного невысоким сосновым лесом. Обыкновенные поезда проходят из Нью-Йорка 2 часа времени.
Приготовления к приему цеппелина уже совсем закончены. Как представитель морского округа Фипадельфии, к которому принадлежит и Лакегурст, прибыл сюда адмирал Шальс со своим штабом, прибыли также и другие должностные лица, имеющие связь с воздухоплаванием. Тотчас по прибытии в Лакегурст и произойдет передача цеппелина американским властям.
Нью-Йорк в напряженном ожидании
14 октября, 4 ч. утра.
Из всех статей газет и частных разговоров можно составить общее и единодушное мнение, что перелет проходит удачно и что цеппелин, благодаря хорошей погоде, идет к цели с большою скоростью сверх ожидания. За перелетом следят здесь с величайшим интересом. Все газеты заполнены статьями, многие с иллюстрациями самого цеппелина, происходящих приготовлений, руководителя и проч.
Во всей Америке тысячи радио-любителей бодрствуют целую ночь в надежде вступить в прямое сообщение с цеппелином. Их терпению пришлось выдержать большое испытание, так как только около 3 ч. утра некоторым частным лицам удалось уловить отдельные сигналы, посылаемые кораблем. Через несколько часов после этого времени можно ожидать, что корабль уже достигнет американского берега и покончит с последними океанскими атмосферическими препятствиями.
Государственный секретарь морского ведомства получил с борта цеппелина следующее оффициальное сообщение: «мы делаем хорошие успехи; в виду земля Св. Михаила. Средняя скорость 67 миль. Корабль с Азовских островов держит прямой курс на Лакегурст. Сегодня ужинали: суп, вареная ветчина, пудинг. Люди привыкли обходиться без сна, играет граммофон, пишут письма, играть в карты однако не начинали».
Прибытие в Лакегурст
Общее возбуждение и удивление успеху первого трансатлантического путешествия цеппелина и к его руководителю д-ру Экенеру.
Сегодня прибыл сюда нью-йоркский мэр, чтобы приветствовать отважных воздухоплавателей от имени города Нью-Йорка и предложить им банкет, устраиваемый в честь их прибытия особым комитетом города.
Одновременно с тем, как покажется цеппелин над Нью-Йорком, подымаются пять американских дирижаблей, чтобы сопровождать его как почетный эскорт. Место спуска огорожено и только незначительная часть гостей допущена внутрь этой загородки. Как только было получено из Нью-Йорка сообщение о прибытии туда цеппелина, главные ворота ангара были отворены, команда матросов выстроилась, чтобы помочь кораблю при спуске.
Наконец, в 9 ч. 10 м. утра на северной части горизонта показалась сероватая точка; постепенно увеличиваясь, обозначился корпус корабля и через 1/4 ч. весь корабль приблизился в своем величественном полете. Сделав несколько эволюций в воздухе, корабль направился на средину поля, где матросы стояли наготове. Разом остановились моторы и медленно стал спускаться неподвижный корпус корабля. Был сброшен канат и притянута гондола. Публика уже с самого появления цеппелина выражала свой восторг и приветствия криками ура, маханием платками и шляпами. Но при спуске офицеры принуждены были просить прекратить крики, так как из-за них нельзя было расслышать слов командования. Так что самая высадка произошла при полной тишине.
Д-р Экенер появился первый, за ним вышли капитан Леман, лейтенант Шиллинг и др. Экипаж же должен был сойти только после того, как корабль окончательно поместится в здании ангара.
Безветренная погода много благоприятствовала быстрому его входу в ангар. Около половины 11-го часа утра все было закончено и цеппелин мог чувствовать себя дома.
Матросы стали выбрасывать из окон багаж, оставшиеся припасы продовольствия и пр. На наше, — пишет американская газета, — приветствие д-р Экенер ответил:
«Наше путешествие прошло с большим успехом, я очень рад удачному исходу нашего предприятия и уверен, что за этим первым трансатлантическим перелетом скоро последуют и другие».
Один американский репортер спросил д-ра, между прочим, не страдал ли кто либо из экипажа корабля от морской болезни.
— «Нет, нет, — возразил д-р Экенер, улыбаясь, — этого у нас не случалось».
Также все офицеры, участники перелета, выражали свое полное удовлетворение. От одного из них я услыхал, что вчерашней ночью кораблю пришлось выдержать сильную борьбу с необыкновенно сильным штормом и только после того, как курс был взят на северо-запад, по направлению Нью-Фаундленда, опасность могла считаться миновавшей. Немецкий экипаж находился в прекрасном расположении духа, смеясь все они заявляли, что сейчас же все они готовы опять отправиться обратно с их кораблем…
В ангаре стало очень оживленно: тотчас после того, как цеппелин окончательно устроился, публика была допущена и сотни любопытных устремились в ангар, чтобы осмотреть цеппелин вблизи. Немецкие и американские матросы отправились праздновать за стаканом вина благополучное окончание перелета. При отлете из Фридрихсгафена было строго запрещено и были приняты все меры, чтобы на борт корабля не попало ни бутылки какого-либо спиртного напитка.
По оффициальному сообщению д-ра Экенера, длина всего перелета составила 5066 англ. миль, продолжительность перелета 81 час 17 мин., средняя скорость 62,35 миль, наивысшая высота 3.680 метров. Над Нью-Йорком цеппелин пролетел при средней высоте в 400 метров. Д-р Экенер подтвердил при этом, что, благодаря беспрерывно получаемым сообщениям о погоде, он мог избежать опасных положений.
Сообщение заведующего радио-станцией на цеппелине
Особенная деятельность царит в радиокаюте. Отправительные и приемные аппараты все время в действии, почти со всего мира сыплются к нам запросы о положении цеппелина, о погоде и пр. Измерительные приборы все время в действии. Вот получилось сообщение, что в виду Азорские острова. Каким маленьким кусочком показался этот остров среди необъятного моря. Отсюда корабль взял прямой курс на Лакегурст. Временами погода очень недружелюбна к нам, сила ветра доходит до 10–12 метров, но наш добрый корабль держится стойке. Мы пытаемся придти в радиосношения с американскими сторожевыми судами, но пока безуспешно.
Наконец, нам удалось наладить радиосношение с американским крейсером «Детроа». Первые неудачные попытки объясняются атмосферическими препятствиями. Конечно, в первую очередь мы постарались получить известия о погоде, что было для нас делом самой большой важности. Вскоре после этого завязались сношения уже и с американскими сухопутными станциями. У каждой из них была честолюбивая мечта быть первой в этом отношении. В первые часы мы получили сотни благопожеланий, которые временами были для нас большим обременением приспешной и необходимой нашей работе.
После того, как мы оставили Азорские острова, все более и более усиливался юго-западный ветер, с которым пришлось бороться в продолжении почти 12 часов, в виду чего и скорость движения уменьшалась до 30 миль. Сила ветра доходила до 17 метров в секунду. Полученные сведения о состоянии погоды заставили нас взять северо-западный курс и мы полетели со скоростью до 70 миль. Когда мы приблизились к Нью-Фаундлендской мели, то попали в море тумана, через который мы пробивались целых 8 часов. Когда мы, наконец, освободились от тумана, перед нами открылась великолепная картина солнечного заката.
14-го октября вечером была ужасная, отвратительная погода, ветер дул со скоростью 20–25 метров в секунду, корабль несся со скоростью 90 миль, но держал: я хорошо. Я как раз этой ночью держал вахту при радио и иногда приходилось крепко хвататься и держаться за стол с аппаратом, так сильно бросало нас из стороны в сторону.
Только когда мы приблизились совсем к берегу, мы могли с облегчением вздохнуть и установить, что корабль и машины находятся в полном порядке.
Несмотря на все волнения, весь экипаж был в прекрасном расположении духа. Наконец, наступил момент, когда мы вступили на американский континент. Мне досталось тут много дела: радио была обременена чрезмерной работой.
При перелете через Бостон и Нью-Йорк нас приветствовали звуками сирен и светом рефлекторов. Мы отвечали также нашими рефлекторами. После часового перелета через Нью-Йорк мы направились на Нью-Порт и затем все время вдоль берега.
15- го рано утром было туманно и пасмурно, но постепенно после восхода солнца погода прояснилась. Мы стремимся войти в сношение с радио-станцией Лакегурста, что очень затруднялось помехой со стороны частных радиолюбителей. Наконец, мы этого все-таки достигли и имеем прямое сношение с Лакегурстом. Сообщение о погоде вполне благоприятное и на их запрос о времени высадки мы отвечаем, что предполагаем высадиться между 9-10 ч. утра.
Начинаются приготовления к высадке. Мы, наконец, достигли намеченной цели…
Каюта воздушного корабля.
ОТКРОВЕНИЯ НАУКИ И ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
Мир действительный и мир видимый
Статья директора Научного Института
имени Лесгафта,
проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца).
(По поводу рассказа «Голубые лучи»)
Не органы чувств, а разум показывает нам мир. — Четыре измерения. — Несовершенство органов чувств. — Световой луч. — 49-я гамма — единственная доступная человеку. — «Чудеса» фотографии. — Человек, потерявший тень. — Что мы увидели бы, если бы прозрели?
Все окружающее познается нами через органы наших чувств, а эти органы представляют нам действительность не голой, а в своеобразной одежде. Как идя по улице большого города, мы не видим на ней ни одного реального человека, а только вереницы проходящих перед нами шляпок, шапок, пальто, башмаков и сапог, из-под непроницаемого покрова которых лишь кое-где проглядывает поверхность человеческого тела, так и глядя на окружающую природу мы видим ее всегда в переменной одежде, одной — при лунном свете, другой — при солнечном, третьей — в ненастный день и четвертой— при искусственном освещении.
Но великое орудие нашего познания — разум — приоткрывает перед нами все ее разнообразные одежды, тем более, чем богаче он развит. Он обнажает перед нами городской поток людей — рисует нам истинные фигуры смешанных в нем мужчин, женщин и детей и ясно говорит, что все это разнообразие костюмов и окраски — только внешние одежды, покрывающие собою ту же самую сущность и у пышной дамы, и у бедной торговки, и у блестящего артиста, и у испачканного известью каменьщика. И точно так же, как здесь, и пользуясь помощью тех же самых органов чувств, он раздевает перед нами и окружающую людей природу и показывает нам внутреннее единство ее явлений и под одеждой света, и под одеждой лучистой теплоты, и в мириадах окружающих нас миров, и в глубине созидающих ее атомов.
Чем развитее духовно человек, тем более часто переходит он от видимого к невидимому, от внешних разнообразных явлений к их единым законам.
Бессилие геометрии вывести нас, при ее приложении к пространству вселенной, за пределы трех его измерений, еще не доказывает отсутствия у окружающих нас тел четвертого протяжения, идущего по какому либо направлению, настолько же независимому от длины, ширины и высоты, насколько независимы и они сами друг от друга.
И я сам, и некоторые другие авторы, уже не раз исследовали независимо друг от друга этот вопрос и пришли к заключению, что время существования предметов в природе является четвертым измерением жизни вселенной, совершенно таким же необходимым, как и три обычные пространственные, хотя по нему мы и не можем по произволу двигаться в прошлое и будущее.
Однако, в вопросе о четвертом и связанных с ним высших пространственных измерениях вселенной обыкновенно оставляют в стороне время и стараются показать статическое существование в мировом пространстве протяжений, перпендикулярных к нашим трем, и указывают на возможность, для более полно развитых объектов, перемещений и по ним. В противоречии с этим находится все, что мы знаем о природе, так как при жизни вселенной в четырехмерном (кроме времени) пространстве ее законы были бы иными, чем мы это наблюдаем. Например, свет, лучистая теплота, электромагнитные волны, сила тяготения ослабевали бы при своем радиальном перемещении не пропорционально квадратам расстояния от центра излучения, а пропорционально другим степеням, так, в четырехмерном пространстве — пропорционально кубам, в пятимерном пространстве — пропорционально четвертым степеням расстояния и так далее, всегда лишь на одну степень ниже той многомерности, по которой они действительно распространяются.
Возьмем, например, двумерное пространство поверхности воды. Волны на ней от падения камня ослабевают пропорционально простому расстоянию от источника волнения, а звуковые волны, идущие по трем измерениям атмосферы, ослабевают пропорционально уже квадрату расстояния от звучащего тела, потому что волны здесь несутся еще по третьему измерению вверх и вниз и поэтому ослабевают не пропорционально окружностям, на которые распространяются водяные волны, а пропорционально сферическим оболочкам.
Отсюда ясно, что если бы свет, лучистая теплота, тяготение, электромагнитные возмущения неслись еще по новым, недоступным нам протяжениям, то они ослабевали бы в пространстве более чем пропорционально второй степени своего расстояния от центра.
Теперь рассмотрим другой и на этот раз уже реальный и очень важный пробел в сведениях, доставляемых нам о внешнем мире нашими органами чувств. Этот пробел мы должны серьезно принять во внимание, если не захотим быть очень односторонними в наших., выводах об эволюции окружающих нас миров.
Единственным посланником небес, доставлявшим человечеству сведения об окружающих землю небесных светилах, был и является до настоящего времени световой луч, несущийся в междузвездном эфире, окружающем Млечный Путь, со скоростью 300 тысяч километров в секунду — скорость самого светящего тела. Как ни велика эта скорость, но все же междузвездные расстояния так громадны, что от отдаленнейших светил до нас свет идет тысячи и миллионы лет, а следовательно и показывает их нашему зрению такими и там, какими и где они были тысячи и миллионы лет назад. Если б эволюция миров совершалась быстро и одновременно, то мы видели бы отдаленные звезды более молодыми, чем они есть теперь и не в тех местах, где они находятся. Этот факт уже и принимается во внимание и даже может объяснить нам то, что среди ближайших к нам звезд мы видим больше желтых, т. е. наблюдаем их в более позднем возрасте, чем очень отдаленные, где, повидимому, преобладают (т. е. преобладали сотни тысяч лет назад) белые, хотя от некоторого поглощения лучей в междузвездном пространстве они и должны бы казаться почти красными.
Но есть другое обстоятельство первостепенной важности, значение которого еще слишком мало оценено. Мы знаем, что лучистая энергия может изливаться колебаниями всевозможной частоты. Секундный маятник часов дает по одному колебанию в секунду, а музыкальная струна вместе со звуковыми волнами, сравнительно медленно несущимися в атмосфере, посылает, может быть, в глубину пространства, со скоростью около 300 тысяч километров в секунду, и эфирные колебания такой же частоты. Являются ли эти ее волны тожественными с теми поперечными колебаниями, какие дает свет и электромагнитные волны Герца? Повидимому нет, потому что для звуковых волн мы находим только резонатор, отзывающийся при посредстве воздуха, но не находим резонаторов, отзывающихся через светоносный эфир. Да это нам и не важно в данном случае; нам важно здесь установить лишь факт, что колебания лучистой энергии могут быть всевозможных частот, соответственно частоте колебания источника, которым в области света обыкновенно бывает атом вещества.
Составим систему из 67 все повышающихся гамм или октав колебаний, представленных в абсолютных единицах (где за основу принято одно колебание в секунду), и тогда мы увидим, что только одна 49 гамма этой системы действует на наши органы зрения, а все остальные не находят в них отзвука.
Это, конечно, громадный недочет в важнейшем из наших органов познания. Он был отчасти устранен фотографией, отозвавшейся не только на эту гамму, но и на две соседние с нею и пополнившей недочет, но и этого слишком мало. — «В море всевозможных эфирных колебаний, — говорит Стратонов в своей прекрасной книге «Солнце», — нам известны лишь два небольших островка. А все остальное пространство нам неведомо. Громадный беспредельный мир существует по ту сторону от воспринимаемого нами. И мы его не знаем. До нас доходят лишь жалкие обрывки скрытого мира».
И это нам надо твердо помнить, когда мы говорим об эволюции миров. Нам надо постараться оценить этот недочет и его могущие быть последствия, не преуменьшая их.
Постараемся же хоть слегка ориентироваться в этом предмете.
Если бы мы видели предметы другими лучами, чем наша 49-я абсолютная гамма, то все ли мы увидели бы, что видим, и не увидели ли бы мы чего нибудь иного?
Несомненно, мы многого не увидели бы из видимого и еще более открыли бы совершенно нового. Вот здесь перед вами две фотографии из французского журнала «L’Astronomie». Первая из них снята в солнечный день посредством тех же лучей света, которыми мы видим, а вторая одновременно с нею посредством не действующих на наш глаз ультрафиолетовых лучей. На второй фотографии, как вы. видите, человек потерял свою тень. Совсем как в арабской «Тысяче и одной ночи»!
А вот другой снимок, сделанный в невидимых нам инфракрасных лучах, располагающихся у другой стороны видимого нами спектра. Здесь тени протянулись только от стволов и главных сучьев деревьев, а вся густая листва полупрозрачна, как стекло.
Фотографический снимок, сделанный в ясный солнечный лень невидимыми инфракрасными лучами. Получился точно зимний пейзаж.
Кроме того каждый из нас слыхал о рентгеновских лучах, которые показывали бы нам людей полупрозрачными скелетами, если бы наш глаз был приспособлен к ним. А в электромагнитных лучах Герца и Маркони мы все ходили бы невидимками.
Итак наше зрение показывает нам мир неполным, и фотография до сих пор лишь немного пополнила его, так как мы не нашли еще пластинок, которые были бы чувствительны к другим, более удаленным от нас гаммам лучистых колебаний.
Обыкновенная фотография, снятая в солнечный день.
Одновременно снятая Фотография, но объективом, пропускающим только ультрафиолетовые лучи. Человек потерял свою тень.
Найдем ли мы когда нибудь такие пластинки? Возможно, что да, и тогда окружающий мир предстанет нам совсем в новом виде. Мы увидим светила, каких еще не видал никогда человеческий глаз, откроем такие чудеса в нашем небе, о которых и не мечтаем. Да и на земле мы увидим что то волшебное: то все покажется нам раскаленным, как уголь, то все — зеркальным, как полированное серебро, то все — прозрачным, как стекло, и среди этой прозрачности мы сами будем казаться друг другу полупрозрачными, как огромные инфузории под микроскопом, как медузы, плавающие в морской воде.
И это — не одна пустая фантазия?
Сами законы излучения указывают нам, что природа предстанет тогда перед нами совсем в другом наряде.
Н. МорозовНовая страна? Неизвестная культура?
«La Geographie» посвящает обширные статьи открытию британского офицера Альберта-Эдуарда Кинга, приключения которого вообще наполняют сейчас географические журналы Франции и Англии.
Альберт Кинг, капитан 12 артиллерийского дивизиона, принимал участие в 1914 — 15 годах в боях с немцами в Африке; под его командой находился одно время знаменитый стрелковый «черный» полк королевы Мэри, покоривший все германское Конго и прославившийся жестокостями над пленными немцами.
Преследуя неприятельский отряд 26 августа 191 5 года, Кинг заблудился в горах неподалеку от озера Виктория-Нианца. Здесь его спутники попали в засаду, около 200 человек полегло на месте, а сам он спасся, тяжело раненый, чудом вместе с двумя преданными неграми солдатами. Углубляясь в лес, на пятый день беглецы спустились в долину, окаймленную с одной стороны болотистыми реками, а с другой, с юга, горным кряжем до 1.500 метров высоты. Здесь и начинаются чудесные приключения Кинга.
Климат долины отличался необычайной влажностью. Кругом произростали гигантские папоротники и хвощи, столетние пальмы сменялись на отрогах гор могучими американскими кедрами и калифорнийской сосной. Растительность поражала своей мощью и красотой. Кинг, проживший на тропиках 12 лет, впервые видел в Африке экземпляры бразильской и тихоокеанской новозеландской зоны; некоторые виды были ему, специалисту по ботанике, абсолютно неизвестны, вроде апельсинового дерева в несколько обхватов толщиной и с плодами в детскую голову. С величайшими трудностями прошел Кинг область болот, страдая к тому же от ран и от лихорадки. Пробираясь к горам, один из его спутников, негр Умбала, был на глазах путешественников схвачен гигантским львом, другой же проявлял признаки безумия, наевшись черных вкусных тыкв.
Ночью на них напал отряд диких, пришедших в удивление от белой кожи англичанина. Пленников положили на носилки; через несколько дней путешествия по гордым тропам отряд пришел в юрод, укрытый среди гор. Здесь Кинга и его негра заботливо лечили, поместив в каком-то храме, не допуская к нему никого из посторонних, кроме специально приставленных жрецов. Месяца через три выздоровевших путешественников повели подземными ходами и таинственными галлереями к царю племени. На обширной равнине стояло около 1.000 рослых темнокожих, но отнюдь не черных молодцов, вооруженных бронзовыми мечами и искусно сделанными самострелами. У царской гвардии оружие было прекрасно отделано золотом, у высших начальников имелись позолоченные и золотые латы с украшениями из драгоценных камней. Возле места смотра возвышались руины огромного храма, заросшие лианами в цвету, а рядом у подножия царского трона лежал огромный гранитный жертвенник, в виде выдолбленного гроба, покрытого причудливыми иероглифами.
Тщетно пытался объясниться с туземцами англичанин. Ни одно африканское наречие, не было им, повидимому. знакомо; двое жрецов пытались говорить с Кингом на каком то языке, очень напоминавшей арабский, но также без особого успеха. После долгих совещаний Кингу знаками дали понять, что он пленник, ему даруют жизнь, как человеку с кожей цвета луны, негр же будет принесен в жертву богам. Затем вывели несчастного спутника Кинга и, не взирая на страшные протесты капитана, после пыток горящими стрелами, негра повалили на жертвенник. Старший из жрецов золотым ножом вскрыл грудь жертвы, вырвал почти трепещущее сердце и подал его царю. С Кингом случился припадок. Очнулся он почти через полгода, заболев нервным расстройством.
После окончательного выздоровления к Кингу приставили опытных жрецов: и в продолжении года он овладел языком туземцев. Гулять, кроме древнего храма, ему нигде не разрешалось, при встречах черные не отвечали ни на какие вопросы.
Из бесед с жрецами англичанин узнал, что туземцам известны движения небесных светил, год состоит из 12 лунных месяцев, жреческое сословие владеет тайной письма иероглифов и является первым советником царя. Царь-посланник бога солнца, его сын от земной женщины. Каждые шесть месяцев происходит дележ земельных участков государства между бедняками, приз чем весь урожай делится на 4 части; одна царю, одна жрецам, одна в войсковую казну и одна хозяину. Зовуь себя туземцы «ой-тум», т.-е. пришельцами. По легенде, в древние времена, они пришли с дальнего запада, где царили красные варвары, изгнавшие их с насиженных мест. По закону, численность, племени не может превышать 40 тысяч человек; поэтому убийство стариков, детей уродов, заразных больных, возведено в систему.
Племя делится на шесть кланов. Два раза в году из-за чести быть гвардией царя между кланами происходят битвы, раненых и убитых поедают после жертвоприношений при особых воинских церемониях. Все эти варварские обычаи имеют целью оградить страну от перенаселения. На каждую семью приходится примерно по полдесятины прекрасно возделанной земли, не считая заповедников, во всех же кланах считается 5.000 семейств и около 2 тысяч чиновников, не занимающихся земледелием.
Каждый, достигший 16 лет мущина-воин царя; ему дают оружие из царских хранилищ, которые помещаются в древних храмах. Впоследствии Кинг видел в трех храмах грандиозные подземелья, сплошь наполненные бронзовыми мечами, копьями, саблями и т. п., на обязанности специальных людей лежит чистка и хранение этих богатств.
По преданию, все эти мечи и копья принесены сюда предками царя или подарены самим богом; туземцы, вообще прекрасные кузнецы, не имеют медных руд и не знакомы с приготовлением бронзы.
Пробыв в плену около семи лет, Кинг женился на туземке и с ее помощью решился бежать, сторожили его, возведенного в сан второго жреца, т.-е. друга царя, необычайно тщательно. Каждый шаг его-был известен царю; трое слуг на его глазах было казнено за рассказы о дорогах вглубь страны. Выезд за пределы резиденции ему не разрешался.
Задумав бежать, Кинг близко сошелся с одним из жрецов, наблюдающим за луной, увлек его рассказами о странах белых и с помощью жреца ранней весной прошлого года, Кинг с женой, нагруженные золотыми ценностями, пустились в дорогу. Жрец знал выходы из гор, знал тайные проходы и убежища.
После долгих приключений беглецы сумели пробраться в бельгийское Конго, прибыв в гор. Леопольдвиль в июне 1924 г. Здесь умерла от лихорадки верная спутница Кинга, его жена, жрец же Дома на границе Конго был ужален змеей и умер.
Долго Кингу никто не верил в его повествованиях. Во первых, не допускали мысли, чтобы в Африке мог быть неизвестный европейцам огромный край с 30–40 тысячным населением, своеобразной культурой, к тому же населенный народом, отличным от негритянских племен. Во-вторых, неисследованные области южнее озера Виктория-Нианца считаются сплошным болотом на сотни и тысячи квадратных верст, где горные кряжи не достигают высоты более 2 километров и, следовательно, вполне доступны для прохода. Последнее возражение сводилось к тому, что среди местных племен и народов нет никаких указаний на существование в непроходимых болотистых дебрях большого государства, стоящего на высоких ступенях развития.
Напрасно Кинг показывал древнее оружие, золотые дощечки с письменами, несколько предметов культа, искусно вычеканенных из бронзы и золота. Опытные британские географы полагали, что Кинг открыл одну из могил арабских завоевателей XII века, где свалены в одну кучу награбленные сокровища Египта и карфагенских колоний. С целью воспользоваться кладом, Кинг придумал эту историю, желая собрать средства на экспедицию.
Бедняга капитан, отчаявшись в успехе Tia родине, бросился во Францию. Здесь юн встретил другой прием. Ученик знаменитого Масперо профессор Рэнэ Амбруаэ принял горячее участие в Кинге. Амбруаэ указал, что ему неоднократно приходилось слышать от негров бельгийского Конго о том, что у истоков Нила живут «желтые» дьяволы в сажень ростом, в золотом одеянии (намек на латы), пожирающие всех чужеземцев, случайно попавших в эти места. Среди арабских купцов находились смельчаки, пытавшиеся пробраться в загадочную страну, но останавливавшиеся у непроходимых горных троп, где имелись следы дорог вглубь страны. Наконец, Стенли и знаменитый строитель Суецкого канала Лессепс неоднократно указывали, что где то в центре Африки должно существовать государство, основанное древними карфагенянами, чему являются доказательством многочисленные предания окрестных негров и трупы туземцев этого чудесного царства, случайно найденные в могилах-холмах у озера Виктория-Нианца.
Самое же большое доказательство правдивости рассказов Кинга — его коллекция, относящаяся к эпохе вавилоно-финикийской культуры V века до Р. X.
С помощью французских друзей, Кингу удалось найти 300 тысяч франков и 200 тысяч он выручил за свои коллекции. На эти средства он организовал экспедицию с тремя аэропланами в дальнюю страну, причем участники экспедиции дают подписку, что без согласия Кинга они не расскажут ни одного слова из жизни заповедного царства.
Видимо, по словам бельгийского спутника, лейтенанта Морэ, англичанин раскаивается, что поведал Европе о сказочной стране, которая, несомненно, быстро исчезнет с лица земли, раз только туда широкой волной польются любители легкой наживы.
Лучи смерти
Читателю наверное приходилось уже слышать о так называемых «дьявольских лучах», изобретенных недавно одним английским физиком Грайнделем Мэтьюсом. Эго изобретение было результатом его долголетних работ, но только в прошлом году изобретатель решил сделать достоянием гласности небольшую часть своих достижений.
Лица, приглашенные присутствовать при этих опытах, были поражены тем, что увидели. Изобретатель поставил на расстоянии 10 метров против своего прибора, снабженного прожектором, работающий бензиновый двигатель, включил ток, и мотор, после нескольких перебоев, останавливался, так как магнето (аппарат, производящий искру) переставал работать. Таким же способом, направляя пучек невидимых лучей, Мэтьюсу удавалось взрывать на расстоянии небольшое количество пороха, убивать маленьких птиц и животных, заставлять свертываться листья растений, зажигать электрические лампочки.
Один из помощников изобретателя, нечаянно подвергнувшись действию новых лучей, упал и лишился сознания на целые сутки.
Если то, что пишется в заграничных журналах, действительно правда, — можно сказать, что мы находимся сейчас на пороге новой эры в деле ведения войны, как это было, например, после изобретения пороха.
Новые лучи дадут возможность производить на расстоянии взрывы и уничтожать силы неприятеля проще и действительнее. чем артиллерийским огнем. Достаточно будет направить на неприятельский воздушный корабль, броненосец, автомобиль — таинственный луч, чтобы вспыхнул столб электрических искр, которые уничтожат команду, взорвут запасы бомб и произведут пожар горючих частей…
Жители Лондона еще не скоро забудут ужасы ночных бомбардировок города германскими цеппелинами и, конечно, не остановятся, чтобы на случай новой войны обезопасить столицу Великобритании защитным поясом таких прожекторов, несмотря на солидную цифру стоимости таких сооружений, исчисленной в 30 миллионов рублей. Рисунок дает картину такого боя. Лучи с земли поражают аэропланы. Они беспомощно валятся, объятые пламенем.
Над задачей такого взрывания лучами работают, кроме Г. Мэтьюса, и в других странах, тем более, что тайна «лучей дьявола» начинает постепенно раскрываться.
В чем же главная суть их поразительного эффекта? Повидимому, здесь мы имеем дело со способностью электрического разряда высокого напряжения проходить через слой воздуха, освещенного сильным источником так называемых ультрафиолетовых лучей. Обычно воздух представляет для электрического тока весьма значительное сопротивление, но тот же слой воздуха, будучи подвергнут действию света с очень короткими волнами (ультрафиолетовыми), становится, благодаря некоторым физическим процессам электропроводным.
В приборе Мэтьюса имеются, по всей вероятности, два прожектора, испускающие 2 сильных снопа такого ультрафиолетового, невидимого для глаза света. Внутри этих прожекторов производится сильный электрический разряд высокого напряжения. Под этим же напряжением будут и оба луча, которые уподобятся тогда двум незамкнутым электрическим проводникам. Направив их, например, на летящий аэроплан, мы как бы замкнем их, и тогда через оба эти луча и замкнувший их аэроплан мгновенно пройдет ряд сильных разрядов-высокого напряжения (направление такого тока показано на рисунке стрелками), которые вызовут остановку мотора и пожар самого аэроплана.
Но из опыта прошлого мы знаем, что каждый раз, после изобретения новых разрушительных артиллерийских снарядов, очень скоро изобреталась против них достаточно прочная броня, — так будет, конечно, и теперь. Соединенными усилиями физиков и изобретателей будет найдена против этих страшных лучей соответствующая защита…
На рисунке слева изображен знаменитый теперь Мэтьк с у своего аппарата… Изобретатель останавливает бензиновый мотор.
Чудеса кинематографии
Кем-то было вычислено, что на всем земном шаре имеется около 100.000 кинематографов, а вытянутые в одну линию фильмы, которые выпускаются за год, составили бы ленту длиной в несколько сот тысяч верст… Целая армия рабочих, служащих и артистов обслуживает эту новую отрасль промышленности.
В Берлине, в Лос-Анжелосе и около Нью-Йорка возникли даже особые кинематографические городки, поражающие зрителя своеобразием и пестротой своих стилей. Рядом с дворцом индийского раджи видна хижина норвежского дровосека, а около величественного древне-египетского храма — средне-вековая лавочка… Но вглядитесь поближе, и то, что вам казалось храмом из массивных гранитных глыб, окажется легкой деревянной решетчатой постройкой, облепленной кусками окрашенного холста и гипса. Этот необычный городок — ни что иное, как разнообразные рельефные декорации для кинематографической инсценировки.
Требования возможно большего натурализма или захватывающей фантастики, предъявляемые современным зрителем к «великому немому», заставляют кино-режиссера при постановке некоторых картин делать колоссальные затраты на сооружение декораций, костюмов и обстановки.
Бывают картины, где занято свыше 10 тысяч статистов, каждый жест которых десятки раз прорепетирован и изучен. Устройство декораций для некоторых сцен, вроде взятия Трои или гибели Вавилона, требует подчас затраты сотен тысяч рублей, которые, правда, если картина удачна, с лихвой возвращаются в кассу кинематографических компаний.
На помещаемом снимке мы знакомимся с закулисными тайнами производства нашумевшей американской фильмы «Багдадский вор», недавно обошедшей все кинематографы. По ходу действия было необходимо соорудить целый восточный город, с десятками башен и минаретов, над постройкой которого трудилось 500 плотников и декораторов. Сама съемка отдельных моментов движущейся толпы производилась с платформы, укрепленной на высоком поворачивающемся кране. А на экране создавалась полная иллюзия съемки с птичьего полета.
Фото-скульптура
Умерший американский президент Гардинг
До последнего времени скульптура едва ли не в большей степени, чем какое бы то ни было другое искусство, отражало на себе индивидуальность работающего художника. Каждый скульптор, помимо того, что он должен иметь чрезвычайно развитый и точный глазомер и особое «чувство формы», обладает также своей собственной манерой и приемами, посредством которых он передает гипсу или глине черты модели. Иногда последней приходится запастись изрядной долей терпения, пока скульптор не снимет с нее все необходимые для него размеры и пропорции — излюбленный прием мастеров старой школы.
Успехи науки и техники последних лет наложили свой отпечаток на все роды искусств, будь то живопись, архитектура, фарфоровое дело, цветное стекло, мозаика. Не избегла этой участи и скульптура, до сих пор пользовавшаяся старинными приемами.
Один американский ученый, проф. Питсбургского университета построил прибор, где замечательным образом связаны между собою фотография и искусство скульптуры. Изобретателю пришлась несколько лет поработать над своим аппаратом, пока он не принял достаточно практического вида.
Этот прибор для фото-скульптуры состоит из вращающейся подставки и двух световых прожекторов, служащими также и фотографическими камерами. Модель бюста, который хотят сделать, садится таким образом, что оптические оси этих двух камер сходятся на ней под углом от 10 до 45 градусов. Перед одной из камер прожекторов ставится стеклянная пластинка с нарисованной на ней сеткой из пересекающихся черных линий, образующих квадраты, помеченные разными буквами. Сильный луч света от этой камеры отбрасывает изображение этой сетки на сидящую модель, а другая камера производит снимок с освещенной таким образом модели. На рис. 1 изображена обычная фотография модели (покойный американский президент Гардинг), а на рис. 2 снимок с нее при освещении через решетку.
Для дальнейших операций достаточно 4-х таких фотографий, снятых с нескольких сторон. Дальнейшее воспроизведение формы происходит уже без участия модели, сберегающей этим не малое количество времени, столь ценимого американцами.
На вращающемся столике устанавливают кусок мягкой глины, которой придают грубую форму бюста и проектируют на нее изображение решетки посредством одного из прожекторов. Затем придают этой массе такие очертания и формы, пока рисунок падающей на нее сетки не примет в точности рисунка линий этой же сетки, как на живой модели.
Для этого все время приходится сравнивать производимую работу со снятой ранее фотографией. Такую формовку производят с нескольких направлений, пока не получится почти точное изображение снимаемой модели (см. рис. 3). Для наложения последних штрихов, конечно, полезно еще раз сверить вылепленный таким образом бюст с живой натурой.
Изменяя растояния источника света от рабочего столика, можно по желанию получить фото-скульптуру большего или меньшего размера, чем натуральная величина, что очень важно при снятии разных копий с известных скульптур.
Заметим от себя, что несмотря на кажущуюся легкость и простоту этого остроумного способа, он не скоро сведет творчество скульптора на степень простого ремесла. Скульптору остается широкое поле для художественного выявления того, что называется характером данного лица и что всегда будет удаваться лишь таланту, но никак не бездушному автомату, как бы остроумно он ни был устроен.
…………………..
Издатель: Издательство «П. П. Сойкин»
Редактор: Редакционная коллегия
[Задняя обложка отсутствует]
Примечания
1
Текст с увеличенным интервалом заменен на курсив. — Примечание оцифровщика
(обратно)2
Речь идет об отдельных зернышках рыбьей икры.
(обратно)




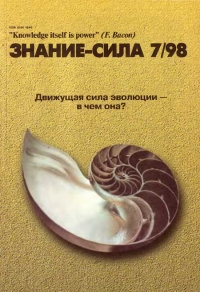




Комментарии к книге «Мир приключений, 1925 № 04», Н. Квинтов
Всего 0 комментариев