МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ № 11–12 1928
*
ГЛ. КОНТОРА И РЕДАКЦИЯ: ЛЕНИHГРАД, СТРЕМЯННАЯ 8
ИЗДАТЕЛЬСТВО «П. П. СОЙКИН»
Ленинградский Областлит № 22831.
Зак. № 415.
Тип. Л.С. П. О. Ленинград, Лештуков, 13.
Тираж — 30 000 экз.
СОДЕРЖАНИЕ № 11–12 1928 г
Три конкурса для подписчиков
«Мира Приключений» в 1929 г.
«ДВОРЕЦ ДВОЙНОЙ СЕКИРЫ»,
— археологич. рассказ А. Кончевского,
иллюстр. Ф. Райляна
«КАЗАНОВА»,
— жизнь, пережитая и рассказанная,
как самый интересный роман приключений, Ст. Цвейга,
— с 2 портретами и автографом…
«НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ».
— «ПО ПРИМЕРУ ОТЦОВ»,
— рассказ А. Каннабих-Скворцова, иллюстр. А. Ушина
Систематический Литературный Конкурс
«Мира Приключений» 1928 г.
— «БЕЗЭА», — рассказ-задача № 12, иллюстр. Н. Ушина.
ОКОНЧАНИЕ КОНКУРСА № 9.
Отчет о Конкурсе В. Б. и
решение рассказа-задачи «Слепцы у Омута»
Систематический Литературный Конкурс 1929 г.
— «ЗАПИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО», — Задача № 1
«ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»,
— рассказ Л. Оливера, иллюстрации Е. Осмонда
«ДРАМА В МЬЮЗИК-ХОЛЛЕ»,
— рассказ Берты Рёк, иллюстр. В. Гейтленда
«МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»,
— юмористический рассказ Н. Ивановича,
ил. Н. Кочергина
«ЖИВОЙ МЕТАЛЛ»,
— научно-фантастич. роман А. Меррита, иллюстр. Поля…
«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ»:
«ПОКОЙ И ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОТНОМ МИРЕ»,
— очерк д-ра Э. Ленка, с иллюстр.
«НЕВИДИМЫЕ СЛУГИ ПРИРОДЫ И НАШЕГО ОБИХОДА»,
— очерк д-ра З., с иллюстр.
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ»!
задачи и решения задач.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ШАХМАТНЫЙ ОТДЕЛ
стр. 2 обложки.
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК стр. 3 обложки.
Обложка в 6 красок работы художника С. Э. Лузанова
ШАХМАТНЫЙ ОТДЕЛ
стр. 2 обложки
Под редакцией мастера Арв. Ив. Куббеля.
КОНКУРС № 11.
Задача № 21
А. Рыраховского (Черкассы).
Печатается впервые.
Кр. h8, Ф g7, Л b6, e1, К b5. h6, П с4, d7, е4.
Кр. е6, Ф а8, Л с6, d1, С b4, е8, П b7.
Мат в 2 хода.
Задача № 22
К. Мэнсфильда (Англия).
«Magyar Sakkvilag» 1928 г.
Кр. a2, Ф е2, Л d8, С a1, b3, К с3, h6.
Кр. е5, Ф h2, П е4, f6, g5, g3, h8.
Мат в 2 хода.
За правильные и исчерпывающие решения обеих задач подписчикам журнала «Мир Приключений» будет выдан приз (шахматная доска с комплектом фигур).
Решения следует направлять исключительно по адресу редактора отдела: Ленинград, Вас. Остр. 10 ливня дом 39,кв. 63, Арвиду Ивановичу Куббель. Последний срок отсылки решений 15 февраля (по почтовому штемпелю). Право на участие в розыгрыше премий имеют только подписчики: индивидуальный, каждый участник коллективной подписки и каждый член семьи подписавшегося, нужно лишь наклеить ярлык с бандероли или указать № подписки.
_____
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА КОНКУРСЕ № 7.
Задача № 13, Л. Куббеля. 1) Л f1 — h1! С g3; 2) Ф g1, Kp.:f4; 3) Ф c1 × 1…., С: f4; 2) Л g1+ Попытка 1) Ф b6, С: f4; 2) Ф: е6 отражается ходом 2…., Кр. h5. Читателям задача очень понравилась.
Задача № 14, К. Говарда. 1. Ф е7 — а3.
Премию — шахматную доску с комплектом фигур по жребию получает подписчик № 682 — И. Беспалов (ст. Ершов, Ряз. — Урал. ж. д.).
Правильные решения обеих задач прислали: М. Леонтьев, Е. Куббель, И. Орлов, Е. Лемешевскнй, И. Нечисткин (все Ленинград), В. Задеренко (Харьков), Б. Щеглов (Киев), М. Васильев (М. Вишера), С. Кричевцов (м. Гремяч), П. Плешко (м. Грунь), А. Кириллов (Любань), В. Толстоухов (Гудауты), Ф. Митрофанов (ст. Сартания). Д. Алексеев (Саблино), В. Тациевский (Евпатория), Кириллов-Губенкий (Д. Село).
Кроме того поступило 9 неверных решений.
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА КОНКУРСЕ № 8.
Задача № 15, А, Куббеля. 1)К е7 — d5. Кр. d3; 2) К b4 + 1…, С е4: 2) С е2 + 1…..К c3; 2. Ф b4 + 1…..; 2. К e3+.
Задача № 16, О Делера. 1) Л g5— f5! Кр. g8; 2) f6 — f7 + 1…., Кр.:е8: 2) Л: d5. Прелестная миниатюра!
Правильные решения обеих задач прислали: И. Орлов, М. Леонтьев, В. Акатов, И. Печисткнн. Е. Лемешевскнй (все Ленинград), В. Тациевский (Евпатория), С. Кричевцов (Глухов), А. Кириллов (Любань). П. Плешке (м. Грунь), Ю. Сорокин (Гянджа), В. Задеренко (Харьков), Б. Смирнов (Одесса). Кириллов — Губецкий (Д. Село). С. Соколов (Москва). М. Васильев (М. Вишера). В. Лачугин (Мелекесс).
ПРИЗЫ ПО ЖРЕБИЮ ДОСТАЛИСЬ:
1) Левенфbш и Романовский «Матч Алехин — Капабланка» — подписчику № 522, П. Плешко, м. Грумь, Полтавского округа.
2) А. Алехин «Мои лучшие партии» — подписчику № 784, В. Акатову. Ленинград. Петрогр. сторона, Ропшанская ул. 82. кв. 26.
3) Рети «Учебник шахматной игры» часть I и Мизес «Французская партия» — подписчику № 42. Ю. Сережину, Ганджа. Закавказье.
4) То же, что и 3) — подписчику № 3318. Кириллову-Губецкому, Детское Село.
ТРИ КОНКУРСА «МИРА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» В 1929 г.
I. Систематический Литературный Конкурс.
В отличие от нынешнего года ежемесячные задачи будут заключаться:
1) не только в сочинении окончания к помещенному рассказу, но и
2) в написании всего рассказа, когда дана только последняя глава его,
3) в создании самостоятельного повествования на основе напечатанных без текста одних литературным способностям читателей. Кроме того, в
4) параллельно будут помещаться небольшие задачи самых разнообразных форм и содержаний, от изысканно литературных до простых и доступных любому внимательному читателю.
Соглашаясь с многочисленными высказанными пожеланиями, Редакция даст возможность получать премию за литературную работу не одному только лицу по каждой задаче, а нескольким. Первая премия всегда будет денежная — от 150 рублей за 1/2 печ. листа (20.000 букв), и до 25 руб. за малые задачи. Некоторые премии поощрительного характера будут выдаваться в виде полных собраний сочинений известных писателей и различного рода художественных книг и сочинений по искусству, в том числе наиболее популярных Историй искусств.
Условия премирования будут более гибки, чем практиковалось в Систематическом Конкурсе нынешнего года, и выработаны для каждой задачи отдельно.
II. Конкурс на лучший рассказ в рубрику
«За работой».
Строительство Союза Республик, наши культурные достижения и устремления, любовь к труду должны найти свое отражение в художественной литературе. За лучший, живой и действенный рассказ на фоне фабричных и заводских производственных процессов, попутно освещающий обстановку и быт рабочих, или за рассказ, знакомящий с важной и интересной, но подчас незаметной работой скромных тружеников, заслуживающей, однако, по особым условиям ее, пристального общественного внимания, назначено 3 премии: в 250 р., 200 р. и 150 р.
Рассказ должен быть в пределах от ½ до ¾ печатного листа (от 20.000 до 30.000 типографских знаков). Присланные на Конкурс, но не удостоенные премии, однако годные к печати рассказы могут быть приобретены Редакцией по соглашению с авторами. Срок присылки рассказов на этот Конкурс — 1 марта 1929 г.
III. Конкурс на лучший рассказ в рубрику
«На далеких окраинах»
художественно изображающий жизнь и быт на фоне сравнительно мало известной своеобразной природы и условий окраин необъятного Союза Республик. Рассказ также должен быть размером от ½ до ¾ печатного листа. За лучшие рассказы назначены 3 премии: в 200, 150 и 100 р Непремированные рассказы могут быть напечатаны по соглашению с Редакцией. Срок доставки рассказов на премию истекает 1 марта 1929 г.
Во всех трех Литературных Конкурсах могут участвовать все личные подписчики «Мира Приключений», члены их семейств, а также все коллективные подписчики (учреждения). На первой странице четкой и ясной, напечатанной на машинке или тщательно переписанной рукописи рассказов должен быть наклеен ярлык бандероли, под которой получается журнал, или сообщен № и число квитанции учреждения, принявшего подписку.
При работе Жюри, в состав которого, в зависимости от тем доставленных рассказов, приглашаются известные специалисты, будет обращено особенное внимание на литературно-художественные достоинства разбираемого произведения, на интересность фабулы, на соответствие ее действительной жизни, на динамичность в развитии сюжета.
ДВОРЕЦ ДВОЙНОЙ СЕКИРЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ АРХЕОЛОГА
Рассказ А. Кончевского
Иллюстрации Ф. Райляна
Я сидел у крутого обрыва над морем. Вокруг громоздился беспорядочный хаос камней. У ног простиралась бирюзовая ширь моря, полная ленивого покоя. Рядом со мной из скалы вытекал источник кристалльно-чистой и холодной до оскомины воды. Она лилась из жерла пушки, занесенной в эти дикие места еще во время Крымской войны. Стояла невыносимая жара. Намоченный в воде носовой платок на голове мгновенно высыхал. Нельзя было дотронуться не ожогшись до растрескавшейся земли. Солнце, казалось, грозило растопить серовато-белые камни. От них вверх, как робкая мольба о пощаде, подымался дрожащей зыбью нагретый воздух.
Неожиданно надо мною послышался шум скатывающихся камней, цокание горной палки и чье-то прерывистое дыхание. К источнику спускался длинноногий субъект. Впереди его, ловко перепрыгивая с камня на камень, бежал молодой пинчер. Путник опустился на землю и с жадностью припал к воде. Он был одет на европейский лад. Английский пробковый шлем, гетры, тяжелые подбитые гвоздями башмаки. Иностранец, подумал я, невольно одергивая засученные брюки на босые, запыленные ноги. Утолив жажду, он повернул голову в мою сторону. Рассеянно скользнувший по мне взгляд внезапно задержался, оживляясь каким-то воспоминанием.
— Аркадий! — полувосклицанием, полувопросом опознал он меня.
— Юрий Ленчицкий! — вспомнил я в тот же момент.
Передо мною ожили залитые хмельной радостью молодости студенческие годы, когда мы вместе с археологом Ленчицким увлекались раскопками курганов на Украине. Ленчицкий еще до мировой войны уехал за границу совершенствоваться, и мы потеряли друг друга из виду.
— Ты какими судьбами здесь, Юрий, мы ведь только начали созидать новую культуру, а ты любишь возиться с ушедшими в глубь прошлого, — спросил я, улыбаясь.
— И то, и другое интересно, — отвечал Юрий, сбрасывая с себя объемистый дорожный мешок. — Ну, и жара здесь чортова. У нас на Крите даже во время сирокко не было такой.
— Где!?
— На острове Крите; там я работал с Эвансом при контрольных раскопках Эгейской культуры. Предметы нижних древних слоев раскопок странным образом совпадают с теми, что находят в Малой Азии, на Кавказе и в Украине. Мне и хотелось самому проследить этот великий путь переселения арийцев, положивших начало богатейшей Крито-Микенской культуре за 3 000 лет до нашей эры. Я на местах изучаю то, что уже дали раскопки. Доберусь до Украины, а там хочу вплотную заняться Триполийскими древностями. Нет, я не могу жариться на этой сковородке, — сказал он, вскакивая с накаленных камней. — Неужто здесь нет поблизости тени?
— Запасись водой, и я тебя выведу сейчас к тенистому месту, — сказал я.
Поднявшись по узенькой тропинке наверх, мы, через полчаса ходьбы, подошли к небольшому мысу, выступавшему в море. На нем темнела кипарисовая роща. Вход сторожили два вековых кедра. Своими поднятыми пальчатыми ветвями они как бы предупреждали соблюдать тишину в обители вечного покоя. Это было родовое кладбище первого исследователя Крыма Кеппена. Несколько скромных надгробных плит приютилось у подножия строгих кипарисов, стоявших густой стеной и уходивших в небо остриями своих верхушек. В эти жаркие часы от них подымался одуряющий запах. Ноги мягко ступали по толстому ковру опавшей хвои.
— Настоящий «Остров мертвых» Беклина, — проговорил вполголоса Ленчицкий. Мы прошли на другую сторону кладбища и уселись в тени кипарисов у обрыва, обращенного к морю. Наш разговор, как обычно бывает после долгой разлуки, перескакивал с одной темы на другую. Отдохнув, решили закусить. Брынза, яйца, консервы и помидоры, все казалось необыкновенно вкусным. Ленчицкий достал из своего походного мешка два выдвижных стаканчика и налил из фляги вина.
— За нашу встречу! — сказал он, подымая стаканчик. На мизинце у него блеснул оригинальный перстень, привлекший мое внимание. Он был сделан из потемневшего металла. Две змеи, переплетаясь телами, держали в пасти овальный сердолик с каким-то выгравированным рисунком. Ленчицкий поймал мой взгляд.
— Этот перстень, — сказал он, — археологическая редкость большой цены, я сам нашел его и при очень необычных обстоятельствах. Смотри, как тонко передана сцена священного танца, а сбоку помещена эмблема «дворца Двойной Секиры».
— Это еще что за дворец?
— Ты разве не знаком с раскопками Кносского дворца пли, как ею называют, «дворца Двойной Секиры» из-за вот этой эмблемы, которая носила культовый характер? — спросил с удивлением Ленчицкий, протягивая мне перстень.
— Да, ведь это же топорики великокняжеской дружины, — воскликнул я.
— Да, и ты видишь, из каких глубин тысячелетий идут эти топорики. На Кавказе тоже сохранились старинные хевсурские секиры такого же типа.
Я попросил приятеля познакомить меня с добытыми археологическими данными и рассказать о его приключении, связанном с находкой кольца.
— Ты помнишь, конечно, — начал Ленчицкий, — Гомера, его златообильную Трою, Кпосский лабиринт мудрого Миноса. Всему этому не придавалось исторического значения. Нам говорили, что это все больше плод гениальной фантазии. Но вот раскопки Шлимана в Трое и Микенах и Эванса Тиринфского дворца и дворца Кносского на Крите показали, что эти мифологические места и быт их героев существовал в III и II тысячелетии до нашей эры. Оказалось, что на Серегах Средиземного моря в ту пору стала развиваться своеобразная культура, так называемая Крито-Микенская. Лишь во втором тысячелетии она достигла такого расцвета, к какому не скоро пришла сменившая ее античная греческая культура.
Тысячелетия сберегли нам массу предметов домашнего обихода и красочные фрески, на которых лежит печать большого художественного вкуса. Фрески рисуют нам живые сцены бытового и культового характера. Представь себе, что испанская тауротопегия (бой быков) имеет прародителями игры с быками в Кноссе и в Микенах. На фресках представлены ловля быков сетями, сами игры, во время которых ловкие гимнасты, мужчины и женщины, проделывают головоломные трюки на спинах диких быков, мчащихся бешеным галопом. Статуэтки показывают и подготовительные моменты: прирученный бык лежит спокойно, жуя жвачку, в то время, как ученик гимнаст кувыркается через его снизу. Игры с быками носили первоначально культовый характер, так как голова быка пли просто рога его часто попадаются, как священная эмблема. Вспомним, что Зевс принял вид быка, когда похитил Европу, прародительницу Миноса.
Религиозное содержание фресок показывает, что главным божеством было женское начало — богиня плодородия. Верховной жрицей была женщина. Все мужчины ее свиты носили названия женщин, были одеты в женские одежды. Также одевались и мужчины музыканты, игравшие при богослужениях на пятиструнных лирах и двухраструбных флейтах — ритонах.
В сцене погребения мы также видим преобладающее участие женщин. Мертвец мужчина не облекался в женские одежды, он должен был стать ритуально женщиной, чтобы получить право на загробную жизнь. Возможно, что современный саван мертвецов — пережиток этого ритуала. От поры матриархата сохранился в древней Греции закон, что если женщина гражданка сочеталась браком с рабом, дети ее — благородно рожденные; если знатный мужчина женился на рабыне, дети не имели права гражданства.
Этот период господства женщин положил отпечаток на весь бытовой уклад того времени. Очаг был святилищем и сосредоточием всей домашней жизни. Он помещался в центре дома и здесь протекала вся жизнь как обитателей хижин, так и дворцов. О женском влиянии свидетельствуют любовь критян того времени к украшениям в одежде, изобилие мелких вещиц из золота, серебра и камней, изящество формы и отделки посуды и всех мелочей домашнего обихода.
Господство женщин совпадает с расцветом Крито-Микенекой культуры. Затем какая-то катастрофа обрывает эту красочную жизнь. По раскопкам видно, что в Кносском дворце был пожар, после которого исчезает прежняя жизнерадостная красочность. Появляется какая-то суровость, суховатость и в линиях, и в красках. Быть может это был дворцовый переворот, ограничивший власть женщины, или же повлияло нашествие дорян, продвижение которых к берегам Средиземного моря совпадает с этим периодом, а возможно, что то и другое вместе.
— Но разве такая богатая культура не сохранила письменных свидетельств о своем прошлом? — спросил я.
— У нас в руках есть много таблиц с письменами. Возможно, что они таят в себе ключ к еще более необычным и неожиданным заключениям, чем те, которые делали мы. К сожалению, они еще не расшифрованы. То, что мы знаем об отдельных знаках их письма, дает очень интересную страницу в истории его развития. Мы видим, как упрощали критяне иероглифическое письмо, сводя его к линейному.
Ленчицкий острием своей палки провел по слою хвои. Вот смотри: иероглиф — голову быка с недоуздком упрощали так, затем ставили голову на рога , . Популяризаторы древности взяли этот иероглиф за первую букву алфавита, т. к. семитически бык— «Алеф».
Иероглиф древней двери критян семитически дверь: «Далее», и вот первую букву этого слова изображают финикияне так: , греки округляют одну сторону , латинское , древне-славянское .
Иероглиф Египетский назывался «Ка» — кисть руки — критский иероглиф , финикийский «капа», греки изменили в , позже .
Критский иероглиф (водяная змея), финикияне упростили , называется «нун» — рыба. Греки обозначали сперва , позже , наше древнее русское .
Славянское получилось из критского иероглифа глаза , позже его обозначили , финикияне , греки сперва , позже убрали точку и получилось .
Лежащий у ног Ленчицкого пинчер сорвался с места и, безжалостно разрушая иероглифы, бросился за зеленой ящерицей, неосторожно влезшей на большой камень, похожий на мозаику от покрывавших его лишайников самой разнообразной формы и цвета. Ленчицкий добродушно рассмеялся.
Моему Доби надоели наши упражнения в критских письменах. Я его не раз морил скукой, изучая иероглифы на стенах дворцов.
Доби, услыхав, что говорят о нем, примчался обратно и, шумно дыша в лицо хозяина, глядел на него преданными глазами. Юрий любовно притянул к себе его морду.
— Это мой верный товарищ, не будь его, — уж не знаю, как я выпутался бы из неприятной истории тот раз, когда нашел перстень.
— Ну, рассказывай свое приключение, — повторил я, — но и о раскопках тоже рассказывай. Все, что я слышу от тебя, так ново, интересно, что самая смелая фантазия не выдумает чего нибудь более яркого.
— Ты прав, — с увлечением подхватил Ленчицкий, — перед нами из прошлого встает изумительно-богатый, красочный самобытный мир. Я присоединился к экспедиции Эванса в товремя, когда все наиболее существенное в Кносском дворце и в Тиринфе было раскопано. Когда впервые по узкой галлерее, крытой ложным сводом, я вошел во внутренний дворик, окруженный полуразрушенной колоннадой, а оттуда по двум узеньким ступенькам в переднюю дворца, где сохранился великолепный алебастровый фриз с синими стекляными вставками, передо мной начала раскрываться страница за страницей одна из сказок Шахерезады.
Представь себе вход — из колонн оригинальной формы, узких у основания, широких кверху. Наверху на них упирался массивный портал с алебастровым фризом, пол в мегаронах[1]) и в тронном зале тщательно был росписан под ковры. Черные, двойные линии пересекались, оставляя белые пролеты с крапинками и без них. Стены были выштукатурены и покрыты цветным геометрическим и растительным орнаментом. Выше идут прекрасные фрески, исполненные клеевыми красками и передающие сцены охоты, религиозные и другие. Освещались эти залы через особые помещения — световые колодцы — и через отверстия под потолком между перекрещивающимися балками потолка и стен. Позже в античных зданиях наверху стали помещать карниз, который по своему рисунку напоминал балки и промежуточные световые отверстия.
В Кносском дворце было не меньше двух этажей с мужской и женской половиной. Они соединялись широкими лестницами с колоннадой. Во дворце были ванные комнаты, остроумно устроенная канализация. В длинный боковой корридор выходил целый ряд небольших помещений, где стояли огромные глиняные сосуды — пигосы, служившие для хранения припасов, а углубления в полу, выложенные цинком, предназначались для хранения более ценных предметов. Здесь же найдено было огромное количество глиняных дощечек с письменами.
Под входом во дворец Кносса и под самым дворцом находился ряд подземных камер с очень запутанной корридорной системой — Кносский лабиринт Гомера, из которого Ариадна вывела Тезея.
Во внутреннем дворике найдены были широкие лестницы, которые казалось, никуда не вели. Это был зародыш театра. Действие происходило посредине двора, публика смотрела, сидя на широких ступеньках Этих лестниц. Самый большой праздник у критян был весной. Он посвящался возрождавшейся Матери — Земле. Во время его устраивались хороводы, качели, имеющие значение очищения воздухом. Жилища украшались цветами и зеленью. Вот откуда ведут свое происхождение наш зеленый праздник, обычай водить хороводы, качели.
На древнем праздники критян, за 2000 дет до нашей эры.
Среди прекрасных фресок, украшающих стены дворца, меня особенно привлекала «дама в голубом», как прозвали ее. Представь себе молодую женщину-полуребенка. На ней одет темно-красный корсаж, плотно охватывающий талию, с высоким воротником Медичи. Грудь обнажена. От талии падает вниз пышными воланами голубая юбка, расшитая золотыми блестками и разноцветными поперечными полосами. Кокетливое личико девушки, с большими черными глазами, утопает в кудрях. Они текут по плечам свободными прядями, подобранными сзади в шиньон с локонами, их придерживает золотая повязка. В ушах большие спиральные серьги, украшенные жемчугом. С лукавой улыбкой девушка держит в вытянутой руке маленькую шкатулочку. На пальце у нее вот такой перстень, как мой.
«Дама в голубом».
— Но ведь ты описываешь костюм средневековой дамы, причем здесь древне-эгейская культура?
— Да, представь: средневековый костюм — это только пережиток прежней моды, бывшей за 2000 лет до нашей эры. Если хочешь, то этот костюм еще древнее, т. к. статуэтки женщин в широких юбках и корсажах мы находим в самых нижних слоях раскопок. Я думаю, что эту моду принесла на побережье Средиземного моря та группа арийцев, которая положила начало Эгейской культуре. Такого же рода статуэтки находят на Украине, на месте стоянок Триполийской культуры. Посмотри, как стойко держится эта мода в гуще народа. Украинская «кирсетка» и широкая «спидниця», русский сарафан, итальянская, испанская и богемская широкая юбка и шнурованный корсаж!
Да! Я заговорил о даме в голубом потому, что она имеет известное отношение к приключению, которое я пережил.
Было это в разгаре мировой войны. Со времени вмешательства в войну Турции, пришлось приостановить раскопки в Малой Азии и на Крите. Принимать участие в мировой бойне у меня не было ни малейшего желания. Небольшие средства, которыми я располагал, давали мне возможность продолжать работу и очень скромном масштабе за свой страх и риск. Надо тебе знать, что климат на Крите очень ровный и мягкий за исключением тех летних месяцев, когда дует из Африки сирокко, от которого можно спастись только в горах. Летом 1916 года я бежал от изнурительного сирокко в горную Скафийскую деревушку. Скафия на Крите называются чистокровные греки, занимающиеся скотоводством на возвышенностях. Они поставщики знаменитого сыра скафия. Блуждая в окрестных горах, я обратил внимание на обширную площадку, расположенную в трех километрах выше деревушки, в которой я жил. С этой площадки открывался прекрасный вид на простиравшуюся у ног зеленую долину с Кносским дворцом и синевшим вдали морем. Поверхность площадки была вся в буграх, поросших ползучим можевельпиком, рускусом[2] и терновником. Однажды я сидел здесь, любуясь открывавшейся перед мной панорамой. Мне пришло в голову, что на этой площадке могла бы находиться некогда Метохия, т. е. одна из летних резиденций обитателей дворца Двойной Секиры. В следующее свое посещение я захватил с собой кирку и попробовал рыть один из холмов. Грунт был значительно мягче основной породы. В этих местах горы состоят из песчаника с прослойками слюды, кое где залежей глины. На площадке же почва состояла из обломков песчаника, песка и глины, нанесенных с выше лежащих мест.
Я решил попытать счастье. Подрядил из той деревушки, где я жил, двух греков себе в помощь. Разбил палатку под большими дубами в глубине площадки, перевез туда свои пожитки. Раскопки наши с первых же дней увенчались успехом. Мы отрыли часть ограды, каменные основания колонн. Это была, очевидно, открытая колоннада, тип балкона. Затем обнаружили вход в Метохию с обрушившимся порталом, сохранившим еще следы алебастрового фриза с медными розетками и вставками из ляпис лазури. У обрыва нами было обнаружено стоящее особняком небольшое здание с печью для обжигания посуды, гончарным кругом и множеством черепков посуды средне-минойского периода.[3]) В одну из суббот мы расчищала пол, выложенный большими каменными плитами. Мои помощники кончали работу в этот день в два часа и уходили к себе в деревушку до понедельника. Простившись с ними, я решил продолжать работу сам. Доби — пинчер был со мной. О а бегал взад и вперед, гоняясь за ящерицами. Внезапно он заскулил. Я подошел к нему и увидел, что он попал задней ногой в щель между плитами. Помогая ему освободиться, я подумал, что, пожалуй, под плитой есть свободное пространство — подвал или подземелье.
Я начал расчищать скважины вокруг плиты. Глина плотно зацементировала их. С большим трудом я, наконец, приподнял край плиты. Внизу, действительно, чернело пустое пространство. Я осветил его электрическим фонариком. Вниз уходила узкая каменная лестница, переходящая в прямой корридор, ведущий по направлению к Метохии. Стал спускаться по ступенькам. Их было 8. На меня повеяло затхлой сыростью тысячелетий. Корридор, перекрытый ложным сводом, прекрасно сохранился. На стенах остались еще бронзовые поручни в виде львиных голов, в которые вставлялись факелы. Потолок над ними был закопчен. Внезапно корридор расширился в круглое помещение. В нем в беспорядке была наставлена всевозможная глиняная посуда. Большие питосы для хранения продуктов стояли в углу. На каменных скамьях стояло много всевозможной посуды, покрытой цветной росписью. По блестящему черному и коричневому фону, причудливые сочетания геометрических орнаментов с растительным играли переливами желтой охры, граната и белил. Стилизованные спруты протягивали свои щупальцы, переходящие в изгибы морских водорослей. И все это было сделано с большим знанием колорита и сочетания красок. Форма сосудов была самая разнообразная: фруктовые плоские вазы на высоких ножках, шаровидные вазы с горлышками с одной и двумя ручками, сосуды типа молочников и сосуды, похожие на утюги, чаши, стаканчики, чашечки, по тонкости выработки напоминающие лучший китайский фарфор. Все это я рассмотрел значительно позже, тогда же жадными глазами лишь охватил все это археологическое богатство и двинулся дальше.
Корридор делал крутой поворот и через 2 сажени упирался в стену с Заваленными ступеньками. Разочарованный, я повернул было обратно. Доби, не отходивший от меня, волновался и стал обнюхивать стену. Теперь только я заметил, что стены в этой части корридора были выложены большими плитами. Когда я направил свет фонаря в щель между плитами, у которых вертелся Доби, мне показалось, что там что-то блеснуло. Я укрепил фонарь у пояса и начал раскачивать плиту ломиком, который захватил с собой. Плита не поддавалась моим усилиям. Казалось, что ее что-то удерживало. С досадой я запустил лом в щель и изо всей силы нажал на него. Внезапно плата дрогнула. Я нажал сильнее, почувствовал, что плита медленно двигается в бок, уходя в стену. Передо мной открылось пространство, в которое я мог пролезть. Я направил свет фонаря вперед и невольно вскрикнул от изумления.
Передо мною была небольшая комната. У стены стоял алтарик. Верхние рогообразные загибы являлись культовым символом. Между рогами прикреплена была золотая двойная секира. Возле алтарика стоял сосуд для возлияния. Ряд уродливых статуэток домашних гениев окружал одну, изображающую женский сфинкс с диадемой на голове и крыльями за плечами. Эта статуэтка известна под названием «Дева смерти». Однако не эти эмблемы культа поразили меня.
У подножья алтаря лежали два человеческих скелета. Я подошел ближе. Никто, видно, не нарушал еще их вечного сна. Кости скелетов и все украшения устояли от разрушительного действия тысячелетий. Один скелет принадлежал молодому мужчине-воину. На костях голеней еще поблескивали золотые пряжки с прекрасной гравировкой. Такими пряжками критские щеголи поддерживали высокие шнурованные мягкие башмаки. В откинутой руке был зажат металлический держак щита. Кожаные полоски, из которых он был сделан, сгнили, но золотые пластинки искусной работы, украшавшие его, валялись вокруг. Другая рука скелета была прижата к груди и на одной из фаланг пальца был прекрасный перстень, изображающий играющих львиц. У бедренной кости лежал тонкий кинжал, в ножнах, богато украшенный камнями. На шее было янтарное ожерелье, а на черепе сохранилось железное кольцо, которое служило основанием каркаса кожаного шлема. Остальные кольца шлема, все уменьшаясь в диаметре, лежали около черепа. Там находились два турьих рога, украшавших некогда шлем этого воина.
Скелет принадлежал молодому мужчине-воину.
Другой скелет принадлежал молодой женщине. На маленьком черепе сохранилась богатая золотая повязка. Она показалась мне очень знакомой. Я положительно видел где-то эти пластинки, спускающиеся на лоб, и большие спиральные серьги с жемчугом. Множество маленьких золотых пластинок в виде крестиков с дырочками посредине и бусинками покрывали ее костяк. Они были нашиты когда-то на пышное платье. На ногах и на плечевых костях висели широкие золотые обручи. Руки, очевидно, в предсмертной муке сжаты на груди, так как кости пальцев лежали у грудной клетки. Там же лежал маленький флакончик художественной работы. На костяшке другой руки висел перстень. Я осторожно повернул его. Две змеи, тесно сплетясь телами, поддерживали в пасти резной овальный сердолик…
Внезапно мой фонарь потух. Я остался в темноте. Запасной батареи для фонарика не было, а прежняя была на исходе. Я решил вернуться назад. Мой верный Доби мог мне служить не хуже нити Ариадны. Ощупью я направился к выходу, но… что за чорт! Щель как будто стала уже. Я не могу пролезть в нее. Какая глупость, я бросил ломик в корридоре! Ложусь на пол и начинаю шарить рукой за дверью. Вероятно, я отшвырнул лом слишком далеко. Приходится мириться с необходимостью ночевать здесь. Хорошо, если только ночевать! Но ведь завтра— воскресенье. Завтра рабочих не будет. Провести 36 часов в абсолютной темноте, без пищи и питья в обществе мертвецов хотя бы и тысячелетней давности — перспектива не из приятных. Да и какие шансы, что рабочие вообще розыщут меня!
Я позвал Доби. Он прибежал, жалобно скуля. Темнота его начинала волновать. Я сел у проклятой плиты, уложил рядом Доби. Присутствие живого существа действовало успокоительно. Я не трус, но мои нервы, возбужденные всем виденным, были напряжены. Мне чудился какой-то шелест, скрип, вздохи… Точно вещи и хозяева в Этой кромешной тьме начинали оживать из своего тысячелетнего сна. Стараясь не дать разыграться фантазии, я начал деловито подводить итоги моим археологическим находкам. Много ценного! Вот жаль только, что такая повязка и перстень уже есть в чьей то коллекции. Да, и спиральные серьги знакомы мне. Где я видел их?… У дамы в голубом на фреске!.. Я был в восторге! Передо мной всплыло прелестное, улыбающееся личико, и рядом — этот жалкий маленький костяк…
Скелет «Дамы в голубом».
Когда, по моим расчетам, уже наступило утро, я решил попытаться освободиться при помощи Доби. Вытащив блокнот и карандаш, я ощупью написал несколько строк и прикрепил к ошейнику Доби. Погладив умное животное и толкая к выходу, я несколько раз повторил имя Нестора — одного из крестьян, работавших у меня. Доби знал его лачугу, т. к. я с ним не раз ходил туда нить молоко и запасаться сыром скафия. Доби казалось понял, что мне от него нужно. Он лизнул меня в нос и скрылся в щели. Часов через 6 он привел с собой рабочих, которые помогли мне освободиться из жуткого плена.
Ленчицкий умолк. У наших ног с мягким рокотом море набегало на тусклые прибрежные камни. Под яркими лучами солнца влажная галька оживала, расцвечиваясь охрой, белилами и кадмием. Я смотрел на перстень, лежащий на ладони. Из глубины тысячелетий передо мною оживала яркая, красочная жизнь.
…………………..
КАЗАНОВА
ЖИЗНЬ, ПЕРЕЖИТАЯ И РАССКАЗАННАЯ, КАК САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ РОМАН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ — ВЫДАЮЩИЙСЯ АВАНТЮРИСТ 18 ВЕКА, — МЕМУАРЫ КАЗАНОВЫ, — ИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРЕС-ТВОРЧЕСТВО С. ЦВЕЙГА
ОТ РЕДАКЦИИ
XVIII век — век величайших авантюристов.
Переломная эпоха перед великой французской революцией, подведшей кровавый итог феодальному строю Европы, выделила и воспитала совсем особую породу людей, темпераментных, умных, бесстрашных и ловких, железная воля которых была направлена на завоевание высот в личной жизни, как бы в отместку за низменность, порой окутанную мглой неизвестность происхождения. Джон Ло, граф Сен-Жермен, Каллиостро, Казанова — вот имена наиболее ярких и выдающихся авантюристов XVIII века, венчаемого величайшим из всех — гениальным Бонапарте, Наполеоном, императором французов и грозой всей Европы в продолжение двух десятилетий.
Авантюризм бурлил в крови этих людей, и только сферы их действий, поля их жизненных битв были разными. Среди этой, отобранной веком, компании авантюристов Джиакомо Казанова является, может быть, наиболее колоритной и характерной фигурой потому, что он не только независимей, бескорыстней и «поэтичнее» их всех по натуре, но и потому главным образом, что он символически воплощает в себе весь XVIII век. В самом деле, этому столетию давно уже дано было меткое прозвище «галантного» века. Век легкомысленной и легкокрылой любви, беззаботного общества феодальной аристократии, неудержимо катившейся к бездне исторической обреченности, век разнузданных страстей, пудреных париков, эротических маркиз, куртизанок, фавориток и безумной, хмельной игры, игры в жизнь, в карты, в любовь, в обман, в идеи, в революцию, которой на свою голову так жаждали все эти азартные, страстные игроки, поэты, любовники и авантюристы… И в этом шалом, разнузданном хороводе обреченных Казанова был одним из самых ярких пятен, одной из самых великолепных масок.
Вакхически бурная жизнь ненасытных, неистовых страстей, алкавших все новых и новых приключений по всем международным дорогам Европы, во всех странах и городах, от Мадрида до Петербурга, от Парижа и Рима до Лондона и отдаленнейших городов Германии! Беспокойный и ищущий путник, Казанова исколесил весь мир, играя в любовь, в карты, в проекты, в пленительную ложь и галантные развлечения. Принятый при всех дворах, вхожий запросто в спальни всех куртизанок, друг и собутыльник опереточных владетельных князьков и почтительный и неистощимый изобретатель самых фантастических проектов, которые он сам же порой пытался осуществлять, которые часто он навязывал большим и малым владыкам, Казанова поражает своей блестящей одаренностью, изумительной и разносторонней энциклопедичностью знаний. Но все свои знания, все свои таланты он растрачивает на ветер, на «галантности», на удовлетворение органической потребности в авантюризме. И только под старость, когда ушли силы, одряхлело тело и исчезла красота, когда судьба забросила его умирать в чужое и холодное гнездо, он сумел раздуть в душе испепеленные страсти и при ярких вспышках гениальной памяти рассказать наново свою былую жизнь.
И эта рассказанная в «Мемуарах» жизнь высится непревзойденным памятником его буйного образа авантюриста XVIII века, привлекает внимание читателей многих поколений и, вероятно, долго еще будет служить одним из самых занимательных чтений в будущем.
Но судьба выжгла на этом человеке свое особое, несмываемое клеймо. Жизнь, — как самый интересный роман приключений, темперамент — как самый страстный из всего «галантного» века, личность — как самая яркая среди авантюристов — сочетались исключительными элементами, как пестрые камешки в калейдоскопе, чтобы и после смерти продолжалась странная игра судьбы Казановы. Рукопись «Мемуаров» его после долгих блужданий по темным, неизвестным закоулкам европейских городов, улиц и домов, попала в длительный плен к немцу Брокгаузу, запершему ее в железный шкаф и пустившему гулять по свету переводы, изготовленные по его заказу сомнительными знатоками. До сих пор мы не имеем итальянского текста «Мемуаров», до сих пор подлинник хранится у владельца Лейпцигской фирмы.
Однако и это не помешало тому, что один из крупнейших писателей психологов современности — Стефан Цвейг, хорошо знакомый русскому читателю, как автор исключительных по талантливой проникновенности в психику людей страсти и азарта — новелл, — воссоздал образ Казановы в только что появившейся о нем монографии, из которой мы даем нашим читателям два отрывка.
Совершенно своеобразное, не имеющее подражателей, дарование Цвейга устремлено на те темные, провальные и загадочные стороны психики человека, которые оживают и начинают биться усиленной жизнью в роковые минуты азарта, высоких напряжений, неистовства страстей и решающих судьбу личности смятений… Мгновения и часы, судьбы и жизни «роковых» натур превлекают творческий и аналитический ум писателя, и он, как никто, умеет рассказать о переживаниях и ощущениях человека, охваченного безумием страсти.
Поэтому Цвейг с таким напряженным интересом бросается на исследование самых сложных, самых интересных гениев прошлого, давая одну за другой неподражаемые монографии о Стендале, Достоевском, Ницше, Бальзаке, Клейсте, Толстом, Диккенсе и Казанове. И эти работы вызвали сейчас на западе необычайное движение энтузиазма, поставили их автора на вершину современной литературы.
Без преувеличения можно сказать, что сейчас каждая новая статья Цвейга в Европе оценивается, как событие в литературном мире. Поэтому два отрывка из одной из самых блестящих монографий Цвейга о Казанове являются европейским подарком нашему читателю.
«Мемуары» Казановы представляют собой в литературном отношении совершенно исключительное явление еще и потому, что в этой личности авантюриста счастливо соединились полнота и многообразие жизненных переживаний с изумительным даром их изображения.
«Каждый истинный художник, — пишет Цвейг, — проводит большую часть своего бытия в одиночестве и борьбе со своим творчеством; ни в непосредственном, а лишь в творческом зеркале дано ему познать взыскующее многообразие бытия, полностью отданное непосредственной действительности; свободным и расточительным может быть только лишенный творчества, ищущий только наслаждений человек, изживающий жизнь ради жизни.
«Свободным же искателям наслаждений — антиподам художников — почти всегда не достает мощи заключить в формы многообразие пережитого. Они теряются перед мгновением и поэтому мгновение теряется за всеми остальными, тогда как художник умеет увековечить и малейшие переживания. Так рассучиваются концы вместо того, чтобы плодотворно соединяться: у одного нет вина, у другого — кубка. Неразрешимый парадокс: люди действия и наслаждения могли бы рассказать больше переживаний, чем все поэты, но они этого не умеют; творцы же обречены на измышления, ибо они редко переживают столько событий, чтобы о них рассказать».
_____
Любезности библиотеки Академии Наук мы обязаны воспроизводимым здесь иконографическим материалом. Он не слитком богат, но дает представление о герое повествования. Очень интересен портрет старого Казановы с латинской надписью, переведенной в качестве эпиграфа к главе «Образ старого Казановы».
Что же касается изданий произведений Казановы, то их вообще принято считать редкими. Так, в библиографии, составленной Поллио, Париж, 1926 г., стр. 15, указывается, что трагедия «Зороастр», переведенная Казановой с французского на итальянский и представленная на сцене Дрезденского Королевского театра во время карнавала 1752 г., известна лишь в одном экземпляре, хранящемся в Дрезденской библиотеке. Однако указание это не точно. Недавно другой экземпляр названной трагедии найден в Библиотеке Академии Наук СССР в Ленинграде библиотекарем В. Бернером.
_____
ОБРАЗ МОЛОДОГО КАЗАНОВЫ
КАЗАНОВА
Театр в столице маленькой резиденции: певица только что закончила смелой колоратурой свою арию; подобно граду, с треском посыпались аплодисменты, и теперь во время постепенно развертывающегося речитатива — рассеивается всеобщее внимание. Кавалеры отправились с визитами по ложам, дамы наводят лорнетки, кушают серебряными ложками превосходные «джелати» и оранжевый шербет, почти ненужными кажутся на сцене шутки Арлекина и пируэты с Коломбиной.
Вдруг взоры всех с любопытством обращаются ко всем незнакомому чужестранцу, который смело и небрежно входит с независимостью опоздавшего знатного сеньора. Богатство окутывает его мощную фигуру: пепельно-серый бархатный плащ складками ниспадает на искусно тканый камзол, а драгоценные кружева, золотые шнуры обрисовывают темные линии драгоценных одежд от пряжек жабо из брюссельских кружев и до шелковых чулок. Рука небрежно держит роскошную шляпу с белыми перьями, тонкий, сладкий аромат розового масла или модной помады веет по пути шествия знатного иностранца, прислонившегося теперь в независимой позе на барьер первого ряда, гордо опершегося рукой, украшенной кольцами, на усыпанную драгоценными камнями шпагу английской стали.
Как бы нечувствительный ко всеобщему вниманию, поднимает он руку с золотым лорнетом, чтобы с кажущимся равнодушием осмотреть ложи.
Между тем со всех кресел и скамеек ползет уже шопот любопытства маленького городка: не князь ли? не богатый ли иностранец? Головы сдвигаются, почтительный шопоток устремлен на усыпанный бриллиантам и орден, качающийся на алой ленте на груди (который он до такой степени перегрузил блестящими камнями, что никто больше не в состоянии рассмотреть жалкий папский крест, более дешевый, чем пареная репа).
Певцы на сцене тотчас же чуют ослабление внимания, свободнее течет речитатив, ибо над скрипками и трубами сверкают глаза выскочивших из всех кулис танцовщиц, высматривающих, не пахнет ли таи богатыми покупателями на одну покорную ночь.
Но прежде, чем сотня присутствующих в зале в состоянии разгадать тайну гостя, решить загадку его появления, дамы в ложах заметили уже другое почти с потрясением: насколько прекрасен этот незнакомый мужчина, насколько красив и насколько мужествен. Могучего роста, широкий в плечах, с мускулистыми цепкими руками, без всяких мягких линий на напряженном стальном теле, стоит он, слегка склонив голову, как бы перед нападением. В профиль это лицо напоминает римскую монету, так остро вырезана и отпечатана каждая линия этой темно-бронзовой головы.
Прекрасной линией вырисовывается лоб, которому любой поэт мог бы позавидовать, из-под каштановых, нежно вьющихся волос, дерзкий изгиб носа, острый подбородок и из-под него покатое, с грецкий орех величиной, Адамово яблоко (по представлению женщин — вернейшая гарантия действительной мужественности). Совершенно недвусмысленно каждая черта на этом лице свидетельствует об аггресивности, завоевательстве, решимости. И только губы, очень красные и чувственные, образуют мягкую и сырую линию и обнаруживают белое ядро зубов.
Медленно обращает теперь красавец свой профиль к темной глубине театра: под ровными, очень круто обрисованными и пушистыми бровями сверкает черными зрачками нетерпеливый, беспокойный взгляд, взгляд охотника зверолова, готового одним орлиным взмахом броситься на жертву. Но он еще только сверкает, не горит еще полным огнем и только нащупывающими искрами бежит вдоль лож, минуя мужчин, и оценивает, как товар, теплоту, наготу, белизну в затененных гнездах — женщин. Он осматривует их одну за другой, разборчиво. испытующе, и чувствует, что и его осматривают. Приэтом слегка приоткрываются его чувственные губы, набегает первое дыхание улыбки на сытый рот южанина и впервые обнажает широкую, белоснежную звериную челюсть. Еще эта улыбка не обращена ни к одной женщине в отдельности, она еще предназначается им всем.
Но вот он заметил в одной доже знакомую: тотчас же взгляд сосредоточивается, тотчас же бархатистая и в то же время сверкающая поволока затягивает только что еще дерзко вопрошавшие глаза, левая рука опускается с эфеса шпаги, правая хватается за тяжелую шляпу с перьями, и так он подходит с готовыми словами признания на устах. Грациозно склоняется мускулистая шея над протянутой рукой и раздается вежливое приветствие. Но по жесту отступления и смятения приветствуемой можно заметить, как нежно тая проникает в нее ариозо его голоса, ибо она в смущении откидывается и представляет гостя своим спутникам.
— Кавалер де Сейнгальт.
Поклоны, церемонии, выражения вежливости, гостю предлагают место в ложе, от которого он скромно отказывается, и из светской переклички завязывается наконец разговор. Постепенно голос Казановы покрывает другие. По манере актеров он мягко выпевает гласные и ритмично чеканит согласные и все явственней вырывается его голос за пределы ложи, все громче и нарочитей говорит он, ибо он желает, чтобы и склонившиеся соседи услышали, как остроумно и ловко ведет он беседу по французски и по-итальянски, как удачно цитирует он Горация.
Как бы случайно положил он украшенную кольцами руку на барьер ложи так, чтобы издали бросались в глаза его богатые кружевные манжеты, а в особенности огромный солитер, сверкающий на пальце; затем он угощает кавалеров из осыпанной бриллиантами табакерки мексиканским нюхательным табаком.
— Мой друг испанский посол прислал мне его вчера через особого курьера, — и Эти слова раздаются в соседних ложах; а когда один из присутствующих вежливо выразил восхищение миниатюрным изображением на табакерке, он небрежно, но достаточно громко, чтобы было слышно в зале, бросает: — Подарок моего друга и его светлости курфюрста Кельнского.
Эта его болтовня кажется совсем непреднамеренной, но среди этого парада слов фанфарон бросает от времени до времени быстрые и хищные взгляды направо и налево, с целью проверить их действие. Да, все заняты им, он чувствует, как любопытство женщин липнет к нему, чует, что его заметили, им любуются, его чтут, и все это придает ему еще больше смелости. Ловким оборотом обращает он разговор к соседней ложе, где сидит фаворитка князя, и — он чувствует это — с удовольствием внимает его чисто парижскому произношению, — а, рассказывая о некой красавице, он с преданным жестом бросает ей галантный комплимент, который она вознаграждает улыбкой. И его друзьям ничего больше не остается делать, как представить кавалера высокой даме. И уже выиграна игра. Завтра он будет обедать с самыми знатными города, а вечером в каком-нибудь из дворцов он вызовет на карточную игру одного из своих хозяев и оберет его, а ночью он будет с одной из этих блестящих женщин, — и все это в силу его смелого, уверенного и энергичного поведения, его победной воли и свободной мужественной красоты его темного лица, которому он всем обязан: улыбкой женщин и бриллиантом на пальце, усыпанной камнями цепью от часов и золотыми шнурами, кредитом у банкиров и дружбой у дворян — и великолепнее этого: — свободой в бесконечном многообразии жизни.
Между тем примадонна приготовилась начать новую арию. С глубоким поклоном, уже настойчиво приглашенный обвороженными его светским разговором кавалерами, милостиво получивший доступ к утреннему туалету фаворитки, возвращается Казанова к своему месту и садится, опершись левой рукой на шпагу, склонив вперед бронзовую голову, чтобы с видом знатока послушать музыку.
Позади него из ложи в ложу бежит топотом один и тот же вопрос и ответ из уст в уста: «Кавалер де Сейнгальт».
Больше никто о нем ничего не знает, ни откуда он пришел, ни чем он занимается, ни куда он идет, одно только имя жужжит и перекидывается через весь темный и любопытный зал и вспыхивает — как незримый, мигающий огонек уст, — на сцену к не менее охваченным любопытством певицам.
Но внезапно маленькая венецианская танцовщица разражается смехом.
— Кавалер де Сейнгальт! О этот плут! Это же Казанова, сын Буранеллы, аббатишка, укравший пять лет назад невинность моей сестры, придворный шут старого Брагадина, хвастун, негодяй и авантюрист!
Однако веселая девушка, повидимому, не склонна слишком сердиться на его проступки, ибо из-за кулис она ему мигает, как знакомому, и кокетливо прикладывает пальчик к губам. Он замечает это и вспоминает: беспокоиться нечего, она не помешает его игре со знатными дураками и предпочтет побыть с ним.
ОБРАЗ СТАРОГО КАЗАНОВЫ
Мир приобрел новый вид, себя в нем ищу я, но тщетно,
Я уж не тот, каким был; нет меня вовсе, я был…
Подпись под портретом старого Казановы.1797, 1798 — кровавая метла революции вымела галантное столетие, головы всехристианнейшего короля и королевы лежат в корзине гильотины, а десять дюжин князей и князьков вместе с венецианскими господами инквизиторами прогнал к чорту маленький корсиканский генерал. Больше не читают энциклопедию, не читают Вольтера, ни Руссо, а читают крепкосколоченные бюллетени с театра военных действий. Прах мертвых несется над Европой, кончились карнавалы и рококо, отошли в вечность кринолины и напудренные парики, серебряные пряжки и брюссельские кружева. Не носят больше бархатных камзолов, а только военную форму или мещанское платье.
Но — удивительное дело, там далеко, в самом темном углу Богемии, совсем старенький человечек как будто забыл о власти времени: как в легенде Т. А. Гофмана господин рыцарь Глук, попрыгивает там при полном свете дня пестрой птичкой старичок в бархатном камзольчике с золочеными пуговицами, в клетчатых шелковых чулках, украшенных цветочками подвязках и в торжественной шляпе с белыми перьями из замка Дуке по горбатой мостовой в город.
Этот забавный человечек носит старинный парик, плохо напудренный (нет больше слуг у него), а дрожащая рука величественно опирается на старомодную трость С золотым набалдашником, какие носили в Пале Рояль в 1730 году. Поистине, это Казанова, или, вернее, его мумия; он все еще жив, наперекор бедности, злобе и сифилису. Пергаментная кожа, горбатый нос, как клюв, над дрожащим, брызжущим слюной ртом, растрепанные и седые кусты бровей; все это отдает уже старостью, и пропиталось желчью и книжной пылью.
Только черные как угодья глаза сохранили прежнее. беспокойное выражение, сердито и остро светятся они из-под опущенных век. Но он не слишком засматривается направо и налево, он недовольно смотрит только перед собой, так как у него плохое настроение, у Казановы никогда больше не бывает хорошего настроения с тех пор, как судьба забросила его на эту навозную кучу в Богемии.
Да и зачем смотреть? Каждый взгляд был бы лишним для этих глупых зевак, большеротых чехо-немецких пожирателей картошки, никогда не интересующихся ничем, что выше их деревенской грязи, а ему, кавалеру де Сейнгальт, который в свое время вогнал пулю в брюхо гофмаршала Польши и собственноручно принял золотые шпоры из рук римского папы, ему они даже не кланятся с должным почтением. И досаднее еще то, что и женщины его не уважают, они закрывают рты рукой, чтобы не дать прорваться грубому деревенскому смеху, ибо они знают, почему они смеются, ведь служанки рассказали попу, что старый подагрик норовит запустить им руку и на своем лопочущем итальянском языке болтает ужаснейшие глупости.
По эта чернь все таки приятнее, чем домашняя банда проклятых слуг, которым он выдан с головой: эти «ослы», удары копыт которых он должен переносить, особенно Фельткирхнер, дворецкий, и Видерхольт, его помощник. Это — канальи. Они нарочно насыпали ему вчера соли в суп и сожгли макароны, а из его «Изокамерона» вырвали портрет и повесили его в клозете; эти негодяи осмелились побить маленькую пятнистую собачку «Мелампигу», подаренную ему графиней Роггендорф, побить за то, что милое животное совершило естественную потребность в комнате. О, где те добрые времена, когда такую рвань попросту сажали в кутузку или драли до размягчения костей за подобные оскорбления? Но нынче, благодаря этому Робеспьеру, канальи задрали носы, якобинцы испакостили весь мир, а сам стал старым жалким псом с вывалившимися зубами. Что помогут жалобы, воркотня, лучше всего — плюнуть на всю эту сволочь, подняться наверх в комнату и приняться за чтение Горация.
Но сегодня эта старая мумия не сердится, как марионетка дрыгает и прыгает она из комнаты в комнату, облачилась в старый сюртук, наложила на грудь орден и тщательно смела каждую пылинку, ибо сегодня господин граф известил, что его милость самолично пожалуют из Теплица и привезут с собой принца де Линь и еще несколько благородных господ; за столом разговор будет вестись по-французски, и завистливая банда слуг, скрипя зубами, должна будет ему служить, сгибая спины, вежливо подавать блюда, не как вчера, бросать на стол, как собаке, испоганенную и засушенную жратву.
Да, сегодня он будет сидеть за большой трапезой с австрийскими дворянами, они еще умеют уважать и чтить изысканную французскую речь, почтительно слушать, когда говорит философ, которому внимал еще покойный Вольтер и которому знали цену императоры и короли.
Вероятно, после ухода дам, господин граф и господин принц самолично будут меня просить почитать им из известной рукописи, да, господин Фельткирхнер, слышите ли вы, мразь, — просить они меня будут; просить — высокородный господин граф Вальдштейн и господин фельдмаршал принц де Линь, чтобы я прочитал из моих исключительно интересных переживаний какую нибудь главку, и я, может быть, исполню просьбу, — может быть, ибо я не слуга господина графа и не обязан слушать приказаний. Я не принадлежу к отбросам лакеев, я — гость и библиотекарь и стою на равной ноге с ними, — но вы этого даже не понимаете, вы, шайка якобинцев! Но и пару анекдотов я им расскажу — внимание! — пару восхитительных анекдотов в духе моего учителя господина Кребийона, или парочку пикантных — сорта венецианских… Что ж, мы, ведь, все благородные люди и умеем ценить оттенки. Все будут смеяться и пить тяжелое бургундское, как при дворе его христианнейшего величества, болтать о войне, алхимии и о книгах, и, конечно, пожелают услышать рассказы старого философа о свете и женщинах.
В возбуждении шмыгает он по открытым залам, как маленькая, сухая и злая птица, глаза блестят злословием и гордостью. Он вычистил свои фальшивые камни, — настоящие уже давно попали в руки английского еврея — осыпающие его орденский крест, тщательно напудрил волосы и стал упражняться перед зеркалом (у этих дикарей забудешь все манеры)! — в старинных реверансах и поклонах, принятых еще при дворе Людовика XV. Правда, спина уже сильно потрескивает, ведь не безнаказанно же в течение 70 лет таскалась старая телега на всех почтовых лошадях вдоль и поперек всей Европы! Да, знает бог, сколько соков выпили женщины. Но по крайней мере там, на чердаке, острота мозга еще не притупилась, еще он знает, как развлечь господ и показать себя. Спирально закругленным, слегка дрожащим почерком успевает он переписать поздравительные французские стихи для принцессы де Рэк на дымчатый лист бумаги, делает затем помпезную надпись в виде посвящения на своей новой комедии для сцены любителей: ведь и здесь, в Дуксе, он не разучился всему принятому и умеет еще, как подобает кавалерам, принять с должным вниманием общество, интересующееся литературой.
И, действительно, когда подъехали с грохотом кареты и он спустился, согнувшись на своих подагрических ногах, по высоким ступеням, прибывшие господа небрежно бросила слугам шапки, накидки и шубы, его же обняли, по обычаю дворян, представили его приглашенным кавалерам, как знаменитого кавалера де Сейнгальт, славили его литературные заслуги, а дамы наперерыв приглашали его быть их соседом за столом.
Еще не успели убрать посуду со стола и закурить трубки, а принц уже осведомляется, совсем как он предполагал, об успехах несравненных, захватывающих рассказов о жизни, и все в один голос — кавалеры и дамы — просят прочесть главу из этих бесспорно обреченных будущей славе мемуаров. Как отказать любезнейшему из всех графов, своему милостивому благодетелю в этом желании?
С готовностью семенит господин библиотекарь наверх в свою комнату и вытаскивает из 15 фолиантов тот, который предусмотрительно заложен шелковой лентой: главный и салонный отрывок, один из немногих, выдерживающих без риска присутствие дам, — побег из венецианской тюрьмы.
Как часто и кому только ни читал он это несравненное приключение! Курфюрсту баварскому, кельнскому, варшавскому двору и дворянским кругам Англии, но пусть все убедятся, что Казанова иначе умеет рассказывать, чем этот сухой пруссак, господин фон Тренк, о котором так прокричали по поводу его «тюрем».
Ведь Казанова только что ввел несколько новых версий, великолепные по неожиданностям, осложнения и в заключение восхитительную по выразительности цитату из божественного Данте. Бурные аплодисменты вознаграждают чтение, граф обнимает его и сует приэтом левой рукой незаметно стопку дукатов в его карман, которыми он сам, чорт это знает, может очень кстати воспользоваться, ибо если его целый мир забыл, то его кредиторы преследуют его до берегов отдаленнейшего Понте. И вот, несколько искренних крупных слез сбегает по его щекам, когда еще и принцесса милостиво поздравляет его и все пьют за скорое окончание великого произведения.
Но на другой день — увы! — раздается нетерпеливый топот лошадей, коляски ждут у дверей и высокие господа уезжают в Прагу. Хотя господин библиотекарь трижды делал тонкие намеки на то, что и у него там неотложные дела, его никто не берет с собой. Он должен остаться в гигантском, холодном, полном сквозняков каменном ящике Дукса, выданный с головой нахальной шайке чешской дворни, которая, не успела улечься пыль за колесами экипажа господина графа, опять уже мозолит уши своим глупым смехом.
Кругом — варвары, ни одного человека, который понимал бы по-французски и по-итальянски. с которым можно было бы поговорить об Ариосто и Жак-Жаке и нельзя же непрерывно писать письма к господину Опицу в Часлау и той паре милостивых дам, которые ему еще оказывают честь корреспонденцией. Как серый дым, густой и тоскливый опять затягивает скука жилые комнаты, а вчера еще забытая подагра начинает с удвоенной злобой терзать ноги.
С ворчанием снимает Казанова парадное платье, надевает на иззябшие кости толстый шерстяной турецкий халат, с ворчанием же добирается он до единственного убежища воспоминаний — своего письменного стола: очиненные перья ждут рядом со сложенными белыми листами фолиантов, в ожидании шелестит бумага. И со стоном садится он и пишет дрожащей рукой все дальше и дальше историю своей жизни. Благословенна скука, подгонявшая его!
За этим мертвенно бледным лбом, за этой крепкой кожей мумии живет свеже и цветуще, подобно белому мясу ореха за костяной скорлупой, гениальная память. В этом маленьком костяном помещении между лбом и затылком чисто и без повреждений сложено все, что эти блестящие глаза, эти широкие, дышащие ноздри, эти крепкие, жадные руки, алчно загребали к себе в тысячах приключений, а эти распухшие от подагры пальцы, которые втечение 13 часов в день гоняют по бумаге гусиное перо («13 часов, и они проходят для меня, как 13 минут»), полны еще воспоминаний.
На столе лежат в пестром беспорядке полуистлевшие письма его прежней возлюбленной, заметки, локоны, счета и памятки и, как над угасшим пламенем еще серебрится дым, так здесь плывет незримое облако нежнейших ароматов поблекших воспоминаний.
Каждое объятие, каждый поцелуй, каждое любовное слияние выступает в этой красочной фантасмогории. Нет, такое заклинание прошлого — не работа, а радость «lе plaisir de se souvenir ses plaisirs». Глаза подагрического старца блестят, губы дрожат от жара и волнений, вполголоса произносит он слова, ведет вновь созданные или на половину восстановленные в памяти диалоги, непроизвольно подражает давно отзвучавшим голосам и сам смеется своим шуткам. Он забывает о пище и питье, о бедности и нужде, унижениях и бессилии, о всех бедах и неприятностях, старости, когда он мечтательно омолаживается в зеркале своих воспоминаний; Генриетта, Бабетта, Тереза с улыбками подплывают к нему, как волшебные тени, и он наслаждается их загробным присутствием может быть полнее, чем это было при жизни.
И так он пишет и пишет, создает приключения пальцами и пером, как создавал их когда-то всем своим жарким телом, совершая восхождения и падения, декламирует, смеется и совершенно забывает себя.
За дверью стоят оболтусы из челяди и пересмеиваются: — С кем это там он смеется, этот итальянский дурак? — Насмешливо указывают они себе пальцем на лоб, давая понять, что он свихнулся, с шумом сбегают по лестнице вниз к бочкам с вином и оставляют старика в его одинокой комнате под крышей.
Никто в мире о нем больше не знает, ни ближние, ни дальние. Этот старый злобный ястреб живет на верху своей башни в Дуксе, как на вершине ледяной горы, забытый и неизвестный. И когда в конце июня 1793 года истерзанное сердце сломалось и несчастное, некогда тысячами женщин заключавшееся в пламенные объятия тело было зарыто в землю, в церковной книге не сохранилось даже правильно его имя.
«Казанеус — венецианец» — записывается неверно имя и — «восьмидесяти четырех лет» — неверная дата лет жизни, — настолько чуждым стал он современникам. Никто не заботится ни об его могиле, ни об его писаниях; забытым гниет тело, забытыми гниют письма, забытыми где то блуждают и томы его труда по воровским и равнодушным рукам. И от 1798 до 1822 г. — четверть столетия — никто не был более мертв, чем этот самый живой из всех живших.
…………………..
ПО ПРИМЕРУ ОТЦОВ
Рассказ А. Каннабих-Скворцова
Иллюстрации А. Ушина
I.
Оглядев еще раз свои охотничьи принадлежности, якут Иван решился наконец итти. Итти ему не хотелось, потому что мороз был очень силен, но это было бы еще ничего, если бы не ветер, который положительно сбивал с ног. Надвинув на уши чабак, плотно облегавший его голову, Иван подошел к двери и решил остаться, но сердитый взгляд его жены, как раз повернувшейся от очага к нему лицом, убедил его, что всякие колебания излишни и что дальнейшее промедление вызовет лишь новые бесконечные разговоры.
— Долго будешь у дверей топотаться? — спросила жена, заметив, очевидно, некоторое колебание в Иване.
— Я сейчас, сейчас… — заторопился он, навалился всем телом на замерзшую дверь и вышел.
К его изумлению оказалось, что ветер стих и снег лежал ровной белой пеленой. Иван зашагал по направлению к лесу, прислушиваясь к хрустению снега под ногами. Он прекрасно знал, что из сегодняшней охоты ничего не выйдет, так как все приметы это ясно показали. Когда он взял со стены лук и попробовал тетиву, то она только жалобно пропела, а не загудела, как гудит обыкновенно перед удачной охотой. Собаки выли всю ночь, да, наконец, сегодня пятница — день, в который, как известно, ничего не удается. Эх, кабы не жена, сварливый нрав которой известен, если не по всей Якутской области, то по крайней мере по всему поселку Лайхону!.. А ко всему этому — ему нездоровится, ломит кости, жар пробегает по всему телу и заставляет вздрагивать…
Так размышляя и поскрипывая пимами, Иван добрался до леса. Лес был старинный, дремучий, лишенный всяких дорог, тянувшийся на многие десятки верст и закрывавший от Лайхона весь мир. Зверья в нем было много и жило оно привольно, не особенно страшась якутов, охотившихся за ними мало, потому что не всегда хватало стрел и пороху.
Иван брел по лесу и лицо его начало понемногу проясняться, узенькие глазки зажглись огоньком, рука привычным жестом вынула стрелу из колчана, и шаги сделались увереннее и осторожнее. В нем проснулся охотник, который кладет всю свою жизнь на то, чтобы подкараулить зверя, перехитрить его…
Мороз все крепчал и, несмотря на малицу, пробирал Ивана до костей, так что он должен был приостанавливаться и приплясывать на снегу. Несмотря на это, Иван радовался морозу, так как благодаря ему снежная пелена превратилась в твердую кору и можно было итти без лыж. Бесшумно скользя между ветвями и низко-низко нагибаясь, Иван шел по лесу к намеченному им заранее месту, где, как он знал, водились белки. В лесу он чувствовал себя гораздо лучше, чем дома. По крайнее мере нс было жены, и потому он легко добрел до прогалины, где водились белки, которых так охотно всегда покупает приезжающий торговец Николай Максимович. Правда, он дает за них очень мало, но зато очень охотно меняет шкурки на водку, два боченка которой всегда привязаны у него в санях. В последний его приезд Ивану не удалось попользоваться водочкой, так как жена больно уж следила за ним и не давала менять шкуры на водку…
Выйдя на прогалину, Иван прижался к дереву и замер. Он знал, что мороз заставит белок выйти из гнезд и прыгать с ветки на ветку. Ивану казалось, что по всему лесу раздается его прерывистое дыхание, и он старался дышать чуть слышно и как можно медленнее. Кругом парила непробудная тишина, только изредка раздавался где-нибудь вдалеке треск дерева, повторяемый несколько раз услужливым эхо…
Иван стоял долго, все его внимание было устремлено на громадную сосну, длинные ветви которой, покрытые снегом, точно широкими рукавами, спускались до самой земли. Мороз заигрывал с Иваном, пощипывая его за лицо и покусывая за пальцы ног, но привычный охотник не шевелился. Он все стоял, так неподвижно, что издали мог показаться частью ствола вековой ели, к которой прислонился.
Но вот несколько снежинок, медленно кружась, упали с сосны на землю. Без малейшего шороха Иван наложил стрелу на лук и приготовился. Снежинки посыпались быстрее, чуть-чуть качнулась одна из веток и показалась тупая мордочка белки с выпуклыми быстрыми глазками. Стрела запела в воздухе, и маленькое тельце белки, задевая за ветки, упало на снег, окрасив его небольшим розовым пятном.
Иван спокойно двинулся вперед, взял еще трепетавшую белку, привычным движением сдавил ей двумя пальцами горло, отчего живые глазки белки сразу сделались мутными, и выдернул стрелу. Потом снова отошел к своему дереву и стал ждать.
Через час повторилось то же, и когда в лесу начало уже темнеть и отдельные деревья стали сливаться в один темный фон, у счастливого Ивана было уже четыре белки, что наполняло его сердце радостью. Он еще раз убедился, что его жена права, а он ленив и неповоротлив.
Сумерки быстро набегали, и когда Иван вышел на тропинку, ведущую к его дому, было уже совершенно темно. До его избы было недалеко, слышен был знакомый лай собак, но туда его не тянуло. Иван отлично знал, что жена его никогда не похвалит, и теперь, когда он принесет ей четыре белки, она начнет его ругать за то, что он не принес пять. Между тем ему хотелось, чтобы кто-нибудь позавидовал ему, похвалил его… А кто же мог это сделать, кроме его друга Семки?.. И решившись навестить его, Иван быстрым шагом миновал свой дом и направился к приятелю, который будет рад ему и, наверное, угостит его на славу.
II.
Семка предавался своему любимому занятию: он глядел на огонь, перебегавший с одной ветки на другую в очаге, сложенном из простых серых камней. Жена его готовила ужин, состоявший из похлебки с кусками сушеного прошлым летом мяса. Из потемневшего горшка шел вкусный пар, а кипение воды заставляло Семку предвкушать еду, до которой он был большой охотник. Когда дверь разом отворилась за его спиной и на него пахнуло холодом, он не обернулся, так как уж очень хорошо и удобно ему было сидеть.
— Здорово, Семка! — произнес вошедший.
— А, Иван! — ответил ему хозяин более приветливо, но все не поворачиваясь, потому что знал, кто пришел.
Иван бросил белок в угол, бережно поставил лук подальше от огня, снял колчан, чабак и только тогда уселся рядом с хозяином. Воцарилось молчание, прерываемое лишь падением угольков и треском пламени.
— Откуда? — спросил наконец Семка.
— С охоты, убил четырех белок… — ответил небрежно Иван, не поворачивая головы.
Семка разом обернулся и скуластое лицо его с редкой растительностью приняло выражение не то недоверия, не то зависти.
— Четыре? — произнес он вопросительно.
Иван не счел нужным ответить ему. Глаза его следили за синеватыми языками пламени, а в душе зарождалось чувство гордости.
Семка снова повернулся к огню, и мысли его зашевелились быстрее обыкновенного. Отчего он не пошел сегодня на охоту и белки достались Ивану? Впрочем, зачем они ему?.. Никто кроме его не знает, каких лисиц ему удалось убить месяц назад. Николай Максимович — и тот удивится, а то белки! Пускай они достаются таким беднякам, как Иван. У Ивана и семья большая, и помещение плохое, не то что у него. И Семка, приподнявшись на локоть, довольным взглядом обвел закопченый потолок, стены, с висевшими на них ружьями, образа, почерневшие от времени, а немного ниже их божков, росписанных яркими красками, котелок, подбрасывавший крышку — и успокоился. На что ему четыре белки?..
— Что нового? — спросил он.
— Ничего, — ответил Иван.
— У нас пропажа случилась, не знаю, на кого подумать — продолжал Семка. Иван заинтересовался, по головы не повернул, а только внимательно стал слушать.
— Выхожу я в лес, а там у меня был силок устроен на медведя.
— Ну?
— Силок сломан, а медведя нет…
— Сам ушел?
— Шкуры нет, туша валяется.
— Ну?
— Пошел к шаману. Он смотрел-смотрел в котелок с водой, потом и говорит: «Это хорошо…» А кому хорошо — я не посмел спросить.
И Семка снова повернулся к огню, совершенно утомленный длинным рассказом.
Иван помешал палочкой огонь, так что ветки затрещали.
— А мне все нездоровится, — заметил он — кости ломит и спать хочется.
— У меня лекарство есть, — подмигнул Семка, — еще от Николая Максимовича осталось.
Иван бросил палочку и придвинулся к Семке.
— Угостишь? — сказал он.
— Где тебя угощать, — улыбнулся широким ртом Семка. — Ты у нас богач, по четыре белки бьешь…
— Возьми их, только угости!
— Не надо, — гордо откинулся Семка и заорал во все горло: — Агафья! — точно жена его находилась от него версты за полторы, а не рядом.
— Чего тебе?
— Иди сюда.
Она вошла в круг огня и стала. Во всей ее высохшей и изможденной фигуре виднелась такая приниженность, такое отсутствие всякой воли, что Иван подумал не без некоторой зависти — «Вот бы мне такую жену..» — И ему представилась его жена, когда она, в минуты гнева, вооружась палкой, выгоняет его на мороз, где он бродит как нищий.
Агафья стояла неподвижно, а пробегавшие по ее лицу тени придавали ей причудливое выражение.
— Достать лучшее, что у меня есть! — приказал муж.
— Лисьи шкуры? — спросила Агафья.
— Какие лисьи шкуры, разве у нас есть лисьи шкуры? Я не знал… — прикинулся непонимающим Семка. Агафья промолчала.
— Вот дура, — продолжал Семка, — про какие-то шкуры толкует, когда ей говорят про вино. Доставай бутылку, и ты с нами выпьешь…
При последних словах мужа глаза Агафьи заблестели. Она бросилась исполнять приказание Семки, и через десять минут перед ними дымился котелок и стояла бутылка и рюмка грубого стекла с толстым дном, составлявшая предмет особой гордости Семки.
Семка налил рюмку доверху, осторожно поднес ее ко рту и опрокинул в горло. Огонь пробежал но его жилам, во он и виду не показал, а спокойно поставил рюмку около себя, вытащил из котелка узкую полоску мяса, больше похожую на сыромятный ремень, и неспеша стал жевать ее. Иван с нетерпением ждал своей очереди. Он дрожащей рукой налил себе рюмку, но не успел донести ее до рта, как она выскользнула из пальцев и все содержимое пролилось в мясо.
— Что это ты? — вскинулся Семка.
— Не знаю, — произнес растерявшись Иван, — должно быть с холоду. Я ее как-то не почувствовал, у меня вон и пальцы потрескались… — и он протянул к огню свою грязную, корявую руку. При свете огня были видны его опухшие пальцы с трещинами и ранками. Никто не обратил на это внимания, и сам Иван через минуту забыл об этом.
С легким чувством зависти он заметил, как разгорелись щеки у Агафьи и как Семка снова взялся за бутылку. Он налил рюмку полную-полную и ткнул ее в самые зубы Ивану, так что тот чуть не опрокинул ее, только на этот раз ему все-таки удалось выпить. Рюмка заходила между ужинавшими, и с каждым кругом лица их делались все оживленнее и краснее. Семка опьянел первый и заплетающимся языком стал рассказывать Ивану свои охотничьи подвиги. Иван сочувственно кивал головой, а сам все удивлялся: как это он мог раньше не замечать, что Агафья первая красавица в мире, а Семка, несомненно, самый лучший человек.
Между тем становилось слишком уж жарко, а Семка как нарочно подбросил еще дров в огонь. Иван предложил выйти и отворить дверь, на что Семка охотно согласился. Когда они вышли из избы, глухая ночь пахнула на них полярным холодом.
Яркие, крупные звезды точно смигивали слезы, глядя на этот несчастный, заброшенный уголок земли. Белой яркой полосой вырезался Млечный Путь, а на севере вспыхивали бесшумные зарницы начинающегося северного сияния. Черной стеной стоял лес, белая пелена снега постепенно переходила к горизонту в серую и терялась в дымке дали. Все молчало, охваченное глубоким сном, скованное жестоким морозом. Тщетно ухо ловило хоть какой-нибудь звук — все было тихо, точно на сотни верст не было и признака жилья…
Резко выделялись черными силуэтами три фигуры и внимательно смотрели на север, где все сильнее разгоралось северное сияние. Громадные столбы откуда то выростали, сшибались, разлетались искрами, а на этом подвижном фоне шло беспрерывное мелькание каких-то бледных, холодных молний. Чудная картина не тронула и не увлекла привычных наблюдателей, они вывели только свое заключение.
— Это к холоду, — сказал Семка.
— Да, — согласился Иван.
А Агафья ничего не сказала и только утвердительно кивнула головой.
После этого им не оставалось ничего более делать, как итти обратно к очагу и наблюдать за игрой огня. Ивану несколько раз приходила мысль о жене, но бутылка была так заманчива, что он предпочел перенести свалку, чем расстаться с ней. Тем более, что мороз остудил избу и требовалось согреться, пока огонь не сделает своего дела.
Семка налил себе, а когда Иван хотел последовать его примеру, остановил его и снова поднес ему. Распухшие пальбы Ивана пришли ему на память и он сказал:
— У тебя руки, верно, болят?
— Ломит, ох, как ломит… — произнес Иван, и ему вдруг сделалось грустно, что никто не пожалеет его, когда у него ломит руки, а только все смеются над ним и даже иногда бьют его…
Семка, качаясь, запел бессвязную песню, в которой воспевал себя и свое будущее богатство. — Вот едет русский купец, — пел он, — едет к Семке покупать лисьи шкуры. Даст он за них много-много денег. Настанет зима, и Семка убьет десять самых темных, как ночь, лисиц. Русский купец даст Семке все свои деньги, и станет Семка самым богатым человеком. Он больше не будет ходить на охоту, и его ружья будут висеть незаряженными, зачем ему их заряжать, когда он самый богатый человек. Он каждый день пьет вино, сколько ему хочется, и шаманы пляшут у него с бубнами и погремушками. А он делается все богаче и богаче… — Песня Семки постепенно замирала, замирала и наконец смолкла.
Последним сознательным движением Семки было взяться за бутылку, но она была уже пуста. Он склонился на пол и почти мгновенно захрапел. Ему вторили Иван и Агафья, заснувшие раньше его…
Огонь постепенно гас и наконец превратился в одну краснеющую точку. Холод все сильнее и сильнее начинал гулять над спящими. А таи, за стенами, продолжали мигать яркие, крупные звезды, переливалось северное сияние разноцветными молниями, и полярная ночь висела над забытым, далеким краем…
III.
Ивану с каждым днем становилось все хуже и хуже. Руки ломило днем и ночью, пальцы опухли и язвились, ногти слезали, и работать было положительно не по силам, да и неудобно с перевязанными руками. Помимо этого его все клонило ко сну, и, вставая утром после плохо проведенной ночи, он чувствовал себя гораздо слабее, чем вчера. Та бодрость, которая делала для него пустяковым переходы в несколько десятков верст, исчезла совершенно, и теперь, кажется, если бы он и добрался до лесу, то только до опушки. Жена сначала не верила его оханью и стонам, думала притворяется (это иногда случалось с Иваном); но, наконец, и она убедилась и с терпением смотрела, как он пережевывает хлеб с древесной корой. Иван надеялся, что эта простуда пройдет с наступлением весны, но, видимо, ошибался.
Как бы вознаграждая себя за долгую зиму, солнце торопилось растопить выросшие в стужу глыбы снега: то там, то сям начинали журчать и сердито пениться ручейки, на прогалинах затоковали глухари, дни становились длиннее — а Иван, выйдя на воздух, жадно вдыхал его и чувствовал, что это пробуждение природы не для него… Хорошо бы теперь поохотиться, побить птиц на току, зайцев… — думал он. Но один взгляд на обезображенные пальцы возвращал его к действительности. Глаза слезились и смотреть на свет было больно. Он шел домой, ложился лицом к стене и старался как можно меньше обращать на себя внимание.
Однажды под вечер, когда он вылез подышать, старший сын посмотрел на него и расхохотался.
— Ты чего смеешься? — крикнула на него мать.
— Ты посмотри — нос, нос-то какой! — покатывался он со смеху.
Иван посмотрел на жену. Та повернулась к нему и внимательно оглядела его лицо.
— И в самом деле, у тебя нос стал как чужой, — сказала она. — Да и все лицо совсем другое. Щеки отвисли, а бровей совсем нет…
Иван поплелся домой и лег, уткнувшись носом в стену. Вечером, когда он заснул, жена склонилась над ним и долго рассматривала его опухшее лицо. Внимание ей остановила на себе лежащая на всей коже сетка из жилок, которая то там, то сям прерывалась, уступая место мелким гноящимся ранкам. Она вздохнула и принялась за работу.
Прошло еще несколько дней. Однажды утром, когда Иван попросил у жены напиться, она не узнала его голоса — это был сплошной хрип, прерываемый каким-то клокотанием. Она подала ему воды и под каким-то предлогом вышла, на минутку задумалась и быстро направилась к поселку.
В отдаленном конце поселка жил самый старый в поселке якут, к которому все обращались за советом в трудных случаях. Жена Ивана застала его за плетением сети. Она долго стояла у порога, пока хозяин не обратил на нее внимания. Он спокойно поднял голову и спросил, не отрываясь от дела.
— Зачем?
— Дело есть, важное дело…
— Ну?
— Муж у меня заболел, по всем приметам — проказа… Что с ним делать?
Старик отложил сеть, подумал, пожевал губами, помолчал.
— Сама знаешь… У нас на то есть обычай — отцы делали и нам велели…
— Страшно!
— Я поговорю с хозяевами, — старик снова взял сеть. — Что они скажут, так и сделаем. А он сам знает?
— Как будто нет. Лежит себе, спит… Когда же мне решения ждать?
— Да что тебе загорелось? Потерпи, ответим… Дело не твоего бабьего ума.
Жена Ивана медленно побрела домой и еще издалека увидела мужа. Он стоял наклонившись, из его распухшего носа капала кровь и расплывалась на талом снегу. Он поднял бледное лицо и, улыбаясь своими запачканными кровью губами, прохрипел:
— Наверное скоро пройдет…
IV.
Около избы старика Фомы собрались все хозяева. Они сошлись потолковать о важном и серьезном деле и, сидя на прогалине мокрой и черной земли, тихо переговаривались. Солнце уже склонялось, от леса побежали длинные темно-лиловые тени, а снег заиграл всеми цветами радуги.
— Ладо решить! — сказал Фома — а то жена его измучилась. Просит ответ ей дать. Проказа дело страшное, у нас ее пять лет уже не было… — Да… Вылечиться он не сможет, а на других болезнь наведет. А может быть баба врет, ведь его никто не видал с той поры, что заболел.
— Я видал. — сказал Семка, приподнимаясь на локте. — Пальцы опухли, стакан с водкой пролил…
Последние слова служили неопровержимым доказательством и убедили, повидимому, всех.
— Так, — задумчива произнес Фома и после долгого молчания добавил: — Решайте… Не то детей заразит, сами потом каяться будем…
— А начальство? — возразил один из сидевших.
— Что начальство? Скажем, что пропал человек в лесу на охоте, и все. Да и узнает оно года через два…
— Значит по-старинному? — спросил Семка.
— Как в прошлый раз. Отцы не глупее нас были.
— Кто же прикончит его? — спросил молодой якут.
— Нашел о чем спрашивать, — сказал тот же Фома. — А на что же у нас Яшка!
— Верно, Яшка, Яшка, — обрадованно загалдели все разом.
— Только ему надо будет, как и в прошлый раз, полтинник дать — мрачно объявил старик.
Все приуныли… Кто-то глубоко вздохнул. Значительность цифры тяготила, и никому не хотелось расставаться с деньгами. Старик Фома, наконец, достал пятак и положил его посредине прогалины. За ним раскошелились и остальные. У всех были медные деньги, только Семка с обычным шиком положил гривенник.
Когда собрали полтинник, всей толпой двинулись к Яшке. Яшка отворил дверь и был, видимо, поражен таким вниманием. Фома подошел к нему и протянул руку с деньгами. Яшка взял деньги и молча ждал. Фома откашлялся, вздохнул, еще откашлялся, наконец выдавил:
— Яшка, ты возьми Ивана, как тогда, помнишь, кривого Никиту…
— Ладно! — пробурчал Яшка и захлопнул дверь.
V.
Иван провел ночь тревожно. Несносный лом в костях сменился отчаянным зудом, жажда томила, а из носу несколько раз принималась итти кровь. Заснул он только под утро крепким, здоровым сном.
Вдруг он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Он помычал, хотел повернуться на другой бок, но плечо его сжали до боли. Он открыл глаза и изумился, увидев перед собой Яшку. Яшка снова начал трясти его за плечо и дергать за руку. Наконец, Иван пришел в себя и вопросительно смотрел своими опухшими красными глазами на неожиданного гостя.
— Пойдем, Иван… — сказал Яшка, и нижняя челюсть его странно дрогнула.
— Куда?
— В лес…
И вдруг разом, в одно мгновение, Ивану стало все ясно: его болезнь, уход жены, появление Яшки, и кривой Никита, болевший так же, как он… Иван понял, что это конец. Он медленно поднялся, чтобы оттянуть время, стал искать рукавицы. Яшка понял это и буркнул:
— Шевелись, некогда…
Иван вздохнул, какое-то клокотание послышалось в его груди, и они вышли. Шли медленно — Иван не торопился. Яшка больше не торопил… Наконец, все таки, дошли до леса. Никогда он не казался Ивану таким красивым, как сегодня. Легкий ветерок шевелил деревьями и звенящий шопот оттаявших игл был слышен издалека…
Яшка, шедший впереди, остановился на минуту. Остановился и Иван, посмотрел на чистую, ласковую лазурь, и вздохнул. Из носа снова пошла кровь — он ее не вытирал… Отдышавшись, Яшка пошел дальше. Иван тронулся за ним, стараясь не отставать. Прошли еще с полверсты. При входе в лес Яшка пропустил Ивана вперед и, быстро нагнувшись, взял в руку обломанный сук, черный и мокрый от талого снега. В лесу пахло сыростью. Итти становилось все труднее. — Вот и прогалина, где Ивану когда-то удалось убить четырех белок. Яшка, наверное, не знает этого, нужно бы ему об этом рассказать…
— А знаешь, Яшка…
Вдруг что-то тяжелое, черное, что он не успел рассмотреть, разом опустилось Ивану на голову, заставило покачнуться, широко расставить ноги и сделать несколько неверных шагов.
Второй удар… — Иван повалился…
Яшка, закрыв глаза, стал бить по чему попало. Остановился, когда не хватило дыхания… Иван царапал землю руками, точно собирался плыть. Последний удар заставил судорогу зыбью пройти по телу, оно вздрогнуло и вытянулось. Красное пятно расплывалось вокруг головы Ивана…
Яшке бросились в глаза новые пимы на убитом. Он стащил их, взял под мышку и зашагал к поселку. Подойдя к жилищу Ивана, он отворил дверь и кинул их к ногам Ивановой жены. Та даже не оглянулась…
…………………..
Систематический Литературный Конкурс «Мира Приключений» 1928 г.
В каждой книжке «Мира Приключений» печатается по одному рассказу на премию для подписчиков, то есть в течение 1928 г. дано 12 рассказов с премиями на 1200 рублей. Рассказ — задача № 1 напечатан в декабрьской книжке 1927 г.
Основное задание этого Систематического Литературного Конкурса нового типа — написать премируемое окончание к рассказу, помещенному без последней, заключительной главы.
Цель Систематического Литературного Конкурса — поощрить самодеятельность и работу читателя в области литературно — художественного творчества.
БЕЗЭА
Рассказ-задача № 12
Иллюстрации Н. Ушина
Все мы знаем, что наш родной русский язык необычайно богат и гибок. В старых учебниках французского языка приводился классический пример фразы, которую, не нарушая правил грамматики, по-французски можно видоизменить восемью способами, а та же фраза по-русски допускала тринадцать перемещений слов, давая каждый раз несколько иной, тонкий оттенок мысли.
Предлагаемая вниманию читателей задача является образцом виртуозности, которую допускает русская литературная речь, виртуозности, конечно, не обязательной ни для кого в обычном повествовании, но любопытной, как яркий пример и всестороннего изучения языка, и свободного пользования его неисчислимыми возможностями.
За лучшее решение этой задачи будет выдана премия в 50 рублей.
_____
Нас познакомил Квач. Вы знаете, что такое Квач? Квач — это спец на отдыхе.
Не удивляйтесь, если я упоминаю о нем, как о чем-то неодушевленном. В отношении Квача так почему-то повелось. И не потому, что Квач незаметная величина, Этого нельзя сказать, не становясь в натянутые отношения с очевидностью. Сто двадцать кило сумеют постоять за себя, как бы вы их ни умаляли. И все же, о Кваче чаще отзывались как о чем-то, а не о ком-то.
Когда отдыхающие на пляже, облитые молочными лучами луны, любовались застывшей водной гладью, а из-за каменной складки неожиданно надвигалось гигантское темное пятно, — люди с испугом вскакивали на ноги и восклицали:
— Боже, что это?..
Спустя минуту следовал успокоительный ответ наименее податливого на панику:
— А! Это Квач ползет!..
И только исподволь, всполошенные люди овладевали вспугнутым междусоньем.
То же и днем, в часы купанья. Если недвижно застывший воздух, нашпигованный солнцем и иодом, неожиданно начинал отдавать квашеным запахом гниющего поблизости кашалота, купающимся становилось неловко. Они стыдливо зажимали носы и удивлялись:
— Что это? Откуда?..
Лаконический ответ: «Квач явился», успокаивал сознание, но не воздух.
Так вот, этот самый Квач и явился виновником моего знакомства с этой удивительной девушкой.
Ночью были слышны отчетливые подземные гулы. В неустойчивые души ползла безликая паника. Кое-кто был склонен свалить надвигающееся несчастье на Квача, как слишком тяжеловесного для нашей субтильной планетки. Такое обвинение являлось, конечно, явной натяжкой на взгляд солидно мыслящих людей. В том числе и на мой.
После очень беспокойной ночи я сидел на пляже, в тени утеса, и любовался безмятежной водной голубизной. Шум осыпающихся камней сзади заставил меня вскочить на ноги. Сначала мне показалось, будто от утеса отделился внушительный массив с прилипнувшей к нему лозинкой. Массив катился на меня. Я в испуге попятился.
Спустя несколько секунд, массив оказался Квачем, лозинка — незнакомой мне девушкой. Массив вел лозинку под локоток. Выяснив свою ошибку, я облегченно вздохнул.
С минуту Квач и девушка стояли молча возле меня. Утомленный поспешной ходьбой, Квач тяжело дышал, его необъятная глыба взволнованно колыхалась, из глубин массива долетали звуки, весьма схожие с подземными гулами. Девушка стояла неподвижно, как неживая. На обоях были купальные костюмы: на нем — какой-то необъятный желтый мешок, на ней — нечто полосатое, зеленое с белым. Тонкая и гибкая, она удивительно напоминала лозинку со снятой поясками кожицей. Такие полосатые палочки часто можно видеть у детей дачников.
Когда Квач получил способность двигать челюстями, он сказал:
— Не знакомы? Безэа…
Девушка слегка кивнула мне головкой.
— Как?.. — я удивленно взглянул на Квача.
— Безэа!.. Не понимаешь?
Я покачал головой:
— Это что же, имя? фамилия?..
— Ни то, ни се, — кличка… Ну, я лег, а вы — как хотите…
Он сел на песок и стал похож на куль, начиненный какою-то студенистой массой. Шутники, бывшие очевидцами туалета Квача, клялись мне, будто услужающая Квачу женщина укладывает его в платье большой ложкой, по частям. Сейчас я не видел в этом ни малейшей натяжки.
Квач сопел и сонно почмокивал губами. Я беседовал в девушкой:
— Мне хотелось бы знать ваше настоящее имя…
— К чему? Ведь Квач сказал вам…
— Такая замысловатая кличка подходит больше самому Квачу, но аналогии с известным блюдом… К тому же, по кличке зовут только налетчиков…
Девушка улыбнулась.
— Я ненавижу и свое имя, и свою фамилию.
— Почему? Неблагозвучны?..
— Нет… не то… Здесь нечто иное… Люди обычно не любят своих имен, если они вызывают какую нибудь смешную ассоциацию. Со мной не то… Мое настоящее имя и фамилия довольно звучны, но… они не для меня… Одни малюсенький пустячен, обесцветивший всю мою жизнь, заставляет меня ненавидеть и свое имя… Слишком тяжелый осадок оно оставляет… Мое имя звучит для меня… как отходная для безнадежно больного. Я люблю все на свете нежною и тихою любовью, все, за исключением двух вещей: своего имени и вот этого субъекта… Квача… Хотя он и был когда-то моим мужем…
Квач сочно почмокал губами и подставил палящему солнцу затененную часть своего необъятного желе.
Минуту мне казалось, будто девушка издевается надо мною, однако, облачко печали, скользнувшее по ее лицу, успокоило мои сомнения.
— Квач — ваш муж?..
— Бывший. Это несчастье случилось несколько лет назад.
— Извините, но сколько же лет вам сейчас?
— Двадцать семь.
— Вам можно дать восемнадцать, не более.
Девушка печально улыбнулась и вздохнула.
— Двадцать семь… Вся жизнь позади… Не смейтесь, я это сознаю без особой боли в душе. Я вполне убеждена, если человек до двадцати семи лет не сделал в жизни ничего, не нашел своего места — это конченный человек. Вот взгляните на Квача: он свое место в жизни знает. Сейчас он — спец в каком-то весьма сложном деле, спец, ценимый чуть ли не на вес золота. Два года назад он был спецом в иной области и тоже ценился весьма высоко. Как я его знаю — это уже двадцать девятая специальность Квача, и всюду он на своем месте, всюду он желателен, он особа, так как вытесняет столько-то десятков кубических футов воздуха, а это — очень солидно для делового кабинета. Квач — нечто. Хотя по своим мыслительным способностям он и не далеко ушел от тех студенистых медуз, что в таком изобилии плавают в взбаломученной воде, зато по умению найти свое место, свою впадинку и жизни — Квач чемпион вселенной…
Квач смачно пошлепал губами и недовольно сказал:
— Отстань, Безэшка, надоело… А то я тебя объясню и того чище… Вообще довольно пустословия. Пользуйтесь солнечной ванной, пока можно…
Женщина, с ненавистью поглядывая на тушу Квача, тянула с беспощадной утонченностью пытки:
— Обидно за живое существо, до чего безнадежно идиотеют люди! Вот эта туша, это скопище гниющею студня, эта насмешка над усилиями создателя и над мыслительными функциями мозга — несколько лет тому назад была человеком. И что всего ужаснее — моим мужем, то есть, частно меня самой, я бы сказала даже: командною частью, так как я склонна была подчиняться ей во всем. Есть отчего возненавидеть жизнь! А я не хочу ненавидеть, ибо люблю жизнь каждым атомом моего мыслящего существа! Всю жизнь, до мельчайших частиц, все, все, что только не связано с Квачем… Квач для меня исключение, темное начало в светлой вселенной Квача я ненавижу, ненавижу даже самый воздух, вынужденный обволакивать его… Квач мне гадит пейзаж. Квач — гнусная клякса на идеальном ландшафте жизни…
Квач снова завозился, пытаясь изменить положение. Его студенистое вещество лениво колыхалось, он незлобиво цедил сквозь толстенные губы:
— Пошла — поехала… болтушка… Вот несносная машинка! Тысячу слов в минуту… Что же было бы, если бы излечить ее от ее дефекта!.. Подумать жутко… Всех святых вон тащи… Водотолчея…
Глаза женщины светились огнем дикой ненависти. Слова падали тяжелым молотом, плющили сознание, безотчетно подчиняли себе. Неуловимые интонации казались мне необычными, властно вяжущими ум и чувства. Я сам начинал ненавидеть этого безобидного, большущего, безучастно-сонного человека. Безэа, видимо, уже не в силах была остановиться:
— Боже, до чего тупы, до чего обидно гнусны твои созданья, — вот этакие Квачи! Сделай так, чтобы очистка Авгиевых конюшен вселенной от нечисти началась вот с этого мешка с миазмами, вот с этого дьявольского желе, — с моего бывшего мужа. С единственного существа, имевшего смелость дышать мне в лицо своим похотливым дыханием… Вы удивляетесь как это могло случиться? Да ведь пять лет назад Квач был человеком! Ну, если хотите смягчить, — иным человеком. Того Квача больше не существует, его подменил спец в двадцати девяти областях. О, тогда это было дело иное! Тот Квач был мужествен, изящен, тонок поэтичен, как статуя, обаятелен, как античный бог. Настоящий идеал любой мещанско-кисейной идиотки. Что же касается ума — он обаянием был от ума избавлен. И я попалась на эту изысканную аномалию, на эту блестящую удочку. Если бы пять лет назад мне сказали: «Чего ты хочешь — звездные выси без Квача, или лужицу в его квакающем сообществе? Я, не задумываясь, остановилась бы на последнем. Зато сейчас небытие мне было б слаще, чем существование с Квачем на одной планете, хотя бы и на отдаленных полюсах. Вот как он мне мил!..
Я с недоумением глядел на взволнованную женщину и на флегматично-сонного Квача.
— Что же такое он вам сделал, ваш бывший муж?
— В том-то и ужас, что буквально ничего. Сделай он мне что-нибудь плохое, я бы, может быть, любила его, как и пять лет назад. А то — ничего. Он — большая тень моего маленького существа — и только, — неестественно большая тень, какой я, по всем физическим законам, не могу оставлять за собой. А между тем тень существует. И это — аномалия. Вот в чем ужас! Если бы я была его тенью — начальный смысл был бы восстановлен. Но он же — Квач и не может быть ничем самодовлеющим, он — только тень. Неестественно большая, ползучая и жуткая тень, — тень Квача, затемняющая всю мою незадачливую жизнь…
Она замолчала и зло закусила губы. Я тщетно пытался понять, в чем тут фокус? Дело в том, что я не мог не заметить, как Безэа спотыкалась и подыскивала нужные слова, явно избегая касаться одних, казалось бы наиболее логичных и понятных, и охотно пользуясь иными, невыгодными на мой взгляд, ничуть не уясняющими смысла, но все же вызывающими неожиданный эффект.
Пока я думал над этим, необъятный живот Квача заколыхался в каких-то стихийных спазмах, толстые губы зачмокали, как копыта по слякотной мостовой, — он смеялся:
— Безэшка, ты лучше о том, как была на сцене…
— Вы были на сцене?
Что-то неуловимо-болезненное скользнуло по бледному лицу женщины. Как будто ей под ногти загоняли булавку, а она стыдливо замалчивала боль.
— По-настоящему — нет… Пыталась поступить… Неудачно…
Квач захихикал весело:
— Пустячек помешал… Так, безделица… А ведь чуть-чуть не обманула всех искушенных сценических деятелей… И как ловко!.. Ах ты, Безэа, Безэа!.. Меня-то она обманула задолго до этого… Да ведь как! я и подумать не мог… Хочешь, объясню, Безэша?
— Молчи, слякоть… Лежи, коли Бог убил…
— Еще кого убил — неизвестно… Ну, валяй, начинай. А я, быть может, засну…
Немного помолчав, Безэа глубоко вздохнула:
— Да… Одну мечту я лелеяла с юных лет, это — сцена. Быть на сцене для меня казалось высшим смыслом жизни. Вне этого — не стоило существовать. Вы понимаете, когда такая идея захватит целиком человека, для него все кончено и навеки. Для меня весь свет заключался в сценических подмостках. Вне сцены — не было ничего. Я чувствовала в себе необычайные силы, считала себя способной завоевать всех и все. И завоевала бы, если бы не…
Она остановилась. Я подсказал:
— Если бы не — что?..
Безэа поспешно замяла:
— Так, ничего, пустяк… Самый ничтожный пустяк, не стоящий в сущности даже упоминания. Бесконечно малая величина в скале человеческих возможностей. Попытаюсь объяснить так, и быть может вам станет понятной вся боль моей души.
Художник воздвиг замок, величавый неземным величием, обвеянный нездешним гением, где воплотилась сама истина, никем никогда невиданная, но всеми сознаваемая. Замок вознесся, как воплощенная мечта, подсказанная в счастливый час гениального сновидения. Но… но всесильный художник, возводя фундамент для своего здания, не положил в него одной песчинки, ибо v него этой песчинки только и не хватало. Художник знал об отсутствии этой песчинки, но он думал обмануть людей. А люди таковы: они ничего не имеют, чтобы их обманывали, но когда узнают об обмане даже на ничтожную песчинку, то согласны лучше испепелить весь свет, чем извинить отсутствие этой песчинки, — кстати и не нужной им совсем. Так было и со мной. У меня не оказалось одной песчинки, чтобы стать звездою сцены. И мне вначале удавалось обмануть, но обман не мог длиться бесконечно…
— Я посылал тебя в кино — и все было бы, как нельзя лучше, — сонно сказал Квач.
— Кино! — возмущенно отозвалась женщина. — Моя сила в живом слове, а судьба кино — вечно быть безмолвным. Нет, ему и мне — не по пути. Лучше истлеть в безвестности…
Я внимательно наблюдал за любопытной женщиной. Ее глаза лучились каким-то обжигающим светом, казалось, они метали молнии. От нее исходили захватывающие волевые токи. Не всегда убедительные слова звучали по особенному возбуждающе, они нагнетались каким-то необъяснимым побочным смыслом. В каждом жесте, в каждом слове, в каждом взгляде чувствовалось обаяние колоссального таланта.
— Ну, конечно, ваше место на сцене! — воскликнул я. — Здесь какая-то глупая загадка… Ошибка, подвох, — я не знаю что, во всяком случае, что-то святотатственное…
— Песчинка!.. — Она кисло улыбнулась. — Вы думаете, до вас мне этого не внушали? Взять хотя бы вот этого моллюска, Квача. Когда-то он сулил мне владычество над миллионами, над целым светом. Кажется, только потому я и женой его стала. И позднее — многие и многие… Вы знаете, когда я явилась в одну студию и начала читать — меня оттуда выпустить пе хотели. В дальнейшем — многие видные сценические звезды буквально шалели от моей читки, с ума сходили как мужчины, так и женщины. Столпы искусства, бия себя в плеши кулаками, заявляли, что я — исключительное явление, случающееся в тысячелетие однажды. Я уже чувствовала себя стоящей одной ногой на склоненном в ныли человечестве и… до изнеможения истекала монологами собственного сочинения. Слушатели неистовствовали. Знаменитости сцены добивались чести стать моими педагогами. Мужчины стадами глупели от любви ко мне, а женщины, как медные статуи, обволакивались зеленью неизлечимой зависти. Волшебный замок художника был готов, но он зиждился на обмане…
— Да в чем же, в чем состоял ват обман? — недоумевал я.
— В отсутствующей песчинке. В одном подлом, неизлечимом, несмываемом и несоскабливаемом пятнышке моей индивидуальности…
— Но на вас не может быть никаких пятен! Клянусь своею головой! — не по летам пылко воскликнул я.
— Вот и я так думал. Она меня два года за нос водила! — заквакал, подхихикивая Квач.
— Но если — два, то это могло длиться и двадцать лет, и бесконечно! — не унимался я.
Девушка печально покачала головой.
— В жизни — да, но на сцене — лишь до читки чужой пьесы… И вслед за этим— фиаско, адский хохот, свист и улюлюканье… Обманутые тенью гения тупицы мстили больно и жестоко… Мстили по-свински, а не по-человечески… Да… Для меня в жизни осталось только одно: злиться на Квача и сожалеть, почему я не китаянка…
Я в недоумении пожал плечами.
…………………..
УСЛОВИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
1) Читателям предлагается прислать на русском языке недостающую, последнюю, заключительную главу к рассказу. Лучшее из присланных окончаний будет напечатано с подписью приславшего и награждено премией в 50 руб.
2) В систематическом Литературном Конкурсе могут участвовать все граждане Союза Советских Социалистических Республик, состоящие подписчиками «Мира Приключений».
3) Никаких личных ограничений для конкурирующих авторов не ставится.
4) Рукописи должны быть напечатаны на машинке или написаны чернилами (не карандашом!), четко, разборчиво, набело, подписаны именем, отчеством и фамилией автора, и снабжены его точным адресом.
5) На первой странице рукописи должен быть приклеен печатный адрес подписчика с бандероли, под которой доставляется почтой журнал «Мир Приключений».
Примечание. Авторами, состязующимися на премию, могут быть и все члены семьи подписчика, а также участники коллективной подписки на журнал, по тогда на ярлыке почтовой бандероли должно значиться не личное имя, а название учреждения или организации, выписывающей «Мир Приключений».
6) Последний срок доставки рукописей — 15 марта 1929 г. Поступившие после этого числа не будут участвовать в Конкурсе.
7) Во избежание недоразумений рекомендуется посылать рукописи заказным порядком и адресовать: Ленинград 25, Стремянная, 8. В Редакцию журнала «Мир Приключений», на Литературный Конкурс.
8) Не получившие премии рукописи будут сожжены и имена их авторов сохранятся втайне. В журнале будет опубликовано только общее число поступивших рукописей — решений литературной задачи.
9) Никаких индивидуальных оценок не премированных на Конкурсе рукописей Редакция не дает.
ОКОНЧАНИЕ КОНКУРСА № 9
Решение рассказа-задачи «СЛЕПЦЫ У ОМУТА»
С яркостью почти физического ощущения испытываешь каждый месяц бодрящий прилив стремительно-упругой волны, берущей свое начало в самых глухих уголках необъятной земли нашего Союза. И нам радостно от сознания, как велика тяга к просвещению, к литературе, у сотен наших знакомых-незнакомцев, посылающих нам письма о Систематическом Литературном конкурсе.
Большое спасибо читателям за добрые пожелания и за советы!
Приятно сознавать, что труд Редакции не пропадает бесследно и разбрасываемые нами зерна дают кое-где всходы. Среди просветительных начинаний, которыми охвачена Республика Советов, нам принадлежит очень скромное место и мы не вправе претендовать на большее. По французской поговорке, (Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre) «наш стакан не велик, но мы пьем из своего стакана», и этого — довольно. Мы стремимся только дать разумный и приятный отдых трудящемуся и не собираемся всех наших читателей сделать писателями, — но нужно запомнить — быть писателем — одна из самых трудных профессий, требующая большой природной одаренности, широкого и глубокого образования, постоянного вдумчивого труда над собою, в известной мере даже самоотречения. Мы будем вполне удовлетворены, если наш Систематический Конкурс с одной стороны — научит, как следует читать и литературно излагать свои мысли, а с другой — послужит пробным камнем для тех, кто чувствует жажду приобщиться к литературе и хочет испробовать свои силы. Как часто мы ошибаемся и желание принимаем за силу! Мысли орлиные, а крылья — куриные. Таков удел многих на самых разнообразных поприщах человеческой деятельности. Потому-то и выдающиеся писатели насчитываются единицами, хотя пишущих — тысячи.
Мы не разочаровываем, но не хотим и обольщать. И сейчас приходится сказать об этом потому, что нас засыпают письмами с просьбой сделать «крупное дело», издать отдельную книгу, воспользовавшись, как материалом, работой читателей по Конкурсу. Наиболее сильно выражено это пожелание у пылкого читателя И. М… Вот выдержки из его подкупающего своей искренностью и почти страстностью письма.
«У нас есть книги на тему: «как научиться писать рассказы, стихи, повести, фельетоны и пр.». Книги эти полезны. Начинающие в них пай тут много себе полезного. Нужные книги. А на-днях я читал книжечку М. Горького «Рабкорам и военкорам — о том, как я учился писать». В придачу к этим книжкам не хватает того, что я хочу предложить издать вам.
Если упомянутые книжки научают ремеслу писателя, вернее — приемам этого ремесла, то они ни в какой мере не могут вложить в читателя этих книжек способности писать, уменья излагать идею, фразу и сочетать их в цельное повествование.
Эти книжки способствуют усвоить технические вехи творчества, а вот, чтобы они научили заполнить эти вехи стройным зданием изложения темы, этому эти книжки не могут научить.
Отсылать начинающих, пробующих силы писателей, к чтению образцовых литераторов мастеров можно, но это чтение мало, повидимому, пособляет делу и выливается, невольно быть может, в слабые плагиаты Я все время говорю не о талантливых самородках, у коих талант, способность, сам ищет выхода и подталкивает своего носителя, а о средняке, о том, кто упорным трудом может вызвать к жизни творческие свои силы. Еще меньше пособят делу сборники, хрестоматии образцов.
Другое дело, если вы вот все эти непринятые на конкурсе пробы пера издадите отдельной книжкой, поместив в нее основной рассказ и, следовательно, те варианты окончаний, которые к вам поступили и даже вариант автора самого рассказа. Снабдите эти варианты подробными комментариями: что плохо сказано и почему, дайте свою лучшую фразировку указываемого места чтобы каждый наглядно видел не только простое указание, но и литературный пример лучше выраженного. Объясните каждую мелочь. Хорошие, удачные места также отметьте с указанием почему хорошо, или удачно данное место.
Такая книжка явится ценнейшим, на мой взгляд, руководством для начинающих. Она будет рабочей книгой каждого желающего встать на стезю писателя. Она вскроет, благодаря комментариям, тайники творчества и будет содействовать уразумению и усвоению тайников этих.
Назовите эту книжку: «Тайна литературного творчества», «Литературная лаборатория», «Рабочая книга начинающего писателя», «У истоков творчества писателя», «Хрестоматия начинающего писателя»… Или каким-либо иным подходящим названием. Издайте эту книжку, и вы заполните тот пробел, что сейчас имеется в литературе подобного рода. Если вы запросите мнение ваших читателей, думаю, что большинство поддержит мое мнение. Ценность такой книжки усугубляется именно тем, что даются варианты на одну тему десятками начинающих пробовать перо. Выявить ошибки первых шагов, указать их всем начинающим, отметить удачные места, чтобы показать как надо писать, выражаться. Предостеречь от ошибок, направить мысль на правильный путь, вот задача этой книжки. «На ошибках учатся». Это хорошо сказано. Так надо показать эти ошибки.
Ваши комментарии в «М. П.» слишком малы, необъемлющи, лаконичны, а потому в весьма слабой степени отображают то, что может дать та книжка, которую составить и издать я вам предлагаю. Используйте же ценнейший для этой цели материал, что имеется у вас».
Желание — прекрасное, но сейчас невыполнимое по многим причинам и, прежде всего — по техническим. Авторы писем даже не представляют себе, каков должен быть объем такой книги. Мы не отказываемся однако от мысли осуществить рано или поздно предположение наших читателей, хотя и не можем вполне разделить взгляд их на значение такой книги. Конечно, комментарии наши к отдельным главам по необходимости кратки — ведь мы должны дорожить местом! — конечно, эти замечания не исчерпывают всего присланного читателями материала, но мы не можем и умалять их образовательного, педагогического значения.
Если читатель не будет бросать прочитанную книжку журнала, а сохранит ее и потом время от времени станет просматривать комплект, он, наверное, заметит то, что раньше ускользало от его внимания. Ведь нам приходится повторять нередко одни и те же указания, делать в разной форме те же замечания. Иногда слово как бы не доходит до сознания читателя, скользит бесследно, и вдруг однажды, благодаря ли форме своей или настроению читателя в момент восприятия, крепко и прочно засядет в мозгу. Перечитывайте иногда обзоры! Противопоставляйте темы рассказов, манеру повествования и выполнение заключительных глав читателями, которое всегда в типичных чертах запечатлевается в нашем обзоре. На такой работе многому научитесь. Побольше самодеятельности! Побольше упорной води к удовлетворению прекрасной жажды — владеть словом, этим главным оружием человеке.
Совершенно неверно указание, что чтение классиков дает мало. На образцовых мастерах слова необходимо учиться, и Редакция давно уже приняла меры, чтобы и эта главная сторона литературного образования читателей пополнялась и развивалась.
В этом же номере журнала читатели найдут литературную задачу № 1—1929 года, поощряющую крупной премией изучение больших писателей. Отыскивая необходимые для решения задачи места из 14 писателей, читатели поневоле прочитают многое, а заинтересовавшись, охотно прочитают уже и больше. Ведь какое многообразие идей и жизненных явлений охвачено этими писателями! Какие сложные колллизии разбирают они! Как различны стили их и художественное оформление!
Нужно учиться у них, а не списывать у них, не для плагиата пользоваться ими, а как образцами и примерами. А силы пробовать— хотя бы и на наших Конкурсах, где каждому добросовестному работнику отдаю гея внимание и забота. Ведь от опытного глаза старых литераторов никогда не укроется кто писал, чтобы «сорвать премию», и кто действительно работал ради самой работы, для того, чтобы положить еще один камешек в фундамент здания, которое задался целью построить.
Полезно напомнить, что всякий труд, всякое упражнение развивают только тогда, когда они систематичны, регулярны. Что толку раз в год «рискнуть» написать, когда тема показалась легкой? Нужно работать каждый месяц, из месяца в месяц.
И, быть может, потому, что большинство участников нашего Систематического Конкурса — люди, стремящиеся к благородной и прекрасной цели, меньшая, чем упомянутая выше, но все же значительная пачка писем этого месяца содержит один и тог ясе вопрос: как приступать к работе, как технически осуществлять ее? Методы, конечно, разнообразны, как разнообразны условия жизни и степень подготовки читателя, но вот, в дополнение к указывавшимся ранее, еще один способ, практикуемый постоянным участником Конкурса и давший ему хорошие результаты.
«Я, — пишет он, — подготовку конца делаю вроде И. С. С., но обычно работу разбиваю на 3 этапа. Первое чтение: я стараюсь, по возможности, отбросить мысль о конкурсе, как лишнюю помеху. Читаю, как любопытный рассказ, чтобы получить цельное впечатление. Первому впечатлению я вообще придаю большое значение (если сразу начать по главам — то из-за деревьев леса не увидишь). Потом доверяю на время дальнейшую работу своему подсознанию. Откладываю книгу на день — два — неделю. Когда я не занят — иду по улице, еду в трамвае, в антракте в театре, — ядро правильного решения выплывает само — но иногда это бывает после вторых чтений. Вторые чтения, — отдельные главы с заметками. После этого проверяю все свои заметки и перебираю в уме все варианты.
Третий этап: сажусь писать и тут все передумывается заново. Легче всего думается, когда пишу, во время даже процесса писания. Приэтом иногда выбрасываю почти все, что заготовил в две предыдущие стадии.
Но если я первую или вторую стадию опускаю — получается хуже, легковеснее».
* * *
На 9-й Конкурс доставлено 58 заключительных глав, из них 11 подписчицами. Только невольным, — по причине, известной читателям, — запозданием выхода книжки журнала и спешностью решений мы объясняем и эго количество их, и общую неудовлетворительность их. Несколько забегая вперед, отметим, что на следующий Конкурс (рассказ «Лесная сказка») прислано 97 заключительных глав.
Каким основным условиям должна удовлетворять хорошая последняя глава такого типично бытового и яркого рассказа, как «Слепцы у Омута»? Заключение должно быть в стиле самого повествования, должно с художественной правдой изобразить естественное, хотя бы и с хирургическим вмешательством, окончание так долго скрывавшегося, зревшего и пухнувшего внутреннего нарыва. Буквально темное царство слепого деда Абрама с его патриархальным господством в глухих дебрях среди слепцов должно было получить луч света. Следовательно, идеологически драма не могла разрешиться только финалом истории Фекти и доктора. Хорошее чутье подсказало это читателям, и многие из них дали именно такое окончание, но, нарушив художественную правду, увлеклись публицистикой. В результате несомненно доброго желания и заслуживающих уважения гражданских чувств, попрана правда жизни. Разве мыслимо, чтобы в веками стоявшем темном царстве, втечение полугода после смерти Слепца, вся округа обзавелась школами, читальнями, лекциями, спектаклями, газетами, радио, учителями и агрономами? Мы выписали почти текстуально одно из характерных решений этого типа. И таких с различными вариантами — не мало.
Нет более строгих рамок, чем у быта, и все, что вне его — должно быть отметено, как ложь, как явная фальшь, хотя бы и с добрыми намерениями. Цветок из бумаги не оживет, если и всунем его проволочным стеблем в горшок с землей. Нужно взять здоровое зерно посадить его и терпеливо ждать. Вот в некоторых окончаниях, извращая быт и содержание рассказа, воспользовавшись намеками автора, что в развязке этой истории приняла участие ячейка молодежи, авторы заключительных глав доходят до абсурда. Например, несмотря на разыгравшуюся драму (Листар задушил Кондратия и проч.; решено было не доводить дело до суда, потому что «комсомольцы решили взять под свою опеку слепцов у Омута». Разве это мыслимо в СССР? Ведь здесь не нарушение партийной дисциплины, а сугубая уголовщина, которую никакой опекой не покроешь. И где были раньше эти многочисленные зрячие комсомольцы, что не видели всей темноты темных людей, их окружавших? Потому — то автор рассказа правильно и осторожно сказал, что доктор хотел использовать ячейку молодежи. Она была еще ячейкой и только ячейкой, еще маломощной и численно, едва пустившей корни в земле слепцов. Также неправильны и другие решения, подставляющие произвол на место существующих в республике норм. Например, доктор «путем логических размышлений» дошел до сути всей истории с Агнией, взял двух милиционеров и «под свою ответственность» арестовал Кондратия. Иу, потом Кондратпй сознался. Как его убедили это сделать — неизвестно. И повода к аресту не было, и доктор не имел права ареста.
Иные читатели, в противоположность этой группе, не заметили вехи, поставленной автором, и совсем не использовали ячейки молодежи, а устроили все дело с помощью одного Листара. Также неверно, потому что где же меланхоличному, угнетенному и отчуждившемуся от мира скорбному человеку оправиться с буйными и полными жизни людьми, которые вогнали его в безысходную тоску.
Художественная, а, следовательно, и жизненная правда на стороне тоге подавляющего большинства решений, которое отводит ячейке молодежи надлежащее место в развертывании событий, как непосредственной участнице инсценировки похищения доктором Фекти. Почти все из этой группы переодевают комсомольца девушкой, чтобы дать повод слепцам повторить предполагаемую трагедию Агнии, но, конечно, с иным исходом. Только один автор вводит комсомолку, как заместительницу Фекти. Комсомолки — отважны, и этот вариант возможен, но менее правдив: ведь девушка, более слабая, чем юноша, больше и рискует при ожидаемом столкновении. Зачем же этот излишний риск?
Характерно, что переодевание, как необходимый драмы, использован большинством. Это — чутье, и хорошее чутье. Слабее — замена Фекти чучелом из мешков, одиночно проскальзывающая среди решений.
Безусловно хорошо и правильно в большинстве решений, что «скотского лекаря» утопили в омуте, привязав камень (камни). В буквальном, и в переносном смысле — сразу все концы в воду. В премируемом решении житейски малоправдоподобно, что копали яму в лесу, зарывали ветеринара и его имущество. И возни, и хлопот много, и мало-ли какой случай возможен, ну, хотя-бы зверь почует, разроет, и преступление будет обнаружено.
Тонко подмечено у большинства, что Агнию, свою, не топили, а она сама тут же бросилась в воду с горя, что погиб ее возлюбленный. У некоторых приведен и допустимый вариант, что Агнию прямо не могли оторвать от трупа. Случайность гибели Агнии, — как написали несколько человек, — ослабление основной темы рассказа, ничем не мотивируемое.
Очень верно подмечено большинством, что инсценировка, задуманная доктором, не может пройти для него самого безнаказанно. Почти все решения этого типа заставляют доктора пострадать ради хорошего дела: то его ранят камнями, то ножом, то топором, то душат и проч. Даром редко что дается в жизни, а при положениях рассказа без риска кровопролития нельзя было выяснить дела, а, следовательно, оказать то или иное влияние на веками сложившуюся обстановку.
По форме повествования заключительные главы разбиваются на две неравные группы: большая отводит преобладающее место действенному изображению развертывающихся событий (приготовления доктора и комсомольцев, встреча в лесу с Мохром и Кондратием, столкновение и проч.), меньшая— дает все это в кратком пересказе, а не в действии, и центром внимания делает судьбу главных лиц. Обе эти формы имеют право литературного существования, но первая — предпочтительнее в рассматриваемом случае, потому что заключительная глава тем лучше, чем она ближе ко всему рассказу, а рассказ веден в живом действии и нет причин изменять в финале общую тональность и темп повествования.
Здесь мы опять сталкиваемся с обычным явлением: чутье подсказывает верный путь, а навык излагать свои мысли, рисовать перед глазами ясную картину происходящего, а потом подвергать ее анализу собственного критерия — отсутствуют.
Отчего бы не попробовать некоторым из участников Конкурса обсуждать написанную главу в семье, среди товарищей? Со стороны — виднее! И Мольер, читавший свои пьесы кухарке, простой необразованной женщине, но одаренной здравым умом и суждением, — право, хороший пример. И это не будет коллективное творчество, которое мы отвергаем на Систематическом Конкурсе, где состязаются индивидуальные лица.
Вот один из многих случаев неудачного использования в основе-то своей верной мысли. Автора не называем, как и всегда, когда нужно указать добросовестную ошибку. — Произошло предвиденное нападение в лесу у омута. Связали доктора и мнимую Фектю. «Фектя» уже изрядно подралась. Привязали к туловищу камень, потащили к воде. Решили топить обоих вместе. Стали раскачивать и считать: «раз, два, три… с ближних деревьев посыпались мои бравые комсомольцы»… Сцена не естественная, а противоестественная, с никчемным, дешевым, театральным эффектом. Бравые комсомольцы все видели, сидя на деревьях, спокойно смотрели на неравную борьбу и победу негодяев и потому сразу, «под занавес», спрыгнули? Ходульность очевидная. Настоящие комсомольцы такого фарса не разыгрывали-бы, а вмешались бы во время.
Но попадаются в изображениях этой части и хорошие места, хорошо выработанные детали. Например: доктор и месимая Фектя сели в телегу поближе к Савелию, чтобы в случае нападения нельзя было целиться, хотя в задней стороне телеги и была наложена мягкая трава для сиденья.
И на ряду с такими обдуманными местами у одних — явные нелепости у других, свидетельствующие, что плохо и невнимательно прочитан и усвоен рассказ. Даже премия в 100 рублей не соблазнила человека хорошенько прочитать несколько страниц! У одного доктор почему-то поехал верхом в лес на неизвестно откуда взятой лошади, у другого — лошадьми правит не Савелий, а Мосей. Или: обоих участников инсценировки — комсомольцев убили, а затем герой доктор один повел двух здоровых мужиков в милицию. Или: комсомольцы ничего не сделали, а Фектю и Листара изверги утопили. — Плохую шутку сыграл доктор: к прежним двум насильственным смертям прибавил еще две!
Судьба действующих лиц у различных авторов различна. Но опять чутье подсказывает многим, что смерть патриарха может изменить в корне быт лесного мирка. И авторы то заставляют Листара, узнавшего, кто главный виновник смерти его Агнии, покончить с дедом Абрамом, то он сам бросается с плотины под мельничные колеса, то умирает от разрыва сердца, когда видит, что все разоблачено, то умирает в изоляторе, куда попал после показательного суда и т. д. Вариантов много, и все они более или менее правдоподобны и литературно приемлемы, кроме одного, где Абрам, в результате сложной и запутанной интриги, на которую нет ни малейшего намека в рассказе, делается жертвой Кондратия.
Или вот опять театрально-эффектный финал, противоречащий всему содержанию и обрисовке действующих лиц. Кондратий хотел порешить старика из-за приданого Агнии… «Доктор через несколько дней входит в келью старца с Фектей… Он переставал уже быть чужаком…» Ведь вся-то суть рассказа в том, что слепцы никого не пускали в свою среду, а жили строго обособленным мирком, их жизненный уклад зиждился на отчужденности, при которой только и возможна была патриархальная власть Абрама.
И в судьбе Фекти, по мнению участников Конкурса, много вариантов, не лишенных жизненного правдоподобия. То она становится женою доктора и он надеется вернуть ей зрение, то доктор отвозит ее в Москву или Ленинград, где она поступает в школу для слепых, то она остается в деревне и близко принимает к сердцу культурные новшества, то продолжает одиноко бродить по лесу и ей чуждо все новое. В каждом из этих решений есть своя логика, может быть своя доля правды.
Неправда великая в решении, где доктор отвозит Фектю в город «лечить уколами», потому что «все слепцы больны луэсом и их слепота наследственный результат этой болезни». Откуда автор взял это? Откуда другой дознался, что слепцы у Омута — секта изуверов, основывающаяся на известном евангельском тексте и выкалывающая глаза своим здоровым сочленам, чтобы глаза не соблазняли их? В нашем сектантстве бывали такие единичные примеры самоистязания. Есть несколько произведений в мировой литературе с таким сюжетом. Есть и у нашего Лескова поэтичный и красочный рассказ на подобную тему из древней жизни. Но в то время, как известно существование таких страшных сект, как скопцы, самосожигатели, дырники и проч., никто никогда не слыхал об искусственной слепоте, как об экстатическом проявлении массового религиозного чувства. И не имея под ногами исторической почвы, нельзя такие вещи выдумывать и пользоваться ими в реалистической беллетристике.
Автор и Редакция давали большой простор фантазии участников в решении этой литературной задачи, но ведь фантазия имеет свои логические, границы, и полет ее не может быть безудержным. Вот один сделал открытие, что старик пишет историю всего рода их на «испыранто» и в этом его сила. Пусть будет и невероятное здесь эсперанто, но «испыранто» совсем уж существовать не может, ибо этот искусственный язык пользуется латинским алфавитом, и кто занимается практикой этого языка не может не произносить буквы отчетливо правильно: иначе его просто не поймут, хотя и понимают исковерканною речь на любом живом языке в виду его гибкости и свободы.
Останавливаясь на деталях изложения, сделаем одно общее замечание: никогда не следует смешивать, сводить воедино две противоположные формы мышления: образную и техническую. Или — живой образ, или — мерка. Вот образчик. Некто пишет, что доктор и комсомольцы нашли себе в лесу приют «под гостеприимной сенью огромного дуба, закрывающего своей тенью пространство в несколько десятков метров в диаметре». Сенью и тенью — рядом не годится, а соединять «гостеприимную сень» с диаметром и метром — невозможно: это несоизмеримо, как несоизмеримы лирическое стихотворение и статистический доклад. Такие промахи нередки, и потому мы указали на этот, как на типичный для ряда случаев.
Нужно сказать, что читатели воспользовались в широкой мере свободой заполнения недостающей главы и выткали множество разнообразных узоров, расцветив их по своему вкусу. Немыслимо привести все образцы. Но, к сожалению, нет ни одного решения, которое можно было бы назвать всесторонне хорошим. Все они страдают недостатками в той или иной степени, в той или другой стороне своей. И в интересах справедливости Редакция вынуждена наградить только половинной премией печатаемое здесь окончание. Не желая, однако, этим путем уменьшать общую ассигнованную сумму премий, Редакция присоединяет 50 руб. к премиям следующего Конкурса.
В. Б.По присуждению Редакции, половинную премию в сумме 50 руб. на Конкурсе № 9 Систематического Литературного Конкурса 1928 г. получает
ТИНА БЕРНАРДОВНА КОЛОКОЛЬЦОВА,
подписчица в г. Ростове-на-Дону, за следующую заключительную главу к рассказу
= СЛЕПЦЫ У ОМУТА =
Дома я застал перепуганного Мосея.
— Внучка… Фектя-то… пропала, слышь… От бабки вечор пошла к слепцу, — да и не воротилась. И у Слепца, слышь, небывала! Что ты скажешь, какие дела? Не в Омут ли ткнулась, не плошь Агнюшки? Ведь что Слепец-то удумал — слыхал? За Мохра замуж наказал Фекте итти! Эку девушку, да за поганца за такого! Порешила она себя, а? Как по-твоему?
Слезы сбегали по морщинам на голландскую бородку. Мне жаль было беднягу, но я радовался, что Фектя так хорошо спрятана. Я притворился взволнованным, стал ахать, расспрашивать. Потом выпроводил старика.
Время бежало. Я волновался. Как-то удастся моя инсценировка? Поспеют ли во время мои артисты комсомольцы? Помнят ли они свои роли? Я знал, что иду на смертельную опасность. По инсценировке Слепца, я должен быть убит за намеренье похитить кержацкую девушку, — как был убит (я не сомневался в этом) — «скотий доктор». Я крепко надеялся на придуманный мною «вариант» — но как знать…
Когда начало темнеть, я захватил чемодан и пошел знакомой тропинкой к дороге возле Омута. Не скрою: мне было жутко.
Я был уже близко от реки, когда услыхал слева от себя легкий свист. Ему отозвался такой же свист впереди. Тихо шуршит хвоя под моими ногами… кроны сосен — черное кружево на голубизне лунного неба… Тишина. Из-за стволов блеснула река с лунным столбом, трепещущим на легкой ряби… Заржала лошадь. Кто-то негромко сказал: «Н-но, шали»! Я подошел к лошадям. Они были привязаны к дереву.
— В город собрались, барин хороший? — Я обернулся. Передо мной стоял пьяный или притворявшийся пьяным — Мохор.
— У нас место дикое, лесное — господам, образованные которые, — скучно. Дозвольте садиться, ваше благородие.
Сквозь нарочито подхалимский тон явно слышалось злобное издевательство.
— Не беспокойтесь, — спокойно сказал я, — обойдусь без вас.
— Слышь, Кондратий, барин не согласен! И с чего бы, кажись? Кучер я знаменитый…
Рядом с Мохром выросла крупная фигура Кондратия.
— Лошадей мы без своего человека не отпустим. Ты их там покинешь в городе неведомо где. А то запалишь дорогой.
— Лошади не ваши и не ваша забота, — резко оборвал я, — я поеду один!
— Поедешь ли? — зловеще прошипел Кондратий.
Они оба двинулись ко мне. Не знаю, что они собирались сделать, но в этот миг мы увидели вышедшую на дорогу женскую фигуру. Она шла уверенным шагом, слегка вытянув вперед руки. Белый платок наполовину скрывал ее лицо.
— Ага! Вот они, делишки-то какие! — заревел Мохор, — это, стало быть, господа образованные наших девок воровать будут! А ты, стерва, что это удумала? Ай в Омут с ним вместе захотела?!
Мохор двинулся к остановившейся в нескольких шагах фигуре. Она точно поджидала его…
Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. «Фектя»-комсомолец ловким боксерским приемом хватил Мохра под подбородок… Мохор, не пикнул, грохнулся на землю. Я бросился на помощь «Фекте». Но тут что-то толкнуло меня в спину.
Быстро повернувшись, я поймал руку Кондратия: он собирался второй раз ударить меня ножом.
Завязалась борьба. Кондратий уронил нож и тянулся, стараясь ухватить меня за горло. Я терял силы. В голове шумело и звенело. По спине текло что-то, в затуманившемся сознании мелькнуло: «я ранен».
_____
Я медленно поправляюсь. Ухаживают за мной мои друзья комсомольцы. Насколько я могу судить — легкое не очень глубоко Задето. Я уверен, что выздоровею, потому что жадно хочу жить!
Фектя сидит рядом Она гладит мою руку и смотрит на меня прекрасными, невидящими глазами, чувствуя мой взгляд — пунцевеет и опускает голову.
Мне уже рассказали, как закончилась моя инсценировка! Мохра и Кондратия отвезли в город, в тюрьму. На допросе Мохор совсем растерялся и спутался. Куда девались наглость и ухарство! Прижатый к стене вопросами следователя, он сознался в намерении убить меня, причем слезно поклялся, что его подговорили Абрам и Кондратий. Начав каяться, Мохор уже не мог удержаться и сознался также и в прошлогоднем убийстве ветеринара. Он указал место в лесу, где они с Кондратием зарыли убитого и его чемодан.
Тут выяснилось, что Агнюшка сама бросилась в Омут, увидев, что убили Михаила Ивановича. Я порадовался за Листара: теперь он избавится от навязчивой идеи, что Агнтошку убили «злые люди».
Как я и опасался, мои артисты-комсомольцы немножко запоздали и схватили Кондратия, когда он уже успел ранить меня.
На допросах Кондратий упорно отрицал свое участие в убийстве ветеринара, но когда ему показали разложившийся труп в яме — он не выдержал:
— Что ж. нашел меня господь! Судите, добрые люди! Мой грех!
Постановщик двух кровавых инсценировок, праотец Абрам, когда узнал о провале, не вымолвил ни слова. Волостная милиция, явившаяся арестовать Слепца, нашла его сидящим на завалинке игрушечного домика. Он был мертв, и мертвый — величав.
Я не уеду отсюда. Здесь для меня найдется много дела. Здесь столько слепых, — слепых не только физически. Может быть мне удастся научить их видеть.
Как хороша жизнь, когда молод! Как хорошо чувствовать, что еще долгая, долгая жизнь впереди! И, может быть, счастье…
Т. Колокольцова.Систематический Литературный Конкурс 1929 г.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАДАЧА № 1
ПРЕМИЯ В 100 РУБЛЕЙ
Предлагаем вниманию читателей рассказ, составленный из отдельных выдержек сочинений следующих 14 писателей: КАРАМЗИНА. ПУIIIКИНА, ЛЕРМОНТОВА, ГОГОЛЯ, ДОСТОЕВСКОГО, ТУРГЕНЕВА. ЛЬВА ТОЛСТОГО, ГРИГОРОВИЧА, ГЛЕБА УСПЕНСКОГО, ЛЕСКОВА, САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, ГАРШИНА, ЧЕХОВА и ГОРЬКОГО.
Нашему сотруднику предстояла нелегкая задача составить связное повествование, пользуясь отдельными отрывками из разнохарактерных писателей, принадлежащих к различным эпохам, отличающихся по стилю, по манере письма. Составитель стремился, по возможности, ничем не потревожить текста писателей и сохранить их пунктуацию — расстановку знаков препинания.
Всего-навсего внутри текста заменено 5 авторских слов, вычеркнуто—1 и вставлено 2 слова. Отдельных цементирующих фраз для связи вставлено 20 или 142 слова, считая предлоги и союзы.
Подписчикам предлагается указать, из какого писателя взят каждый кусок рассказа, т. е. обнаружить свою литературную начитанность, память и внимание. Кто не читал того или другого из перечисленных 14 писателей— может теперь воспользоваться случаем пополнить свое образование.
ЗА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗАДАЧИ РЕДАКЦИЯ УПЛАТИТ ПРЕМИЮ В 100 РУБ.
В случае получения двух или нескольких безупречно правильных решений, простой жребий определит, кому достанется премия.
Если не будет прислано (мы не хотели бы этого думать!) полного решения, то половинная премия, т. е. 50 руб. будет выдана за максимальное количество отдельных, правильно указанных цитат. В случае совпадения таких решений у нескольких подписчиков, между ними будет брошен жребий.
Желая, чтобы возможно большее количество подписчиков приняло участие в этой работе и, таким образом, познакомилось более основательно с произведениями больших писателей, мы даем продолжительный срок для присылки решений.
ВСЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ В РЕДАКЦИИ ЕЕ ПОЗДНЕЕ 15 Апреля 1929 г.
Технически решение нужно выполнить так. Переписать рассказ «Записки неизвестного» на машинке или четко и разборчиво чернилами, оставив поля. На полях, против каждой цитаты из автора, проставить его имя «название сочинения, из которого выдержка приведена. Кроме того в самом тексте должны быть подчеркнуты слова, не принадлежащие цитируемому писателю, а вставленные составителем рассказа в видах цементирования отдельных кусков или для того, чтобы рассказ тек более плавно.
Фамилии всех читателей, решивших задачу сполна или в преобладающей части, будут напечатаны в журнале.
…………………..
Уже были готовы корректуры рассказа-задачи «Записки неизвестного», когда газеты опубликовали замечательную речь М. И. Калинина на всесоюзном совещании рабселькоров. Приводим выдержки из этой речи, подтверждающей необходимость изучения классиков и работы над собою.
«Влияние корреспондента на окружающую среду — говорил М. И. Калинин, — зависит от его умения наблюдать и обобщать наблюдения. А для того, чтобы хорошо выполнить эти функции, надо изучить русский язь;к и изучить основательно, хорошо. Те, кто думает, что можно без этого обойтись, жестоко ошибаются. Тот, кто хочет постоянно общественно влиять, — а я полагаю, что каждый рабкор и селькор стремятся к этому, — должен знать язык, а для того, чтобы знать язык, надо, в первую очередь, читать наших классиков, надо учиться у классиков работать над собой. Толстой, например, прежде чем писать какую-нибудь вещь, выполнял ее в пяти-десяти вариантах. Да и каждый человек знает это по себе — чем больше работаешь, тем лучше выходит. Я вот про себя скажу. Если, например, к докладу я готовлюсь долго, — он выходит много лучше, а главное короче».
…………………..
ЗАПИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО
Я давно хотел начать свои записки… Не могу отделаться от своих воспоминаний, и страшная мысль пришла мне в голову. Может быть, если я изложу их на бумаге, я этим покопчу все свои счеты с ними… Может быть они оставят меня и дадут спокойно умереть. Вот страшная причина, заставившая меня взяться за перо.
По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить секретарем к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. Было ему около тридцати пяти лет и звали его Георгием Ивановичем.
Это — мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамляют узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками. Челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам.
Он производил впечатление гласного идиота.
Идиоты вообще очень опасны и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним.
Помнится, где-то у Шекспира говорится о «белом голубе в стае черных воронов». Подобное впечатление произвела на меня его жена среди окружающих ее людей. Чрезвычайно густые, черные волосы без всякого блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий выпуклый лоб, орлиный нос, зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации…
Я вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня… Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне… Я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию… Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие, темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному, белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке…
Но вместе с тем чувствовалось, что она глубоко несчастна.
_____
Однажды я вошел и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась… все лицо ее было облито слезами.
Она плакала какими-то мертвыми слезами. О таких слезах никто не рассказывал ни в одной истории, ни в одной сказке. Обыкновенно думают, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, «горючая», как называют ее сказки и былины нашего эпоса… Но есть еще другие слезы, хотя их нельзя назвать горючими, во они заставляют вас трепетать, когда текут по женским щекам… Она застыла, и ее слезы падают оледенелыми…
Не будучи замеченным ею, я тихо вышел из комнаты.
_____
Я долго не мог заснуть и беспрерывно переворачивался с боку на бок. Дремота начала, наконец, одолевать меня. Вдруг мне почудилось, как будто в комнате слабо и жалобно прозвенели струны. Я приподнял голову. Луна стояла низко в небе и прямо глянула мне в глаза. Белый, как мел, лежал ее свет на полу… Явственно повторился странный звук… Я оперся на локоть… Легкий страх щипнул меня за сердце, — прошла минута, другая… Где-то далеко прокричал петух; еще дальше отозвался другой.
Спустя немного я заснул — или мне показалось, что я заснул. Мне привиделся необыкновенный сон. Мне чудилось, что я лежу в моей спальне, на моей постели — и не сплю, и даже глаз не могу закрыть. Вот опять раздался звук… Я оборачиваюсь… След луны на полу начинает тихонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху… Передо мной, сквозя, как туман, неподвижно стоит белая женщина.
— Кто ты? — спрашиваю я с усилием.
Голос отвечает, подобный шелесту листьев — Это я…я…я… Я пришла за тобой.
— За мной? А кто ты?
— Приходи ночью на угол леса, где старый дуб. Я там буду.
Я хочу вглядеться в черты таинственной женщины — и вдруг невольно вздрагиваю: на меня пахнуло холодом. И вот я уже не лежу, а сижу в своей постели — и там, где, казалось, стоял призрак, свет луны белеется длинной чертой на полу.
_____
Летом я поехал с Орловыми в деревню.
Ехали сначала по железной дороге, потом на почтовых, перекладных. К ночи приехали мы на место. Весь день я боролся со своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастье, и я только мог на время забывать его, но оно было там, на дне души, и владело мною.
Дом у Орлова был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы.
Я поселился во флигеле.
_____
В одной трагедии Вольтера какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния.
Лето приходило к концу. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая к Орлову; всякий день моей новой жизни оказывался пропащим и для меня, и для моего дела… Согни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал… Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой чемодан и уходить.
_____
Орлов еще вчера уехал к соседу. Под вечер мы бродили с ней у околицы. Серенькие тучи покрывали небо, холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев.
Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененное ни единым деревцом. От роду не видал я такого печального кладбища.
Разговор наш начался злословием: я стал перебирать наших знакомых, сначала выказывая смешные, а после — дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Сперва это се забавляло, а потом напугало.
— Вы опасный человек, — сказала она мне. — Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычек… Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня — я думаю, это вам но будет очень трудно.
— Разве я похож на убийцу?
— Вы хуже…
Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко-траурный вид:
— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились…
В эту минуту я встретил ее глаза; в них бежали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала…
День между тем клонился к вечеру, солнце село; золотистые хребты туч, бледнее на дальнем горизонте, давали знать, что скоро наступят сумерки. Подошва горы, плоские песчаные берега, монастырь и отмели остались уже тенью; одна только река, отражавшая круглые облака, обагренные последними вспышками заката, вырезывалась в тени алой сверкающей полосой. Осенний ветер повеял холодом и зашипел в колеях дороги. Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, ни мало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались словно утки в грязи по колени; между ними находилось несколько девочек с грудными младенцами на руках. Семи или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую, когда уже чересчур забирал их холод, но все-таки не покидали веселого сборища; некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским кожухом, молча и неподвижно глядели на играющих.
На возвратном пути я не возобновлял нашего начального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.
— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.
Она посмотрела на меня пристально, покачала головой и опять впала в задумчивость; явно было, что ей хотелось что то сказать, но она не знала с чего начать; ее грудь волновалась…
_____
Утром девочка дет 12 передала мне записку:
«…я не могу больше жить, если не скажу вам того, что родилось в моем сердце… Но как я вам скажу то, что я так хочу сказать? Бумага, говорят, не краснеет, уверяю вас, что Это неправда и что краснеет она так же точно, как и я теперь вся. Милый, я вас люблю… и люблю на нею жизнь…
Умоляю вас, милый, если у вас есть сострадание ко мне, когда вы войдете завтра, то не глядите мне слишком прямо в глаза…
Я сегодня непременно буду плакать…
_____
Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительно права — не самая ли эго сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если бы меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствия мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы не захотелось приложить ее к действительности. Идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма, есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует…
_____
Она пришла ко мне. Под вечер я сидел у окна за мольбертом и набрасывал этюд сада.
Легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся — го была она… Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался иве чудно нежен… Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее бесцельно бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание…
— Вам тяжело? — начал я, чтобы что-нибудь сказать. — Он вас мучает? Ревнует?… Как Отелло?
Она покачала головой:
— Ревность! «Отелло не ревнив, он доверчив», заметил Пушкин… У Отелло просто размозжена душа и помутилось все мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать: он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтобы он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец без всяких угрызений совести…
Она вдруг перестала говорить и страшно побледнела, устремив глаза ко входу… Я обернулся. В дверях стоял Орлов.
— Не ждали? — сказал он, заикаясь.
Я вскочил на ноги и стал против него. И мы стояли так долго, меряя друг друга глазами. Он был действительно способен навести ужас. Бледный, с красными воспаленными глазами, с ненавистью устремленными на меня, он ничего не говорил; его тонкие губы только шептали что-то, дрожа… Он повернул ключ, сильным движением оттолкнул меня и стал в угрожающую позу. Надежда Николаевна вскрикнула. Я видел, как он переложил ключ в левую руку, а правую опустил в карман. Когда он вынул ее, в ней блестел предмет, которому я тогда не успел дать названия. Но вид этого предмета ужаснул меня. Не помня себя, я схватил стоящее в углу древко, и когда он направил револьвер на Надежду Николаевну, с диким воплем кинулся на него. Все покатилось куда-то со страшным грохотом… Тогда началась казнь…
Я не знаю, сколько времени я лежал без сознания. Когда я очнулся, я не помнил ничего. То, что я лежал на полу, то, что я видел сквозь какой-то странный сизый туман потолок, то, что я чувствовал, что в груди у меня есть что-то, мешающее мне двинуться и сказать слово, — все Это не удивило меня…
И вдруг яркий луч сознания озаряет меня и я сразу припоминаю все, что случилось… Он убил ее… Он убил и меня…
Собрав силы, я приподнялся и увидел ее лицо. Глаза ее были закрыты и она была неподвижна. Я почувствовал, как волосы шевелятся на моей голове… Я упал к ней на грудь и покрывал поцелуями это лицо, полчаса тому назад полное жизни. — Теперь оно было неподвижно и строго; маленькая ранка над глазом уж не сочилась кровью. Она была мертва.
_____
Я остался с тревожным хаосом в голосе, с возмущенной душой, а через несколько минут почувствовал, что морг мой плавится и кипит, рождая странные вопросы, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия… Жуткие ночи пережил я. Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной бездонной чаши, опрокинутой на бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные науки, а ветви и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а за нею стремительно несется рогатая голова совы, — вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно. И в этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой…
_____
Больного, неоправившегося меня потащили в суд. Была уже зима. Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотой воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные своим величием, поспешив и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла.
Все шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эти правильность, последовательность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное общественное дело.
Орлов ничего не отрицал и не пробовал оправдываться. Между прочим он сказал:
— Подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню эго выражение потому, что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть не случилось бы того, что случилось, но в выражении ее лица было, — по крайней мере, так показалось, мне, — было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним…
Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, — это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Всякую секунду я знал, что я делаю…
Орлова оправдали.
_____
Я узнал:
Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле.
_____
Чепуха совершеннейшая делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия.
_____
Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что нс верил. Это он сам про себя написал, т. е., это же он мог бы сказать про самого себя.
_____
— Вам какие книги надо?
— Да лишь бы пофундаментальнее.
— Ну, вот выбирайте… Вот журналы не хотите ли?
— Нет, это все мимолетное.
— А вам надо не мимолетное? Да?
— Да, уж что-нибудь по… того, поздоровей…
— Поздоровей вам? Не хотите ли взять вот Шлоссера: это, я думаю, будет довольно здорово…
— Это что такое Шлоссер?
— История.
— Мне бы только, Иван Иваныч, с самого начала… что нибудь…
— Да вот, что тут? «Греки»… вот тут с самого начала…
— То есть, как вы говорите — «с самого начала». С самого начала только греческая история?
— Только одна греческая… А вам что же?
— А раньше греков нет ли чего?
— Разумеется, есть. Вот, история Индии. Это раньше греков.
— А еще чего не было ли раньше?
— Только уж я не знаю, что же бы вам такое? А не хотите-ли «До человека»?
— Это книга такая?
— Книга… Понимаете… «До»!.. Уж тут самый корень.
— Вот, вот, вот! Да! Это самое и есть. Ну, дай вам бог здоровья. Сей час примусь. Вот это мне и нужно… А то что ж мне, ей богу, — журналы там? Уж ежели поправляться, так уж надо все заново…
Телом женщина прекраснее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе? а Руссо лгал — и верил.
_____
Вычитал истину, которая стоит всех истин на свете:
Бог есть мое желание.
_____
На этом обрывается тетрадка, найденная при больном, доставленном в психиатрическую лечебницу, личности коего не удалось установить» Сначала он был покоен, но потом припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткой, овладела им так свирепо, что в три дня осталась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его.
Под вечер третьего дня он умер от удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту, что-то отвратительное, как казалась, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Потом все исчезло и он забылся навеки.
Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его
…………………..
Правила участия в Конкурсе 1929 г. см. на 28 стр. этого номера, в §§ 2, 3, 4, 5.
ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ
Рассказ Л. Оливера
Иллюстрации Е. Осмонда
За исключением мистера Сиркитля, баптистского пастора, у Болтов не бывал в гостях никто. К ним заходили только по делам. И хотя мистер Сиркитль и отрицал бы это перед собственной совестью, причиной его аккуратных, но редких посещений была главным образом забота о церковных нуждах.
Единственным проявлением расточительности, которое позволял себе Амос Болт, было ежегодное пожертвование в два фунта[4] на поддержку баптистской церкви.
Молва говорила, что Амос Болт — богатый человек. У него, конечно, была самая большая ферма в округе, 450 акров прекрасной земли, прекрасно возделываемой, новейшие машины и такие отличные подстройки, каких нельзя было найти во всей местности. Большие часы, вделанные в стену над каменным коровником, отмечали приход и уход работников. А каждое утро Амос Болт был на ногах, чтобы видеть, как они начинают работу. Для всякого человека, нанимавшегося на Брук Фарм[5], каждый день был, действительно, рабочим днем. Возраст, болезнь, долгая служба, ничто не спасало человека от расчета, если силы его ослабевали. Силы Амоса Болта не ослабевали никогда.
Мистрис Болт умерла, когда Эми едва исполнилось девять лет. Других детей не было. Эми росла одна в старом, тщательно содержавшемся фермерском доме. Одна, потому что никто не мог счесть мистрис Гатлинг за общество, а сам Амос Болт никогда не тратил понапрасну слов и не выказывал своих чувств даже к дочери. Мистрис Гатлинг, глухая, молчаливая, вечно раздраженная своим пьяный мужем, ежедневно приходила на ферму убирать и готовить, за что получала еженедельное жалованье в десять шиллингов[6]. Она прекрасно исполняла все это втечение шести лет, не пропустив ни одного дня по болезни или ради развлечения, пока Эми не исполнились пятнадцать лет и она не научилась готовить мясо и печь пироги. Тогда мистрис Гэтлинг рассчитали и Эми было сказано, чтобы она делала ее работу. Готовила Эми не так хорошо, особенно вначале, но Амос Болт сберегал десять шиллингов в неделю.
Кроме домашней работы, на попечении Эмм был и птичник около пятисот цыплят, несколько уток, гусей и индейских петухов. А когда один из рабочих заболевал или по другой причине получал немедленный расчет, подразумевалось, что Эми если и не заместит его, то все же может заполнить пробел и возьмет на себя и какую-нибудь работу по ферме. Она часто исполняла работу коровницы.
Эми не любила отца и не ненавидела его, а просто боялась. Их отношения были почти такие же, как между хозяином и прислугой. Она слушалась его, никогда не спорила, да и редко разговаривала с ним. Сидя друг против друга за кухонным столом в будни и за столом красного дерева по воскресеньям, отец и дочь молча ели свой бед. Эми никогда не могла забыть, как он побил ее, когда еще маленькой девочкой она продолжала говорить, когда он сказал ее замолчать. Он пустил в ход легкую тростниковую трость и рубцы оставались на спине Эми почти две недели.
Когда Эми исполнилось девятнадцать, Амос Болт сказал:
— Тебе сегодня девятнадцать лет, правда? Растешь! Я хочу тебе дать денег. Ты должна узнать цену деньгам и лучше начать теперь же.
Он давал ей три фунта первого числа каждого месяца на одежду, мелкие расходы и для помещения в почтовую сберегательную кассу. Он поучал ее, чтобы она откладывала, на крайней мере, половину.
Года два после этого, когда ей было около двадцати одного года, Эми встретила в жаркое июньское воскресенье Дика Меррелл. Эми навсегда запомнила точное время и место этой встречи. Люди говорили про нее, что она скупа. — Такая же, как отец; скоблила бы дорогу руками, чтобы найти грош.
И говорили, что она гордая.
— Никто не хорош для нее.
Во многом она, действительно, была похожа на отца. Она унаследовала его красоту, его силу, его суровые черные глаза. И она была также сдержанна, как он, не искала ничьей дружбы. Единственное дитя, выросшее в одиночестве, она считала, что одиночество это в порядке вещей. Иной раз в воскресный день кто-нибудь из деревенской молодежи пробовал подойти к ней, но ей всегда были неприятны неловкость, полунервность, полугрубость, которую парни вносили в свои любовные дела.
Это превзошло, когда Эми возвращалась от старой тетки Бетти. Он стоял возле дороги, прислонившись к изгороди, смотрел на Эми и улыбался. Эми на мгновение остановила на нем свои черные глаза. Потом вдруг смутилась и поспешила мимо его дерзкого, красивого лица.
— Идете домой? Мне по дороге о вами!
Ей нравился его голос. В нем точно был скрытый смех и в тоже время он был почтителен, мягок. Ей нравились его светлые волосы, кудрявые, спутанные, с рыжеватым оттенком. И манеры такие не похожие на то, что ей уже приходилось встречать и отталкивать. Дик Меррель не был похож на других молодых людей.
Она улыбнулась, кончики ее полных, красных губ поднялись, темные глаза вдруг засияли…
Было половина одиннадцатого, когда она вернулась домой. Но она не боялась. В первый раз в жизни она чувствовала себя равной отцу.
На кухонном столе были остатки его ужина. Сам он ушел в комнату, которую называл «конторой». Тут он хранил свои бумаги и расчетные книги и принимал по делам торговцев. Эми подметала и убирала эту комнату каждый четверг, но никогда в другое время не бывала в ней. Комната эта едва входила в план ее жизни. Это — было просто «там», место, куда отец уходил каждый день после ужина. Он никогда не звал ее туда с собой.
Но сегодня все было иначе. Она подошла к двери, постучала и вошла.
Отец сидел за большим столам посреди комнаты, и она заметила, как подозрительно он прикрыл кучку денег, лежавшую на зеленой скатерти. Она заметила и то, что это была кучка золота, а рядом лежал замшевый мешочек.
Он взглянул на нее и нахмурился.
— Что тебе нужно? — грубо спросил он.
Но она, все-таки, не испугалась. Необычно было, что она спокойно встречалась глазами с его взглядом, рассматривала его и критиковала его манеры.
Она стояла в дверях и рассказывала ему про Дика Меррелл. Ей и в голову не пришло скрыть это от него. Она совершенно откровенно сказала, что снова встретится с Диком на следующий день Она говорила спокойно, без следа самоуверенности.
Амос Болт откинулся на спинку стула и — следил за ее лицом. Он как будто понимал ее новый тон, эту внезапную смелость и доверчивость. В глубине сердца он любил ее. Она была его дочерью, большой, сильной и решительной, как он сам. Она не хуже сына могла унаследовать его фэрму и его деньги. Но этот человек, этот Дик Меррель, каков был он?
— Это не сын Джорджа Мерреля? — спросил он. — Джорджа Мерреля из Чиплинга? Он негодный человек.
— Кто негодный человек? — возмущенно спросила она.
— Его отец — если Джордж Меррель его отец.
— Мне все равно, кто его отец. Я выйду замуж за Дика.
Это было спокойное подтверждение факта. Она решила выйти за него замуж. Как и отец, она быстро принимала решения и, как и у него, у нее была сила воли добиваться того, чего она хотела. То, что она всего три часа назад встретила Дика, было безразлично. Не имело значения и то, что они ничего нс говорили о браке, что она еще не знала мнения Дика по этому поводу. Он целовал ее, — несколько раз. И она целовала его горячо и жадно, обняв его за шею сильными руками и прижав к его губам красные, нежные губы. Она целовала его. Он был ей нужен. Этого было довольно.
Амос Болт ничего не ответил. Он просто снял руку с кучки золота на столе.
— У меня есть еще, — сказал он, — гораздо больше этого.
Он говорил вкрадчиво и таинственно и глаза его смотрели весело и хитро. Она никогда не видела его таким прежде. Может быть, и он изменился? Или она просто видела все и всех в новом свете?
Он встал и прошел к большому дубовому шкафу, вделанному в стену возле камина. Эми никогда не видела внутренности этого шкафа, но смутно знала, что он держал в нем «бумаги». И она часто удивлялась, почему в шкафу два замка. Амос вынул из кармана связку ключей, повернул замки, открыл дверцу и подозвал дочь.
Верхняя полка была набита пачками денег, аккуратно перетянутыми резинками. Эми удивленно смотрела на них.
— Видишь? — шептал он. — Видишь? В каждом пакете сто фунтов. Тридцать два пакета.
Голос его взволнованно дрожал, и Эми заметила, что руки его слегка трясутся.
Од указал на вторую полку.
— Акции, закладные… И в банке тоже есть деньги, почти столько же.
— Я думала, что люди держат все свои деньги в банке, — Эми вспомнила, как отец наставлял ее «откладывать каждое пенни туда, где оно лежит в сохранности».
— Иногда, пробормотал он, — иногда, — и он торопливо закрыл и запер дверь шкафа.
Эми как-то чувствовала, что ему не хотелось, чтобы она слишком заинтересовалась шкафом.
— Как странно, — подумала она, — держать тут столько денег.
Она просто отметила это, как необычный факт, про самые же деньги она и не думала. Они не казались ей настоящими деньгами.
— Все это будет когда-нибудь твоим, — сказал отец. — И еще больше денег. Мне еще только шестьдесят девять лет. Гожусь еще лет на десять. Могу еще накопить много денег.
Он говорил все тем же странно взволнованным голосом и положил ей на плечо костистую руку.
— Ты видишь, что у меня есть, — продолжал он. — Видишь, что ты получишь? Ты можешь выйти замуж только за человека. который стоит всего этого. Слышишь? За человека, которому я буду доверять. За человека, который поможет тебе сберечь это, прибавит к этому. Ни один из этих пьющих и транжирящих парней! Человек, который станет работать и сберегать деньги!
Он ближе склонился к ее лицу и крепче сжал ей плечо.
— Не смей и заикаться об этом. Никто не должен знать. Никто. Понимаешь? — потом пробормотал: — Приведи мне завтра этого Дика Меррелл.
Шесть месяцев спустя Дик и Эми были женаты. Амос Болг не только дал свое согласие, но даже торопил со свадьбой. Дик был сильный и здоровый с виду, он не пил и мог работать почти столько же, сколько сам Амос. Правда, он не был так бережлив.
— Но он образуется, — думал Амос, — он образуется.
Дик был беден, он был сыном негодного отца, не мог увести Эми в свой дом, как это сделал бы другой человек. Ему пришлось переехать к жене в Брук Фарм, переехать к Амосу Болту, который сделал его у себя старшим работником и платил ему три фунта в неделю. Хороший работник. Дешевый!
Дик был хороший работник и… дешевый
Но когда прошло три года и Эми не обнаруживала никаких признаков материнства, Амос стал косится на своего зятя.
— С парнем что-то не ладно, — думал он.
Это не могло быть виной Эми. У нее была великолепная фигура, полная грудь, сильные, округлые члены, — тут не могло быть никакого порока.
Он мысленно строил планы на будущее, когда Эми и Дик женились. Внук, которому перейдет его имя, Болт. Может быть два внука. Не больше. Он даже опасался, что Эми окажется слишком плодовитой. Он говорил своему зятю:
— Не больше двух. Больше вам не по средствам.
Но ни одного! Ну, и зять! Люди судачили в деревне, смеялись. Он знал это. Гордость его страдала.
Четыре года спустя после их свадьбы, в феврале, Дик простудился. Он был неосторожен. Предпочитал старые, удобные сапоги непромокаемым. Он считал себя слишком крепким, чтобы простудиться.
Эми, как и Амос Болт, не знали ни одного дня болезни с самого детства. Она никогда же думала о том, что люди могут заболеть. и меньше всего представляла себе больным Дика. Она заметила его простуду, но это не обеспокоило ее, Амос же тотчас заметил и сказал себе: «слабое здоровье». Еще один недостаток у этого несчастного зятя!
Эми не встревожилась и тогда, когда Дик пожаловался на слабость и на то, что его бросает то в жар, то в холод. А когда на следующее утро ему не стало лучше, она посоветовала ему остаться в постели.
Амос, по обыкновению, поднялся в этот день рано утром. Он ничего не сказал, ветла Эми сообщила ему про Дика. Он подождал, пока у него на глазах началась дневная работа, и затем прошел к Дику. Ов встал в ногах кровати и смотрел на бального. Бесполезный, слабый человек! Лежит в постели в девять часов утра!
— Вставай! — крикнул он.
Дик слышал, что кто-то вошел в комнату, но ему было так плохо, что он не обратил на это никакого внимания.
— Ты думаешь, что я плачу тебе, чтобы ты валялся?
Дик открыл глаза. Что это его тесть говорит? Разве старый дурак не видит, как он болен? Смотрит на него, как сумасшедший. Может быть, он на самом деле сумасшедший…
— Вставай! Выходи на работу! Вставай!
Вне себя от молчания зятя и его тупого, полубессознательного взгляда, Амос сорвал с больного одеяло и швырнул его на пол.
Дик вскочил на ноги. Вставать? Да, он встанет. Возьмет Эми и уйдет отсюда… Пол колыхался под его ногами. Он ухватился за кровать, чтобы не упасть.
— Ты никуда не годишься для меня в никуда не годишься для Эми. — Ты и не мужчина совсем.
Железо кровати было как лед для его горячих пальцев. Оно оживило Дика. И комната перестала кружиться. И он мог говорить… он мог говорить, если делал усилие.
— Хорошо. — Неужели это был его голос? Точно он доносился откуда то сзади. — Я встану. Я сделаю работу, за которую мне платят. Но я уйду отсюда… уйду. И Эми возьму с собой… Старый вы… зловредный ублюдок!
В это время в комнату вошла Эми. Она слышала последние слова, видела лица обоих мужчин, но не поняла сути их ссоры.
— Что ты тут делаешь, отец? Тебя ждет покупатель. Иди! — Она вытолкнула его из комнаты и закрыла дверь.
Но с Диком было не так легко справиться. Он не хотел лечь снова в постель. Он доплелся до стула и принялся натягивать платье.
Она, наконец, оставила его в покое. Ему, вероятно, лучше, если он встал с постели. Она подняла одеяло с полу, не придавая значения тому, что оно было так небрежно брошено. Дик всегда бросал все, как попало, когда вставал с постели.
Дик двигался медленно, но совершенно спокойно. Ее обманули его усилия. В конце концов, у него была только простуда, ничего серьезного.
После полудня с ним сделался во дворе обморок. Двое работников принесли его в дом и помогли Эми уложить в кровать. Она молчала, но руки ее тряслись и что-то встало комком у нее в горле.
Он пришел в сознание, но был так слаб, что мог только бормотать что то. Она уловила слова: «Эми… мне очень жаль…».
Она села у его кровати и не спускала глаз с лица мужа. Оно казалось ей чужим и пугало ее. Глаза его были закрыты и под ними виднелись черные круги. Губы его пересохли. Она положила ему руку на лоб и почувствовала, что он точно в огне.
Она встала. Надо что то предпринять. Но что? Она чувствовала себя такой беспомощной перед болезнью.
Доктор! Надо достать доктора! Доктора Ридинга. Она торопливо выбежала из комнаты. Она вспомнила: отец отправляется в Чиплинг. Он поедет мимо Ридинга.
— Отец! Скажи доктору Ридингу, чтобы он сейчас же приехал. Дику очень плохо.
— Вот еще! — фыркнул Амос Болт, — он простудился и больше ничего.
Глаза Эми засверкали:
— Я пойду за ним сама, — сказала опа.
Отец увидел ее глаза.
— Хорошо, — проворчал он. — Я скажу доктору. Я, ведь, еду мимо. Только помни, платит доктору он, а не я. — Амос указал на комнату, где лежал Дик.
Было уже около девяти часов, когда Амос вернулся на ферму.
— Где доктор? — спросила Эми. — Ты не сказал ему?
— Да, я сказал, — ответил Амос, — я сказал, что Дик немножко простудился. Но доктору нужно было ехать в Беклей.
Кухонная дверь хлопнула.
— Дура, — пробормотал Амос, разуваясь.
Она бежала всю дорогу по лугу, через деревню, мимо церкви и потом по проезжей дороге к Чиплингу, Ночь была темная. Она споткнулась на что то в упала на руки в грязь, но сейчас же вскочила и побежала дальше, пока не пробежала всех четырех миль до Чнплинга и не очутилась у дверей доктора Ридинга.
Эми бежала всю дорогу. Доктора! Надо достать доктора!
Доктор потом рассказывал, что она была удивительна. Спокойная, быстрая, почти такая же ловкая, как опытная сестра милосердия. Ей нужно было только знать, что делать, знать, что она могла что то делать. Она могла помочь, она могла бороться, она перестала чувствовать себя беспомощной. Она была испугана, ужасно испугана, но пока было за что бороться, оставалась и искорка надежды. Эта искорка не потухла до последней минуты. Не потухла, пока часы утром на третьи сутки не показали десять минут третьего.
Она была с ним одна. Она стояла возле него и смотрела, как он ловил воздух… ловил воздух. Этот хрип в его горле! Ужасная тишина! Белое лицо на подушке.
Умер! Дик умер! Все умерло, все умолкло, все умерло. Она опустилась на стул возле кровати, вдруг почувствовав ужасную усталость, Если бы она могла закрыть глаза и тоже умереть. Но глаза ее не могли оторваться от него.
Вот его глаза, его рот, его уши… как смеялись его глаза! Вот его руки, как он трогал ее ими! Его доброта, его любовь! Умер. Разве все это может быть мертвым? Красноватый оттенок его волос. Она дотронулась рукой до его светлых кудрей. Эми задрожала. В гробу, глубоко под землей, мертвый и похороненный…
Эми встала. Она взглянула на горящую на столе лампу. Лампа должна была бы потухнуть. Эми взяла лампу, тихонько открыла дверь и механически прошла на кухню. Там стояли возле отцовского стула его сапоги. Отец! Это он сделал. Он убил Дика. Он сказал тогда доктору, что Дик только «немножко простудился». Как глупа она была, что доверила отцу. И то утро, когда он заставил Дика встать и выйти на сырость!..
Эми сжала руки, пока ей не стало больно. Если бы она могла сделать больно ему, отцу. Убить его? Он убил Дика, почему же она не может убить его?
Это была его жадность: пусть лучше Дик умрет, чем заплатить доктору. A у него столько денег! Опа вспомнила про шкаф. Тысячи фунтов! В голове у нее вдруг мелькнула мысль. Почему бы и нет? Это лучше, чем убить его.
Она снова взяла лампу, прислушалась и вошла в «контору».
Там все было аккуратно. Шкаф возле камина старательно заперт. Эми торопливо вернулась в кухню и схватила ящик с инструментами. Долото и молоток! А как же шум? Он проснется и придет сюда. Тем лучше! Пусть слышит, пусть видит! Пусть испытает все страдания…
Войдя в комнату, Эми заперла дверь и задвинула засов. Она тронула засов и улыбнулась. Отец запирался в этой комнате со своими деньгами, чтобы быть совсем спокойным.
Эми поспешно прошла к шкафу. Трах! Трах! Молоток колотил по долоту, гремел на весь дом. Можно было бы разбудить мертвого! Ах, если бы она только могла разбудить мертвого. Эми все сильнее ударяла молотком. Это облегчало: ударять, разрушать!
Вот! Она рвала дверь руками, похожими на когти, пока створка не поддалась с громким треском.
Большая часть пакетов была в камине, когда она услышала за дверью шаги отца.
— Кто там? — закричал Амос Болт, всей своей тяжестью напирая на дверь.
Она громко и насмешливо рассмеялась в ответ:
— Пойди, посмотри на человека, которого ты убил. Пойди, посмотри!
— Эми! Эми! Что ты делаешь?
В голосе его были ужас и отчаяние. Она снова рассмеялась и стала торопиться со своим делом. Верхняя полка была опустошена, шуршавшие бумажки высокой грудой лежали в камине. Эми зажгла спичку..
— Они горят! Они горят! — крикнула она Амосу. — Все деньги, которые ты копил. Пылают в камине. Тысячи фунтов. Ты слышишь, как они трещат? Слышишь?
— Ах, ты, сука!
Она едва узнавала его голос. Он был ужасен, как голос сумасшедшего.
Снова и снова бросался он на дверь. Эми выхватывала из шкафа бумаги и кидала их в огонь, все эти акции, закладные, рассчетные книги, все! Последним она схватила мешок с золотом, развязала его и высыпала сверкающие монеты в самое пламя.
— Разбивай дверь! — кричала она. — Разбивай! Только денег ты уже не спасешь! Они ушли! Навсегда! На плату доктору! Доктору, которого ты не хотел позвать. — Она тряслась от истерического смеха. — Хи-хи-хи! На плату доктору.
Трах! Амос Болт схватил кухонную сечку. Ей надо торопиться! Часть плотной бумаги плохо горела. Она руками вытащила ее из огня, разорвала на мелкие куски и снова бросила в огонь.
Удар за ударом в дверь. Щепки летели в комнату и Эми увидела просунувшуюся сечку.
Потом оторвался большой кусок дерева, открывая безумное лицо и руки Амоса Болта, рвавшие и ломавшие.
Она поднялась от камина и крикнула ему:
— Взгляни! Каждое пенни, каждая бумага! Все твои любимые деньги! Я хотела бы, чтобы ты сам был в этом огне, горел, горел бы!
Руки Амоса пытались через проломанное отверстие достать засов. Она насмешливо смотрела на него.
— Скорей! Торопись! Ты еще можешь собрать пепел. Он стоит тысячи фунтов! Скорей! Скорей!
_____
Потом она распахнула окно и бросилась во мрак ночи.
…………………..
ДРАМА В МЬЮЗИК-ХОЛЛЕ
Рассказ Берты Рек
Иллюстрации В. Гейтленда
_____
От редакции. Легкий налет несвойственной современной русской литературе сентиментальности, мягкой дымкой обволакивающий последний, только что напечатанный в Лондоне рассказ одной из самых популярных в Англии писательниц, Берты Рек, не уничтожает основных достоинств рассказа: яркой и свободной и в то же время чрезвычайно сжатой формы изложения, громадной напряженности действия. Рассказ заставляет задуматься над затронутыми как будто вскользь настроениями быта современной Европы: над непомерной тяжестью наказания, невозможностью католического развода, положением «белых рабынь» и т. д. Очаровательно написана фигура незаурядной молодой женщины, вышедшей, по терминологии Запада, «из подонков общества*.
…………………..
Может быть вы видели «Танцовщицу с веером»», выставленную в парижском Салоне молодым американский портретистом Рикманом Дэвис? Его картина, изображающая девушку, которая держит, закинув назад руки, огромный, красный веер из перьев и сама кажется ручкой этого веера из слоновой кости, — про картину эту на выставке все говорили. Отчасти из-за живости и мастерства изображения, отчасти потому, что это полотно с первого взгляда было приобретено самим мосье Бертэном, знаменитым директором знаменитого мьюзик-холля, где выступала эта танцовщица.
Картина эта позднее стала иллюстрацией к истории, взволновавшей весь Париж. Вот эта история…
Это было после антракта. «Тринадцать. Консуэло. Танец веера». гласила афиша.
Слева и справа от сцены выскочили огромные золотые «13», оркестр заворковал прелюдию и…
— Это. — шепнули видевшие номер тем, кто его еще не видел, — это — лучший номер программы.
Занавеси из сверкающей золотой ткани соскользнули с внутренней бархатной занавеси. Эта занавесь в свою очередь поднялась и открыла пустую сцену, интригующую, полуосвещенную. Опустилась палочка дирижера. Разразилось crescendo оркестра. Сцена осветилась, стали видны колышащиеся веера из пальмовых листьев…
В глубине, в центре, два веера слегка раздвинулись. Позади них показалось мерцание, потом красный свет, как будто что то загорелось за кулисами. Какое-то пламя, лижущее, исчезающее, пляшущее!
Аккорд! Вперед кинулось пламя. Это был огромный веер из перьев. Из него выглянула белая коралловая нога. Выглянула белая фигура танцовщицы в прозрачном красном одеянии, голова в красной, плотно облегавшей шапочке, маленькое вызывающее лицо.
— Консуэло!
Черные глаза и белые зубы сверкнули в ответ аплодисментам, когда танцовщица приняла позу своего портрета. Прямая ручка из слоновой кости для веера, на фоне полукруга из перьев.
— Ах, совсем так, как на вашей картине! — воскликнула маленькая мадам Бертэн, восемнадцатилетняя жена директора, сидевшая между мужем, который купил, и художником, который писал «танцовщицу с веером». Маленькая женщина с интересом склонилась вперед, потому что она в первый раз видела то, о чем так много слышала.
Смеющаяся мелодия увлекла Консуэло из ее картинной позы; подхватила и закружила ее в танце.
Публика, затаив дыхание, следила за очаровательным шедевром, исполнявшимся так легко, без малейшего усилия. Стройное пламя тела Консуэло было не больше пяти футов от головы до носка. Но тело это двигалось, прыгало, кружилось, точно этот веер из перьев был частью его самого. Парус на стройной мачте из слоновой кости! Венчик у стройного белого цветочного пестика! Консуэло танцовада. И зачарованный зал с международной публикой следил за каждым ее движением. Никто не кашлянул, ни шепота, ни шуршания программ! Зачарованы были те, кто видел ее в первый раз. Зачарованы были и то, кто пришел еще раз взглянуть на нее. Никогда еще Консуэло — артистка до кончиков пальцев на ногах никогда еще не танцовала она с такой огневой, законченной грацией, не танцевала так вдохновенно.
Причина этого, конечно ясна? Консуэло была безумно, восторженно влюблена и танцовала. чтобы понравиться любимому человеку. Человеку, сидевшему в артистической ложе, единственному человеку, который был добр к ней.
Консуэло, желанная для мужчин, знала все настроения желающих мужчин. Настойчиво просящие, дико-ревнивые, наглые, раболепные. Но пока танцовщица не встретила художника Рика Дэвиса, ей и в голову не приходило, что мужчина может быть так же нежен, как он силен. Первое утро в хаотической студии Рика, когда он выказал заботу об удобствах своей модели (в состоянии ли она оставаться в такой позе? Наверно? Веер не слишком тяжел? Там нет сквозняка?) возвело его на трон в сердце маленькой темпераментной бродяги. Консуэло излила на ничего не подозревавшего Рика всю таившуюся в ней страсть. Для «танцовщицы с веером»» позирование было счастьем; горем было, когда он закончил картину и она долгие, пустые, черные недели не видела его ни в театре, ни вне его. Теперь он был тут: большой, действующий так успокаивающе, целительно, обрамленный золотыми гирляндами ложи у самой сцены. Она чувствовала на себе синие, молодые глаза. Больше того: как раз перед выходом она получила записку, в которой Рик писал, что придет к ней в уборную, чтобы поговорить с ней сейчас же после ее номера.
— Придет ко мне? Говорить со мной? Скажет, что любит меня?
Вот под какую музыку металось на сцене это белое и красное пламя.
Обернитесь, пожалую та, последите за артистической ложей. Взгляните в другие глаза, большие, грустные глаза испуганного и обиженного ребенка, который никак не может забыть обиды. Это глаза маленькой мадам Бертэн, на которой надеты лучшие в театре жемчуга. Ее выдали замуж год назад за представительного директора, который мог бы быть ее дедом.
Рядом с ней мосье Бертэн кажется огромной горой, хорошо одетой, хорошо кормленой, добродушной… пока вы не взглянете ему в глаза. Ах, что то в этих маленьких, пронизывающих насквозь глазах внушает женщинам отвращение.
Медленно, медленно, грациозно, опускается танцовщица на пол сцены. Она теперь лежала, согнув под себя стройные члены. В голове ее мелькнула мысль, что она не хотела бы дольше жить, если бы Рик не сказал ей сегодня, что он ее любит. Большой веер опустился. Это был большой красный навес, покрывавший всю маленькую фигуру танцовщицы.
Весь театр вздохнул одним тихим вздохом, предшествовавшим грому аплодисментов…
— Она удивительна, не правда ли? — прошептал молодой художник.
— Ах, очень хорошо, очень хорошо! — согласился директор Бертэн, на широком лице которого еще больше сузились глаза. Эта стройная фигура и задорное лицо Консуэло еще не принадлежали ему, но он следил за ее движениями, как следит большая черная кошка за белой мышкой.
Эту игру Бертэн играл со многими юными, грациозными девушками. Выслеживая, хватал, делая с ними, что ему хотелось, и затем оставляя их. Еще более жестокую игру съиграл он с одной девушкой, которую не выпустил и на которой женился.
Вдруг из груды перьев, в том месте, где они закрывали лицо, легко поднялось в воздух нечто похожее на огненную дымку. Консуэло тихонько дула вверх, вздувая пушистые перья над красным ртом и жест этот был встречен хохотом всего театра.
Музыка изменилась. Как большая морская анемона, задвигался, закачался, поднялся веер. Вынырнуло тонкое тело. Одним гибким движением очутилась танцовщица на ногах. Она кланялась, занавес опустился, театр поднялся, и человек, которого любила Консуэло, вышел из ложи, чтобы пройти в уборную танцовщицы.
Консуэло закуталась в кимоно, выслала горничную и, едва дыша, стояла возле туалета, на котором в беспорядке лежали грим и всевозможные мелочи. Тут были и неизбежная лошадиная подкова, черные котята, пучек шотландского вереска и тонкий кинжал с выгравированной по испански надписью. Все это Консуэло суеверно берегла «на счастье».
Кинжал этот был подарок одной англичанки, покровительствовавшей искусствам. Она приняла Консуэло за испанку не только по имени, но и из-за прекрасных черных глаз танцовщицы. Консуэло делала турнэ по Европе с тринадцатилетнего возраста, но ее настоящее имя было Флори Симонс и была она цветком лондонских трущоб.
— Приятно видеть вас снова, — улыбнулся Рик. — Вы победили их сегодня вечером. Последний ваш трюк, когда вы вздохом поднимаете перья — водевиль. Остальное же настоящее искусство.
Консуэло целовала многих мужчин, так же легко давая свой красивый рот, как другие девушки дают для пожатия руку. А Рик никогда и пальца ей не поцеловал. Но если бы он ее и целовал сейчас, она сразу узнала бы все его чувства…
Она подняла на него глаза. Он ответил вопросительным взглядом.
— Спасибо за комплименты, — небрежно произнесла Консуэло с усилием, которою никто бы не мог заметить.
— Вы ужасно милая, — и Рик схватил ее за плечи и крепко поцеловал в обе щеки, как любящий брат.
Тогда Консуэло поняла. Ждать нечего. Все кончено. Теперь она знает.
Короткое молчание, потом Консуэло смахнула со стула пышную груду какой-то мягкой материи.
— Садитесь, Рик.
— Спасибо.
Снова короткое молчание.
— Что случилось, Рик? Ничего плохого? — подавляя отчаяние, с искусственной дружелюбностью спросила Консуэло.
— Что случалось, Рик? — подавляя отчаяние, спросила Консуэло
— Я бы не сказал, что у меня плохи деда. Благодаря вам, мои тяжелые времена пришли. После «танцовщицы с веером» заказы посыпались. В свободные дни я работаю над портретом мадам Бертэн…
— А! — тон, которым Рик произнес это имя, заставил затрепетать сердце Консуэло. Так вот что? О, да, Консуэло теперь знала.
— Ага! Пишете жену директора. Это хорошо для вас, Рики.
— Я получу на двадцать тысяч больше, чем за «танцовщицу с веером».
— Есть люди, которые никогда недовольны! — Она закусила губу, чтобы не выдать дрожи голоса. — Вот вам так везет, а вам… вам кажется, что жизнь и вкус весь потеряла.
Рука художника с заженной спичкой остановилась на полпути к папиросе.
— Почему вы думаете?..
— Я не думаю. Я знаю.
— У вас, конечно, богатое воображение. Но почему вы думаете?..
— He лгите мне, Рики, — резко вскрикнула Консуэло. — Разве мы не друзья? Разве я вам не все рассказывала. Так скажите же мне, что я права. Это любовь?
Художник низко опустил голову. Потом поднял ее и взглянул на свою маленькую приятельницу доверчивыми, несчастными глазами:
— Я думаю, что вы правы.
— Вы съума сходите по… той, которую теперь пишете?
Рик кивнул. Как брат сестре, он стал описывать любимую женщину женщине, которая любила его.
— Консуэло! Милее ее нет! Такая робкая. Такая… особенная. В ней все, о чем мечтает мужчина… Она со всем не похожа на других, Создана для того, чтобы ее любили.
— А разве другие не созданы для этого? — прошептала Консуэло. Но вопрос этот не был услышан. Era заглушили доносившиеся звуки оркестра, смех публики над карликами-акробатами.
— Опа не подходит к этому театральному люду, — продолжал Рик. — Для нее счастье в домашнем очаге, в детях, в человеке, боготворящем землю, по которой она ходит. Мать ее просто отдала Бертэну.
— Такой матери следовало бы дать десять лет, — сказала Консуэло.
— Для дочери это хуже тюрьмы, это ад.
— Она скачала вам это, Рик?
— Она никогда не говорила ни слова. Но разве можно этого не знать?
— Старик Бертен невнимателен к ней?
— Я слышал как кто-то сказал: Бертэн не бывает невнимателен ни к одной хорошенькой женщине. Даже к своей жене. Лучше, если бы это было иначе. Это дает некоторое представление, Консуэло, правда?
Консуэло, вертевшая в руках носовой платок, ответила, что понимает.
— Добрая вы, маленькая душа, — сказал Рик. — Мне очень жаль, что я навязываю вам всю эту плаксивую историю. Я должен был излить это все кому-то, кто понимает.
— Рики, а она… она так же любит вас?
— Между нами не было ничего, ни одного слова, ни одного взгляда, — сказал чистосердечно Рик. — И все же! Хотя у меня и нет никаких оснований, я иногда думаю… Когда она увидела ваш портрет, ей ужасно хотелось все узнать про вас и друзья ли мы с вами?
— Правда? Так она любит вас. Можете мне поверить. Но, послушаете, Рики, почему вы не уведете ее от этой адской жизни и не сделаете ее счастливой? Вы могли бы жениться на ней…
— Жениться? — безнадежно повторил Рик. — Но она француженка, католичка. Для нее не может быть развода. Освободить ее может только одно: ее смерть, или его.
— А сколько лет этому Бертэну?
— Пятьдесят восемь и здоров так, что больше вероятия, что скорее умрет она, чем он. Посмотрите только на это животное!
_____
Консуэло посмотрела на это животное.
Это было на следующий день после разговора с Риком, за бокалами шампанскою в «Быке на крыше», где она в первый раз обедала с мосье Бертэном.
До этою вечера она смотрела на бертэновский тип с философией, выработанной окружающей жизнью. Она соглашалась с товарками: «счастье, что хозяин заинтересовался тобой». От такого типа мужчин она принимала и обеды, и подарки.
Консуэло смотрела на Бертэна и думала: в жизни нет ничего плохого, что не могло бы быть еще хуже. Быть влюбленной в Рика без всякой надежды — настоящий ад. Но еще хуже быть связанной с этим на десять, на двадцать, может быть, лет.
Когда Бертэн заметил, что эта часть города слишком переполнена апашами, чтобы позволить малютке одной возвращаться в театр, Консуэло с лукавой улыбкой согласилась с ним.
А ее танец с веером? Но ведь танец исполняется после антракта. Не доставит ли она ему удовольствия посидеть в ее уборной, пока она будет делать свой туалет?
Завлечь это животное и потом оттолкнуть его, а что будет дальше — безразлично… Только такую отчаянную, жалкую месть придумала пылкая бродяга для этой туши, заполнявшей сейчас угол в уборной, в котором вчера сидел Рик. Директор следил за ней, как черный кот следит за мышью…
Но он кинулся на свою добычу так неожиданно.
Едва закрылась дверь за скромно улыбавшейся горничной, как он встал, поймал Консуэло, дыша ей в лицо горячим винным паром и запахом сигары. Вся гибкая юность Консуэло вспыхнула ненавистью к тому, что заставляло женщин испуганно отшатываться от взгляда мужа маленькой мадам Бертэн. Это произошло меньше, чем в минуту.
— Пустите меня, животное, — придушенно крикнула Консуэло, когда Бертэн прижал ее к туалетному столу и потянулся к ее губам.
Имя сорвалось с этих губ:
— Рики, — и сумасшедшая решимость овладела девушкой: — Рики, я сделаю это для тебя. Я сделаю…
Она извивалась в руках Бертэнх и одна тонкая белая рука просунулась назад. Слепо нащупывала эта рука что то на туалете, нашла и схватила длинный испанский кинжал. С бешенством воткнула она кинжал в спину насильника, в сукно, в шелк, в тело. Раздался рыдающий вопль женщины, заглушенный стон мужчины, похожий на рев быка, которого режут. Потом Бертэн упал, точно валящаяся печь, и увлек вместе с собой на пол Консуэло.
Вся дрожа, задыхаясь, выбралась из-под туши Консуэло. Одно мгновение она стояла, все еще сжимая нож. Тяжело дыша, смотрела на безжизненную массу на полу.
— Вот! — громко вскрикнула Консуэло.
Стук в дверь. Ее выход.
Грациозная, как Саломея, пляшущая перед царем, вошла на сцену Консуэло, раскинула свой гигантский веер и начала танец.
На лице ее была яркая улыбка, но ее огромные черные глаза не видели ни сцены, ни зала.
Они видели тучное тело человека, безжизненно лежавшего ничком на полу ее уборной, с разорванной, напитанной кровью спиной хорошо сшитого костюма. Консуэло заперла на ключ дверь своей уборной. Пока она не прибежит назад, никто не войдет туда. Все будут думать, что мосье Бертэн ждет там свою новую страсть.
Танцуя, она думала:
— Как странно, что все эти люди не знают, что это мой последний выход на сцене.
Перед ее глазами встали другие, ужасные картины, переполненный зал суда… камера… серое утреннее небо… эшафот.
Не зная закона, не имея понятия о преступлении в состоянии аффекта, и о том, что ее могут оправдать, маленькая бродяга думала:
— Если я и англичанка, они будут судить меня здесь, потому что это животное было французом. Убийство. Конечно, виновна, но это хорошо сделано. Даже если я повисну за это. А кому хочется еще жить? Только тут не вешают. Мне будет гильотина… бррр..
Кроваво-красные перья покрыли Консуэло, когда кончился танец. Что-то ярко сверкнуло…
— Бриллианты на ее веере! — шепнула в публике женщина. Но это был не блеск бриллиантов, это было сверкание стали.
Когда она опускалась назад, ей представилась другая картина. Не огромный полукруглый нож гильотины. А белокурое цветущее лицо Рика, а рядом юная мадам Бертэн, горестное выражение глаз которой сменилось выражением огромного счастья.
— Теперь все у них будет хорошо, — подумала Консуэло.
Все глаза были устремлены на нее, когда у рампы опустилась мягкая, красная груда, которая была веером, покрывавшим женское тело. Каждое движение было поэзией, но одно быстрое, решительное движение осталось скрытым под перьями и никто его не заметит.
Последняя дрожь, потом — тихо; тихо дольше, чем в прошлый вечер, лежала посреди сцены ярко-красная груда.
— Ты теперь следи за ней, — сказал молодей человек на галлерее своей возлюбленной. — Смотри, как она станет ртом вздувать перья. Она сейчас начнет.
Публика ждала этого игривого жеста, которым заканчивался танец веера.
Этого не будет сегодня вечером. Не будет больше ни в один из вечеров. Тихая, как смерть, лежала груда перьев и легкое женское дыхание не поднимало ни одного перышка.
Только медленно, медленно из груди танцовщицы текла из-под веера на сцену тонкая стройка, кроваво-красная.
…………………..
МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА
Юмористический рассказ Н. Ивановича
Иллюстрации Н. Кочергина
1. Грибы и бабы.
Все замечательное начинается с пустяков. Так было и в этом случае.
Лето выдалось мокрое, грибы рано. Особливо много их было в Горелом Бopy, верстах в пяти от Меренячьих Огузков. Только раз на раз не приходился. Случалось, огузкинские грибницы шарят день-деньской, а вертаются с десятком сыроежек. Или нападут на такую силу — и белых, и красных — прямо класть некуда. Не потрафить да и только в рассуждении лукошка!
Плакали с досады бабы. Которые подогадливее, скидовали с себя рубахи и наскоро мастерили из них торбы. Но гриб — ягода нежная, требует деликатного обращения. Само собой, домой приносили одну труху, зато вываливали эту труху свиньям с легким сердцем — охоту потешили. А огузкинцы, известно, ярые охотники. Было и еще неудобство обильной грибной удачи: при скудости одевки поверх рубахи — соромно вернуться в деревню засветло. Попадешься в таком банном виде на глаза мужикам — на смерть засмеют. Вестимо, огузкинцы несусветные зубоскалы. Ну, и отсиживайся до потемок где нибудь в овраге.
Не в пример прочим, пофартило по праздничному делу Макриде с Домной. Напали они на силу-силенскую грибного растения. Куда ни глянь — торчат, что солдатские шапки: и красные, и желтые, и лиловые, и разные… Спервоначалу растерялись, поохали с полчасика бабы. Не нечистого-ль штуки? Хоть он и отменен, да вдруг не вовсе? Повременя, справились. Духом вороха напушили грибов, — сочных, ядреных, упругих, напористых. А класть-то и не во что. Подумавши малость, — рубахи в ход.
Макрида молодуха, о Покрове только в бабье состояние вошла. Рубаха на ней добротная, приданая, домотканного холста, стирана всего раз, да и то в летней воде, — хоть камни клади — выдержит.
С Домной дело плоше. Замужем она со старого режиму и рубашенка на ней старорежимная, невестину ночь помнит, — прямо — тлен, одни рубцы с узлами вперемежку. Только не бросать же всю ядреную благодать среди леса? Разоблачились бабы, стянули лишние отверстия, набили рубахи грибом до отказа, двинулись.
Макрида выступает пружно, упруго, сама, что русалка лесная, упругая. А Домна трухляво семенит, похилиться боится, — трещит ее ветошка, по нешитому разлезается. В сумлении Домна голос подает:
— Ой, Макридушка, поуже шагай… Ой, вернусь на деревню оголком и без гриба.
— А ты, мать, ащо юбкой окрути. Тагды усе в цельности буде, — советует Домне Макрида.
— Ой. доченька!.. Ды не ведьма-ж я, чтоб в голяцком виде… Ды, ну, сустретца кто?.. Стыдобушка!..
— Кому сустретца-то? Лес, я чай… Рази галка глазом покосится…
Послушалась Домна, обернула ношу юбченкой поверх, идет в чем мать родила, по сторонам озирается. Версты три отмахали, скоро и деревня, поди. Только собрались присесть отдохнуть, а на пригорке — матерой медведь стоит. Мнется, прикидывает что за созданья такие несуразные на его медвежье величество прут?
Увидали зверя бабы, ноши на земь и в истошный рев. Опешил видно и Мишка, лататы задал куда-то в чащу.
Что дале было — ни одна не помнит. Опамятовались среди деревни, когда взбулгаченный их ором народ хороводом вокруг собрался.
Может и не опамятовались бы, кабы не Макар Шелудяг. Долго Макар, раскорячившись, дивовался на банное зрелище, не вытерпел, растолкал любопытный молодняк и к бабам:
— Дык это видмедь вас оголячил?..
Прозрели бабы, всплеснули руками и с визгом по дворам.
Долго топталось среди дороги население, чесало затылки, чесало поясницу, прикладывало — с чего разговор начать.
А в избах у грибниц, между тем, продолжение. Мужик Макриды, в меру пьяный, увидя бабу в полугольи, смаху в косы вцепился. Однако, получив организованный отпор, начал взывать о пощаде. Помирились на новых козловых котах. Через час времени Макрида, разодетая, как на свадьбу, лущила на завалинке тыквенные семячки и героически вещала:
— Идет-ревет, мамоньки!.. Ну, нечистый, да и только! А хайло-то — во!.. А во рте-то — все зубья, зубья… как у бороны понатыканы… А сзади-то — евоные приятели, — тьма-тьмущия и еще несть числа… А глаза-то полымем пытают! А из ноздер-то дым столбом валит… Серным духом весь бор провонял… Страсти да ужасти, бабоньки мои милые… И как я бегуночки мои унесла — не придумаю…
— А може не было энтих, прпятелев-то? — спросил чей-то трусливый голос.
— Приятелев-то? А може и не было… Може это мне с сумления приместилось…
— Да може и видмедь-то — с сумленья? — не унимался голос.
— Не… видмедь без сумленья. Хочь у Домны спытайте, она, чай, души не убьет. Со страху, вишь, всей одевки решилась… И зверюга-ж страшенный, да толстенный, бабоньки — ну, что твоя стельная корова!..
Бабы ахали, ужасались. Мужики крякали в припадке охотничьего азарта. Ребятишки тут-же играли в «видмедя». Мужик Макриды Иван Дыня, с головой, словно скалкой рассученной, сидел у раскрытого окна и обалдело пялил влюбленные глаза на свою героиню-жену.
У Кузьмы в избе — другая картина. Домна, ворвавшись домой голяком и не давая себе труда одеться, стащила с лавки мирно отдыхавшего мужика. Она долго таскала его за волосы, приговаривая:
— Из за вас маемся… Из-за вас терпим муку-мученскую… Лодыри вы несусветные… Ироды поганские… Лежебоки-кровопивицы… Это те — за рубаху… Это за грибы и за срам… А это — за что почтешь…
Придурковатый Кузьма (по прозвищу Гашник) с трудом вырвался из рук разъяренной бабы и выкатился на улицу, ничего не понимая. Он как раз наткнулся на кучку мужиков, чаявших продолжения зрелища.
— Ну, что, кум?.. Как?..
— Убег!.. У-у!.. не подходи — растерзат… Убег, елки-палки!.
— Да ты о деле калякай, кум… Как енто — видмедь?..
— Чисто, что видмедь, — охотно соглашался Кузьма. — Но баба!.. Орел — не баба… Гляньте, всю сопелку раскровянила.
Кузьма вытирал кулаком разбитый нос и блаженно улыбался, дивясь воинственности жены:
— Ну и баба, братцы-товарищи… Глянь те-ка, волосья клоками пошли… Во баба — чисто белый енерал. Раз, раз! И все в дыхало!..
— Да ты про видмедев… Видмеди-то как?..
— Видмеди? — не понимал Кузьма. — А видмеди, чай, ничего. В лесу видмеди живут..
— В лесу?.. ишь ты…
— Знамо в лесу… На то и видмеди, что-бы в лесу…
Домна, так и не успевшая одеться, стояла в сенцах за дверью, с ухватом в руках, отражая натиск любопытных:
— И не лезьте лучше, окаянные… Весь рогач изломаю…
— И изломат, я ее знаю, — убеждал Кузьма мужиков. — Во — ерой!.. Ух!
Мужики потащили Кузьму угощать самогоном. Слава его супруги, видевшей в глаза медведя, косвенным образом падала и на него. И если Домна чуждалась славы, то Кузьма — наоборот. Под вечер, пьяный в лыко, он валялся на дороге против своей избы и во все горло орал:
— Ну, вы! Кто супротив моей Домны сдюжит? Жила тонка! Никому не выдержать!. Не баба — ерой!.. На видмедя ходила… Как есть без ничего, А вы?.. Курицины дети, елки-палки…
До глубокой ночи в Меренячьих Огузках шло необычайное брожение. Похоже было будто соседняя сильная держава смертельную войну объявила огузкинцам. Там и сям кучками собирался народ, разжевывая событие. Мужики раздумчиво покачивали головами. Бабы в девки шарахались в стороны от каждой собачьей тени, за каждым плетнем мерещился притаившийся грозный неприятель. Двое озорных парней, нарядившись в вывернутые тулупы, загнали кучку девок в баню, на берегу реки. Девки визжали, а парни, прыгая на четвереньках около, держали медвежью осаду до полуночи. Далее — все утихли.
Паника объяснялась просто. В Меренячье-Огузкинских краях никто никогда не видал медведя. Только древние старики рассказывали о них по вечерам разные небылицы в лицах.
2. Пастух и стадо.
Утром пастух Лаврушка собирал по деревне стадо. Его пронзительная жалейка звучала как-то особо воинственно. Сверх обыкновения, провожать пастуха высыпала вся деревня.
— Може, на лютую смерть идет малый, — вздыхали бабы.
Дед Аника, — по его словам — ровесник Мамаю, — советовал:
— Ты яво, паря, как сустренишь — дубьем!..
— Чаво?.
— Дубьем, баю, паря. И текай под горку… Тагды ен не тае…
— Чаво?
— Тьфу, бестолочь! В гору, баю, не беги, — облапит…
Невполне проснувшийся Лаврушка чесал загривок, чесал поясницу, не мог в толк взять, чего всполошились эти люди?
Бабы совали в руки вчерашние пироги с кашей, с картошкой, с горохом, — это было понятно.
— Поснедай, сердешный…
— Може, в остатний разок…
— «Буренку» паси… Одна кормилица-то…
— Вынь ты соску то свою, безбожник… Окстись разок…
Лаврушка сосал самокрутку без мала с заводскую трубу и сонно тянул:
— Чаво?
— Видмеди бродят недалече, бестолковый… Скотину береги.
— Видмеди? А ну их!..
— Опомнись, озорь!.. Животная жратливая, зараз по телку глотает…
— Заговорить бы яво…
— Непитой водичкой спрыснуть…
— Мышиный хвостик на гайтан ему привесить, — волновались бабы.
Лаврушка ненавидел всякую работу, а наипаче — работу мысли. Он смутно чувствовал, что приспичил жуткий момент, когда нужно о чем-то подумать. Но думать не хотелось и он решил заглушить необходимость спасительными звуками жалейки.
— Заткнись, оглашенный! Не во-время тя надирает…
— Чаво?
— Наказ мирской послухай… Гаврилу сюды! Где Гаврила Большой?..
С бабьих задворок протискался мужик в сажень с чем-то ростом, изогнутый и тонкий, с приплюснутой, ужиной головкой. И вообще он напоминал вставшего на хвост ужа.
— Гаврила, растолкуй…
Гаврила слыл за искуссного краснобая и выдвигался миром в особо ответственные моменты. Он раскорячил ноги, чтобы быть ближе к лицу пастуха, и свирепо завращал белками глаз:
— Мир постановляет… Распяль гляделки… Без убытку, значит… Скотина и вооопче… Оглядайся… Коли тебя видмедь задерет — на деревню глаз не кажи… И воопче…
Гаврила для чего-то смазал себя по лицу ладонью и поспешно шмыгнул за баб. Там он выпрямился с сознанием выполненного долга, оперся на палку и стал теперь похож на колодезный журавль.
Макар Шелудяк, мужик расторопный и смекалистый, совал Лаврушке старый дробовик:
— Держи, браток. Это те не мышиный хвостик. Это — орудия… Коли стрелить — в клочья разнесет… Это, брат, обороной прозывается… Не трусь, не заряжено… Ежели что — прикладом дуй…
Готового зареветь Лаврушку провожали далеко за околицу, указывали новое направление:
— К Чичимориным болотам гони… Там вязко…
— К Горелому Бору — ни-ни!
Макар Шелудяк надрывался дольше всех, напутствуя пастуха:
— За моим бычком смотри! Рыжий, со звездочкой! Племенной!.. Цены нет бычку, что тигра… Ты яво прикладам, паря, орудием дуй!.. Прямо в лоб!..
В первый раз в жизни знакомый до последнего кустика лес показался Лаврушке чужим и враждебным. Пастух слабо сознавал опасность головой, зато остро чувствовал ее желудком и всеми четырьмя конечностями. Медведя он никогда не видал и вряд ли сумел бы отличить его от любой крупной скотины. Поэтому опасность, как нечто реальное, как бы не существовала. И все же острая желудочная тревога въедалась глубже и глубже. Беспричинный страх начал овладевать всем существом Лаврушки, просачиваться из желудка по всем суставам. Он готов уже был сесть на землю, разреветься, закричать маму, которой никогда не знавал, как вдруг неожиданно сообразил, — по-прежнему, нутром, — что ведь источник то тревоги находится здесь, за плечами: это — дробовик Макара Шелудяка!
Лаврушка со всяческими предосторожностями освободился от страшного ярма, с замиранием сердца опустил дробовик в канавку и забросал хворостом.
Сразу стало легче.
3. Пироги и раки.
Стадо рассыпалось на новом пастбище. Коровы мирно бродили среди реденького леска, по болотистому кочкарнику, поросшему сочной травой. Солнце светило по обычному ласково. Быстро испарялась роса с травы, испарялись и недавние страхи Лаврушки. Пастух глушил пережитую тревогу пирогами с кашей, с картошкой и горохом. Доброхотные даяния баб понемногу вытесняли щемящее чувство из желудка, угрожающе полневшего за счет торбы. Когда челюсти устали жевать, Лаврушка развалился на травке и задудел на кленовой дудке. Под монотонные, убаюкивающие звуки он попытался представить себе страшилище, известное под именем «Видмедя». Получался образ фантастический, но не шибко страшный, похожий на давно сложившееся представление о чорте, которого Лаврушке также не доводилось встречать в натуре. Этот сильно раздутый чорт был рыжего цвета. Четыре ноги — четыре подпорки — фасоном похожи на дробовик. В общем, существо хотя и внушительное, но добродушное и неповоротливое.
Лаврушка рассмеялся над своей фантазией:
— А, ну яво в омут!.. Пра!.. — вслух сказал он, возвращаясь к пирогам.
Стадо разбрелось. Лаврушка попытался собрать его, не вставая с места. Он щелкал бичем и сердито покрикивал:
— Эй-эй!.. Холера! Куда поперли! Айда сюда!..
Стадо вышло из подчинения, не слушалось. Чтобы поддержать свое достоинство среди подчиненных, пришлось подняться. Мимо Лаврушки, объятый беспричинным телячьим восторгом, не пробежал, а прогарцевал как-то боком рыжий бычек Макара Шелудяка. Он выделывал ногами замысловатые па и залихватски вертел головой со звездочкой. Пастух вытянул бычка кнутом:
— Пограй, пограй у меня!..
Бычек остановился и обиженно посмотрел на своего воспитателя. Затем прищелкнул сразу всеми четырьмя копытами, отчаянно боднул воздух и с курлыканьем скрылся за пригорком.
Лаврушка попробовал мысленно представить себе поведение веселого дурня, если бы тот неожиданно наткнулся на медведя. Ничего не вышло. Фантазия, придавленная пирогами, отказывалась работать. Психология рыжего бычка осталась неразгаданной. Гоняясь за непоседливой скотиной, пастух наткнулся на знакомое озеро — Рачье. Было уже около полудня. Озерко набухло, пополнело от недавних дождей и подступило к малоезжей заброшенной дороге. У самого берега, в воде, разлагалась ободранная лошадь. Ее вздувшийся живот почему-то вновь вызвал у Лаврушки представление о медведе. Вокруг падали что-то подозрительно копошилось. Лаврушка подошел ближе. Крупные иззелена-черные раки сплошной массой кишели около. Их были сотни, тысячи. Раки выползали на песчаную отмель, смешно пятились задом, поджимая под себя плесы. Лаврушку охватил восторг охотника. Не снимая штанов, как есть во всей аммуниции, с торбой и жестяным чайником, он полез в воду и принялся выбрасывать раков на берег. Много выловил, больше того распугал, вылез и принялся за варку. Раки копошилось у костра ленивой массой, цеплялись за Лаврушкины лохмотья, лезли на уголья, в ожидании своей очереди быть сваренными. Попав в кипяток, они несколько моментов стригли воду клешнями, затеи пускали пузырики и затихали. Когда раки краснели до цвета земляники, Лаврушка вытягивал их за усы и с тихим мурлыканием отправлял вслед за деревенскими пирогами.
Всему на свете бывает предел, даже аппетиту деревенского пастуха. Один из раков оказался последним. Лаврушка, нехотя, пососал его и выплюнул:
— Будя… Эх. сольцы бы…
Но соли не было, а без соли раки больше не шли.
Заснул Лаврушка неожиданно для себя. И не думал, а заснул. Снились страшные, фантастические звери: полураки, полукоровы, — все отчаянно рыжего цвета. Эти чудища всевозможных размеров сплошной массой копошились в озере, высоко вскидывая усищи. Сначала это забавляло Лаврушку.
— Видмеди, — думал он, — а я их ел…
Он смеялся во сне счастливым смехом победителя, глядя, как беспомощно и безобидно копошатся клубки чудовищ.
Однако, когда вгляделся в их усы, разобрал, что это вовсе не усы, а дробовики, вроде того, что спрятан в канаве. И все эти смертоносные орудия направлены на него, на Лаврушку. Такие же дула торчат и из живота Лаврушки, живот ощетинился ежом, а изнутри наростает боль. Пастуху стало страшно, он закричал и проснулся.
Солнце скатилось за лесок и смеялось оттуда сквозь просветы деревьев. Костер потух. Лес нахохлился, стал угрюмее. Пригорок, где спал пастух, от бесчисленного количества раковых скорлупок казался коралловым островком. Лаврушка усмехнулся, вспомнив свое пиршество. Машинально пошарил в чайнике, выловил пару раков. Пожевал добычу без всякого удовольствия и без малейшей надобности, просто в силу закоренелой привычки.
Озеро подернулось свинцовой мутью, Вокруг дохлой кобылы вода кипела как в котле. Лаврушка удумывал наловить раков и на ужин, да смущала близость вечера. Время собирать расползшееся стадо, гнать его по дворам. Лаврушка долго чертыхался, проклиная свою треклятую долю. Наконец, поднялся таки, чтобы приняться за исполнение служебного долга.
4. Бычек и зверь.
Собрать стадо стоило труда. Близость ночи пришпоривала Лаврушку. Он самоотверженно вязнул в болоте, падал через кочки, оставлял клочья рубища на кусачем кустарнике, потерял кисет, однако стадо собрал. Все. Не хватало лишь рыжего бычка с белой звездочкой. Лаврушка струхнул. На разные лады гикая, тируськал, щелкал бичем, призывно заливался на жалейке, — все впустую. Рыжий бычек как в воду канул. Темнело. Хныча, как дитя, и ругаясь, как взрослый, злосчастный пастух лазал по кочкарнику, пока не вышел на полуостровок, образуемый излучиной реки. Полуостровок был довольно большой, вытянут в длину и сильно заболочен.
Густели неумолимые сумерки. Где-то позади встревоженное стало жалобно мычало, призывая своего пастыря.
С храбростью отчаяния Лаврушка отважился на решительный шаг — обежать весь полуостров. Дальше рыжему беглецу некуда было скрыться.
Болото кончалось. По направлению к реке почва заметно поднималась, образуя у Закрайны довольно высокий бугор. За этим бугром как раз село солнце и сейчас все небо колыхало ярко-малиновой зарей. Местность была покрыта невысоким кустарником с обильными проплешинами, заросшими мхом. Лаврушка углубился в заросли, которые тянулись, как видно, уже до самой реки. Наигрывая на жалейке и напряженно всматриваясь вдаль, пастух продвигался вперед. Неожиданно на бугре, прямо перед Лаврушкой, выросло какое-то сказочное чудовище. Оно отчетливо и страшно выделялось на пылающем фоне неба. Казалось, чудовище испускало из себя целые потоки багряного пламени, само оставаясь темным. Только глаза сверкали, как два раскаленных угля, да между ними лучилось что то фосфорически-бледное, — должно быть из ноздрей. Лаврушка затрепетал от ужаса, дудка выпала из рук.
— Видмедь! — шевельнулось где-то внутри.
Дикий, бессмысленный страх острой иглой прошел до самых пяток. Пастух источно закричал и со всех ног бросился назад. Когда Лаврушка добежал до стада, там уже наростала паника. Бедные животные, видя несущегося на них и дико орущего пастуха и, вероятно, чуя за ним опасность еще более страшную, бросились врассыпную. Лаврушка даже не сделал попытки успокоить своих пасомых. Стремительный, как ураган в степи, не разбирая пути, он несся но направлению к деревне. Сзади слышался тяжелый топот многочисленных ног, хруст ветвей и душу-щемящее мычание. Пастух, не глядя, видел, как страшный зверь гонится за ним по пятам, настигая и терзая одну жертву за другой.
Бабы и мужики, обеспокоенные долгим отсутствием скотины, встретили Лаврхшку недалеко от деревни. Оборванный, растерзанный, исцарапанный в кровь пастух, увидав знакомых сельчан, остановился. Он собрал последние силы и крикнул:
— Ой, братики!.. Видмедь дерет коровок… Бычка Макарова… Живьем сглонул!..
И как куль повалился на землю.
_____
Потери были менее велики, чем предполагал Лаврушка. Втечение ночи стадо само подтянулось домой. Не доставало только рыжего бычка с белой звездочкой на лбу. Резвая скотинка, надо полагать, и впрямь пала жертвой страшного зверя, никем невиданный призрак которого витал над мирными Меринячьими Огузками. Лаврушку положили на соломе у Макара под навесом. За полночь он оклемался, блуждающими глазами обвел дежуривших в зле баб и проговорил за душу хватающим голосом:
— Поисть хотца…
5. Поход и пир.
Древние воинственные народы совершали свои грозные походы всем скопом, от стара до мала. Эту забытую тактику воскресили огузкинцы, когда неумолимый враг появился у врат родной деревни.
С восходом солнца деревня была на ногах. Даже чумазые младенцы, передвигавшиеся не с помощью ног, а с помощью смекалки, на собственном иждивении, и те с плачем выползли из изб.
Шло поголовное ополчение. Все острое и тяжелое использовалось на вооружение армии. Макар Шелудяк, как пострадавший не в пример прочим, избрал сам себя предводителем. Вскоре грозная армия, ощетинясь вилами и дреколием, выступила в поход к Чичимориным болотам. Дома остался только скот, в недоумении перекликавшийся но хлевам и сараям.
Впереди шли загонщики во главе с Лаврушкой. Далее выступала самая армия в строго походном порядке: мужики в сосредоточенном молчаньи, бабы в воинственном азарте и ребятишки в телячьем восторге. Три инвалида недавней воины образовали, так сказать, обоз.
Если бы зверь мог видеть эту грозную рать, он, несомненно, предпочел бы без канители покончить самоубийством. Но, увы! Медведь этого не видал. Над полагать, он в блаженной дремоте переваривал еще Макарова рыжего бычка.
А гибель надвигалась. Скоро железная цепь осаждающих грозила взять болотистую излучину в тиски.
Здесь заслуживает упоминание одно обстоятельство: передовой отряд загонщиков, такой шумный в начале экспедиции, по мере приближения к цели смирел все более, пока не умолкнул окончательно и не очутился, в силу какого-то непонятного маневра, глубоко в тылу.
Потом Лаврушка, под предлогом рекогносцировки местности, привел двоих пареньков к Рачьему озеру и здесь, в ожидании грозных событий, все трое занялись самым мирным делом на свете — ловлей раков.
Вскоре к ним подтянулся обоз, в лице инвалидной команды, — с котелками и ведрами.
Вездесущая детвора, шныряя всюду, не преминула присоединиться к этому интересному занятию. Чадолюбивые мамаши в поисках разбежавшихся детей также очутились у озера. За остальными, верными долгу, просто послали вестовых, с приглашением, на завтрак. Раки попали впросак. Им предстояло принять в чужом пиру похмелье.
Озеро кишело, вперемежку, людьми и раками. Берега закурились приветливыми дымками костров.
Прожорливый зверь мог благословить свою судьбу, ему давалась возможность пожить еще немного. Грозный медвежий поход превратился в веселую раковую охоту. Начался пир буквально на весь мир.
Мужики, бабы, ребятишки ловили раков руками, портками, юбками. Иногда раки, в смертельном отчаянии, просто прицеплялись клешнями к телесам охотников их приходилось отдирать, жертвуя собственной плотью. Рачьему благополучию, наступил конец. Ракам грозило поголовное истребление, чему служил порукой известный на всю округу неумолимый аппетит огузкинцев, не отступавший решительно ни перед чем.
Макар Шелудяк, на правах начальства, требовал себе львиную долю и истреблял раков с такой беспощадностью в в таком количестве, что, по справедливости, мог назваться «рачьим бичем». Пустячный случай спас на этот раз рачью породу от полного истребления.
Два паренька. Леска Хлюст и Тимка Головастик, которых шибко распирало с непривычного блюда, отлучились от озера по собственной надобности.
Через некоторое время они шарами выкатились к месту пиршества и, задыхаясь от волнения, закричали:
— Дяденьки! Тетеньки! На горке за кустами что-й-то шевелитца!..
Непроглоченные раки у многих встали поперек горла.
Все сразу вспомнили о долге. Застольный гомон вмиг уступил место затишью перед бурей. Котелки и ведра, так сказать, перековывались на рогатины. Где то в кустах поблизости сидел страшный враг, глотающий не по раку, а по целому рыжему бычку.
— Чиго-ж. братцы… Иттить, так идите, — скомандовал Макар Шелудяк.
— А ты?., спросило сразу десяток голосов.
— Я-то?.. Знамо дело… Токо — погодя… У меня чиво-й-то с животом не в порядке…
— А наши животы нешто луженые?
— Рак для усех чижол…
— Апосля оправишься… Веди!..
— Эй сопляки, указуй дорогу!..
Кто похрабрее — двинулись вперед, подталкивая предводителя.
Железное кольцо сжималось. Охотники вступили в роковую зону полуостровка, поросшею кустарником.
Здесь где-то притаилась грозная опасность. Здесь где-то лежат непогребенные кости Макарова бычка, взывая к отмщению.
Медленно, шаг за шагом, подвигалась передовая цепь охотников, делая короткие перебежки от кустика к кустику. Макар Шелудяк, вонзая глаза вперед, не забывал и тыла. Как бы намечая путь отступления, он то и дело оглядывался назад, но увы! — на каждом шагу щетиной торчали вилы и косы, угрожая не только зверю, но и каждому, кто отважится ринуться на них. Когда предводитель, мучимый мстящими раками на время останавливался, он отовсюду слышал угрожающий шопот:
— Шагай, паря, шагай!.. За твою скотину погибам…
6. Видмедь и бычек.
Подавлял вздохи и спазмы, Макар шел вперед. По мере приближения к медведю, все определеннее давали себя знать приступы медвежьей болезни.
Неожиданно впереди, совсем близко, послышалась возня, что-то зловеще затрещало.
У Макара перехватило дыханье. Он чувствовал, как оборвалось сердце и покатилось куда-то вниз. Оно остановилось как раз в пятках. Выскочить наружу, как видно, помешали новые лапти. Собравшись с духом Макар во всю глотку заорал:
— Преть робя!.. Держись, кто может! — и со всех ног бросился бежать.
Кто-то невидимый, но злобный, швырнул ему под ноги огромный куст можжевельника. Макар, потеряв равновесие, волчком покатился по земле.
Бодрый топот многочисленных ног подсказал предводителю, что его соратники более счастливо избежали опасности.
— Погиб вчистую, — подумал Макар.
Он сделал последнюю попытку приподняться, но раздавшийся за кустами нелюдской топот заставил его закрыть голову руками.
— Пусть жрет с лаптей, — подсказал угасающий инстинкт. Над Макаром что-то переминалось и тяжело сопело. Вот это что-то наклонилось над ним, обдавая горячим дыханием, потом почмокало губами, обнюхало Макара и лизнуло руку.
Язык горячий, шаршавый, как рачья скорлупа.
Зверь, облизав Макару руки, принялся за голову.
— Привередник, подлюга, не ест… Должно, я дюже запачкан, — в последний раз шевельнулось в Макаровой голове и он куда-то привалился.
_____
Когда к Макару вновь вернулось сознание, зверь все еще его облизывал.
— Это ловко, что я прикинулся мертвяком, — сообразил Макар, — бают, видмеди мертвечины не лопают… Може, и того…
От этой мысли Макар ожил вновь. Он почувствовал, как сердце из пяток возвращается на свое место.
Откуда-то издалека несколько голосов в перекличку звало:
— Ма-ка-ар!.. Мака-ар, ши-ши-га!..
— Хватились, — подумал Макар, — може и отымут.
Зверь перестал приводить в порядок прическу человека и, посапывая, топтался над ним. Почмокал, пофыркал, издал какой-то неопределенный звук, похожий на мычание.
— Не скусно, бродяга? — думал про себя Макар. — Чиво это он — никак, мычит?.. Али это у меня в брюхе урчит?.. Сказывал, видмеди — ревут…
Мычание повторилось, уже определеннее. Мужик осторожно-осторожно повернул голову и приоткрыл один глаз. Перед ним стоял, низко вытянув шею, его рыжий бычек, поблескивая белой звездочкой на лбу. Большие воловьи глаза глядели на Макара грустно, влюбленно и, вместе с тем, укоряюще.
…………………..
ЖИВОЙ МЕТАЛЛ
Научно-фантастический роман А. Меррита
Иллюстрации Поля
СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ I–IX, НАПЕЧАТАННЫХ В 10-й КНИЖКЕ «МИРА ПРИКЛЮЧЕНИИ».
Американский профессор Луис Сорнтонг, уже побывавший в Тибете, снова отправился туда вместе с инженером Дрэком. В горах они наблюдает замечательные световые явления и находят загадочный гигантский след на скале, оставленный точно каким-то невероятным чудовищем. В разрушенной крепости, помнящей времена Александра Македонского, путешественники встречают Мартина Beнтнора с его прекрасной сестрою Руфью. Брата и сестру преследуют воины, похожие на древних персов времен Ксеркса. В решительную минуту появляется странная женщина Норхала, по приказанию которой тысячи маленьких металлических предметов — чисто геометрических фигур — принимают форму многорукого чудовища и разбивают войско персов. Шары, кубы и пирамиды из живого металла исчезают, затем огромные кубы перекидываются, как мост, через пропасть, и несут на себе Норхалу и путешественников. Последние начинают таинственное, полное странных физических и магнитных явлений путешествие. В кратком содержании невозможно передать сложные и причудливые формы встречающихся чудовищ, состоящих однако из знакомых всех форм — кубов, шаров и пирамид.
ГЛАВА X
Перед дверью.
Фигура казалась теперь безголовой. С высоты ее снова донеслись стонущие звуки.
В поле нашего зрения появилось гигантское колесо. Оно помчалось вниз, его втянуло, как лист в водоворот, и оно, наконец, с металлическим звоном вернулось на свое место на чудовищном теле. Фигура затрепетала, растаяла и исчезла, рассыпаясь на полчище шаров, кубов и пирамид, снова волной покатившихся вслед за нами.
Мы промчались к правой стене расселины и скользнули через широкую гряду. Эта гряда была шириной футов в сто. От нее уровень земли быстро спускался. Характер скал изменился. Кварцевые жилы сверкали, как хрусталь, как туманный опал; тут — мазок киновари; там — янтарный блик.
Земля полетела вниз. Возле нас открылась пропасть, уходящая неизмеримо глубоко.
Из сопровождавших нас металлических полчищ вырвались кубы. Они промелькнули мимо и промчались вперед. Мрак начал сгущаться и мы летели в самой черной ночи. Мрак пронизывала длинная стрела бледно-голубого фосфоресцирующего света.
Я прикрыл руками глаза от ураганного ветра и смотрел сквозь пальцы. Прямо на нашем пути возвышалась баррикада из кубов. Я закрыл глаза перед неизбежным столкновением.
Я услышал восклицание Вентнора. Платформа наши поднялась и я открыл глаза.
Мы мчались прямо к вершине преграды, вставшей на нашем пути. Мы перелетели через нее и с незамедляющейся быстротой прошли над фосфоресцирующей стрелой, оказавшейся другим мостом из кубов. Под этим мостам я чувствовал пустоту.
Мы мчались на кубах к вершине преграды…
Мы снова врезались во мрак. Раздавался ужаснейший шум, треск и рев.
Вдали появилось слабое мерцание, как от восходящего в тумане солнца. Вокруг нас становилась все светлей. И все громче грохот кругом.
Горизонт теперь пламенел И в это пламя из глубин вытянулся огромный прямоугольный язык, сверкающий, как серая сталь. На языке появился какой-то темный силуэт. Это было похоже на гигантскую жабу, грузную и рогатую. Минуту она выделялась силуэтом, потом исчезла в огненной пасти.
Таким же черным силуетом, как жаба, появился и куб с Руфью и Норхалой. Он точно задержался, ждал чего то.
— Это дверь! — закричал Дрэк.
Огненная пасть действительно была воротами. Через них лился свет. Отблески пламени, бегающие тени были позади этих ворот. Пламенная пасть была иллюзией, рожденной мраком, в котором мы двигались.
Металлический мир
Норхала подняла высоко над головой руку. Из мрак вынырнул еще один силует — огромный краб. Все его тело было усеяно зеленоватыми языками пламени.
Краб исчез. На его месте был куб с Руфью и Норхалой. Потом и они исчезли, а мы очутились там, где мгновение тому назад были они.
Мы плыли высоко над океаном света. Море это раскинулось на пространстве бесчисленных миль. В этом мире света стали появляться какие-то циклопические формы. Теперь грохот кругом был так оглушителен, точно десять тысяч Торов били молотками врагов Одина. Точно кузница, в которой ковали новый мир.
Новый мир? Металлический мир?
Вдруг шум замер, молнии потухли, а пламенное море стало легким, как туман.
Сквозь потухающий свет и далеко-далеко впереди появилась флуоресцирующая аметистовая полоса. От этой полосы каскадом спускались световые завесы, туманные и сверкающие. На фоне их выделялось нечто, показавшееся мне сначала горой. Мы приблизились и я увидел, что это был… город.
Город в милю высоты и увенчанный бесчисленными башнями, арками и куполами. Стены города сверкали множеством огней. С башен и арок падали широкие лучи электрического света.
Перед нами был город в милю высоты, увенчанный бесчисленными башнями, арками и куполами.
Было ли это результатом усталости глаз, или игрой мрака и теней, или же все эти силуеты, действительно, двигались и меняли форму?
Это были вертящиеся купола и арки, башни точно таяли в каком-то брожении.
Я оторвал взгляд от этой картины. Наша платформа остановилась на широком и серебристом кряже, вблизи рамки ворот, и рядом с нами стояла Норхала, обнимавшая Руфь.
Прежде, чем кто-либо из нас успел крикнуть, куб скользнул к краю кряжа и исчез из вида. То, на чем мы летели, дрогнуло и помчалось вслед.
У меня появилось тошнотворное ощущение падения вниз. Мы прижались друг к другу. В первый раз лошадь жалобно заржала. Мы летели прямо в бездну.
Далеко впереди мчались Норхала и Руфь. Их волосы разевались по ветру, смешивались я казались шелковыми паутинами каштанового и золотистого цвета. Кругом, наверху, внизу, снова началось громовое ворчание бесчисленных грозовых литавр.
ГЛАВА XI
Врата пламени.
Казалось, что мы на метеоре мчимся через пространство. Разрываемый воздух гудел и визжал. Наша лошадь широко расставила ноги и опустила голову. Я видел, как Вентнор склонялся все ниже, закрывая руками глаза от бурного ветра. Дрэк поддерживал его.
Я почувствовал, что сила циклона ослабевает. Похожие на странных лягушек, присели на самом краю платформы Вентнор и Дрэк. Я подполз к ним, совсем как гусеница, потому что там, где тело мое касалось поверхности кубов, притягательная сила держала его и позволяла только ползти, скользя поверхностью по поверхности.
Когда мои ладони касались кубов, я окончательно понял, что это металл, какой бы он жизнью ни жил.
В свидетельстве прикосновений нельзя было сомневаться. Это был металл, с намеком на хорошо отполированную платину. Кроме того, у кубов была температура, странно приятное тепло. Температура поверхности была градусов девяносто по Фаренгейту. Я всмотрелся в маленькие, сверкающие точки. Они казались совсем близкими к поверхности кубов и в то же время бесконечно далекими от нее.
Они были похожи… на что это они были похожи?
Мне пришло в голову, что они похожи на маленькие сапфировые звезды в ясных, серых глазах Норхалы.
Я подполз к Дрэку и толкнул его головой. Он оглянулся на меня.
— Не могу двинуться, крикнул я. — Не могу поднять рук. Прилип, как муха.
Дрэк только усмехнулся, потом указал вперед. На нас точно мчалась металлическая скала, похожая на розовую тучу из стали. В ней были ворота, которые тоже мчались на нас — раскрытая пасть холодного голубого пламени.
И мы влетели в эту пасть. Она пожрала нас. Невыносимо яркий, слепящий поток света залил нас.
ГЛАВА XII
Во власти Диска.
Не знаю, сколько времени мы находились в этом слепящем свете. Казалось, что это были бесконечные часы. На самом деле это, конечно, были всею только секунды!
Я, наконец, ощутил ласковый и целительный мрак. Я поднял голову. Мы двигались тихо, спокойно, через мягкую, синеватую темноту. Глаза мои устремились на какой-то предмет в каком-нибудь футе расстояния. Шея моя напряглась, я смотрел во все глаза, не веря себе. То, на что я смотрел, было рукой скелета. Каждая серовато-черная кость этой руки резко вырисовывалась и рука эта тянулась… но к чему это она тянулась?
Я закрыл глаза, чтобы не видеть ужасной руки. Но рука протянулась к самому моему лицу, коснулась меня. Невольный крик, вырвавшийся у меня, тотчас же умолк. Я понял. Рука скелета была моей собственной рукой. Я знал, что я сейчас же увижу, и, действительно, увидел. Два длинных скелета стояли рядом со скелетом лошади. Это были Дрэк и Вентнор. А впереди, на сверкающем кубе, неслись две женщины — скелеты. Руфь и Норхала.
Эффект этот создавал окружающий нас свет. Колебания в отчасти только исследованной области ультрафиолетовых лучей и вне исследованной области над нею: родина рентгеновского луча и другие подобные световые феномены. И все же какое-то различие было. Вокруг костей не было туманного сияния, видимого всегда при X лучах, этого напоминания о теле, которое даже они не могут сделать совсем невидимым. Скелеты стояли резко очерченные, без всяких следов телесной оболочки.
— Не открывайте глаз, — сказал я своим спутникам. — Мы проходим через странный свет. У него есть качества X-лучей. Вы увидите меня скелетом.
— Что? — закричал Дрэк. Не слушая моих предупреждений, он выпрямился и во все глаза уставился на меня. И хотя я и понимал причину происходившего. я все же с ужасом смотрел на этот череп, вытянувшийся ко мне. Скелет, бывший Вентнором, не спускал глаз с летевшей впереди нас пары. Я увидел, как он сжал лишенные телесной оболочки челюсти.
Вдруг тело вернулось к скелетам Руфи и Норхалы. Снова стояли во всей своей красоте девушка и женщина. В следующее мгновение и мы стояли живыми людьми с плотью и кровью.
Освещение изменилось. Лиловый цвет исчез из него. Появились желтые лучи, как лучи солнца. Мы летели по широкому корридору, тянувшемуся, казалось, без конца. Желтый свет стал ярче.
Корридор открывался в пространство, для обширности которого у меня нет слов. Впереди стал вырисовываться светящийся диск.
Он был овальный, футов в двадцать в высоту и не больше двенадцати в ширину. Одна широкая полога, прозрачная, как солнечно-золотистый хризолит, бежала по ею окружности. Внутри этой зоны, на равные расстояниях друг от друга, было десять овальных предметов живого света. Они сияли как сапфиры. Первые были бледного, водянистого цвета, следующие все темнее, пока не доходили до прозрачного густо-синего цвета, прорезываемого оттенками пурпура. В каждом из них жило пламя, огненная эссенция жизненности.
Диск был выпуклый, похожий на щит, и снял розовато-серым, кристаллическим светом. От живущих овальных предметов тянулись сверкающие нити, сверкающие и радужные. Со спиральными извивами, образуя завитки, они сходились к ядру.
А это ядро? Что это было такое? Отчасти разумом, как мы понимаем разум. Но гораздо, гораздо больше этого по своей энергии и силам.
Это было похоже на розу, на невероятную розу с тысячью лепестков. Она цвела мириадами меняющихся оттенков. Мгновение за мгновением, поток разноцветного пламени, вливавшийся из сапфировых овалов в ее лепестки, слабел и гас. Сердце розы было звездой раскаленною рубина.
Диск изливал силу, — силу могучую и сознательную.
Плывущие в воздухе фигуры Норхады и Руфи приближались к самому диску и остановились перед ним. В минуту их остановки я почувствовал прилив сил, почувствовал прежнюю свободу движений.
Мы промчались дальше и остановились шагах в двенадцати от сверкающих фирм и легко сошли на землю.
Норхала, точно поддерживаемая невидимыми руками, взлетела к пламенеющей розе диска. Она летела все выше к правой части золотой зоны диска… От краев овалов притянулись щупальцы, тонкие опаловые нити. Они вытянулись вперед на целый ярд, касались Норхалы, ласкали ее. Она висела в воздухе, трепещущая, со скрытым от нас лицом. Потом ее точно мягко опустили на землю.
А мимо нее по воздуху проплыла Руфь. На лице ее был экстаз, она не отрываясь смотрела на пламенную розу, переливы которой стали еще живее. Мгновение Руфь висела в воздухе. Ее подняло еще выше и направо, как было с Норхалой.
Снова тонкие нити протянулись и стали касаться ее одежды, зазмеились вокруг шеи, проникли в ее волосы, прошли по всему ее лицу. Они поясом охватили ее.
Все это было жутко похоже на то, что кто-то разумный изучает, осматривает какое-то чуждое ему существо и поражен его сходством и несходством с другим, подобным ему.
В это время раздался выстрел.
Вентнор стоял на коленях и с побелевшими губами старательно целился, чтобы вторично выстрелить в сердце диска.
— Не надо, Мартин, не надо стрелять, — крикнул я.
— Не стреляйте, Вентнор! — крик Дрэка слился с моим.
Норхала ласточкой полетела к Вентнору. Вытянутое тело Руфи скользнуло вниз по диску, мягко опустилось на землю, и стояло, покачиваясь.
А в Вентнора полетела стрела зеленого пламени, молния, какие порождает гроза. Стрела ударила в… Норхалу. Она ударила и стекла по ней, как вода. Один язычек пламени вырвался из-за обнаженного плеча Норхалы, перекинулся на ружье в руках Вентнора. Ружье вырвалось из рук Вентнора и взорвалось высоко в воздухе. Вентнор сделал судорожное движение и упал.
К нам подбежала Руфь. Выражение экстаза исчезло с ее лица, оно было теперь трагической маской человеческою ужаса. Она заглядывала брату в лицо, прикладывала ухо к его сердцу. Потом стала на колени и умоляюще протянула руки к Норхале.
— Норхала, умоляю вас, пусть они его больше не трогают.
Она горько заплакала.
Дрэк подошел к Норхале:
— Если вам дорога жизнь, уберите ваших дьяволов, — угрожающе сказал он. Норхала удивленно взглянула на него. Мне было ясно, что она не понимает смысла его слов, да и не понимает сути просьбы Руфи, ее горя.
— Скажите ей, Сорнтон, на ее языке. Я не шучу! — обратился ко мне Дрэк.
Я покачал головой. Я знал, что так действовать не имело никакого смысла. Я взглянул на диск. Все в нем было спокойно, неподвижно. Я не почувствовал ни враждебности, ни злобы.
— Норхала, — я повернулся к женщине, — она не хочет, чтобы брат страдал. Она любит его.
— Любит его! — все удивление женщины как в фокусе собралось в этом слове. — Любит? — с любопытством спросила сна.
— Она любит его, — повторил я. Норхала задумчиво посмотрела на Руфь.
Потом безнадежно покачала головой и подошла к диску.
Мы напряженно ждали. Между Норхалой и диском повидимому происходил какой-то обмен мыслей. Не было сомнения, что женщина и совершенно нечеловеческая металлическая форма понимали друг друга.
Норхала обернулась и отступила в сторону. А тело Вентнора затрепетало, поднялось с земли и с закрытыми глазами и упавшей на одно плечо головой скользнуло к диску.
Руфь застонала и прикрыла глаза рукой. Дрэк подошел к девушке, обнял ее и крепко прижал к себе.
Скользящее тело Вентнора стояло теперь перед диском. Оно проплыло вверх вдоль диска. Щупальцы высунулись, ощупали его и заползли за широкий ворот его рубашки. Тело Вентнора поднялось выше. Я увидел, как высунулись другие щупальцы и коснулись его.
Потом тело стало опускаться, его точно чьи то руки бережно положили к нашим ногам.
— Он не… умер, — Норхала отвела голову Руфи от плеча Дрэка. — Он не умрет. Он, может быть, снова будет ходить. Они не могут помочь, — в голосе ее было как будто извинение. — Они не знали.
Она замолчала, точно не могла найти слов.
— Я возьму его к себе, — продолжала она. — Вы в безопасности. Он дал мне вас, как игрушки.
— Кто дал вам, Норхала? — спросил я так спокойно, как только маг.
— Он, — указала на диск и добавила. — Властитель Жизни и Смерти! Великий!
Она указала нам на Вентнора:
— Несите его!
И повела нас к нашим кубам.
Когда мы поднимали тело Вентнора, я пощупал под рубашкой его сердце. Оно билось слабо и тихо, но ровно. Я знал, что у Вентнора есть с собой лекарства. Значит, я смогу поухаживать за ним там, куда нас приведет женщина. Мы поднялись на нашу площадку и я стал искать в нагруженных на лошадь мешках нужное мне лекарство.
Я видел, как Норхала повела Руфь к кубу. Но девушка вырвалась от нее, вспрыгнула к нам и, опустившись на колени перед братом, прижала к груди его голову. Когда я нашел шприц и стрихнин, я увидел, что среди нас стоит Норхала. Она последовала за Руфью. Площадка дрогнула и полетела.
Не обращая внимания на Норхалу, Руфь, Дрэк и я наклонились к Вентнору, пытаясь разжечь искорку жизни, готовой исчезнуть.
ГЛАВА XIII
В доме Норхалы.
Мы обнажили Вентнора по пояс и массировали ему голову, шею и грудь. Ожогов на теле не было никаких, даже на руках, которых коснулся язык пламени. Красноватый оттенок его кожи сменился страшной бледностью. Сама кожа была подозрительно холодна, давление крови слегка понижено. Я не мог добиться нервной реакции В мускулах тела совершенно не было гибкости, и ноги, руки и голова Вентнора точно у куклы оставались в том положении, в которое мы их привели. Все же состояние Вентнора, повидимому, улучшалось, и я успокоился и стал понемногу воспринимать внешние впечатления. В воздухе уменьшилось магнетическое напряжение. Я вдохнул благословенный запах деревьев и воды.
Свет вокруг был ясный и жемчужный, как во время полнолуния.
Дрэк удивленно свистнул. Мы медленно скользили к чему-то очень похожему на блестящий пузырь сапфировых и бирюзовых оттенков, поднимающийся над землей.
Башенки, круглые, цвета желтого топаза, с маленькими шестиугольными отверстиями, льнули к нему, точно малютки-пузырьки. Его осеняли большие деревья, необычные деревья, среди глянцеватых листьев которых букетами цвели белые и розовые цветы, похожие на цвет яблони. С тонких ветвей деревьев свисали странные плоды, золотые и пунцовые грушевидной формы.
Голубовато-синий полушар был футов пятьдесят в высоту. Широкая и сверкающая дорога бежала к его большому, овальному входу.
— Мой дом! — шепнула Норхала.
Притягивавшая нас к кубам сила ослабела, мы сошли на землю и осторожно сняли тело Вентнора.
— Входите! — сказала Норхала.
— Скажите ей, чтобы она подождала минуту! — крикнул Дрэк. Он развязал лошади глаза, снял с нее мешки и отвел лошадь на сочную траву у дороги. Там он стреножил ее и вернулся к нам.
Мы подняли Вентнора и медленно прошли в широкий вход.
Мы стояли в затемненном помещении. Свет, наполнявший его, был кристальный и тени тоже были кристальные. А когда мои глаза привыкли, я увидел, что то, что принимал за тени, на самое деле не было тенями. Это были узкие полосы полупрозрачного лунного камня, выходящие из закруглявшихся стен и высокого купола и пересекавшие в разных местах комнату.
В них были овальные двери, над которыми спускались сверкающие металлические занавеси — шелк из золота и серебра.
В то время, как мы укладывали Вентнора на кусок такого шелка, лежавший на полу, Руфь испуганно вскрикнула.
В занавешенную дверь проскользнула фигура. Она была высокая и черная. Длинные, цепкие руки висели, как у обезьяны. Одно плечо было настолько ниже другого, что рука почти касалась земли. Фигура двигалась походкой краба. Лицо было в бесчисленных морщинах, и ни в лице, ни в фигуре ничто не говорило мужчина это или женщина.
В занавешенную дверь проскользнула фигура..
С плеч опускалась короткая красная туника без рукавов. Существо это было невероятно старое. А, судя по мускулистости, также невероятно сильное. Во мне оно возбудило отвращение, почти доходящее до тошноты. Но глаза на этом лице были не старческие. Черные и сверкающие, они горели среди морщин лица. Они с обожанием были устремлены на Норхалу. Существо упало к ее ногам, вытянув руки.
— Великая! — закричало оно высоким и удивительно неприятным фальцетом.
Норхала вытянула ногу в сандалии и коснулась его руки. Дрожь экстаза пробежала по сухощавому телу.
— Юрук… — начала она и умолкла, глядя на нас.
— Великая говорит, Юрук слушает! Великая говорит!
— Юрук, встань. Посмотри на чужеземцев.
Существо, которое она назвала Юруком, — я понял теперь, что это было за существо — приподнялось на руках и взглянуло на нас. По недоумению в его немигающем взгляде, я понял, что евнух только сейчас нас заметил. Но недоумение исчезло и сменилось злобой. Он вскочил на ноги и протянул руку к Руфи. Но Дрэк сейчас же ударил его по этой руке.
— Юрук! — в звенящем голосе был оттенок недовольства. — Они — мои. Ты не тронешь их. Юрук, — берегись!
— Великая приказывает, Юрук подчиняется!
— Вот хороший маленький товарищ для ее игр в новые игрушки, — пробормотал Дрэк.
Норхала махнула рукой. Евнух шмыгнул в один из занавешенных овалов и почти тотчас же вернулся с огромным подносом, на котором были фрукты и какая-то густая белая жидкость в толстых фарфоровых чашах.
— Это вам — сказа за Норхала, и черные руки опустили поднос у наших ног.
— Вы голодны? — спросил Дрэк Руфь… Она покачала годовой.
— Я принесу наши мешки, — сказал Дрэк. — мы будем есть собственную пищу — пока ее хватит. Я не рискну попробовать то, что нам принес этот молодчик Юрук, хотя и верю в добрые намерения Норхалы.
— Я устала, — вздохнула Норхала, — путь был такой длинный.
Она протянула евнуху стройную ногу. Он опустился на колени и снял с Норхалы сандалии. Она подняла руки к шее и окутавшие ее покрывала стали с нее спадать медленно, точно нехотя. Они упали на пол и из чаши этого шелкового цветка поднялось сверкающее чудо ее тела.
Она была обнажена и все же одета какой-то необычайной чистотой, защищавшей ее от пламени желаний. Это была женщина, но женского очарования в ней было не больше, чем если бы она была прекрасной статуей из слоновой кости и жемчуга.
Она стояла, точно забыв о нашем присутствии. И это спокойное безразличие, это полное отсутствие того, что мы называем чувством пола, открыло мне, как велика была пропасть между нами и ею. Гораздо больше может быть, чем пропасть между ею и ее металлическими слугами, ее металлическим… возлюбленным?
Вошел Дрэк со своим грузом мешков. Он от удивления уронил свою ношу и в глазах его появилось выражение какого-то благоговейного восхищения.
Норхала переступила через свои упавшие одежды и прошла к дальней стене, Юрук последовал за ней, взял стоявший на полу серебряным кувшин и стал медленно лить его содержимое на ее плечи. Снова и снова наклонялся он и наполнял кувшин, зачерпывая воду из бассейна, где журчал маленький фонтан. Он затем ушел и вернулся с одеждами, в которые и закутал Норхалу.
Она снова подошла к нам своей плавной походкой и склонилась к Руфи, которая все еще прижимала к себе голову брата.
— Выкупайтесь, — она указала на бассейн, — и отдохните. Вам здесь ничто не грозит. А если вы, — ее рука легла на голову Руфи, — если вы пожелаете, я дам вам покой.
Она раздвинула занавеси, евнух последовал за ней, и оба скрылись.
Из-за этих занавесей раздался легкий шорох. Они заколыхались. Из-под них выкатилось множество металлических предметов. самых маленьких, «малюток», как назвала их Руфь. Среди них не было шаров, только кубы и пирамиды. Они бегали вокруг нас и прыгали, как игривые дети, точно подмигивая мириадами поблескивающих глаз. Вдруг они промчались к выходу и образовали круг, который стал вращаться со все увеличивающейся скоростью.
Раздалось тихие стенание, жутко похожее на детское, очертания круга стали меняться так быстро, что за ними невозможно было уследить, появился синеватый свет, раздался треск. Фосфоресцирующая стрела мелькнула в дверях, и малютки исчезли.
Мы бросились к выходу и выглянули. К вратам в скалах мчалось нечто похожее на крошечный метеор. Он пролетел через ворога и исчез, как падучая звезда.
— Посланец, — решил Дрэк. — Вероятно его отправили сообщить хозяину, что она благополучно добралась домой со своими новыми игрушками. Сорнтон, что это такое? — Дрэк схватил меня за руку.
Из туманной дали мчался другой метеор и мчался к нам. Он становился все больше и больше. Теперь это был бескрылый дракон. извергавший сапфировое пламя.
Забывая про опасность, мы выбежали из портала и смотрели вверх, следя за прохождением метеора. Почти над нашим головами линия его полета изменилась. Он сделал спиральное движение и потом вертикально помчался вниз. Сверкаула ослепительная вспышка, но я все же успел разглядеть, что летевший предмет не упал на землю, а сел на нее с поразительной, кошачьей мягкостью.
Вниз по его отвесной стороже скатился большей шар и заскользил к обиталищу Норхалы.
Большой яркий шар заскользил к жилищу Норхалы.
Мои ослепленные яркой вспышкой глаза отдохнули. На месте вспышки стояла гигантская четырехугольная пирамида, черная, как лишенный колонны обелиск. Она качалась, наклонялась вперед и назад. Потом у основания ее засиял яркий синий свет и раздался такой шум, точно разбивались сотни оконных стекол. Весь метеор сверкнул синим светом и исчез в воротах между скал как до него исчезли металлические малютки.
Я вспомнил о шаре, скатившемся с колонны.
— Скорей! К Руфи! — Я бросился бежать к дому. Какое облегчение было увидеть Руфь, все еще сидящую с больным братом.
— Руфь, — крикнул я, — сюда что-нибудь входило?
— Нет — она подняла удивленные глаза. Я ничего не видела. Был какой-то странный шум и в дверях что-то блеснуло. Больше ничего не было.
ГЛАВА XIV
Думающий кристалл.
Ее прервал стон Вентнора. Его рот медленно, медленно открывался. На усилия его тяжело было смотреть. Потом раздался его голос, такой слабый, точно он доносился издалека. Тень голоса, шепчущая из умершего горла.
— Глупо было стрелять, — произнес Вентнор, — мог вам наделать еще больших хлопот. Но я съума сошел от страха за Руфь.
Тонкая ниточка звука оборвалась.
— Вижу не видя… витаю во мраке… мрак этот — свет… черный свет… неописуемый. Соприкасаюсь с этими…
Голос снова оборвался. Он опять зазвучал со странной ритмичностью, подобно налетающим одна за другой морским волнам. Голосовые обломки мыслей, торопливо собранные в связную речь.
— Групповое сознание… гигантское… действующее в нашей сфере… действующее также в сферах колебаний, энергии, силы… выше и ниже той, на которую воздействует человечество… ощущения, повелевающие силы, неизвестные нам… но в большей степени — знающие, управляющие неведомыми энергиями… чувства, неизвестные нам… неизвестные… металлические, кристаллические, магнетические, электрические… сознание, в основе сходное с нашим… глубоко измененное различием в механизме, через который оно находит выражение… вижу яснее… яснее, — голос закричал в отчаянии, — нет… не-е-т, нет!
Потом отчетливо, уверенно:
— Владычество над всей землей? Да… пока человек достаточно силен, чтобы управлять, не больше. Наука научила нас. Где был млекопитающий, когда царили гигантские пресмыкающиеся? Боязливый и прячущийся в темных убежищах. И все же человек произошел от этих боязливых млекопитающих. Как долго в истории Земли человек был ее властелином? На мгновение дыхания, на прохождение тучи. И останется властелином только до тех пор, пока кто-нибудь сильнее ни вырвет владычества из его рук. Также, как он отвоевал его у хищных… как они отняли владычество у пресмыкающихся… как пресмыкающиеся у гигантских ящеричных… и так дальше, ко всем тем, которые брали верх в предрассветных сумерках Земли. Жизнь! Жизнь! Жизнь! Везде борющаяся за себя жизнь. Жизнь, оттесняющая в сторону другую жизнь, воюющая за мгновение своего первенства, добивающаяся его, владеющая этим первенством на один взмах крыльев времени… а потом… падающая, затоптанная ногами другой жизни, час которой пробил! Жизнь, толпящаяся у каждого прегражденного порога миллионами кружащихся миров, миллионом мчащихся вселенных. А эти… эти, — голос вдруг упал. — за Порогом в Доме Человека Эти Металлические Предметы, — разумы которых — думающий кристалл. Предметы, высасывающие свои силы из солнца и чья кровь — молния! Солнце! Солнце! — закричал он. Голос его стал пронзительным.
— Вернитесь в город! Они тоже уязвимы! Нет! Солнце… прорывайтесь, через солнце! Норхала! Норхала их слабость! Его слабость! Норхала! Вернитесь назад в их город…
Легкая дрожь потрясла его тело. Рот медленно закрылся.
— Мартин! Брат! — рыдала Руфь. Я ощупал его грудь, Сердце билось медленно, но ровно, упорно, настойчиво, точно все жизненные силы собрались в этом сердце, как в осажден ном городе… Но самого Вентнора, того сознания, которое было Вентнором, больше не было. Оно скрылось в той пустоте, в которой, по его словам, он витал — одинокий, молчаливый атом. Единственная нить, соединявшая его с нами, была порвана, и он был разлучен с нами так, точно находился вне пространства, как сам описывал это.
Мы с Дрэком, бледные, заглянули глубоко в глаза друг другу. Ни один из нас не решался первый прервать молчание, горестным фоном которого казались заглушенное рыдания Руфи.
ГЛАВА XV
В мире ритма и гармонии.
Удивительная способность человеческого разума — с такой готовностью искать в будничной жизни убежища от почти и переносимых кризисов — была для меня всегда одним из самых интересных психологических явлений. Она, конечно, инстинктивна. Приспособление, приобретенное по тем же самым причинам, которые дали животным их защитную окраску: например, полоски зебры и тигра, которые так искусно сливаются с тенями джунглей, или похожие на листья формы некоторых насекомых.
Как и животные диких стран, разум человека движется в джунглях, — в джунглях жизни, проходя по тропам, проложенным его бесчисленными предками в их прохождении от рождения к смерти. И эти тропы усажены кустами и деревьями по его собственному выбору — защитниками всего привычного и родного ему. На этих тропах предков человек движется безопасно, как звери в своих убежищах, — или он так думает.
За этими тропами находятся дикие места и сады неизвестного, и человеческие тропинки только кроличьи следы в бескрайном лесу.
Вот почему он прячется от бурных волнений, от необычной для него борьбы в привычное для него окружение.
Я невольно отвлекся в сторону. Но причина этого то, что все эти мысли промелькнули у меня в голове, когда Дрэк, наконец, прервал молчание.
Он решительно подошел к плакавшей девушке и в голосе его была резкость, которую я ему простил, когда понял его цель.
— Вставайте, Руфь, — приказал Дрэк. — Ваш брат пришел в сознание раз, придет и снова. Оставьте его теперь в покое и покормите нас. Я голоден.
Она недоверчиво взглянула на пего.
— Есть! — воскликнула она возмущенно. — Вы можете быть голодны!
— Могу… и голоден! — весело ответил Дрэк, — Не нужно падать духом.
— Руфь! — мягко сказал я девушке, — нам надо заботиться о себе, если мы хотим быть полезны ему. Вы должны поесть и потом отдохнуть.
Руфь покорно встала в вместе с Дрэком приготовила из наших запасов трапезу. К моему удивлению я почувствовал, что я голоден, и я с радостью смотрел, что и Руфь тоже пила и ела, хотя и очень мало.
Но в поведении девушки меня поражала какая-то странность. Она точно отсутствовала, и когда я встретился с ней глазами, прочел в них и ужас, и смущение. Я решил, что, как это ни тяжело, но настало время для расспросов.
— Руфь, — сказал я, — вам не нужно напоминать, что мы в тяжелом положении. Каждый факт, малейшее, что мы можем узнать, все это в высшей степени важно для нас. Что сделала с вами Норхала? Что произошло с вами, когда вы витали в воздухе перед диском?
Руфь тяжело перевела дыхание.
— Конечно, вы правы, — неуверенно произнесла она. — Только я думала… я думала, что справлюсь с этим одна. Но вы должны знать… на мне… пятно.
— Пятно! — воскликнул я и перехватил во взгляде Дрэка то же опасение за ее разум.
— Да, спокойно повторила она, — пятно. Нечто новое и чуждое в моем сердце, в моем мозгу. Что-то, что перешло ко мне сначала от Норхалы, когда мы с ней летели на кубе… и что то, что легло на мне печатью, когда я была в его, — голос ее снизился до шопота, — объятиях. Это заставляет меня забыть вас обоих, и Мартина, и весь мир. Это нечто старается оторвать меня от вас, от всего, и хочет, чтобы я без всяких треволнений витала бы в каком-то бескрайнем спокойствии, полном экстаза безмятежности. Но я так отчаянно хочу бороться с этим зовом! Руфь продолжала, задыхаясь.
— Когда я летела с Норхалой, мне казалось, что я на пороге неизведанного никогда блаженства, и былая жизнь стала сном, а вы и Мартин — снами во сне.
— Гипноз, — пробормотал Дрэк.
— Нет, — Руфь покачала головой. — Нет, больше, чем гипноз. Я не помню ничего из того путешествия по воздуху, кроме момента, когда почувствовала, что Мартин в опасности и прочла в глазах Норхалы смерть для него. Я спасла его и снова забыла все. Потом, когда я увидела этот пламенный диск, я не испытала ни ужаса, ни страха. Была огромная радость, точно я, наконец, вышла из бесконечного, черного океана отчаяния к яркому солнцу.
— Руфь! — в голосе Дрэка было возмущенное удивление.
— Подождите, девушка подняла трепещущую руку. — Вы спрашивали и должны теперь слушать.
Когда она снова заговорила, голос ее был низкий, странно ритмичный, в глазах был восторг.
— Я была свободна, свободна от всех людских цепей, страхов и печалей, от любви и ненависти. Свободна даже от надежд.
Зачем была надежда, когда я владела всем, что можно было желать? И я была частью стихии, одно с вечным, и в то яге время вполне сознавала, что я — Я. Из того, что держало меня, из его пламени лилась жизнь, поток жизни, в котором я купалась. И казалось, что эта жизнь приближает меня к стихии, превращает меня в эту стихию. Потом выстрелы… Пробуждение было ужасно. Я увидела упавшего Мартина и сбросила с себя очарование. Я оторвала его от себя. О, как это было ужасно! Это было похоже на то, что из мира где не было ни горестей, ни сомнений, из ритмичного и гармоничного мира я вернулась в мир черный и грязный, как кухня. А пятно все еще на мне, — голос Руфи стал громче, — и что-то хочет покорить мою волю. Ах, если бы я могла уснуть! Но я боюсь спать. Я думаю, что никогда больше не буду спать Я боюсь, что во сне это одолеет меня.
Мы с Дрэком переглянулись. Я просунул руку в свой мешок с лекарствами и вытащил снотворное средство, бесцветное и бесвкусное. Я опустил немного этого лекарства в чашку с водой и подал его Руфи. Она, как ребенок, доверчиво и покорил выпила.
— Но я не сдамся, — глаза Руфи были трагичны, — я одержу верх, правда?
— Ну, конечно, ободрил ее Дрэк. — Девять десятых вашего страха — результат усталости и нервности.
— Да, это будет трудно, но я все же одержу верх… — глаза Руфи закрылись. Мы положили ее рядом с Вентнором. Потом Дрэк прошел к тому занавешенному овалу, через который ушла Норхала.
— Дрэк! — крикнул я, — куда вы идете?
— Я иду к этой чертовке. — спокойно ответил он, — и во что бы то ни стало добьюсь от нее толку.
— Дрэк, — в ужасе закричал я, — не повторяйте ошибки Вентнора. Это не способ бороться с ними.
— Ошибаетесь, — упрямо возразил Дрэк, — я заставлю ее говорить.
Он протянул руку к занавесу. Но не успел он коснуться его, как занавес раздвинулся. Из-за него, крадучись, вышел евнух. Он стоял неподвижно и черные глаза его с угрозой смотрели на нас. Я встал между ним и Дрэком.
— Где ваша хозяйка, Юрук? — спросил я.
— Великая ушла, — злобно ответил он.
— Ушла? Но куда же?
— Кто может задавать вопросы Великой? — визгливо закричал евнух. — Она приходит и уходит, когда ей нравится.
Я перевел Дрэку.
— Я этого так, все равно, не оставлю, профессор, — упрямо ответил Дрэк. — Я буду с ней говорить.
— Юрук, — сказал я, — мы думаем, что вы лжете. Нам нужно поговорить с вашей хозяйкой. Проведите нас к ней.
— Я уже сказал вам, что Великой здесь нет, — ответил Юрук. — Мне нет дела до того, что вы не верите. Я не могу вас провести к ней, потому что не знаю, где она. Вы желаете, чтобы я провел вас по дому?
— Да. — сказал я.
— Великая приказала мне служить вам, — насмешливо произнес евнух. — Следуйте за мной.
Он повел нас в помещение, которое можно было бы назвать центральным залом. Оно было круглое и пол его был усеян множеством небольших ковров, колорит которых алхимией времени был превращен в прекрасные оттенки всех цветов. Клинообразные письмена на этих коврах говорили об их древности. Стены зала были из того же вещества, похожего на лунный камень, как и в первой комнате. В стенах были четыре двери, сходные о той. в которую мы вошли. Мы заглянули в каждую из этих занавешенных дверей.
Все комнаты были совершенно одинаковы, расходились от центрального зала по радиусам. Все здание со стенами и крышей было — шар, и кривизны поверхности шара и составляли стены и потолок этих комнат.
В первой из комнат находилось всевозможное оружие, короткие, обоюдоострые мечи и копья. Вторая была, очевидно, берлогой Юрука. В ней стояла медная жаровня, нечто вроде подставки для копий и гигантский лук с прислоненным к нему колчаном, полным стрел. Третья комната была вся заставлена сундуками, большими и маленьким, деревянными и бронзовыми. Все сундуки были плотно закрыты.
Четвертая комната была, несомненно, спальней Норхалы. На полу ее лежали толстые, старинные ковры. Недалеко от двери было низкое ложе из слоновой кости, инкрустированной золотом. На спинах четырех золоченых львов стояло высокое зеркало из полированного серебра. Возле зеркала забавно выстроились в ряд многочисленные сандалии. На низком шкафу лежали гребни из перламутра, золота и слоновой кости, усеянные цветными камнями — синими, желтыми и красными.
На все это мы взглянули только мельком. Мы искали Норхалу. Но ее не было и следов.
(Продолжение в № 1 —1929 г.)
ПОКОЙ И ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОТНОМ МИРЕ
Очерк д-ра Э. Ленка
Круги с черными и белыми секторами обозначают периоды покоя и активности втечение суток.
Человеческое знание давно уже к выводу, что движение, как и действия, является высочайшей жизнедеятельностью. Уже греческие философы считали все движущееся — живущим, и признавали за жизнь смену сна и бодрствования. Всевозможные раздражения внешнего мира и до сих пор еще мало изученные импульсы будят всякое живое существо, из состояния покоя приводят в состояние активности или бодрствования.
Таким образом состояние активности является понятием положительным, покоя— отрицательным.
Органы движения — мускулы и нервы; органы же покоя нам совершенно неизвестны.
Падает активность — и животное засыпает, при дальнейшем падении наступает обморочное состояние или зимняя спячка, т. е. состояние скрытой жизни. Когда же активность достигает нуля, организм умирает.
Поэтому для определения состояния живого существа очень важно исследовать его покой и активности и установить количество покоя и движения втечение суток. До сих пор таких исследований не делали.
С помощью соответствующих аппаратов, актографов, можно довольно точно записать периоды движения и покой. Аппараты эти состоят из клетки для животного, записывающего барабана и связующей части разнообразнейшей конструкции.
К маленьким животным применяют просто принцип волны. На стальной призме покоится пластинка, на коротком рычаге висит клетка, на длинном — пишущий аппарат, какие бывает на саморегистрирующих барометрах. «Писец» заносит движения клетки на бумагу, натянутую на вертящийся барабан. Чувствительность аппарата может быть так усилена, что он будет отмечать даже движения мухи. С таким аппаратом делают наблюдения над маленькими животными, над дождевыми лягушками, улитками.
Аппараты больших размеров применяются для японских мышей и раков. В этих аппаратах клетка висит на тонкой спиральной пружине.
Для еще больших животных, напр., для канареек, лучше всего подходят актографы, в которых клетка покоится на мембране, находящейся над воздушным пространством, вследствие чего движения животного передаются дальше.
Затем имеются аппараты для грудных младенцев, для кроликов, кошек и собак.
Труднее всего подвергать таким исследованиям рыб. Но и тут нашли хороший метод За десять дней до опыта у рыбы прокалывают мускул в переднем конце спинного плавника тончайшей стерилизованной алюминиевой проволокой. На противоположном конце проволоки делают петлю, через нее продевают шелковый шнур, который проводят через катушку к записывающему движения механизму.
В течение суток животные пользуются в своих клетках полной свободой движений, получают пищу и питье. Словом, принимаются все меры, чтобы животное чувствовало себя так же хорошо, как и на воле.
При бесчисленных опытах, которые доктор Шиманский производил в Венском Институте Психологии при университете у профессора доктора Алонда Крейдль, ему удаюсь установить две группы животных:
1) животные с большой активностью и большим периодом покоя (канарейки, ужи, болотные рыбки). Их называют монофазными животными.
2) Животные с часто чередующимися периодами покоя и активности. Это полифазные животные. Лучшими примерами являются мыши и кролики, переживающие за 24 часа от 16–21 периода покоя и активности.
1) Японская мышь, — 2) Улитка. — 3) Таракан, только что сбросивший шкурку (старая шкурка видна справа). - 4) Полевая мышь. — 5) Кролик. — 6) Кошка. 7) Четырехмесячный щенок. — 8) Дождевой червь. — 9) Лягушка. — 10) Белая крыса.
Распределение времени между сном и бодрствованием находится у монофазных животных (птиц, змей, рыб, мух) в теснейшей связи с закатом солнца. Они спят большей частью от заката до восхода солнца. Эти животные, как и люди, и человекообразные обезьяны, существа, живущие днем. Они воспринимают внешний мир глазами, т. е. оптически, и, повидимому, все оптические роды животных — монофазны.
Ни одно из полифазных животных не принадлежит к оптическим. Мыши и кролики, у которых особенно ярко выражена полифазия, очень незначительно реагируют на световое раздражение. Их называют осмотическими животными, потому что они знакомятся с окружающим миром по запаху. За 24 часа они показывают равномерную смену коротких и часто одинаково продолжительных периодов движения и отдыха. Другие полифазные животные, как дождевой червь, речной рак, мышь, крыса, отличаются тем, что втечение дня периоды бодрствования у них очень короткие, ночью же эти периоды чаще и продолжительнее. Эти животные осмотичны, т. е. узнают внешний мир по запаху, и все же некоторые из них отзываются на световые раздражения. Это наблюдается у речного рака, японской мыши и крысы.
Грудной младенец с его частой сменой покоя и активности является определенно выраженным полифазным организмом
Покой и движение полифазных животных не подчиняются никаким известным нам раздражениям, так как они двигаются и отдыхают вне зависимости от солнца. Несмотря на это, у них довольно равномерное распределение отдыха и движения втечение 24 часов. Поэтому невозможно ответить на вопрос, какие факторы влияют на их состояние покоя и движения. Во всяком случае регулирует движение и покой нечто, происходящее в самом теле животного. У некоторых животных наблюдается, что они приурочивают свои периоды покоя и движения к окружающей обстановке.
Так, дикая кошка — животное ночное, кошка же домашняя — животное дневное. Свой длинный период отдыха кошка приспособила к привычкам человека.
Как точно распределяются периоды отдыха и движения, показывают следующие примеры. Даже в начале зимней спячки уж, находящийся еще в периоде подвижности, только кажется неподвижным. На деле же можно проследить движение. Другим примером является дождевой червь. Если червя разрезать на две части, то у каждой части одновременно одни и те же периоды покоя и движения.
Графическое изображение связи между: 1) восходом солнца и пробуждением и 2) закатом и засыпанием у оптических, т. е. монофазных животных.
От смены покоя и движения зависит глубина сна. У монофазных животных сон крепче, чем у полифазных. Наиболее легким сном отличаются мыши.
Надо заметить, что принцип активности вытекает из внутренней необходимости. Понуждение к бодрствованию, к активности и вместе с тем к движению связано с внутренней жизнью человека и животного. Улитки, которых принято считать ленивыми, выказывают во время опыта поразительную активность. Понятно, что движение живого существа, это удивительное и таинственное явление, возбуждает любознательность человека с тех пор, как он вообще стал задумываться над загадкой жизни и смерти. И до сих пор движение и покой еще не раскрыли всех своих тайн.
…………………..
НЕВИДИМЫЕ СЛУГИ ПРИРОДЫ И НАШЕГО ОБИХОДА
Очерк д-ра З.
ЛАКОВЫЕ НАСЕКОМЫЕ ОСТ-ИНДИИ. — ДОМА-МОГИЛЫ. — КАК ПРИРОДА ИСПОЛЬЗУЕТ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА. — БЕСКОНЕЧНЫЕ ИЗВИЛИНЫ ТОРГОВЛИ ШЕЛЛАКОМ. — СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ — МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕСЯТКИ РАЗ В ДЕНЬ ПОЛЬЗУЕМСЯ ТРУДОМ ЛАКОВОГО НАСЕКОМОГО.
Не правда ли, очень мало общего между насекомым и звуками несравненного тенора или чарующей мелодией скрипки?
Но в основе всех этих прекрасных звуков, передаваемых нам граммофоном, все же — насекомое. Крошечное, непритязательное насекомое, окрашенное в красный цвет, насекомое, всю свою короткую жизнь заключенное в домике, который оно само себе и строит. Именно эти-то насекомые и составляют вещество из которого в большинстве случаев делаются граммофонные пластинки. Эти черные диски, в бороздках которых заключена лучшая в мире музыка, еще не так давно были просто похожими на смолу кусками на ветвях деревьев. Куски эти — результат работы крошечного насекомого, величиной едва ли с половину булавочной головки.
Это «лаковое» насекомое очень интересный маленькие организм. Уже по крайней мере 2 500 лет получает от него человечество полезный продукт.
Чтобы увидеть это насекомое за работой, нам пришлось бы проехать тысячи миль и очутиться в лесу восточной части центральной Индии. Лаковое насекомое лучше всего плодится в различных частях индийского полуострова, в Бирме и Сиаме.
Время нашей экскурсии, скажем, начало лета. Мы подходим к дереву, ветви которого покрыты неровным слоем какого то янтарного клея. Оказывается, что слой этот весь состоит из маленьких плоских смолистых колпачков, и в каждом из этих колпачков заживо погребен член лакового племени. Мы видим настоящую гробницу, в которой покоится ее же строитель, но в этой гробнице есть жизнь. Личинки вылупляются и втечение ближайших трех недель выйдут через дырочку на свободу и на свежий воздух. Через несколько часов, самое большее — через сутки, судьба нового лакового насекомого решена. Ему повезло, если день его рождения ясный и тихий. Накрапывающий дождик был бы для него ревущим потоком, который утопил бы его, а ветер — ураганом, который унес бы его в небытие. Но если погода благоприятствует, остается задача найти на дереве точку, где кора нежная и сочная. Всю свою энергию малютка — лаковое насекомое — направляет на разрешение этой задачи.
Когда удобное местечко найдено, лаковому насекомому ничего не остается желать. Но немногие, сравнительно, так счастливы!
Теперь лаковое насекомое на всю жизнь приковано к этому месту. Самцы еще бродят несколько часов на закате своей жизни, но для самок прогулки кончены навсегда.
Насекомое проникает клювом через кору в сок дерева и втягивает в себя пищу, как через трубку. В его теле сок химически превращается в новое вещество, в смолистую жидкость, и эта жидкость медленно выделяется через поры стенок тела. Она образует янтарную оболочку, которая становится все толще и превращается в круглый домик. Сливаясь с такими же домиками соседей, оболочка эта превращается в смолистую массу, которая неделя за неделей покрывает ветку более или менее гибким слоем с маленькими дырочками, через которые вылезает множество длинных, невероятно тонких, похожих на волосы, нитей.
Через некоторый промежуток времени, от одного до трех месяцев, в зависимости от сезона, — самцы вылезают из своего домика и после короткого периода размножения уходят и умирают.
Жизнь самки длиннее на несколько месяцев. Не нуждаясь больше в ногах и глазах, она сбрасывает их, как бы линяет, и превращается в грушевидный мешок. Но зато она с еще большим усердием всасывает сок дерева и значительно выростает. За три недели до конца жизни она начинает сжиматься. Потом кладет яйца, и после этого наступает ее смерть.
Ее многочисленное потомство вылезает из дырочек в домике. Если им повезет, они находят себе места по вкусу на ветвях деревьев. И в свою очередь совершают короткий цикл жизни.
Таким способом природа выводит через мириады своих крошечных посредников смолистое вещество на ветви деревьев.
Теперь начинается людское участие. Смолистое вещество собирают и отправляют в большое коммерческое путешествие.
Первым является чернокожий, полуобнаженный туземец в белом тюрбане. Он забирается на дерево и острым ножом срезает ветви, покрытые лаком. Может быть, он захочет привить часть лаковых насекомых другому дереву. Тогда он привязывает срезанные ветви к ветвям нового дерева или вешает их там в бамбуковых клетках, пока не выйдут личинки. Ветви с лаком для торговля он высушивает и соскабливает с них смолистый слой или же разрезает его на куски, которые продает затем без дальнейших приготовлений.
В определенное время на дороге появляется медленно движущаяся повозка, запряженная быками. Это «байпари», странствующий торговец Индии, на своем бесконечном пути из деревни в деревню, с материями и украшениями для туземцев. Он же покупает у них их разнообразные товары. Собирая тут и там куски лака, он встречает покупателя и обычно продает ему свой лак через комиссионера.
Иногда продажа происходит открытый аукционом. Но чаще она совершается традиционным способом своеобразного «тайного аукциона».
Окружая груды продающихся кусков лака, собираются их владелец, комиссионер и покупатели. Каждый протягивает в центру круга руку. На руки накидывается кусок ткани, и под ней каждый продавец по очереди хватает руку комиссионера и знаками показывает ему, какую он готов дать цену. Ее и он дает, скажем, 38 рупий за корзину (82½ фунта), он берег сначала три пальца маклера. Потом он снова хватает пальцы, но на этот раз два целых пальца и два сустава третьего. И сумма его предложения теперь — тридцать восемь. Когда все покупатели показали свои цены, комиссионер тем же способом сообщает продавцу высшую предложенную цену. Если владелец кивнет в знак согласия головой, комиссионер берет охапку лака и бросает ее счастливому покупателю. С начала и до конца сделка совершается молча, без единого слова.
Через много рук проходит лак, пока попадает, наконец, на фабрику. Куски лака тогда мелют в каменных ручных мельницах, похожих на примитивные крупорушки, выбирают камни и мусор, просеивают и веют, и лак готов к промывке. Красная краска, содержащаяся в телах насекомых, киноварь, долго была единственным ценным продуктом, получаемым от лакового насекомого. Теперь эта яркая краска почти обесценена, в виду появления анилиновых красок.
Размолотый лак кладут в большие каменные сосуды, покрывают водой и оставляют так на сутки. Потом является профессионал, моющий лак. Стоя в сосуде и держась за горизонтально положенную бамбуковую палку, он вертится направо и налево, растирая лак о зазубренные стены каменного вместилища. Процесс этот повторяется несколько раз, пока смоется вся лаковая краска. Тогда золотой зерновой лак раскладывается для сушки. Теперь уже имеется 90 % чистого лака.
После этого начинается прикрашивание лака. Когда лак рассортирован и лучшие сорта смешены с небольшим количеством желтого мышьяку и с различными пропорциями камеди, смесь эту растопляют, чтобы превратить в окончательный продукт торговли.
Но эти уловки не улучшают продукта, и к ним стали прибегать все реже, так как требование на лак и так большое.
Затем длинный холщевый мешок наполняется лаком. Для лучших сортов — мешок двойной. Этот мешок длиной до тридцати пяти футов и только дюйма три в диаметре. Больше всего он похож на длинную белую колбасу. Один человек крепко держит конец этой колбасы, другой медленно крутит противоположный конец, в то время, как все части колбасы по очереди держатся перед огнем. Лак начинает таять и просачивается через ткань мешка. Железной лопаточкой собирается липкая жидкость, смешивается с той, которая стекла на каменный пол, и обрызгивается водой.
Потом пластичная масса передается другому мастеру, который накладывает ее на фарфоровый цилиндр, полный теплом водой. Он разминает массу до равномерной толщины и затем, нагрев гибкий лист у огня, хватает его обеими руками, обеими ногами и ртом и вытягивает его так, что он становится вдвое больше.
Это последняя ступень в производстве шеллака. Листу дают остыть и, когда он затвердеет, ломают его на куски. Иногда лак не вытягивают на листы, а раскладывают небольшими плоскими кусками на каменном полу, ставят на каждом куске торговую марку и получаются в охлажденном виде пластинки, называемые пуговичным или гранатовым лаком. В любой форме лак теперь готов для отправки в далекие края.
Но у него уже другое название. Это шеллак, поблескивающий в наших роялях, находящий себе употребление в электрических аппаратах. Его применяют для выделки биллиардных шаров, для сургуча, цемента и клея, чернил, шляп, черепиц, искусственной слоновой кости и множества других предметов. Он у потребляется даже для глазировки шоколада.
Раз десять в день мы пользуемся работой крошечных существ далекой, древней страны и даже понятия не имеем об их существовании.
Но эта участь не одного только лакового насекомого. У нас легионы таких незаметных работников. Невидимые, они постоянно сглаживают путь культурного человека, отдавал ему скрытые богатства природы, чтобы удовлетворять и потребности его, и капризы.
Ветви деревьев с мириадами могил лакового насекомого.
Из леса с грузом ветвей, облепленных лаком.
Туземцы соскабливают мириады «домиков» со срезанных ветвей.
Перед примитивной печью прогревают «колбасу» с лаком.
Белая «колбаса», наполненная лаком.
НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!
Редактирует ЗАГАДАЙ-КА
КОНКУРС НА ПРЕМИИ № 9.
Надо решить три помещенных здесь задачи №№ 34, 35 и 36. Качество решений оценивается очками, согласно указаний в заголовках самих задач. Еще пол очка дополнительно может быть прибавлено за тщательность и аккуратность в выполнении решений, при соблюдении, конечно, всех требуемых условий. Те участники конкурса, которые соберут в сумме наибольшее числе очков, премируются следующими 10 премиями (при равенстве очков вопрос решается жребием):
1-я премия. — «Человек и земля» — Элизе Реклю, изд. Брокгауза, 6 томов в кожаных переплетах с множеством цветных и черных рисунков и карт (ценность 54 рубля).
2-я премия. — Бесплатное получение в течение 1929 г. журнала «Вестник Знания» с прилож. (любой серии).
3-я премия. — Бесплатное получение в точение 1929 г. журнала «Вестник Знания» (без приложений).
4 я премия. — Грез — художественное издание с красочными иллюстрациями.
5—10-я премии — Любые издания П. П. Сойкина на сумму до 3 рублей.
Все решения по конкурсу должны быть изложены на отдельном листе, сверху коего должны быть указаны фамилия, адрес и № подписного билета (или взамен того наклеен адрес с бандероли, под которой получается журнал). На конверте нужно делать надпись «В отдел задач».
Срок присылки решений — 4 недели после отправления этого № журнала почтой из Ленинграда.
_____
Как погрузить бочки?
Задача № 34 — 2 очка.
Возчику надо погрузить на подводу товар, заключенный в больших прочных бочках. Каждая бочка настолько тяжела, что один возчик не в состоянии вкатить ее даже по хорошо прилаженным сходням. Однако догадливый возчик сумел сам, не прибегая к помощи других людей, погрузить все бочки, использовав лишь силу своих лошадей (не выпрягая их). Как он это сделал?
Мексиканская дуэль.
Задача № 35 — 2 очка.
В мексиканской таверне произошла крупная ссора между англичанином, которого все знали, как прекрасного стрелка, и одним из ковбоев. Несмотря на ночное время, было решено устроить дуэль немедленно. Противников отвели в темный сарай, и третейский судья — единственный секундант — расставил их у противоположных стен, оставив у каждого из них в браунинге по три патрона. Дуэлянтам дали в рот по зажженной папиросе, и они должны были одновременно стрелять в полной темноте.
Секундант с фонарем вышел из сарая, фонарь потушили, и во мраке ночи прозвучала в полной тишине обусловленная команда. Немедленно со счетом «три!» прогремели один за другим три выстрела. А затем все смолкло — ни звука. Ковбои, вбежавшие в сарай со светом, увидели картину, воспроизводимую здесь на рисунке. Оба противника были невредимы, и только сближенные следы от трех пуль в стене неподалеку от ковбоя ясно говорили, кто стрелял. Ковбой же заявил, что он не стрелял потому, что англичанин, — вопреки условию, — выплюнул свою папиросу.
Торжествующие ковбои, освистав пристыженного англичанина, горячо приветствовали своего товарища, удивляясь, однако, как он мог уцелеть от метких выстрелов противника? Дуэлянт усмехнулся: «Стрелять действительно горазд, но посмотрите внимательнее около его пробоин».
Какой смысл таится в последних словах?
Пятиугольник и квадрат
Задача № 36 —до 4 очков.
После проработки пашей задачи № 6 (См. №№ 8 и 7 журнала) один из подписчиков предложил новое, лучшее решение этой задачи, в котором данный пятиугольник превращается в квадрат в результате разделения его всего лишь на 5 частей. Этот способ изображен здесь на чертеже: ABCDЕ — правильный пятиугольник и КLMN — квадрат, построенный в результате проведения через точку С прямой FG, перпендикулярной к AB, при GF = AG = FH = AH = MN = KL (HL параллельна AN, а АН, МК и NL — перпендикулярны к AN). Как данный пятиугольник, так и квадрат KLMN разбиты на чертеже на 5 одинаковых долей: 1 — общая часть в виде неправильного 5-угольника, 2 — прямоугольная трапеция, 3 —прямоугольный треугольник, 4 — равнобочный треугольник и 5 —равнобочная трапеция. Равновелик ли пятиугольник квадрату?
Требуется: 1) доказать правильность или неправильность этого решения: 2) указать, какая разница есть в этом решении сравнительно с тем, когда сторона квадрата принимается равной полусумме из стороны пятиугольника и его диагонали (см. упоминание об этом в разборе задачи № 6 в № 7 журнала).
ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРЕМИИ № 6.
Участников немного — всего 23 человека. В зачет получили 2 человека по 9½ очков, 3 — по 8½ очков, 5 — по 7½ очков и остальные — 7 и менее очков.
ПРЕМИИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ТАК:
1-я премия. — «Лис Патрикеевич» Гете, большой том с 36 эстампами на меди и 24 гравюрами (ценность 15 рублей) — Е. И. Добровольский (Днепропетровск).
2-я премия. — Бесплатное получение в течение 1929 г. журнала «Вестник Знания» — Семаков (Свердловск).
3-я премия — «Грез» — художественное издание с красочными иллюстрациями — Н. С. Возницкий (Ленинград).
4-я премия. — «Гений и творчество» проф. Грузенберга — основы теории и психологии творчества — Б. В. Смирнов (Одесса).
5-10-я премии: Издания, из числа указанных в условиях конкурса*: 5 — В М. Тациевскпй (Евпатория); 6 — К. А. Савинов (Тамбов); 7 — В. Гарин (Н.-Новгород); 8 — И. С. Черненко (Харьков); 9 — П. Б. Горцев (Ростов н/Д); 10 — В. И. Веселкин (Самара).
--
* Необходимо немедленно сделать заявку о желаемой премии.
Трапеция с секретом.
Задача № 24.
Полагая, что задача уже решена, обозначим искомую точку на верхнем основании данного прямоугольника KLMN буквой О, а отрезки обоих оснований через х и у. Центр тяжести трапеции KONM будет лежать: с одной стороны — по условию — на прямой ОR перпендикулярной основаниям KL и MN, и с другой стороны — на прямой AB, соединяющей центры тяжести прямоугольн. KORM и треугольн. ORN.
(А — пересечение диагоналей KR к МО, а точка В — пересечение медиан треуг. ORN или, — практически — граница между первой и второй третями диагонали RL). Следоват., центр тяжести нашей трапеции лежит в точке С. А сила тяжести всей трапеции, как равнодействующая параллельных с нею сил тяжести прямоугольн. KORM и треуг. ORN, делит прямую, соединяющую точки приложения каждой из составляющих сил, на части обратно пропорциональные самим силам (сохраняется равенство моментов сил). Поскольку силы выражаются здесь величиной площадей, мы составим пропорцию: площ. KORM / площ. ONR — BC: CA. Но первое отношение, при одной и той же высоте h, составляет величину: y: 1/2x, а второе отношение, равное BE: AD, составляет 1/3х: 1/2у. Из равенства этих отношений вытекает, что у × 1/2у = 1/2x × 1/3х (это и есть равенство моментов сил); отсюда х2 = 3у2, а х: у = √3.
И вот, значит, решение задачи: точка О делит основание прямоугольника на части, пропорциональные числам √3 и 1. И это решение совершенно не зависит от высоты h: оно действительно для всех прямоугольников с KL.
Для построения припомним, что √3 есть отношение стороны правильного треугольника к радиусу описанной окружности или отношение большого катета к меньшему катету в прямоуг. треугольнике с острыми углами в 60° и в 30°. Применительно к этому верхнее основание данного прямоугольника KL можно разбить на 2 части (√3: 1) двумя способами: 1-й способ. — Строится угол LKP = 15° и угол KLP = 80°. Из точки Р, пересечения вторых сторон этик углов — засекается на RL точка О радиусом ОР= РL. Тогда, при угле ОРК = 15°, КО = ОР, и значит точка О и будет искомой, так как в треугольнике ОLР отношение OL (х) к OP (OK = y) = √3. 2-й способ. — На KL строится засечками равносторонний треугольник KLS, а при точке L угол KLТ = 45°. Перпендикуляр из Т на KL = ТО — поделить KL в отношениях √3: 1 явствует из рассмотрения свойств треугольника КОТ, в коем ОТ = OL.
Таковы наиболее простые решения задачи. Однако, никто из участников конкурса этих решений не привел. Все определяли расстояние искомой точки от угла в зависимости от величины всего основания (а) и давали хотя и правильное, но менее красивое построение величины y = 1/2 (√3–1).
Юбилейный акростих.
Задача № 26.
Из числа многих акростихов, составленных в честь юбиляров Толстого и Горького, приведем един, составленный Б. В. Смирновым.
Можно ли угадать?
Задача № 25.
Если первый делитель будет х, а второй у, те Ах = By. Это неопределенное уравнение приводит в общем случае ко многим решениям, а для точного угадания одного задуманного числа N надо иметь какие-либо дополнительные условия зависимости. Например, если будет известен общий наибольший делитель d множителей (делителей) х и у, то поступают так: находят частные от деления А и В на их общего наибольшего делителя D и определяют искомое число, как произведение (A: D)×(B: D)×D×d (несложные выкладки выпущены). Эта формула принимает более простой вид в след, случаях: 1) Если известные числа А и В первые между собой, т. е. при D = 1, N = A×B×d. 2) Если будет сказано, что множители х и у первые между собой, то при d = 1 (a D > 1), искомое число определится, как (A: D)×(B: D)×D. 3) Если попарно не имеют общих делителей ни А с В, ни х с у, то при D = 1 и d = 1 — N= А×В; задуманное число угадается, как простое произведение названных чисел А и В. — Дополнительные условия могут быть даны и в другом виде, напр., указанием числа цифр в искомом числе и др. Наиболее полно все условии разобраны участником конкурса Семеновым (Свердловск).
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Непреодолимые, чисто технические причины, ни в коей мере не зависившие ни от доброй воли, ни от материальных средств, затрудняли Издательству в истекшем году правильный выпуск книжек журнала «Мир Приключений». Запоздание печатания журнала во второй половине 1928 года естественно повлекло за собой и невозможность своевременного выпуска № 11 и 12 «Мира Приключений» в этом году. По существующим почтовым правилам, не допускающим перехода по рассылке периодических изданий из одного года в другой, Изд-ву приходится выпустить последние два номера сдвоенными, чтобы использовать разрешение почты на рассылку №№ 11–12 журнала до 14 января с. г.
Но мы не хотим оставаться в долгу перед подписчиками, пострадавшими и не по нашей, но и не по своей вине. Всем, не дополучающим одной книжки «Мира Приключений», впродолжение двух ближайших месяцев будет выслано бесплатно более ценное по материальной стоимости
НОВОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ ПО МЫСЛИ и ВЫПОЛНЕНИЮ,
БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ
НАУКА В КАРТИНАХ-КОНСПЕКТАХ
СОДЕРЖАЩЕЕ СВЫШЕ 300 КАРТИН-ИЛЛЮСТРАЦИЙ,
наглядных чертежей, художественных схем и таблиц, сопровождаемых пояснительным текстом по основным вопросам: астрономии, физики, химии, минералогии, геологии, биологии, эмбриологии, ботаники, зоологии, антропологии, географии, этнографии и истории культуры, техники, медицины и сельского хозяйства, составл. под ред. проф. Б. П. Вейнберга, антрополога Академии Наук Б. Н. Вишневского, проф. С. П. Глазенапа, проф. П. Ю. Шмидта, проф. П. Н. Штейнберга и др.
Это издание имеет значение обзора, сразу вводящего новичка в круг общих проблем и основных положений современной науки.
Это издание — истинный ключ к знанию.
Оно составляет приложение к «Вестнику Знания» Изд-ва П. П. СОЙКИНА и в розничную продажу не поступит.
…………………..
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Рукописи, присылаемые в Редакцию, должны быть написаны четко, набело, чернилами, а не карандашом (а еще лучше — напечатаны на машинке), подписаны автором и снабжены его точным адресом. Переводчики должны прилагать иностранный оригинал. В случае необходимости, рукописи подлежат сокращениям и исправлениям. Рукописи, присылаемые без обозначения условий, оплачиваются по норме Редакции. Письменные ответы для Редакции не обязательны. На возврат рукописей необходимо прилагать марки. Непринятые рукописи хранятся 3 месяца и потом уничтожаются. Личный прием в Редакции по понедельникам от 2–5 ч. дня.
НЕ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ РАССКАЗЫ:
«Лесной рассказ». — «Приключение двух учеников». — «Один против двенадцати». — «Настоящие бриллианты». — «Из недавнего прошлого». — «День солнца». — «Странный шкаф». — «Две встречи». — «Из тьмы веков». — «Переполох». — «Идеи звуки», — «Зайчик в цеппелине». — «В волчьем кольце». — «Приговор». — «Дважды умерший». — «Борьба». — «Орфей в аду». — «Vibrio». — «Выиграть пари». — «По ошибке». — «Шутка». — «Шесть триллионов». — «Правда о Пикрафте». — «Ужас». — «Неоконченный роман». — «В ящике бандит». — «Два дерева». — «Приключение». — «Творцы новой жизни». — «Бобка». — «Анайя». — «Насильник». — «Собаки Константинополя». — «Городской и его Пес». — «Путешественник».—..Кругосветный город». — «Валенки». — «Индейцы Южной Америки», — «Каторга под тропиками». — «Гость». — «Добывание каучука». — «Орлиный пик». — «Славный малый Уаэри». — «Заморыш». — «Встреча». — «Серебряный гвоздик». — «Решение». — «Всемогущий нашего мира». — «Человек вечности». — «За независимость Афганистана». — «Сусальное золото». — «Полярная экспедиция Берда». — «Полосатая драгоценность». — «Странный случай». — «Цирковой случай». — «Во тьме веков». — «Нюся-фантазерка». — «Непонятное». — «Пройдут века». — «Крах мистера Хетчинса». — «Эмилио Сальгари». — «Землекопная история, — «Через столько-то лет». — «От смешного до великого и обратно». — «В шторм». — «Фантастический». — «Истребитель». — «Дело № 83». — «Сильнее смерти». — «К побегу одной из 13-ти». — «Туда и обратно с контрабандистами через границу». — «Путаница». — «Система инженера Лизовицкого». — «Насморк журналиста Траяна». — «Хорасонские романтики». — «Таинственный голос». — «Который из двух». — «Падающие звезды». — «Смерть». — «Ночной Лондон». — «Звуковой двигатель проф. Корнеля». — «Когда то». — «Король воздуха». — «Необыкновенная женщина».
Подписчик Г. А. Брандфельд и многие другие задают ряд вопросов по поводу рассказа в 9 книжке «Мира Приключений» за 1928 год «Катастрофа пространства» и моего послесловия, где я говорил, что ни кривизны, ни многомерности мирового пространства не существует. Чаще всего повторяется читателями один недоуменный вопрос: «как же могли бы появиться вновь исчезнувшие уже люди и звери при существовании кривизны пространства, ведь они же давно вымерли? Ответ на это очень простой. Существуй в действительности такие кривизны, то мы их несомненно увидели бы так же точно, как мы теперь видим свет давно уже погасших звезд, а о зарождении современных новых светил узнают люди на Земле только через миллионы лет, когда дойдут до них те лучи, которые они испускают сейчас.
Николай Морозов.П. Я. К. и другим авторам. — Вы спрашиваете, почему в «Почтовом ящике» теперь стало меньше ответов. Тут две главные причины. Во-первых, много принципиальных указаний дается в отчетах о Систематическом Конкурсе, а во-вторых, читатели стали присылать марки на возврат рукописей и получают их очень нередко с краткими замечаниями и указаниями.
С. З. (Сылва). — К сожалению, Ваша большая работа остается безрезультатной: в рассказе «От смешного до великого и обратно» (бред радиотехника) очень много бытовых несообразностей и изложение не вполне литературно.
Н. В. С. (г. Фрунзе). — Знание быта у Вас несомненное. Идеологически мысль заслуживает одобрения, но рассказ вышел скучным и сухим.
В. И. З. (Рязань). — Стоимость № 6 журнала «Мир Приключений» за 1925 г. — 50 коп. с пересылкой. Комплекты за 1922-23 гг распроданы.
…………………..
Издатель: Изд-во «П. П. Сойкин»
Редактор: Редакционная Коллегия
Примечания
1
Мегаровы — жилые помещения.
(обратно)2
рускус пли иглица — колючий, мелкий вечно-зеленый кустарник.
1 Период расцвета Эгейской культуры (по Эвансу).
(обратно)3
Период расцвета Эгейской культуры (по Эвансу).
(обратно)4
Английский фунт — 10 рублей.
(обратно)5
Фарм — ферма.
(обратно)6
Шиллинг — 50 коп.
(обратно)





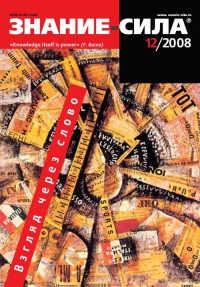



Комментарии к книге «Мир приключений, 1928 № 11-12», Аркадий Карлович Кончевский
Всего 0 комментариев