ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ 1930 № 12
*
Главлит № Б—159
Тираж 120.000 экз.
Типография газ. «ПРАВДА», Москва, Тверская, 48.
СОДЕРЖАНИЕ
Обложка худ. Шпир. — Сказание о граде Ново-Китеже. Роман Зуева-Ордынца. — Артур. Из рассказов о 1905 годе Яна Страуяна. — 25 лет назад. — Копье. Рассказ К. Алтайского — Груз пальмового масла. Перевод Михайловой-Штерн. — Урал. Рассказ А. Грина. — Как это было. Бернард Ризес. Анна Каллас (из воспоминаний о 1905 годе). Перевод с финского Н. Б. — Экран «Следопыта». — Из великой книги природы. — Об’явления.
СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ НОВО-КИТЕЖЕ
Роман M. Зуева-Ордынца
Рисунки H. Кочергина
XI. Отраженная волна
Литая, упругая волна Светлояра мерно качала челн.
Низко, почти задевая воду крыльями, пронеслась утиная стая. Косаговский вздрогнул и подумал:
«Эх, дробовичок бы!»
Но тотчас же рассмеялся, вспомнив, что. и будь сейчас при нем дробовик, он не выстрелил бы: едет он на нелегальное собрание новокитежских рабочих, и городовые стрельцы или посадничьи досмотрщики, наверное, уже ищут его.
День перед собранием Косаговский провел у своего квартирного хозяина, попа Фомы. Птуха и Раттнер прямо с озера отправились в Усо-Чорт, а он забежал домой взять закопанный в поповском саду «Саваж», который мог пригодиться каждую минуту. Дома встретился с Истомой и не нашел нужным скрывать от своего друга все случившееся. Истома посоветовал ему спрятаться до вечера дома, так как бежать в Усо-Чорт днем было бы опасно. Косаговский согласился с ним и дотемна пролежал в плетеном сарайчике, куда поп Фома на зиму прятал ульи. А вечером Истома выпросил у рыбаков челн и сам повез Косаговского через озеро в Кожевенный конец посада.
Собрание назначено было по совету Птухи в кружале «питейной жонки» Дарьи, за которую он ручался головой. Рзттнер охотно согласился на предложение Птухи, так как в кружале, под видом бражничанья, собраться было и легче и безопаснее.
Косаговский посмотрел на тайгу, окружавшую город. Над нею, вдали, кровавыми волнами клубилось зарево. Пожар, выгнавший «лесных дворян» из их логова, видимо, забирал силу, вгрызаясь в глубь пересохшей тайги. В свете зарева нежно розовела белая рубаха Истомы, сидевшего в противоположном конце лодки на веслах.
За последнее время между ними, как говорится, «черная кошка пробежала».
Истома, тайно любивший Анфису, не мог не знать о ночных встречах Косаговского с дочерью посадника. А зная это, он должен был догадаться и о том, что они полюбили друг друга. Так недавние закадычные друзья стали соперниками в любви.
Но Косаговского это почти не беспокоило. Он принес в Ново-Китеж свою новую, очищенную от былых предрассудков мораль, а потому и не допускал существования такого бытового анахронизма, как ревность. Но вместе с тем Косаговский относился к Истоме особенно бережно, как к больному ребенку, стараясь не упоминать при нем имени Анфисы.
На озеро упал откуда-то сверху глухой надтреснутый гул. Это на Святодуховой горе, в скитах, били в клепала, ясеневые доски, заменявшие колокола. Истома вздрогнул и прошептал ненавидяще:
— О, мнишеский[1]) род презлый, лукавства и лютости исполненный. Ложные учителя!
— За что ты не любишь монахов, Истома? — спросил Косаговский, которого начало тяготить холодное молчание.
— А за што их любить? — ответил, помолчав, Истома. — Зудят у меня руки на купецкие да посадничьего загривки! Довелись случай, сам сброшу со Смердьей башни Ждана Муравья.
И столько палящей ненависти к Муравью было в этих последних словах, что Косаговский невольно удивился. Сам он ненавидел вообще весь правящий ново-китежский класс, но никогда не переключал классовую ненависть в злобу к одному какому-нибудь человеку.
— Зело мне омерзло здеся! — продолжал с тоской Истома.
— Потерпи немного, — сказал Косаговский, — скоро в мир уйдешь с нами. Там другая жизнь, вольная, легкая.
Истома не ответил на это. Сильными уларами весел разогнал он лодку, и она, шурша днищем о песок, вползла на берег.
От прибрежной пихты отделился человек и подошел к лодке. Это был Птуха.
— Полчаса жду! — сказал он. — Пойдемте, я вас отбуксирую. Без меня здесь фарватеру не найдете.
Они направились в глубь берега, по задам каких-то строений. По пути пришлось неоднократно перелезать через плетни и прясла.
— А вот и Даренкино кружало! — сказал Птуха, указывая на высокую серебрившуюся в темноте новенькими ошкуренными бревнами избу.
В комнате кружала, освещенной вонючими плошками с барсучьим салом, Косаговскому прежде всего в глаза бросился высокий сосновый прилавок, а за ним полки, уставленные деревянными и железными чарками.
В комнате было жарко и душно, так как все окна из предосторожности были изнутри плотно закупорены тряпьем и армяками. Около громадной печи сгрудились участники собрания. Здесь были и ровщики, и солеломы, и прочие «рукодельные люди», все в белой холстине и в лаптях.
На прилавке сидела, разматывая шерсть на мотовиле, сама питейная жонка, Птухина кума Дарья, пышущая здоровьем женщина, с лицом лукавым и умным. Косаговский заметил, как вспыхнули и затлелись любовью глаза Дарьи, лишь только Птуха шагнул через порог.
Перед прилавком, почти рядом с Дарьей, было очищено место для выступающих ораторов. Собрание уже началось. В тот момент, когда вошел Косаговский, говорил бурно и страстно человек с чуть конопатым, лоснящимся от пота лицом, показавшийся летчику знакомым. Он вгляделся пристально и узнал Никифора Клевашного.
Когда вошел Косаговский, бурно и страстно говорил Клевашный.
— Долго ль нам темняками ходить? — спрашивал Клевашный. — Народ вчистую, без выхода погибает. Купцы-рядовичи заткнули дыру в мир, штоб крепче давить из нас соки. Пойдем, братие, в кремль всем миром, пущай нам выход на Русь дадут. У верховников один замысел: как бы новую учинить тесноту народу. Ну, а коли так. и мы на купцов надавим! Как из чирья гной давят. Ладно ли я говорю, братие?
— Ла-адно, Микеша! Любо!
— Стеной пойдем! — загудела толпа.
Пользуясь перерывом в речи Клевашного, Косаговский пробрался в дальний угол, где сидел Раттнер. Птуха увязался за ним.
— А ты будешь говорить? — спросил топотом летчик.
— Нет! Не забывай, что мы мирские и что неосторожными выступлениями мы можем скомпрометировать идею восстания. Купцы скажут, это-де вас мирские оплели. А нужно, чтобы масса сама почувствовала необходимость выхода в мир.
Между тем место Клевашного занял другой оратор, пожилой мужчина с черной бородой.
— Братие! — начал он. — Гоже говорил Микеша, да не совсем. Возможно ли нам в мир выходить? На миру жить — бесу служить. Не чинитесь, братие, супротивны киновеарху. А я так скажу: кто против киновеарха и старцев преподобных пойдет, тот анафема! Аминь! — перекрестился чернобородый.
Заметно было, что страшная «анафема» подействовала на некоторых присутствовавших.
— Замолчь, шептун посадничий! — вырвался вдруг из толпы Клевашный. — Чай в Дьячей избе научили тя такие речи медовые вести. Знаем мы, как живет скитская братия, рыбки, грибков, огурчиков, всего хватает! А их бы в наши ямы рудные посадить. Нашего бы им горя хлебнуть. Как только у нас зеницы не выпали вместе со слезами, как сердце от корня не оторвалось?
— Не ершись, Микеша! — сказал злобно бородач. — Камень не плавает, хмель не тонет. Поверх посадника тебе не быть, а Смердьих ворот не миновать. По ночам в Ново-Китеже сами колокола звонят. Не к добру сие!
Собрание затихло испуганно. Слышно стало, как стрекочет звонко за печью сверчок. Суеверный страх охватил этих людей, живших еще в эпоху средневековья. В эту томительную минуту решалась судьба восстания. Невежественная, только что пробуждавшаяся от спячки масса могла, не разделяя настроения чуткого меньшинства, снова повернуть на путь вековой закоснелости и рабства.
— Мужики! — звонко крикнула вдруг Даренка. — Што притихли? Нашли кого слушать! Сей молодчик в моем кружале не раз с посадничьими досмотрщиками бражничал. Он из их шайки. В сермягу вырядился, а дома, чай, бархатный кафтан спрятал!
Опечье ахнуло и рванулось стаей к провокатору.
— Ах, сукин сын!.. Бей его!
— Дай ему тютю, кто ближе стоит!
Сухогрудый солелом размахнулся, огрел досмотрщика по спине, но тотчас потряс ушибленной рукой.
— Людие! Он под сермягу кольчугу вздел.
Кружало взревело:
— Знал куда шел!.. Обрядился в доспехи!
— Пришибить его, как кощенка!..
Огромный угрюмый старик с апостольской бородой, судя по рукам с в’евшейся навеки сажей — кузнец, поймал досмотрщика за волосы, подтащил к двери и дал ему могучего пинка пониже спины. Слышно было, как шпион спиной, боками и всем прочим отсчитал крутые кабацкие ступени.
— Ось як у нас непрошеных гостей провожают! — сказал Птуха. И вздохнул с облегчением. — Спасибо куме! Выручила! Прямо Коллонтай баба!
И приглашающе подмигнув Даренке, он тоже выкатился на улицу.
— Братие! — крикнул Клевашный, пользуясь не остывшим еще возбуждением присутствовавших. — Сами увидели вы, кто мой встречник[2]) оказался. И думаю я, вот как мы постановим. В день первого спаса[3]), когда киновеарх и посадник пойдут на Святодухову гору с крестным ходом, быть замятью[4]). Гораздо ль, братие?
— Гораздо, Микеша! Гораздо! — загудело в ответ.
— Ударим набат по Ново-Китежу! Гилем пойдем на Кремль!
— Это пока еще не буря, а только отраженная волна, — сказал Раттнер Косаговскому. — Поглядишь, что будет, когда настоящий шторм забушует!
За стенами кружала гулко грянул вдруг выстрел.
Крики оборвались.
Дверь широко распахнулась, и в избу влетел Птуха. Большие пятна ожогов пестрили его лица.
— Полундра! — завопил он. — Спасайся, кто может! Стрельцы окружили.
Выйдя из кружала, Птуха, поджидая куму, присел на крылечные ступеньки. Густая июльская тьма окутала Ново-Китеж. Федор не видел даже своих рук. Лишь на горизонте попрежнему полоскалось зарево горящей тайги.
Где-то близко послышались шаги. Решив, что это ищет его Дарья, выбежавшая на улицу черным ходом, Птуха поднялся со ступеней и пошел ей навстречу.
«Сыграю я с кумой штуку! — решил он, улыбаясь. — Она щекотки боится».
Темная человеческая фигура, опасливо крадясь по стене, надвигалась на Птуху. Федор чуть присел и, выставив руки, ткнул кого-то пальцами под ребра. Человек испуганно охнул и отбежал в сторону.
— Не бойся, кума, это я, Федька! — засмеялся Птуха.
— Ах, это ты, куманек! — ответила кума почему-то мужским голосом.
— Ну, так я тебя счас поцелую, держись!
Что-то тяжелое и тупое ахнуло Птуху по черепу, но он устоял все же на ногах.
— Да ты что, с ума спятила? — заорал Птуха и, бросившись к куме, охватил ее за бока. Но к удивлению своему нащупал вместо беличьей телогреи Дарьи холодный металл бахтерцев[5]).
«Стрельцы!.. Кружало оцепили!» — обожгла страшная мысль.
Он рванулся назад. В этот миг грохнул над его плечом пистолет, выбросив пучок пламени.
Пуля промчалась, жужжа, как пчела, над головой. Федор повернулся и побежал к крыльцу кружала.
— Держи!.. Всех переполошит!! — крикнул вдогонку ему начальнический бас.
Но Птуха был уже в кружале.
— Стрельцы оцепили! — кричал он. — Я одного сгреб машинально, а он меня из пистолета. Спасайся!..
Косаговский вместе с толпой рукодельных людей бросился к дверям. А дверь сама распахнулась, и на пороге ее маком расцвел кафтан стрелецкого полусотенного. За плечами его блестели бердыши стрельцов.
— Слово и дело посадничье! — крикнул полусотенный. — Стой, воры! Все равно не уйдете!
Но толпа рукодельных, увлекая за собой мирских, отхлынула к запасному выходу. Прижатый к притолоке Косаговский увидел, как полусотенный бьет сабельными ножнами по голове Клевашного, а двое стрельцов крутят ему на спину руки. Косаговский рванулся было на помощь ровщику, но ему заступил дорогу гигант кузнец с апостольской бородой.
— Куда, шалый? Виселицу захотел? — крикнул грозно кузнец. — Микешку после выручим!
И с этими словами он выбросил Косаговского на улицу.
XII. Полковник 44-го полка
1
В коридорах посадничьих хором стояли, опираясь сонно на бердыши, дежурные стрельцы стремянного полка. Раттнер, к удивлению своему, насчитал около тридцати человек этого дворцового караула.
«Труса празднуют! — подумал он. — Почуяли бурю».
В небольшой комнате, половину которой занимала изразцовая узорчатая печь, провожавший мирских посадничий ключник остановился.
— Стойте издеся, — сказал он. — Ждите, когда вас кликнут.
И в этой комнате на лавках сидели посадничьи гвардейцы в ало-красных и васильково-голубых халатах.
Вчера ночью все мирские убежали черным ходом. Схвачены были лишь Никифор Клевашный, несколько ровщиков да целовальничиха Дарья. Они, как особо важные государственные преступники, были заключены не в общую тюрьму-захабень, а в подклетях посадничьих хором. А мирские, выбравшись благополучно на улицу, решились, чтобы отвратить возможные подозрения, на крайнее средство. Прямо с Кожевенного конца они побежали к попу Фоме, где и переночевали спокойно. Лишь в полдень пришел к ним урядник стремянного полка и от имени посадника попросил быть: «вечером на Верху, у владыки-посадника». Но ведь их вежливо пригласили, не повели под конвоем. Следовательно, можно надеяться, что у новокитежских властей нет прямых улик, указывающих на участие мирских в организации восстания.
За стеной, отделявшей караульную комнату от посадничьих хором, раздались тяжелые, слоновьи шаги и послышался полузаглушенный голос посадника:
— Голова, скажи стрельцам, што у дверей, штоб пустили мирских.
Дверь отворилась, и в караульную комнату вошел молодой красавец в стрелецком кафтане из нежно-голубого бархата. Дежурные стрельцы вскочили с лавок. Это был новокитежский военный министр. стрелецкий голова.
— Мирские, — сказал голова, — идите к владыке посаднику!
2
Косаговский с первого взгляда догадался что их ввели в так называемую «крестовую палату», домашнюю церковь посадника.
Стены крестовой, обшитые ясеневыми, гладко выструганными и натертыми воском досками, были увешаны иконами. Куда ни оглянешься, всюду суровые, изможденные лики старообрядческих святых. Перед некоторыми из икон теплились «неугасимые» лампады.
При этом скудном свете мирские не сразу нашли глазами посадника.
Новокитежский президент в шелковой домашней ферязи и в скуфейке, расшитой цветными шелками, сидел в высоком черном кресле, с подножием, обитым золоченой кожей.
— Иди с богом, голова! — сказал посадник военному министру. — Ты мне боле не нужон. Сторожи[6]) проверить не забудь, — не спят ли грехом стрельцы.
Голова вышел. Мирские остались наедине с посадником.
— Известились мы, — начал он, оглаживая золотую бороду, — што вы, воры мирские, противу нас заговор кипятили, а людишек наших новокитежских на Русь выйти подбивали! Того мало! Паки известились мы, што вы хотите старину нашу сломать, наши свычаи да обычаи изничтожить. Да я вас за ребра перевешаю, еретиков!
— Довольно мифологию разводить, гражданин! — решительно двинулся к креслу Птуха. — Наплести что угодно можно. А нужно это доказать.
— Отыдь!.. Отыдь, дьявол!.. — взмахнул испуганно руками посадник. Но, спохватившись, сделал вид, что испугался другого. — Эк, от тебя табачищем-то разит! Испродушил!
— Табаком? — удивился простодушно, отходя, Птуха. — Да я уже два месяца не курю! В ваших моссельпромах папиросами не торгуют.
— Не было, баишь, ничего такого? — продолжал допрос посадник. — И того не было, што синочь[7]) в Даренкином кружале ровщики, солеломы да рукодельные людишки хульные речи на киновеарха и меня, раба божьего, произносили и кремль порушить хвастались? А вы их на то дело не подбивали?
— А свидетели есть? — спросил спокойно Раттнер. — Мы эту ночь дома спали!
— Видоки! — догадался посадник. — Есть и видоки дела сего! Счас я вас на очи поставлю.
Посадник хлопнул в ладоши. Тотчас же в дальнем темном углу крестовой скрипнула дверь, и кто-то невидимый в темноте спросил:
— Меня звал, владыко?
— Тебя. Ближе ко мне стань.
«А дело наше дрянь!» — подумал Раттнер, увидев подходящего к креслу посадника вчерашнего шпиона-досмотрщика, выброшенного из кружала.
— Скажи, спасена душа, — обратился посадник к досмотрщику, — были ль сие мирские сквернавцы синочь в кружале Даренкином?
— Были, владыко, — ответил досмотрщик и, указывая на Птуху, добавил: — А сей убить мя пытался! Да я под армяк панцырь вздел.
— Ах ты, гад ползучий! — полез Федор с кулаками на досмотрщика. — За то, что огрела тебя Дарья ухватом, когда ты к ней целоваться полез, лепишь теперь на меня как на мертвого!
— Не лезь! — блеснул злобно глазами досмотрщик. — Пришибу! Никонианина пришибить — семь пятниц молока не хлебать!
— Ты што развоевался? — затопал ногами посадник на Птуху. — Сказню! Будете вы у меня на рели болтаться! Вам воли моей не сломать. На дыбу!
«В захабень сейчас отправит, — подумал с тоской Косаговский, — я как назло револьвер не захватил, побоялся, что обыскивать будут».
— Как пророк Илья вааловых жрецов, перепластаю вас, еретиков! — продолжал бушевать посадник. — Не оскверню рук, паче омою их окаянной еретической кровью!
И вдруг неожиданно притих.
— Выдь! Не нужен боле, — обратился он к досмотрщику.
А когда тот вышел, посадник заговорил, избегая встречаться взглядами с мирскими.
— За прескверные ваши дела достойны вы позорной смерти. Но один от вас, он, — указал посадник на Косаговского, — спас от смерти детище мое любимое, чаделько мое, Анфису. Того ради и я вас спасу. Уломаю верховников, штоб на сей, остатний, раз простили вам вины ваши. Но в остатний раз! Изыдите от глаз моих, окаянные!..
— Разбушевался, — ворчал Птуха, выходя в коридор. — «Изыдите, окоянные»— передразнил он посадника. — Хотел я его покрыть с верхнего мостика, да ведь не поймет он, если по-нашему, по-морскому, завернуть!
— Гражданин Раттнер! На одну секунду! — крикнул вдруг кто-то в конце коридора.
— Что угодно? — ответил, повертываясь, Раттнер, от неожиданности даже не удивившийся этому вполне «мирскому» обращению.
Из полутьмы коридора выдвинулся вдруг дьяк Кологривов и направился к мирским.
— Это вы меня звали? — попятился удивленно Раттнер.
— Я! — ответил дьяк, блестя в улыбке золотой коронкой зуба.
— Чем могу служить? — поглядел на него с любопытством Раттнер.
— Я знаю, что вы давно хотите познакомиться со мной! — сказал дьяк. — Так позвольте представиться. Полковник 44-го драгунского Нижегородского полка, Григорий Колдунов! — поклонился он коротким офицерским поклоном.
— A-а, «князь сибирской шпаны»! Очень приятно! — не растерялся Раттнер. — Раз вас видеть был бы, но в другой обстановке.
— Знаю! — ответил холодно Колдунов. — В следовательской комнате! Но этого удовольствия я вам никогда не доставлю.
— Как знать! — ответил беззаботно Раттнер. — Сколько веревочки ни вить, а концу быть!
— Ладно, об этом после поговорим! — оправил нервно бороду Колдунов. — А сейчас давайте о деле потолкуем. Судя по вашим комбинезонам я заключаю, что вы перелетели Прорву на самолете. Но куда вы его запрятали? Стрельцы по моему приказанию обшарили всю новокитежскую тайгу и не нашли ни одной гайки.
— И не найдут! — поспешил заверить Колдунова Раттнер.
— Да! Но если вы скажете, где он, то…
— Все равно не найдут!
— Почему же? — удивился Колдунов.
— А потому, что самолет спустился вне Прорвы. Мы пробрались в Ново-Китеж пешком, случайно.
— А вы не…
— Вру, хотите вы сказать? — пожал плечами Раттнер. — А это уж как вам угодно, так и думайте. Спокойной ночи, полковник Колдунов!
3
Тревожная ночь опустилась над Ново-Китежем.
На перекрестках, перегороженных рогатками, беспокойнее обычного стучали колотушки сторожей. По улицам сновали конные и пешие дозоры стрельцов.
— Ну? — спросил Раттнер, когда спустились они с кремлевского холма. — Что скажете?
— Эх, жаль, руки связаны, — сказал Птуха. — А то бы я р-раклюгу эту в дреп расколотил!
— Странно, почему Колдунов не тронул нас и пальцем все это время? — спросил Косаговский.
— Понятно почему! — ответил Раттнер. — Мы заложники на случай провала его организации. Поэтому он и берег нас.
— А теперь?
— И теперь он до поры до времени не тронет нас, ограничиваясь лишь слежкой! Провал вчерашнего собрания его рук дело.
— Да, пожалуй! — проговорил тихо Косаговский, думая о том, что теперь ему труднее будет видеться с Анфисой.
— Птуха, сюда! — крикнул вдруг резко Раттнер.
— Есть, товарищ военком! — подлетел к нему Федор.
— Ты уверен в том, что поп Фома не выдаст тебя при случае?
— Где ему! — отмахнулся пренебрежительно Птуха. — Вчера, когда застремили нас, я подумал было: «Поп светит»[8]). Но теперь я на другого человечка думаю! Молод клоп, да вонюч!
— На кого думаешь? — спросил быстро Раттнер.
— Раньше времени не стоит болтать! — ответил Федор. — А только не миновать ему моих лап.
— Хорошо! А в попе ты, значит, уверен?
— На великий палец! Да и сами посудите: стоит мне заметить что-нибудь неладное, скажу я одно словцо кому следует, и нет халтурного попа Фомы!
— Ну, а новокитежскую тайгу он хорошо знает? — продолжал расспрашивать Раттнер.
— Кому же знать, коли не ему? Всю ее облазил вдоль и поперек!
— Ладно! Слушай же, Птуха, — понизил вдруг почти до шопота голос Раттнер. — Приготовься! Сегодня же ночью ты с попом Фомой отправишься по одному моему важному поручению.
Будь готов, Федор!
— Есть, быть готовым! — ответил Птуха.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I. На копье!
1
Истома олифил, то-есть покрывал вареным льняным маслом икону богородицы «Нерушимая стена». Косаговский смотрел на классически-старообрядческий лик иконы и в сотый — раз жалел, что Истома обречен на богомазничество. Талантливый художник пропадает в юноше.
— А ты не пробовал, Истома, рисовать что-либо иное, кроме икон? — спросил Косаговский. — Что-нибудь мирское?
— Мирское не писал и не буду! — ответил сухо Истома. — Недавень принесли чумаки в Ново-Китеж образ Спаса, в миру писанный. Смотреть мерзко. Брюхат и толст, токмо сабли на бедре нет! «От Назарета может ли што добро быти?» — закончил юноша евангельским текстом.
Косаговский вздохнул. Истома не понимал его. И откуда у юноши эта фанатичная злоба на мир и все мирское? Совсем еще недавно Истома мечтал о бегстве из Ново-Китежа в мир, в вольный широкий мир, а теперь вдруг изуверская ненависть ко всему, что «от Назарета».
Косаговский встал с лавки и прошелся по избе. День выдался особенно тягостный. Даже словом не с кем перекинуться. Птуха вот уже неделю отсутствует, пропадая где-то с попом Фомой по поручению Раттнера. А Раттнер с утра ушел в Усо-Чорт. Ровщики сегодня устроили сходку, на которой будут «думати крепку думушку», как освободить из посадничьей подклети Фому Клевашного.
«Дорого дал бы я, — подумал Косаговский, — за газету, даже за клочок газеты трехмесячной давности».
Вдруг частый сплошной звон ворвался в окно. Сначала задребезжал старенький соборный колокол, затем Святодухова гора заклепала и в великие и в малые древа. И наконец заухали «Ратный» и «Воротный» колокола на кремлевских башнях.
Косаговский надвинул шлем и выскочил из избы.
По улицам к кремлю бежали толпы народа. Раздавались гневные выкрики:
— Торговых перещупать! Пошарпа-ем купцов!..
Из-за угла вылетел вдруг, давя кур и поросят, десяток конных стрельцов стреконного полка, при народе обнаживших сабли.
— Расходись. — закричал урядник, молоденький упитанный юноша. — Нет вам, псам, ходу к кремлю!
Но толпа не испугалась, а, наоборот, бросилась с ревом на стрельцов.
— Бей их, псов цепных!
Рыбак, бежавший с багром на плече, вырвался из толпы и, зацепив багровым крюком за кафтан урядника, стащил его с коня. Стрельцы струсили, повернули коней и помчались обратно к кремлю.
— В колодец его! — кричала толпа, срывая с урядника оружие.
— Ребятушки, помилуйте! — вопил по-ребячьи стрелец, — подневольные мы!
«А как похоже на революцию!» — подумал Косаговский.
С холма, которым заканчивалась улица, открылась просторная подкремлевская площадь, густо, как банка икры, забитая народом.
Весь новокитежский посад, все пять его концов собрались к стенам кремля. Все это кричало, вопило, грозило немудрящим оружьишком в сторону кремлевских стен. А кремль, неподвижный и тихий среди общего движения, таил угрозу. Кремлевские ворота наглухо закрыты, стены пусты, изредка лишь блеснет меж зубцами стрелецкий бердыш.
На холме Косаговского нагнал Истома, без шапки, распоясанный, в рубахе, перемазанной красками.
— Это восстание, Истома! — крикнул ему Косаговский. — По-нашему, революция.
— Похоже на то, — улыбнулся скупо Истома. — Не грело, не грело, а вдруг осветило! С чего бы это так вдруг?
Они вместе спустились с холма на площадь и вскоре увидели Раттнера. Чувствовалось, что именно он руководит восстанием, хотя Раттнер не отдал непосредственно сам ни одного приказания. Он лишь советовал сделать то или иное остальным главарям движения, среди которых Косаговский узнал старика-кузнеца, спасшего его во время ареста сходки в Даренкиной кружале, чахоточного солелома и еще двух ровщиков, бывших на том же несчастливом собрании. Эти-то главари и передавали приказы Раттнера непосредственно восставшим.
— Иди-ка сюда! — крикнул Раттнер, увидав Косаговского. — Теперь нам надо вместе держаться.
— Как это началось? — спросил Косаговский.
— Они виноваты! — крикнул Раттнер в сторону кремля. — Сегодня утром рыбаки, несшие с озера на Торг ночной улов, нашли у Смердьих ворот труп Клевашного. Этой казнью кремлевские владыки бросили вызов народу, желая запугать его. Но добились обратного. Рыбаки принесли труп Никифора на Торг. Начал сбегаться народ. Прибежали, бросив рудные ямы, ровщики, друзья Никифора, и начали призывать к восстанию. Но народ колебался. В этот момент, как нарочно, появляется на Торгу конный бирюч[9]) и начинает читать посадничью грамоту о том, что завтра на Торгу после битья кнутом будут вырезаны ноздри у рукодельных людей и у Дарьи — питейной жонки, ковавших крамолу против посадника и киновеарха. Терпение народное лопнуло! Народ бросился на бирюча, избил его, изорвал посадничью грамоту и, подняв труп Клевашного, пошел с ним к кремлю. Вот и все! А нам, — указал Раттнер на главарей, — осталось лишь направить в организованное русло этот гневный народный порыв…
— И ты надеешься на успех? — спросил пытливо Косаговский.
Раттнер не успел ответить. Его окружили главари восстания.
— Слушь, мирской! Ты у нас в роде коновода, — обратился к Раттнеру кузнец с апостольской бородой. — Хотим мы твово ума пытать! Купчишки-то в кремле как в горсти. Надобе к кремлю приступом приступить, на копье его поднять.
— На копье!.. На копье кремль! — закричали ближайшие из восставших, прислушивавшиеся к разговору начальников.
И вся площадь подовторила им:
— На копье-о-у!..
— А сколько в кремле стрельцов? — спросил Раттнер.
— Близь тысячи! — крикнул кто-то опасливо из толпы.
— Толкуй неладное! — ответил строго, повертываясь в сторону крикнувшего, кузнец. — Откуль же близ тысячи, когда их всего в городе не более штисот наберется? А городского полку стрельцы, сотни три, в тайгу утекли!
— Ладно, попробуем, — ответил Раттнер. — Разбирайте оружье!
2
Восставшие бросились к телегам, привезшим из Усо-Чорта оружие, и начали поспешно расхватывать его. Но усочортовские мастерские смогли прислать повстанцам, или, по старо-русской, а следовательно, и китежской терминологии, — «белое» оружие.
Косаговский хотел было взять легкую и изящную саблю, но, нащупав в кармане «Саваж», раздумал. Истома же вооружился огромной медвежьей рогатиной, так не шедшей к его тонкой девичьей фигуре.
Гигант кузнец взял с одного из возов граненую в несколько перьев[10]) булаву-пернач и поднес ее с поклоном Раттнеру.
— Ты у нас за воеводу, так уж прими пернач!
— Что вы, что вы! — отстранился конфузливо Раттнер. — Не надо. К чему это?
— Не спесивься, батюшка! — сказал строго кузнец. — Не я, народ новокитежский жалует тя в свои воеводы!
— Ах, чтоб вас! — прошептал сердито Раттнер, принял пернач и не долго думая сунул его за пазуху.
В бою все это оружие могло играть очень незначительную роль. Это сознавали и сами восставшие. То и дело слышались горестные восклицания:
— Эх, огненного боя у нас мало!
— Пищалей хоть бы полсотни!
Но «огненного» боя не было. Новокитежские власти предусмотрительно отбирали все огнестрельное и даже метательное оружие тотчас же, как только выходило оно из рук мастеров, и хранили его в кремлевских арсеналах.
— Ни щитов, ни лестниц, ни багров у нас нет, — кручинились восставшие. — Как на стены полезем?
— А они начнут со стен смолу горячую поливать да из пищалей бить!
Но эти отдельные робкие возгласы потонули в общем могучем крике:
— На копье!.. На приступ!..
3
Людская волна ударила в стены кремля и остановилась. Между зубцами зацвели маками и васильками кафтаны стреминных стрельцов. Началась обычная пе ред приступом перебранка.
— Эй, сермяжники, сдавайтесь! — кричали стрельцы. — С мирскими ворами стакнулись! На Русь захотели?
— А вы за попа щит поставили? — кричали в ответ восставшие. — Эх вы, исусово войско!
— Зададим вам, деревянному воинству, жару! — грозились стрельцы, намекая на дреколье восставших. — Всех перевешаем!
— Отыдь!.. Раздайсь… Расступись!.. — закричали вдруг в толпе.
Косаговский оглянулся удивленно. Человек сорок повстанцев с трудом тащили самодельный таран, огромное, необхватное бревно, один конец которого был наспех окован железом. Многие из стоявших у стен бросились на подмогу. Теперь у бревна было не меньше сотни.
Восставшие бросились к кремлевским стенам
Таран подтащили к воротам главной Крестовой башни кремля. Командовал кузнец с апостольской бородой.
— Ребятушки, приготовьтесь! — кричал он. — Ну, с богом! Ра-а…
— зом! — охнули дружно таранщики и ударили железным ломом тарана в воротные полотнища.
Но несокрушимы тяжелые ворота кремля.
— Ра-а… — завел было опять кузнец, но не кончил.
— Беги от стен! — закричал вдруг чахоточный солелом. — Счас с пищалей шибать начнут и пушки тож обряжают!
Но не успела все же отхлынуть толпа. Кремлевские стены окутались облаками порохового дыма. Стрельцы шибали по осаждающим из длинноствольных и тяжелых пищалей и крупного калибра самопалов. Раздались болезненные крики и стоны.
Вскоре верхняя часть кремлевских стен совершенно скрылась за густыми зелеными клубами порохового дыма.
Но даже пушки почти не причиняли вреда восставшим. Ядра, глухо клокотясь и взрывая землю, прыгали как кегельные шары, пущенные ленивой рукой. И повстанцы бегали от них, как от собак, кусающих за ноги.
II. Змея-раздор
1
Жгучий июльский день буйствовал. Но едва солнце зацепилось за гребень тайги, с гор потянуло холодком. Пала обильная роса и прибила пыль, поднятую новокитежской кутерьмой.
Косаговский, обходя осторожно костры повстанческого лагеря, расположившегося здесь же на площади, шел к озеру Светлояру. Ему хотелось побыть одному, вырешить кое-что, наконец успокоиться немного после дневных волнений.
Косаговского больше всего тревожило поведение Раттнера, теперь, с принятием пернача, ставшего воеводой-главком повстанческих войск. Весь день он удивлял Косаговского своей вялостью, даже нерешительностью в руководстве осадою кремля.
У крайнего костра, от которого хорошо виден был лунный простор Светлояра, Косаговский круто остановился.
Открылся перед ним вид на город и озеро с таежной стеной на противоположном берегу.
Ново-Китеж не спал в эту ночь. Сквозь слюду и пузыри окон мутно светились огни его.
«Отгородился ты непроходимыми болотами, смрадной Прорвой от мира, — подумал Косаговский, — а этот беспокойный, старый и вечно молодой мир все же пришел к тебе!»
Святодухова гора громадной и тяжелой глыбой выделялась на фоне зарева горящей вокруг города тайги. Лесной пожар, как показалось Косаговскому, усилился и приблизился к Ново-Китежу.
Внизу, под холмом раздались голоса. Молодой и сильный, прерываемый голодным чавканьем, спрашивал раздраженно:
— Доколе же мы будем с кремлем в тесную бабу играть? Когда же сражению быть?
— Вот еще нещечко навязался! — ворчал глухой старческий тенорок. — Сражение ему подавай!
Косаговский бегом кинулся с холма. Проходя мимо трупа кандальника, он почти вслух подумал:
«Сейчас же, не откладывая, об’яснюсь с Николаем. Чего он тянет?»
Но когда Косаговский подошел к своему костру, Раттнер уже спал, завернувшись в где-то взятый плащ-япанчу. Летчик постоял, подумал и подвалился приятелю под бок.
2
Среди глубокой ночи задребезжал вдруг набатом колокол кремлевского собора. Повстанцы, проснувшись, схватились за оружие. Урядники и сотенные головы выстраивали свои десятки и сотни. Слышался громкий голос Раттнера, приказывавшего тушить костры.
Но кремль, темный и попрежнему безмолвный (набат прекратился), видимо, не готовился к наступлению.
— К стенам подзывают, — догадались, наконец, восставшие. — Чай, владущие-то всю ночь соборовали[11]). Чай, теперь зачнут указы-грамоты оглашать!
И они не ошиблись. Вскоре зубцы кремлевских стен осветились трепетным пламенем войсковых факелов, копий с железными корзинками на концах, в которых горело смолье.
На балкон Крестовой башни, брянча острогами[12]), вышел военный министр Ново-Китежа.
— Слушайте, люди новокитежские, грамоту киновеарха и посадника! — закричал на всю площадь стрелецкий голова. И, подняв высоко длинный свиток, начал читать его.
При имени киновеарха площадь начала затихать. На балконе посветлело. К стрельцам, державшим факелы, присоединились монахи с толстыми свечами. Вслед за монахами на балкон вышел сам новокитежский папа, криве-кривейто Святодуховой горы, Сафрол второй. Повстанцы стихли благоговейно.
— Возлюбленные о Христе братие! — начал киновеарх, благословив толпу большим золотым крестом. — Пошто меж нами раздор-змея шипит, пошто слушаете вы злокозненных советов еретиков, из мира притекших?..
Долго говорил Софрон второй, но старческий, срывающийся голос его не доходил до площади. Повстанцы переглянулись недоумевающе.
— А ну их к шуту! Все на один покрой! Все на нашу шею сесть норовят! Всех их вниз головой со Смердьих ворот!
Повстанцы не расходились, ожидая чего-то. А в кремле, видимо поняли, что киновеарх не повлиял на толпу. На балкон вышел сам Ждан Муравей. Как только повстанцы увидели хорошо им знакомую мощную фигуру посадника, его высокую горлатную шапку, хохот волной пронесся с одного конца площади на другой. Недавние рабы наконец-то могли всласть поиздеваться над бессильным владыкой.
— Вот он, главный-то вояка!
— Толстопуз окаянный!.. Мытарь!..
— Люди! — рявкнул Муравей. — За ваши вины и проступки прикажу я стрельцам вас бити и рубита до смерти. А живыми оставшихся пошлю в Игумнову падь, вырезав ноздри до кости и поставя на лбу и щеках знаки каленым железом!
— Вот всегда у них так! — начали раздражаться повстанцы. — Сначала: возлюбленные братие, а потом: ноздри до кости рвать!
— Людие! — ревел посадник. — Приказано мною пощады никому не давать.
— Замолчь, людомор! — взвыла бешено площадь. — Пошто Микешку уморил?
— Убивец!.. Каленый нож те в бок!..
Посадник кричал надсадно, брызгаясь слюной, но перекричать восставших не смог и махнул платком.
Тотчас же грянула с башни пушка. Посадник скрылся.
Восставшие неспеша отошли от кремлевских стен и направились к своему лагерю.
III. Под червонным знаменем
1
Город проснулся.
Казалось, Ново-Китеж начинал свой обычный, будничный день. Но лагерь восставших, опоясавший кремль, говорил о том, что наступающий день не будет похож на все прошлые.
Косаговский с трудом разыскал Раттнера у первых домов посада. Раттнер спешно наряжал куда-то десяток верховых. С отрядом вершников порывался ехать и Истома, но Раттнер остановил его начальническим:
— Не надо!
— Куда послал конных? — спросил Косаговский.
— Так, кое-куда! — ответил неопределенно Раттнер. — В дальнюю разведку! Главным образом узнать, не выступили ли из острожков украинские стрельцы. Ведь они могут ударить нам в тыл.
— Как ты думаешь, Николай, будет ли сегодняшний день решающим восстание? Выступят ли сегодня кремлевские стрельцы?
— Будет!.. Выступят!.. — ответил отрывисто Раттнер.
— Ну, а решил ли ты принять бой?
— Хорошо бы выкупаться сейчас! — не отвечая, неожиданно сказал Раттнер, глядя завистливо на блещущую под солнцем гладь Светлояра. — Пойдем, Илья, а?
— Послушай, Николай! — заговорил горячо и обиженно Косаговский. — Это ни на что не похоже. Я вчера еще хотел об’ясниться с тобой.
— Погоди! — порывисто остановил его Раттнер. — Ты слышишь?
Визгливый железный скрип прилетел вдруг со стороны кремля.
— Начинается! — крикнул Раттнер и побежал.
Косаговский последовал за ним.
На бегу уже он увидел, что ворота Крестовой башни со скрипом распахнулись на оба полотна. Из ворот выехали стремянные стрельцы.
Впереди, на мощном вороном битюге, упершись в бедро правой рукой с висящим на ней перначом, напоминая Косаговскому ленинградское «Пугало», ехал, покачиваясь, Ждан Муравей.
На флангах стрельцов развевались «прапорцы», шелковые знамена-хоругви.
Добежав до лагеря повстанцев, Косаговский остановился, припоминая напряженно, что говорит полевой устав Красной армии об отражении пехотной конной атаки. В этот момент раздался громкий крик Раттнера.
— Товарищи, за возы!.. За телеги! Пищальники, вперед!
Лагерь зашевелился. Повстанцы подкатывали телеги одна к другой, соединяя их в подвижное укрепление — вагенбург. На телегах залегли немногочисленные пищальники. Внутри вагенбурга сгрудились остальные повстанцы, вооруженные холодным оружием.
Стрельцы между тем остановились на отлогом спуске от кремля к лагерю восставших. Посадник, от’ехав на фланг, взмахнул булавой. И стрелецкий строй раскололся надвое, раздвинулся, обнажил прятавшихся до сих пор за конниками пеших стрельцов. Пешие воткнули в землю древками бердыши и, пользуясь ими как опорами для пищалей, дали залп. Пули, не долетев до повстанцев, взрыли пыль площади.
— Не отвечать! — крикнул Раттнер. — Беречь заряды!
Площадь затихла в тревожном ожидании.
Посадник положил пальцы на рукоять «крыжа» и выдернул его из ножен.
— Сейчас бросятся в атаку! — сказал Раттнер, ни к кому не обращаясь. — Эх, Птуха, Птуха, из-за тебя погибаем!
Косаговский, заряжавший «Саваж», посмотрел с удивлением на Раттнера.
В этот момент где-то рядом раздалось громкое, удивленное восклицание.
— В чем стук? Чего это вы стабунились? А это что еще за самовары на лошадях?
Раттер и Косаговский оглянулись удивленно. Сзади них стоял Птуха.
Ремень его был увешан чугунными яблоками ручных гранат.
2
При виде ручных гранат Косаговский понял все.
— Пулеметы! — крикнул он.
И с этим же криком бросился к Прухе Раттнер.
— Пулеметы? Привез?
— Ясно! — ответил Птуха. — Но только один. Другой попорчен.
— Давай скорее! — завопил задыхаясь Раттнер.
— Эй, долгогривый барбос! — закричал кому-то, обернувшись, Птуха. — Шевели вожжами-то!
Косаговский, оглянувшись, увидел тройку управляемую попом Фомой. В телеге за его спиной сидел «Максим». У конников, высланных Раттнером, окружавших телегу, видны были патронные коробки, похожие на маленькие дорожные чемоданы.
— Почему ты не сказал мне о пулеметах? — обратился Косаговский к Раттеру.
— После, после! — замахал руками Раттнер. И крикнул Птухе: — Приготовь прицел! Ты будешь за второго номера. Я — первый!
— Есть приготовить прицел! Есть быть вторым номером! — гаркнул Птуха, срывая с «Максима» брезентовый чехол и поворачивая его курносым рылом в сторону стрельцов.
А повстанцы с удивлением разглядывали диковинного стального зверька, не понимая, почему мирские так много внимания уделяют этой пушке не пушке, телеге не телеге.
Конные стрельцы почему-то медлили с атакой. Стрелецкие начальники, с’ехавшись вместе, окружив посадника, о чем-то бурно совещались.
Воспользовавшись этой передышкой, Косаговский быстро расспрашивал Птуху:
— Как же вы нашли место, где стоит самолет?
— А это вот он! — указал Федор на халтурного попа. — Как только описал я ему полянку, черные камни, мой поп сейчас же себя по лбу — хлоп! «Это, — говорит, — Лосиная полянка!» Прямо к самолету меня и вывел.
И вдруг вытащил из кармана красный платок иркутской кумы и привязал его к оглобле одной из телег.
— От так! — любовался он своей работой. — Теперь мы под червонным знаменем биться будем!
— Ах, чорт! — вскочил вдруг Раттнер. — Илья, можешь за наводчика? — обратился он к Косаговскому.
— Конечно, могу! — ответил летчик и опустился на землю рядом с пулеметом.
А Раттнер побежал куда-то в дальний конец лагеря.
Стрелецкие начальники раз’ехались по местам. Посадник выкрикнул команду. Взблеснули выдернутые из ножен кривые сабли стрельцов.
— О, господи! — взлепетал испуганно поп Фома. — Никола батюшка… яви крепость…
Он не договорил.
Стрельцы колыхнулись, пригнулись к лошадиным шеям и с громкими воплями ринулись на лагерь восставших. Грозная конная атака приближалась. Крылья стрелецкой лавы уже охватывали лагерь отава и слева. Не выдержав, уже захлопали с телег пищальники повстанцев. Побежали с поля боя одинокие трусы дезертиры. А Раттнер, стоявший во весь рост на телеге, все еще выжидал. И лишь подпустив лаву на полторы тысячи шагов, на дистанцию действительного огня, он крикнул протяжно:
— Ого-о-онь!
«Максим» сыпанул щедрым стальным дождем. Косаговский провел веером по площади, вышивая смертью пыльное ее полотно. А лава, не в силах сразу остановиться, все еще неслась на лагерь. Но стальной дождь пулемета рассек волну всадников.
Стальной дождь пулемета рассек волну всадников.
Еще и еще палил площадь Косаговский. И лава остановилась, выдохнувшись на последнем, уже слабом броске. Косаговский прижал, припечатал к одному месту атаку, подержал ее так под стальным градом минуту, затем, милуя, поднял веер кверху.
Оставшиеся в живых стрельцы бросились обратно к воротам. Косаговский послал им вдогонку пол-ленты и прекратил стрельбу.
Наступила ошеломляющая тишина. И первым прервал ее, подводя итоги, Птуха.
— Больше осталось, меньше ушло! — сказал он, глядя на площадь, покрытую телами стрельцов.
А затем раздалась громкая команда Раттнера:
— Конные, вперед! Занимай ворота. Остальные за мной! Ура-а!.
3
Косаговский, волоча в паре с Птухой пулемет, вошел в кремль через Крестовые ворота. Сзади, спереди, со всех сторон бежали новокитежане, наконец-то, после двухвекового рабства, взявшие на копье твердыню владущих. В воротах образовалась плотная людская пробка. То справа, то слева от Косаговского появлялись знакомые лица, внезапно исчезали и так же внезапно появлялись снова.
А Птуха свистел пронзительно и выкрикивал подбодряюще:
— Даешь посадничьи хоромы!
Людская волна вынесла Птуху и Косаговского на широкий Посадничий двор. В дальнем конце его хлопали отдельные пищальные выстрелы. Это оставшиеся в живых стрельцы, запершись в Дьячьей избе, отбивались от восставших. Но гасли и эти выстрелы. Кремль доживал последние свои минуты.
Косаговский и Птуха, сбросив с плеч лямки, впрягшись в которые, они тащили пулемет, оглянулись, ища Раттнера. И вдруг в пищальные хлопки вплелись упругие и длинные винтовочные выстрелы.
Посадничий двор сразу опустел, словно вымела его невидимая метла. Косаговский оглянулся, недоумевая, и увидел, что от посадничьих хором бежит прямо на них густая цепь людей, в длинных до пят армяках, в волчьих с бархатным верхом шапках, с пулеметными лентами крест-накрест по груди. Люди эти были вооружены коротенькими японскими карабинами.
— Повертывай пулемет!.. — крикнул налетевший откуда-то сзади Раттнер. — Готовьсь!
Но пулемет приготовлять было уже поздно. Передовые нападавших были в сотне шагов. Выручил Птуха. Сорвав с пояса чугунное яблоко гранаты, он взвел ее и, размахнувшись, бросил. Граната рявкнула и брызнула огнем, дымом, осколками… Нападавшие остановились, заколебались. Федор быстро бросил вторую гранату, за ней тотчас же третью. Люди, перекрещенные пулеметными лентами, отступили.
Федор быстро бросил вторую гранату, за ней тотчас же третью
Косаговский и Раттнер упали около пулемета, повернули его в сторону цепи и экономно, не горячась, повели стрельбу,
IV. Смердья башня
1
В перерыве между двумя лентами Раттнер заговорил возбужденно.
— Этот сюрприз Гришки Колдуна может обойтись нам дорого! Я не говорю уже о том, что судьба восстания висит сейчас на волоске. Ты, конечно, понял, что это «лесные дворяне», скрывшиеся в Ново-Китеже от таежного пожара. Колдунов только теперь ввел в игру этот крупный козырь!..
— Нам долго не продержаться, — сказал со вздохом Косаговский. — Патроны на исходе.
— Скоро начнет темнеть! — взглянул Раттнер на холодеющее небо. — А в темноте нам и патроны не помогут. Окружат, навалятся со всех сторон, и капут. Что делать?
— А башня-то на что? — крикнул Птуха.
Раттнер оглянулся и понял мысль Федора. Прямо за их спинами высилась Смердья башня. Правда, двери ее были заперты могучим «репчатым» замком на двух кольцах. Но этот замок можно было сбить, не рискуя попасть под обстрел, так как выступ башенной арки прикрывал дверь от выстрелов «лесных дворян». Трудно лишь было добраться до башни по открытому двору.
— Я попытаюсь, Илья! — сказал серьезно Раттнер. — Ты держи их на прицел, а я поползу к башне!
— Попробуем, Николай! — дрогнул голосом Косаговский. — Но почему должен рисковать именно ты?
— Без разговоров! — крикнул начальнически Раттнер и отполз от пулемета.
«Лесные дворяне» тотчас заметили его и открыли частый огонь.
Раттнер дополз до валявшегося посредине двора боевого молота-чекана, поднял его и бросился во весь рост к башне, «Лесные дворяне» рассыпали ожесточеннейший огонь. Но Раттнер был уже под аркой.
Цепь «лесных дворян», не прекращая огня, начала делать перебежки. Они поняли маневр своих противников и пытались отрезать их от башни. Косаговский поливал наседавшую цепь пулеметным огнем, выпуская ленту за лентой.
— Держишься? — крикнул Раттнер.
— Держусь! — ответил летчик. — Но туго… Да и «Максим» греется!
— Держись, Илья!.. Я сейчас… одна минута! — подбодрял его Раттнер, молотя по замку чеканом. Но огромный, с арбуз, замок плохо поддавался.
— Истома, беги сюда! — крикнул вдруг Раттнер, увидев юношу, кравшегося с рогаткой в руках по стене, невдалеке от башни.
Истома вздрогнул испуганно и, вбежав под арку, тоже принялся бить рогатиной по замку. Но он только мешал Раттнеру.
— Уйди к чорту! — рассердился тот. — Ни вару от тебя, ни товару.
Истома охотно отошел в сторону и встал, опираясь на рогатину.
— Николай!.. — крикнул дико Косаговский.
Раттнер поглядел в его сторону обезумевшими от злобы и отчаяния глазами и увидел валявшийся невдалеке большой, с лошадиную голову камень. Не раздумывая, он поднял его и, тяжело переваливаясь, пошел медленно под выстрелами к башне. Налившись от натуги кровью, поднял камень и, крякнув, опустил его на замок. Лязгнуло железо. Дужка замка лопнула. Скрипнули, растворившись, тяжелые двери.
— Сюда, скорее! — крикнул Раттнер.
Косаговский, схватив пулемет за хвостовую дугу, поволок его к башне. Птуха же бросил гранату в подбегавших «лесных дворян» и этим задержал их.
— Федор, беги же!.. — закричал отчаянно Раттнер.
Птуха, угрожающе размахивая приготовленной гранатой, пятился к башенным дверям и на пороге их наткнулся на стоявшего в нерешительности Истому.
— Чего пнем встал? Убьют! — крикнул Федор и пинком в спину втолкнул юношу внутрь башни.
2
Закрыв изнутри дверь на тяжелый засов, Птуха сказал удовлетворенно:
— Не-ет, ваша не пляшет! Здесь бинамид нужен, неначе! Это же Перемышль, на великий палец!
— Башня крепкая! — откликнулся Раттнер. — Но мы в ней как в мышеловке.
Выкресав огня и раздув кудель, Птуха зажег толстую церковную свечу. Осветился весь нижний этаж башни, по стенам которого вились крутые переходы крепкой лестницы, ведущей в верхние ярусы.
— Поднимемся в верхний ярус, — сказал Раттнер. — Надо посмотреть, что делают «лесные дворяне».
Из верхнего яруса открывался широкий вид на весь кремль и даже на предкремлевскую площадь.
Пока Косаговский и Птуха устанавливали пулемет рядом с одной из пушек, Раттнер, оглядевший внимательно кремль, заметил, что Крестовые ворота были уже снова заперты. А это значило, что они отрезаны от всего города, и что помощи им ждать неоткуда. Бежать из Смердьей башни тоже невозможно было. Пушечные амбразуры, прорезанные в сторону города, были так узки, что человек ни в коем случае не протиснулся бы в них.
«Не буду расстраивать ребят, — подумал Раттнер, — но мы через два, самое большее три дня вынуждены будем сдаться или умереть от голода и жажды…»
— Отдохнемте, товарищи! — предложил он товарищам. — Разделимся на три смены: я, Птуха и ты, Илья, будем дежурить по два часа каждый.
— Но ведь нас не трое, а четверо! — удивился Косаговский, указывая на Истому. — А потому я предлагаю разделиться на две смены, по два человека в каждой. Это вернее будет! Мало вероятности, что заснут сразу оба часовых. А с одним этот грех может случиться.
— Ладно! Будь по-твоему! — согласился Раттнер почему-то с видимым неудовольствием.
— На первую смену предлагаю себя и Истому, — продолжал Косаговский. — Согласны?
Раттнер согласился и на этот раз, но нахмурился еще больше.
3
Косаговский сидел на краю амбразуры прислонившись к пушечному лафету. Истома примостился внутри башни, около пулемета…
Кремль, налитый тьмою и безмолвием, лежал под ногами Косаговского. Лишь со стороны собора неслись уныло величавые звуки тягучих церковных песнопений. Не то отпевали кого-то, не то молились о чем-то.
Косаговский думал об Анфисе, и полынная горечь разлуки обжигала его сердце.
«Есть ли будущее у нашей любви?»— спрашивал он себя и сам пугался этого вопроса. Он поднял правую руку, разглядывая перстень, подарок Анфисы. Но красавец гранат, не получая света извне, не играл, не брызгал кровавыми лучами, был темен, слеп и тускл.
«Носи этот напалок, никогда не снимая!»— вспомнились ему слова Анфисы, и она встала вдруг перед ним близкая, желанная, с глазами скорбными, таящими невыплаканную тоску.
Косаговский вскинул голову и, ударившись затылком о пушечный лафет, очнувшись от грез, открыл глаза.
Он увидел, что потолок башни залит трепетным багровым светом. Кремль, насколько хватал глаз, был темен. Снаружи в башню свет проникнуть следовательно не мог. Но откуда же тогда эти багровые зайчики на потолке?
Быстро, но бесшумно поднялся Косаговский на ноги и выглянул осторожно из-за пушечного лафета.
Истома сидел верхом на пулемете и камнем, обернутым тряпкой, загонял гвоздь в пулеметный ствол. Но тряпка не поглощала полностью звука, и камень, ударяясь о гвоздь, звякал.
А за спиной Истомы, закутавшись в плащ, в темной бархатной шапочке, отороченной соболем, надетой поверх белого платка, стояла Анфиса. Она держала в руке церковный многосвечник, утыканный горящими свечами.
В первый миг Косаговскому показалось, что Анфиса светит Истоме, помогая ему в работе. Но, взглянув в ее глаза, округлившиеся, с пустотой дикого ужаса в зрачках, он понял, что Анфиса перепугана встречей с Истомой и его таинственной работой.
Косаговский выдернул из кармана «Саваж» и, пригнув через пушку, навалился на плечи Истомы. Но юноша выскользнул из рук летчика и схватил лежавшую близ пулемета рогатину.
Косаговский отступил, встав на край амбразуры. А Истома пошел на него, как на медведя, выставив рогатину.
Раттнер увидел Истому с рогаткой в руках
Анфиса дико вскрикнула.
В тот же миг что-то темное, бесформенное мелькнуло в воздухе, и на голову Истомы упал бушлат Птухи. Юноша рванулся в сторону. Но Федор, размахнувшись со злобным неистовством, ударил его по голове:
— Вот тебе, кашалот тупорылый!
Истома упал.
Послышались торопливые шаги на башенной лестнице, и над плечом Анфисы показалось встревоженное лицо Раттнера.
V. Потерна
1
Одного взгляда было достаточно для Раттнера, чтобы понять все случившееся. Он быстро подбежал к пулемету, нагнулся и тотчас прислонился беспомощно к стене.
— Конечно! — сказал он, указывая на гвоздь, загнанный глубоко в пулеметный ствол. — Стрелять нельзя!
Истома, все еще лежавший на полу, зашевелился, встал и попытался разорвать ремень, которым Птуха стянул его руки.
— Ну-ну, не юлы — бо у нас не покуришь! — грозно прикрикнул на него Федор. И вдруг подбежал к одной из пушек, высунувшей в амбразуру длинный тонкий ствол.
— Гляньте, товарищи! — крикнул он. — Хотел заклепать «Максимку» да и утечь. От стерво!
К концу пушечного ствола была привязана тонкая, но крепкая веревка, другой конец которой касался земли Посадничьего двора.
— Но откуда эта веревка? — удивился Раттнер. — Я хорошо помню, что у него ее не было.
Птуха, высунувшийся в амбразуру, вскрикнул озлобленно и удивленно.
— Вот кто веревку Истоме вскинул! Халтурщик!
Раттнер, загородив глаза от света многосвечника, поглядев вниз, на Посадничий двор. У подножья башни стоял поп Фома и, задрав голову, всматривался напряженно в верхний ярус Смердьей.
— Сволота попивська! — рявкнул Птуха. И, схватив рогатину Истомы, метнул ее вниз, в Фому.
Рогатина воткнулась рожном в землю, в двух шагах от попа. Фома отбежал от башни и, погрозив кулаком, крикнул с плаксивой злостью:
— Годите, еретики поганые! Ужо выкурят вас серой из башни!
— От народец проклятый! — ворчал Птуха, вытягивая наверх веревку. — Это они хотят грехи свои загладить, перед посадником выслужиться.
Анфиса при слове «посадник» судорожно всхлипнула. Опомнившийся Косаговский подбежал к девушке и усадил ее на пушечный лафет. А затем, взяв из рук ее многосвечник, подошел вплотную к Истоме.
Тонкое изящное лицо юноши не выдавало ни страха, ни волнения.
— Зачем ты сделал это? — сурово спросил Раттнер Истому.
— Не хотел с вами итти! — заговорил развязно юноша. — Хотел от греха подале!
— Ах ты свыня, свыня! — покачал головой Птуха. — От греха подале! Ну и бежал бы, тебя за шиворот с собой не волокли! А зачем же ты нашу трещотку заклепал? Что будем с ним делать, товарищ военком? — обратился он к Раттнеру.
Тот пощипал нервно усики и, взглянув на Анфису, ответил фразой, которую девушка не смогла бы понять.
— Налево послать!
— Так! А твое слово, Илья Петрович?
Косаговский вздрогнул, как от удара, и опустил голову. Теперь он понял Истому. Его удивило лишь то, как он раньше не мог разгадать в юноше предателя. Раттнер и Птуха давно уже подозрительно относились к Истоме. Недаром же Раттнер до последнего момента скрывал, что Птуха послан им за пулеметом. Он боялся, что излишне доверчивый Косаговский расскажет об этом Истоме, а тот сообщит посаднику, а следовательно и полковнику Колдунову. Птуха тоже давно не доверял Истоме, возможно даже с того момента, когда увидел, как повлияло на юношу спасение Косаговским Анфисы. Лишь один Косаговский, ослепленный дружбой к Истоме, не замечал давно вынашиваемого предательства, быть может, подсказанного ревностью.
Понимая цели революции по-своему, примитивно, Истома, вероятно, надеялся в случае успеха восстания, как один из руководителей его, выйти в новокитежские вельможи и этим сравняться, если не возвыситься даже над посадником. Тогда бы Анфиса была его! Поняв, что даже в случае успеха восстания Анфиса, полюбившая Косаговского, не будет его женой, Истома круто сворачивает на дорогу предательства. Это он провалил сходку в Даренкином кружале, погубив Клевашного и Дарью. Теперь в этом не было сомнения. Недаром же Истома, перевезя Косаговского через Светлояр, сам на собрании не участвовал, а тотчас же скрылся куда-то. Это он, вел слежку за мирскими, сообщая обо всем посаднику. В восстании Истома участвовал, тоже со шпионской целью, донося обо всем в кремль. И наконец, последнее предательство — намерение заклепать страшную пищаль мирских и этим окончательно обезоружить их. Да, сомнений не было, Истома — законченный провокатор и предатель! Но имеет ли право судить его Косаговский? И не потому, что на предательство Истому толкнула ревность к счастливому сопернику, то-есть Косаговскому же, а по совершенно другим причинам.
— Что же ты молчишь, Илья? — спросил строго Раттнер.
— Я не имею права быть судьей в этом деле. — ответил твердо, подняв голову, Косаговский. — Я сам подлежу суду, как заснувший на посту.
— Об этом поговорим после! — помрачнел Раттнер. — И та понесешь заслуженное наказание. Но сейчас мы даем тебе право судить человека, всех нас предавшего.
— Я ничего не скажу! — попрежнему твердо ответил летчик.
— Напрасно! Ну, тогда твое слово, Федор.
— Мое слово? — поскреб в затылке Птуха. — А вот мое слово. Охота была руки марать об таку паскуду. Пущай живет, пущай воздух портит! Никому ведь он не опасен.
— Делайте, как знаете! — ответил отрывисто Раттнер, отходя к пулемету.
— Ну ты, полиглот! — крикнул Птуха Истоме. И, подойдя к нему, сорвал с его рук ремень. — Катись к своему халтурному дедушке.
Истома, озираясь зверем, ожидающим внезапного нападения, подошел к пушке и спустил нерешительно вниз веревку. Но на краю амбразуры он остановился, стараясь поймать взгляд Анфисы.
Девушка поднялась и подошла к нему.
— Как снесешь тяготу предательства, Иуда? — спросила строго Анфиса. — Будь ты трое-трижды проклят, предатель, до конца своего века!
Истома стоял, опустив голову, перебирая дрожащими руками подол рубахи.
— Да лезь же, подлюга! — не вытерпев, налетел на него Птуха.
Истома быстро уцепился за веревку и скользнул за амбразуру…
Раттнер и Птуха спустились деликатно в нижний этаж башни. Косаговский подошел к Анфисе, протягивая руки.
— Пришла все же! Не забыла! Невеста моя!
Девушка отстранилась испуганно.
— Невеста? — спросила она горько. — Нет, Ильюша, не быть тому. Не о горнем пире[13]) думать надобно, а о поминальном!
— Почему о поминальном? — удивился Косаговский. — Кто умер? Мать?
— Батюшка! — прошептала девушка. — В бою его убили посадские.
— Убежим со мной в мир! — сказал Косаговский, забыв, что бежать ему самому некуда.
— Што говоришь ты? — покачала головой девушка. — Когда бежать? Когда в доме нашем льются токи слезные от батюшкиного гроба?
— Что же ты решила делать, Анфиса? — спросил Косаговский, беря в ладони холодные ее руки. Но она снова отстранилась от него.
— Не подходи ко мне, Ильюша! Решилась уж я. Образ чернечский приму. А снесу ли иночество, сама не знаю! — топотом закончила она.
— Ты с ума сошла! — вскрикнул Косаговский. — Похоронить себя заживо? Беги из Ново-Китежа, погубишь ты себя!
— Замолчи, еретик! Легче мне в Светлояр кинуться, нежели бежать с тобой в мир! И не за этим я пришла сюда. Тебя и товарищей твоих спасти хочу!
— Ты сможешь вывести нас отсюда? — удивился Косаговский.
— Вот возьми! — протянула ему Анфиса толстую книгу в деревянных, обтянутых кожей и закапанных воском корках. — То «Книга Большого Чертежа». В батюшкиной спальне я ее нашла.
— Николай! Птуха!.. Сюда! — закричал неистово Косаговский.
На лестнице показались встревоженные Раттнер и Птуха. Федор отстегивал на бегу с пояса ручную гранату.
— Вот!.. Книга!.. «Книга Большого Чертежа»! — бросился к ним Косаговский. — План через Прорву!
Раттнер выхватил книгу из его рук и подбежал с ней к многосвечнику. Зашуршали листы плотной бледно-синей бумаги. Раттнер перекинул нетерпеливо сразу несколько листов и увидел крупную надпись: «Чертеж земли Ново-Китежской».
Чертеж был выполнен в старинной манере перспективного рисунка. Раттнер легко догадался, что извилистая линия, делавшая неожиданные повороты, даже полные петли, нанесенная на план киноварью, и есть потаенная тропа через Прорву.
— Есть! Чертеж очень простой! — ликующе крикнул Раттнер. — Идемте же, не теряя времени!
И вдруг потух, помрачнел.
— Впрочем… чертеж этот не принесет нам пользы. Ведь мы не сможем выбраться из башни.
— Из Смердьей я вас выведу, ходом подземным, — сказала девушка. — За мной идите. Поспешайте! Истомка-предатель не донес бы!
Вправо от входных дверей мирские увидели не замеченный ими раньше люк, крышка которого была открыта. Этой дорогой Анфиса и проникла в башню.
Спустившись в люк, мирские и Анфиса сошли по земляному без ступеней спуску в подвальный этаж башни. В одном из углов подвала темнела открытая настежь дверь.
Но девушка подошла ко второй, толстой, обитой железом двери.
— Здесь сразу под озеро спуск начнется. Под водой подземный ход идет и выходит на свет, на берегу Светлояра. Об этом ходе только я да батюшка помойный знали. Меня он девочкой еще по этому ходу водил, а я упоминала. На тебе ключ, Илья, отмыкай дверь.
Косаговский сунул в замочную скважину ключ, повернул… Дверь распахнулась. Холодным, затхлым воздухом потянуло снизу, куда вела крутая лестница.
Анфиса с многосвечником в руке спустилась первой. За ней, придерживаясь за стены, пошли мирские. Они очутились в небольшой подземной комнатке, из которой в разных направлениях уходило несколько подземных потерн.
— Много здесь ходов понаделано! — заговорила снова Анфиса. — И под озером, и в тайгу, и в тайники разные, на всякий случай. Глядите! — подняла Анфиса многосвечник. — Мы уже под Светлояром.
Мужчины увидели мутно-пенный каскад воды, бивший прямо из стены потерны, через круглое устье толстой гончарной трубы.
Вскоре, на первом же повороте, где сошлось несколько потерн, потянуло сильной струей холодного воздуха. Подземная буря рвала плащ с плеч Анфисы и уже потушила несколько свечей. Косаговский выхватил из рук девушки многосвечник и понес его низко над полом. Рвавшееся с фитилей пламя свечей успокоилось.
Наконец, прошли ветреный перекресток. Видимо, Светлояр был уже пройден. Пол начал круто подниматься И вдруг в уши ударил слитный шум тайги.
Птуха вскочил вперед, пробежал несколько шагов и остановился, освещенный лунным светом.
— Эх, тайга-матушка, — крикнул Федор, — напитай, напой, от недруга укрой!..
2
— Анфиса, пойдем с нами! — сказал с робкой просьбой Косаговский. — Мир светлый, бескрайный ты меняешь на келью.
Девушка молчала, быстро перебирая пальцами четки.
— Ты же согласилась бежать со мной. Помнишь, там, в саду, когда ты перстнем обручилась со мной. А почему теперь колеблешься? Или разлюбила меня?
Анфиса вздрогнула, подняла голову, шагнула быстро к Косаговскому. Но тотчас же, спохватившись, отступила и ответила тихим, безжизненным голосом:
— Люблю тебя по прежнему! Но… равна наша с тобой любовь, да не равны обычаи!
Косаговский улыбнулся больно.
— Да будь прокляты обычаи, лишающие человека радости и счастья!
Анфиса хотела что-то ответить, но ее остановил звук пушечного выстрела, тяжело прокатившийся по тайге. За первым выстрелом тотчас же грохнули второй и третий. Сомнений не было, это — сигнал к своеобразному «амбарго», извещающий стрелецкие посты о бегстве из города людей, которых надо задержать.
— Илья, бежим! — крикнул, бросаясь вон из оврага, Раттнер. — Истома опять предал!
— Ильюша, погоди! — кинулась порывисто к Косаговскому Анфиса. — Не пойду я в монастырь. В ногах у матушки и киновеарха вымолю тебе прощение. Останься со мной! Нашим, православным человеком, а не поганцем мирским будешь!
А из тайги прилетел голос Раттнера.
— Илья… беги… пропадешь!
Косаговский оторвал с усилием от своих плеч руки девушки.
— Верно ты сказала, Анфиса: равна наша любовь, да не равны обычаи! А мне по вашим обычаям не жить. Прощай!
Анфиса взглянула на тихо качающиеся, потревоженные ветви, скрывшие Косаговскоро, и, упав на колени, начала бить исступленно поклоны:
— Помилуй мя, матерь божья! Очисти мя безумную, неистовую!.. — шептала Анфиса, пытаясь ветхими, мертвыми словами заглушить самое тяжкое свое горе, похоронить любовь греховную.
И вдруг без памяти, холодная и немая, повалилась на сырую от утренней росы траву.
VI. Через Прорву
1
Шаманит тайга, поет жуткие песни. Воротит сердце от глухого волчьего воя. Если бы не «Книга Большого Чертежа», запутались бы беглецы в таежных космах. как блоха в собачьей шерсти.
Шли торопко, делая роздыхи и длинные переходы. Не шли — бежали! Хоть и говорит пословица, что беглецу одна дорога, а погоне десять, но в этом случае и беглецам и погоне была одна. И если есть у полковника Колдунова план путей через Прорву (а он, конечно, давно уже догадался снять копию с «Книги Большого Чертежа»), то погоня неминуема.
Шли через топкие болотца, по сухим логам, руслам рек без воды, загроможденным камнями. Всегда «Книга Большого Чертежа» указывала какую-нибудь боковую узенькую лазейку.
«Книга Большого Чертежа» указывала какую-нибудь новую лазейку.
Тропа в мир делала самые неожиданные повороты. Но беглецы не сбивались. При поворотах стоило только сверить отметину, нарисованную в плане, с отметиной на местности, и ускользнувшая, казалось, тропа снова находилась. А отметины эти были: то деревянный двухсаженный крест о восьми концах, то «тесь», то-есть сосна, затесанная с обеих сторон, то кедр с опаленной верхушкой, а то и медная иконка, прибитая к могучей лиственнице.
На третий день пути вдруг потянуло теплым, пахнущим гарью ветерком и послышался треск.
Путники забеспокоились и прибавили шаг.
Многочисленные стада белок перелетали с дерева на дерево. Пронеслась, устало махая крыльями, птичья стая. А треск и зловещий свист приближались.
— Пожар идет! — сказал Птуха, останавливаясь и оглядываясь по сторонам.
Действительно, таежный пожар, вот уже несколько дней бушевавший вокруг Ново-Китежа, нагонял беглецов. Не он ли и задержал погоню, высланную Колдуновым?
Между вершинами деревьев сверкнула вдруг огненная змейка, за ней другая.
— Бежим! — крикнул Раттнер. — Я помню по чертежу этот участок пути. Не выпускайте меня из виду!
Они побежали, осыпаемые огненными искрами. Из стволов деревьев, обступивших тайгу, брызнула смола и, вспыхнув, полилась струйками расплавленного металла. На беглецах начало тлеть платье.
Вдруг стена деревьев круто оборвалась. Впереди раскрылось огромнейшее, необозримое моховое болото.
И таежный пожар и Прорва остались за спиной…
2
Тихо в тайге. Зашебаршит лишь рябчик перелетая с дерева на дерево, да забурчит вдали глухарь.
Глядя на зарево лесного пожара, Раттнер сказал задумчиво:
— Теперь Ново-Китеж снова отрезан от мира! Все отметины на пути, все эти кресты, затесанные деревья, сгорели. Потаенную тропу через Прорву не найдет теперь ни новокитежский «вож», ни даже Колдунов.
Раттнер перелистал задумчиво «Книгу Большого Чертежа» и отложил ее в сторону.
— А это — музейный экспонат, не больше! Она и нам не поможет вернуться снова в Ново-Китеж. Богоспасаемый град остальцев древлего благочестия, этот диковинный бытовой заповедник утерян для нас. Но, будем надеяться, что временно.
Никто не ответил Раттнеру, не поддержал разговора.
Косаговский лежал ничком, лицом к земле, не то спал, не то просто притворялся спящим. А Птуха, думая о чем-то своем, поплевывал меланхолично в костер.
Перехватив тревожный взгляд Раттнера, направленный на Косаговского, Федор сказал тихо:
— Не тревожь его, товарищ военком. У него через бабу гайка маленько ослабела. Ничего! Все обусловится!
— А ты? А у тебя отчего гайка ослабела? — спросил сочувственно Раттнер.
Птуха улыбнулся грустно.
— Я? Я дело другого сорта. По гармошке та по Вкраине ридной соскучал. Надоело по белу свету шляться без утла тай без пригула. К одному бы месту прицепиться.
Птуха повздыхал, затушил каблуком выпавшую из костра ветку и докончил:
— Э, знать, наша доля такая! Поневоле к полю, коли леса нет! Как в песне поется:
У всякого своя доля И свой шлях широкий!..Старая китайская дорога, высеченная в скалах, вывела путников на пятый день в Монголию. Увидав бегущих к ним цириков, монгольских красноармейцев в шлемах с клапанами национальных цветов— желтого и синего, Птуха подошел к Косаговскому и, вытянувшись по-строевому, отчеканил:
— Илья Петрович! Про мои тридцать суток гауптвахты за самовольную отлучку не забудьте. Дисциплина, она — мать победы!
АРТУР
Из рассказов о 1905 г. Яна Страуяна
Рисунки В. Щеглова
В середине ноября 1905 года, на другой день после того, как по волости был брошен клич о создании народной милиции для борьбы с царской полицией, казаками и «черной сотней», он рано поутру пришел в волостное правление, где дневал и ночевал революционный «распорядительный комитет». Он был молод и красив, — поэт назвал бы такую красоту классической, ибо у Артура был древнеримский профиль, русые волнистые волосы и большие синие глаза. Он часто краснел и в такие минуты больше был похож на девушку, чем на семнадцати-летнего юношу. Председатель комитета, с трудом преодолевая сон после ночного собрания, сказал с пренебрежением:
— Что тебе надо, Артур? Председатель, всем известный пожилой столяр, знал в лицо всех жителей волости; он знал и Артура, — знал, что Артур — сын того кузнеца, который вывез жену-польку из крепости Ломжи, где служил в артиллерии.
Артур ответил неуверенно:
— Запишите меня в народную милицию. Председатель прищурил воспаленные бессонницей глаза, дернул ремень на штанах. точно испытывая его прочность, и ответил, зевая:
— А ты знаешь, как держать ружье? Стрелять умеешь?
У Артура часто-часто зашевелились густые ресницы, и голос задрожал, как струны скрипки, тронутые неумелой рукой:
— Я окончил три класса городского училища… Ружье — не геометрия или алгебра, — я научусь стрелять.
Председатель снова нетерпеливо дернул ремень:
— Про алгебры и геометрии нам не рассказывай. Мы не профессора. Наш профессор в стрельбе — баронский конюх. Он служил в гвардии — он тебя обучит. Ступай!
У распорядительного комитета имелось пять старых берданок и несколько десятков охотничьих ружей и револьверов. Это оружие распределили между милиционерами: берданки — бывшим солдатам, охотничьи ружья и револьверы — тем, кто умел владеть ими. Многие милиционеры остались без оружия, в том числе и Артур. Конюх-гвардеец обучал его стрельбе. а относительно оружия сказал ему и другим безоружным:
— Парни, ремеслу я вас научил. А промышлять ступайте сами: в прихода еще достаточно неразоруженных толстосумов. — вот вам работа, вот вам оружие!
И парни работали. В лесничестве князя Ливена им оказали сопротивление: лесничий ранил картечью невооруженного милиционера. Артур утюгом швырнул в лесничего, сбил его с ног и отнял блестящую новую двухстволку.
Конфискованное оружие обычно сдавалось начальнику милиции, и тот его распределял между милиционерами. Но Артур не выпускал из рук двухстволки.
— Я рисковал жизнью из-за этого ружья и прошу оставить его у меня.
Просьба его звучала как угроза и как приказание. Начальник милиции махнул рукой.
— Чорт с тобой, оставь двухстволку себе. Другой такой красавицы не найти…
С этих пор Артур словно внезапно возмужал. Он и так был высок, но теперь, с ружьем за плечами, он казался выше обычного. Голос его не срывался на высоких нотах, а звучал самоуверенно и жестко, Лицо под жгуче-холодным зимним ветром огрубело и потеряло женственную нежность, как мягкая весенняя зелень с наступлением лета теряет нежные оттенки и грубеет.
Артур целиком ушел в революционное движение, — так осколок льдины весною растворяется в море, сливаясь с дружным движением волн. Он стал командиром «десятка», и этому десятку комитет поручал серьезные и опасные дела: разоружение помещиков и полиции, конфискацию денег в казенных винных лавках, наблюдение за открытыми и явными врагами. Этому же отряду поручили разоружить и удалить из пределов волости пастора — пьяницу и развратника.
С пастором у Артура вышел продолжительный разговор.
Пастор спросил:
— Вы кто такой, молодой человек, и от имени кого являетесь ко мне?
Артур ответил:
— Я народный милиционер и являюсь от имени народа.
На что пастор возразил:
— Я признаю только таких посланников, которые являются ко мне во имя Христа или его слуг.
Артур усмехнулся.
— Господин парстор, вы путаете помещика и уездного начальника с Христом, Мы не признаем ни того, ни другого.
Худощавое бледное лицо пастора, похожее на вежливую холодную маску, стало зеленеть и дергаться. Он прошипел:
— Надеюсь, ваши милиционеры меня хоть не ограбят…
Артур тоже побледнел, но ответил спокойно:
— Вы, господин пастор, мерите нас на господский аршин…
Когда из кабинета пастора были унесены и сложены на розвальни охотничьи ружья, револьверы, новенький пятнадцатизарядный винчестер и ящик с патронами, Артур вернулся в кабинет.
— Ваше дальнейшее присутствие в приходе нежелательно, господин пастор. Распорядительный комитет дает вам два дня на сборы.
Лицо пастора снова стало как холодная маска. Он поднял глаза к небу:
— Я уйду из этого дома только по приказу Христа или его слуг…
Артур весело улыбнулся:
— В два дня, господин пастор. По приказу комитета.
В тот день пастор действительно не собирался уезжать. Но на другой день разнесся слух, что в соседней волости убит полицейский пристав с урядником. Пастор наскоро уложил чемодан и, не дожидаясь конца данного срока, уехал в Ригу.
В середине декабря с Артуром случилось несчастье. Из Петербурга уже были двинуты на Прибалтику карательные отряды. Дружины милиционеров, не зная численность врага, готовились к сопротивлению Готовилась милиция и в Приморской области. Приводилось в порядок каждое ружье, каждый ржавый револьвер. Испорченное оружие спешно чинилось в отдаленной лесной усадьбе.
По поручению распорядительного комитета Артур отправился в эту усадьбу забрать исправленное оружие Была безлунная ветреная ночь; тьма смешалась с сыпучим снегом, и в этом мутно-сером хаосе как живые, качались и скрипели высокие сосны.
Артур с тремя товарищами вышел из соснового леса к усадьбе. Дежурные милиционеры их не узнали, — из-за воя метели не поняли их приветствия. На Артуре было серое пальто и папаха — его приняли за полицейского. Милиционер выстрелил из дробовика. Картечь пробила Артуру щеку и шею — еще полдюйма, и выстрел оказался бы смертельным.
Артур пролежал в лесной усадьбе недели две. Лечил его аптекарь из рыбацкого поселка — краснощекий жизнерадостный человек, известный во всем приходе как организатор благотворительных вечеров и лучший танцор. Он все свободные часы проводил у раненого и лечил его так добросовестно и удачно, что Артур к началу января вполне поправился.
А с севера между тем двигались карательные отряды генерала Орлова. Они без суда расстреливали милиционеров, пороли заподозренных в симпатиях к революционному движению и громили из пушек и жгли усадьбы, которые в какой бы то ни было мере служили базой для народной милиции. Отряды милиции отдельных волостей не были организационно об’единены. А действие артиллерийских снарядов так убедительно доказывало техническое превосходство пушки над охотничьей винтовкой и револьвером, что даже самые отчаянные сторонники активных действий признали, что открытое сопротивление карательным отрядам бессмысленно. Милиционеры уходили в подполье: в леса, в города, за границу.
Артур покинул родную волость, когда запылали знакомые усадьбы и была сожжена та усадьба, где он нашел приют после ранения. Он ехал глухими лесными дорогами, где редко встречались прохожие. Не встретил ни одного знакомого. Лес дремал. Прохладный покой нарушало только поскрипыванье полозьев, да чмокание и понукание возницы, торопившего ленивого коня:
— Ну-ну-у! На-а!
Не хотелось выезжать из леса, где каждое дерево казалось другом и верной охраной.
В поле, недоезжая до уездною городка, заметили конный отряд: он медленно двигался навстречу. Артур оглянулся: до леса было уже далеко, — не уйти на крестьянской кляче от гвардейских скакунов. Артур продолжал путь: паспорт на имя приказчика галантерейного магазина в Риге должен был его выручить.
Вахмистр с длинными светлыми усами зычно крикнул:
— Стой! Документ!
Пока улан рассматривал паспорт Артура, сзади отряда продвинулся вперед верховой в штатском. Он наклонился к Артуру. Парень с’ежился: на него смотрела холодная маска пастора.
На Артура смотрела холодная маска пастора
Арестованных расстреливали за рыбацким поселком, на опушке леса, где общипанные северным ветром, но крепкие сосны вплотную подступали к морю. Снег тут был неглубок — неуемные ветры сметали его и смешивали с желтым приморским песком.
Одновременно с Артуром уланы привели трех батраков из соседнего княжеского имения — двух молодых, одного пожилого — и бывшего садовника из того же имения. Батраков забрали как зачинщиков летней забастовки, а садовник на одном из октябрьских митингов непочтительно отозвался о молодой княгине. Уланский полковник, командовавший карательным отрядом, обещал княгине «проучить» нахала за оскорбление.
Арестованные, окруженные спешившимися уланами, топтались на месте, движением стараясь согреть зябнущие ноги. День был морозный, ясный, от сосен падали на снег синеватые тени. Застывшее море было как безжизненная пустыня, глазу необозримая.
Артур провел последнюю ночь в холодном сарае, ему хотелось спать и не было охоты разговаривать с обреченными на смерть товарищами. Но когда заметил, что один из молодых батраков весь дрожит и стучит зубами, он подошел к нему.
— Август, как тебе не стыдно! Ты дрожишь перед этим несознательным элементом (Артур кивком головы указав на улан). Революционер должен просто смело глядеть на смерть.
Батрак широко раскрыл глаза и проговорил заикаясь:
— К-к-ак ты д-думаешь: сколько с-се годня градусов? Я д-думаю — градусов пятнадцать. А я без полушубка: взяли пряма с работы…
Артур, краснея, ответил:
— Ну, извини. Я не заметил.
Подошел садовник. То расстегивая, то застегивая красными пальцами среднюю пуговицу бараньей шубы, крытой серым сукном, он робко обратился к Артуру:
— Ты, Артур, может быть, об’яснил бы им, — он указал на улан, — рассказал бы им по-русски о моем деле. Нельзя же человека убивать неизвестно за что…
Уланы, опираясь на короткие кавалерийские карабины, тупо и сонно смотрели на осужденных. От солдат несло запахом спирта.
Артур ответил нетерпеливо:
— Не говори глупостей. Пьяные солдаты тут не при чем. А полковники знают, за что нас расстреливают…
Из местечка прискакал вестовой и что-то доложил ротмистру. Тот еле тронул коня и отдал приказ вахмистру.
— Бунтовщики, по местам! — скомандовал вахмистр. — К соснам!
Спотыкаясь в рыхлом снегу, вся группа арестованных направилась к соснам. Два улана принесли веревки.
Из местечка собирался народ — торговцы, базарные бабы, ребятишки, рыбаки; не подходя близко, наблюдали за тем, что делается у опушки леса. Первым привязали пожилого батрака, за ним молодого в рваном полушубке; оба они молчаливо и покорно сами стали к дереву. У садовника подкашивались ноги, — улан, путаясь в длинной шинели, поддерживал его. Рядом с Артуром стоял молодой батрак в одном лишь пиджачишке. Он жаловался: «Скрутили как мешок с зерном. А ведь я еще живой — больно…»
Артур тихо говорил вязавшим его уланам:
— Не верьте вашим офицерам, — мы не разбойники, мы боролись за народ…
Уланы угрюмо поглядели на него и отошли.
Взвод солдат выстроился перед обреченными на расстрел. Но ротмистр почему-то медлил отдавать последнюю команду.
Старший батрак сказал младшему:
— Мне надоело ждать. Скорее бы…
Голос младшего прозвучал надеждой:
— Может быть, еще не решено. Может быть, сейчас отдадут приказ освободить нас…
Артур услышал последние слова. И на миг — только на миг! — допустил возможность освобождения, вообразил, как они впятером уйдут отсюда по скрипучему снегу, вдоль моря, под ослепительным зимним солнцем. Он даже рванулся вперед.
Веревка, врезаясь в тело, напомнила о действительности. Артур стал думать о том, что сказать товарищам в последнюю минуту, но не мог найти подходящих слов, — все слова казались ничтожными и ненужными. Вдруг он заметил, что к отряду приближаются два улана верхом и между ними пеший в шубе нараспашку. Артур узнал аптекаря Зирниса. Его подвели к осужденным. Он снял бобровую шапку, рукавицей отер пот с разгоряченного лба и бодро сказал:
— Здравствуйте, товарищи! И я иду туда же, куда и вы…
Его привязали к сосне рядом с Артуром.
Артур спросил:
— Зирнис, почему же тебя?
Аптекарь растерянно улыбнулся.
— За дружбу с тобой. Мне говорили: «Ты лечил разбойника, так отправляйся с ним одной дорогой…»
Артур побледнел. Прошла долгая минута. прежде чем он снова заговорил внезапно охрипшим голосом:
— Зирнис… Ни перед кем на свете мне не была так неловко, как перед тобой. Я не могу смотреть тебе в глаза… Прости!
Аптекарь снова улыбнулся и дернул связанной рукой:
— Нечего прощать — судьба: видно, отплясал я свое время. Девок сколько перецеловал…
Он замолчал на миг и продолжал с трепетной страстью в голосе:
— По-приятельски я скажу тебе: безумно хочется жить еще…
К месту казни под’езжал уланский полковник, окруженный офицерами и верховыми в штатском, местными помещиками. Из толпы выделился высокий толстый человек, известный рыбопромышленник, подошел к полковнику и, сняв шапку и шагая рядом с лошадью, начал что-то говорить. Полковник остановил меня. Раздался пискливый, дребезжащий голос, — не верилось, что таким голосом говорит грузный полковник с орлиным носом.
К месту казни под’ехали уланский полковник и местный помещик
— Молчать! Я знаю, что делаю. Я знаю: ваш аптекарь лечил бунтовщиков, а вы смеете просить за него… Марш!
Полковник взмахнул нагайкой. Рыбопромышленник моментально отскочил в сторону.
Артур дрожал. Срываясь на каждом слове, он крикнул ближайшему улану:
— Солдат, убей… убей сперва твоего полковника, потом меня…
Последняя сцена была коротка. Команда, залп. Дернулись пронзенные пулями тела и поникли головы…
Полковник издал приказ: три дня оставить расстрелянных на месте казни. Приказ был исполнен. Лужи крови застыли на снегу и желтом песке. Красные сосульки свисали с простреленных рук и пальцев. Голова Артура склонилась к левому плечу, в сторону аптекаря, — казалось, парень хочет что-то шепнуть соседу.
На другой день подул сильный северо-западный ветер, громады туч поползли по небу, и повалил снег. Он наложил мягкие повязки на кровавые раны, одел убитых в белые саваны. Качаясь по ветру, стонали сосны. А с застывшей морской пустыни доносился далекий гул: там, где-то за ледяными полями, шумела свободная морская волна и в ярости кидалась на ледяные глыбы.
25 ЛЕТ НАЗАД
Январь
Расстрел рабочих 9 января 1905 г, на площади Зимнего дворца.
Массовые забастовки (Путиловский завод, Баку, Сормово, Варшава) второй половины 1904 года явились предвестником новой революционной полосы в русском рабочем движении. В первые дни января 1905 года началась всеобщая забастовка в Петербурге. К 8 января здесь бастовало уже 150 тысяч человек.
К этому периоду относится развитие деятельности «Собрания фабрично-заводских рабочих», организованного в 1903 году Гапоном. Целью этого «собрания» было переключить революционность масс на рельсы «организации самопомощи и взаимопомощи и проявления своей разумной самодеятельности во благо родины» (слова Гапона).
Это движение «перерастает свои рамки и, начатое полицией, в интересах полиции, в интересах поддержки самодержавия, в интересах развращения политического сознания рабочих, это движение обращается против самодержавия, становится взрывом пролетарской классовой борьбы», — писал В. И. Ленин.
Охранник Гапон, толкаемый массовым движением, очутился на короткое время на гребне революционной борьбы. Парализуя революционность масс, Гапон выбрасывает лозунг мирного шествия к царю с просьбой улучшить положение.
9 января тысячи безоружных рабочих с женами и детьми отправились к дворцу.
Народ еще верил в «царя-батюшку», который заступится за рабочих, умиравших от истощения и непосильных работ на фабриках и заводах.
«Мы, рабочие, пришли к тебе. Мы, несчастные, поруганные рабы, мы задавлены деспотизмом и произволом. Когда переполнилась чаша терпения, мы прекратили работу и просили наших хозяев дать нам лишь то, без чего жизнь является мучением…»
Так начиналась петиция рабочих, которую они несли царю.
Царское войско, по приказу царя, оказало эту «милость» рабочим: оно начало в упор, из винтовок и пулеметов, расстреливать мирное безоружное шествие.
Жандармы и полиция добивали лежащих на земле.
Это был великолепный урок. Русский пролетариат не забыл его.
Остатки веры в царя были расстреляны в этот день.
За 9 января революционное движение пролетариата шагнуло вперед так, как не могло бы шагнуть за месяцы и даже годы.
— К оружию? — раздалось в одной толпе на Невском.
И рабочие стали вооружаться. Они поняли, что парь является главой господствующего класса, что не просьбами надо добиваться улучшения своего положения.
После 9 января по всей стране прокатился бурный шквал забастовочного движения. 23 (10) января началась забастовка в Москве. 24-го забастовка протеста в Ярославле, Ковно и Вильно. 25-го — в Ревеле, Риге, Саратове, Киеве, Минске, Могилеве. 26-го — в Витебске, Либаве, Тифлисе 30-го начали забастовку в Харькове, Екатеринославе, Иваново-Вознесенске, Тамбове и других городах.
Февраль
Убийство Каляевым вел. князя Сергея Александровича (17 февраля 1905 г.)
9-е января — знаменательная дата. Мощная волна забастовок и демонстраций против расстрела, прокатившаяся по всей России, вылилась во многих местах в вооруженное сопротивление.
Стихия уступила место планомерной борьбе. Многие демонстрации несли лозунги: «Да здравствует социал-демократия!». Социал — демократы — большевики, ведя борьбу с меньшевиками, мелкобуржуазным течением в социал-демократии, организовывали пролетариат для борьбы.
В феврале рабочие Бахмуга (ныне Артемовен), Тулы, Петрокова, Либавы, Саратова, Сухума и многих других городов, бастуя, выставляли политические требования.
Кое-где забастовки и демонстрации выливались в вооруженные столкновения рабочих с полицией и войсками. Так, например, было 5 февраля в Тифлисе.
Еще в 1902 году крестьянство повело борьбу с помещиками. Начавшиеся в Воронежской губернии волнения перекинулись тогда на большую полосу России. Крестьяне жгли имения, уводили скот, забирали помещичью землю. На одной Полтавщине было разорено 54 имения.
К середине 1904 года это движение затихло в результате кровавых расправ.
Но причины недовольства не были уничтожены: крестьяне оставались такими же нищими, бесправными.
К февралю относится возобновление крестьянских волнений и забастовочного движения батраков, преимущественно на юге и юге-западе России. 22 февраля начались разгромы помещичьих усадеб в Орловской, Саратовской, Курской и Черниговской губерниях.
Март
Отступление русской армии от Мукдена
Затеянная русскими империалистами война обманула ожидания правительства. Война с Японией, — война за чуждые русскому крестьянину и рабочему интересы, не могла вызвать воодушевления.
Поражение следовало за поражением. В победу уже никто не верил, несмотря на уверения Николая II, что «Россия доведет эту войну до конца: до тех пор, пока последний японец не будет выгнан из Манчжурии».
Март определил окончательно исход войны. Начатые 23-го февраля сражения под Мукденом окончились 10-го марта полным разгромом русской армии.
(Военный крах, понесенный самодержавием, приобретает еще большее значение, как признак крушения всей нашей политической системы… Войны ведутся теперь народами, а потому особенно ярко выступает в настоящее время великое свойство войны: разоблачение на деле, перед глазами десятков миллионов людей, того несоответствия между народом и правительством, которое видно было доселе только небольшому сознательному меньшинству. Несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, с интересами всего народа (кроме кучки чиновников и тузов) выступила наружу, как только пришлось народу на деле, своей кровью, расплачиваться за самодержавие», — вот как определяет значение японской войны В. И. Ленин («Собр. соч.» т. VI).
В течение марта количество забастовок росло. Пролетариат неослабной борьбой пытается разорвать цепи капитализма. О том, в какой мере овладела движением социал — демократическая организация, можно судить уже по одному количеству распространенных прокламаций. В течение первых трех месяцев 1905 года, например, один рижский комитет выпустил 75.000, а вместе с воззваниями, выпущенными ЦК, приходилось не менее 250.000 (в Риге в результате борьбы к марту был сокращен на 1 час рабочий день, с повышением зарплаты на 10 проц.).
Апрель
В апреле в Лондоне открылся III с’езд I РСДРП(б.) С’езд продолжался четырнадцать дней.
III с’езд партии, на ряду с другими, решительно поставил вопрос и о восстании I и его руководстве.
Меньшевики считали, что свергнуть царизм можно при помощи агитации, пропаганды, уклоняясь от руководства движением, так как народ выдвинул бы; партию к власти, а класс, который она представляет, не готов к власти.
Меньшевики считали, что к власти должна притти буржуазия, а они должны оставаться в роли оппозиции.
Владимир Ильич так определил положение:
«Теперь не только налицо есть революционная ситуация, но революция прямо упирается в вооруженное восстание, а потому необходимо принять самые энергичные меры для вооружения пролетариата, для выработки плана вооруженного восстания, для создания особых организаций, которые могли бы руководить, организовать, создавать, на боевых действиях оформить особые, к гражданской войне приспособленные аппараты».
В одной из резолюций с’езд решил «принять самые решительные меры к вооружению пролетариата, а также к вы-! работке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым».
Большевики не стали в сторону, а всеми силами боролись за свои идеи.
История показала, кто был прав. Через двенадцать лет после первой революции, следуя той же тактике, большевики привели пролетариат к небывалой победе, создав первое в мире рабоче — крестьянское государство, начав строительство социализма.
КОПЬЕ
Рассказ К. Алтайского
Рисунки Расторгуева
Копье Форде
То, что было, — было. Быль не в укор.
В детстве я неумеренно мечтал об Африке. Она рисовалась мне бледно-оранжевым материком, по которому лениво бродят, пощипывая мимозы, величавые жирафы.
Подрастая, этак примерно в 1905 году, я с презрением отринул антилоп и жираф, но Африка попрежнему пленяла меня. Моими думами овладели нумидийцы, и я многое отдал бы за настоящее нумидийское копье, быть может, обагренное черной кровью льва.
Копье это рисовалось мне длинным, в меру тяжелым, с кованым наконечником, по форме напоминающим карточный знак треф.
Свои африканские мечтания я вспомнил четверть века спустя в желтой, как мех шакала, степи, над которой свистел шальной, буйный ветер.
Осенью 1930 года я мчался на черном лаковом форде, взятом из гаража «Донугля».
Обуреваемый ветром и детскими воспоминаниями, я разглядывал копье, лежавшее в кузове форда. Оно было выковано по образу и подобию воображаемого… нумидийского. Дикарски примитивное, оно было изготовлено из цельного куска железа. Красная ржавчина, местами похожая на засохшие сгустки крови, покрывала копье. Острие его напоминало карточный знак треф.
Я уже установил, что оно сковано было в 1905 году.
Чудесное совпадение: я мечтал о копье, а оно в это время ковалось; тяжелый молот расплющивал трефообразный наконечник.
Но четверть века копье лежало под соломенной крышей голубоватой украинской хатки — старого алчевского литейщика.
И копье имеет свою историю.
В городе Луганске, на 3-й Продольной улице, в доме № 53, встретил нас Иван Алексеевич Придорожко, директор пивоваренного завода, в прошлом грозный вожак партизан.
— Редкий случай! Слет старых друзей, — говорил он хриповатым голосом. Рябое лицо его приветливо.
Я беру копье и отношу его в комнату
О друзьях он сказал не зря. В комнате старые алчевские большевики — Молчанов и Паранич.
Здоровье сдало у старого командира Придорожко, но голос, громко-хриплый, наполняет комнату. Он кричит Тосе, дочери:
— Громовой! Чайку!
Мне говорил Придорожко, сверкая изжелта-карими ястребиными глазами:
— Редкий случай! Много, лет не виделись и вот… сошлись!
А когда мы сели у стола, он достает красную книжку Луганского истпарта «Краткий очерк революционного движения на Луганщине», выбирает страницу и просит меня:
— Пожалуйста, прочтите вот это вслух.
Я читаю:
— Первый революционный кружок в Луганском районе возникает в 1898 году на заводе ДЮМО в Алчевске; организаторами и первыми его членами являются Ворошилов, Придорожко, Паранич…»
Я понимаю: так начинается история копья, хотя копье стоит пока в сенях и Придорожко его не видел.
— Революцию в Луганщине возглавлял Ворошилов и ворошиловский выводок — вставляет Паранич и крутит задорно жесткие усы.
Тося (она же Громовой) приносит вскоре самовар, посуду и мед.
Кружок, описываемый Луганским истпартом, заслуживает пристального внимания и, может быть, изучения, но меня интересует и биография копья.
Я иду в сени, беру копье и вношу его в комнату.
Придорожко зорко всматривается в него и вскочив, говорит с горячи остью:
— Узнаю! Узнаю! Это наше, это горловское копье.
И, не давая нам опомниться, старейшина, вожак, батько партизан — погорит о рождении копья:
— Помните тысяча девятьсот пятый год? Москва восставала. Ростов восстал.
У нас в Донбассе Горловка восстала. В Алчевске неразбери-бери началось. Динамит вместо сердец был. Кинь только искорку! Рванет!.. И вдруг получаем мы телеграмму из Горловки: «Восставших горловцев избивают. Ратуйте!» Зашумел-загудел завод Дюмо тысячеголосым митингом. Стихийно. Никто его не созывал не организовывал. Вокруг человека с телеграммой загремел митинг.
Завод сказал: помочь. А помогать, так сейчас же, сию минуту. Где взять оружие? Постановили: охотникам сдать ружья, Сдали. Да что эти берданки? Капля в море… И родилась у нас мысль наковать себе копий. Тут же, в течение двух-трех часов механический и прокатный цехи четыре тысячи пудов первосортного железа перековали в копья. Это копье одно из них. А затем Алчевск создал отряд. Командиром выбрали меня. Мы немедленно выехали в Горловку. Динамит — говорю — был в сердцах. С этакими копьями против императора выступили! Не боялись…
Здесь тысячи пудов первоклассного железа перековали в копья
Как казаки царя защищали
Пока говорит Придорожко о рождении копья, Молчанов и Паранич волнуются. Молчанов поминутно покашливает, словно готовя голос, Паранич больше чем следует накручивает свои жесткие усы. Обоих подмывает вступить в разговор.
Придорожко закашлялся.
Стремительно врывается в беседу Молчанов. Он говорит не о копье — о боевых товарищах копья, винтовках маузерах, и шашках. Они ведь тоже работали в Горловке рядом с копьем. Но прежде чем они начали работать, они были добыты. И добыты вот как:
— Приехала к нам в Алчевск полурота нас запугивать.
Я вышел к ним и говорю:
«Ребята, домой хочется?»
«Хочется».
«Служить не сладко?»
«Не сладко».
«Офицеришки дрянные?»
«Дрянные».
«А коли так, вяжи офицеров, сдавай оружие, получай билеты и по домам».
Связали офицеров. Сдали оружие. Получили билеты. Благо — в билетной кассе большевик сидел, а станция была в наших руках.
Пока разоружали полуроту и распределяли оружие между рабочими, в экономию около Васильевки прибыло шестнадцать казаков. Вооружены, говорят, до зубов. Ладно. Беру с собой семь человек и иду в экономию. Места знакомые. Здесь маленький Ворошилов помещичьих коров пас. здесь с ним в лапту играли… Пришли. Рабочие окружили дом. Я вхожу один и говорю грубо:
«Ни с места. Извольте сей минут сдать все оружие, а то…»
Управляющий экономией побелел, как мел, говорит казакам:
«Господа, сдайте, ради-бога. Эго известный террорист. Дом окружен. Они недавно перехватили вагон динамиту. Взлетим на воздух!»
—…Извольте сей минут сдать все оружие!..
Я смеюсь. Смех у меня злой. Вижу, казаки поспешно разоружаются. Один усатый чуть не плачет:
«Оставьте мне шашку. Заслуженная. Именная».
«Ничего, — говорю, — пригодится нам и именная».
Отдали все до патрона…
Молчанов, ветеран-подпольщик, герой 1905 года, стоит посредине комнаты— черноглазый, черноволосый, в кожанке, как чугунное изваяние.
— Две тысячи вооруженных бойцов дал Алчевск в помощь восставшей Горловке, — говорит Молчанов.
— Правда.
— Правда, Придорожко?
— Сущая правда.
Кровь и снег
— Со всех ближних заводов и копей прибыли Горловке подкрепления, — снова выступает Првдорожко. — Под’ем был, желание биться до конца было, а вот штаба не было. Помню день нашего разгрома. Едва затих четырехчасовой бой, мы решили атаковать царские войска: драгун, казаков и полицию. Дрались и копьями и шашками, и винтовками — кто чем мог. Дрогнули царевы войска, побежали. Победу бы нам праздновать, да с Юзовки казачье налетело, как саранча. У нас— копья, а у них пулеметы, орудия, снаряды. И рабочие отряды дрогнули… Я получил в бою две раны. Был ранен и Кузнецов, вожак восставшей Горловки.
Дрались и копьями, и шашками а винтовками — кто чем мог
(Кузнецов… Кто мне говорил о Кузнецове? Ах, да… литейщик, у кого я добыл копье!)
— Разбили нас, — договаривает с досадой Придорожко. — Не выдержали, наши копья.
Придорожко надорванно умолкает. Нелегко ему вспоминать разгром Горловки…
— Кровь на снегу была, — сменяет его Паранич, — кровь смешалась со снегом. Казаки шашками рубили восставших. А в Алчевеке уже орудовали пристава и жандармы, заплечные мастера самодержца российского.
Паранич уже не крутит молодцеватые усы. Вспоминая, он считает, задумчиво загибая пальцы:
— Придорожко арестовали, Молчанова, Кузнецова, меня… перечислять долго… — Рука с отсчитанными пальцами сжалась в кулак.
— А копья? — нетерпеливо спрашиваю я.
— Копья были забраны в качестве вещественных доказательств. Многие пропали. Некоторые были припрятаны, дождались сегодняшних дней. Копье было также и у Кузнецова.
Едва сказал Паранич, всплыли в моей памяти слова старого литейщика, подарившего мне копье.
— Это не простое копье, — говорил он. — Горловское. Боевое.
Бережно передавая его мне, литейщик добавил:
— В последнем бою Кузнецов был тяжело ранен. Он отбивался этим копьем, а кровь била из его руки. Он крикнул мне: «Бери копье!» Я схватил копье, но защищаться было поздно… Нас теснили… Казачье наседало тучей… Мы отступили… В Алчевск я пробрался ночью, на возу с сеном. Копье спрятал в сено. Все-таки оружие! Дома я заложил его под крышу. Там оно и пролежало много лет…
Эта биография старого копья.
— Но что стало с Кузнецовым? — спросил я старых ветеранов.
Молчанов, подумав, ответил:
— Следствие по горловскому делу тянулось три года. Нас судили в церкви в тысяча девятьсот восьмом году, когда по стране свистели нагайки и пули палачей.
На скамье подсудимых было девятьсот девяносто семь человек. Среди них и Кузнецов и Придорожко, Паранич и я. Тридцать два человека было приговорено к повешению, шестьдесят человек к каторге. Я, Паранич и Придорожко были приговорены к смертной казни через повешение.
— Кузнецова пытались освободить из тюрьмы, — говорит Паранич.
— Кто? — спрашиваю я.
— Ворошилов. Луганские рабочие освободили к этому времени Ворошилова из тюрьмы, и вот он…
Паранич рассказал нам этот интересный случай. Впрочем, будет лучше, если мы предоставим слово самому товарищу Ворошилову:
«С нелегальным паспортам двинулись мы с Я. Моргенштейном в Горловку, — пишет в своих воспоминаниях Ворошилов. — На месте узнали, что все арестованные участники и руководители восстания уже увезены в харьковскую и екатеринославскую тюрьмы и только один Кузнецов, будучи тяжело ранен во время боев, находится в горловской больнице. Я разыскал старых знакомых рабочих, через них связался с уцелевшими партийцами, и мы вместе обсудили вопрос о возможности освобождения т. Кузнецова, который в больнице охранялся взводом солдат.
Выкрасть Кузнецова можно было только, либо перейдя через трупы этих солдат, либо посредством подкупа. Оба средства были непригодны; но Кузнецова могли каждую минуту увезти в губернскую тюрьму. Каждый миг был дорог, и мы наметили такой план: через сестру милосердия мы узнали, что солдаты охотно принимают «дары» и могут от нее принять выпивку; после этого хорошо знакомые нам доктор и аптекарь достали для нас необходимое снотворное средство и смешали его с водкой. Оставалось только угостить стражу и затем действовать. Но у нас не было необходимых перевязочных средств. Через местных товарищей я получил связь к одному из владельцев завода сельскохозяйственных машин, некоему Брунсту, завод которого находился в расстоянии 30–35 верст от Горловки. Брунст был одним из тех либералов, которые искренно помогали революционному движению, особенно там, где революция перемешана с романтикой, но они обычно выступали только в том случае, если не рисковали собственной шкурой. Выслушав сообщение о цели моего приезда, Брунст, не задумываясь, снабдил меня двумя прекрасными лошадьми, теплыми шубами и одеялами, дал какую-то сумму денег и разрешил на несколько дней спрятать у себя Кузнецова. Уже на следующий день лошадь с надежным человеком и всем необходимым стояла в условленном месте, ожидая Кузнецова.
Пока я ездил к Брунсту, Я. Моргенштейн уладили дело в отношении воинской охраны больницы, устроив пробное угощение водкой. Теперь оставалось только дать настоящее угощение — усыпить стражу и к двум часам ночи увезти Кузнецова.
Все шло как по писаному: солдата угостились и к определенному часу все лежали пьяные в лоск. В больницу отправился я один. Для того, чтобы замести следы, вся больничная прислуга была заблаговременно удалена, за исключением необходимых дежурных, из которых один притворился спящим, другие же спали, угостившись вместе с солдатами.
Около половины второго ночи я зашел в палату Кузнецова. Последний при моем появлении как-то растерялся, хотя сам торопил с освобождением его, настаивая на этом в записках из тюрьмы. Первым его вопросом было: «Что солдаты? Солдаты могут умереть».
Я не мог разговаривать на эту тему и предложил Кузнецову поскорее одеться и итти. Но Кузнецов тянул, заявив, что у него сильное головокружение от потери крови, ампутированная правая его рука болит, что он не надеется на благополучный исход побега, не знает, куда его повезут, и т. п. Я начал с еще большей настойчивостью убеждать его в необходимости бросить всякие рассуждения и итти со мной. Он спросил: «Как далеко?» Лошадь находилась на расстоянии полуверсты от больницы. Узнав об этом, Кузнецов еще более заколебался, а затем наотрез отказался следовать за мной. На мои уверения, что по дороге к лошадям расставлены товарищи, которые на руках его донесут, он упорно и недоверчиво качал головой. Приближалось время смены караула, и я начал просить написать записку, что он категорически отказывается итти со мной. Но Кузнецов не мог этого сделать, будучи слишком взволнован. Мы пожали друг другу руку и расстались.
Я до настоящего времени не могу понять той сложной работы мысли, тех чувств, которые охватили в тот момент этого истинного героя и вождя рабочего класса…»
…Чай, принесенный Тосей Громобоем, остыл. Мы не трогали его.
Я в третий раз спросил Паранича:
— Что же стало с Кузнецовым?
— Мы трое по независимым от нас обстоятельствам отвертелись от виселицы, — ответил Паралич, — а Кузнецов… Кузнецов был повешен в тысяча девятьсот восьмом году в екатеринославской тюрьме…
Мы примолкли.
Мы сидели задумавшись — три смертника, случайно избежавшие виселицы, но отбывшие долгую каторгу, и я, случайный гость героического Донбасса.
На моих коленях лежало заржавленное копье, обросшее легендами 1905 года.
— Знаешь, друг, место копья в музее, — сказал вдруг Придорожко.
Он был прав.
Это копье не для моей замкнутой частной комнаты.
Оно принадлежит революции…
И я послал копье в Москву, в музей Красной армии, где есть незабываемые экспонаты.
Там пушка партизан Алтая, сработанная в 1919 поду кузнецом Степаном Андреевым.
Там живописной группой стоят многоцветные экзотические знамена басмачей, отнятые Красной армией.
За стеклом — настоящая перчатка из человеческой кожи, снятая союзниками с руки красно армейца.
Там стенгазета ОКДВА на китайском языке и тачанка Махно.
И скромное ржавое копье Горловки.
25 ЛЕТ НАЗАД
Май
В мае началась стачка в Иваново-Вознесенске. В ответ на предложение бастующим разбиться по фабрикам и вести переговоры с каждым владельцем отдельно — рабочие ответили отказом и избрали около ста депутатов для переговоров от имени всех бастующих как с властями, так и с хозяевами и для руководства стачкой.
Так образовался Совет рабочих депутатов в г. Иваново-Вознесенске.
Стачка эта продолжалась два с половиной месяца.
27 мая при Цусиме был разбит и потоплен японцами русский флот. Последняя, призрачная надежда правительства даже на возможность дальнейшего ведения войны растаяла.
18 мая на съезде крестьян московской губернии постановлено было организовать Всероссийский крестьянский союз.
Этот союз в короткое время охватил широкие массы крестьянства. Основными его требованиями были земельные: отмена частной собственности и передача крестьянам без выкупа монастырских, удельных и т. п. земель. Но решения союза были полны колебаний и половинчатости: например, союз отметил, что у частных владельцев земля частью должна быть отобрана за вознаграждение. Союз выставлял также и политические требования, в частности, немедленного созыва Учредительного собрания.
Июнь — июль
Броненосец «Потемкин»
Большинство матросов вербовалось из фабрично-заводских рабочих. Поэтому флот, по сравнению с армией, являлся более пролетарской частью вооруженных сил русского самодержавия. Здесь борьба между офицерами и матросами была резче. Под’ем революционного движения создал благоприятную почву для социалистической агитации среди матросов. Подпольная работа велась на многих судах, в частности и на «Потемкине».
Толчком к восстанию на «Потемкине» близ Очаково 14/27 июня послужила выдача гнилого мяса. Командир броненосца, усмотрев в нежелании есть его — неповиновение, вызвал команду наверх и приказал караулу стрелять в несоглашающихся есть. Караул отказался. Старший офицер, вырвав из рук стоявшего около него матроса винтовку, стреляет в матроса Вакулинчука.
Матросы, как по команде, бросились к ружьям, часть офицеров расстреляли, а остальных арестовали.
«Потемкин», находящийся теперь в руках матросов, направляется к Одессе, где в это время происходило восстание рабочих.
Восстание «Потемкина» не было развито. У участников восстания не было ни авангарда, который мог бы организовать и руководить им, ни определенного плана, ни тактики. Меньшевистские организации, которые в Одессе были сильнее большевистских, не сумели руководить восстанием, так как они были вообще против организации восстания и считали, что надо «развязывать» революцию и вооружать рабочих не оружием, а «жгучей потребностью самовооружения». Броненосец несколько дней простоял на виду Одессы. Матросы оставались на суде. Время шло враги собирались с силами, а восставшие не предпринимали реши тельных шагов. Против «Потемкина» была направлена эскадра. Суда шли, выстроившись в две колонны. «Потемкин врезался в середину эскадры. «Потемкин» медленно направил свои орудия на проходившие суда. Вдруг на верхней палубе «Потемкина» раздалось:
— Да здравствует свобода Ура!
И в ответ — с трех броненосцев грянуло могучее и дружное «ура» матросов.
Боясь открытого восстания, командующий эскадрой увел ее в море. К «Потемкину» присоединился «Георгий Победоносец» Офицеры были арестованы, но на судне оставались кондуктора, которым удалось сагитировать часть команды. «Георгий Победоносец» изменил.
«Потемкин» ушел в Румынию, но, не получив там провианта, решил не сдаваться и направился в Феодосию. Силы восставших были сломлены, и небольшого обстрела катера «Потемкина» и баркаса с углем было достаточно, чтобы «Потемкин» из Феодосии снова вернулся в Румынию и сдался.
Несмотря на то, что «Потемкин» значительного влияния на ход одесского восстания не оказал, он все же был не только воодушевляющим фактором но и реальной угрозой для правительственных агентов. С уходом «Потемкина» было сломлено и одесское восстание.
Несмотря на это, значение восстания «Потемкина» громадно.
«Восстание в Одессе и переход на сторону революции броненосца «Потемкин» ознаменовали новый и крупный шаг вперед в развитии революционного движения против самодержавия», (В. И Ленин)
Восстание «Потемкина» показало, как революционный дух проник и в армию и во флот. За этим восстанием последовал ряд других.
9 июля в дисциплинарном батальоне в Херсоне во время учения солдатами были ранены полковник, капитан и унтер-офицер.
18-го в Новой Александрии — возмущение двух полков. Солдатами убиты бригадный генерал и два полковых командира. Отовсюда приходили известия о восстаниях в полках, о случаях неповиновения офицерам.
* * *
Пролетариат рос и готовил силы к великому бою. О том, насколько он вырос, показали июньские события в Лодзи. 18 июня (нов. ст.) на возвращавшихся с массовки рабочих напали драгуны. 10 рабочих было убито, несколько десятков ранено.
Социал-демократическая организация устроила похороны убитых, в которых участвовало 50 000. В демонстрации на следующий день участвовало уже 100 000 рабочих, Напавшая на демонстрацию полиция убила 18 и около сотни ранила.
22-го — началось вооруженное восстание лодзинского пролетариата. За первую ночь выросло до 30 баррикад.
Битва не прекращалась даже ночью. Целых три дня держались рабочие, не слагая оружия. Число жертв было огромно: около 2 000 убитых и раненых.
«Рабочие — писал по поводу этих событий большевистский «Пролетарий»— даже не подготовленные к борьбе, даже ограничившиеся сначала одной обороной, показывают нам в лине пролетариата Лодзи не только новый образец революционного энтузиазма и геройства, но и высшие формы борьбы. Их вооружение еще слабо, крайне слабо, их восстание еще попрежнему частично, оторвано от связи с общим движением, но все они делают шаг вперед, они с громадной быстротой покрывают улицы десятками баррикад, они наносят серьезный ущерб войскам царизма, они защищаются отчаянно в отдельных домах. Вооруженные восстания растут и вглубь, и вширь…»
Август
Разгром помещичьей усадьбы.
1 августа в Петергофе начались совещания царя с представителями дворянства. Даже слепое и упрямое самодержавие видело, что одними расстрелами ничего не сделать. Припертое к стене, оно пыталось «провести реформы», обмануть народ, дав такую Государственную Думу, которая фактически не ограничивала бы самодержавия.
Здесь обдумывался каждый вопрос, связанный с созывом Думы. Принимались все меры к тому, чтобы «обезвредить» Думу. Например, в Думу допускались и неграмотные и не только допускались, но их нахождение в Думе приветствовалось по весьма интересным мотивам:
«Неграмотные мужики обладают более цельным миросозерцанием, нежели грамотные. Первые из них проникнуты охранительным духом, обладают эпической речью. Грамотные увлекаются про-поведываемыми газетами теориями и сбиваются с истинного пути. Им не следует вверять представительства интересов настоящих крестьян…»
Наконец» 19 (6) августа был издан и закон о Думе (ее называли по имени автора ее проекта — «Булыгинской»). Весь городской рабочий класс, вся деревенская беднота, батраки, бездомные крестьяне вовсе не участвовали в этих выборах. Права имели только помещики и капиталисты.
Даже либеральные партии были смущены этой «Думой».
«Можно сказать без преувеличений, что манифест и закон 16 августа должен стать теперь настольной книгой всякого политического агитатора, всякого сознательного рабочего, ибо это действительно «зерцало всех гнусностей, мерзости, азиатчины, насилия, эксплоатации, проникающих собой весь социальный и политический строй России», — писал В. И. Ленин (собр. соч., т. VIII, стр. 152).
Но наряду с этим самодержавие продолжало мобилизовать все силы для борьбы с революционным движением. Одним из оружий для расправы являлись погромы.
«Мне удалось установить, что в помещении департамента полиции была поставлена ручная ротационная типографская машина, на которой печатались погромные воззвания», — писал в своих воспоминаниях А. Лопухин, работник департамента полиции.
В тех же воспоминаниях, передается рассказ о ростовском градоначальнике генерале Драчевском:
— Я получил общие руководящие указания, — сказал Драчевский. «От кого же?» — От его величества! Я, — продолжал Драчевский, — вчера имел счастье представляться его величеству, и его величество изволили сказать мне: «У вас там и в Ростове и в Нахичевани очень жидов много». На что я доложил, что их погибло много во время погрома, на что его величество ответил: «Нет. Я ожидал, что их погибнет гораздо больше».
Особенно деятельно развивалась организация погромов полицией и черносотенниками осенью. В августе такие погромы были устроены в Екатеринославе и в Керчи.
Организовывая еврейские погромы, царское правительство натравливало друг на друга и другие национальности, создавало и разжигало национальную рознь, чтобы использовать ее в своих целях.
29-го августа началась армяно-татарская резня в Шуше и в Шушинском уезде, а 2 сентября возобновилась резня в Баку. Вместо того, чтобы общим фронтом итти против настоящего врага, обманутые народы выступали один против другого.
ГРУЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Перевод Михайловой-Штерн
Рисунки П. Староносова
Две тысячи фунтов
В небольшой светлой комнате английской фактории за столом, покрытым испачканной красной скатертью, сидели двое мужчин и напряженно разговаривали. Один из них был мистер Давид Эдгерлей, агент фактории, худощавый человек средних лет с узким лицом и рыжеватыми волосами. Другой, смуглый брюнет лет двадцати пяти, был дон Энрико Саролла, художник-турист. Саролла уже несколько месяцев как приехал из Испании на остров Фернандо-Поо изучать местные типы и пейзажи. Ежедневно с огромным зонтиком и ящиком для красок выходил он за ворота города Санта-Изабель и часами блуждал по окрестным поселкам. Больше всего его интересовали характерные фигуры ссыльных с острова Кубы. Он рисовал их одного за другим, ежедневно навещая их убогие хижины и проводя там много времени.
Однако никто не мог похвастаться, что видел хотя бы один рисунок дона Энрико, несмотря на то, что молодой художник был весьма общителен и быстро заводил знакомства как с испанцами, так и с англичанами. Всем и каждому он рассказывал о своей страсти к путешествиям, которая проявлялась у него уже в детстве: он не хотел учиться, и не раз убегал из дому.
Энрико был при деньгах и охотно угощал своих приятелей, чиновников и офицеров, вином и сигарами. Его считали добрым веселым малым. Удивлялись только, что он любил бывать в обществе Давида Эдгерлея, пользовавшегося на острове дурной репутацией и за свою враждебность к воде и мылу прозванного Грязным Давидкой.
— Я могу положиться на ваши слова, мистер Эдгерлей? — взволнованно спрашивал Саролла англичанина.
— Я могу положиться на ваши слова, мистер Эдгерлей?
— Два часа назад мой катер вернулся из Калабара. «Нубия» стоит там и послезавтра рано утром придет в наш порт, — отвечал агент.
— Отлично! Итак, мы примемся за дело, не теряя ни минуты!
— А деньги у вас имеются?
Художник открыл лежавший перед ним на столе объемистый ящик для красок и вынул оттуда небольшую деревянную шкатулку. Когда он отпер шкатулку, в ней блеснуло золото новых английских фунтов. Мутные глаза мистера Эдгерлея, полуприкрытые белесыми ресницами, алчно загорелись.
— Здесь две тысячи фунтов, — резко сказал Саролла. — В ту минуту, когда последняя бочка нашего груза окажется в трюме, эта шкатулка станет вашей собственностью.
— Не моей, не моей! Львиную долю возьмет себе капитан! — воскликнул Эдгерлей.
— Это уж не мое дело. Вы с ним уговаривались.
— Сколько же их окончательно? — спросил агент.
— Пятнадцать.
— Итак, наше дело покончено.
Молодой человек вздохнул с облегчением.
— Значит, завтра? В котором часу?
— В половине первого ночи. Нужных людей вы сами доставите.
Художник закрыл шкатулку с золотом, спрятал ее в ящик и молча вышел.
У крыльца фактории его поджидал полуголый негритенок. Дон Энрико передал ему свой ящик, а сам, засунув руки в карманы и беззаботно насвистывая модную песенку, неторопливо зашагал по пыльной безлюдной улице. Мальчик следовал за ним по пятам.
Посреди улицы навстречу им шел, опираясь на палку и слегка волоча одну ногу, высокий пожилой человек. На нем была серая полотняная куртка, голубые штаны и стоптанные туфли из желтой кожи. Из-под широкой соломенной шляпы на мощную шею спускались густые черные волосы, кое-где подернутые сединой. Усы и короткая бородка были совершенно белые и резко выделялись на смуглом лице. В глубоко запавших черных глазах гнездилась печаль. Орлиный нос с тонкими подвижными ноздрями придавал его лицу выражение решительности и непоколебимой воли.
Мужчина шел, задумчиво глядя перед собой и мерно постукивая палкой. Поровнявшись с ним, дон Энрико перестал насвистывать и шепнул ему на ухо только одно слово:
— Завтра.
Прохожий вздрогнул, но не показал вида, что слышал, не посмотрел даже на молодого художника и поспешил дальше.
II. За свободу Кубы
Залив Санта-Изабель живописно окружен лесистыми горами. Восточный конец хребта врезается в море острым мысов; отвесные базальтовые скалы причудливо изрезаны черными щелями. Во время отлива грозные рифы выступают из волн, словно остатки подводной постройки гигантов Суда далеко обходят опасный мыс. На вершине мыса Пунта-Фернандо стоит старый маяк, а невдалеке от него — деревянная скамейка, откуда открывается широкий вид на залив и город.
К этой скамейке и направлялся пожилой прохожий, которому дон Энрико бросил волшебное слово «завтра». Он миновал таможню, тяжелый неуклюжий губернаторский дом, угрюмое здание госпиталя, в котором помещалась также и тюрьма, и очутился наконец на узком одиноком мысе Пунта-Фернандо. Устало опустился на скамейку и сложил худые руки на палке.
Мутный бессолнечный день клонился к вечеру. Залив был тих и сер. Пустынен был черный мол, к которому от города вела узкая каменистая дорога. Единственная лодка сонно колыхалась у пристани. Слева от мола, на узком песчаном пляже стояли несколько правительственных складов — убогие деревянные постройки, а несколько дальше поблескивали железными крышами солидные здания богатой английской фактории, и далеко протянулся в море крытый помост частной пристани.
Дон Эстебан Ферронда долго всматривался в деревянную колоннаду помоста. Под навесом стояли огромные покрытые мелом бочки, в каких обычно перевозят пальмовое масло. Они четко белели на сером фене залива и черных столбов.
Впалые глаза креола вспыхнули, и смуглое лицо загорелось темным румянцем. Сгорбленная фигура выпрямилась. Грудь высоко поднималась…
Но прошло несколько минут, и глаза дона Эстебана потухли, голова тяжело опустилась на руки. Он ушел в воспоминания, мысленно перенесся на далекий прекрасный остров, покрытый бесконечными плантациями и цветущими садами. Дон Эстебан Ферронда был популярный, всеми уважаемый кубинский адвокат, у него была семья — жена и двое детей. Жили они в старинном городе Баракоа.
На свою судьбу дон Эстебан жаловаться не мог, но кругом он слышал стоны угнетенных. Над прекрасным островом тяготел железный кулак Испании. Тысячи чернокожих рабов трудились на плантациях. «Свободное» население острова было фактически бесправно и находилось в полной зависимости от хищных испанских чиновников. Тяжелое бремя налогов согнуло спину крестьянина. Взятки, подкупы, зверские расправы, политический террор. Общественная жизнь была задавлена.
Наконец скопившееся годами негодование прорвалось. Разразилась революция Началась знаменитая десятилетняя война. Друг дона Эстебана Карло Мануэль Соспедес первый поднял знамя свободной Кубы в горном городе Туна. Под этим бело-желтым знаменем свободы собирались со всех сторон повстанческие отряды. Уже не было на Кубе различия в цвете кожи, были только борцы за независимость и их общие враги — испанцы.
Дон Эстебан был захвачен революционным движением. Он покинул свой дом, жену и дочь, оставив их на попечение семнадцатилетнего сына Рафаэля, и поспешил на помощь к своему другу. Вместе с ним пошли несколько старых друзей.
Соспедес стал во главе «бродячего» национального правительства. Куба была объявлена республикой. Рабство отменено. Силы повстанцев быстро росли. Восставшие крестьяне вырубали плантации и сжигали усадьбы испанцев и их приспешников — туземных помещиков. Регулярные испанские войска были двинуты против повстанцев. По всей стране шли жестокие бои.
Четыре года прошли в напряженной борьбе. Кубинские отряды вели партизанскую войну, гнездились в лесах, горах и оврагах.
Бок-о-бок с Феррондой сражался его старый слуга — негр Жуан Фернандец. В одной из стычек дон Эстебан был ранен в бедро. Жуан Фернандец ухаживал за ним с заботливостью матери. Пролежав целый месяц в горной хижине, Ферронда выздоровел, но уже никогда не мог свободно владеть ногой.
Испанцы посылали на Кубу все новые полки. Несмотря на отчаянное сопротивление, повстанцы были разбиты. Многие были захвачены в плен, в том числе дон Эстебан и Жуан Фернандец. Толпу пленников погнали как скот в портовый город Матансос. Там их посадили на фрегат «Жозефину» и повезли в ссылку.
В тесном трюме «Жозефины» сгрудились двести человек ссыльных. Там были и белые, и чернокожие, и мулаты, люди с высшим образованием, ремесленники, продавцы табака, крестьяне и рабочие. Все они были закованы в кандалы и невыносимо страдали от духоты и жажды.
Один негр взял с собой семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик выжил. Но девочка по дороге умерла, и надзиратель выбросил ее труп за борт в море.
Кормили ссыльных отвратительно: остатки соленого мяса, протухший горох, испорченные обрезки жира. Вдобавок выдавалось в день всего по две чарки затхлой воды на человека.
Дону Эстебану удалось скрыть в своей одежде пятьдесят фунтов. Все эти деньги пошли на воду. За пять шиллингов в день приносили шестнадцать чарок воды, которую он раздавал беднейшим товарищам по несчастью и больным.
Три месяца продолжалось путешествие, три страшных месяца, во время которых умерло больше трех десятков ссыльных. Оставшиеся в живых однажды утром услышали скрип якорной цепи и пушечный выстрел. «Жозефина» вошла в порт. Остров Фернандо-Поо получил двести с лишним новых жителей.
Когда губернатор острова увидал на берегу эту толпу шатающихся привидений с зелеными лицами и распухшими губами, еле прикрытых лохмотьями, он с ужасом воскликнул:
— Что же это такое? Мне пишут из Гаванны, что я получу новых колонистов, а мне привезли трупы!..
Ссыльных повели в город. Когда они подошли к маленькому ручейку, некоторые из кубинцев бросились лицом в воду и пили, пили, пока не напились до смерти. Других силой отрывали от воды.
Чернокожие обитатели Санта-Изабель были потрясены видом прибывших кубинцев. Один за другим стали приносить они ссыльным еду и питье.
Потом кубинцев пошали за город, на широкие равнины, заросшие высокой травой и деревьями, и сказали им, что они могут здесь хозяйничать, строить себе дома, разведать какао и табак. Им назначили скудное ежемесячное пособие в виде риса и мяса.
Среди толпы ссыльных было несколько пожилых креолов, не способных к тяжелому физическому труду. Они поступили на службу в фактории в качестве писцов и конторщиков. Некоторые из них, в том числе и дон Эстебан, получили работу в правительственных учреждениях, за которую им не выплачивали жалованья по нескольку месяцев.
Привычные к тяжелому труду кубинские негры и мулаты после месяцев упорной борьбы сладили с непокорной землей.
Среди обработанных полей выросли хижины. Почва оказалась плодородной, какао и табак давали хорошие урожаи. В свободные минуты кубинцы брали гитары и другие музыкальные инструменты, и тоскливые мелодии разносились над лесистыми вершинами Фернандо-Поо.
Прошло шесть лет. Дон Эстебан почти не имел известий от жены и детей. Раза два в год приходило письмо, измятое, в надорванном конверте. Оно извещало, что все здоровы и тоскуют по нем.
Однажды вечером, на другой день после прихода в порт английского парохода, к дону Эстебану вбежал Жуан Фернандец и попросил, чтобы он сейчас же пошел с ним в его хижину. Фернандец был странно взволнован, то и дело посматривал на дона Эстебана, откашливался и хлопал себя рукой по губам.
Когда они пришли к хижине Фернандеца, Жуан сначала обошел ее вокруг, потом тщательно закрыл двери, присел на лавку с доном Эстебаном и, сжимая его руки в своих мозолистых руках, почти прижавшись губами к его уху, стал шептать…
Дон Эстебан вскочил с лавки, схватился за грудь рукой. В следующую минуту из темного угла хижины выбежал какой-то человек и упал на колени перед доном Эстебаном. Некоторое время в комнате ничего не было слышно, кроме тяжелого дыхания двух людей и отрывистых восклицаний:
— Отец… отец!..
— Сын мой, Рафаэль!..
С этого вечера началась новая эпоха в жизни дона Эстебана и остальных кубинцев. Они покончили с тупым примирением, с мертвым спокойствием людей, которые все потеряли и больше ничего не ждут. Началось лихорадочное обсуждение проектов, оживление, стремление вдаль.
После того, как дона Эстебана отправил в ссылку, имущество его было конфисковано. Уцелела лишь небольшая сумма денег, находившаяся у одного из друзей. Эти деньги семья Ферронды решила сохранить для спасения отца. Жили впроголодь, во всем себе отказывая. Рафаэль учился в университете. Он был таким же страстным патриотом, как и его отец, и мечтал посвятить всю жизнь борьбе за независимость Кубы. Прежде всего он должен освободить отца и Жуана Фернандеца.
Окончив университет, Рафаэль приступил к осуществлению своего плана. Денег у него было немного — всего сто фунтов, но благодаря пожертвованиям старых друзей отца сумма быстро удвоилась.
И вот художник-турист Энрико Саролла явился на заброшенный в Гвинейском заливе остров Фернандо-Поо.
Когда дон Эстебан узнал, что сын хочет освободить только его и Жуана, он наотрез отказался бежать без остальных своих друзей. У него не хватило бы духу уехать, оставив томиться в ссылке людей, разделявших с ним опасности борьбы и самые суровые лишения.
Вот этот негр Франциско Канделя однажды во прем я битвы собственной грудью заслонил его и получил вместо него рану в плечо. Вот этот мулат Мануэль Корезма с опасностью для жизни доставлял ему от жены деньги и одежду. Бернардо Нунец оказал ему важную услугу, когда они вместе плыли на «Жозефине». Франциско Заморра в самую тяжелую пору дал ему взаймы первые заработанные на острове деньги на покупку сапог, и т. д., и т. д.
В конце концов оказалось, что вместе с Феррондой должны бежать еще четырнадцать человек. Денег, которые привез с собой Рафаэль, конечно, не хватило бы на побег всех этих людей. Но ссыльные кубинцы произвели между собой сбор и вручили Рафаэлю солидную сумму.
Молодой креол начал действовать. Он искусно разыгрывал роль увлеченного красотами природы художника и под видом рисования пейзажей и портретов мог безопасно обследовать положение дел и подготовлять побег. Вскоре он завязал сношения с Давидом Эдгерлеем, который сразу же предложил ему остроумный план бегства. Однако нужно было дождаться прибытия торгового парохода «Нубия», капитан которого был приятелем Эдгерлея и часто обделывал с ним разные темные дела.
Наконец пароход прибыл. На следующий день Эдгерлей сообщил Рафаэлю что капитан обещал захватить на борт беглецов, когда «Нубия» в следующий раз зайдет в порт; однако он потребовал значительно большую сумму, чем та, за которую Эдгерлей первоначально соглашался устроить побег. Изгнанники были в отчаянии. Но Рафаэль не складывал оружия. Снова произвел он сбор между кубинскими поселенцами. Те из ссыльных, которым приходилось оставаться на острове, без всякой зависти к счастливцам приносили свои последние, кровавым потом добытые гроши. Всех охватило неудержимое желание устроить побег Трое из ссыльных продали свои прекрасные плантации какао. Наконец в руках Рафаэля собралось две тысячи фунтов, и побег был обеспечен…
III. Художник за работой
В нескольких километрах от города по холмистой равнине были разбросаны хижины кубинцев, похожие на карточные домики. Это были длинные бамбуковые крыши, поставленные на землю. С обоих концов они закрывались бамбуковыми решетками. От дверей каждой хижины шел двойной ряд бананов, а по обеим сторонам маленькой аллеи, окруженные низким плетнем, тянулись гряды овощей — помидоров, редьки, капусты, огурцов. Позади хижины раскинулись плантации табаку, какао и гряды кукурузы сверкавшие на солнце золотистыми плодами.
Перед одной из таких хижин на закате серого дня сидел молодой креол, держи большой альбом для рисования на коленях, а против него, в качестве модели, — старый, плечистый негр. Это был хозяин домика — Жуан Фернандец. Дон Рафаэль машинально чертил на бумаге какие-то зигзаги и в то же время говорил тихо и быстро, а Жуан внимательно его слушал.
Перед одной из хижин сидел молодой креол, держа большой альбом для рисования, а против него в качестве модели — старый негр
Рафаэль пришел сообщить старику радостную весть, а заодно поделиться с ним своими тревогами и сомнениями. Капитан «Нубии» должен был доставить беглецов только до Канарских островов Там они окажутся уже свободными. Но как добраться оттуда до Кубы? Собранных денег хватало только на оплату побега. Месяц назад Рафаэль послал в торговом конверте фактории Эдгерлея старому приятелю отца письмо с просьбой выслать еще пятьдесят фунтов на Канарские острова. Но хватит ли этой суммы на проезд до Кубы? Да и получил ли приятель отца его письмо? А если получил, найдутся ли у него в данное время свободные деньги?
— Дон Рафаэль, не ломайте вы свою молодую голову, — успокаивал юношу старый негр. — Все устроится, все уладится. Только бы выбраться отсюда! С Канарских островов мы уже наверняка доберемся до нашей Кубы. Не так ведь далеко. Если деньги не придут, мы, черные, проработаем месяц — другой портовыми грузчиками, сколотим денежки, купим билет для Дона Эстебана и других, что послабее, а сами наймемся матросами на пароход, который пойдет к Кубе. Работать-то мы все здорово умеем!
Улыбка вспыхнула на мрачном лице Рафаэля.
— Вы успокаиваете меня, Жуан. Если бы вы знали, как мне тяжело, что я не могу захватить с собой и остальных наших братьев-кубинцев…
— Внимание! — шепнул вдруг Жуан. Лицо его сразу стало равнодушным, руки спокойно легли на колени.
Склонив голову над бумагой, Рафаэль стал торопливо рисовать. На дороге показались несколько человек в полотняных мундирах. Это был губернатор и его свита, возвращавшиеся с вечерней прогулки. Они ходили осматривать постройку нового моста на Вио-дель-Консул.
Проходя мимо хижины, губернатор ответил на почтительный поклон негра небрежным кивком головы, а молодому художнику приветливо бросил:
— Добрый вечер, сенор!
— Какой удивительно настойчивый художник, — сказал губернатор, обращаясь к своим спутникам. — Жаль только, что он тратит столько труда на такие пустяки.
— А мне его рисование кажется весьма подозрительным. Вечно он сидит с кубинцами. Что у него за дела с ними? Не люблю я этих кубинцев. Я не удивлюсь, если в одну прекрасную ночь они соберутся вместе и вырежут всех нас. Все они разбойники! — проворчал городской судья, маленький худой человек с желтоватым лицом.
Губернатор рассмеялся:
— Дон Винцента, у вас всегда только заговоры и революции на уме. Если бы не эти «разбойники», вы никогда не попробовали бы здесь, на Фернандо-Поо, свежих помидоров и салата. И вся эта местность не выглядела бы так очаровательно, как выглядит сейчас. Ведь это сплошные сады! Подумайте только, что шесть лет назад тут росла одна сорная трава!
— А все-таки этот вечно улыбающийся мазилка мне не нравится, — настаивал на своем судья. — Я не понимаю, как в стране, где почти у каждого болит печень, можно быть всегда таким веселым. Под этим что-то скрывается.
Теперь уже не только губернатор, но и комендант порта и доктор разразились смехом.
— Что! Что! Вы уж и его подозреваете в заговоре? Такой добрый малый! Такой наивный! Наш король может спокойно спать, если все его подданные будут похожи на дона Энрико Сароллу…
Между тем Рафаэль складывал свой альбом.
— Где мы соберемся сегодня ночью? — спросил он.
— У Мануэля Корезмы. Там всего безопаснее.
— До свидания, Жуан. Поторопитесь передать другим все, что я вам рассказал.
— Не беспокойтесь. Через час все будут знать. Франциско Заморра на коноэ поплывет сегодня ночью в залив Санта-Карлос к Бернардо Нунецу. Завтра вечером они приплывут к пристани.
IV. Прощальное сборище
Поздно вечером в хижине Мануэля Корезмы собралось человек тридцать кубинцев. Два больших котелка, наполненные пальмовым маслом, освещали хижину мерцающим пламенем. Вдоль стен стояли скамейки, кругом были разбросаны ящики для сидения, но все-таки многим пришлось сидеть на земле.
С балок потолка свешивались пучки табачных листьев, отбрасывавших длинные черные тени на рыжие стены. Несколько стволов какао стояли в углу. В другом углу были навалены пучки сухой кукурузы. Выходное отверстие из предосторожности было закрыто цыновкой. Налетавшие порывы вечернего ветра колыхали цыновку, шелестели сухими табачными листьями.
В последний раз собрались вместе кубинцы. Назавтра был назначен побег. Надолго, быть может, навсегда, должны были расстаться беглецы с остающимися на острове друзьями. Лица всех были грустны и озабочены.
После долгой оживленной беседы, напутствий, обсуждения всех подробностей предстоящего пути неграм и мулатам захотелось музыки и песен. Несколько человек вышли на середину хижины с музыкальными инструментами в руках. Они уселись в кружок на землю, за исключением одного, стоявшего посредине.
Несколько человек с инструментами в руках уселись в кружок
Мануэль Хорезма подошел к огромному там-таму и стал изо всех сил в него ударять. На фоне этих монотонных глухих звуков, мерного стона гитар и флейт потекла печальная заунывная песнь.
Пел негр, стоявший в середине круга. Он раскачивался из стороны в сторону, ритмично приседая и слегка похлопывая вытянутыми вперед ладонями. Его медленные движения удивительно гармонировали с мелодией и содержанием песни Казалось, он с трудом движется, придавленный какой-то огромной тяжестью.
— Десять лет, десять лет страданий, только бы увидеть далекую родину. Но моя родина — земля, где я родился, уже растерзана на мелкие клочки…
Сидевшие на земле музыканты подхватывали хором:
— Ай, Куба, ай, Куба, ай Куба! Земля, на которой я родился!..
При каждом таком возгласе певец все ниже и ниже приседал к земле, умоляющим жестом протягивая вперед руки.
— Ай, Куба, ай, Куба, ай, Куба!.. — рыдал громче всех Франциско Канделя, поднимая вверх искалеченные руки.
Странная это была песня. Она появилась на свет на острове Фернандо-Поо рожденная тоской по далекой родине Каждый из этих людей был ее автором и создавалась она постепенно, строка за строкой.
Дон Эстебан, потрясенный, закрыл лицо руками. Рафаэль слушал с широко раскрытыми горящими глазами.
— Ай, Фернандо-Поо, проклятая земля! — внезапно запел негр, стоявший в кругу, — В последний раз слышат твои горы нашу песню. Пройдет еще день, и море унесет нас прочь от твоих берегов, политых нашей кровью и слезами…
Песня сменяла песню. Рокотали тамбурины, и тонко плакали гитары. Протяжно струились глубокие грудные надтреснутые голоса.
Только на рассвете, горячо распростившись друг с другом, стали расходиться кубинцы по домам…
V. Чиновник трех учреждений
На следующий день около девяти часов утра мистер Давид Эдгерлей вышел из фактории и направился в сторону государственных учреждений. Он шел повидаться с доном Бернардом Ливарец. Дон Бернардо был важной персоной на острове. Он исполнял обязанности таможенного чиновника, почтмейстера и администратора государственных рабочих.
После напрасных поисков дона Бернардо в муниципальном совете и штурма запертой двери почты Эдгерлей решил заглянуть в заднюю комнату другого учреждения. В этой комнате стояла сырая прохлада. Полутемная из-за деревьев, заслонивших окна, с выкрашенными бледно зеленой краской стенами, с черным от грязи полом, она напоминала покойницкую. У окна ее сидел секретарь городского судьи дон Эстебан Ферронда и целыми днями писал казенные бумаги.
Первый человек, которого увидел Эдгерлей, был дон Бернардо Ливарец, высокий грузный мужчина, сидевший, или, вернее, лежавший в плетеном кресле. Одна его нога лежала на пододвинутом стуле, а другая, босая, находилась на коленях маленького негритенка, присевшего перед ним на полу.
Одна нога его лежала на стуле, а другая находилась на коленке маленького негритенка
Напротив него сидел городской судья. Оба пили пиво и закусывали стоящим на столе в большой миске салатом из помидоров.
— Доброе утро! — сказал по-испански Эдгерлей, кланяясь дону Бернардо.
— Доброе утро! — ответил по-английски чиновник.
Это был обмен национальными любезностями.
— Я пришел к вам, дон Бернардо, попросить вас подписать бумаги на мой груз, — осторожно сказал агент.
— Боже мой! Куда мне скрыться от этих неотвязных посетителей! Человек даже джига[14]) спокойно не может вынуть! — патетически воскликнул дон Бернардо. — Ай, ай! — завопил он вдруг ударяя пустым стаканом по склоненной голове негритенка, который возился над его босой ногой, орудуя тонкой, как шпилька, деревянной палочкой. — Ах ты, бестия! Ослеп ты, что ли? Ковыряешь и ковыряешь мою ногу уже целый час! Весь палец мне исколол!
— Садитесь, мистер Эдгерлей! — про должал дон Бернардо, указывая Грязному Давидке на стул. — Клянусь бородой святого Якова, этот негодяй сделает меня калекой. Попробуй только его не вынуть, черная обезьяна! Ты не досчитаешься собственных костей!
— Не волнуйтесь, дон Бернардо. Джиги, конечно, большое несчастье нашего острова, но если их своевременно удалять… — начал было судья.
— Да вы, кажется, собираетесь учить меня, — возмутился дон Бернардо, — что такое джиги? — На всем острове вы не найдете человека, который лучше меня знал бы толк в этом деле, Представьте себе, мистер Эдгерлей, — он повернулся к агенту, — в прошлом году у меня вынули из ноги джига величиной с горошину. Я его положил в спирт. Это, знаете ли, был джиг с целым семейством. Этот мерзавец своего деда, свою бабушку, всю свою семью накормил моим телом! Три недели я не мог ходить… Ну, что же, кончишь ты наконец, зверенок африканский?
— Да, сенор! Есть, — радостно воскликнул мальчик, поднимая на конце деревянной палочки отвратительного паразита.
— Гм, гм… Убит-то он убит, да не совсем. Ты, дьяволенок, беги скорей за керосином.
Мальчик вскочил и выбежал стрелой из комнаты.
Давид Эдгерлей, несмотря на прохладу, весь покрылся потом от нетерпения.
— Мы ожидаем завтра утром «Нубию»… Я не могу терять времени… Может, вы согласитесь…
— Что? Что? Нет, видел ли кто-нибудь такую назойливость! Мистер Эдгерлей, но ведь можно подождать! Вы думаете, я босиком буду бегать вам за документами?
— Все бумаги уже готовы, и я принес их с собой, — сказал англичанин.
— А! Вот это дело! Сейчас, пусть только мальчишка принесет керосин. Я не хочу стать калекой из-за ваших ста тонн груза…
В комнату вбежал негритенок, держа в руках закопченную лампу. Дон Бернардо окунул толстый палец в резервуар и помазал керосином пораненную ногу, затем посыпал пеплом из сигары. Проделав эту операцию, он вытер пальцы о штаны, залез в миску с салатом, достал кусок помидора, засунул его в рот и запил стаканом пива, а мальчик между тем натягивал ему на ногу носок.
Грязный Давидка встал.
— Вот бумаги! — сказал он нетерпеливо и положил перед усердным чиновником пачку документов.
Дон Бернардо взял бумаги и стал их читать, бормоча себе под нос.
Сидевший у окна Ферронда перестал писать и склонил побледневшее лицо пониже к бумагам, весь превратившись в слух.
— Хорошо, — закончил громко дон Бернардо. — Что это вы посылаете? Какао?
— Нет, пальмовое масло.
— Сколько бочек? Пятнадцать?
Дон Бернардо остановился и внимательно посмотрел на отправителя. Англичанин выдержал его взгляд с невозмутимым спокойствием.
— Да, пятнадцать, — ответил он решительно.
Дон Бернардо беспокойно заерзал в кресле и сдвинул брови. Он уже не в первый раз имел дела с мистером Эдгерлеем, и оба оправдывали поговорку о том, что рука руку моет. До сих пор порядок был таков: когда из Европы приходили товары для фактории Эдгерлея, в партии фланелевых рубашек недосчитывалось целой дюжины, а в ящиках с консервами не хватало нескольких десятков банок. В ящиках из-под пива дон Бернардо нередко находил битое стекло и солому. Естественно, что за такие ящики он не мог взыскивать пошлины с потерпевшего. Эдгерлей постоянно жаловался на небрежность европейских отправителей, но, странное дело, торговых отношений с ними не прекращал.
Зато у дона Бернардо всегда были самые лучшие фланелевые рубашки, великолепные консервы, избыток пива и вина.
По отношению к вывозной пошлине тоже имели место различные неточности, заключавшиеся главным образом в том. что в коносаменте было указано меньшее количество ящиков какао или бочек пальмового масла, чем на самом деле погружалось на судно. Поэтому дон Бернардо теперь встревожился: неужели этот разумный англичанин изменился, заразился какой-то идиотской точностью?
— Пятнадцать бочек? Вы хорошо подсчитали, мистер Эдгерлей?
Городской судья неожиданно припомнил весьма важное дело и поспешно вышел. Дон Бернардо впился глазами в агента.
Но Давид Эдгерлей был попрежнему невозмутим. Единственным признаком волнения было то, что он достал из кармана грязный носовой платок и стал вытирать лоб.
— Губернатор становится все более придирчивым. Он издал новое постановление о том, чтобы особая комиссия проверяла количество всех увозимых с острова товаров. С завтрашнего дня мне придется послать на пристань особого чиновника… — Вы понимаете меня, мистер Эдгерлей?.. — особого чиновника для проверки груза, — сказал дон Бернардо.
— Это весьма разумное распоряжение, — ответил англичанин.
Дон Бернардо с досады толкнул ногой все еще стоявшего перед ним на коленях негритенка, сделал широкий жест рукой и, покоряясь необходимости, подписал коносамент. Очевидно, сегодня нельзя было сделать никакого дела с этим человеком.
В эту минуту в комнату вошел полицейский:
— Губернатор велел вас позвать, дон Бернардо. На почту пришло много людей. Говорят, что завтра должен прибыть пароход.
Дон Бернардо с раздражением отодвинул подписанные бумаги:
— И не мог ты, скотина этакая, сказать губернатору, что не нашел меня! — зарычал он на полицейского. — Я болен, я сейчас же иду домой и ложусь в кровать. До свиданья, мистер Эдгерлей, мы увидимся завтра на пристани.
Англичанин взял подписанный коносамент, сложил его, поклонился и вышел. На веранде он должен был остановиться, потому что пот заливал ему лицо. Так как платок был весь мокрый, он отер лицо полой грязного кителя.
— Ну и влопался я, если ему действительно придет охота осматривать мои бочки!..
Через несколько часов дон Бернардо, дремавший на веранде своего бунгало, к отчаянию всех, желавших отправить письма в Европу, получил корзину вина и записку, в которой говорилось, что мистер Эдгерлей, чрезвычайно встревоженный нездоровьем своего уважаемого друга, позволяет себе прислать ему пару бутылок,
VI Торнадо идет!
Солнце заходило в кровавом тумане. Оно еще не достигло горизонта, когда с востока, из-за Камерунского мыса показалась огромная туча, имевшая форму гигантской руки с растопыренными пальцами. Пальцы эти протянулись над городом, словно когти чудовища, и постепенно опускались над ним, упираясь в склоны потемневших гор. Ветер с зловещим скрипом раскачивал пальмы. Птицы носились взад и вперед с резкими криками. При каждом порыве ветра казалось, что длинные пальцы тучи вздрагивают и стремятся покрепче сжать затихший притаившийся остров.
По улицам шумно проходили запоздавшие служащие факторий, туземцы спешили укрыться от бури в своих хижинах. Волны с грохотом разбивались о базальтовые утесы залива, из глубины лесных оврагов доносился гул отдаленного грома.
На частных пристанях и в факториях еще суетились рабочие, поспешно внося в магазины сушившиеся ветви какао. В домах с шумом захлопывали ставни. Негритянки пронзительными голосами звали расшалившихся в саду малышей.
— Торнадо идет! Торнадо! — разносилось над городом.
В одном только доме на углу главной городской площади, где помещалась испанская фактория, а также нечто в роде ресторана, никто не обращал внимания на приближение торнадо. Там царило шумное веселье. Из открытых настежь дверей и окон неслись взрывы смеха, хлопанье пробок и веселые крики. Уезжавший на следующий день в Европу дон Энрико Саролла задал прощальный пир местным офицерам и чиновникам.
Молодой художник был сильно навеселе. В избытке чувств он упал на шею к коменданту порта с бокалом вина в руке и залил шампанским весь мундир представителю королевской власти.
Дон Энрико кричал, что, если бы не было на свете такого города, как Валенсия, и в этом городе такой очаровательной синьориты, как донна Эльвира Гомец, его невеста, он ни за что не покинул бы Фернандо-Поо, самого прекрасного из островов Испании.
Потом Энрико бросился в об’ятия дона Бернардо и предложил присутствующим выпить за здоровье самого энергичного и деятельного из чиновников.
Напившись до бесчувствия, дон Энрико свалился на пол и захрапел. Надо было подумать о том, чтобы доставить его домой. В соседней фактории раздобыли гамак. Уже упали на землю первые тяжелые капли дождя и раздался характерный свист налетавшей бури, когда двое негров вынесли дона Энрико из комнаты, положили в гамак и галопом помчались по улице. Вслед за ними, пошатываясь и распевая пьяные песни, вышла и остальная компания. Все направились по домам.
Не успели негры домчать художника до его бунгало, как хлынул тропический дождь. Полупьяная компания, захваченная ливнем, с криками и проклятиями стала ломиться в ближайшие хижины.
Ветер срывал пальмовые крыши и размахивал ими, словно крыльями встревоженной птицы. Вода заливала хижины.
Мрак охватил город. Ревело море, грохотала канонада грома. Бешенство торнадо росло с каждой минутой. Градом сыпались на траву апельсины, лимоны, бананы, кокосовые орехи. Время от времени с треском ломались и валились на землю старые дубы и широколиственные бананы.
VII. Люди и бочки
Около полуночи три партии кубинцев, по шесть человек каждая, вышли из города и в темноте, под лавинами ливня, дрожа от холода, пробирались к пристани фактории.
Впереди одной группы шел Жуан Фернандец, освещая путь фонарем. За ним шли дон Эстебан и его сын. Каждый раз как Жуан поднимал немного фонарь, чтобы осветить дорогу, мутный блеск падал на бледное взволнованное лицо молодого креола. Комедия пьяного веселья, которую ему только что пришлось разыграть перед испанцами, подорвала его нервы. Он молча шагал рядом с отцом, и в голове его шмелиным роем гудели тревожные мысли.
Наконец они вышли из пальмовой рощи на дорогу. Свирепый ветер, дувший с моря, II косой ливень обрушились на маленькую группу отважных людей. Каждый шаг приходилось отвоевывать у разбушевавшейся стихии. Но вот тяжелые башмаки Жуана застучали по деревянной платформе пристани.
— Мы пришли, — сказал он, поднимая вверх фонарь…
Они остановились под навесом. Кругом громоздились бочки, доски, горы пустых ящиков, ржавого листового железа, дырявые лодки, весла и другой хлам. Огромные валы заливали деревянную лестницу и столбы пристани, обдавая кубинцев дождем брызг.
Вскоре подошли и две других группы. Все стояли молча и смотрели друг на друга. У большинства за плечами был привязан большой жестяной сосуд с питьевой водой, а подмышкой виднелся узел. Четыре негра, сопровождавшие беглецов, принесли столярные инструменты.
Дон Эстебан заговорил первый:
— Нунеца и Заморры еще нет. Пора бы им уже приплыть.
— Торнадо, должно быть, захватил их в дороге. Как бы они не утонули… — прошептал Жуан.
— Будем надеяться, что с ними ничего плохого не случилось. А пока, братья, возьмемся за работу, — сказал дон Эстебан.
Кубинцы направились к стене, где стояли огромные выбеленные мелом бочки из-под пальмового масла. Жуан Фернандец поднял один из пустых ящиков и достал спрятанные под ним два железных котелка с пальмовым маслом. Он зажег свечкой торчащие из котелков фитили. Вспыхнуло яркое пламя.
— Торнадо нам на руку, — сказал он. — В другую ночь эти огни могли бы нас выдать. Сейчас мы в полной безопасности. Не надо только терять времени.
Стукнули молотки, и через несколько минут днища пятнадцати бочек были выбиты и упали на землю. В руках у кубинцев блеснули острые буравы, и долгое время ничего не было слышно, кроме шума усиливающегося дождя, скрипа дерева, в которое вгрызались буравы, и ускоренного дыхания работавших людей.
Через два часа почти все бочки были готовы. Они были окружены двойным рядом маленьких отверстий; поднимающийся над дном край клепки делал отверстия почти незаметными. В некоторых местах около обручей просверлили еще дыры, затем осторожно расширили щели между отдельными клепками, облегчая доступ воздуха.
Закончив работу, люди молча стряхнули стружки со своей одежды, смели их в самый темный угол и снова собрались вместе.
— Их еще нет. Что теперь делать? — глухо сказал один из кубинцев.
— Ждать! — коротко ответил дон Эстебан.
— А что, если они не приедут совсем? — угрюмо спросил Корезма.
— Да, а если не приедут? — повторили несколько голосов.
— Братья, до рассвета еще далеко, — твердо сказал дон Эстебан. — В такой ливень нас никто не потревожит. Подумайте, они, может быть, напрягают последние силы, борются со смертью, чтобы только присоединиться к нам. Мы должны их подождать.
Жуан погасил огни. Кубинцы опустились на землю, оперлись головой о бочки и снова замолчали.
Прошел час. Все сидели неподвижно как статуи, Но вот со стороны мола послышался треск веток и быстрый топот. Внизу среди прибрежных зарослей замелькал слабый огонек.
— Какие-то люди идут вдоль берега. Они направляются сюда… Мы погибли! — прошептал Жуан.
Кубинцы забились в угол и там, прижавшись к стене, задерживая дыхание, ждали. Шаги становились все яснее, Слышно было тяжелое дыхание приближавшихся людей. Вдруг они остановились.
Беглецы увидели, как фонарь поднялся вверх, и в тот же миг до них донесся протяжный свист.
— Это Нунец и Заморра! — радостно крикнул дон Эстебан.
Жуан поднес спичку к фитилям котелков, они вспыхнули ярким пламенем, и при свете их кубинцы увидели двух человек, входивших на пристань. Одежда их была изорвана в клочья, облеплена грязью и черной тиной. Широко раскрытым ртом они жадно хватали воздух, лица их были залиты потом, водой и кровью.
У Заморры, высокого пожилого негра, голова была обвязана окровавленным куском рукава, остатки которого висели на его плече. Чернобородый гигант Нуиец стоял твердо на ногах, но дышал с трудом.
— Друзья! — воскликнул Заморра при виде выбегавших навстречу кубинцев и рухнул на землю.
Все бросились приводить его в чувство.
— Мы уже думали, что это чужие.
— Что с тобой, Заморра? Ты ранен?
— Торнадо потопил наше каноэ, — сказал негр, открывая глаза. — Мы едва спаслись… Что за ночь… Нас выкинуло на берет около фермы Лорана…
— И вы шли оттуда пешком?
— Пешком, где было возможно. Где нельзя было итти по земле, шли по воде. Хорошо, что мы с Нунецом плаваем как рыбы.
— Вам надо переодеться, нельзя оставаться в мокром платье. Это верная смерть, — сказал дон Эстебан.
— Все пошло на дно вместе с каноэ и узлы, и припасы, и питьевая вода… Фонарик я спас, потому что он был перекинут у меня за спиной, — говорил Нунец.
Двое провожающих негров сняли с себя одежду и в одно мгновение сменили ее на лохмотья пришедших. Жуан Фернандец нашел среди хлама две пустых жестянки, налил в них питьевой воды из других посудин, достал из своего узелка и из узелков товарищей по нескольку печеных бананов и по горсти вареной кукурузы. Таким образом Нунец и Заморра были снабжены всем необходимым в дорогу.
— А теперь, братья, подадим друг другу руку в последний раз на этой земле. Вскоре мы увидимся как свободные люди, — торжественно сказал дон Эстебан.
Беглецы простились друг с другом и с остающимися.
Первым вполз в бочку старый седой негр. Бочку закрыли днищем. Раздалось несколько глухих ударов молотка, словно заколачивали гроб. Один за другим исчезали в бочках кубинцы. Наконец остались только Жуан и дон Эстебан.
Первым влез в бочку старый седой негр
Дон Эстебан обнял сына и тоже влез в бочку. Жуан сам закрыл днище его бочки и заколотил ее. Затем старый негр вошел в предназначенную для него временную тюрьму.
Окинув еще раз взглядом ряд призрачно белевших бочек, Рафаэль и четверо кубинцев двинулись в город.
VIII. «Нубия» в порту
Холодную ненастную ночь сменило утро, прозрачное, солнечное. Измятая ливнем трава снова поднялась, распустились на деревьях бутоны. Аромат апельсинов, лимонов и роз поднимался над городскими садами. Тучи ярких птиц носились со звонким щебетом. Большие цветистые мотыльки мелькали над травами словно летучие цветы. Солнце весело играло на сорванных крышах, на развалинах хижин, на изломанных заборах, на расщепленных поваленных деревьях.
Город едва пробуждался, когда в порту раздался пушечный выстрел, и «Нубия» бросила якорь, Это был старый морской пароход, видавший всякие виды. Находившийся посредине палубы пассажирский павильон первого класса придавал ему сходство с верблюдом. «Нубия» везла на черный материк дары европейской культуры — ром, джин, огнестрельное оружие, блестящие побрякушки, а возвращалась нагруженная различными дарами природы — черным деревом, слоновой костью, пальмовым маслом, какао, кофе.
Приход парохода — событие первостепенной важности в сонной жизни обитателей Санта-Изабель. Не прошло и десяти минут, как каменистая дорога к пристани уже была полна народа. Впереди шли рабочие-негры, срок работы которых на острове закончился. Они торопились на пароход, неся на плечах сундучки, наполненные различными товарами, выданными им в качестве заработной платы. От пристани к «Нубии» наперегонки неслись лодки чернокожих рыбаков; крикливые торговки везли на пароход кур, яйца и фрукты.
У пристани фактории стояли наготове две больших грузовых шлюпки. Несколько рабочих ожидали приказа грузить. Предусмотрительный агент выбрал среди своих рабочих молодых неопытных парней. Они-то уже наверное не заметят, что бочки будут гораздо легче, чем обычно. Они не задумаются над тем, почему Эдгерлей велел осторожно сносить их вниз, ставить на дно лодок и так же осторожно поднимать на борт.
За рабочих Грязный Давидка был совершенно спокоен. Но он не находил себе места при мысли, что дон Бернардо Ливарец может исполнить свое обещание и явиться на пристань.
К счастью, прощальный пир дона Рафаэля оказал такое сильное действие на неутомимого чиновника трех учреждений, что у него не было сил подняться с кровати, когда он услыхал выстрел «Нубии». Он вспомнил про вчерашнюю корзину вина, велел себе подать бутылку в постель, выпил несколько стаканов, пробормотал какое-то проклятие, повернулся на другой бок и захрапел.
Эдгерлей вздохнул с облегчением, когда последняя бочка очутилась в шлюпке. Он вскочил в свой ялик и помчался к пароходу. На палубе он уже застал дона Рафаэля. Молодой художник беседовал с капитаном «Нубии». Капитан Стирсон был полный мужчина с огромной седой головой и красным опухшим лицом. В этой куче мяса почта пропадали маленькие жестокие стального цвета глаза и небольшой вздернутый нос, но резко выделялись крупные рыжие усы, почти скрывавшие губы, и коротенькая огненная бородка.
Эдгерлей дружески поздоровался с капитаном и Рафаэлем.
— Мои шлюпки уже подходят, — сказал он, указывая рукой на две медленно приближающиеся лодки.
— Похоже на то, что это будет мой единственный груз отсюда, — буркнул капитан. — До сих пор на пароход явились в качестве пассажиров только двадцать негров. На месте компании я бы давно вычеркнул из списка пристаней эту дыру. Что отсюда вывозишь? Ложку пальмового масла да горсть какао.
Грязный Давидка оглянулся и, видя, что вблизи никого нет, сказал:
— Я полагаю, дорогой капитан, что на этот раз у вас нет оснований сетовать на Фернандо-Поо.
Капитан сдвинул брови и бросил красноречивый взгляд на стоявшего у перил Рафаэля.
Но молодой человек не слышал их разговора. Он неотрывно следил глазами за лодками, нагруженными бочками. Ему казалось, что с каждым ударом весел он слышит пятнадцать сердец. Его охватила острая тревога.
Между тем лодки подошли к пароходу. Два коренастых матроса бросили вниз канат под’емного крана, остальные быстро спустились в открытый люк трюма, в котором им надо было устанавливать бочки.
Эдгерлей подозрительно посмотрел на них:
— Капитан, а эти…
Но Стирсон не дал ему договорить:
— Дорогой Эдгерлей, это верные люди, глухие, слепые и немые, когда нужно. Они хорошо установят ваш груз. Идемте в мою каюту.
Оба ушли.
IX. Бочка-могила
Шум на пароходе нарастал. Ежеминутно подходили новые лодки. Крики: «Стоп!», «Держи!». Плеск волн. Разноязычный говор. На палубу высыпали все пассажиры «Нубии». Вновь прибывшие пассажиры оживленно разговаривали с ними и с экипажем, расспрашивая обо всяких новинках. Черные торговки зычно спарили с поваром. Несколько негров с обезьянами и попугаями искали покупателей среди пассажиров. Все они кричали друг на друга, жестикулировали, смеялись.
Но Рафаэль не обращал на все это никакого внимания. Он не заметил также, что от пристани отчалила правительственная лодка, под навесом которой сидели комендант порта, несколько офицеров и чиновников.
Погрузка шла быстро. Рабочие Эдгерлея обвязывали каждую бочку веревкой, зацепляли узел за крюк под’емного крана. Бочка описывала в воздухе полукруг и исчезала в темном отверстии люка, откуда точно сдавленный стон раздавался стук о палубу.
Дон Рафаэль провожал глазами каждую бочку, «Может быть, в этой бочке мой отец… Может быть, в этой?» — тревожно думал он.
Подняли вверх девятую бочку, и она повисла над бортом Внезапно узел веревки развязался, бочка звонко ударилась о борт и полетела в море…
Рабочие с криком бросились ее спасать. С палубы сорвался сдавленный крик. Никто не обратил на него внимания. Художник-турист вцепился руками в борт. Он был белее своей рубашки. Судорожно закусил он нижнюю губу, и капли крови поползли по бритому подбородку.
У борта собрались пассажиры и матросы. Мнения разделились, но большинство считали, что бочка должна всплыть. Круманы ныряли и искали ее под водой.
Рафаэль очнулся от столбняка. Он растолкал собравшуюся у борта толпу и бросился в капитанскую каюту. Капитан сидел вместе с Эдгерлеем около стола красного дерева, допивая огромный стакан коктейля.
— Несчастье, капитан!.. Мистер Эдгерлей!.. — воскликнул он задыхаясь. — Бочка… одна бочка упала в море!
— Какой ужас! — вскочил Эдгерлей. — Каким образом? Этого быть не может!
— Узел развязался…
— Ах, скоты! Вот что значит иметь дело с молокососами!
— Капитан! Умоляю вас… спасите несчастного, который в бочке! — воскликнул Рафаэль.
— Что же я могу сделать? — пожал плечами толстяк. — У меня на берегу нет водолазов.
— Пошлите шлюпку разыскивать бочку… — настаивал креол.
— Бесполезно. Если рабочие ее не разыщут, значит, она пошла ко дну. Теперь уж человек наверняка захлебнулся.
В дверь постучали:
— Комендант порта и еще несколько господ прибыли с берега и ищут того молодого пассажира, который только что погрузился на борт, — раздался голос матроса. — Они велели спросить, нет ли его у вас?
Капитан пробормотал проклятие.
— Что это значит? Уж не приехали ли они вас арестовать? — с дрожью в голосе шепнул Рафаэлю Эдгерлей.
Молодой человек пожал плечами.
— Скажи этим господам, что он здесь, — сказал капитан матросу.
Через минуту в капитанскую каюту вошел комендант порта и еще несколько человек.
— Доброго утра, дон Энрико! — весело приветствовали они креола.
Он отвечал им крепким рукопожатием. На пепельно бледном лице заерзала натянутая улыбка.
Капитан позвонил.
— Шампанского! — крикнул он вошедшему слуге. Догадливый человек был Стирсон!
— Ну, что? Видно, вчерашний пир все еще сидит в вашей голове. Да, вы угостили нас по-королевски, но я предпочел бы видеть вас более здоровым, — смеялся комендант, глядя на зеленовато-бледное лицо молодого человека, на синяки под запавшими глазами.
— Мне кажется, у меня лихорадка, — ответил креол. — Подцепил ее во время этого дьявольского ливня.
— Лихорадка? Нет лучше лекарства, как шампанское.
— Господа! Я пью за здоровье моего пассажира и его гостей! — подхватил капитан.
Пирушка продолжалась. Каждый нерв Рафаэля был натянут и вибрировал. Как автомат отвечал он на тосты, опрокидывал рюмку за рюмкой, хохотал, сыпал шутками.
Наконец пытка кончилась. Распростившись с приятелем, комендант, офицеры и чиновники вышли из каюты. Одна за другой отчаливали от парохода шлюпки. «Нубия» дала гудок, повернулась и стала медленно удаляться от острова.
— Ну вот, мы наши обязательства выполнили, — хлопнул капитан Рафаэля по плечу. — Вы сами понимаете, что несчастье произошло не по нашей вине. Теперь очередь за вами. Ваши две тысячи фунтов, сенор?
Рафаэль дрожащими руками открыл ящик для красок, поставил на стол шкатулку с золотом и пошатываясь направился к двери.
* * *
Через день после ухода «Нубии» было обнаружено исчезновение пятнадцати кубинцев. На острове поднялся переполох. Полицейские сбились с ног, разыскивая беглецов. Ясно, что они покинули остров. Губернатор был в отчаянии. Ему грозила потеря места за такой недосмотр. Кроме того, слух о побеге скоро перекинется на материк, и немецкие и английские газеты поднимут крик об «испанских» зверствах на острове Фернандо-Поо. Как теперь быть?
Городской судья напомнил губернатору об одной бумаге, уже больше года лежащей в архиве. Это была амнистия политическим ссыльным, изданная вскоре по окончании десятилетней войны и носившая в значительной мере фиктивный характер. Испанские колониальные власти вовсе не собирались распространять ее на ссыльных кубинцев. К чему лишать остров крепких и искусных рабочих рук?
Но теперь губернатор жадно ухватился за эту бумажку. Об’явление амнистии всем ссыльным кубинцам будет единственным выходом из создавшегося положения. Скверное впечатление от побега разом сгладится. Находчивый судья посоветовал ему приурочить об’явление амнистии к рождению королевской дочери.
Прошло несколько дней, и по острову разнеслась ошеломляющая весть: все ссыльные кубинцы «высочайшей милостью» получали свободу и могли возвратиться на родину. Негры и мулаты не верили своим глазам и ушам и ходили, шатаясь как пьяные.
Работавший в правительственном учреждении креол рассказал им, чем была вызвана «амнистия»: ему удалось подслушать разговор губернатора и судьи. Кубинцы торжествовали: значит, не зря был совершен побег, стоивший столько трудов и лишений!..
* * *
Месяца через полтора все ссыльные вернулись на родной остров. На пристани порта Матансос их встретили Мануэль Корезма, Заморра, Нунец, Жуан Фернандец и другие беглецы. Тут же стоял и Рафаэль, весь в черном, сосредоточенный и грустный. Все были в сборе — не хватало только дона Эстебана.
Бочка из-под пальмового масла оказалась гробом старому революционеру.
25 ЛЕТ НАЗАД
Сентябрь
Волна стачек катилась за волной, перебрасывалась с места на место, на время стихая в одном месте, усиливаясь в другом.
Сентябрь, октябрь — месяцы бурного роста забастовочного движения.
Столкновение рабочих с войсками в Либаве (3 сентября), расстрел казаками рабочего митинга в Тифлисе (11-го), демонстрация во Владикавказе (17-го), противоправительственная демонстрация в Варшаве (17-го), вооруженное нападение на рижскую тюрьму с целью освобождения политических заключенных (20-го), аграрные беспорядки в Вятской губернии, резолюция студенческих сходок различных учебных заведений об использовании помещений для открытых митингов, ряд террористических актов — все это только эпизоды непрерывно нараставшей волны.
Страна напоминала гигантский кипящий котел.
Атака переходила в штурм самодержавия.
Октябрь
Положение стало напряженным до крайней степенно 2-го в Москве забастовали типографские рабочие. 6-го забастовка перекинулась на пекарни, городские предприятия, фабрики и заводы. На улицах происходили митинги и манифестации. Стали учащаться столкновения с полицией и казаками. Две силы — революция и самодержавие стояли лицом к лицу, готовясь вцепиться друг в друга.
10-го в Москве началась всеобщая стачка рабочих.
16-го (3) забастовка перекинулась в Петербург и привела к организации «революционного рабочего самоуправления». 13-го октября состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов.
20-го (7) стала Московско-Казанская ж. д. На следующий день бастует весь московский железнодорожный узел, кроме Николаевской дороги и Савеловской ветки. Начинают бастовать Либаво-Роменская, Привисленская и Полесская ж. д., 23-го забастовала Николаевская дорога, Екатерининская, Харьково-Николаевская и др.
Главнейший нерв страны — железные дороги — замер.
Жизнь приостановилась.
Ночью 26-го (13) в Петербурге состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов.
27-го (14) Трепов издал свой знаменитый приказ: «холостых залпов не давать, патронов не жалеть».
Но это не помогло. Началась всеобщая забастовка.
Правительство растерялось. Оно пошло на уступки. 30 (17) октября появился царский манифест о даровании «возлюбленному русскому народу» свобод и конституционных прав.
«Царь далеко еще не сдался. Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. Оно только отступило, оставив неприятелю поле сражения, отступило в чрезвычайно серьезной битве, но оно еще далеко не разбито, оно собирает свои силы», — писал В. И. Ленин.
Ноябрь
1905 год в Прибалтийском крае. Расстрел (с редкой момент. фотографии)
Слова тов. Ленина подтвердились. Сделав уступки, самодержавие перешло в решительное наступление.
Вышедших на улицы с красными флагами рабочих войска начали расстреливать. В десятках городов опять начались еврейские погромы. За пять дней погрома в Одессе было только убитых 1000 человек.
Погромы происходили в Киеве, в Симферополе, в других городах. В Москве был убит черносотенниками большевик Бауман.
Но не так-то легко было расправиться с восставшим народом. Дальнейшей борьбой начали руководить советы. Петербургский совет издавал распоряжения, и царское правительство, боясь рабочего класса, не решалось арестовать членов совета.
8 ноября вспыхнуло восстание кронштадтских матросов. Оно было подавлено. Полевому суду было предано около 300 солдат, 3000 матросов и более 80 гражданских лиц.
И вот совет об’явил всеобщую забастовку, требуя отмены полевых судов и смертной казни. Это было требование, показавшее, что правительство вынуждено считаться с советом. Оно объявило, что арестованные не будут отданы под полевой суд.
На заводах началось изготовление оружия для восстания.
11 ноября совет ввел 8-часовой рабочий день.
По образцу петербургского, образовывались советы и в других городах. В течение ноября возникают советы в Одессе, Киеве, Костроме, Ростове-на-Дону и Нахичевани, Николаеве, Екатеринославе, Белостоке, Баку, Самаре, Саратове.
В конце ноября в Севастополе вспыхнуло новое восстание Черноморского флота. Матросов повели разгонять митинг рабочих. Матрос-большевик Петров в ответ на приказ офицера стрелять в рабочих выстрелил в офицера и убил его. Это послужило сигналом к восстанию флота. R этой борьбе моряки показали примеры героизма и беззаветной преданности революции.
В главе восставшего флота стоял лейтенант Шмидт. Восстание было подавлено.
Мы приведем здесь выдержку из речи Шмидта на суде, приговорившем его к расстрелу.
«…Да, с нами народ, весь, всею своею стомиллионной громадой. Он, истощенный и изнемогающий, голодный, изрубцованный казацкими нагайками. Он, этот народ с засеченными стариками и детскими трупами. То были дни истязаний крестьян в шести губерниях за то, что они обезумели от голода и, смотря на своих пухнувших детей, потеряли сознание неприкосновенности собственности… Не горсть матросов, не гражданин Шмидт здесь перед вами, — перед вами здесь на скамье подсудимых вся 100-миллионная масса России, ей вы вынесете ваш приговор, она ждет вашего решения!»
Вслед за севастопольским начались восстания в других городах. 28-го забастовал батальон солдат в Ташкенте. Они были расстреляны. Тогда начались волнения среди солдат в десятках городов — в Курске, Харькове, Варшаве, Сухуме…
Бастовали десятки и сотни предприятий по всей России.
Столкновения рабочих с полицией учащались.
Декабрь
Рабочие массы не были вооружены, не были подготовлены к вооруженной обороне.
Но восстание становилось неизбежным.
Буржуазия, вначале как будто боровшаяся с самодержавием, была испугана и стала явно на его сторону.
Ободренное поддержкой буржуазии, правительство арестовало 16 (3) декабря Петербургский совет рабочих депутатов.
Часть уцелевших от ареста депутатов обратилась к рабочим с призывом ответить на арест всеобщей забастовкой.
Центр борьбы был перенесен в Москву. На общегородской конференции Московского комитета большевиков постановлено было предложить совету об’явить всеобщую забастовку, с тем, чтобы перевести ее в вооруженное восстание.
19 декабря советом было вынесено решение о всеобщей забастовке.
С 20 велась подготовка к осуществлению вооруженного восстания.
Революционные боевые дружины начали обезоруживать полицию, разбирать оружие в оружейных складах и магазинах.
Примеру Москвы следовали десятки городов. Всеобщая стачка разрасталась. Рабочие готовились к восстанию. Во многих городах советы решали взять в свои руки руководство восстанием.
22-го начались баррикадные бои в Москве. По всему городу вырастали баррикады. Первой была баррикада на углу Тверской и Садовой. Центром борьбы была Пресня.
Драгуны и артиллерия тщетно пытались сломить сопротивление рабочих.
Наконец, 28 декабря в Москву прибыл из Петербурга Семеновский полк. К вечеру восстание было подавлено (за исключением Пресни).
Началась осада Пресни — крепости рабочего класса. 29-го революционная дружина Прохоровской мануфактуры заставила отступить артиллерию. На следующий день начался артиллерийский разгром Пресни.
Озверелые солдаты делали все, что им вздумается. На Прохоровке, в ткацкой конторе сидел усмиритель Мин и судил— кого расстрелять, кого стегать плетьми. Ужасные стоны и крики смешивались с винтовочными выстрелами. Расстреливали, на ломовых отвозили трупы в полицейский участок и сваливали в сарай, как дрова.
На линии Казанской дороги действовал карательный отряд.
Кровь рабочих полилась рекой.
Восстания были и в других городах. Они также были подавлены.
Революция потерпела временное поражение.
Революционные силы не были сломлены. Первая русская революция потерпела поражение, но она оказалась прекрасным уроком, «генеральной репетицией» Октября.
В чем же причина неудачи вооруженного восстания в декабре и разгрома?
Первая причина в том, что «главной формой декабрьского движения в Москве были мирная забастовка и демонстрация. Громадное большинство рабочих активно участвовало только в этих формах борьбы. Но именно декабрьское выступление в Москве показало воочию, что всеобщая стачка, как самостоятельная и главная форма борьбы, изжила себя, что движение с стихийной неудержимой силой вырывается из этих рамок и порождает высшую форму борьбы — восстание» (Ленин).
«…нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие, нужно было разъяснить массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы» (Ленин).
Не были использованы имеющиеся силы для «активной, смелой, предприимчивой и наступательной борьбы за колеблющееся войско» (Ленин).
Не было «союза с крестьянством, и оно во-время не пришло на помощь пролетариату.
Слабость социал-демократической партии, в которой рядом с большевиками работали меньшевики, беспрерывно срывавшие, деморализовавшие и предавшие революцию.
После поражения революции меньшевики совсем отошли от рабочего класса, начали приспособляться к царизму, буржуазии, призывать к сотрудничеству с нею, злорадствовать по поводу неудачи Московского восстания.
Лишь большевики не падали духом и остались верны революции. Большая часть их находилась на каторге и в тюрьмах, а оставшиеся ушли в подполье, повели новую революционную работу.
В. И. Ленин после 1905 года писал:
«Будем помнить, что близится великая массовая борьба. Это будет вооруженное восстание. Оно должно быть по возможности единовременно. Массы должны знать, что они идут на вооруженную кровавую, отчаянную борьбу. Презрение к смерти должно распространиться в массах и обеспечить победу. Наступление на врага должно быть самое энергичное: нападение, а не защита должно стать лозунгом масс, беспощадное истребление врага станет их задачей; организация борьбы сложится подвижная и гибкая; колеблющиеся элементы войска будут втянуты в активную борьбу. Партия сознательного пролетариата должна выполнить свой долг в этой борьбе».
Через 12 лет после первой русской революция эта великая массовая борьба под руководством большевиков привела русский пролетариат к власти.
УРАЛ
Рассказ А. Грина
Рисунки В. Щеглова
I
В феврале 1900 года я решил отправиться на Уральские золотые прииски.
Всю эту зиму я прожил, бедствуя изо дня в день. Мне удавалось иногда заработать рубль-два перепиской ролей для труппы городского театра, при чем, чтобы получить даже эти гроши, приходилось иногда часами ловить за кулисами антрепренера, а то даже ожидать конца спектакля, когда антрепренер залезал в кассу сверять билеты.
Около месяца я прислуживал у одного частного поверенного, бойкого крючка, платившего мне двадцать копеек в день за довольно трудную работу — писание под диктовку исковых прошений и апелляционных жалоб.
Я отвлекся, чтобы указать, из какой обстановки я двинулся на Урал. Там я мечтал разыскать клад, найти самородок пуда в полтора, — одним словом, я все еще был под влиянием Райдера Хаггарда и Густава Эмара.
Отец дал мне три рубля. На мне были старые валенки, подшитые кожей, черные ластиковые штаны, старая бумазейная рубашка — красная с черными крапинками, — теплый пиджак из верблюжьей шерсти, подбитый беличьим мехом, и шапка из бараньего меха. Я ничего не нес и ни на что не надеялся. Правда, отец сказал мне, что в Перми живет его прежний знакомый, ссыльный поляк Ржевский, хозяин большого колбасного заведения, и дал к нему письмо, в котором просил помочь мне найти работу. Но я не верил в силу письма. Связь отца с ссыльными была давно порвана, а в таких случаях неожиданное появление бродяги даже с письмом от полузабытого знакомого производит впечатление не очень внушительное.
Было, кажется, 23 февраля, когда в снежный мягкий день я перешел реку Вятку и, миновав кабак села Дымкова, весь остаток рано темнеющего дня шел по тракту на уездный город Слободской, до которого было тридцать километров. Когда я прошел километров пятнадцать, было уже темно, как ночью. Встретив огни деревни, я постучался в одну избу, в другую, но везде слышал один ответ:
— Ступай, много вас таких шляется.
Не зная что делать, я постучался в один дом не совсем крестьянского типа и попал к молодому дьякону, жившему с такой же молоденькой женой во втором этаже. Дьякон оказался человеком простым и, как я, поклонником Густава Эмара. У него я и переночевал на полу, подослав половик. Его жена накормила меня лапшой с грибами и напоила чаем с сушкой.
Утром я отправился дальше, иногда проезжая некоторое расстояние на крестьянских санях. Попутные мужики охотно подсаживали меня.
Около двух часов дня показались крыши уездного города Слободского. Придя в город, я сделал попытку разыскать семью ссыльного поляка Тецкого. Однако Тецкий с семьей уехал в Сибирь. Я тронулся в дальнейшее странствие, которое продолжалось восемь дней. От Слободского до Глазова я прошел сто восемьдесят километров, ночуя по деревням.
Редкая семья соглашалась взять с меня деньги за ужин или ночлег. Я предпочитал останавливаться в бедных избах, так как хозяева таких жилищ гораздо радушнее и приветливее, чем зажиточные крестьяне.
II
Инспектором глазовского городского училища был Дмитрий Васильевич Петров, мой бывший учитель по вятскому городскому училищу. Я знал от моих бывших одноклассников, что он здесь, и решил зайти к нему в гости.
Петров жил в казенной квартире. Пол был чисто натерт, много цветов, рояль, красивые вязаные салфетки — словом, бедный ординарный комфорт интеллигентного труженика. Я снова увидел его усталое лицо, редкие темные волосы, всклокоченный хохолок на лбу и почувствовал себя школьником, когда он сказал:
— А! Гриневский! Здравствуй. Какими судьбами? Входи, входи!
—А, Гриневский, входи, входи…
За обедом, потом за вечерним чаем мы много и горячо говорили о жизни, о литературе.
Он дал мне серебряный рубль, пачку папирос. И наскоро выпив рано утром чаю, я отправился на вокзал, где уговорился с кондуктором товаро-пассажирского поезда. Я дал кондуктору сорок копеек. Он посадил меня в пустой товарный вагон и запер его. У меня были хлеб, колбаса. Пока тянулся день, я расхаживал по вагону, мечтал, ел, курил и не зяб, но вечером ударил крепчайший мороз, градусов двадцать. Всю ночь я провел в борьбе с одолевающим меня сном и морозным окоченением: если бы я уснул, в Перми был бы обнаружен мой труп. Эту долгую ночь мучений, страха и холода в темном вагоне мне не забыть никогда.
Наконец, часов в семь утра, поезд прикатил в Пермь. Выпуская меня, кондуктор нагло заметил:
— А я думал, что ты уж помер!
На рыже, в чайной было жарко, тесно; множество мужиков и рабочих, следующих, как и я, на заработки, чаевничали, курили, кричали, пили водку. Под столами были свалены мешки, котомки. Дым знаменитой махорки «Три звездочки» заскакивал в дыхательное горло удушьем. Так как у меня не было денег, то я обменял свою баранью шапку на старую из поддельной мерлушки, получив двадцать копеек придачи, и напился чаю с баранками, а затем, около девяти часов, пошел с письмом отца к Ржевскому.
Прочтя письмо отца, Ржевский — замкнутый, спокойный поляк лет сорока — пошептался с женой, и она передала меня какому-то старичку, может быть, ее отцу или отцу Ржевского. Старичок повел меня по лестнице наверх, и я очутился в очень просторной, очень светлой большой квартире. Пол был паркетный, обои светлые, мебель в чехлах. Картины и огромные тропические растения поразили меня. Еще никогда я не был в такой квартире, а о паркетах только читал.
В тот день была оттепель, отчего мои валенки просырели, и я с ужасом видел, что на каждом шагу оставляю широкие грязные пятна сырости. Заколебавшись, я остановился. Между тем старичок со всей возможной деликатностью, а может быть, с тайным ехидством ласковым движением руки приглашал меня итти все дальше за ним, через гостиные, залы — в столовую. Я думаю теперь, что меня могли бы избавить от такого унижения.
Я останавливался раз пять. Уши мои горели. Наконец я был в столовой, где кипел серебряный самовар, и тотчас же сел за стол, поглубже упрятав ноги. Кроме старичка, были здесь старушка и девочка, а вскоре пришли хозяева, Ржевские. От смущения я лепетал не знаю что. Говорил о приисках золота, рассказывал свои морские похождения, рассказывал об отце, о нашей семье. Я сказал: «Как у вас хорошо!» — чем, видимо, польстил хозяевам, но в ответ получил рассуждение о том, что такой комфорт достигается упорным трудом. Я выпил стакан чаю с молоком в серебряном подстаканнике, с’ел колбасы, сыру. Куда-то уйдя, Ржевский вернулся с письмом. Это была записка вагонному мастеру железнодорожного депо с просьбой дать мне работу. Затем, узнав, что я без денег, Ржевский дал мне рубль и велел приказчику завернуть для меня три фунта разной колбасы. Я попрощался и ушел тем же путем, провожаемый внимательными взглядами служащих.
Кажется, я не понравился, — я был дик. На улице я вздохнул с облегчением и немедленно отправился в депо, где и был принят чернорабочим, с платой пятьдесят копеек в день и десять копеек в час за сверхурочные.
После того я нашел маленькую комнату с матрацом, но без подушек, за четыре рубля в месяц и, прописав паспорт, на следующее же утро, к шести часам утра, был в депо.
Хотя в позапрошлую зиму я работал в вагонных мастерских, в Вятке, однако разница была велика. Там я главным образом имел дело с деревообделочными станками, стругавшими обшивные и половые доски и вырезывавшими колодки; материал — дерево — был не тяжел: здесь же мне пришлось работать до изнурения. Переноска всяких тяжестей — рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами толкание паровозов на поворотный крут, словом, металл и металл. Кроме того почти каждый день я оставался на сверхурочных, приходя домой — часов в девять вечера — до того усталый, что не мог ни есть, ни читать.
Между тем стало сильно таять и крепче пригревало солнце: началась северная весна.
Взяв расчет, я получил около четырех рублей и в один прекрасный день сел в поезд зайцем, направляясь на ближайшие, графа Шувалова, прииски, где, как я разузнал, можно было всегда найти работу. После двух вынужденных высадок, почти к вечеру, я доехал до станции, откуда надо было итти пешком на прииски.
Было темно, когда показались огни казарм. железных рудников. Мне никогда не забыть странной картины внутренности очень большой казармы, сложенной из гигантских бревен, куда я вошел просить ночлега. Вокруг стен шли нары, в промежутках между ними стояли простые столы. С потолка освещала это жилье сильная керосиновая лампа. Железная печь посредине казармы, раскаленная докрасна, нагоняла тропическую жару на длинной ее трубе, обходящей чуть ли не все помещение, сушились портянки, висели мокрые лапти. Однако главным в картине был ярко желтый цвет всего: пола, столов, портянок, рубах, людей и чуть ли не самого воздуха. Казалось, я смотрел на окружающее через желтое стекло. Это была пыль железной руды приносимая на ногах, в одежде и скопившаяся голами.
Утром я пошел дальше, горя нетерпением и отвагой. Я уже слышал о «хищниках». Мне грезились костры в лесу, карабины, тайные притоны скупщиков, золото и пиры, медведи и индейцы… Заметив, что докатился до индейцев, я оглянулся, но никто не слушал меня на дикой дороге.
III
Шуваловские прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт и конторских строений, раскинутое частью в лесу, вдоль лесной речки. Здесь работало несколько тысяч человек, не считая «старателей».
Прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт
Среди постоянно сменяющейся массы рабочих были, наверное, воры, беглые каторжане, дезертиры, но их никто не тревожил. Фальшивый или чужой — краденный — паспорт покрывал все.
Бессемейных, пьяниц, босяков звали обидной кличкой «галак», сибиряков — «челдон», пермяков — «пермяк-соленые-уши», вятских — «водохлебы» и «толоконники», волжских — «кацапы», мордвинов-«лягушатники». («Лягва, а лягва! Постой, я тебя с’ем!») О мордвинах рассказывали, как один ищет другого.
— Васька!
Молчание.
— Василий!
Молчание.
— Василий Иванович!
Молчание.
— Василий Иванович, милый дружка, золотой яблочка, где ты?
— Под кустом сижу, чилидь (трубку) курю!
Контора — большое здание из двухсотлетних бревен — была пуста, когда я вошел, только у окошка кассы один старатель получал деньги за сданное золото. Он принес с собой фаянсовую тарелку.
Кассир отсчитал ему в тарелку деньги золотыми пятирублевками.
Старатель завязал тарелку в ситцевый платок и понес домой, как носят суп, спокойно и независимо.
После этой картины мой рубль задатка стал очень невелик для меня. Сдав паспорт, я отправился бродить по прииску и, заглянув в общие бараки, не захотел поселиться там. Вверху было жарко от железной печи, а в ноги тянуло холодом; между тем за отсутствием места на нарах мне пришлось бы спать на земле.
Один рабочий направил меня к местному жителю-рабочему, и я поселился в его избе, заняв угол за рубль в месяц. Кроме меня, был еще жилец — рыжий мужик, горький пьяница; вечером он с хозяином напивался, и они пели, сидя за бутылкой:
Скажи мне, звездочка златая, Зачем печально так горишь? Король, король! О чем вздыхаешь, Со страхом речи говоришь?Хозяйка, пожилая беременная женщина, молча работала по хозяйству, ни во что не вмешиваясь.
Я спал в углу, на соломе. Она никогда не убиралась, лишь сметалась на день в кучу.
Бурно таяло, снег сохранился только в лесу. От сырой грязи мои валенки развалились; сапожник отказался чинить их, и я надел лапти.
Как было не вспомнить ехидную поговорку о проказливых и ленивых…
«Гули да гули… Ан в лапти и обули».
Однако уметь надеть лапти не так просто. Мои сожители учили меня обвертывать ногу портянкой, чтобы было везде туго, ловко, не давило подошву, и я кое-чего достиг в этом искусстве.
На другой же день, едва порозовело небо, я вышел к наряду. Нарядчики послали меня качать из шурфов воду. Из бараков вышел народ, — бабы и мужики — прибавилось к нему нас, новичков, человек двадцать и, пройдя с полкилометра лесом, мы очутились в лесной долине.
Здесь, на расстоянии ста метров один от другого, были шурфы — неглубокие шахты для разведки золотоносного слоя, состоящего из песка и гравия. Эти шахты в пять-десять метров глубины — обслуживались ручным воротом с подвешенной к нему бадьей и обыкновенным насосом, рукав которого, касаясь дна, выбирал воду.
Внизу работали двое: забойщик, рывший породу мошкой, и плотник, который ставил деревянную клеть, крепившую стены шурфа от обвала.
Время от времени бадья поднималась воротом вверх, порода высыпалась, а штейгер, обходя шурфы, делал пробу ковшом: набросав туда песку, прополаскивал его водой и смотрел — остаются ли после удаления песка крупицы золота. Однажды, найдя такие крупицы, штейгер, стал показывать их мне; я притворился, что вижу, но на деле ничего не видел: верно, что-то блестело на дне ковша, но был ли то блеск оловяной полуды или воды, или золота, я так и не разобрал в точности…
Я работал с зари до зари; на обед давался нам час, на завтрак полчаса. В полдень штейгер отмечал в таблице крестиком рабочий день каждого; вечером еще раз проверял — кто работает вторую половину дня.
Плата была шестьдесят копеек поденно.
Расчет происходил по субботам в конторе, с вычетом забора по лавке.
Время от времени старший рабочий командовал: «Закури», и мы, старательно медленно свертывая «козью ножку» (покрупнее, чтобы дольше курилась), так же старательно медленно досасывали ее и так нагоняли минут пять — шесть отдыха.
Я работал то на откачке воды, то крутил ворот.
Неподалеку были старатели, и я один раз ходил смотреть, как они там живут. Старатели жили с семьями в лесу, по берегу речки, в небольших избах; кое у кого из них было хозяйство: птица, корова, лошадь. Тут же, возле избы, стоял вашгерт — промывательный станок, род ступенчатого корыта с задерживающими золотой песок планками. Насыпав в вашгерт породу, старатель прибавлял туда ртути; платина или золото амальгамировалось на дне вашгерта, а песок относило прочь водой, качаемой обыкновенным насосом. Впоследствии ртуть удалялась нагреванием. За платину контора платила три рубля пятьдесят копеек за золотник, за золото пять рублей. Мне рассказывали о селениях, где сплошь живут скупщики контрабандного золота, платящие по шесть и семь рублей за золотник.
Вначале я работал каждый день, но когда хозяйка моего угла родила ребенка, скандалы, пьянства, рев и писк стали неимоверны; я часто не мог заснуть, а потому перебрался в барак. Сознаюсь, здесь было тесно, но веселее, чем слушать каждую ночь: «Король, о чем вздыхаешь?» Однако атмосфера лодырничества, картежа, работы через день — два и бесконечных фантастических рассказов о самородках и кладах подействовала на меня: я стал тоже работать на хлеб, чай и табак — не больше; мои потребности в то время были очень скромны.
Набрав у кого мог лубочных и старых без переплетов книг, я погрузился в чтение, иногда выходя искать среди леса и по берегам еще закрытой льдами речки самородков. Когда мне переставали давать в лавке провизию, я ходил на работу в ночную смену. Работал в настоящей шахте, где было сыро и куда спускались в бадье, стоя в ней и держась за канаты.
Отверстие шахты выходило из невысокого холма; добываемая порода сваливалась кучами тут же. Неподалеку была бутара — закрытый деревянный цилиндр, вращаемый в горизонтальном положении; внутри бутары песок обрабатывался ртутью, как в вашгерте.
Нет ничего удивительного, что при такой технически несовершенной добыче золота и платины некоторые старатели брали от конторы разрешение снова промывать отработанные кучи песку и, как утверждали на прииске, добывали прилично.
Я стоял в паре с другими рабочими на вороте, выкручивая с двадцати тридцати метровой глубины тяжелую бадью, полную золотоносной породы; вторая бадья одновременно шла пустая вниз; там ее насыпали.
Три ночи я проработал под землей, где забойщик бил киркой впереди себя, а я лопатой наваливал породу в тачку и катил ее к бадье, под вертикальный колодезь. Работать надо было все время согнувшись; забойщик работал сдельно, и угнаться за ним я не мог. Пришлось бросить эту работу, хотя ночная смена оплачивалась рублем.
Три ночи я проработал под землей, вывозя породу в тачке
Мой интерес к приискам начал проходить. Между тем в бараке появился хищник — настоящий хищник уральской тайги, молодой человек, туалет которого был выдержан по всем правилам описанного мной местного щегольства; у него, видимо, были деньги, потому что он совсем не работал, только жил в бараке, может быть, с какими-нибудь конспиративными целями.
При всеобщем жадном внимании хищник рассказывал о жизни себе подобных.
— Есть, — говорил он, — такие золотое места, о которых знаем только мы, хищники. Есть верховое золото: сорвешь пласт дерна, и с корешков травы стряхиваешь, как крупу, чистое золото. Есть речки, ручейки в горах, где на пуд песка — золотник платины. Есть самородное золото, содержат его так называемые «карманы» — гнезда мелких самородков и крупного золотого песка; попади на такой карман, будешь всю жизнь богат.
Однажды ночью хищник исчез. Как пришел — сразу; кое-кто видел его вечером за бараком в таинственной беседе с двумя бородачами; еще говорили, что его ищет полиция. Незадолго до его исчезновения один старик, серьезный и хворый, часто беседовавший со мной о жизни и людях, сказал мне, что ему один хищник, умерший год назад в больнице, сделал признание о зарытых двух голенищах, полных золотого песка, под старой березой, в таком-то селе. Название этого села я забыл. Я рассказал историю о голенищах мужику с рыжей бородой, Матвею, с которым сблизился, так как, по словам Матвея, он побывал в тех местах, где живал и я — в Приволжье, на Каспийском море, в Баку.
Мы уговорились итти искать клад. Получив расчет (рубля два), я вышел с Матвеем на лесную дорогу, и тут спутник мой доверчиво сообщил, что он бежал с каторги. Затем на первом же ночлеге, у одинокой женщины с тремя детьми (дом стоял на краю деревни), этот благодушный, благообразный мужичок, лежа со мной вечером на полатях, предложил мне убить хозяйку, детей и ограбить избу: в избе было чисто, хозяйственно, была хорошая одежда, полотенца с вышивкой, стенные часы и два сундука. Он предложил сделать это дня через два ночью, вернувшись к деревне окольным путем, а пока высмотреть хорошенько, где у хозяйки спрятаны деньги.
Он говорил так страшно просто и деловито, что я испугался. Видимо, он нуждался в товарище для ряда преступлений.
За эту ночь золотой дым вылетел из моей головы. Утром, взяв котомки, мы простились с хозяйкой, которая дала нам на дорогу яиц и хлеба.
Отойдя немного от деревни, я в упор заявил Матвею, что никуда с ним не пойду, так как быть в компании с негодяем и убийцей мне отвратительно.
Мужик опешил. Он пытался уверить меня, что пошутил, но в его голубых глазах лежала подозрительная муть, может быть, прямо угрожающая мне; поэтому, наматерившись вдоволь, мы расстались. Он побрел вперед, а я вернулся и предостерег женщину, чтобы она не пускала снова этого Матвея ночевать, вкратце рассказав суть дела.
Слушая меня, она была бела, как ее полотенце, и заголосила, что тотчас побежит к уряднику. Я пошел обратной дорогой и застрял на несколько дней на чугуно-плавильном заводе, где мне дали работу.
IV
Теперь мне интересно вспоминать свои работы, потому что прошло много лет, стерших ощущение грязи, вшей, изнеможения и одиночества, Но тогда это было не так интересно, — было разнообразно и трудно.
Сдав паспорт, получив традиционный рубль задатка и сунув котомку на нары в рабочей казарме, я был послан в сарай просеивать древесный уголь на поставленном наклонно большом прямом решете из проволоки. Кроме меня, тут работал еще один человек, дюжий мужик. Плата была семьдесят пять копеек поденно.
Мы бросали деревянными лопатками уголь на решето, крупные куски отскакивали, а мелочь просыпалась сквозь петли сзади решета.
Я возвращался вечером в барак чернее негра; кроме того, было тяжело дышать воздухом, составленным из угольной пыли и весенней сырости.
Казарма была разделена коридором— направо шли помещения для семейных, налево — для холостых и одиноких.
Однажды несколько человек из нашего помещения кровно обидели стряпавшую у плиты молоденькую татарку, жену рослого и очень сильного молодого татарина. Этот красавец-татарин, на стороне которого я был всей душой, бледный от ярости ворвался к нам и, схватив тяжелую табуретку, завертел ею с такой силой, что поднялся ветер. Он кричал только одно: «Убью! Убью!» Хотя было тут человек пятнадцать здоровых мужиков, сразу стало ясно, что сопротивление этому одному — невозможно. Все побледнели, пригнулись.
Татарин завертел табуреткой с такой силой, что поднялся ветер
В таких случаях делается весело и сторожко в душе. Все молчали, табуретка почти касалась голов. Я встал, взял татарина за руки, сказал: «Брось, Абдул; ты видишь, что они дураки».
Он посмотрел на меня столь жутким взглядом, что я мысленно попрощался с жизнью, потом, глубоко вздохнув, бросил табурет в угол — и табурет разлетелся в куски…
Вскоре меня назначили в ночную смену: возить на домну руду Рабочие наваливали подводу рудой, я шел рядом с подводой по отлогому, идущему вверх деревянному настилу к отверстию домны, где вместе с другими рабочими опрокидавал подводы и с'езжал вниз, за новой порцией.
После возки руды я работал дней пять внутри завода, таская и укладывая в штабели отличные чугунные болванки.
На земле перед отверстием домны были вырыты, расходясь во все стороны и соединяясь желобками, плоские формы болванок, рабочий пробивал пробку внизу домны, и из отверстия брызгал белый блеск, ослепительный, как вспышка магния. Белые брызги-молнии разлетались снопами, когда лилась струя чугуна. Она медленно растекалась по формам; становилось жарко; чугун подергивался красной пленкой, мерцал, вспыхивал, принимал устойчивый красный цвет и медленно гас, делаясь черным. Когда болванки остывали, мы таскали их наружу и складывали как дрова.
Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку быстро погрузить в расплавленный чугун и так же быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.
Таяние то усиливалось, то останавливалось, благодаря заморозкам. В середине апреля, взяв расчет, я отправился в Пашийский завод вместе с двумя рабочими. Шел слух, что на лесных заводских рубках можно хорошо заработать, если же дождаться так называемой «скидки дров» в горную речку (за что платилось от пятнадцати до сорока копеек с погонной сажени, при длине полена полтора аршина, то («если не жалеть себя!») можно в три-четыре дня заработать двадцать, тридцать и больше рублей.
Я забыл сказать, что уже ранней весной очень много крестьян отправились с приисков и заводов в свои губернии, на полевые работы. Все они за зиму скопили десятку, а то и двадцать-тридцать рублей денег, хотя таких «богачей» было, конечно, мало; шли они к железной дороге группами, потому что бродяги подстерегали и убивали одиноко идущих.
В Пашийском заводе, вокруг которого расположилось большое село, мои спутники отделились; один встретил землячка и пошел с ним работать на домну, второй спутник, получив в конторе задаток, запьянствовал, а я был послан рубить дрова. Проехав сколько-то километров железной дорогой, я пешком прибыл на берег лесной речки, где стоял деревянный дом — лавка и жилье табельщика с его семьей.
Отдохнув, выпив чаю, я получил топор, двухручную пилу, четыре железных клина, фунт кирпичного чая, три фунта сахара, двадцать фунтов пшеничного и десять черного хлеба; новый жестяной чайник, фаянсовую кружку, напильник для точки пилы и полфунта «легкого» асмоловского табаку; фунт соли и десять фунтов солонины, еще мешок — тащить поклажу. Все это, кроме инструментов, было мне записано в кредит, в счет работы.
Табельщик рассказал, как найти назначенное мне в лесу жилье дровосеков, и, порядочно поплутав, уже к сумеркам я увидел стоящее под тысячелетним кедром (разветвления его сами по себя достигали толщины старых деревьев, а ствол превышал метр в поперечнике) очаровательно глухое бревенчатое жилье с низкой дверью и железной трубой.
Измученный тяжестью поклажи, я толкнул ногой дверь. Она была не заперта. В бревенчатой хижине никого не было, но на столе, поставленном перед железной печкой, в проходе меж узких нар, возле стен, остались следы жизни: недопитая бутылка водки, кружка, хлеб и пачка махорки. Разное тряпье — онучи одежда валялись на одной наре. В углу стояло шомпольное ружье. Как мне об’яснил табельщик, в этой избе живет только один дровосек — Илья, и я решил, что попал куда надо. Действительно, скоро ввалился в избу огромный рыжий мужик, добродушный геркулес с рыжей бородкой, толстыми губами и глазками-щелками. Его звали Ильей, а потому я успокоился. Мы развели огонь, стали варить мясо, пить чай и разговаривать.
На другой день, когда пришел табельщик и отвел мне участок, Илья на деле показал все приемы рубки.
Стояло морозное утро. Оставшийся местами снег, толщиной около четверти метра, покрылся твердым, но ломким настом; ноги мои беспрерывно проваливались, лапти были набиты снегом. Выйдя рано утром, я дрожал. Через час от меня валил пар, и рубаха стала мокрой.
Свалив дерево, я обрубал сучья, отмеривал по стволу метровые расстояния и распиливал ствол на части, начиная с толстого конца. Затем колол эти круглыши, вгоняя с сделанную на конце обрубку топором трещину клинья один за другим, пока круглыш не распадался. Для очень толстых деревьев я вытесывал добавочные составные клинья.
За куб дров завод платил шесть рублей сорок копеек. Только очень опытные дровосеки могли делать полкуба в день, и то в том случае, если попадался хороший участок: сплошь сосновый, толстоствольный и без поросли, очень затрудняющей носку и складыванье дров.
Работа оказалась неимоверно тяжелой, так что я много раз бегал в хижину, — то переобуться, то отдыхать и пить чай. Мои ноги были всегда мокры к вечеру, лапти сушились над печкой.
А гигант Илья, выйдя до рассвета, возвращался в потемках, сделав свои пол-куба как детскую игру. Он еще был в состоянии печь, как он это называл, «пельмени», но на деле просто плоские пироги из пресного теста с сырым мясом. От этих плохо пропеченных пирогов у меня происходило расстройство желудка, но Илья, напившись (именно напившись, как воды) водки, пожирал свою стряпню в огромном количестве и, заблагодушествовав, усердно просил:
— Александра, расскажи сказку!
Илья был моей постоянной аудиторией.
Неграмотный, он очень любил слушать, а я рассказывал, увлекаясь его восхищением. За две недели я передал ему весь мой богатый запас Перро, братьев Гримм, Афанасьева, Андерсена. Когда же запас кончился, я начал варьировать и импровизировать сам, по способу Шехерезады. Стоило посмотреть, как он торопливо понукал:
— Ну, ну… а царь что сказал?
День шел за днем, а работа моя двигалась плохо. Мне попался скверный участок, ель и сосна, но мелкая, а ель, как известно, часто завита внутри штопором, так что раскалывать ее очень хлопотливо. Однако за две недели я нарубил куб и три четверти.
Снег везде сошел. Запахи и сырость весны были тревожны. Дремучий, молчаливый лес окружал меня. Раздавались здесь только отдаленный звук топора Ильи и изредка треск в чаще неизвестного происхождения. Стук упавшей шишки, стук дятла, скачок белки, хвост убегающей лисицы — все это в течение дня как события. Мальчиком я стремился к дикой жизни в лесу, а теперь, еще не понимая разумом, чувствовал, что такая жизнь в сущности мне чужда. Кроме того, у меня не было будущего. Босяк… лесной бродяга… чужой здесь и чужой там.
Речка, бывшая неподалеку, еще не вскрылась, однако сквозь лед начала проступать вода. Я ходил смотреть заготовленные для скидки дрова. По обоим обрывистым берегам, составленные в три-четыре яруса, тянулись на несколько километров высокие поленницы, навезенные сюда еще прошлым летом. Они подступали к самому обрыву. Сброшенные в полую воду, дрова приплывали в заводскую запруду. За ближайший к воде ряд платили десять копеек за прогонную сажень; второй стоил пятнадцать копеек, третий — двадцать пять и четвертый — сорок. Впоследствии, хлынув сюда толпами из окрестных селений, мужики с бабами первый ряд сбрасывали почти мгновенно с помощью рычагов, продвинутых под поленницу, но с другими приходилось труднее, а насколько труднее — расскажу дальше.
Когда сошел весь снег, а лед начал постреливать, в нашу тесную хижину прибрело человек тридцать — мужики, бабы, парни и девушки. Скидка ожидалась со дня на день. Все почти крестьяне приходили семьями.
Лед шел с утра, за ночь он поредел, река поднялась до краев обрыва, и рабочие кинулись занимать участки. Десятник отводил столько, сколько просила каждая группа или семья. Мне дали в общей сложности саженей пятьдесят дальних и ближних дров. На другом берегу тоже засуетились артели, и река в лесу приняла вид битвы: куда ни взгляни, летели, кувыркаясь над ревущим течением, стаи черных поленьев. Я никогда не видел такой исступленной, такой бешеной работы. Передние поленницы были сброшены быстро. Начал таять и к вечеру истаял второй ряд, и тут началась мука над третьим, над четвертым рядами, потому что теперь каждый бросок требовал меткости и основательного размаха.
Летели, кувыркаясь над ревущим течением, стаи черных поленьев
Часть народа летала по берегу, подбирая и сбрасывая в воду недоброшенное. Работающие оставались у реки до конца скидки. Ночью в лесу пылали сотни костров, возле которых отдыхали и ели, но спать никто не ложился три дня, разве самые немощные.
Сильное эхо окрестностей сообщало ночью картине скидки характер дьявольской оргии, особенно когда на красном блеске костров, обвеянные дымом и речным паром, мелькали всклокоченные черные фигуры. Удесятеряя крики, гул ударов о льдины и воду, плещущий шум дров, тысячами летевших сверху в стремительный поток, полный водоворотов, эхо неистовствовало дико и оглушительно. Вверх и вниз по течению работали тысячи людей.
На четвертый день скидки утром я вышел из хижины. В лесу было тихо, Скидка окончилась. Я два дня просидел безвыходно дома, оправляясь после непосильного потрясения зверски тяжелой работы.
Пройдя немного к реке, я услышал странные звуки — вздохи, стоны, шопот и причитанья. Местами кусты шевелились.
Это возвращалась наша партия, человек сто. Мужики шли с трудом, еле волоча ноги, опираясь на палки. Некоторые карабкались на четвереньках. Несколько баб сидело под кустами. Они маялись, качая головой из стороны в сторону или, наваливаясь животами на сложенные руки, тихо ревели. Лица всех были черные, истощенные. Один парень лежал на спине навзничь с открытым ртом, быстро и часто дыша.
Илья сильно исхудал: лицо у него почернело, опухло, но он был доволен, потому что выгнал тридцать рублей.
После скидки я работал три дня с одной партией по сплавке. Рабочие идут с острыми баграми, по обоим берегам речки, сталкивая в воду застрявшие в траве и выплеснутые водой на берег поленья. Иногда возле кустов образуются настоящие заторы. Их расталкивают. Так партия действует до самого завода, — до огромной запруды, где плотно сбившиеся дрова буквально вытесняют воду, и по этому настилу может свободно пройти рота солдат.
С рассвета до вечерней зари я шагал по колено в ледяной воде и не схватил даже насморка. А ведь я два раза лежал в вятской больнице больной суставным острым ревматизмом после пустяковой простуды! Я хорошо помню, что ноги мерзли только в начале дня, потом им становилось горячо. Ночью, ночуя в попутной хижине дровосеков, я заботливо сушил портянки и лапти, — как будто утром мне снова не предстояло проваливаться по колено в трясину и набухший по берегам рыхлый лед.
Плата была рубль в день.
Утром четвертого дня на самодельном плоту отправлялся на завод старик-дровосек, худой и слезливый человек. Он взял меня на плот. Мы проскочили невредимо через десятки кипящих пеной порогов. Задачей старика было сталкивать застрявшие на порогах дрова — целые горы дров. И эта задача была благополучно выполнена.
Выехав в восемь утра, к закату солнца мы были уже в заводе.
КАК ЭТО БЫЛО
БЕРНАРД РИВЕС
Рассказ Анио Каллас (из воспоминаний о 1905 годе)
Перевод с финского Н. В.
Рисунки худ. Жарова
Волна забастовок прокатилась по всему Прибалтийскому краю. Крестьяне, изнывавшие под гнетом помещиков-баронов, отвечали на притеснения погромами и поджогами помещичьих имений. Повстанцы быстро сорганизовались в настоящие боевые отряды и навели ужас на своих вековых угнетателей.
Семьсот лет бароны держали в рабстве «серое стадо», которое теперь осмелилось не только поднять голос в защиту своих прав, но и дерзнуло посягнуть на собственность притеснителей.
Революция 1905 года дала здесь хорошие всходы.
Взбешенные бароны и царские чиновники наводнили Прибалтийский край карательными отрядами. Рекой полилась повстанцев. С необычайной жестокостью истреблялись повстанческие отряды, беспощадно расстреливались все те, на которых падало малейшее подозрение со стороны помещиков и охранников. Но мятежный дух долго еще держался среди крестьян, которые не хотели отказаться от пред’явленных землевладельцам требований.
Поздно вечером в октябре 1905 года карательный отряд, состоявший из конницы, пехоты и артиллерии, численностью более тысячи человек, вошел в деревню Сесвеген. Немедленно было арестовано десять человек во главе с Бернардом Ривесом — лучшим ораторам и непримиримым борцом за свободу.
Бернард Ривес был арестован
Местный помещик — барон Рейхшбах, в доме которого остановился начальник карательного отряда полковник Орлов, особенно враждебно относился к Ривесу за то, что последний осмелился оспаривать старую границу своей земли, вклинившейся в баронский луг.
Вое арестованные, за исключением Ривеса, были, по настоянию приходского священника, высечены розгами и отпущены, так как за ними решительно никакой вины не числилось. Ривеса же держали под арестом. Над ним должен был состояться военно-полевой суд. На этом настаивал сам барон, требовавший сурового наказания для Ривеса.
— Я требую смертной казни для этого негодяя, — сказал барон, — хотя бы в назидание для остальных и для успокоения нашего округа.
Но даже судьи не нашли возможности согласиться на такую чрезвычайную меру за полным отсутствием улик.
— Вы же сами, барон, говорите, что Ривес — прекрасный работник, честный и трудолюбивый… — сказал начальник отряда.
— Да, но он осмелился посягнуть на мою землю, подговаривал крестьян пред’явить мне новые требования, явно невыгодные для меня, угрожал мне в случае моего несогласия. Помимо всего, он не посещает церкви и не причащается.
Местный священник не мог простить Ривесу его безбожия, а потому ни одного слова не сказал в его защиту. Заочная дискуссия в суде была непродолжительна, но все-таки судьи определили арестованному, вместо смертной казни двести ударов розгами. А затем, для видимости, был назначен «суд».
Ривес был высокий крестьянин с резкими чертами лица, окаймленного густой бородой. На вид ему было лет сорок — сорок пять. Голубоватые серые глаза его смотрели вдумчиво и гордо. Он не выказывал ни малейшего признака страха, хотя и не ожидал от суда ничего хорошего. От всей его фигуры веяло мощью.
Хотя приговор был уже готов, но для соблюдения формальностей один из членов суда, знавший эстонский язык, стал опрашивать обвиняемого:
— Ты подстрекал крестьян к забастовке?
— Да.
— Почему ты это делал?
— Потому что условия их работы невозможны.
— Руководил ли ты митингом и принимал ли участие в составлении нового договора?
— Да.
— Почему ты взял на себя роль руководителя в этом деле?
— Потому что я учился в школе два года и счел долгом помочь тем, кто по неграмотности не может постоять за себя.
— Говорил ли ты барону, что если он добровольно не подпишет нового соглашения, то ему все равно придется подписать, только другими чернилами?
— Нет, к угрозам я не прибегал.
— Срывал ли ты святые иконы со стен часовни?
— Нет, я этого не делал.
Хотя все ответы Ривес давал твердым громким голосом, все же в тоне его чувствовалось равнодушие, так как он угадывал, что все это — одна комедия.
Были допрошены несколько свидетелей. Все без исключения хорошо отзывались о Ривесе, называли его честным, добросовестным, трудолюбивым… Единственным противопоказанием было то, что он не посещал церкви и не причащался.
После допроса прочитали приговор. Поняв, что его накажут розгами, Ривес заскрежетал зубами. Глаза его загорелись.
— Я не позволю, чтобы меня пороли, — заявил он со страшным спокойствием.
— Приговор над тобой произнесен, — ответил ад’ютант.
— Я не могу подчиниться такому приговору, я не раб и не позволю пороть себя.
— Знаешь ли ты, что сначала тебя хотели присудить к смертной казни?
Ривес замолчал, пораженный, и посмотрел на ад’ютанта.
— Ты должен благодарить начальника отряда за то, что он заменил смертную казнь двумястами ударов розги. Иди!
Ад’ютант дал знак страже увести Ривеса.
Ривес покачал головой.
— Я не позволю, чтобы меня пороли, — повторил он.
— Взвесь свои слова, — сказал ад’ютант. — Мы можем расстрелять тебя!
— Если нет другого выхода лучше расстреляйте, но пороть себя я не позволю.
Ад’ютант вышел переговорить с командиром отряда.
— Совсем освободить от наказания мы не можем, так как подорвем свой авторитет в глазах крестьян. Предложите ему на выбор: розги или смерть.
Ад’ютант вернулся и сообщил о решении полковника. Ривес молча выслушал его и сказал:
— Лучше смерть.
— Есть у тебя дети?
— Пятеро.
— Тогда, во имя бога, подумай о них, — начал уговаривать его ад’ютант. — Ты видишь, что я хочу тебе добра. Ты очень крепкий человек и легко вынесешь наказанье.
— Боль меня не страшит, — последовал ответ.
— Так в чем же дело? — удивился офицер.
— Я могу умереть, но позволить, чтобы меня пороли — нет, не могу!
— Странно! Но ведь вас всегда пороли! — сказал офицер. — И твоего отца, и деда, и прадеда!
— Да, это правда, нас били всегда, — согласился Ривес. — Но все же я не позволю себя пороть!
— Подумай о детях, несчастный! Пять человек, которые останутся сиротами, без куска хлеба, если тебя расстреляют.
— Пусть лучше вырастут без отца, в нищете, чем будут иметь отца-раба, молчаливое животное. Расстреливай меня…
Желание Ривеса было исполнено.
ЭКРАН «СЛЕДОПЫТА»
МАТЕМАТИК ИЗ СТАЛИ
Эта машина находится в Гамбургском порту. Она вычисляет время и высоту морских приливов. В течение 10–15 часов она вычерчивает 1400 кривых. Даже умеющий быстро вычислять человек должен был бы потратить для этой работы больше года.
50 ЛЕТ ГРАММОФОНА
Когда Эдисону впервые удалось создать машину, воспроизводящую звук человеческого голоса, разговор, выговаривающую слова и фразы — это казалось фантастикой. Смешная, неуклюжая машина хрипела и визжала, но все же сравнительно ясно, настолько ясно, что можно было разобрать, повторяла человеческую речь. Но фантастика эта была довольно убогой: резкий, визжащий звук резал уши, валик, покрытый станиолем, приводился в движение ручкой, которую крутили руками… И все же это было достижением, огромным достижением, давшим толчок к усовершенствованию граммофона.
Было это в 1880 году — 50 лет тому назад.
В течение многих лет совершенствовалась говорящая машина. Станиоль на валике был заменен более мягко передающим звук воском, ручка заменялась различными способами: валик вертелся и при помощи водяных турбин, и пневматическим давлением, а в 1898 году, через восемнадцать лет, аппарат был вделан в станок от ножной машины и валик приводился в движение ногами.
И вот смешная, хриплая машинка, которая вызывала невольную усмешку, на которую так и смотрели в то время — насмешливо улыбаясь очередному чудачеству ученого — постепенно совершенствуется все более и более. Круглый валик заменяется плоскими пластинками, рупорная труба становится меньше и меньше, и наконец вовсе убирается внутрь ящика. Звук достигает абсолютной чистоты и точности; ручка заменяется электрическим штепселем.
За границей граммофон служит исключительно для развлечений. У нас же он приобретает, особенно в последнее время, значительно большее значение. Граммофон у нас не просто развлекатель, не только певец о разбитых сердцах, друг каждого фокстротчика, как на Западе.
Наш граммофон — агитатор, он лектор, он — учитель иностранных языков. СССР — единственная страна, где граммофон получил заслуженное право на гражданство, где его используют в научных целях.
ИСКУССТВЕННАЯ ОВЦА
Искусственная овца, выращивающая вечную шерсть, создается в лаборатории Британской Изыскательной Ассоциации Шерстяной промышленности. Отрезок живой кожи овцы с растущей на ней шерстью пересаживается на вату, пропитанную особым химическим составом, и таким образом получает питание.
Первые опыты дали благоприятные результаты, и лаборатория предполагает добиться выращивания «вечной шерсти» без овцы.
НЕВИДИМЫЕ ОЧКИ
На фотографии изобретенные в Германии специальные стекла, заменяющие очки. Они имеют вид чашечки и прикрепляются между глазным яблоком и веками так, что не тревожат человека, их носящего. Новые «очки» совершенно невидимы.
ФОТОГРАФИЯ МОЛЕКУЛ
Ф. Биттеру — проф. Калифорнийского Технологического Института — удалось недавно сфотографировать молекулы газа, невидимые даже в самый мощный в мире микроскоп Выкачав из стеклянной трубки воздух, Биттер впустил туда незначительное количество газа. Затем сквозь трубку был пропущен сильный электрический ток. Трубка вспыхнула ослепительным светом.
Тогда Биттер придвинул к самой трубке яркую электрическую лампу, а с другой стороны установил микроскоп и фотокамеру. Молекулы, образовавшие кольцеобразные скопления, становились видимы при прохождении сквозь трубку электрического тока. Биттер произвел самый точный подсчет находившихся в трубке молекул и таким образом установил, что кубический дюйм воздуха содержит 400.000.000.000.000.000.000 молекул.
НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Буржуазия непрерывно увеличивает количество полицейских и вооружает их для борьбы с рабочими. В Америке полицейские пользуются газовыми бомбами, броневиками и т. п. Еще одно нововведение сделано в Англии: полиция снабжена карманными радио-аппаратами для связи. Новое изобретение в первую очередь использовано для борьбы с рабочими.
НАД АНТЛАНТИКОЙ В 1910 ГОДУ
Еще сравнительно недавно мировую сенсацию вызвали перелеты через Атлантический океан на цеппелине и аэроплане. Интересно в связи с этим вспомнить неудачную попытку некоего Уолтера Уоллмана пересечь океан на построенном им воздушном корабле «Америка».
Корабль представлял собой удлиненный воздушный шар с двумя моторами и эквилибратором. Это оригинальное приспособление «Америки» — эквилибратор — состоявшее из длинного конца (каната) с привязанным тяжелым грузом, состоявшим из баков с газолином. Баки должны были волочиться по морю, а их громадный вес удерживать дирижабль на определенной высоте.
Отлет из г. Атлантик-сити состоялся в октябре 1910 г.
Первое время полета все шло хорошо, но часа через два «Америка» попала в густой туман. После полудня туман рассеялся, и температура воздуха стала подниматься. Нагревшийся воздушный шар тянул вверх, то и дело выдергивая из воды несколько привязанных к эквилибратору газолиновых баков.
Через 24 часа полета дирижабль, то ныряя, по подхватываемый ветром, яростно рвался вперед, еле сдерживаемый тяжелым эквилибратором. В течение второй ночи дирижабль безнадежно дрейфовал над океаном. Все шансы на благополучное завершение полета исчезли.
Наконец наступил рассвет, и измученные люди с радостью увидели вблизи пароход. Они были спасены. Злополучная «Америка» поднялась и скрылась в облаках.
Только через девять лет — в июле 1919 года — большой английский дирижабль «34» совершил полет из Англии в Сединенные Штаты и обратно. В том же году летчики Алькок и Браун впервые пересекли Атлантику на самолете.
САМОЛЕТЫ БЕЗ ЛЕТЧИКОВ
Каждый день газеты приносят все новые сведения о бешеной подготовке к войне империалистических государств. Все завоевания техники, достижения науки — сейчас же приспосабливаются для военных целей. На фотографии — отряд самолетов американской армии, управляемый по радио. Ни на одном самолете нет ни одного человека. Судя но фотографии — точность управления большая, потому, что самолеты расположены близко один к другому и летят низко (что труднее, чем полет на высоте).
ЦЕППЕЛИН НА КОЛЕСАХ
В Ганновере (Германия) была произведена пробная поездка нового поезда с пропеллерной тягой. Поезд, имеющий обтекаемую форму, уменьшающую сопротивление воздуха, развил среднюю скорость в 160 километров в час.
ИЗ ВЕЛИКОЙ КНИГИ ПРИРОДЫ
РАСТЕНИЯ-АРТИЛЛЕРИСТЫ
Снег давно сошел. Могучий мир пышной зелени растений буйным покровом изукрасил обновленную землю. Жадно тянется к живительному солнцу многомиллиардная армия растений. Где только они не приютились: среди сырых болот и на поемных лугах, по влажным перелескам и опаленным суховеями степям, на крутизне скалистых ущелий, в промерзлой почве крайнего севера или на благодатном красноземе, тропиков, — всех местностей не перечесть..
Трудно представить, сколько надо приспособлений укоренившемуся растению, чтобы победить соперников в неравной борьбе за существование и оставить после себя потомство. Поэтому существует немало растений, которые выработали своего рода «оружие» для защиты от неблагоприятных условий.
Одним из наиболее своеобразных растений-артиллеристов является, например, бешеный огурец. В диком виде это растение встречается у нас в Крыму и в южной Европе, где также разводится для медицинских целей. По внешнему виду плод бешеного огурца очень похож на настоящий огурец. При созревании семян окружающая их мякоть превращается в слизистую жидкость. К этому времени в стенках плода разрастаются особые клетки, которые производят сильное давление на слизистое содержимое. Наконец огурец отрывается от плодоножки. При этом через отверстие, — огурец соединялся с плодоножкой, — наружу с громким треском вылетает слизистое вещество вместе с семенами. Напор в этот момент настолько стремительный, что струя семян и слизи в состоянии брызнуть более, чем на 6–8 метров.
Неожиданный взрыв такой растительной гранаты производит громадное впечатление на проходящего человека или животное. Обыкновенно животные пускаются в паническое бегство, ко в то же время далеко переносят приставшие к шерсти семена.
К числу растений-бомбардиров относится встречающаяся по тенистым еловым лесам заячья кислица (Oxalis acetosella). Когда созреют плоды этого интересного растения, то коробочка растрескивается, и семена обнажаются. Затем края коробочки скручиваются, и семена с огромной силой выбрасываются на расстояние более метра от растения. Если семена кислицы выставить на ладони и подышать на них или подержать на солнце, то они начинают сами собой забавно подпрыгивать. Подобное явление об’ясняется высыханием наружной оболочки семян кислицы, от чего они приходят в движение.
Очень интересно спиральное скручивание бобов у мотыльковых растений, похожее на завитой локон. Такое приспособление особенно важно в лесах, где сила ветра уменьшается. В конце лета в сухие жаркие дни возле зарослей кустарниковой желтой акации (родом из Сибири) бывает слышно характерное потрескивание. Оказывается, эту своеобразную «пальбу» открывают бобы акации, которые при раскручивании с силой выбрасывают по сторонам созревшие семена. Если подойти ближе к кусту акации, то можно получить довольно чувствительный удар в лицо. К травянистым растениям, разбрасывающим семена, относятся растущие по лесам и кустарникам сочевичник весенний, чина гороховидная, дрок, ближе к жилью человека — горошек заборный (Vicia sepium), наши огородные мотыльковые и целый ряд других растений.
Оригинальным «обстрелом» обладают плоды фиалки (Viola elatior). Созревший плод фиалки раскрывается тремя створками — лодочками, наполненными семенами. Из этих лодочек при ссыхании краев выскакивают семена, как, например, выскальзывает косточка вишни между зажатыми пальцами.
По влажным лугам, болотам и лесным опушкам произрастает травянистое растение — герань, или журавельник. Растение получило название за сходство плодов с журавлиным клювом. Каждая створка закручивается кверху, оставаясь в соединении с главной осью плода. Подобное окручивание очень похоже на действие пружины, и семена выскакивают особенно далеко в жаркую погоду. Любопытный метательный снаряд журавельника имеет большое сходство с «пращой».
Похожим действием обладают плоды сочного растения недотроги, произрастающего по сырым лесам и близ воды. При дуновении ветра или толчке со стороны животного и птицы плоды недотроги спирально закручиваются внутрь своими пятью створками. Выброшенные в этот момент семена пристают к животному и таким путем разносятся.
Раскачивание ветром плодов на сухих стеблях оказывает большую пользу многим растениям в деле распространения семян. К подобным растениям можно отнести синие колокольчики, гвоздики, а также во множестве растущие по южным степям красные маки-самосейки и тюльпаны.
И. Брудин.Ответственный редактор И. Я. Свистунов
Заведующий редакцией И. А. Уразов
Примечания
1
Монашеский.
(обратно)2
Противник в споре, иногда в смысле— враг.
(обратно)3
Первый спас—1 августа по ст. стилю.
(обратно)4
Замятье — бунт, восстание.
(обратно)5
Пластинчатые латы.
(обратно)6
Караулы.
(обратно)7
Сегодня ночью.
(обратно)8
Выдает.
(обратно)9
Конный бирюч — глашатай, герольд в старину.
(обратно)10
Граней.
(обратно)11
Соборовали — совещались
(обратно)12
Остроги — шпоры.
(обратно)13
Горний пир — свадебный обед в доме молодых.
(обратно)14
Джиг — паразит, подлинный бич Западной Африки, куда он занесен из Бразилии. Проникает преимущественно в пальцы ног и кладет яйца под кожей.
(обратно)
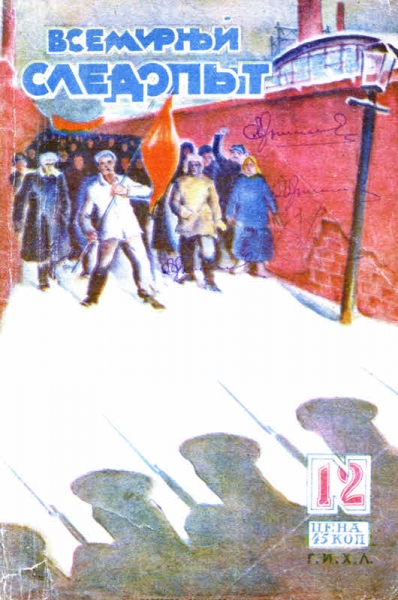




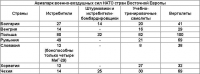

Комментарии к книге «Всемирный следопыт, 1930 № 12», Михаил Ефимович Зуев-Ордынец
Всего 0 комментариев