СБОРНИК ФАНТАСТИКИ Из журнала «ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ» 1959-60
*
© Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия»
© «Техника — молодежи», 1960
Валентина Журавлева ЗВЕЗДНЫЙ КАМЕНЬ
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 1, 1959
Рис. Р. Авотина
В этом номере мы печатаем научно-фантастический рассказ В. ЖУРАВЛЕВОЙ из города Баку. Жизненный и творческий путь молодого литератора еще невелик. Не так уж давно Валентина Николаевна окончила Бакинский медицинский институт. Она комсомолка, готовится к работе над диссертацией на тему «Лекарственные растения Азербайджана».
В. Журавлева написала за 1956–1958 годы пять научно-фантастических рассказов.
Валентина Николаевна и дальше намерена работать в трудном, но весьма важном и любимом молодежью жанре научной фантастики.
Пять веков назад около города Энзисгейма на Верхнем Рейне упал метеорит. Его приковали цепями к стене церкви, чтобы дар небес не был взят обратно. Искусный гравер выбил на нем надпись: «Об этом камне многие знают многое, каждый что-нибудь, но никто не знает достаточно».
Думая об истории Памирского метеорита, я невольно вспоминаю эти старинные слова. Да, мне многое известно о нем, пожалуй, больше, чем кому бы то ни было. Многое, но далеко не до конца. И все же главное, основное я помню отчетливо. Так отчетливо, как будто бы это случилось только вчера.
Я помню, как полгода назад в газетах впервые промелькнуло сообщение о падении в районе Памира крупного метеорита. Сообщение было коротким — несколько скупых строчек, но оно сразу же заинтересовало меня.
Казалось бы, что интересного для биохимика в падении метеорита? Однако мы, биохимики, с волнением следим за каждым сообщением о метеоритах. В осколках «небесных камней» мы ищем разгадку возникновения жизни на Земле. Говоря менее романтично, но более точно, изучаем углеводороды, содержащиеся в метеоритах.
В газетах появилось второе сообщение о Памирском метеорите. Экспедиции удалось разыскать его и на вертолете спустить с высоты четырех тысяч метров. Метеорит, указывалось в сообщении, представлял собой каменную глыбу длиной около трех метров и весом свыше четырех тонн.
Я подумал, что утром надо позвонить Никонову. Но — случаются же такие совпадения! — именно в этот момент раздался телефонный звонок. Я снял трубку — это был Никонов.
Следует сказать, что Евгений Федорович со школьных времен отличался хладнокровием и выдержкой. Никогда еще, — а мы знали друг друга почти полвека, — я не видел его взволнованным или потерявшим самообладание. Но на этот раз уже по первым словам — отрывистым, путаным, по голосу — сдавленному и лихорадочному — я понял: произошло нечто совершенно необыкновенное.
Нужно срочно, немедленно, как можно скорее приехать в Институт астрофизики — таков был смысл слов Никонова.
Я вызвал машину.
Она понеслась по опустевшим улицам. Моросил дождь. Цветные огни реклам и вывесок отражались в мокром зеркале асфальта. Я думал о тех, кто не спит в этот поздний час. О тех, кто в окуляре микроскопа, за хрупким стеклом колб, на бумаге, исписанной длинными рядами формул, ищет Новое. Я думал об удивительной судьбе открытий: сегодня еще никому не известные, они завтра властно врываются в жизнь, меняя и перекраивая ее.
В окнах многоэтажного здания Института астрофизики горел свет. Еще не зная, в чем дело, я подумал, что это связано с Памирским метеоритом. Впрочем, что могло быть особенного, необычного в метеорите?
А институт гудел как потревоженный улей. По коридорам сновали сотрудники — взволнованные, сосредоточенные; из приоткрытых дверей доносились оживленные голоса.
Я прошел к Никонову.
Евгений Федорович встретил меня на пороге своего кабинета. Должен признаться, что до этого момента я не придавал особого значения случившемуся. В конце концов мы, ученые, склонны иногда преувеличивать свои удачи и неудачи. Когда после долгих попыток удавалось осуществить какую-нибудь реакцию, у меня тоже появлялось желание поднять на ноги всю Москву.
Но Никонов… Только тот, кто знал выдержку Евгения Федоровича, мог понять, насколько он был взволнован.
Евгений Федорович не ответил на мое приветствие, только крепко пожал руку. И от этого пожатия, быстрого, нервного, его волнение передалось мне.
— Памирский метеорит? — спросил я, догадываясь, какой будет ответ.
— Да, — ответил Никонов.
Евгений Федорович достал пачку фотографий и веером разложил передо мной. Это были снимки метеорита. Я принялся их рассматривать, ожидая увидеть… Нет, нет, разумеется, я не знал, что именно увижу. Но был уверен — нечто исключительное.
К моему удивлению, метеорит выглядел так, как десятки других, виденных мною в натуре и на снимках метеоритов. Веретенообразная каменная глыба, ноздреватая, с оплавленными краями…
Я протянул снимки Никонову. Он покачал головой и сказал глухим, каким-то чужим голосом:
— Это не метеорит. Под каменной оболочкой — металлический цилиндр. В нем живое существо.
Сейчас, когда я как бы со стороны оглядываюсь на события той ночи, мне кажется странным, что я долго не мог понять Никонова. А между тем все было достаточно просто. Впрочем, именно эта простота и создавала ощущение нереальности, неправдоподобия, мешавшее мне сразу понять Евгения Федоровича.
Метеорит оказался космическим кораблем. Каменная оболочка имела небольшую толщину — что-то около семи сантиметров, — прикрывала цилиндр, сделанный из плотного темного металла. Евгений Федорович предполагал (в дальнейшем это подтвердилось), что каменная оболочка предназначалась для защиты от метеоритов и опасного перегрева. То, что я принял за ноздреватость и пористость камня, на самом деле было следами столкновения с метеоритами. Судя по обилию этих следов, космический корабль много лет находился в полете.
— Если бы цилиндр был сплошным, — говорил Никонов, машинально перебирая фотоснимки метеорита, — он весил бы не меньше двадцати тонн. А его вес без каменной оболочки немногим больше двух тонн. От цилиндра в трех местах отходят тонкие провода. Они оборваны. По-видимому, при падении сломались какие-то приборы, расположенные вне цилиндра. Гальванометр, подсоединенный к обрывкам проводов, показал слабые электрические импульсы…
— Но почему обязательно живое существо? — возразил я. — В цилиндре могут быть автоматически действующие приборы.
— Нет, это исключено, — быстро ответил Никонов. — Он стучит.
Я не понял.
— Кто стучит?
— Тот, кто внутри цилиндра. — Голос Никонова дрогнул. — Понимаешь, когда подходят люди, он начинает стучать. Каким-то образом он видит…
Зазвонил телефон. Никонов схватил трубку. Я видел, как тень пробежала по его лицу.
— Цилиндр прощупывали ультразвуком, — сказал он, медленно опуская трубку на рычаг телефона. — Металл имеет толщину меньше двадцати миллиметров. Внутри металла нет…
Только теперь мне пришло в голову самое естественное возражение. Цилиндр совсем невелик — как в нем могут поместиться живые существа? Ведь им нужно не только пространство, но и продукты, вода, какие-то приборы для поддержания постоянной температуры, для регенерации воздуха. Разве можно все это разместить в цилиндре длиной менее трех метров и диаметром около шестидесяти сантиметров?
Выслушав меня, Никонов оказал:
— Минут через пятнадцать мы пройдем и посмотрим сами. Я жду еще кое-кого. Цилиндр сейчас устанавливают в герметизированной камере.
— Ну, а как с живым существом? — настаивал я. — Согласись, что версия эта нереальна. Людей там быть не может.
— Люди — это как понимать? — опросил Никонов.
— Ну, разумные существа.
— С руками и ногами? — Евгений Федорович впервые улыбнулся.
— Пожалуй, — ответил я.
— Таких людей в корабле нет, — Никонов подчеркнул слово «таких». — Есть мыслящие существа. Но как они выглядят — трудно сказать.
Я не мог с этим согласиться. Достаточно вспомнить, как европейцы до эпохи великих географических открытий представляли себе жителей неизвестных стран. Каких только уродов не рисовало тогда воображение географов: шестирукие люди, люди с собачьими головами, карлики, великаны… А оказалось, что и в Австралии, и в Америке, и в Новой Зеландии люди устроены так же, как и в (Европе. Общие условия жизни, общие закономерности в развитии приводят к одинаковым результатам.
— Общие закономерности в развитии? — переспросил Никонов. — Это в определенной степени верно. Но откуда ты взял общие условия Жизни?
Я объяснил: существование и развитие высших форм белкового вещества мыслимо только в очень узких пределах температуры, давлений, лучевого воздействия. Отсюда можно сделать вывод о сходных путях эволюции органического мира.
— Дорогой друг, — сказал Никонов, — ты академик, ты крупнейший биохимик, ты самый большой авторитет в области биохимического синтеза, — он шутливо поклонился, и я узнал в нем прежнего Никонова, всегда спокойного и чуть-чуть иронического. — Словом, пока ты говоришь о синтезе белков, я полностью согласен. Но человек, умеющий отлично делать кирпичи, не всегда разбирается в архитектуре. Ты не обижайся…
Я не обиделся. Откровенно говоря, мне никогда не приходилось серьезно задумываться над итогами эволюции органического мира на других планетах. В конце концов это действительно не моя область.
— Средневековые представления о песьеголовых людях, — продолжал Никонов, — живущих на краю света, действительно оказались ерундой. Однако на Земле условия жизни, если не считать климата, очень сходны. Да и то в тех случаях, когда они меняются, меняется и человек. В Южной Америке, в Перуанских Андах, на высоте трех с половиной километров живет племя низкорослых индейцев. Их средний вес всего пятьдесят килограммов, но объем грудной клетки и объем легких в полтора раза больше, чем у европейцев.
Как видишь, организм приспособился к условиям существования в разреженной атмосфере, приспособился ценой значительного изменения внешнего облика. А теперь подумай о том, как сильно могут отличаться от земных условия жизни на других планетах. Прежде всего сила тяжести. О ней ты почему-то забыл. На Меркурии, например, сила тяжести в четыре раза меньше), чем На Земле. Если бы на Меркурии существовали люди, им вряд ли потребовались бы развитые нижние конечности. А на Юпитере сила тяжести значительно больше, чем на Земле. Как знать, может быть, при таких условиях эволюция Позвоночных и не привела бы к вертикальному положению тела?
Здесь в рассуждениях Евгения Федоровича была брешь, и я не преминул ею воспользоваться.
— Дорогой друг, — сказал я Никонову, — ты профессор, ты крупнейший астрофизик, ты самый большой авторитет в области спектрального анализа звездных атмосфер. Словом, пока ты говоришь о планетах, я полностью согласен. Но человек, умеющий отлично делать кирпичи… В общем ты забыл, что руки должны быть свободными: иначе невозможен труд, создавший в конечном счете человека. А при горизонтальном положении туловища все четыре конечности нужны для опоры.
— Нужны. Но почему четыре — это предел?
— Шестирукие люди?
— На планетах с большой силой тяжести развитие позвоночных скорее всего пойдет по такому пути. Но, кроме силы тяжести, существуют и другие факторы. Огромное значение имеет, например, состояние поверхности планеты. Если бы Земля постоянно была покрыта океаном, эволюция животного мира шла бы совсем в другом направлении.
— Русалки? — съехидничал я.
— Возможно, — невозмутимо ответил Никонов. — Вполне возможно, что появились бы и русалки. Жизнь в океане непрерывно развивается, хотя и значительно медленнее, чем на суше. Общим для всех разумных существ, где бы они ни жили, должен быть развитый мозг, сложная нервная система, наличие приспособленных к местным условиям органов труда и передвижения. О внешнем облике только на основе этих соображений судить, как видишь, трудно.
— Но все-таки, — не сдавался я, — не исключено, что на планетах, похожих на Землю, живут и разумные существа, похожие на людей.
— Не исключено, — согласился Никонов. — Но крайне маловероятно. Ты скинул со счетов еще один важный фактор — время. Облик человека не есть что-то постоянное. Десять миллионов лет назад наши прапредки имели хвост, вытянутую морду. А как будет выглядеть человек еще через десять миллионов лет? Смешно предполагать, что облик человека впредь будет оставаться неизменным. Ты говорил о сходных планетах. Безусловно, сходные планеты есть. Но ничтожно мало шансов, что эволюция разумных Существ на этих планетах совпадает и во времени… Словом, друг мой, прав был Шекспир, сказавший устами Гамлета: «Горацио, на свете много есть такого, что нашим мудрецам не снилось…»
Мне трудно точно восстановить в памяти этот разговор с Евгением Федоровичем. Нас то и дело прерывали: звонили телефоны, в кабинет приходили сотрудники, Евгений Федорович поминутно смотрел на часы… Но сам разговор представляется мне сейчас весьма знаменательным. Мы были смелы в своих предположениях, но насколько же действительность оказалась смелее!
Сейчас мне все кажется простым. Если корабль прилетел из другой планетной системы, если он пересек безбрежный космос, значит там, на неведомой планете, Знание далеко шагнуло вперед, так далеко, что нам на Земле пока еще трудно представить. Уже одно это соображение должно было заставить нас не спешить с выводами…
Разговор был прерван появлением академика Астахова, специалиста по астронавтической медицине. К моему удивлению, едва переступив порог, Астахов спросил:
— Двигатель? Какой у них двигатель?
Он стоял у двери с рукой, приложенной к уху.
Признаться, я мысленно выругал себя: почему мне не пришло в голову спросить о двигателе? Ведь это сразу пролило бы свет на множество вопросов: каков уровень развития прилетевших существ, как далеко они летели, сколько времени находились в космосе, какие ускорения переносит их организм…
— Двигателя на корабле нет, — сказал Никонов. — Под каменной оболочкой находится совершенно гладкий металлический цилиндр.
— Вот как, — произнес Астахов. На минуту он задумался. Лицо его выражало крайнее удивление. — Но в таком случае… Это значит, что у них гравитационный двигатель. Они управляют тяготением.
— По-видимому, так, — кивнул Евгений Федорович. — Таково и мое мнение.
— Почему? Разве тяготением можно управлять?
— В принципе, безусловно, можно, — ответил Евгений Федорович. — В природе нет такой силы, которую человек бы не смог в конце концов понять и покорить. Это вопрос времени. Пока, нужно признаться, мы чертовски мало знаем о тяготении. Знаем закон Ньютона: любые два тела притягиваются с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния. Знаем, хотя и теоретически, что тяготение распространяется со скоростью света. Ну, и, пожалуй, все. А вот в чем причина тяготения, какова его природа — нам неизвестно.
Снова зазвонил телефон. Евгений Федорович поднял трубку, коротко ответил:
— Идем… Нас ждут, — сказал он.
Мы вышли в коридор.
— Некоторые физики предполагают, — говорил Никонов, — что в телах имеются особые частицы тяготения — гравитоны. Я вообще не убежден в достоверности этой гипотезы. Но если она верна, тогда размеры гравитонов должны быть во столько раз меньше размеров атомных ядер, во сколько раз атомные ядра меньше обычных тел. В столь тесных областях энергия сконцентрирована неимоверно сильнее, чем в ядре атома.
Крутая винтовая лестница вела вниз, в подвалы института. Мы спустились по лестнице, прошли по узкому коридорчику. У массивной металлической двери нас ожидала группа сотрудников. Кто-то включил мотор, и дверь медленно пошла в сторону.
Так я впервые увидел космический корабль. Он лежал на двух опорах — металлический цилиндр из темного, очень гладкого металла. Каменная оболочка, во многих местах треснувшая при падении, была снята. С одной стороны цилиндра, у основания, свисали три тонких провода.
Евгений Федорович, ближе всех стоявший к цилиндру, сделал шаг вперед, и мы услышали стук, внутри цилиндра кто-то издавал неясные звуки, далекие от ритма машин. У меня мелькнула мысль, что в корабле могли быть и не люди: помещаем же мы в свои экспериментальные ракеты обезьян, собак, кроликов.
Никонов отошел к двери, «и стук прекратился. В наступившей тишине отчетливо слышалось чье-то простуженное дыхание.
Не знаю, как другим, но мне и в голову даже не приходили мысли о новой эпохе, в которую вступает наука. Только впоследствии я вспомнил эту картину; и тогда она навеки врезалась мне в память.
Представьте себе невысокое помещение, залитое ярким электрическим светом. В центре — темный, до блеска отполированный цилиндр. Столпившиеся у двери люди очень взволнованы, с какими-то застывшими от напряжения лицами..
Мы приступили к работе. Инженерам предстояло определить, что находится внутри цилиндра. Астахову и мне — обеспечить двойную биологическую защиту: живых существ, находящихся в цилиндре, от земных бактерий, а людей — от бактерий, могущих быть внутри космического корабля.
Я затрудняюсь сказать, как именно решали свою задачу инженеры. У меня не было времени следить за их работой. Помню только, что цилиндр просвечивали ультразвуком и гамма-лучами. Мы с Астаховым занялись биологической защитой. После долгих споров (с глуховатым Астаховым нелегко было договориться) решили все работы по вскрытию цилиндра вести с помощью «механических рук» — рычажного устройства, управляемого на расстоянии. Герметически закрытую камеру, в которой находится корабль, предполагалось обработать сильными ультрафиолетовыми лучами.
Мы торопились. Совсем рядом погибало живое существо, и мы должны были ему помочь.
Все, что можно было сделать, мы сделали.
«Механические руки», вооруженные атомарно-водородной горелкой, с величайшей осторожностью разрезали металл, открыв доступ к приборам космического корабля. Сквозь узкие, прикрытые стеклом прорези в бетонной стене мы наблюдали за безукоризненно точными движениями громадных «механических рук». Медленно, сантиметр за сантиметром резал огонь неизвестный упрямый металл. Потом «механическая рука» подхватила отделившееся основание цилиндра.
Живых существ в космическом корабле не оказалось. Но живая материя была. В центре цилиндра находился гигантский пульсирующий мозг.
Я говорю «мозг» весьма и весьма условно. В первое мгновение то, что я увидел, показалось мне точной копией— только сильно увеличенной — человеческого мозга. Однако, приглядевшись, я сразу понял ошибку. Это была только часть мозга. В ней, как выяснилось позднее, отсутствовали все те отделы, все те центры, которые ведают чувствами, инстинктами. Более того, из многих «мыслительных» центров настоящего мозга здесь было только несколько, но зато увеличенных в десятки раз.
Сели говорить строго, это была нейронно-вычислительная машина, в которой электронные диоды и триоды заменены живыми клетками мозгового вещества. И самое главное — искусственного мозгового вещества. Я догадался об этом сразу по многим мелким признакам, и впоследствии эта догадка подтвердилась.
Где-то там, на неведомой планете, наука далеко обогнала земную. Мы с трудом синтезируем обрывки простейших белковых молекул. На неизвестной планете умели синтезировать высшие формы органического вещества. К их синтезу в конечном счете стремится и наша земная биохимия. Но насколько она еще далека от решения этой задачи!
Должен признаться, что для всех нас было величайшей неожиданностью то, что мы увидели внутри космического корабля. За единственным исключением: Астахов нисколько не удивился.
И первым обрел дар речи.
— Ага! — воскликнул он. — Я же предсказывал! Извольте вспомнить, что я писал два года назад… Межгалактические расстояния для человека непреодолимы, в такое путешествие может уйти только корабль с автоматическим управлением. Ав-то-ма-ти-чес-ким! Но каким? Электронные машины? Нет и нет! Сложно, почти невыполнимо. Нет! Здесь нужна самая совершенная система — мозг… Два года назад я писал об этом. И некоторые биохимики не изволили согласиться.
Да, не изволили! Я писал: для межгалактических перелетов нужны биоавтоматы, способные к регенерации клеток…
Астахов был прав. Два года назад он действительно опубликовал статью, в которой высказывал такие идеи. Мне они, признаться, показались слишком фантастичными. И все-таки Астахов оказался прав. Он заглянул «перед на многие столетия и предсказал синтез высшей формы материи — мозгового вещества.
Надо признать, узкие специалисты обычно плохо предсказывают будущее. Слишком привыкают они к тому, над чем работают сегодня. Есть сейчас автомобили — значит, и через сто лет будут автомобили, только более быстрые. Есть сейчас самолеты — значит, и через сто лет будут самолеты, только более скоростные. Увы, эти предсказания стоят немногого! И со стороны часто лучше видны контуры Нового.
Иногда это Новое кажется невероятным, несбыточным, невозможным. Но оно свершается! В свое время Генрих Герц, первым исследовавший электромагнитные колебания, отрицательно ответил на вопрос о возможности осуществления беспроволочной связи. А спустя несколько лет Александр Попов создал радио.
Да, я не верил тому, что писал Астахов. Чтобы создать биоавтоматы, нужно решить сложнейшие задачи: синтезировать высшие формы белкового вещества, научиться управлять биоэлектронными процессами, заставить совместно работать живую и неживую материю. Все это представлялось мне весьма и весьма фантастическим. Но Новое, пусть даже созданное людьми другой планеты, властно ворвалось в жизнь, утверждая великую истину: нет и не может быть предела развитию науки, нет и не может быть предела самым дерзновенным замыслам. Мы не знали состава атмосферы внутри цилиндра. Как отразится на искусственном мозге переход в нашу земную атмосферу?
У приборов, у компрессоров, у баллонов со сжатыми газами замерли в ожидании люди. Все было готово к тому, чтобы как можно скорее скорректировать состав воздуха в камере. Но едва только цилиндр был открыт, как приборы сообщили: атмосфера внутри корабля на одну пятую состоит из кислорода и на четыре пятых — из гелия, давление на одну десятую больше земного. Мозг по-прежнему пульсировал; пожалуй, только чуть-чуть быстрее.
Завыли компрессоры, поднимая давление в камере. Первый этап работы был благополучно завершен.
Я поднялся наверх, в кабинет Евгения Федоровича. Придвинул кресло к окну, поднял шторы. За стеклом, оттесняя сумерки, загорались огни. Наступала вторая ночь, а мне казалось, что прошло лишь несколько часов, как я приехал в Институт астрофизики.
Итак, в атмосфере космического корабля было двадцать процентов кислорода — столько же, сколько и в земной атмосфере. Случайность? Нет. Именно при такой концентрации полностью насыщается кислородом гемоглобин крови. Следовательно, устройство космического корабля должно иметь систему кровообращения. А гибель одной части мозга, нарушая кровообращение, неизбежно должна была привести к гибели всего мозга.
Эта мысль погнала меня вниз, к космическому кораблю.
Сейчас, вспоминая наши попытки спасти искусственный мозг, я вновь переживаю ощущение бессилия и горечи.
Что можно было сделать?
Мы смотрели на мозг космического корабля.
Он умирал — этот мозг, созданный людьми другой планеты. Нижняя часть его ссохлась, почернела, и только наверху еще оставалось живое, пульсирующее вещество. Стоило кому-нибудь приблизиться, как пульсация становилась лихорадочной, словно мозг пытался звать на помощь.
Мы быстро разобрались в устройстве, снабжавшем мозг кислородом. Как я и предполагал, дыхание мозга происходило при участии гема — химического соединения, близкого к гемоглобину. Мы сравнительно легко разобрались и в других устройствах — питающих мозг, вырабатывающих кислород, удаляющих углекислоту.
Но приостановить гибель клеток мозга мы не могли. Где-то, на неведомой нам планете, разумные существа синтезировали самую высокоорганизованную материю — мозговое вещество. Они, жители этой планеты, сумели послать искусственный мозг а глубины космоса. Нет сомнения, клетки мозга хранили память о многих тайнах вселенной. Ho раскрыть эти тайны мы не могли. Мозг погибал.
Были испробованы все средства — от антибиотиков до хирургического вмешательства. И ничто не помогло.
Как председатель Чрезвычайной комиссии Академии наук, я вновь опросил своих коллег, асе ли сделано нами.
Это было под утро, в малом конференц-зале института. Ученые сидели уставшие, молчаливые.
Никонов провел рукой по лицу, словно стряхивая усталость, глухо сказал: «Все».
Это короткое слово повторили и остальные.
В течение шести суток, пока еще жили последние клетки искусственного мозга, мы, сменяясь, ни на минуту не прерывали наблюдений. Трудно перечислить все, что мы узнали. «Но самым «интересным было открытие вещества, защищающего живые ткани от лучистой анергии.
Звездный корабль «имел сравнительно тонкую оболочку, легко пронизываемую космическими лучами. Это с самого начала заставило нас искать в клетках биоавтомата защитное вещество. И мы его нашли. Ничтожная концентрация защитного вещества делает организм невосприимчивым к сильнейшим дозам облучения. Теперь мы можем значительно упростить конструкцию проектируемых космических кораблей. Нет необходимости в тяжелых ограждениях атомного реактора — это намного приближает эру атомных звездолетов.
Исключительно интересной оказалась система регенерации кислорода. Колония неизвестных на Земле водорослей весом менее килограмма годами исправно поглощала углекислоту и выделяла кислород.
Я говорю о биологических открытиях. Но, пожалуй, открытия, сделанные инженерами, окажутся еще значительнее. Как и предполагал Астахов, космический корабль имел гравитационный двигатель. Устройство его пока неясно. Но можно твердо сказать: физикам придется во многом пересмотреть свои представления о природе тяготения. За эпохой атомной техники, по-видимому, наступит эпоха техники гравитационной, когда люди овладеют еще большими энергиями и скоростями.
Оболочка космического корабля, как показал анализ, представляет собой сплав титана и бериллия. В отличие от обычных сплавов вся оболочка — единый кристалл. Наши металлы — это, так сказать, смесь кристалликов. Каждый кристаллик очень прочен, но соединены между собой они довольно слабо. Металл будущего — единый, очень прочный кристалл. Такой металл будет обладать новыми, совершенно необычными свойствами. Управляя кристаллической гашеткой, можно менять его оптические свойства, менять прочность, теплопроводность.
И все-таки самое важное открытие — пока еще, впрочем, зашифрованное — связано с искусственным мозгом космического корабля. Три выведенных из цилиндра провода оказались соединенными через довольно сложное усилительное устройство с мозгом. Б течение шести дней чувствительные осциллографы регистрировали токи биоавтомата. Эти токи нисколько не походили на биотоки человеческого мозга. Здесь ясно проявилось отличие искусственного мозга от настоящего. Ведь, по существу, мозг космического корабля был лишь кибернетическим устройством, в котором роль ламп играли живые клетки. При всей своей сложности этот мозг был неизмеримо проще и, если так можно выразиться, специализированнее человеческого мозга. Поэтому его электрические сигналы скорее напоминали шифр, чем запись биотоков человеческого мозга — сложную, с очень тонкой структурой.
За шесть дней были записаны тысячи метров осциллограмм. Удастся ли их расшифровать? О чем они расскажут? Быть может, о путешествии сквозь космос?
Трудно ответить на эти вопросы. Мы продолжаем изучать космический корабль, и каждый день приносит новые и новые открытия.
Пока многие знают об этом камне многое, каждый что-нибудь, но никто не знает достаточно. Однако наступит день, и последние тайны звездного камня будут раскрыты.
Тогда уйдут в безбрежные просторы вселенной земные вестники — корабли с гравитационными двигателями. Их поведут не люди — жизнь человека коротка, а вселенная безгранична. Межгалактическими кораблями будут управлять биоавтоматы. После тысячелетних странствий в космосе, проникнув в отдаленные галактики, корабли вернутся, нес* людям неугасимый свет Знания.
В рассказе В. Журавлевой «Звездный камень» высказывается идея биоавтоматики Ставится задача: «синтезировать высшие формы биологического вещества, научиться управлять влек тронными процессами, заставлять совместно работать живую и неживую материю». В рассказе говорится о таком биоавтомате, являющемся управляющим органом космического корабля, в мотором «роль ламп играют живые клетки».
Возможность синтезирования живой материи нашей философией признается. И тема рассказа Журавлевой имеет в основе как гипотетические, так и научные утверждения. Идея встройки в конструкцию машин специальных биоэнергетических узлов уже занимает умы ученых. И пропаганда этой идеи — большая заслуга автора. Правда, в рассказе есть еще весьма спорные утверждения, в частности о регенерации клеток мозга. При всей заманчивости такой мысли оно пока не находит достаточных подтверждений
Cm. научный сотрудник кандидат биологических наук Л. Л. МАЛИНОВСКИЙ Член бюро секции математической биологии Московского общества испытателей природы С. А. СТЕБАНОВГ. Альтов ПОДВОДНОЕ ОЗЕРО
г. Баку
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 3, 1959
Рис. А. Побединского
Вас привлекает журналистика? Что ж, хорошо. Вы хотите работать в газете? Отлично! Но если вас направят в отдел информации, серьезно подумайте и — главное — проверьте здоровье. В жару, холод, сквозь дождь и ветер вы будете мчаться в погоне за новостями. В течение дня вам придется говорить со строителями, нефтяниками, боксерами, домохозяйками, прокурорами, хулиганами, токарями, артистами… Втиснувшись в переполненный троллейбус и пристроив на чьей-то спине блокнот, вы будете писать корреспонденцию. Догоняя трамвай, вы будете придумывать заголовок. И после всего этого вы увидите, как заведующий отделом с помощью ножниц и клея превратит написанные вами четыре страницы в четыре строчки…
Впрочем, это очень интересно. Особенно в тех (правда, редких) случаях, когда вам говорят: «Нужен очерк». Именно так мне и было сказано утром 30 сентября.
— Нужен очерк, — задумчиво проговорил заведующий отделом, — для воскресного номера. Знаете, что-нибудь такое о перспективах науки, об успехах техники… Семь страничек.
— Срочно? — спросил я.
Вопрос был лишним: не срочно не бывает. Я молча вышел в коридор.
Перспективы науки, успехи техники… Признаться, я не представлял, где можно быстро достать интересный материал. Веселый голос прервал мои размышления.
— Привет, информация! О чем грустим?
Навстречу мне, перепрыгивая через ступеньки, бежал Коля Марченко, сотрудник отдела промышленности.
— Пустяки! — на бегу выслушав мой ответ, заявил никогда не унывающий Коля. — Записывай: поселок Новый, отделение милиции, капитан Рзаев. Все! Приберегал для себя, но чертовски занят!
Коля исчез. Я нерешительно остановился в подъезде. Почему материал по науке и технике находится в отделении милиции приморского поселка?
Сомнения — непозволительная роскошь. На них уходит время. Через минуту я уже мчался по улице, срезая углы и вызывая возмущение шоферов. Трамвай, попутная машина… И вскоре я сидел в кабинете капитана Рзаева. Пожилой, немногословный капитан выслушал мои довольно путаные объяснения и молча положил на стол серую папку.
На четвертой странице я понял: Коля прав. Это был интересный материал. Стоило только…
— Разрешите взять?
— Не могу, — коротко сказал капитан. — Не положено выдавать «дела».
Видимо, взгляд мой был красноречивее слов.
— Пишите расписку, — буркнул капитан.
За час до окончания работы я положил на стол заведующего отделом семь перепечатанных на машинке страниц. Вот материалы, легшие в основу моего очерка.
1. РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА СПАСАТЕЛЬНОГО ПУНКТА № 3 НА ПЛЯЖЕ ПОСЕЛКА НОВЫЙ
«Сего пятого июня текущего года на вверенном мне участке пляжа утонул по причине собственного безобразия неизвестный гражданин. Вышеуказанное случилось при следующих обстоятельствах:
В 20 часов 35 минут, когда пляж почти опустел, в поле зрения дежурного спасателя Минаева А. Г. появился гражданин, одетый в клетчатую рубашку (ковбойка) и белые брюки. При себе гражданин имел рюкзак. Дойдя до границы пляжа, неизвестный полез на скалы, без учета объявления, что там купаться запрещено. На свисток дежурного спасателя Минаева А. Г. неизвестный гражданин не реагировал. Допустив такое безобразие, он разделся, собираясь прыгать в воду. Из-за плохой видимости (сумерки) разглядеть факт прыжка не удалось.
По моему распоряжению дежурный спасатель Минаев А. Г. подал сигнал на лодку, находившуюся в ста метрах от берега. А мы со спасателем Канаевым М. побежали к скалам, взяв легководолазные аппараты «ИСМ».
На месте происшествия было обнаружено: брюки белые одна пара, рубашка клетчатая (ковбойка) одна пара, туфли две штуки, рюкзак один. Неизвестного гражданина на поверхности моря не обнаружено. Приступив к поискам, я и Канаев М. ныряли до темноты. Тела не нашли.
В 21 час 20 минут поиски были прекращены до утра. Мы вернулись на пункт, захватив вышеперечисленные вещи утонувшего, а также тетрадь в синей обложке, найденную под рюкзаком.
Нач. пункта З. Пузырев».2. ВЫПИСКА ИЗ ТЕТРАДИ В СИНЕЙ ОБЛОЖКЕ
«…Во второй половине XX века на карте не осталось «белых пятен». Люди побывали на полюсах, поднялись на высочайшие вершины. И в книгах писали: «Человек — хозяин Земли».
Но человек еще не был хозяином Земли. Мировой океан покрывал свыше 70 % земной поверхности — 361 млн. кв. км из 510. Люди плавали по морям и океанам, а 361 млн. кв. км — дно Мирового океана — оставались почти недоступными.
Люди вылавливали немногим больше 20 млн. т. рыбы в год, а в океане были неисчислимые богатства — 150 тыс. видов животных, 10 тыс. видов растений. Драгоценные и редкие металлы, нефть и уголь, химическое сырье, колоссальные запасы энергии — все это было в океане.
Путь в эту сказочную страну преграждало чудовищное давление воды — и оно оказалось страшнее всяких чудовищ. Когда человек нырял, это еще не ощущалось. Но если бы человек попытался сделать вдох на глубине в 200 м., его грудная клетка должна была бы преодолеть груз в 600 т! А на глубине в 10 960 м — наибольшей глубине, где давление воды достигает почти 1 100 атмосфер, на грудь человека давило бы 33 тыс. т!
Человек, конечно, хозяин Земли. Но глубины океана пока недоступны».
3. ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ Е. КВАЧКИНОЙ, ПЕНСИОНЕРКИ
«Прошу принять меры, потому что вчера вечером я пила чай с кизиловым вареньем и вдруг вижу, как через забор кто-то перелезает, а тут рядом грядки с капустой, и я спустилась с веранды, а он стоит и совсем, значит, без никакой одежды, сам черный, а как увидел меня, так и убег, только грядки истоптал и доску от забора оторвал.
Куда же это милиция смотрит, если разные хулиганы тебе на собственном огороде спокою не дают?
И еще прошу, чтоб водопровод починили, второй день пб воду на колонку хожу.
К сему Евфросинья Квачкина».4. ИЗ КНИГИ УЧЕТА ПРОИСШЕСТВИЙ ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 5 ИЮНЯ
«22 часа 17 минут. Регулировщик старшина Степанюк сообщил по телефону, что неподалеку от поста пробежал негр, одетый в трусики. Никаких мер мною не принято. Считаю сообщение ошибочным.
22 часа 41 минута. Гражданин Карасев Ф. Г. заявляет, что несколько минут назад к нему подошел неизвестный, по-видимому негр, и спросил на русском языке, как пройти на Приморскую улицу. Получив ответ, неизвестный направился в сторону Приморской улицы, а гражданин Карасев Ф. Г. явился в отделение милиции, так как неизвестный, не имея на себе одежды, кроме трусов, показался ему подозрительным.
Оповестил посты с целью проверки данного заявления.
22 часа 58 минут. С поста № 9 14 сообщают: видели неизвестного в трусах. Цвет кожи — черный с белыми полосами.
23 часа 03 минуты. Продавец папиросного ларька № 9 108 сообщил по телефону, что неизвестный в трусах стоит на углу Приморской и Нагорной.
Для проверки документов и возможного задержания неизвестного высланы сержант Козырьков и бригадмилец Спицын.
Дежурный по отделению, младший лейтенант (подпись)».5. ДОКЛАДНАЯ
«…Дойдя до Приморской улицы, мы разделились: сержант Козырьков пошел в сторону клуба, а я направился к санаторию пищевиков. Неизвестный был обнаружен мной метрах в ста от санатория, где цветочная клумба. Сначала мне тоже показалось, что это негр. Но когда я подошел ближе, то увидел, что неизвестный вымазан в нефти и от этого кажется черным. Из одежды действительно имелись только трусы спортивного покроя.
Я предложил ему предъявить документы. Неизвестный рассмеялся и сказал, что документов при нем никаких нет. Я предложил последовать в отделение милиции. Неизвестный вступил в пререкания, утверждая, что ему надо вернуться на какую-то базу.
В этот момент подъехал на машине сержант Козырьков. Увидев, что сопротивление бесполезно, неизвестный согласился последовать в отделение милиции.
После этого гражданин был усажен в кузов автомашины, номерной знак «АФ 26–12», и доставлен в отделение.
Бригадмилец Ник. Спицын».6. ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ГРАЖДАНИНА БРАГИНА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА
Вопрос: Значит, вы не считаете, что ваши действия нарушали общественный порядок, были мелким хулиганством?
Ответ: Нет. В своих действиях я не вижу нарушения общественного порядка.
Вопрос. Почему же вы без одежды ходили по улицам поселка?
Ответ: Потому что моя одежда пропала на пляже.
Вопрос: В таком случае вам следовало бы вернуться к месту жительства, а не разгуливать по улицам.
Ответ: Я не мог отыскать дорогу. Наша экспедиция приехала только сегодня и это был мой первый выход.
Вопрос: Какую экспедицию вы имеете в виду?
Ответ: Экспедицию Института океанологии под руководством профессора Егорова. В этой экспедиции я занимаю должность заместителя начальника.
Вопрос: Назовите место расположения вашей экспедиции или номер телефона.
Ответ: Не помню. Днем я бы еще мог отыскать здание, в котором нас разместили, а сейчас не могу. Номера телефона не знаю.
Вопрос: Где и зачем вы измазались нефтью?
Ответ: Нефтью я запачкался в море, во время спуска под воду. Произошло это случайно.
Вопрос: Вы спускались под воду? Ответ: Да, спускался.
Вопрос: Каким образом и зачем? Ответ: Под воду я спускался в дыхательном аппарате. Спуск связан с выполнением задач нашей экспедиции.
Вопрос: Где сейчас находится упомянутый вами дыхательный аппарат?
Ответ: Я оставил его на пляже, спрятав между скалами.
Вопрос: В начале допроса вы были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. Зачем же вы говорите неправду? Море у пляжа чистое и запачкаться нефтью там невозможно.
Ответ. Я запачкался нефтью под водой, на дне.
Вопрос: Вы продолжаете говорить неправду. Нефть легче воды и плавает на поверхности моря. Вам это известно?
Ответ. Не только нефть, но и газ может находиться на дне моря.
Вопрос: Зачем вы снова придумываете то, чего не может быть?
Ответ: Я бы предпочел вымыться и одеться. А интересующие вас сведения вы можете найти в книге доцента Леонтьева «Физика моря». Если не ошибаюсь, на сто пятой странице…
7. ИЗ КНИГИ ДОЦЕНТА ЛЕОНТЬЕВА «ФИЗИКА МОРЯ», СТРАНИЦА 105
«…Сравнивая жидкости, мы часто говорим «легче воды» или «тяжелее воды». Но одна и та же жидкость может быть и легче и тяжелее воды. На первый взгляд это кажется невозможным.
Представьте себе, что под поверхность моря мы выпустили из сосуда ксенон. Что произойдет? Ксенон, как вы знаете, при нормальных условиях — газ, значительно легче воды. Понятно, что пузырьки ксенона сейчас же всплывут на поверхность. Теперь откроем тот же сосуд на глубине 600 м. Давление воды здесь очень большое. Под таким давлением ксенон сжимается и становится в 1,5 раза более плотным, чем вода. А сама вода сохраняет свою плотность почти неизменной — вода очень мало сжимаема.
Таким образом, ниже определенной глубины ксенон, став тяжелее воды, должен тонуть. А выше — всплывать.
Профессор Егоров назвал такую глубину «критическим порогом».
У воды сжимаемость меньше, чем у всех других жидкостей. Потому теоретически дли каждой жидкости можно определить «критический пороги, выше которого жидкость должна всплывать, а ниже тонуть. Правда, дли большинства жидкостей и газов «критический порог» лежит на глубинах, которые не встречаются в Мировом океане. Например, дли спирта «критический порог» — свыше 50 км. Но есть вещества и со сравнительно небольшим «критическим порогом». Для ксенона, как я уже говорил, «критический порог» не превышает 600 м. Дли бутана — около 900 м. «Критический порог» хлора лежит на глубине около 1,5 км.
Ксенон, бутан, хлор входят в состав природных газов. Такие газы могут выделяться не только на поверхности земли, но и на дне моря. И если выделение происходит ниже «критического порога», они уже не всплывают. Это значит, что где-то на дне морей и океанов могут быть озера ксенона, бутана, хлора…
Открытие профессора Егорова имеет большое практическое значение. Дело в том, что «критический порог» нефти особенно невелик: каких-нибудь 400–500 м, а для некоторых сортов и значительно меньше. Есть основания предполагать, что вблизи вашего побережья на дне моря должны быть большие озера нефти. Если удастся обнаружить эти озера, добыча нефти не представит никаких затруднений. Достаточно будет поднять нефть до «критического порога», как она, расширившись, сама всплывет на поверхность».
8. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Инженер Брагин Олег Павлович действительно является заместителем начальника экспедиции Института океанологии. Задача экспедиции — исследование морского дна у побережья в районе поселка Новый.
Экспедиция прибыла в поселок 5 июня с. г. и расположилась на базе (Приморская, 13). По моему заданию инженер Брагин О. П. в 20 часов направился на пляж с целью выбора места для спусков под воду.
Профессор Егоров, 6 июня».9. ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 7 ИЮНЯ
«Я от души благодарен капитану Рзаеву за чуткое отношение и помощь. Быстро выяснив суть Дела, товарищ Рзаев прервал допрос, начатый излишне старательным дежурным, направил меня в душевую, вызвал врача, достал одежду, а потом помог отыскать базу экспедиции. Вещи мои доставлены со спасательного пункта полностью.
Прошу вас передать прилагаемую тетрадь капитану Рзаеву. Это черновик моей статьи, а капитан, кажется, заинтересовался проблемой глубоководных спусков.
С уважением Брагин».10. ВЫПИСКА ИЗ ТЕТРАДИ В СИНЕЙ ОБЛОЖКЕ
«Известно, что киты, ныряющие на большие глубины, не подвержены кессонной болезни. В 1933 году было установлено, что кровь убитых китов содержит очень мало свободного азота. Оказалось, что в крови китов имеются бактерии, связывающие азот.
Кандидат медицинских наук Кулагин приготовил «препарат К», содержащий активные химические вещества, выделенные из этих бактерий. Прием двух-трех таблеток «препарата К» избавляет водолаза от поражения кессонной болезнью.
Так была решена первая часть задачи.
Оставалось разработать конструкцию дыхательного аппарата, пригодного для спуска на большие глубины.
Тело человека на девять десятых состоит из воды или коллоидных растворов. Вода — практически несжимаема. Значит, тело человека может испытывать давление по крайней мере в сотни атмосфер, почти не изменяясь в объеме. Правда, в человеческом теле есть, так сказать, «пустоты»— легкие, лобные пазухи, среднее ухо. Но если человек дышит воздухом под давлением, равным наружному, внутреннее давление уравновешивает наружное и препятствует сплющиванию тела. Опыты показали, что давление в 300–400 атмосфер не нарушает жизнедеятельности клеток. А это давление соответствует глубинам в 3–4 км.
Итак, большое давление само по себе не страшно, если только водолаз дышит воздухом под таким же давлением. Но именно в этом условии и кроется главная опасность. Уже при 5 атмосферах воздух в 5 раз плотнее, чем на поверхности. С увеличением давления возрастает трение воздуха при дыхании, возрастают усилия, необходимые для вентиляции легких, вдох и выдох превращаются в тяжелую работу. На глубине в 100 м — при давлении в 11 атмосфер — эта тяжелая работа превращается в работу непосильную.
Есть средство простое и надежное. Давление воздуха должно быть равно наружному давлению — эта вековая заповедь водолазной техники ошибочна. Давление воздуха должно быть немного больше наружного при вдохе и немного меньше при выдохе. Тогда воздух пройдет по дыхательным путям не в результате работы быстро устающих дыхательных мышц, а под избыточным давлением.
Этот принцип давно известен медикам. Именно так работают аппараты, применяемые при искусственном дыхании…»
11. ИЗ СТАТЬИ ИНЖЕНЕРА БРАГИНА ДЛЯ АВГУСТОВСКОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ОКЕАНОЛОГИИ»
«Собственно говоря, в мою задачу входила только разведка прибрежной зоны. Но уже в 20 м от берега я обнаружил, что дно круто уходит вниз. Трудно было устоять перед искушением… Я включил глубинный автомат и начал спуск.
Что-то необычное было в мрачном безмолвии подводного мира. Тишина и одиночество действовали угнетающе.
Я нажал кнопку рефлектора, вспыхнул узкий пучок света. В нескольких шагах от меня промелькнула стайка пестрых рыбок.
Скалистое дно опускалось обрывистыми террасами. Они были удивительно однообразны — черные изломанные камни, поросшие рыжеватыми водорослями.
На глубине 60 м водоросли исчезли. В ярком свете рефлектора скалы отбрасывали резко очерченные тени. Это напоминало фантастический лунный пейзаж — только свет и тени без полутонов. Я не чувствовал нарастающего давления воды, Аппарат работал безотказно — дышалось легко, без всякого напряжения.
Внезапно погас свет. Я потерял ориентировку. Мир мрака и безмолвия был еще и миром без тяжести. Не знаю, поднимался я или опускался.
Наверное, это продолжалось всего несколько секунд. Я включил резервную батарею. Вспыхнул свет, и жуткое состояние оцепенения исчезло. Его сменило какое-то буйное веселье. Хотелось петь, кричать…
На глубине в 300 м я увидел слабый свет — фосфоресцировали микроорганизмы. Это было похоже на светящееся облако. Я прошел сквозь него, и опять наступила тьма.
Скалы сменились пологим песчаным дном. Я плыл метрах в трех от дна, стараясь экономить силы.
Прошло не меньше часа. Я почувствовал усталость. Нужно было возвращаться. Я остановился, чтобы взглянуть на компас.
И в этот момент я увидел нефтяное озеро. Луч света метнулся по серому дну и уперся в черный овал. Это было, конечно, не озеро, а совсем небольшое озерцо диаметром в несколько метров.
Меньше всего я рассчитывал на такую удачу. По существу, впервые была доказана гипотеза профессора Егорова! Боясь ошибиться, я медленно, словно к живому существу, приблизился к озерцу. Да, это была нефть!
Озерцо держалось над дном, как большая капля ртути. По-видимому, эта глубина почти соответствовала «критическому порогу». Нефть дрожала от малейшего движения воды, и я видел, как черные комки отрывались и, покачиваясь. уплывали вверх.
Я посмотрел на глубиномер — 370 м. Только теперь я понял, насколько легкомысленной была моя затея. Как использовать удачу? Я не знал, где нахожусь. Уйти — значило потерять озеро.
Стрелка расходомера предупреждала: нужно всплывать. Я сильно оттолкнулся от дна, поднялся над озером и направил луч рефлектора вниз. Я ожидал увидеть нефть у дна, но, к моему удивлению, озеро было совсем под ногами. Оно поднималось! По-видимому, всплывая, я сделал несколько резких взмахов. Вода пришла а движение, и этого оказалось достаточно, чтобы нарушите неустойчивое равновесие подводного озера.
В луче рефлектора темная масса нефти сверкала тысячами искр. Казалось, кто-то разбросал алмазы по черному бархату. Края подводного озера переливались всеми цветами радуги. Это было чудесное зрелище!
Расширяясь, нефть поднималась быстрее и быстрее. Подводное озеро нагоняло меня. Я постарался уйти, но нефть окутала меня. Рефлектор был бессилен — свет не мог пробить плотную завесу нефти. Я беспомощно барахтался в липкой жидкости… И вдруг передо мной открылось небо — темное, усыпанное звездами. Я сорвал маску…»
* * *
— Да… Забавно, — проговорил заведующий отделом, доставая синий карандаш. — Неплохо, неплохо… Но… как бы это сказать, — голос заведующего звучал смущенно, — видите ли, к сожалению, а воскресном номере не будет места. Получен срочный материал… Словом, очерк надо отложить. А пока…
Синий карандаш быстро забегал по страницам.
— А пока дадим краткую информацию. Скажем, так: «Вблизи северного побережья обнаружены подводные залежи нефти. При разведке месторождения применена новая глубоководная техника». Вот и все. Договорились?
И. Росоховатский ЗАГАДКА «АКУЛЫ»
г. Киев
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 4, 1959
Рис. Р. Авотина
Юрий сидел не стуле у изголовья кровати и молчал. За окнами больницы цвели деревья и журчали арыки, и ему казалось, что волнистые волосы Марины стекают по подушке, как ручьи. Он смотрел на ер исхудавшее лицо, на сухие потрескавшиеся губы, вбирая в память все мелочи: и то, как она слабо пошевелила рукой, и как посмотрела на него, ослепив сиянием широко раскрытых глаз.
Марина видела обострившиеся скулы Юрия и все понимала. Попыталась пошутить, чтобы подбодрить его:
— Ну вот, исполнилась твоя мечта. Я — в опасности…
Он вспомнил скамейку в московском парке. Рука девушки лежала в его руке, и ему ничего не хотелось, только чтобы это длилось вечно, чтобы чувствовать, как бьется ниточка пульса, чтобы знать, что рядом она, доверившаяся просто и навсегда. Он сказал:
— Иногда мне хочется, чтобы ты попала в опасность… Понимаешь?
— Понимаю. Тогда бы ты спас меня, — прошептала она, и он почувствовал ее дыхание.
Это было недавно — восемь месяцев тому назад, и очень давно — когда она была здорова.
И еще он вспомнил дрожащую руку ее матери на аэродроме.
— Берегите Марину, Юра, и сами поберегитесь. Ведь «акула» — это, наверное, очень опасно.
Он улыбнулся тогда успокаивающе и с видом превосходства. «Акула» показалась ему совсем не такой страшной.
«Акула»… Она как смерч ворвалась в Среднюю Азию. Она была страшней чумы. Там, где проходила эпидемия, кладбища пополнялись сотнями свежих могил.
Походные госпитали и научно-исследовательские станции вырастали на пути эпидемии, как бастионы.
Было замечено, что после фильтрования — причем применялись фильтры с широкими порами — зараженная среда становилась неопасной. Значит, возбудитель — микроб и, значит, его величина во много раз больше величины вирусов, которые так малы, что не задерживаются фильтрами. Но даже при увеличении в сто тысяч и миллион раз, при котором ясно различались частицы мельчайших вирусов, возбудителя «акулы» обнаружить не удалось.
Коварного врага тщетно искали бессонные глаза микроскопов. Газеты тревожно заговорили о загадке «акулы». Это была страшная загадка — она стоила многих тысяч человеческих жизней.
Юрий вспоминает, как они летели сюда: он, Марина, профессор, лаборанты. Профессор Нина Львовна подшучивала над «акулой», и все смеялись, хоть всем было невесело.
И вот Юрий сидит у постели больной. Его рот защищает многослойная марлевая повязка. И страшно подумать, Что это защита от губ Марины, которые он столько раз целовал, от ее дыхания, которое он так любил ощущать на своем лице.
Из соседней палаты доносятся стоны. Ежедневно в больницах освобождается немало коек, но не потому, что больные выздоровели…
За окном сплелись ветви в пахучем белом уборе весны. Им нет никакого дела до человеческой тревоги и муки. Они рассказывают людям своим душистым языком, что смерти не существует, что есть только жизнь во многих переходах и разнообразии форм. Они говорят, что ничто на свете не бывает неподвижно и мертво, а просто меняет формы так же, как цветок переходит в плод и как плод падает на землю, чтобы проросли семена. Они рассказывают людям все это, и кто может, тот читает, кто прислушивается, тот слышит.
А самый острый слух у мудрецов и влюбленных.
Юрий наклоняется ниже и говорит сквозь марлевую повязку:
— Все будет хорошо, Маринка… Вот увидишь…
Она вымученно улыбается.
Рядом хрипит больная:
— Няня! Няня!..
В углах ее губ — кровавая пена…
Юрий вышел из больницы и сразу же попал в иной, стремительный мир. Спешили люди, с шуршаньем проносились мимо стеклянные коробки автобусов. Мужественный голос пел по радио:
И сквозь пространство и время наша любовь пройдет…«Сквозь пространство и время…» — невесело подумал Юрий и словно записал слова песни вместе с мотивом в свою память.
Он шел и думал о Марине и своих опытах в лаборатории, потому что теперь это связывалось воедино. И сама загадка «акулы» была не абстрактной. Красные треугольные пятна на шее Марины — метка незримых зубов болезни. Потрескавшиеся губы, лихорадочный блеск глаз… Стоны из соседней палаты, кровавая пена… Еще не увидев таинственной бактерии, он уже знал ее повадки. Загадка «акулы» и жизнь Марины. Одно переплеталось с другим, совмещалось, отзывалось болью.
Где же скрывается возбудитель, бактерия «а», как ее заочно назвали ученые? Проклятый, подлый возбудитель болезни! Юрий впервые думал так о микробе — крохотной частице жизни, развивающейся по своим законам, совершенствующейся в борьбе за существование, бесстрастной к тому пространству, в котором поселилась. В электронный микроскоп, в который он ясно различает частицы вирусов, он не может увидеть бактерию «а», которая должна быть во много десятков раз больше вируса. В чем же дело? Может быть, эта бактерия не поддается окраске? Он применял все мыслимые и немыслимые способы окраски, он рассматривал объект и в боковом свете, и с напылением металлом, и в флуоресцентный микроскоп, дающий цветное изображение. Но загадка продолжала существовать — и умирали тысячи людей, пораженные невидимым врагом, и мучилась его Марина (он не мог подумать «умирала»). Юрий почувствовал боль в груди и как-то особенно ясно осознал, что в слове «болезнь» корень «боль». Боль… Болит… Болеет… И ото имеет прямое отношение к Марине. У нее — боль…
Он завернул за угол и увидел слепого. Постукивая палочкой по забору, тот искал вход во двор и не мог его нащупать. А калитка была перед ним, стоило только толкнуть ее. На лице слепого застыло мучительное выражение. Юрий быстро подошел к человеку в темных очках и провел его в калитку.
— Спасибо, — сказал слепой, и мучительное выражение сбежало с его лица.
«Где находилась преграда? Ро внешнем мире? Нет, в нем самом. Ведь преграда— не забор, а слепота».
И вдруг Юрий с отчаяньем подумал: «Может быть, я со стороны похож на него? Я тоже стою перед калиткой, но не могу ее распахнуть не потому, что она спрятана или трудно открывается, а потому, что я слеп…»
И в его напряженном мозгу возникла огненная мысль, на долгое время лишившая покоя: «Разве мог бы слепой создать микроскоп и проникнуть в невидимый мир? Разве глухой помыслил бы о создании звукоуловителя? Мы с помощью приборов совершенствуем свое зрение, слух, но что, если у нас нет глаз и ушей?»
Юрий вглядывался в окуляр оптического микроскопа. Он рассматривал капли культуры болезни при увеличении в две тысячи раз. Он менял одну пластинку за другой. Иногда поле зрения почти закрывали шарообразные бактерии. Это стрептококки и пневмококки, которым невидимая бактерия «а», ослабив защитные силы организма, открыла широкую дорогу. На каждой последующей пластинке кокков становилось все больше и больше. Это означало, что они делились, бесконечно удваивались. Но где же сама бактерия «а»?
Ее не удается обнаружить, а между тем, как это неоднократно подтверждалось на опытах, если зараженную белковую среду привить здоровому животному, то уже через два-три часа у него появятся признаки «акулы».
Юрий может перечислить все симптомы в любое время. Он помнит их, как воин — приметы врага.
В эти мрачные дни Юрий словно прошел через очистительный огонь и все наносное, лживое в нем сгорело.
Когда он ехал сюда, ему представлялась картина триумфа. Он раскрывает загадку «акулы». Он создает лечебный препарат. Площадь. Оркестры. Медные голоса победы. Толпы людей, слезы восторга, крики: «Да здравствует великий ученый!»
Теперь он думал только об умирающих людях, о науке: она одна может их спасти. Опасность сосредоточилась в пылающем лице Марины. У него появилось больше сил для борьбы. Он болел, умирал вместе с больными. Финал его мечты стал другим. Он видел: из больниц выходят выздоровевшие люди. И пусть они не знают, кому обязаны излечением, главное — то, что они выходят. И Марина…
Он потирает рукой воспаленные гнезд, Какой тяжелой стала голова! Он вспоминает, что не спал две ночи, и тут же забывает об этом. Он думает: «Если с ней случится несчастье, как я буду жить?» Он ловит себя на мысли, что больше думает о себе, чем о ней.
«Пока я тут занимаюсь самокопанием, она там мучится».
Юрий отодвигает микроскоп. Перед глазами все еще плывут как в тумане палочки, спирали, кокки — многообразная жизнь капли жидкости. Постепенно он начинает различать птиц за окном, листья деревьев. Он слышит чириканье воробья, мяуканье кошки, человеческие голоса. Это жизнь другой капли необъятного мира — капли, в которой живет человек, и в этом мире раздается слабый голос Марины.
Юрий сбрасывает халат, спешит к двери. Его останавливает лаборант.
— Юрий Аркадьевич, как здоровье Марины?
Этот вопрос задают теперь часто, словно только он связывает Юрия с другими людьми.
— Я отлучусь на полчаса, — говорит Юрий лаборанту вместо ответа и встречает сочувственный взгляд.
Он выходит из лаборатории, забыв закрыть за собой дверь.
Юрий не узнал Марину. За воспаленными опухшими веками остро блестели глаза, потерявшие цвет.
«Ты сегодня лучше выглядишь, Марина», — хотел он сказать вместо приветствия, но почувствовал, что лживые слова не идут с языка. Он стоял молча, и его искривленные губы шевелились в тишине. А она смотрела на него блестящими глазами и не могла помочь.
Между ними словно пролегла пустота, и сквозь нее проходил только долгий прощальный взгляд женщины.
Юрий шагнул к Марине. Он переступил черту, и они опять были вместе. Страшное осталось позади.
Он услышал слова Марины, тихие слова, как шепот травы под ветром, как плеск речной волны в лунную ночь.
— Больше не приходи ко мне.
— Почему, Марина, почему?
Слова летели со свистом, как пули, и все попадали в сердце:
— Может быть, я умру. Не отрицай. Я знаю. Так вот, перед смертью я должна сказать правду. Я не любила тебя. У меня был другой. Сейчас он далеко. Вот письмо, я написала ему, видишь?.. Если можешь, прости…
— Не надо, Марина… — сказал он. — Все еще будет хорошо. Ты выздоровеешь…
Он знал, что все ее слова — ложь и никакого «другого» нет. Она сказала и написала письмо, чтобы облегчить его муку, чтобы ему было легче забыть ее. Значит, у нее не осталось надежды на жизнь.
Врач сделал знак рукой, и Юрий повернулся, вышел из палаты. Что он может сделать, если все созданное многими людьми оказалось бессильным на этом поле боя? У него кружилась голова, и он не обращал внимания на встречных прохожих. Разноречивые чувства закружили его, словно в водовороте. Любовь не хотела примириться с неверием, а молодость — с сознанием бессилия. Он мечтал о чуде и знал, что чуда не будет.
И сквозь пространство и время наша любовь пройдет…Время может отдалить людей друг от друга и может, отдалив, сблизить их сердца. Любовь протекает во времени, может ли она пройти сквозь время?
Он заметил, что прохожие удивленно смотрят на него, и тут же забыл об этом. Они еще долго провожали взглядами человека с напряженным лицом И пухлой нижней губой, придающей ему неуместное надменное выражение. Лицо жило своей быстрой жизнью, двигалось, собирало морщины и только глаза оставались неподвижны: они были тусклы, устремлены в себя, с очень маленькими зрачками на радужной оболочке. Этот контраст между движущимся лицом и неподвижными глазами создавал впечатление одержимости какой-то целью. Она не пугала, а привлекала любопытство.
Юрий думал. «Почему время, тайны времени так привлекают нас? Почему рее чаще и чаще мы обращаемся к ним?» Он вспомнил, с каким чувством гордости за человека читал книгу об Альберте Эйнштейне и о его теории относительности, о теории покорения времени. И он ответил на свой вопрос: «Мы, люди, живя во время овладения энергией и пространством, начинаем эпоху покорения времени». Он опять вспомнил слепого, но уже без горького чувства. И вдруг его напряженный мозг вытолкнул ответ и на тот старый отравленный вопрос. «Да, — сказал сам себе Юрий. — Слепой может изобрести микроскоп и проникнуть в невидимый мир. У него нет глаз, но у него есть разум, его преграда — слепота, но его оружие — мысль. И разве обязательно видеть пространство и слышать звук? Разве нельзя увидеть звук и услышать пространство и предметы? Разве не чувствовал и не сочинял музыку глухой человек, великий композитор с яростным львиным лицом? Ультразвуковой микроскоп — вот что изобрел бы слепой!»
Юрий ускорил шаги, почти бежал. Какая-то очень важная мысль, предчувствие догадки или сама догадка, билась под всеми этими мыслями. И он опять вернулся к загадкам времени, и на одно ослепительное мгновение загадки времени и загадка «акулы» возникли рядом в его мозгу, и он успел сопоставить их.
Юрий дошел до здания опытной станции, но не вошел в лабораторию, а повернул направо, в садик. Он закружил по аллеям вокруг фонтана, заложив руки за спину, наморщив лоб. Он боялся, что мысль, как рыба, ускользнет от него, уйдет в пучину. Он ухватился за старую, давно известную истину: «Материя развивается в пространстве и во времени». Эта фраза застряла в мозгу, выстукивала, как телеграфный ключ, заглушая все остальное, и он уже начал бояться ее. Юрий несколько изменил слова старой истины: «Материя развивается не только в пространстве, но и во времени». И это «но и во времени» словно распахнуло невидимую дверь, впустив лавину новых мыслей.
«Мы привыкли видеть в пространстве. Наши микроскопы и телескопы нацелены в пространство, как будто только оно отделяет от нас другие миры и явления».
Он несколько раз глубоко вздохнул, как бы проделав тяжелую работу. В его ушах звенело, словно там сталкивались тонкие стеклянные палочки. Он не знал, откуда идет этот звон. Несколько минут он ни о чем не мог думать, устремив вдаль опустевшие глаза. А стеклянные палочки сталкивались все быстрей, все сильнее… И он понял, что это звенит тишина…
И в звенящей тишине ясно и четко встали те самые мысли, которые люди называют догадкой: «От других миров и явлений нас отделяет не только пространство, недоступное нашему глазу, но и время, которое наш организм не ощущает». «Время зависит от движения», — говорит Эйнштейн. Разные миры находятся в разном движении, и, значит, время у них разно. Секунда для нас — это годы для обитателей других миров, и наоборот — миллионолетия, за которые происходят процессы в космосе, могут оказаться мгновениями. И время жизни зависит от движения — от интенсивности обмена веществ. Отрезок жизни для различных существ неодинаков: для человека — это столетие, для собаки — годы, для мотылька — дни, для микроба — минуты. Если продолжить эту цепь, то она приведет к микроорганизмам, у которых обмен веществ и жизнь протекают за тысячные и миллионные доли нашей секунды. От познания этих существ нас отделяет не только пространство…»
Юрий устремился к зданию опытной станции, рывком распахнул дверь в кабинет профессора. Нина Львовна удивленно посмотрела на него. Многолетняя профессорская работа не погасила в ней чисто женской чуткости и проницательности. Нина Львовна сразу уловила несоответствие в лице своего ассистента — в лице человека, который боится растерять мысли, и поняла, что это контраст между движущимися мускулами лица и неподвижными глазами.
— Я думаю… Мне кажется… — с усилием проговорил Юрий и замолк. Он все еще додумывал свою гипотезу.
Нина Львовна помогла ему:
— Слушаю вас, Юрий Аркадьевич.
Его имя, произнесенное доброжелательно и спокойно, словно придало ему уверенности.
— Мне кажется, Нина Львовна, следовало бы поискать возбудителя «акулы» с помощью сверхскоростной кинокамеры.
— Хорошо, — произнесла она заранее приготовленное слово, еще не поняв мысли своего ассистента. — Если нужно, мы сегодня же дадим телеграмму в Москву, и нам пришлют ее самолетом…
Она запнулась, потому что успела продумать фразу Юрия и до нее дошел смысл его слов. Она подняла брови с выражением живого интереса:
— А знаете; это мысль!
Обрадованный, он заговорил быстро, улыбнулся робко и с жадной надеждой. Его глаза ожили, заблестели, зрачки потемнели и расширились, отразив свет. В них словно открылись небольшие оконца, и на Нину Львовну излучилась такая печаль и нежность, такое чередование веры и отчаянья, что она невольно позавидовала той молодой женщине, которая вызвала к жизни эти чувства.
От установки фазоконтрастного микроскопа с вмонтированной в него сверхскоростной кинокамерой, дающей десять миллионов кадров в секунду, падала причудливая тень, чем-то напоминающая человека на лошади. Юрий и Нина Львовна меняли пластинки с каплями культуры бактерий излишне медленно, подчеркнуто не суетясь. Они старались не смотреть в сторону фотолаборатории, где уже проявлялись первые пленки.
— Четыре готовы, — послышался голос.
Нина Львовна и Юрий, словно сговорившись, повернулись и пошли к профессорскому кабинету, куда были доставлены пленки и заряжены в просматриватель.
Нина Львовна нажала кнопку, и на экране поплыли первые кадры. Многие были пустыми, на других вырастали колонии кокков и армии фагоцитов, ведущие с ними борьбу. И внезапно руки Нины Львовны и Юрия одновременно потянулись к стоп-кнопке. На экране остановился кадр, в середине которого виднелось расплывчатое продолговатое тело бациллы, похожее на торпеду. В нем выделялось несколько темных точек — ядра. Нина Львовна нажала кнопку «медленно», и на экран выплыло сразу несколько «торпед». Их ядра делились, расщеплялись на две части, образуя новые тела бацилл.
— Очевидно, бацилла «а» действует, как вирус гриппа. Она пробивает брешь в защитных силах организма, а затем туда устремляются кокки, — прошептала Нина Львовна, будто боясь громким словом вспугнуть микробов на экране.
— Мы имеем дело с посланцем микровремени, — продолжала Нина Львовна. — Смотрите, вот пошли уже кадры без бактерии «а». Видимо, она не окрашивается и принимает всегда цвет среды, а увидеть ее можно только в момент перед делением и в момент самого деления ядра. Этот момент составляет ничтожные доли секунды, что недоступно глазу. А вся жизнь частицы бактерии до деления длится, возможно, секунды.
Она нашла руку Юрия и пожала ее:
— Рада, что первая поздравляю вас, Юрий Аркадьевич, с открытием.
Он словно не слышал. Когда-то такие слова профессора воспламенили бы его гордость, его веру в себя. Но многое перегорело в нем за эти тревожные месяцы и дни, и лишь на короткое мгновение он подумал: «В чем состоит мое открытие? В том, что я применил созданную другими людьми кинокамеру там, где ее следовало применить?» Эти мысли мелькнули и исчезли, а взамен пришла надежда. Теперь можно будет проследить за развитием бактерии «а», выделить ее в чистом виде, ослабить, приготовить вакцину. Можно будет остановить смерть, заставить ее попятиться. Он забыл о времени, которое понадобится для этого, о трудностях, он видел только одну, теперь такую близкую картину:
…Из больницы выходят люди, много людей. Среди них молодая женщина. Она очень бледна, кажется совсем тоненькой и прозрачной. Но длинные пушистые ресницы трепещут, и глаза смотрят на мир любопытно и весело, как будто увидели его заново.
Улица заполнена, забита до отказа цветущими деревьями, и вокруг белых цветков летают золотистые работящие пчелы. Проносятся автомобили, спешат люди, улыбаясь своим мыслям. А над всем этим миром подымается небо звенящей синевы.
Вот женщина улыбнулась, сделала нетвердый шаг и замерла. К ней, протягивая руки, бросается он, Юрий. Он смотрит на нее, он бежит прямо через мостовую, ничего не замечая, и машины останавливаются, пропуская его.
Он хочет сказать: «Марина, вот мы опять вместе».
Он хочет сказать: «Милая, я сдержал слово, я спас тебя».
Он хочет сказать: «Любимая, как хорошо, что ты живешь на свете».
Но вместо этого он только крепко сжимает ее руки и произносит одно слово, чудесное русское слово:
— Здравствуй!
Юрий сидел в профессорском кабинете и смотрел невидящими глазами на экран.
А за стеной неусыпный глаз микроскопа-кинокамеры был нацелен в пространство и время, и оно — всесильное и неуловимое — ложилось четкими кадрами на кинопленку…
В. Журавлева ЗВЕЗДНАЯ РАПСОДИЯ
г. Баку
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 5, 1959
Рис. Р. Авотина
Мир встречал Новый год.
Вместе с полночью Новый год помчался на запад. Он несся над бескрайными просторами Сибири и лессовыми плато Китая, над снежными вершинами Гималаев и древними храмами Индии, над торосами Ледовитого океана и пустынями Австралии. Люди без сожаления расставались со старым годом. Одним казалось, что уходят в прошлое неудачи, другие надеялись, что Новый год принесет новое счастье.
В эту ночь в Москве стояла на редкость тихая погода. Тучи, еще накануне тяжело нависшие над городом, медленно, как театральный занавес, разошлись в стороны и открыли искрящееся звездами небо. Встречая Новый год, замерли в почетном карауле вдоль Кремля посеребренные снегом ели. Лишь изредка слабый порыв ветерка срывал с их ветвей горсть снежинок и бросал вниз, на прохожих. Но люди не замечали красоты этой ночи. Они очень спешили — до Нового года оставалось полчаса. Людской поток, шумный, взволнованный, нагруженный свертками и пакетами, двигался все быстрее и быстрее.
Не торопился только один человек.
Руки его были глубоко засунуты в карманы пальто, из-под опущенных полей мягкой шляпы поблескивали внимательные глаза, освещая худощавое, с темной бородкой лицо. В толпе его многие узнавали. Поэтому он свернул в переулок. Здесь не нужно было отвечать на бесчисленные приветствия, не нужно было объяснять знакомым, почему в новогоднюю ночь он предпочитает бродить по улицам. Поэт Константин Алексеевич Русанов и сам не знал, какая сила заставляет его искать одиночества.
Стихи чаще всего возникали на улице. В хаосе впечатлений и мыслей они вспыхивали на короткий миг в каком-то идеальном совершенстве и… исчезали. Потом их приходилось отыскивать по частям, менять и подбирать рифмы, терпеливо оттачивать строфы. И Русанова не покидало ощущение, что все написанное им — это лишь беглый эскиз чего-то очень большого, но пока неуловимого, ускользающего…
В новогоднюю ночь почему-то не хотелось думать о стихах. Может быть, это была усталость. Может быть, грусть, потому что новый год был для Русанова шестидесятым годом жизни.
Русанов шел, прислушиваясь к тихому поскрипыванию снега. В переулке было темно. Только одинокий фонарь бросал желтые снопы света на узкий тротуар, присыпанный песком.
У фонаря дорогу Русанову преградила снежная крепость. В электрическом свете башни крепости сверкали алмазной россыпью снежинок. «Недостроили», — подумал Русанов, заметив лежащие рядом деревянные санки и металлическую лопатку. Мелькнула нелепая мысль закончить крепостную стену. То-то удивятся утром ребятишки…
Русанов нагнулся, чтобы поднять лопатку, но в этот момент его кто-то сильно толкнул. Падая в снег, он услышал звук разбивающегося стекла и возглас:
— Простите, пожалуйста…
Голос был такой сконфуженный, что Русанов даже не успел рассердиться. Чьи-то руки помогли ему подняться. Перед ним стояла невысокая девушка в зеленом лыжном костюме. Глаза незнакомки, казавшиеся сквозь стекла очков удивительно большими, выражали крайнюю растерянность.
— Извините, пожалуйста, — еще раз пробормотала девушка.
Она осторожно обошла Русанова и подняла лежащий около столба небольшой газетный сверток. Русанов услышал вздох.
— Так и есть… Разбила, — огорченно сказала незнакомка.
Русанов почувствовал себя виноватым.
— А что случилось? — спросил он.
— Я пластинку несла. — объяснила девушка, — негатив, понимаете? Ну, а когда на вас налетела, выпустила пластинку, и она ударилась о столб.
Девушка развернула сверток. Негатив имел странный вид: на черном фоне светлая полоса с темными линиями.
— Что это такое? — удивился Русанов.
— Спектр. Понимаете, спектр звезды Процион из созвездия Малого Пса.
Русанов с интересом посмотрел на незнакомку.
«Лет шестнадцать, — подумал он и тут же поправился: — Больше, больше! Наверное, двадцать пять — двадцать шесть».
— Послушайте, — сказал Русанов, — куда это вы бежали в полночь с негативом?
— На телеграф, — ответила девушка. — Понимаете, такое открытие…
Русанов тихо рассмеялся. Он любил неожиданные встречи. Настроение как-то сразу улучшилось.
— Открытие? — переспросил он.
Незнакомка ответила шепотом:
— Открытие, Константин Алексеевич.
— Так уж и Константин Алексеевич? — Русанов хитро прищурился.
— А как же, товарищ Русанов, — за стеклами очков весело блеснули глаза. — Я вас сразу узнала.
— Автограф просить будете?
— Не буду. Уже есть. В День поэзии вы за прилавком стояли…
Русанов рассмеялся.
— Ну, а как с открытием? — он показал на осколки негатива и, не дожидаясь ответа, спросил: — Как же вас звать, уважаемая девица, сбивающая с ног прохожих и фотографирующая звезды?
— Алла… Алла Владимировна Джунковская. Астроном.
««Алла… Алла Владимировна Джунковская, астроном, — мысленно повторил Русанов. — Нет, ей никак не больше шестнадцати!»
— Значит, пропало открытие?
Джунковская покачала головой.
— Нет. У меня сейчас астрограф второй снимок делает.
— Что же вы все-таки открыли?
Сквозь стекла очков большие глаза с сомнением посмотрели на Русанова: говорить или не говорить?
— Понимаете, я обнаружила в спектре звезды Процион… Но вы знаете, что такое спектр? Подождите, я вам сейчас все объясню…
Русанов не сразу уловил суть порядком путаного рассказа Джунковской. Она говорила быстро, поминутно спрашивая: «Понимаете?» События были изложены далеко не в хронологическом порядке. Многое Русанову пришлось угадывать.
…Девушка еще в школе увлекается астрономией. Кончает физический факультет. Приезжает на Алтайскую горную обсерваторию. Разочарование: вместо открытий кропотливая работа по систематизации снимков звездных спектров. На четвертом месяце работы ей кажется, что сделано открытие. Директор обсерватории сухо разъясняет— ошибка. Проходит еще три месяца. Снова радость открытия… и снова ошибка, снова разочарование. Идут месяцы. Работа, работа, работа. И совсем нет романтики. Бесчисленные снимки звездных спектров. Вычисления. Систематизация. Открытий нет. Кажется, так будет всю жизнь. И вдруг….
— Вы понимаете, — говорила Джунковская, — сначала я не поверила себе. Уж очень неприятно, когда тебе как ребенку заявляют: «Нужно работать, а не фантазировать…» Да… Но это было так очевидно… Передо мной лежали триста пятьдесят спектрограмм Проциона. Другие астрономы видели эти снимки, порознь, а я увидела сразу. И, понимаете, как будто из отдельных штрихов составилась картина. Так же бывает, правда? Из трехсот пятидесяти спектрограмм я прежде всего отобрала девяносто. Они были сняты с промежутками в четыре часа — у нас налаживали астрограф. Все снимки имели одинаковый фон — линии неионизированных металлов. Это спектр Проциона, давно уже известный. Но, кроме того, на каждой спектрограмме я увидела линии еще одного элемента. На первой спектрограмме — линии водорода, на второй — гелия, на третьей — лития… И так по порядку вплоть до девяностого элемента периодической системы тория. Вы понимаете, как будто кто-то нарочно перебирал элементы в строгой последовательности периодической системы. Не было никаких, вы понимаете, никаких естественных объяснений этому факту! Кроме одного — это сигналы разумных существ.
— Вы так думаете? — очень серьезно спросил Русанов.
— Ну, конечно! — воскликнула девушка. — Вот, скажем, отдельные звуки — их часто можно услышать в природе. Но если вы слышите те же звуки, расположенные в порядке гаммы, — разве это может быть без участия разумного существа?.. Я боялась сказать об открытии: а вдруг опять ошибка? Потом мне дали отпуск. Уезжала я как во сне. Всю дорогу ругала себя — нужно было все-таки сказать. Приехала, а мысли там, в обсерватории… Со студенческих времен у меня дома, на крыше, своя обсерватория, любительская. В общем в первую же ночь я вновь получила две спектрограммы Проциона. На них были линии алюминия и кремния — тринадцатого и четырнадцатого элементов периодической системы. Сегодня я повторила снимки. Понимаете, это был цезий. И если это не сон, сейчас на новом снимке должны быть линии следующего элемента — бария. Понимаете?
Они все еще стояли в переулке, у фонаря. Русанов молча смотрел на снежную крепость.
— Вы… не верите? — спросила Джунковская.
Русанов верил не больше, чем если бы ему сказали, что в Каспийском море открыт новый — седьмой — континент нашей планеты.
— Давайте посмотрим на эту… как ее, спектрограмму, — предложил он.
— Пожалуйста, — обрадовалась Джунковская. — Идемте, идемте. Вы увидите…
Пока Русанов видел одно — в его новой знакомой удивительно сочетались черты взрослого и ребенка. Жизнь научила Русанова разбираться в людях. Еще в Испании запомнились ему слова комиссара Интернациональной бригады, бывшего учителя математики: «Судите о людях только после второй встречи. Ведь даже направление прямой линии определяется через две точки». В этой шутке была доля истины. И Русанов избегал поспешных суждений. Джунковская казалась избалованным, капризным ребенком. Только очки придавали ее милому лицу взрослый вид. И большие темные глаза смотрели серьезно. «Что ж, — подумал Русанов, — а вдруг устами младенца глаголет истина? Впрочем, она не такой уж младенец… Астроном, — усмехнулся он. — Алла Владимировна Джунковская…»
— Вы понимаете, — говорила Джунковская, — когда открытие сделано, оно кажется простым и само собой разумеющимся. Вот подумайте. Допустим, что у Проциона есть планетная система. Допустим, что разумные существа с одной из планет решили послать сигналы. Радиоволны не годятся — они сильно рассеиваются. Рентгеновские лучи или гамма-лучи тоже не годятся— они быстро поглощаются. Значит, лучше всего электромагнитные колебания с промежуточной длиной волны, иначе говоря — световые волны, свет. Теперь дальше. Что именно передать? Что будет понятно всем разумным существам? Буквы? Они различны. Цифры? Есть разные системы счисления. Вообще в разных мирах все может быть разным. Кроме одного — периодической системы элементов. Она одинакова для всех миров. На всех планетах самый легкий элемент — водород, потом гелий, потом литий… Таблицу умножения можно, наверное, записать на тысячу ладов. Но периодическая система элементов едина во всей вселенной. И ее легче всего передать светом — ведь каждый элемент имеет свой спектр, свой паспорт. Понимаете, когда я об этом думаю, мне кажется, что мое открытие не случайность, а закономерность.
Русанов поднял руку, Джунковская умолкла на полуслове. Они остановились. В морозном воздухе ясно были слышны кремлевские куранты.
— Новый год, — сказал Русанов.
Джунковская молча улыбнулась.
Они еще постояли, прислушиваясь к звукам, гаснущим где-то вдали. Потом, не сговариваясь, пошли быстрее.
— Скажите, уважаемый звездочет, — спросил Русанов, — может быть, все это связано с какими-нибудь процессами, происходящими на звезде?
— Нет, нет! Температура Проциона всего восемь тысяч градусов. А судя по линиям на спектре, источник излучения имеет температуру свыше миллиона градусов. Это какая-то искусственная вспышка на одной из планет Проциона. Мощность колоссальная, трудно даже представить… И все-таки… Сюда, пожалуйста.
Они зашли в подъезд старого дома. На лестнице было темно, и Русанов шел, придерживаясь за руку спутницы. Когда поднялись на шестой этаж, Русанов зажег спичку. Огонь выхватил из темноты деревянную лестницу, исчезающую в черной прорези люка.
Девушка полезла первой. Русанов поднялся вслед за ней. Покрытую снегом крышу наискось пересекала тайная дорожка.
— Сюда, — Джунковская тянула Русанова за руку. — Теперь у этого дома большое достоинство — центральное отопление. Раньше над каждой трубой поднимался поток теплого воздуха. Осенью и зимой ничего нельзя было наблюдать. А сейчас одна труба, да и та на другом конце двора…
Они поднялись на крышу пристройки. Здесь и находилась «обсерватория» Джунковской — маленькая площадка, с трех сторон огражденная фанерой. В центре ее стоял телескоп — нацеленная в небо двухметровая труба на массивном штативе. Мерно отщелкивал секунды часовой механизм.
— Когда-то это был самый большой в Союзе любительский телескоп, — сказала Джунковская. — Зеркало диаметром в двадцать восемь сантиметров. Полгода шлифовала…
Постепенно глаза Русанова привыкли к полумраку. Он увидел столик с какими-то приборами, простую скамейку, прикрытую куском брезента. Джунковская быстро сняла с телескопа кассету.
— Вы подождете минут десять, Константин Алексеевич? — спросила она. — Я только проявлю… Тут на чердаке у меня и фотолаборатория.
— Действуйте, — согласился Русанов.
Джунковская сейчас же исчезла. Русанов откинул брезент, присел на скамейку. У ног щелкал часовой механизм, дваэкды приходилось бывать обсерваториях. Но оба раза это было днем, когда астрономы сидели за пультами счетных машин. Обсерватория тогда немногим отличалась от любого другого научного учреждения. И только сейчас, вглядываясь в усыпанное звездами небо, Русанов впервые и еще очень смутно почувствовал романтику самой древней науки. Он думал о странной силе, уже тысячелетия назад заставлявшей людей изучать движение небесных тел, искать законы Мироздания. Он думал о жрецах Вавилона, наблюдавших звезды с башен своих храмов, о знаменитой обсерватории Улугбека, о печальной судьбе Иоганна Кеплера, первого законодателя неба…
Все впечатления этого вечера — новогодняя суета на улицах, снежная крепость, случайная встреча, рассказ Джунковской, «обсерватория» — причудливо переплелись в сознании Русанова, приобрели гибкость и податливость, всегда предшествующие возникновению новых стихов. Он уже чувствовал эти стихи.
— Константин Алексеевич!
Русанов обернулся.
Джунковская держала в руках пластинку. В стеклах ее очков плясали красные огоньки — отблеск неоновых букв на крыше соседнего дома.
— Есть, Константин Алексеевич, — шепотом сказала она. — Это барий, понимаете, барий!
Взволнованный голос девушки вернул Русанова к действительности. Он вдруг почувствовал, что на крыше холодно, что ему чертовски хочется курить. Словно угадав его мысли, Джунковская сказала:
— Давайте спустимся к нам, Константин Алексеевич. Я вам покажу спектрограммы. У нас никого нет…
Через минуту они спускались вниз.
Маленькая комната Джунковской почти наполовину была занята пианино и старым книжным шкафом. На стене висела карта звездного неба. От зеленой настольной лампы на вышитую скатерть падал ровный круг света.
Джунковская усадила Русанова, принесла альбом. Это был самый обыкновенный альбом — в таких хранят семейные фотографии. Русанов впервые в жизни видел спектрограммы, и они ему ровным счетом ничего не говорили. Светло-серые полосы, прорезанные темными линиями, казались неотличимыми друг от друга. В них не было ничего необычного, и все-таки они волновали. Теперь Русанов верил в открытие. Это получилось как-то незаметно. Еще несколько минут назад он снисходительно посмеивался над рассказом Джунковской. Сейчас он чувствовал — именно чувствовал, а не понимал, — что она действительно сделала открытие. Какой-то внутренний голос подсказывал Русанову: «Это так». И он поверил — сразу, полностью, безоговорочно.
— Скажите, Алла Владимировна, — спросил он, — здесь, только эти элементы или еще что-нибудь?
На секунду Джунковская смутилась.
— Вы… поверите? тихо спросила она.
Это было сказано совсем по-детски. Но Русанов ответил без тени усмешки:
— Поверю.
— Понимаете, это так невероятно… Я еще сама себе не верю. Иногда мне кажется, что я сплю. Проснусь — и все исчезнет…
Она замолчала. Было слышно, как где-то рядом играет музыка.
— Я отобрала еще двадцать две спектрограммы. Все они отличались от обычного спектра Проциона. Вы, понимаете, Процион — звезда, похожая на наше Солнце. Спектральный класс — пять. Ярко выраженные линии нейтральных металлов — кальция, железа… А в тех спектрограммах на обычном фоне оказались совсем необычные линии. И уже не одного элемента, а сразу многих. Я подумала, что девяносто предыдущих спектрограмм были чем-то вроде азбуки. А эти двадцать две — уже письмо, какое-то сообщение…
— И вы его расшифровали? — перебил Русанов.
Джунковская покачала головой.
— Нет. Я не смогла. С точки зрения логики, тут должна быть какая-то очень простая система. Я не знаю… Пробовала — и не получается. Но две спектрограммы… Вы понимаете, я и сама не уверена… Не смейтесь… Может быть, это самовнушение. Не знаю… Эти две спектрограммы как-то сразу привлекли мое внимание. Было такое ощущение, словно видишь что-то очень знакомое, но написанное на другом языке. И только в поезде по дороге в Москву я догадалась… Вы, наверное, знаете: в периодической системе свойства элементов повторяются через восемь номеров. Если пропустить последний номер, получается октава… Так же, как в музыке. Звуки повторяются через семь тонов. И вот эту октаву я увидела на спектрограмме. Говорят, исследователю опасно быть предубежденным. Но я хотела найти в спектрограммах нотную запись и, кажется, нашла. Вы знаете, что и в спектре света семь цветов…
— Вы хотите сказать… — начал было Русанов.
— Нет, нет! Дослушайте. В нашей нотной записи пять линий. На спектрограммах тоже были три группы по четыре линии — как будто разрезанная нотная строка. На обоих снимках эта «нотная строка» была одинаковой. Красная линия лития, оранжевая — лантана… и так до фиолетовой линии галлия. А между этими линиями, подобно нотам, были разбросаны другие: желтая — натрия, синяя — индия… Нет, дослушайте! Ноты бывают целые, половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые… И эти спектральные ноты оказались ионизированными наполовину, на одну четверть, на одну восьмую, на одну шестнадцатую…. И понимаете, чем большее обнаруживалось сходство, тем меньше верилось мне в само существование сигналов…
— Вы записали эту… музыку? — спросил Русанов и вздрогнул: голос его прозвучал как-то странно, словно со стороны.
— Да, записала, — Джунковская подошла к пианино. — Если хотите…
— Одну минуту…
Русанов шагал по комнате, нервно похрустывая костяшками пальцев. Остановился у окна.
— Отсюда виден Процион?
Джунковская отодвинула занавеску.
— Над соседним домом, справа, где антенна… Видите?
— И далеко это?
— Почти три с половиной парсека, свет идет одиннадцать лет.
Русанов смотрел на яркую звезду. Вспомнились стихи, и он сказал их вполголоса:
Ночь, тайн созданья не тая, Бессчетных звезд лучи струя, Гласит, что с нами рядом смежность Других миров, что там — края, Где тоже есть любовь и нежность, И смерть и жизнь, — кто знает, чья?— Это ваши? — спросила Джунковская.
— Нет. Брюсова.
Русанов был лирическим поэтом. Он умел подмечать тихую прелесть среднерусской природы, умел стихами переедать то, что кистью передавал Левитан. Русанов много писал о любви, и в стихах его, очень задушевных и чуть-чуть грустных, изредка — как солнечный луч сквозь дымку облаков — пробивалась улыбка. Звезды тоже всегда оставались для Русанова символом чего-то отдаленного и недосягаемого. Но на этот раз старые и хорошо знакомые стихи Брюсова прозвучали как-то по-новому.
— Что ж, сыграйте, — тихо сказал Русанов.
Он ничего не понимал в спектральном анализе. Но музыку он знал. Да или нет — это должна была сказать музыка. И Русанов волновался. Только усилием воли он заставил себя отойти от окна, сесть.
Джунковская подняла крышку пианино. На какую-то долю секунды застыли над клавишами руки. Потом опустились. Прозвучал первый аккорд. В нем было что-то тревожное. Звуки вскинулись и медленно замерли. И сейчас же зазвучали новые аккорды.
В первые мгновения Русанов слышал лишь дикое сочетание звуков. Но затем определилась мелодия. Было даже две мелодии. Они переплетались, и одна, медленная, несла другую — быструю, порывистую. Звуки вспыхивали, гасли, и в их сочетании было что-то до боли знакомое и в то же время чужое, непонятное.
Это была музыка, но музыка совершенно необычная. В силу каких-то особенностей она сначала действовала подавляюще, гнетуще. Казалось, она несла в себе не человеческие, а какие-то иные, высшие, более сильные чувства.
Временами обе мелодии обрывались. Руки пианистки замирали над клавишами и вдруг снова обретали силу. И тогда снова вспыхивала странная, двойная мелодия. Она звучала громче, увереннее. Она звала, и, безотчетливо повинуясь ее зову, Русанов подошел к пианино.
Звуки дрожали, бились, словно старались вырваться из неуклюжего инструмента. Пианино не могло передать всю мелодию, но, стиснутая, сломанная, она жила и звала все сильнее, настойчивее.
Русанов уже не видел стен, стола, лампы — ничего, кроме пальцев, лихорадочно бегающих по клавишам. Пытаясь угнаться за мелодией, бешено стучало сердце, и Русанов чувствовал, как глаза застилает туман…
А музыка подхлестывала сердце, то вихрем устремляясь ввысь, то обрываясь жалобным стоном. В ней были все человеческие чувства и не было никаких чувств — так в солнечном свете есть все цвета радуги и нет ни одного цвета… На мгновение она прервалась, а лотом вспыхнула с новой силой. Нет, не вспыхнула — взорвалась. В диком порыве взлетели звуки, сплелись и… замерли. Только один звук — тихий, нежный — затухал медленно, словно последний огонек погасшего костра…
Наступила тишина. Она казалась невероятно напряженной. Потом в комнату вошли обычные, земные звуки — отдаленный гудок тепловоза, чьи-то голоса…
Русанов подошел к окну. Над крышей дрожала яркая звезда Процион из созвездия Малого Пса. И свет ее словно изливал таинственную и торжественную музыку.
Жюль Верн XXIX век
Техника — молодежи № 6, 1959
Рис. Б. Боссарта И А. Побединского
ВЕЛИКИЙ ФАНТАСТ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ ПРОШЛОГО ВЕКА
В дни удивительных достижений современной науки и техники особый интерес представляет печатаемое ниже в несколько сокращенном виде произведение замечательнейшего мастера научной фантастики Жюля Верна — «XXIX век», впервые появившееся в феврале 1889 года в журналах «Вокруг света» (Россия) и «Форум» (США). Воспользовавшись просьбой владельца одной из крупнейших газет США написать рассказ о том, как будет выглядеть мир через тысячу лет, писатель языком острого памфлета и разящей сатиры нарисовал картину капиталистического строя.
Меткость его язвительных характеристик особенно убийственно звучит сегодня. Ко времени написания памфлета на существовало и даже не было конкретных путей решения целого ряда научных идей, высказываемых Жюлем Верном. Тем не менее многие из них оказались поистине пророческими. Единственное, в чем ошибся талантливый провидец, — это сроки. Большинство того, что он отнес к осуществлению на 500-1000 лет вперед, оказалось осуществленным уже через 25–50 лет. Ряд правильных идей и теорий (о единой теории поля, о природе элементарных частиц и т. д.) все еще ждет своего разрешения.
Великий фантаст писал о будущем 70 лет назад. Он не предвидел неминуемого заката капитализма и того, что только в условиях нового общества наступит подлинный расцвет науки и техники.
ОДИН ДЕНЬ АМЕРИКАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА В 2889 ГОДУ
Люди нынешнего, XXIX века живут как в волшебной сказке, даже и не подозревая этого. Пресыщенные чудесами, они остаются равнодушными перед теми диковинами, которые им ежедневно преподносит прогресс. Все кажется им естественным. Если б им пришло на ум сравнить современную цивилизацию с прошлыми временами, они отдали бы себе более ясный отчет, как велик пройденный путь.
Насколько прекраснее показались бы им наши современные города с улицами шириной в сто метров, домами вышиной в триста метров[1], с постоянно ровной температурой[2] и небом, которое непрерывно бороздят тысячи аэроэкипажей и аэроомнибусов!
Что представляют собой рядом с такими городами, население которых нередко доходит до десяти миллионов[3], все эти деревушки, эти поселки, существовавшие тысячу лет назад, какие-то там Париж, Лондон, Берлин или Нью-Йорк, — плохо проветриваемые грязные городишки, по которым передвигались какие-то тряские коробки, запряженные лошадьми. Да, лошадьми! — трудно поверить этому!
Если бы люди нашего века могли вообразить себе несовершенное устройство пакетботов и железных дорог, с частыми катастрофами, а также их медлительность, то как высоко стали бы они ценить аэропоезда, а в особенности эти замечательные пневматические подводные тоннели, пересекающие океаны, — тоннели, по которым пассажиров перевозят со скоростью полторы тысячи километров в час!
И, наконец, разве мы не полнее наслаждались бы фонотелефотом[4], вспомнив, что предки наши вынуждены были пользоваться допотопными аппаратами, которые они называли «телеграфом»?
Странная вещь! Столь изумительные усовершенствования основаны на принципах, хорошо знакомых нашим предкам, которые не умели, однако, извлечь из них пользу. Да и в самом деле — теплота, пар, электричество так же стары, как род людской. Не утверждали разве ученые уже в конце XIX века, что единственная разнице между силами физическими и химическими заключается лишь в свойственных каждой из этих сил особенностях колебаний частиц эфира?[5]
Раз уже был сделан такой огромный шаг, как признание родственных свойств всех этих сил, то кажется просто невероятным, как могло понадобиться столько времени, чтобы точно установить особенности разных видов вибраций (колебаний). И совсем удивительно, что способ непосредственного перехода от одной вибрации к другой и получения их отдельно друг от друга открыт лишь совсем недавно[6].
А между тем именно так и произошло, и только в 2790 году, сто лет тому назад, это впервые удалось знаменитому Освальду Найнеру.
Этот великий ученый — подлинный благодетель человечества!
Его гениальное открытие породило все остальные. Последователями его оказалась целая плеяда изобретателей, последним из которых является наш изумительный Джеймс Джексон. Именно ему мы обязаны новыми аккумуляторами, конденсирующими одни — энергию, содержащуюся в солнечных лучах, другие — электричество, сосредоточенное в недрах земного шара, и третьи, наконец, — энергию исходящую из любого источника: водопада, ветра, речного потока и тому подобного[7]. Это он — все тот же Джеймс Джексон — создатель трансформатора, который, подчиняясь движению простого рычага, извлекав! энергию из аккумуляторов и возвращает ее в пространство в форме тепла, света, электричества, механической силы, предварительно добившись от нее желаемой работы.
Да! Прогресс начался только с тоге времени, когда были изобретены эти два прибора. Они одарили человеке почти безграничным могуществом. Нельзя даже и перечесть случаи их применения! Смягчая зимние холода возвращением избытка летней жары они произвели настоящий переворот в земледелии. Снабжая авиационные аппараты двигательной силой, они вызывали невиданный подъем торговли. Этим двум приборам мы обязаны также производством электрической энергии без помощи батарей и машин, света — без огня и сгорания[8] и, наконец, неиссякаемым источником энергии, который значительно расширил промышленное производство.
Так вот! Весь комплекс этих чудес мы увидим сейчас воочию в необыкновенном доме-особняке — в доме «Ирт Геральд», недавно воздвигнутом на 16823-й авеню.
Что бы сказал основатель газеты «Нью-Йорк Геральд», Гордон Беннет, если он в наши дни мог бы встать из гроба и увидеть роскошный дворец из золота и мрамора, принадлежащий его славному потомку Фрэнсису Беннету? Тридцать поколений сменили друг друга, а «Нью-Йорк Геральд» остался во владении семьи Беннетов[9].
Двести лет тому назад, когда правительство Соединенных Штатов переехало из Вашингтона в Центрополис, газета последовала за правительством… а может быть, правительство последовало за газетой. И вот тогда газета стала называться «Ирт Геральд».
Не думайте, что дела газеты пошли хуже под руководством Фрэнсиса Беннета. Нет! Новый директор влил в свою газету ни с чем не сравнимую жизненную силу, явившись создателем нового типа журналистики — «газеты по телефону».
Система эта хорошо известна. Она стала практически осуществимой благодаря неслыханному распространению телефонии. Каждое утро, вместо того чтобы выйти в печатном виде, как в древности, «Ирт Геральд» передается «с голоса».
Это нововведение Фрэнсиса Беннета оживило старую газету. За несколько месяцев его клиентура возросла до восьмидесяти пяти миллионов абонентов, и состояние владельца постепенно увеличилось до тридцати миллиардов — цифра, уже значительно превзойденная сегодня. Обладая таким капиталом, Фрэнсис Беннет получил возможность построить новое здание для газеты — колоссальное сооружение, каждый из четырех фасадов которого имеет в длину три километра. На крыше дома развевается флаг, украшенный семьюдесятью пятью звездами Конфедерации[10].
Ныне Фрэнсис Беннет — газетный король и мог бы, вероятно, стать королем обеих Америк, если бы американцы пожелали избрать себе короля.
Вы сомневаетесь? Но полномочные представители всех стран и даже собственные наши министры толпятся у его дверей, вымаливая совета, одобрения, стремясь добиться поддержки его всесильной газеты. Попробуйте сосчитать ученых, которых он поощряет, артистов, которых он содержит, изобретателей, работу которых он финансирует… Изнуряющее величие у этого короля: труд — без минуты отдыха. Человек прежних времен не выдержал бы такого ежедневного и ежечасного напряжения. Современные люди, к счастью, более выносливы. Этой выносливостью они обязаны развитию гигиены и гимнастики, которые среднюю продолжительность человеческой жизни с тридцати семи лет увеличили до шестидесяти восьми[11], а также и приготовлению асептических блюд, в ожидании ближайшего открытия — открытия питательного воздуха, который даст возможность человеку питаться… просто свежим воздухом.
А теперь, если вам угодно узнать, чем заполнен день директора «Ирт Геральд», потрудитесь проследить за всеми его занятиями сегодня, 25 июля текущего 2889 года.
Фрэнсис Беннет сегодня утром проснулся в дурном настроении. Вот уже неделя, как его жена пребывает во Франции, и его начинает тяготить одиночество. Поверите ли? За десять лет их супружеской жизни миссис Эдит Беннет впервые отлучилась на столь долгий срок!
Проснувшись, Фрэнсис Беннет поэтому прежде всего включил свой фонотелефот, провода которого связывали его с принадлежащим ему особняком на Елисейских полях.
Телефон, дополненный телефотом, — вот еще одно завоевание нашего века! Если передача голоса посредством электрического тока существует уже давно, то передача изображения — открытие последнего времени. Ценное открытие, за которое Фрэнсис Беннет благословлял сейчас изобретателя, увидев свою жену отраженной в зеркале фонотелефота, хотя их и разделяло огромное расстояние.
Сладостное видение! Несколько утомленная после бала или театра, где она побывала вчера, миссис Беннет еще лежит в постели. Не желая будить молодую женщину, он быстро соскакивает с постели и проходит в свою механизированную туалетную комнату. Две минуты спустя, хотя он и не прибегал к помощи камердинера, машина уже перенесла его, умытого, причесанного, обутого, одетого и застегнутого на все пуговицы, к дверям его кабинета. Сейчас начнется ежедневный обход.
Прежде всего Фрэнсис Беннет направляется в зал, где трудятся авторы романов-фельетонов.
Огромный зал увенчан широким просвечивающим куполом. В одном углу расположены различные телефонные аппараты, по которым сто литераторов, состоящих на службе в «Ирт Геральд», читают взбудораженной от нетерпения публике сто глав из ста романов.
Продолжая осмотр, Фрэнсис Беннет входит в зал репортажа. Все его полторы тысячи репортеров, сидя перед полутора тысячами телефонных аппаратов, сообщают подписчикам новости, полученные за ночь со всех концов света. Организация этого бесподобного бюро репортажа описана уже не раз. Перед каждым репортером — несколько коммутаторов, дающих возможность устанавливать связь с той или иной телефонной линией. Абоненты не только слышат репортаж, но одновременно и видят то, о чем идет речь. Когда говорится о «происшествиях», которые уже закончились к тому времени, когда о них рассказывают, главнейшие эпизоды иллюстрируются выразительными фотографиями.
Фрэнсис Беннет окликнул одного из десяти репортеров по астрономии, — отдел, которому предстоит значительно расшириться в связи с последними открытиями, сделанными в звездном мире.
«— Ну как, Кэтч? Что вы получили?
— Мы получили, сэр, фототелеграммы с Меркурия, Венеры и Марса.
— В телеграмме с Марса есть что-нибудь интересное?
— Как же! Революция в Центральной Империи — победа реакционных либералов над республиканскими консерваторами.
— То же, что и у нас… Ну, а с Юпитера?
— Пока еще ничего. Нам непонятна их сигнализация. Быть может, наша до них не доходит?
— Это ваше дело, и всю ответственность я возлагаю на <вас, мистер Кэтч, — ответил Фрэнсис Беннет и, очень недовольный, направился в бюро научного репортажа.
Тридцать ученых склонились над своими счетными машинами. Одни были поглощены уравнениями девяносто пятой степени; другие, словно забавляясь формулами алгебраической бесконечности и пространства в двадцати четырех измерениях, напоминали учеников начальной школы, решающих примеры на правила арифметики.
Появление Беннета произвело впечатление разорвавшейся бомбы.
— В чем дело, господа? — воскликнул он. — Неужели до сих пор еще не получено ответа с Юпитера?.. все, значит, по-старому?.. Послушайте, Корлей! Вот уже двадцать лет как вы возитесь с этой планетой… Казалось бы…
— Что поделаешь, — ответил ученый, к которому обратился Беннет. — Наша оптика оставляет еще желать многого, и даже с нашими трехкилометровыми телескопами…
— Вы слышите, Пир! — перебил его Фрэнсис Беннет, обращаясь к соседу Корлея. — Но если уже не с Юпитера, то есть ли по крайней мере вести с Луны?
— Нет, также нет ничего, мистер Беннет!
— Тут вы уже не станете ссылаться на оптику: Луна в шестьсот раз ближе к нам, чем Марс, с которым мы ведь поддерживаем регулярную связь. Не в телескопах дело…
— Нет, в жителях! — ответил Корлей с многозначительной улыбкой ученого, знающего цену «иксам».
— Вы смеете утверждать, что Луна необитаема?
— Во всяком случае, мистер Беннет, жителей нет на той стороне, которая обращена к нам. Кто знает, быть может, противоположная сторона…
— Что же, Корлей, в этом проще простого удостовериться.
— А каким образом?..
— Нужно повернуть Луну…
И с этого дня ученые на заводе Беннета погрузились в изучение механических приемов, с помощью которых можно будет добиться поворота нашего спутника[12].
Соседнее помещение представляло собой обширную галерею длиною в полкилометра, — она была отведена для отдела рекламы, а какую роль реклама играет в такой газете, как «Ирт Геральд», вообразить нетрудно. Объявления приносят в среднем три миллиона долларов в день. Они, кстати сказать, распространяются совершенно новым способом. Патент на применение этого весьма хитроумного способа куплен за три доллара у бедняка-изобретателя, который вскоре затем умер с голоду. Это не что иное, как огромные плакаты, отраженные в облаках, — плакаты такого колоссального размера, что они могут быть видны в целой обширной области. Из этой самой галереи тысяча прожекторов беспрерывно направлена в небеса, на которых отражаются в красках небывалой величины объявления.
Но сегодня, войдя в отдел рекламы, Фрэнсис Беннет видит, что механики стоят сложа руки возле своих бездействующих прожекторов. Он спешит узнать, в чем дело. Вместо ответа ему указывают на безоблачную небесную лазурь.
— Так вот! Вам, мистер Семюэль Марк, нужно обратиться в научную редакцию, в отдел метеорологической службы. Передайте им от моего имени, чтобы они как следует занялись вопросом искусственных облаков. Нельзя же, в самом деле, вечно зависеть от погоды![13]
Окончив обход всех разнообразных отделов газеты, Фрэнсис Беннет направился в приемную, где его ожидали послы и полномочные министры государств, аккредитованные при американском правительстве. Господа эти явились за советом к всемогущему директору.
— Чем могу быть вам полезен, сэр? — обратился директор «Ирт Геральд» к английскому консулу.
— Вы можете оказать нам неоценимую услугу, — ответил англичанин. — Не поднимет ли ваша газета кампанию в нашу защиту?
— По какому поводу?
— Вы могли бы просто выразить протест против аннексии Великобритании, которую (произвели Соединенные Штаты…
— «Просто!» — воскликнул Фрэнсис Беннет, пожимая плечами. — Аннексия, произведенная сто пятьдесят лет назад! Неужели же господа англичане никогда не примирятся с тем, что ввиду справедливого круговорота вещей на земном шаре их страна стала американской колонией? Да ведь это было бы чистейшим безумием! Как могло ваше правительство даже предположить, что я затею такую антипатриотическую кампанию?..
— Мистер Беннет! Согласно доктрине Монро «Америка — американцам». Вам это известно. Но только Америка.
— Но Англия — всего-навсего наша колония, сударь, одна из прекраснейших наших колоний! Не надейтесь, что мы когда-либо согласимся отдать ее.
— Вы отказываетесь?
— Отказываюсь! А если вы будете продолжать настаивать, мы можем создать повод ж объявлению войны на основании простого интервью одного из наших репортеров.
— Итак, конец! — прошептал в отчаянии консул. — Соединенное королевство, Канада и Новая Британия принадлежат американцам, Австралия и Новая Зеландия независимы… Что же нам осталось из всего, что некогда было Англией?.. Ничего!..
— Ничего?! — с возмущением воскликнул Беннет. — Вот еще новости! А Гибралтар?[14]
В эту минуту пробило двенадцать часов. Директор «Ирт Геральд» сделал жест, означавший конец аудиенции, вышел из зала и, усевшись в катящееся кресло, через несколько минут оказался уже в столовой, расположенной на расстоянии километра, в противоположном конце здания.
Стол накрыт; Фрэнсис Беннет занимает свое место. Под рукой у него несколько кранов, а прямо перед ним — зеркало фонотелефота, которое сейчас отражает столовую в его парижском особняке. Несмотря на разницу во времени, мистер и миссис Беннет сговорились завтракать в один и тот же час.
Но парижская столовая пуста.
— Эдит, наверно, запоздала, — говорит себе Фрэнсис Беннет. — О женская пунктуальность! Все прогрессирует, за исключением этого!
Высказав эту, увы, правильную мысль, он поворачивает один из кранов.
Как и все состоятельные люди нашего времени, Фрэнсис Беннет, отказавшись от домашней кухни, стал абонентом большого общества «Питание на дому». Это общество по сложной сети пневматических труб доставляет своим клиентам множество самых разнообразных блюд. Система эта обходится, разумеется, недешево, но зато кушанья вкусные, а главное — это дает возможность избавиться от невыносимой породы домашних поваров и поварих.
Итак, Фрэнсису Беннету пришлось завтракать в одиночестве, что его несколько огорчило. Он уже допивал кофе, когда миссис Беннет, вернувшись домой, показалась в зеркале фонотелефота. Поцеловав миссис Беннет в щеку, отраженную в рефлекторе, Фрэнсис Беннет направился к окну, где его ожидал аэрокар.
— Куда прикажете, сэр? — спросил аэроводитель.
— Дайте подумать… Я, пожалуй, успею… — ответил Фрэнсис Беннет. — Доставьте меня на мою фабрику аккумуляторов на Ниагаре.
Аэрокар, чудесная машина, основанная на принципе «тяжелее воздуха», ринулся в пространство со скоростью шестисот километров в час[15]. Под ним мелькали города с их движущимися тротуарами, везущими прохожих вдоль улиц, и поля, прикрытые паутиной переплетающихся электрических проводов.
За полчаса Фрэнсис Беннет долетел до своей ниагарской фабрики, в которой, использовав силу водопада для производства энергии, он продает ее или отдает за плату во временное пользование потребителю. Закончив осмотр, он через Филадельфию, Бостон и Нью-Йорк вернулся в Центрополис, где аэрокар высадил его около пяти часов.
В приемной «Ирт Геральд» теснились люди. Здесь ждали возвращения Фрэнсиса Беннета в обычный час, отведенный для приема посетителей. Тут были изобретатели, жаждавшие получить необходимые им субсидии, маклеры, предлагавшие комбинации — необычайно выгодные, па их словам. Нужно уметь сделать выбор среди этой массы предложений — отбросить негодные, рассмотреть сомнительные, принять выгодные и удачные.
Фрэнсис Беннет быстро выпроводил тех, чьи замыслы были неосуществимы или вовсе бесполезны. Один, например, предлагал не более и не менее как возродить живопись — это искусство, дошедшее до такого упадка, что «Ангелюс» Милле был недавно продан за пятнадцать франков![16] И все это благодаря успехам цветной фотографии, изобретенной в конце XX века японцем Арцисва-Риочи-Никомэ-Санью-комац-Кио-Каски-Ку, имя которого приобрело такую широкую известность[17]. Другой гордился открытием биогенной бациллы, которая должна сделать человека бессмертным, если будет введена в его организм. Третий, химик по специальности, хвастал тем, что открыл новое вещество, нигилиум, грамм которого будет стоить всего-навсего три миллиона долларов[18]. Какой-то врач утверждал — поверите ли? — что обладает средством излечивать насморк.
От всех этих фантазеров Фрэнсис Беннет отделался, не теряя времени.
Некоторые другие встретили более дружелюбный прием… особенно молодой человек, высокий лоб которого свидетельствовал о выдающихся умственных способностях.
— Сэр, — сказал он, обращаясь к Фрэнсису, — если некогда считали, что существует семьдесят пять простых тел[19], то в наше время число этих тел доведено до трех. Вам это известно?
— Разумеется, — ответил Фрэнсис Беннет.
— Так вот, сударь, я в состоянии свести все эти три к одному. Если только у меня не будет недостатка в деньгах, я уже через несколько недель добьюсь успеха.
— И тогда?..
— И тогда я просто-напросто найду абсолют[20].
— А практические выводы из этого открытия?..
— Можно будет с легкостью создать любое вещество — камень, дерево, металл.
— Не считаете ли вы себя способным создать и человеческое существо?
— Безусловно!.. В нем не будет только души.
— Только и всего? — с иронией переспросил Фрэнсис Беннет, но все же прикомандировал молодого химика к научной редакции газеты.
Другой изобретатель носился с мыслью передвинуть целый город. Речь шла в первую очередь о городе Саафе, расположенном милях в пятнадцати от моря. Предполагалось превратить этот город в приморский курорт, после того как он по рельсам будет подвезен к морскому берегу.
Фрэнсис Беннет, которого эта перспектива соблазнила, согласился участвовать в деле на равных началах с изобретателем.
— Вам, разумеется, известно, сэр, — начал третий кандидат, — что благодаря нашим аккумуляторам и солнечным и земным трансформаторам нам удалось уравнять времена года. Я намереваюсь достичь большего. Превратим часть энергии, которой мы располагаем, в тепло и направим это тепло в полярные страны, с тем чтобы расплавить там льды…[21]
— Оставьте мне ваш проект, — ответил Фрэнсис Беннет, — и зайдите через неделю.
Наконец четвертый ученый сообщил, что один из вопросов, волновавших весь мир, будет окончательно разрешен именно сегодня вечером.
Известно, что сто лет тому назад смелый опыт, произведенный доктором Натаниэлем Фэтберном, привлек к нему внимание самых широких кругов. Горячо убежденный в возможности «зимней спячки человека» — другими словами, в возможности приостановить все жизненные функции организма, а затем через известный промежуток времени снова восстановить их, доктор Натаниэль Фэтберн решился проверить предлагаемые им методы и произвести опыт на самом себе[22].
Составив собственноручное завещание, содержавшее точный перечень мер, которые должны быть применены для возвращения его к жизни ровно через сто лет, он подвергся замораживанию при температуре в минус 172 градуса. Превращенный в подобие мумии, доктор Фэтберн был опущен в могилу на определенный им самим срок.
И вот именно сегодня, 25 июля 2889 года, истекал назначенный доктором срок, и последний посетитель явился к Фрэнсису Беннету с предложением произвести так долго ожидавшееся оживление умершего в одном из помещений «Ирт Геральд». Публику можно было таким образом держать в курсе всего происходящего.
Предложение было принято. Но так как оживление должно было состояться не раньше десяти часов вечера, Фрэнсис Беннет улегся на шезлонге в гостиной. Протянув руку, он нажал кнопку и соединился с Центральным концертным залом.
Какое наслаждение он испытывал после такого утомительного дня, прислушиваясь к произведениям лучших композиторов, основанным, как известно, на чередовании восхитительных гармонико-алгебраических формул!
Стемнело. Погруженный в полуэкстатическую дрему, Фрэнсис Беннет не заметил, как распахнулась дверь.
— Кто тут? — воскликнул он, очнувшись, и нажал на кнопку выключателя, расположенного под самой его рукой.
И мгновенно воздух под влиянием электрических колебаний в эфире засветился[23].
— Ах, это вы, доктор? — произнес Фрэнсис Беннет.
— Я, собственной персоной! — ответил доктор Сэм. — Ну, как вы себя чувствуете?
— Хорошо.
— Тем лучше… Язык…
И он осмотрел язык при помощи микроскопа.
— Чистый… Ну, а пульс? — Доктор приставил к руке пульсограф — аппарат, схожий с тем, который отмечает колебания почвы[24].
— Великолепный… Аппетит?
— Так себе.
— Да… желудок… Что-то с ним не совсем ладно… Стареет ваш желудок… Придется вставить вам новый[25].
— Посмотрим! — ответил Фрэнсис Беннет. — А пока что пообедаем со мной, доктор.
Во время обеда была установлена фонотелефотическая связь с Парижем. На этот раз миссис Беннет сидела у себя за столом, и обед, которому шутки доктора Сэма придавали большое оживление, прошел приятно.
— Когда ты предполагаешь вернуться в Центрополис, дорогая Эдит? — спросил по окончании обеда Фрэнсис.
— Я как раз собираюсь в дорогу.
— Подводным тоннелем или аэропоездом?
— Конечно, подводным тоннелем.
— Значит, ты будешь здесь?..
— В одиннадцать часов пятьдесят девять минут вечера.
— До скорой встречи. Смотри только не опоздай к отходу!
После ухода доктора, который обещал вернуться, с тем чтобы присутствовать при восстании из гроба своего коллеги Натаниэля Фэтберна, Фрэнсис Беннет, намереваясь проверить счета за сегодняшний день, направился к себе в кабинет. Неимоверный труд, когда речь идет о предприятии, ежедневные расходы которого составляют восемьсот тысяч долларов! К счастью, успехи современной техники до чрезвычайности упрости пи такие подсчеты. С помощью электросчетного пианино Фрэнсис Беннет очень быстро справился со своей задачей[26].
Да и пора уже было. Не успел он в последний раз ударить по клавишам счетного аппарата, как его вызвали в зал, где производился опыт.
Тело Натаниэля Фэтберна находится тут же, в гробу, установленном на помосте посреди зала.
Включен фонотелефот. Весь мир будет иметь возможность следить за всеми фазами операции.
Открыт гроб… Вынимают из него Натаниэля Фэтберна… Он все еще походит на мумию — желтый, твердый, сухой… При постукивании тело его звучит глухо, как деревяшка… Его подвергают действию тепла… Электричества… Безрезультатно… Ничто не может вывести его из этого сверхкаталептического состояния.
— Ну как, доктор Сэм? — спрашивает Фрэнсис Беннет.
Доктор склоняется над телом коллеги, вглядывается в него с величайшим вниманием… вводит ему под кожу несколько капель броун-секаровской жидкости, которая до сих пор еще в моде.
[Броун-секаровская жидкость — медицинское средство для повышения жизненного тонуса организма, предложенное в 1889 году известным французским физиологом Броун-Секаром. — Прим. ред.]
…Мумия остается все такой же мумифицированной.
— Мне кажется, — произносит доктор Сэм, — что зимняя спячка чересчур затянулась и что Натаниэль Фэтберн… мертв.
— Мертв?
— Мертв, как только можно быть мертвым!
— Когда же он умер?
— Когда?.. — говорит доктор Сэм. — Да сто лет назад. Тогда, когда он осуществил свою злополучную идею и дал себя заморозить из любви к науке…
— Что поделаешь, — заключает Фрэнсис Беннет. — Этот метод еще нуждается в совершенствовании.
— «Совершенствование» — самое подходящее слово, — отвечает доктор Сэм, в то Время как научная комиссия по изучению зимнего сна удаляется со своей печальной ношей.
Фрэнсис в сопровождении доктора Сэма вернулся к себе в комнату. Так как мистер Беннет после тяжелого делового дня казался несколько утомленным, доктор посоветовал ему перед сном принять ванну.
— Вы правы, ванна меня освежит…
— Безусловно, мистер Беннет. Хотите, я, выходя, отдам распоряжение…
— Незачем, доктор! В доме всегда наготове ванна, и мне даже не приходится, чтобы принять ее, выйти из комнаты… Поглядите… достаточно коснуться вот этой кнопки, и ванна тронется с места. Вы увидите — сейчас она появится, наполненная водой, нагретой до тридцати семи градусов.
Фрэнсис Беннет нажал кнопку. Послышался глухой шум, постепенно нарастающий, усиливающийся… Затем распахнулась одна из дверей, и появилась скользящая по рельсам ванна…
Но, боже… Доктор Сэм поспешно закрывает лицо руками, из ванны доносятся восклицания, выражающие стыдливый испуг.
В ванне находилась миссис Беннет, прибывшая с полчаса назад по пневматической подводной трубе.
На следующий день, 26 июля 2889 года, директор «Ирт Геральд» снова пустился в двадцатикилометровый рейс сквозь все отделы своей газеты. А впрочем, когда тотализатор закончил подсчет, прибыль за истекший день возросла на пятьдесят тысяч по сравнению со вчерашней.
До чего же выгодное ремесло — ремесло журналиста в конце двадцать девятого века!
А. Викторов, инженер ГРОЗНЫЙ МИ-БЕМОЛЬ
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 7, 1959
Рис. Р. Авотина
На этой высоте не хватало воздуха. Мы поднимались очень медленно, тяжело дыша. Анероид показывал пять тысяч метров над уровнем моря.
Глубоко внизу, невидимая нам, глухо ревела, перекатывая глыбы камня, буйная вода тибетской реки Нуцзян.
Мы шли налегке по узкой горной тропе гуськом, нога в ногу за старым проводником Солованцю. За нами следом подымались осторожные тибетские яки с изыскательским снаряжением на спинах.
— Ну и дорожка в небесах! — проворчал топограф Максимов и остановился, переводя дух, на крохотной каменистой площадке.
Я, Ли-цзян и радист с удовольствием последовали его примеру. Проводник обернулся на оклик Ли-цзяна, и на его коричневом морщинистом лице появилось подобие улыбки. Он что-то сказал и показал направо рукой. Ли-цзян перевел: — Большие горы впереди, а над ними главным — старый горный дед Цюйершань с седой головой. Сердитый дед, пройти перевал скорей надо.
Солованцю сосредоточенно смотрел, не мигая, вдаль, и вся его сухая, как осеннее дерево, фигура торжественно выпрямилась. Впереди расстилалась панорама, подавляющая своим величием.
За целью гор подымалась седая от снежной пелены острая вершина Цюйершаня. Она серебрилась в лучах заходящего солнца и, казалось, была близка. Темные скалы неясным пьедесталом теснились под ней. Между скал плыли клочья белесых облаков.
Солованцю тронулся с места, не дожидаясь сигнала, и мы поплелись за ним.
Стемнело, когда проводник подвел караван к ущелью, рассекавшему скалы, которые нависали над тропинкой. Здесь был наш очередной пункт нивелировки трассы будущей горной тибетской дороги. Хао-дун, радист, разгрузил яков, сняв вьюки с аппаратурой, а остальные принялись готовить лагерную стоянку под естественным каменным навесом из сланцев.
Сон в горах среди скал недолог. Утром мы проснулись от звуков музыки. Это Хао-дун настроил приемник, добавил усиление, и в разреженный воздух понеслись звуки рояля. Мощные аккорды прелюда Рахманинова, усиленные эхом, звучали необычайно громко. И долго-долго, уже после того как радист перешел на переделу и прием служебных радиограмм, нам казалось, что мы слышали перекаты грозы в горах.
Ли-цзян был страстным любителем классической музыки. Он считал, что миниатюрный магнитофон не так уж отягощает багаж изыскателей, чтобы отказаться от удовольствия в часы отдыха наслаждаться любимыми мелодиями. При наличии мощного полупроводникового радиоприемника, который всегда сопутствовал дальним экспедициям и отрядам, такое желание удовлетворить было довольно просто.
Рекогносцировка окрестностей показала, что будущую трассу дороги преграждают выступы скал, сложенных различными породами. На сотом пикете ясно различались круто наклоненные пласты черных слюдистых сланцев, таких же, как и на нашей стоянке. Они напоминали своим строением слоеные пироги с подгоревшей коркой. Роль корки играл верхний пласт, отделенный выветриванием.
К концу дня мы вернулись на стоянку, и радист передал в экспедицию радиосводку, а затем включил магнитофон. Полилась мелодия Глинки. Глубокому, рыдающему звуку виолончели вторил голос: «Уймитесь, волнения страсти…» Звуки разрастались, их тон стал низким до предела; виолончель уже не выпевала, а мощными раскатами несла мелодию в ущелье. Казалось, воздух настолько вибрирует, что и скалы насыщены звуками романса.
Ли-цзян замахал руками, подавая радисту знаки прекратить передачу.
Мелодия оборвалась на самом низком тоне, и на мгновение воцарилась тишина. Но почти сразу в тишину врезался какой-то шуршащий звук, не похожий ни на что слышанное ранее. В долю секунды шуршание превратилось а скрежет. Грохот обвала покрыл собою в финале все звуки. Это обрушилась нависающая, как крыло птицы, «подгоревшая корка» сланца. Она соскользнула с наклонного пласта и, промчавшись почти у нас над головой, упала и раздробилась на множество плиточек.
Солованцю остановившимся взглядом смотрел вниз, откуда, приглушенные расстоянием, неслись перестуки скатывающихся обломков. Он тихонько бормотал заклинания. И мы так же, как и проводник наш, стояли неподвижно, облизывая губы, пересохшие от волнения и испуга.
— Ми-бемоль, ми-бемоль! — закричал вдруг Ли-цзян, а мы с Максимовым испуганно переглянулись, но наш инженер продолжал повторять те же слова, сверкая глазами. Опомнившись, он умолк.
Радист пощелкал выключателем. Аппаратура запылилась, но была цела. Он передал в экспедицию радиограмму о том, что дорожно-изыскательский отряд обнаружил на трассе свежий обвал.
— Ми-бемоль, — повторил Максимов. — Какое странное, совсем не китайское слово! Это что-то из музыки. Что ты кричал сейчас, Ли-цзян? — спросил он.
— Вы же слышали, на какой ноте оборвался романс, — ответил Ли-цзян и засмеялся, увидев непонимающий взгляд Максимова.
— Ли-цзян в каждом грохоте может услышать музыкальный тон, — сказал я.
Но инженер только пожал плечами. Осмотрев снаряжение, мы убедились, что все невредимо, и вскоре принялись за ужин.
На следующий день Солованцю отправился в обратный путь, на базу экспедиции. С ним пошли вьючные яки. Он должен был привести второй отряд.
Прошла неделя. Нам осталось дня два работы, чтобы подойти к сотому пикету. Это был опасный участок трассы. Еще более огромная скала наклонилась над узкой тропой, покрытая черными выветренными плитами сланцев, которые, казалось, готовы были свалиться на голову неугомонным путникам.
Максимов опасался вести работы на этом пикете, и не без оснований. Каменная лавина могла обрушиться в любую минуту — и тогда прощай жизнь!
— Пока мы дойдем туда, я успею обеспечить вам безопасность работы, — твердо заявил Ли-цзян.
Мы с Максимовым хотя и знали характер нашего начальника, но положились на две известные поговорки: «утро вечера мудренее» и «авось кривая вывезет».
Возвратившись в лагерь из очередного маршрута, мы увидели караваи Солованцю и второго радиста, который выгружал несколько мощных направленных динамиков-громкоговорителей — оборудование, несколько странное для изыскательского отряда. Однако Ли-цзян сказал, что это все нам может пригодиться на сотом пикете. Назавтра мы побрели туда, неся в рюкзаках эту увесистую кладь.
Радисты установили два динамика под скалой, а другие два подняли к ее вершине. Это было странное, фантастическое зрелище. В пустом, безлюдном ущелье, среди угрюмых скал готовился радиоконцерт.
Кого здесь должны пленять звуки музыки? Но Ли-цзян был немногословен:
— Вы хотели безопасности? Она будет!
— Умилостивить горного духа сладкими напевами? Этот номер оставь для Солованцю, а нам… — заворчал Максимов, но смолк остановленный взглядом Ли-цзяна.
Хао-дун включил магнитофон, и вскоре четыре динамика дружно выплеснули мощнейшие звуки «Сомнения» Глинки, удесятеренные эхом. Почти оглохнув и не чувствуя от такой, хотя и знакомой музыки ни малейшего удовольствия, мы с раздражением ждали конца этого странного развлечения Ли-цзяна.
Когда виолончель и голос певца загремели о том, что… «страстно и жарко забьется воскресшее сердце», раздался гот же странный шелест и скрежет, который нас поразил еще в лагере, и плита выветренных сланцев, эта «горелая корка», скользя по наклонному пласту, как санки с крутой горы, скатилась в пропасть.
Мы стояли онемев, а Ли-цзян смеялся. Ну и смеялся же он!
— Не удивляйтесь, друзья, — услышали мы его слова. — Помните обвал над лагерем и мой крик: «Ми-бемоль!»? Это был тон, на котором оборвалась тогда музыка Глинки.
— Значит, от музыки обвал? — перебил я. — Не очень-то велика сила звука!
— Да, ты прав, — ответил Ли-цзян. — Даже звуки мощного симфонического оркестра в семьдесят пять человек излучают ничтожную энергию, какие-нибудь доли ватта. Но есть другая великая сила в звуке — это резонанс.
Приходилось ли вам когда-нибудь прислушиваться к звукам, которые издает рояль или скрипка, когда рядом с ними играют на другом инструменте?
Ведь все упругие тела резонируют, но только на определенные тона и с разной силой. Верхний пласт сланцев — это своеобразная резонансная доска. Он и лежит на скале, как доска, и должен отзываться на какой-либо тон. Видимо, тон ми-бемоль и был для него резонирующим. Пласт стал вибрировать. А много ли нужно сил для сдвига наклонного пласта, отделенного выветриванием от скалы? Ведь под блестящей от слюды его нижней плоскостью лежит такой же гладкий пласт слюдистых сланцев.
Ли-цзян говорил все это без запинки, словно читал лекцию. Он продолжал:
— Рассудим дальше. Сила трения верхнего, отделившегося пласта сланцев о поверхность скалы при ее крутом наклоне так мала, что достаточно было ничтожного колебания, и тогда сила тяжести сланцев сыграла свою решающую роль. Потому-то пласт и сполз в пропасть от звуков в тоне ми-бемоль. Скатываются же в горах лавины снега от громких криков неосторожных путешественников!
Убежденные доводами китайского инженера, мы прокричали «ура» в честь Ли-цзяна и его музыки.
— Ты, Ли-цзян, как древнегреческий титан, перебрасываешь скалы? — воскликнул Максимов, пожимая ему руку.
— Не хвали, друг, — ответил Ли-цзян. — Я буду сильным только там, где есть три условия: выветренные сланцы, крутой угол их наклона и соответствующий резонанс каменного пласта.
Д. Биленкин, инженер ЗРИМАЯ ТЬМА
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 8, 1959
Рис. Р. Авотина
Я сделал, конечно, большую глупость, что в тот поздний октябрьский вечер пошел от станции к даче Вовы Минаева не по шоссе, делавшему крюк, а через картофельное поле напрямик.
Едва за пригорком скрылись пристанционные огни, я очутился в полнейшей темноте. Сделав сотню шагов, я сбился с тропинки. Чтобы найти ее, я даже землю ощупал руками, но не отыскал ничего, кроме гнилой картофельной ботвы.
Далеко впереди сквозь ветки редкого леса мерцали фонари поселка. Мне не оставалось ничего другого, как идти на них. Я ставил ноги, не видя куда, и они проваливались в рытвины, тонули в рыхлой земле, подворачивались, скользили, спотыкались о грядки.
Вдруг откуда-то сбоку из мрака донесся мужской голос:
— Зачем вы мучаетесь, когда рядом замечательная тропинка?
— Не для собственного удовольствия, конечно! Чем задавать такие вопросы, лучше скажите, как выбраться на тропинку.
Я шагнул влево и угодил в яму, на дне которой оказалась вода.
— Ах, боже мой! — забеспокоился человек. — Стойте: я лучше проведу вас.
Через минуту рядом со мною смутно обозначилась длинная фигура. Человек осторожно взял меня за рукав, и мы двинулись. Но буквально через несколько шагов я поскользнулся и чуть не сбил спутника с ног.
— Знаете что, — нерешительно сказал тот, — пожалуй, мне лучше дать вам очки. Только…
— Чем здесь могут помочь очки? — удивился я.
— Это не совсем обычные очки.
Они позволяют видеть ночью. Я вам их сейчас надену, только не трогайте нечего.
— Хорошо, — ответил я несколько заинтригованный.
Тяжелый, но гибкий металлический обод охватил мою голову.
Пальцы незнакомца укрепили на переносице дужку, и мои глаза оказались плотно закрытыми.
— Теперь зажмурьтесь, — сказал незнакомец. — То, что вы увидите в первый момент, вероятно, несколько поразит вас. Но вы не беспокойтесь. По дороге я вам все объясню.
Незнакомец щелкнул возле моего виска каким-то рычажком и сказал:
— Можете смотреть.
Батюшки! Куда я попал?! Я был перенесен в фантастический мир, великолепный, но мрачный. Темнота пропала. Вокруг все казалось залитым светящейся краской. Прямо передо мной лежало пылающее поле, которое к горизонту тускнело оксидированной медью. Там, словно от вкопанных по фитиль в землю свечей, поднимались неподвижные язычки желтого пламени.
Небо, трепещущее светом грозовых туч, бороздили пятнистые пурпурные молнии. От них на поле вокруг бугров ходила двухцветная тень. Я глянул под ноги — и испугался. Подо мной была вода, вздрагивающая в глубине мутно-рыжими вихрями. Испуг мой увеличился, когда я оглянулся. Рядом стояла человеческая фигура в наглухо застегнутом пальто печеночного цвета. На раскаленном почти добела лице зловещими углями горели глаза.
«Я схожу с ума!» — мелькнула ужасная мысль. В страхе я схватился руками за голову.
— Осторожней! — предостерегающе закричала фигура, и к моему лицу протянулась кроваво-красная рука.
Но было поздно: я нажал что-то в очках и провалился в калейдоскопический вихрь. Хаос туманных светящихся шаров, колец, пятен, меняющих ежесекундно форму, очертания, окраску, кружился вьюгой.
Инстинктивно я поднял руку, чтобы защититься от летящего прямо в лицо огненного облака. Руки не было! Мое тело исчезло. Верней, оно превратилось в неясно очерченную, словно сотканную из пара, массу. На мгновение мне показалось, что я умер, но моя мысль еще продолжает существовать в каком-то эфирном мире.
Вдруг ослепительный луч света прорезал эфир. Я ошалело метнулся и побежал. Ниоткуда, из пустоты несся отчаянный вопль: «Стойте! Стойте!..»
Я бежал, задыхаясь, спотыкаясь, падая, не в силах ни прорвать толщу светового хаоса, ни остановиться. Верней, бежало мое тело, оставшееся в прежнем вещественном мире. Оно чувствовало боль, когда ветки хлестали по лицу, слышало удаляющийся топот чьих-то ног.
В конце концов я потерял сознание.
Прийти в себя заставил холод. Я лежал на земле, щекой чувствуя мокрую траву. Болела голова. Не открывая глаз, я ощупал очки. Они охватывали затылок толстым ободом, переходящим на висках в ребристую маску, которая закрывала глаза. Против глаз оказались гладкие, желудеобразные выступы.
«Первое, что надо сделать, — это избавиться от очков», — подумал я. Крепко зажмурив глаза из боязни новых неприятностей, я стал нажимать на все выступы, отдаленно напоминающие кнопку или замок.
Едва я надавил какой-то штырек, обод раскрылся. Я снял очки. Кругом по-прежнему была темнота, непроницаемая у земли, слабо белесая в небе.
Я встал. Теперь, когда подо мной снова находилась старая, милая, чернеющая у ног земля, я, наконец, сообразил, что ничего сверхъестественного со мной не приключилось, а что очки, очевидно, каким-то непонятным способом изменяли попадающие в глаза световые волны. Мне захотелось опять надеть очки. Уверенность, что я в любую секунду могу их сбросить, придала смелость.
Едва я надел очки, — для этого потребовалось только сомкнуть концы обода, — как вокруг снова закружился эфир.
Я сделал несколько шагов. Но в завихрениях эфира изменений не произошло, будто я стоял на месте. Танец светового эфира удивительно однообразен. Когда он мне наскучил, я в поисках новых ощущений нажал рычажок, расположенный возле виска с правой стороны. Картина мигом изменилась. Опять пламенели язычки свечей, только теперь они находились ближе, горели ярче и были уже не сплошными, как в первый раз. Казалось, из огненных стволов росли спутанные клубки застывших, кривых молний.
«Вроде дерева», — подумал я, вглядевшись. И тут же сообразил, что это и есть дерево. Вот ствол. Морщины коры выделялись темным прихотливым узором и придавали ему объемность. Сучья слегка шевелились под слабыми порывами ветра, создавая иллюзию золотых змеиных жал.
Итак, я оказался обладателем столь же изумительного, сколь и непонятного прибора. Но где хозяин очков? Как мне его найти? Обдумав положение, я решил, что лучше всего зайти к Минаеву, почиститься, а затем отправиться на розыски незнакомца.
Я включил «Светящийся мир» — это давало мне возможность пусть в непривычном свечении, но все же в знакомых очертаниях видеть окружающее. Неподалеку находился пригорок.
Очутившись на вершине пригорка, я замер в восхищении. Из гущи деревьев, как из костра, глыбой раскаленного камня высилось здание церкви. Лохматые ветви, точно языки пламени, лизали багрово-матовые стены.
Церковь была мне знакома. Она находилась на окраине поселка, в полукилометре от дачи Минаева.
Спустившись с пригорка, я направился мимо нее к домам, которые в обрамлении деревьев-факелов двумя шеренгами разноцветных китайских фонариков выстроились вдоль улицы.
Отыскав дачу Минаева, я вошел в неосвещенную переднюю и нажал кнопку звонка.
— Кто там? — послышался Вовин голос.
— Это я.
— А… Сейчас открою и зажгу тебе свет.
— Свет? Зачем? Тут очень светло, — ответил я со смехом.
— То есть как светло? — удивился Вова, отпирая дверь. — Темно, как в погребе.
Он щелкнул выключателем.
Свет семидесятисвечовой лампочки ослепил меня. Инстинктивно растопырив руки, я двинулся вперед на ощупь.
— Что с тобой? — услышал я сдавленный голос.
— Как что? — удивился я. — Ничего.
— Да нет же… Ты весь в грязи… И потом, зачем ты надел маску?
— Грязь? — Я осмотрел полу пальто. — Разве это грязь? Это же светящиеся сгустки звездной материи, слепец! А маска… О, это не маска, а очки, магические очки, в них видишь сущность вещей. Выключи, пожалуйста, свет в комнате, а то здесь слишком светло.
— Ты… ты нездоров?
Вместо ответа я загадочно изрек:
— Перед тобой император «Светящегося мира» и великий князь «Танцующего светового эфира», а ты, безглазая сосулька, болтаешь тут о каком-то здоровье!
Я услышал позади себя поспешный стук захлопнувшейся двери.
Нашарив выключатель лампы (обстановка комнаты была мне хорошо знакома), я выключил свет, уселся в кресло, облегченно вытянул усталые ноги и принялся с любопытством разглядывать знакомые предметы комнатной обстановки в их новом виде.
Стены были словно выложены темным янтарем. Потолок напоминал закатное небо. Розовую чернильницу на светло-вишневом столе наполняла золотая вода.
Я передвинул рычажок очков. Стены комнаты затуманились и отлетели в бесконечность. Опять закружился световой эфир.
Дверь приотворилась. Я переключил рычажок и увидел на пороге Вову. Его тощая фигура, выражающая растерянность и боязнь, показалась мне комичной. Я засмеялся.
Вова вздрогнул и исчез. Но мне уже надоело шутить. Пора было почистить одежду и поужинать. Все еще не снимая очков, я вышел в соседнюю комнату и зажмурился от невыносимо яркого света. Тут же кто-то крепко схватил меня за руки.
— Что за шутки?! — вскричал я.
— Спокойно, спокойно, — услышал я голос одного из тех, чьи смутные фигуры маячили в окружающем световом тумане.
Меня потащили из комнаты. Напрасно я звал на помощь.
На улице я, наконец, разглядел своих противников. Их было трое. На рукавах их халатов я увидел кресты. Крест был изображен также на дверце автомобиля. За автомобилем прятался перепуганный Минаев.
— Стойте! — завопил я, поняв, что стал жертвой мнительности своего приятеля. — Я же не сумасшедший!
Но санитары не слушали меня. Третий, очевидно, врач, говорил Минаеву:
— По-моему, у вашего друга (далее последовала какая-то латынь). Вы правильно сделали, что позвонили нам.
Но вдруг перед врачом появилась длинная фигура моего незнакомца в пальто печеночного цвета.
— Я инженер Сизов! — кричал незнакомец, размахивая перед лицом опешившего врача какой-то бумажкой. — Вы не смеете его задерживать! Он проводит ответственный опыт по трансформации световых лучей!
Час спустя Сизов, я и Минаев, с лица которого не сходила сконфуженная улыбка, сидели за чашкой чаю. Сизов курил и с задумчивой улыбкой рассказывал историю одного из интереснейших открытий.
— Вы, конечно, знаете, — говорил он, — что глаз человека из всего спектра электромагнитных колебаний воспринимает лишь узкую область световых лучей. Коротковолновые лучи — ультрафиолетовые, рентгеновские, космические, равно как и длинноволновые — инфракрасные, радиоволны, словно не существуют для зрения. Современная техника, правда, косвенным путем делает некоторые из них видимыми. Так, ваша рубашка, если она сделана из некоторых сортов искусственного шелка, даст вам знать об ультрафиолетовом излучении: под действием концентрированного пучка она засияет голубым. Экран, покрытый сернистым цинком, вспыхнув зеленым, доложит о рентгеновском излучении. И так далее.
Пять лет назад институту, где я работаю главным инженером, предложили улучшить конструкцию существующих типов «ночных биноклей».
Мы видим окружающие нас предметы лишь потому, что они отражают свет. Заход солнца означает для нас наступление темноты. Но кто думает, что с наступлением ночи гаснет всякий свет, тот ошибается. Камень, дерево, металл — все эти вещества светятся, и светятся по-разному. Они посылают в пространство длинноволновые инфракрасные лучи, лежащие в спектре непосредственно за красной областью. Их еще называют тепловыми лучами.
Чем выше температура тела, тем инфраизлучение сильней. Спектр обыкновенной электрической лампочки, к примеру, только на пять процентов состоит из видимого света. Остальные девяносто пять падают на долю инфракрасных лучей. Эта они раскаляют (Стеклянный баллон так, что к нему невозможно прикоснуться.
Вам приходилось наблюдать остывание расплавленного чугуна? При температуре свыше 1200 градусов он ослепительно белый. Охлаждаясь, металл становится последовательно желтым, оранжевым, красным, наконец, черным. Но эпитет «черный» неверен. Металл принимает не черный, а инфракрасный цвет. Этот цвет, как и любой видимый, имеет множество оттенков.
«Ночные бинокли» с помощью электронно-оптических преобразований позволяют видеть инфрасвет. Пользуясь им, летчик может рассматривать окутанную ночной мглой местность. Но все существующие до сих пор типы «ночных биноклей» несовершенны. Они «видят» много хуже, чем человеческий глаз днем. Особенно плохо они различают холодные предметы, инфрасвет которых слаб.
Инженер положил на скатерть кисти рук. Пальцы правой руки были испещрены мелкими белыми шрамами.
— Полупроводники, — продолжал он, — сейчас совершают в технике революцию. Успехи в этой области сделали возможным создание очков, которыми вы так несчастливо пользовались.
Мы установили, что пластинка чистого кремния, обработанная с поверхности парами редкого элемента скандия, исключительно чувствительна к диапазону длинноволнового электромагнитного излучения. Даже то ничтожное количество инфрасвета, которое дает лед, вызывает на границе слоя «чистый кремний — креммий+скандий» незначительный, но вполне уловимый электрический ток. Такая полупроводниковая пластинка оказалась волшебным глазом, увидевшим, как светятся «темные» тела. С помощью каскадного усилителя и плоской электронно-лучевой трубки изображение предметов, полученное полупроводником и переведенное в электрические сигналы, мы спроецировали на светящийся экран, создали нечто, подобное крохотному цветному телевизору.
— Простите, — перебил я, — «Светящийся мир» — это мир инфрасвета. А мир «Танцующего светового эфира», если вы мне позволите так его называть?
— Инфралучи граничат с радиоволнами в спектре электромагнитных колебаний. Признаюсь, для нас в свое время явилась полной неожиданностью способность кремне-скандиевых пластинок «видеть», помимо инфрасвета, еще и радиоволны.
— Так, световая буря, в которую я попал…
— Вы видели радиоволны.
— А луч, который так напугал меня?
— Вероятно, вы попали в зону направленной радиолинии Москва — Рязань.
— Ну, все хорошо, что хорошо кончается. — Я поспешил перевести разговор в прежнее русло. — Что у вас за шрамы на пальцах?
— Вещественная память о маленьких препятствиях на пути создания очков.
— Очки, вероятно, будут иметь большое практическое значение?
— Они позволяют ночью видеть не хуже, чем днем, — вы уже имели случай убедиться в этом. Но кроме того… Вот вчера мною получено письмо из Крымской астрофизической обсерватории, где испытывается сейчас прибор. Помните, что я сказал вам о лампочке? Делая невидимый свет видимым, прибор в десятки раз усиливает яркость звезд. Кроме того, он заставляет «вспыхнуть» инфразвезды. Астрономы пишут, что с помощью нашего аппарата удалось сфотографировать планетную систему Сириуса. Как видите, это уже его второе практическое применение. Каким будет третье? Мы, инженеры сегодняшнего дня, осторожны. Поэтому на вопрос о практическом применении «видения» радиоволн я отвечу: «Оно, несомненно, будет использовано».
Д. Биленкин УСИЛИТЕЛЬ ПАМЯТИ
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 9, 1959
Рис. А. Побединского
— Капризная штука память! — Игорь Зорин медленно обвел взглядом книжные стеллажи. — Меня преследует мысль о несовершенстве нашего разума. Здесь сотни томов по различным отраслям знаний. В свое время я прочел все, а что помню? Десяток формул, груду разрозненных фактов, кое-какие цифры, лишь немногие из которых я могу назвать вполне уверенно, отдельные положения, выдвигаемые авторами. Грустный итог, не правда ли?
Я сидел в кресле, с удовлетворением чувствуя, как неслышимые инфразвуковые волны снимают усталость. Поэтому отозвался лениво:
— Что ж, это естественно, нельзя запомнить всего.
Зорин и я, мы оба очень занятые люди. Однажды мой друг задумался, каким способом лучше всего возвращать работоспособность мозгу, утомленному напряженной умственной работой. Результатом явился аппарат инфразвуковой музыки. Беззвучные колебания лучших мелодий действовали волшебно. Вечер, проведенный в молчании за чашкой чаю, две-три сонаты Бетховена, исполненные в инфразвуковом ключе, позволяли каждому на неделю забыть об утомлении. Но в этот вечер Зорин о чем-то напряженно думал. Он вышагивал по кабинету, наклонив голову, и я уже решил, что отдых будет испорчен спором.
— Ты считаешь это естественным? — Зорин резко повернулся ко мне.
— А ты нет?
— Помнишь, когда-то на Брюссельской выставке была кибернетическая машина-память? Она отвечала на некоторые вопросы науки, искусства, литературы, истории.
— Так то машина…
— Вот именно. Запас памяти у человеческого мозга огромен. Он в десятки тысяч раз превосходит запас памяти самой лучшей кибернетической машины. Равноценный ему в этом отношении электронный мозг занял бы площадь Москвы. Кладовые нашего разума пусты, вот в чем беда.
— Положим, у некоторых людей с феноменальной памятью…
— Тоже, тоже! Ум рядового человека способен вместить все знания, какие только существуют, — квантовую механику, искусствоведение, таблицы навигации, рецепты всех национальных кухонь, стихи всех поэтов. Но ум — это дырявая сума. Мы — нищие памятью. Ретроактивное торможение безжалостно стирает записанное в нервных клетках коры больших полушарий.
— Так чем, собственно говоря, ты возмущаешься? Заманчиво, конечно, иметь лучшую память, но я не вижу способов получить ее.
— В том-то и дело, что способ есть, — пробормотал Игорь. Он смотрел на меня так, слоено от моего ответа зависела судьба способа.
— Выкладывай, — коротко сказал я.
— Если ввести в состав диэфиры сибазиновой кислоты, то при взаимодействии с ионами фтора…
— Что, что?
— А? — Мой друг словно очнулся. — Прости, пожалуйста, — он смущенно улыбнулся, — меня весь вечер мучит догадка, что затруднения, возникшие при работе с «усилителем памяти», можно преодолеть, если воспользоваться особыми качествами одного органического соединения. Я мучительно пытался вспомнить некоторые его побочные свойстве и как-то невольно завел этот разговор.
— Усилитель памяти? Ну-ка… Это становится интересным. Выключи, пожалуйста, инфрамузыку, она настраивает на ленивый лад.
Зорин щелкнул выключателем. Как всегда, осталось ощущение приятной свежести и отчетливости мыслей.
— Понимаешь, — начал он, — со мной произошло нечто странное. Ты, конечно, знаешь о действии мимических веществ на психику. Скажем, кислорода, спиртов. Человек делается шумным, возбужденным, не в меру болтливым. Среди отравляющих веществ известны газы, вызывающие чувство страха, подавленности, заставляющие людей истерически смеяться. Биохимики пошли дальше: они сначала выделили из мозга, а потом искусственно синтезировали препараты, которые являются носителями некоторых психических функций, например галлюцинаций. Кто-то сравнил мозг с фотопленкой, на которой отпечатывается все увиденное, услышанное, прочитанное, прочувствованное. Если продолжить сравнение, то можно сказать, что за день на пленке-памяти оказываются миллионы снимков. Время работает как проявитель. И тут-то выясняется, что пленка пуста. Сила впечатления в девяноста девяти случаях из ста настолько слаба, что изображение остается неуловимо скрытым в мозговой ткани и выпадает из картотеки памяти. Но мне удалось получить вещество, которое ведает в мозгу записью памяти. Я его назвал ТГК— тринитро-глиоксидинамит калия.
— И ты…
— И я задался целью усилить ту скрученность молекул ТГК, от степени которой зависит сила нашей памяти. Тебе случалось ловить рыбу под камнями?
— Предпочитаю удить.
— Напрасно. Это интереснее игры в шахматы. Полуденная жара (рыба тогда вся на дне), ты стоишь по пояс или по грудь в воде, осторожно шаришь ногами по дну. Есть, нашел! Окунаешься с головой в теплую воду. Перед глазами зеленоватая расплывчатая муть и в ней мохнатый камень. Закрываешь боковые выходы, потом запускаешь руку. И какое блаженство, когда твои пальцы касаются вздрогнувшего тела рыбы! Дальше самое увлекательное: она может уйти, если не схватить ее за жабры, — тут-то и начинается борьба. Успеешь нащупать жабры раньше, чем кончится дыхание, — добыча твоя. Вот и сейчас вертится у меня в пальцах скользкое тело усилителя, а ухватить не могу.
— А практически тебе удалось чего-нибудь добиться?
— С помощью препарата мы заставили подопытного попугая зазубрить детскую передачу радио. Но всего на десять минут. Впрочем, и эти десять минут осчастливили бы иных лекторов.
— Изумительно! Ты не представляешь грандиозность своего открытия!
Теперь уже я вышагивал по кабинету, а Зорин спокойно сидел в кресле, чуть улыбаясь.
— Полный переворот в обучении! Люди учатся десять лет в школе, пять — а институте, три — в аспирантуре. Целых восемнадцать лет они напрягают ум, зрение и память, чтобы заучить жалкие крупицы тех знаний, которые в них вкладываются. Все изменилось в мире со средневековья: мы ездим не в карете, а мчимся в автомобилях, поездах, самолетах; паровые игрушки древности превратились в наших руках в гигантские турбины; мы опоясали земной шар дорогами, радиоволнами, связали континенты. Только в одном мы не сдвинулись с места. Школьники и студенты как пятьсот лет назад зубрили лекции, так зубрят их и теперь, монотонно бубня под нос и мерно раскачиваясь. Что мы сделали за века для облегчения запоминания? Если мы и дальше не сыщем способа обучать людей по-новому, человечество в недалеком будущем зайдет в тупик. Знания свяжут прогресс, ведь для творчества нужны знания, а время их накопления будет измеряться чем дальше, тем большим числом лет.
И твое открытие, Игорь, это… выход! Оно обратит все умственные силы человека только на творчество, причем на такое, основой которому будет служить не та неимоверно малая доза полузнаний, которую держит в своей голове современный человек, а все сведения, добытые людьми за тысячелетия. Образованнейшим человеком сможет легко стать каждый.
Игорь весело смеялся.
— Да, если «усилитель» предстанет в таком виде, какой мне рисуется, школьники, верно, поблагодарят нас, ученых. Что же касается других последствий, то… нет, я не социолог, не буду гадать. Но думаю, что освобождение психической энергии человека для творчества — вещь более важная, чем даже обладание атомной энергией.
— Во всяком случае, обещай, что, когда «усилитель» будет создан, первым из посторонних, кто познакомится с его работой, буду я.
— Обещаю.
Я расстался с Зориным убежденный, что скоро стану свидетелем самого дерзкого вторжения человека в мир высшей нервной деятельности, какой происходил когда-либо. В смелый, оригинальный ум своего друга я поверил еще с детства — так поразила меня встреча с десятилетним Игорем.
Я спускался по откосу, поросшему кустами ежевики. Выбравшись из цепких лап кустарника, я очутился на поляне у подножья обрыва. Наклонясь над камнем, стоял мальчик в коротких штанишках и лил что-то на него из бутылки. Камень шипел и пузырился. «Что это ты делаешь?» — изумленно окликнул я его. «Обогреваю землю, — без тени улыбки ответил тот. — Содержание углекислого газа в атмосфере можно немного увеличить без вреда для человека, и тогда всюду будет вечное лето. Вот я и разлагаю соляной кислотой известняк, нужно выделить оттуда углекислоту. Хочу, чтобы под Москвой росли пальмы».
С годами Игорь изменил своему детскому желанию обогреть мир. Он увлекался последовательно физикой, химией и биологией. Интуиция ученого в нем сочеталась с образным мышлением писателя.
Несколько лет назад руководитель Института физической биохимии рискнул дать Зорину большую лабораторию. Он позволил вчерашнему студенту подобрать толковых работников.
Риск оправдал себя. Зорин и его сотрудники — фанатики науки, как и он сам, — работали с энтузиазмом, и лаборатория буквально фонтанировала открытиями, ошеломлявшими научную общественность.
Поэтому я нисколько не удивился, когда через три недели после памятного вечера Зорин позвонил мне и, ликуя, сообщил, что, наконец, схватил «усилитель» за «жабры».
— Приезжай ко мне, если задержусь, подожди. Ключ от квартиры на обычном месте, — услышал я в телефонную трубку.
С понятным интересом я ожидал Зорина, сидя у него в кабинете. Наконец дверь отворилась. Дальнейшее, однако, послужило темой не только серьезных разговоров, но и анекдотов.
— Добрый вечер, — приветствовал я друга.
— Добрый вечер, гуд ивиинг, гутен абенд, бон кyap, буэна сера…
— Да ты, никак, занялся лингвистикой?
— Лингвистика… Языковедение, языкознание, наука о языке. Подразделяется на фонетику, семантику, лексикологию, этимологию, грамматику, орфографию, орфоэпию. Лингвистика возникла в XIX веке. Ее еще можно подразделить на изолирующую лингвистику, агглютинирующую, флексирующую, но важней этого генеалогическое разделение. «Лингвистику, филологию и хиромантию за науки не считаю», — оказал…
— Что с тобой?! — вскочил я. Тут только мне бросилось в глаза странное состояние друга.
Его живой взгляд потух, неподвижные зрачки блестели, как стеклянные. Он тупо смотрел на пепельницу. В опущенных плечах, ссутулившейся спине была какая-то манекенная деревянность.
Я схватил его за плечи. Голова его откинулась внезапно, как от толчка, Зорин стал говорить, словно читая книгу:
— Уравнения, выражающие математическую зависимость отклонения гальванометра от числа спаев, площади приемника, термоэлектродвижущей силы, материалов спая, требуют прежде всего знания термоэлектрических параметров материалов термоспая, их взаимной электродвижущей силы, электропроводности, теплопроводности и теплоемкости. Для этих вычислений нужно также знать оптические свойства воспринимающих излучение поверхностей, коэффициенты их излучения и отражения для различных длин волн…
Он продолжал в том же духе, но я не выдержал и закричал в отчаянии:
— Игорь, голубчик, тебе плохо? Скажи, что случилось!
На мгновение у него в глазах мелькнуло осмысленное выражение. Недоуменно глядя на меня, будто не соображая, зачем я и кто, он потер лоб движением, казалось, стирающим невидимую, но липкую паутину. Однако затем в его мозгу словно опять щелкнул какой-то клапан. Он закрыл глаза ладонями.
— Лица, лица… всех людей, которые мне встречались. Ужасно!.. Они плывут. С прямыми носами, крючковатыми, бесформенными, как раздавленная слива, маленькими, утиными; лбы то морщинистые, то юношески гладкие, иные узкие, другие со слоновьими мудрыми выпуклостями; губы пухлые, надменно сжатые, вывороченные, вялые, лапотные. Миллионы лиц! Толпа… Они идут через мой мозг, все идут…
Тут для меня было хоть что-то понятное. «Поток лиц» знаком тем, кто имеет дело с лепкой образов словом ли, кистью или резцом. Его приход мучителен, но почти неизбежен. Со мной это случалось, когда бывала бессонница. Приходила череда движущихся выпукло-четких лиц, бесконечных в своем многообразии.
— Тебе нужен врач, — сказал я как можно мягче и снял телефонную трубку.
Игорь сделал слабое отрицательное движение рукой.
— Н-не надо… — с усилием проговорил он. — Это… это пройдет… уже проясняется. Не мешай.
Он повалился в кресло, уткнулся головой в обивку спинки и затих, глухо бормоча что-то.
Я растерянно стоял возле с гудящей телефонной трубкой, не зная, что делать. Не послушаться и вызвать «Скорую помощь»? Интуиция мне подсказывала, что «помощь» была бы здесь бессильна.
Положив. трубку на место, я распахнул штору. Город глянул сотнями освещенных окон, розовых, золотистых, белых, зеленых, синих. Невеселые были у меня мысли…
— Крепкую чушь я только что молол?
Вздрогнув, я обернулся. Игорь сидел в кресле прямо, смотрел облегченно и весело, капельки пота блестели на висках.
— Порядочную.
— Надо думать. Счастье, что эта штука действует пока недолго.
— Ты о чем?
— Об «усилителе», конечно. Препарат был готов, то есть он казался мне готовым. Я решил проверить его действие на себе. «Усилитель» — это не вакцина, действие которой можно проследить на кролике или морской свинке. Тут нужен для опыта человеческий мозг. Не без трепета я три часа назад выпил небольшую дозу жидкости. С таким ощущением человек будет, наверно, пить марсианскую воду. Потом взял книгу Д. Стронге «Техника физического эксперимента» — первую, оказавшуюся под рукой, — и стал читать страницу за страницей (отрывок я, кажется, воспроизвел тут). Ничего особенного я не чувствовал, лишь немного щипало язык. Минут через десять я закрыл глаза и стал припоминать текст. И заметил, что без напряжения вспоминаю абзац за абзацем. Строчки выплывали из памяти все быстрее и быстрее, как детали снимка в ускоренном проявителе. Тогда-то я и позвонил тебе. Но что потом началось, уф!
— Он оказался ядовитым?
— В обычном медицинском смысле «усилитель» совершенно безвреден. Он просто сделал свое дело — разбудил и чудовищно усилил память. Да как! Я оказался в положении того богача из сказки, который утонул в груде золотых монет. Все прожитое, познанное, перечувствованное ожило и захлестнуло сознание. Ничто, как выяснилось, не проходит бесследно. Я вспомнил даже, какие у меня были тапочки в четырехлетием возрасте и какие в пятилетием. Я мог наизусть продекламировать всего Льва Толстого. Ассоциативное, логическое мышление было сметено и подавлено. Не знаю, что подразумевают психиатры под «сумеречным состоянием души», но мое точней всего можно было назвать «сумеречным». Упрощенно говоря, произошло то же самое, как если бы в Ленинской библиотеке все книги в беспорядке поставили на полки корешками внутрь. Мой рассудок уподобился ошалевшему читателю такой библиотеки. Последствия ты видел.
— Значит, полная неудача?
— Наоборот, все отлично. В науке есть прекрасный закон: неудача — лучший ключ к познанию закономерности. Возьмем Лобачевского. Он пытался доказать пятый постулат Эвклида — и неудачно. Но доказательство, как выяснилось, недоказуемого подвело его к мысли о существовании иной геометрии, чем эвклидова.
Во время обострения памяти, вызванного препаратом, я вспомнил содержание некогда читанного мной учебника психиатрии. Забытые строчки стояли перед глазами так же ясно, как те, что чернеют на страницах вот этой раскрытой книги. Оказалось, что я искусственно вызвал у себя один из видов умственного расстройства, связанный с чрезмерной обостренностью памяти, — сходились все симптомы. Помню охватившее меня тогда гнетущее чувство неудачи. Тупик! Но теперь, спокойно размышляя над случившимся, я вижу, что это на тупик, в резкий поворот, к которому я пришел, следуя дорогой познания. Ведь суметь вызвать болезнь — значит ужа наполовину вылечить ее. Однако я вижу и другой путь применения «усилителя». Как ты сам заметил, в начале его действия была такая минута, когда туман, окутывавший истинное значение «усилителя», вдруг дал просвет и я вовремя обнаружил ту стену, в которую уперся и которую, без сомнения, долго бы еще не замечал. Ты понимаешь, я говорю об усилении памяти, которое мы стремились вызвать, на очень задумываясь над тем, а так ли это уж нужно и не изобретаем ли мы психически вредный препарат? Зачем человеку пусть всеобъемлющий, но механически заученный груз знаний? Силой своего разума он создал кибернетические машины, электронные ячейки которых держат и мгновенно отдают по приказу человека все те сведения, которые ему необходимы для творчества. Их-то и можно, пожалуй, назвать настоящими «усилителями памяти». Другое дело полноценно использовать накопленные знания. Только в сложных и неожиданных, недоступных машине сочетаниях рождается новое. Как найти то чудесное состояние, когда человека, бившегося годами над решением трудного вопроса, вдруг «осеняет» блестящая идея? Что, если попытаться это качество ума из мгновенной категории перевести в более длительную? Я увидел пока только проблески такой возможности, только зарницу. Так давай же пойдем на эту зарницу. Путь темей и ухабист, да! Тем лучше. Скучно идти по накатанному асфальту. О, я вижу массу отличных трудностей, с которыми повозиться будет просто счастье.
Зорин пока еще возится со своими «отличными трудностями». Точнее сказать, «мы с Зориным», потому что мне выпала честь стать его сотрудником. И я не раскаиваюсь в этом, ибо тропа познания — самая увлекательная из всех. Счастлив по ней идущий!
Павел Амнуэль ИКАРИЯ АЛЬФА
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 10, 1959
Рис. Р. Авотина
Рассказ, который мы публикуем, написан учеником 9-го класса бакинской школы № 1. Автор рассказа — комсомолец. Ему 15 лет.
Разрешите представиться. Меня зовут Сателлит Джонс. Я негр. Родился в Америке, в небольшом городка на берегу Миссури «несколько недель спустя после того, как отправились в полет первые спутники Земли. Этому событию я и обязан своим несколько странным именем. Мой отец был физиком и работал я балтиморском университете. Когда мне было два года, он имел смелость выступить в поддержку требований о запрещении ядерного оружия и поплатился за это вдвойне: как борец за мир и как негр. Он потерял работу, и наша семья не имела больше средств к существованию.
Четыре года спустя отец отправился а СССР в составе негритянской делегации. Эта поездка изменила всю нашу жизнь, потому что отец принял советское подданство, и мы с матерью, с трудом полупив визы на выезд, уехали к нему. В Советском Союзе мы жили в Москве, отец работал в научно-исследовательском институте, я поступил в школу. Я быстро научился говорить по-русски, и учеба не затрудняла меня.
Дальше моя «история не представляет собой ничего особенного. Закончил школу, работал, продолжал учиться. Теперь я радиоинженер, работаю на Кавказской ионосферной станции, занимаюсь проблемой радиоуправления ионосферных ракет.
Вот и вся моя биография. Я написал ее по просьбе Барского. Он говорит, что, зная мою историю, читатели лучше поймут меня. Я не согласен с ним, но все же спорить не буду. Пусть так. Вы, наверно, знаете Барского? Барский — астроном, занимается изучением астероидов. Он стал известным после того события, о котором пойдет речь дальше. Это событие было в свое время предметом обсуждения учеными всего мира.
Недавно Барский сказал мне:
— Знаете, Джонс, было бы хорошо, если бы кто-нибудь написал рассказ об Икарни Альфе. Может быть, вы сделаете это?
Я согласился и записал все, что помнил.
И вот рассказ, плохой или хороший, скучный или занимательный, но, во всяком случае, без выдумок и преувеличений — перед вами.
…Это произошло семь лет назад. Мне было тогда двадцать три года, я недавно приехал на Кавказ и был поглощен интересной работой.
Свободное время я проводил в мастерской, где строил телевизоры и приемники. В то время я как раз закончил постройку телевизора, имевшего направленную антенну новой «конструкции. С ев помощью можно было смотреть передачи почти всех станций Земли.
В тот памятный вечер я смотрел Москву. В разгар передачи меня вдруг вызвали на стартовую площадку. Встав, я нечаянно толкнул стерженек антенны, но на обратил на это внимания.
Оказалась, что в одной из готовых к старту ракет вышла из строя система телеуправления. Мне долго пришлось провозиться, пока я нашел неисправность. Когда я вернулся к себе, часы пробили час ночи. Передача из Москвы давно кончилась, и экран был пуст.
Я уже собирался выключить телевизор, как вдруг по экрану поплыли расплывчатые белые полосы. Они то сливались вместе, расширяясь, закрывая весь экран, то вдруг распадались на множество мелких параллельных черточек, быстро мелькавших сверху вниз. Постепенно полосы расплылись, и сквозь туманную пелену стал виден странный узор. Небольшие продолговатые эллипсы разбегались во асе стороны, образуя сложный, непонятный рисунок. Между эллипсами расположились Прямые линии самой различной длины. Я оторвал взгляд от экрана и посмотрел на антенну. Ее стерженек должен быть направленным в ту сторону, откуда велась телепередача. Изумление мое стало еще больше, когда я увидел, что стерженек антенны торчал вертикально вверх, куда-то в зенит, туда, где сияла голубым светом Вега.
«Что это значит, — подумал я, — может быть, ведутся испытания ретрансляционной станции на спутнике?»
Потом мне пришла в голову мысль сфотографировать изображение. Это было сделано в одну минуту. После этого я снял телефонную трубку и позвонил начальнику нашей ионосферной станции Спирину. Несколько минут спустя Спирин был у меня. Он подошел к телевизору и долго разглядывал изображение.
— Ну что? — спросил я.
Начальник взглянул в мою сторону, снял очки и снова надел их, словно готовясь к длинному ответу. Я вздрогнул, когда он произнес только три слова:
— Это не Земля!
— Не Земля? — переспросил я, удивленный тем, что мысли Спирина сходились с моими.
— Нет. Эта передача ведется не с Земли. Ясно?
— Может быть, спутник…
— Опыты со спутником исключены. Они ведутся на другой, вполне определенной волне. Об этом между государствами во избежание путаницы существует определенная договоренность.
Передача не с Земли! Но в таком случае откуда? Я вопросительно посмотрел на Спирина. Он вдруг сказал, как бы отвечая своим мыслям:
— Марс? Не может быть… Нет!
— Почему? — осторожно спросил я.
— Почему? Да потому, что Марс сейчас находится под горизонтом, а ультракороткие волны, как вам известно, распространяются прямолинейно.
Помолчав, он медленно продолжал:
— Я не вижу никакого смысла в этих эллипсах. Но я заметил сейчас одну вещь… Скажите, ваш телевизор подстраивается автоматически? Значит, если станция будет двигаться, антенна станет перемещаться вслед за ней. А если изменится длина волны, на изображении это не отразится? Отлично. А теперь смотрите сюда.
Он ткнул пальцем в приборный щиток и прочел:
— «Положение станции относительно горизонта: азимут тридцать семь градусов, зенитное расстояние одиннадцать градусов тридцать шесть минут. Длина волны — тридцать миллиметров».
— Двадцать девять, — поправил его я, взглянув на приборы.
— Вы правы. Теперь двадцать девять. Нет, уже двадцать восемь целых пять десятых. А зенитное расстояние двенадцать градусов! Теперь вы видите! Станция движется над Землей. И длине волны непрерывно меняется. Какие выводы отсюда можно сделать?
— Прежде всего таинственная телестанция, как вы уже сказали, движется, и довольно быстро. Кроме того, неведомые телеоператоры хотят, чтобы их передачу увидело как можно большее число зрителей, и поэтому меняют длину волны. Так?
Спирин удовлетворенно кивнул:
— Так! Остается невыясненным… Что это? Экран гаснет!
По экрану вдруг побежали полосы, как в начале передачи, изображение расплылось, померкло и исчезло… Напрасно я крутил ручки настройки, переходил с одной волны на другую. Все было напрасно.
Спирин взял кассету со снимком и ушел, чтобы проявить ее и сообщить об открытии в Центральный совет астронавтики. Я остался сидеть у телевизора, взволнованный происшедшим и удрученный быстрым кондом передачи. Так и уснул у аппарата…
Разбудил меня утром гул двигателей ракеты. Я быстро привел себя в порядок и отправился на стартовую площадку, не переставая размышлять о случившемся. Мне не терпелось узнать, что ответил Совет астронавтики на сообщение Спирина. Я проверил исправность радиосистемы на очередной, готовой к старту ракете и, отпросившись на часок, отправился в обсерваторию. Не успел я пройти и половины пути, как столкнулся со Спириным.
— А я к вам иду, — сказал он, — у меня есть важное сообщение. Очень важное! Знаете, ваше открытие приобретает реальную почву, хотя от этого не становится менее загадочным.
Он втолкнул меня в свой кабинет, усадил в кресло и вручил отпечатанный листок.
— Вот! Это я получил только что. Читайте вслух.
Я прочитал: «Крым. Симеиз. 3 часа 18 минут. Сегодня в 2 часа 32 минуты метеорный патруль отметил с небе тело, с небольшой угловой скоростью двигавшееся с востока на юго-запад. Расстояние от поверхности Земли 11 320 км. Скорость 27,6 км/сек. Согласно наблюдениям в Большой менисковый телескоп вышеупомянутое тело оказалось шаром с поперечником 89,7 метра. Поверхность шара имеет альбедо, равное 0,73. Происхождение шара непонятно. Наблюдения продолжаем. Доцент Барский».
— Итак? — сказал Спирин, когда я окончил чтение.
— Вы думаете, что передача…
— Думаю? Нет! Уверен! Передача велась с этого шара. Я наводил справки. Вчера не проводились испытания спутников-телестанций. А этот шар летел с востока. Значит, прежде чем лететь над Крымом, он должен был миновать Кавказ!
Я задумался. Дело запутывалось все больше. Раньше была неизвестна передающая станция. Теперь это установлено — шар. Но откуда взялся этот шар? И кто его сделал? Кто ведет оттуда передачи? Это не простой астероид, каких в солнечной системе тысячи. Нет, шар имеет другое происхождение. Но тогда… это межпланетный корабль! Корабль? Гость из космоса? Слишком фантастично, чтобы быть истиной. Но как иначе объяснить случившееся?
Я так задумался, что не заметил, как в комнату вошел радист и передал Спирину только что полученную радиограмму. Спирин прочитал:
«Кавказ. Ионосферная станция № 17 Академии наук СССР. Начальнику станции Спирину, радиоинженеру Джонсу.
В 13 часов по местному времени состоится телесовещание ученых по поводу открытия вблизи Земли небесного тела и связанных с ним явлений. Инженеру Джонсу предстоит сделать сообщение. Будьте готовы. Совет астронавтики».
Таков был ответ на радиограмму Спирчна.
…Совещание началось ровно в 13 часов. На экране появился президент Академии наук СССР. Кратко объяснив, почему Совет астронавтики счел нужным оторвать ученых от их работы, он предоставил слово мне.
Я начал рассказывать о своем открытии, не пропуская ни одной детали. Спирин сидел в стороне и подбадривал меня взглядом. Когда я кончил, экран некоторое время был пуст. Потом на нем появился высокий худощавый мужчина лет тридцати.
— Это Барский, — сказал Спирин.
Барский поправил галстук и сказал:
— Об открытии шара уже известно всем. Я не буду повторяться. Добавлю к известному кое-какие данные.
Наблюдения за шаром велись непрерывно с 2 часов 35 минут. Так как скорость его была больше критической, то мы ожидали, что тело обогнет Землю и удалится. Так бы и случилось, если бы в 3 часа 21 минуту шар не преподнес нам сюрприз. В это время по какой-то необъяснимой причине скорость его стала резко уменьшаться и через 7 минут достигла 9 км/сек. Орбита шара после этого должна была стать эллипсом. Однако шар явно не желал подчиняться классическим законам небесной механики, вместо эллипса он стал двигаться по спирали. Если такое движение будет продолжаться и дальше, то по расчетам, выполненным «ЭМ-2» («ЭМ-2» — электронный мозг, счетно-аналитическая машина), шар упадет на Землю через четверо суток, в одиннадцать часов восемь минут по московскому времени. Падение произойдет в малонаселенных местах Южной Америки. Впрочем, движение тела может измениться вновь, и тогда этот расчет потеряет силу.
8 6 часов 46 минут шар скрылся над горизонтом, и наблюдения за ним в Крымской обсерватории были временно прекращены.
Однако наблюдения продолжались в Одесской обсерватории. Ее директор сообщил, что в 6 часов 53 минуты шар внезапно изменил направление движения на 11° к северу. Этот фантастический факт так же неоспорим, как и все остальные. Объяснить его можно, по-моему, лишь одним…
— Корабль! — вырвалось у меня.
Барский не мог видеть меня, но он слышал мой голос и ответил:
— Да! Корабль!
Изображение Барского исчезло, президент попросил ученых высказываться.
Ученые выступали один за другим. Одни горячо защищали гипотезу Барского. Другие не менее горячо отрицали ее. Потом на экране снова появился президент.
— Сегодня, — сказал он, — было высказано много догадок. Наша задача — проверить их и установить истину. Надо послать к шару исследовательскую ракету, оснащенную всеми необходимыми приборами и телепередатчиком. Местом старта я предлагаю семнадцатую Кавказскую станцию.
Все выразили согласие. Наша станция получила задание готовиться к запуску и рассчитать траекторию полета ракеты.
Метроном размеренно отбивает секунды. Одна, две, три… До старта остается две минуты. Мигают лампочки на большом пульте, светятся циферблаты приборов. Я сижу в кресле у пульта. Передо мной множество рукояток и кнопок. Сзади застыли президент, Барский и Спирин. Они смотрят в окно. Оттуда видно взлетное поле, и на нем на фоне темнеющего неба вырисовывается длинный силуэт трехступенчатой ракеты. Летит по небу, распластав крылья, Лебедь с ярким далеким Денебом в хвосте. Рядом маленький четырехугольник Лиры. Голубым светом переливается яркий рубин — Вега… Еще минута. Вспыхивает серым светом экран. На нем видны звезды. Это включился телепередатчик ракеты.
…Резкий звонок. Старт! Я машинально беру на себя ручку автоматического старта. За стеной слышится ровный густой гул. Вздрагивают на экране звезды. Задвигались стрелки приборов… Ракета в воздухе. Она летит вертикально вверх, пронзая многокилометровую толщу атмосферы. Я неподвижно сижу за пультом, не вмешиваясь в работу автоматов. Голос за моей спиной спрашивает:
— Сколько времени продлится полет?
— Двадцать семь минут, — отвечаю я.
…Шестая минута полета. В первой ступени кончилось горючее. Приборы докладывают, что она отделилась и опустилась на Землю с парашютом. Тотчас же автоматически включаются двигатели второй ступени. Скорость растет. Полет продолжается. Постепенно спадает нервное напряжение первых минут полета.
— Шар, — говорит вдруг Барский.
Из верхнего правого угла на экран выплывает белая звездочка, лишняя звезда в давно знакомом узоре созвездий. Она медленно перемещается на фоне других звезд, все время увеличиваясь в размерах. Цель в виду!
Проходит еще несколько минут. Уже ясно виден белый, без единого пятнышка диск. Он быстро приближается.
На двадцатой минуте двигатели умолкают. Теперь ракета летит по инерции. Курс выдерживается точно, ракета летит почти прямо на шар. Кажется, ракета и шар мчатся навстречу друг другу. На самом деле это не так. Ракета догоняет шар, скорость которого несколько меньше скорости ракеты. Успеем Ли мы заметить что-нибудь, когда ракета пронесется мимо?
Но что это? Несколько секунд назад шар находился немного в стороне от курса ракеты, теперь он вдруг переместился в центр экрана. Но ведь ракета врежется в него! Произойдет взрыв. Нужно немедленно что-то делать. Я судорожно дергаю ручку тормозных двигателей, расположенных в крыльях ракеты.
Ракета тормозится. Шар уже не так быстро надвигается на нее. Еще немного… Но двигатель вдруг останавливается. Кончилось горючее. Теперь все! Еще несколько секунд, и последует удар. Поверхность шара быстро приближается. Еще секунда… Внезапно прямо по курсу ракеты в поверхности шара открывается круглое отверстие. Ракета летит туда. Отверстие вырастает на глазах, и вдруг экран гаснет. Тьма. Но стрелки приборов живут. Что же случилось? Экран освещается ровным серым светом. Ракета лежит неподвижно в длинном светлом тоннеле. Экран снова гаснет. Стрелки приборов неподвижны. Путешествие закончилось…
И тут я слышу голос Барского:
— Вы видели?! Какие еще могут быть сомнения в том, что это корабль? Теперь «они» знают о нашем существовании. Шар опустится! Обязательно опустится!
— Передача с ракеты записана? — спрашивает президент.
Я киваю головой.
…Через несколько минут вся станция знала о судьбе ракеты. Сообщение о ней было послано в Москву, а оттуда во все города мира. Люди волновались. Такое событие, как прилет корабля с иного мира, тревожило и радовало всех. Люди уже задумывались над тем, как встречать гостей, что им. показывать. Но встречать никого не пришлось. События развернулись совершенно иначе.
…Первый цилиндр упал на Землю утром следующего дня. Очевидец, член колхоза «Путь к коммунизму» Воронежской области, так рассказывал об этом:
— Часов в семь утра я вышел из дому и отправился в поле Солнце только что взошло. На ходу я о чем-то размышлял, как вдруг услышал легкий свист. Я поднял голову. Свист раздавался откуда-то сверху и все время усиливался. Внезапно в глаза мне сверкнул ослепительный свет, и земля чуть содрогнулась. Когда я опомнился то увидел в нескольких шагах от себя небольшую воронку и в ней полузарывшийся в землю цилиндр. Он светился багровым светом. Я быстро вернулся в село, позвал людей и позвонил в Воронеж. Через четверть часа на вертолете прилетели пятеро ученых. Погрузив уже успевший остыть цилиндр в вертолет, они улетели.
Вот что произошло потом. По дороге странный цилиндр внезапно распался на несколько частей. Внутри него оказался металлический рулон. На мягком податливом металле были выгравированы какие-то знаки. Таинственный рулон был немедленно отправлен в Москву. Каково же было удивление ученых, когда на металле они увидели те же эллипсы и линии, что и на снимке, сделанном мной с экрана телевизора!
…Через час недалеко от Праги упал второй цилиндр. Третий цилиндр упал в Швеции, четвертый — в Бразилии. Цилиндры падали с неба как горох. Через определенное время после падения они распадались, и внутри оказывались все те же рулоны со знаками. Теперь не оставалось сомнений, что это письменность существ, прилетевших на шаре, который еще вращался вокруг Земли, изредка изменяя курс, словно ища места для посадки.
Было решено во что бы то ни стало расшифровать записи. Аналитическая машина «ЭМ-4» получила программу действий и принялась за дело. А дело это было неимоверно трудным даже для такой машины, как «ЭМ-4», Немногие ученые верили в успех этого безнадежного предприятия…Прошло три дня. В этот день на Землю упал последний цилиндр. Он был семьдесят шестым по счету из всех найденных цилиндров. А сколько их упало в океан и было погребено в многокилометровой толще воды!
…На пятый день случилось то, чего никто из жителей Земли не мог предвидеть. В восемь часов утра по радио было передано сообщение Академии наук СССР, подтвержденное затем всеми обсерваториями мира.
«Как известно, — говорилось в сообщении, — три дня назад шар из спирального спуска перешел на круговую орбиту вокруг Земли. Его скорость была равна 3,4 км сек. Несколько часов назад скорость движения шара внезапно увеличилась и достигла 10,6 км/сек. Орбита шара стала эллипсом с апогеем 76 тыс. км и перигеем 1 350 км. Такое поведение космического корабля кажется странным, если он собирается совершить посадку на Земле. Наблюдения за шаром продолжаются непрерывно, все новые данные поступают в Центр по обработке наблюдений».
Шесть часов спустя меня вызвал к себе Спирин. Он протянул мне бланк, на котором было написано.
«Крым. Симеиз. 13 часов 20 минут. Час назад шар внезапно резко увеличил скорость до 75 км/сек и перешел на гиперболическую орбиту. В 12 час. 47 мин. расстояние шара от Земли было равно 237 тыс. км, а скорость 153 км/сек. Шар удалялся и в 12 час. 59 мин. скрылся из виду, находясь в созвездии Девы, близ Спики. В 13 час. наблюдения пришлось прекратить. Доцент Барский.»
…Корабль улетел. Улетел навсегда. Только рулоны еще не прочитанных записей напоминали о нем. Некоторое время люди еще надеялись на его возвращение, ждали. Но в это время началось строительство Великого Чукотского барьере, который соединил впоследствии Азию и Америку, и о корабле стали понемногу забывать. Лишь неутомимый электронный мозг продолжал работать над расшифровкой таинственных записей.
Прошло полгода. Кончилось лето, пролетела осень, в горах Кавказа выпал первый снег. Дули сильные ветры.
В одно такое утро я узнал об открытии Икарии Альфы. Об этом мне рассказал Спирин.
— Вы, Джонс, никогда не задумывались над тем, почему так пусто в нашей Галактике? От Солнца до ближайшей звезды свет идет четыре года. Какая бездна! Неужели она совершенно пуста? Этого не может быть!
Тысячи звезд доступны невооруженному глазу, сотни тысяч звезд становятся видны человеку, вооруженному биноклем, сотни миллионов доступны сильному телескопу. А сколько миллиардов звезд не видны даже в телескоп? Ведь мы видим только сравнительно горячие звезды. Если температура звезды ниже 600°, она уже не видна глазом. Она посылает в пространство лишь невидимые инфракрасные лучи. Таких звезд в пространстве должно быть больше, чем всех остальных. Это темные, давно остывшие звезды, но в недрах их еще продолжают идти ядерные реакции, и они обогревают изнутри поверхность, покрытую твердой корой. Это умирающие звезды.
Так вот, одной из таких звезд является Икария Альфа. Температура ее поверхности равна 38°, а расстояние до Земли — двум световым месяцам. Как видите, это намного ближе, чем расстояние до ближайшей после нее звезды — Проксимы Центавра.
— А где находится эта Икария Альфа?
— В созвездии Девы.
На другой день мы со Спириным прилетели в Москву на конференцию астрономов. Мы пришли в Институт астрономии ровно в полдень. Большой зал заседаний был уже полон.
Первым выступил директор Пулковской обсерватории. Он рассказывал об открытии Икарии Альфы, но я слушал невнимательно. Потом ученые говорили о природе инфракрасных звезд. Наконец слово получил Барский.
— То, что я скажу, не будет касаться природы Икарии Альфы. Я хочу поговорить о том, может ли быть на ней жизнь.
По залу прошел легкий гул. Многие недоуменно пожимали плечами. Потом наступила настороженная тишина, и Барский продолжал:
— Приспособляемость живых организмов огромна. Споры бактерий могут существовать при давлении от нуля до восьми тысяч атмосфер и температуре от абсолютного нуля до ста семидесяти градусов. Многие микроорганизмы существуют в очень тяжелых условиях. А ведь на Икарии Альфе температурные условия вовсе не такие тяжелые! Во всех точках ее поверхности постоянная температура тридцать восемь градусов. Там нет смены дня и ночи, зимы и лета. Но есть ли там атмосфера? Мы еще не знаем этого. Но Икария Альфа — достаточно большое тело, чтобы удержать, около себя плотную атмосферу. А если есть атмосфера, то почему нельзя предположить наличие в ней достаточного для жизни количества свободного кислорода?
Растений там, конечно, быть не может. Для них свет — необходимое условие. Но животный мир там может быть. Вспомните хотя бы животных, существующих в подземных пещерах. Там вечная тьма, и жители этого мрачного мира имеют белый цвет. Там тоже постоянная температура, как на Икарии Альфе.
А теперь вспомните о прилете космического корабля. Где обнаружена Икария Альфа? В созвездии Девы. А куда направился шар, покинув Землю? В направлении созвездия Девы! Это может быть случайным совпадением. Но я убежден, что только там следует искать разгадку тайны!
Невозможно описать, что началось в зале после выступления Барского. Все требовали слова. И все были против Барского. В разгар споров в зале появился президент Академии. Он прошел на трибуну и поднял руку.
— Товарищи! Я только что из вычислительного центра. Могу сообщить вам приятную новость. Сегодня расшифрована некоторая часть записей. Вот она.
Президент взял в руки листок и при гробовом молчании зала с паузами прочел:
— «…Мы… из светлого мира… летели… достигнуть… много экспедиций… гибель… мы достигли цели… спуститься невозможно… ждет гибель… короткое излучение… мы прилетим… аппараты и специальные… ближайшая звезда… Ждите!»
Президент смолк.
— Это все? — спросил кто-то.
— Да, удалось прочесть только это. Но и отсюда можно сделать кое-какие выводы. «Они» предпринимали много экспедиций, чтобы достигнуть солнечной системы. Экспедиции гибли. Наконец «они» достигли Земли, но не решились спуститься, опасаясь гибели от какого-то короткого излучения. По-моему, это опасное для них излучение — свет, обыкновенный свет! Ведь волны видимого света короче инфракрасных! Но «они» прилетят! В этом нет сомнений. «Они» вернутся, взяв с собой необходимое оборудование.
Откуда они прилетели? В записях сказано: «Ближайшая звезда». Я не знаю звезды ближе, чем Икария Альфа!
На этом можно и закончить историю космического гостя. Остается добавить, что остальную часть записей не удалось расшифровать до сих пор.
Но все верят, что мы прочтем эти записи. Из них мы узнаем о таинственной жизни на холодной звезде, имя которой Икария Альфа.
Я по-прежнему работаю на Кавказе. Но до сих пор не могу забыть тех дней, когда соприкоснулись друг с другом два мира. Соприкоснулись, чтобы снова разойтись…
Прилетит ли шар еще раз? Может быть! А если нет?
Я лично верю, что наступит день, когда будет построен руками человека мощный межзвездный корабль. И тогда человек полетит в гости к своим собратьям по разуму. И два мира протянут сквозь бездну пространства руки дружбы и соединят их в крепком братском рукопожатии.
Г. Цуркин МИЛЫЙ ПТЕНЧИК
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 12, 1959
Рис. Ю. Случевского
Стоило моему другу Паше Шульгину, маленькому, подвижному студентику, плотно пообедать, закурить, как сразу же его осеняло беспокойное, мечтательное вдохновение. Лежа где-нибудь на траве в своем вечном коричневом спортивном костюме, он начинал фантазировать с полным отрывом от земной поверхности. И для большей убедительности почти всегда ссылался на последние достижения современной науки. Он и сам, вероятно, давно переселился бы на облака, если бы вслед за ним не протягивалась мощная длань Славы Белугина и моментально не стягивала фантазера вниз, советуя держаться великолепной земной растительности.
И хотя по своим характерам друзья были глубоко различны, это не мешало им дополнять друг друга в полном соответствии с законом единства противоположностей.
Недаром в институте их называли непримиримыми друзьями или неразлучными соперниками.
Часто по вечерам, сойдясь вместе перед отходом ко сну, мы располагались где-нибудь на скамье. И тут Паша, осмотрев небо и заметив восходящую Луну, сразу изрекал очередную гипотезу.
— А что, если Земля со своей Луной всего-навсего обыкновенный атом водорода? Причем Земля — ядро, а Луна — электрон. И находится этот атом где-нибудь в булыжнике другого непостижимо огромного мира, размеры которого мы себе и представить не в состоянии. Ну, так же, как, например, муравей не может представить себе размеров кита. И живут в этом огромном мире какие-нибудь необыкновенные великаны. Возьмет вдруг один из них этот булыжник и бросит его куда-нибудь в нехорошее место. А мы на своем ядре будем копошиться, сдавать зачеты, спорить…
— Ну что ты будешь делать? — моргал белесыми ресницами Слава. — Что же, по-твоему, институт бросать надо, зачетов не сдавать? И госэкзамены тоже?
— Да ведь это я так… В порядке движения мысли.
— И чего только не лезет в твою очкастую башку! Как в мусорный ящик. Ведь твоими фантазиями и курицу не накормишь.
— Неправда! — горячился Паша. — Без фантазии и науки быть не может.
Подобные дуэли часто завершались употреблением обидных эпитетов, и так как Слава кончал факультет механизации, то заслуживал наименования шкворня, а зоолог Паша довольствовался званием мокрой курицы.
Споры эти могли бы продолжаться до бесконечности, если бы вскоре после госэкзаменов мы со Славой не втиснули Пашу вместе с огромным рюкзаком в вагон скорого поезда. Перед самым отходом Слава пожал ему руку и напутствовал в последний раз:
— Заповедник «Лукоморье» — учреждение определенно серьезное. Держись солидней. Не вздумай спороть что-нибудь из области лунных электронов. Моментально вылетишь оттуда вместе со своим верблюжьим рюкзаком со скоростью электрона.
— Не волнуйся! Вечер по поводу присвоения мне ученой степени доктора без тебя не обойдется, — добродушно парировал Паша, сверкая очками, — я приращу тебе ноги страуса, и ты будешь…
Дальнейшее заглушил густой гудок электровоза, и Паша уехал. Вскоре и Слава завершил свою дистанцию где-то в совхозе около Кустаная, и оба они долго держали меня в неведении относительно своих успехов. Я стал подумывать о том, что наконец-то нашлась черта, общая для обоих характеров, но однажды обнаружил в почтовом ящике небольшой голубой конверт.
Письмо было недлинное, шутливое и какое-то сумбурное.
«Друже Портос!
Не сердись. Чтобы молчать, причин было немало. Живу в прикаспийских прериях, вдали от шумной цивилизации. И какая прелесть эта жизнь! Скакать на коне, махать топором, сгибаться над книгой, рассекать воду веслами и, сраженным усталостью броситься в постель и спать, видя странные сны, где мечта всегда достигает цели.
Прости лирику! Вышли мне очки — 5 диоптрий. Мои слопал страус, а без очков я, как Слава без ног. Кстати, что с ним? Так он вообще парень неплохой, но грубовато сколочен.
Очки шли по адресу: г. Птичьи острова, заповедник «Лукоморье», Шульгину П. Пиши. Буду отвечать. Жду очки».
И за месяц я получил еще три письма, в которых было немало любопытных сведений, освещающих деятельность моего друга.
«…Сообщаю, что работаю в области вегетативной гибридизации. Если твои агрономические мозги еще не потеряли способности воспринимать живую жизнь, попробую объяснить современное состояние этой отрасли. Есть много способов радикального изменения привычного строения птицы. Переливать белок яйца, скажем, из гусиного в куриное яйцо. Получим крупные экземпляры гусекурицы и гусепетуха. Также изменяет особи пересаживание яйцеклетки или зародыша половых желез и хирургическое сращивание организмов.
…Хочу познакомить тебя заочно с шефом моим, доктором Золотухиным.
Во-первых, он Сергей Васильевич. Коренастый, маленький, голова круглая, бритая, и знаний в ней хватит на добрый десяток таких молодцов, как мы с тобой. Забыл. Снизу к голове подвешена пышная белая борода, от которой всегда пахнет «Красной Москвой».
Если наши изыскания придут к счастливому завершению, то мир животных будет значительно обезображен…
…Вчера шеф, ходя по комнате и держа руки в карманах, долго молчал, а потом глубокомысленно изрек:
— Старостью, между прочим, заболевают люди из-за глупой боязни не делать выходок, несвойственных возрасту. Так вот. Как же сломать зоологические барьеры и лепить из живых существ, точно из пластилина, все, что необходимо человеку в данном случае? Если бы удалось это, я непременно прилетел бы в Москву на крылатой лошади…
…Целой группой сейчас мы работаем именно над проблемой подобного скрещивания. Пока это только бессонные ночи и малоудачные эксперименты.
…Вчера из вольера вырвался страус, и мы целые сутки гонялись за ним на лошадях. Еле заарканили. Ты умеешь набрасывать лассо? И, конечно, тебе неизвестно, что такое струтиомимус? О-о! Страшная вещь!..»
Если бы в конце письма он добавил, что у турецкого бея под самым носом шишка, тогда все стало бы на свое место. Можно было бы не ждать дальнейших писем.
И я действительно до самой весны писем больше не получал.
И, наконец, почти через год появилось письмо.
«Агроному из министерства!
Если вы со Славой надумаете поздравить меня с благополучной защитой кандидатской, вы не очень ошибетесь.
Тема: «К вопросу о страусовых гибридах в условиях прикаспийских степей». Видал? А ты сидишь в столице и напрасно переводишь бумагу. Недавно наш Сергей Васильевич обронил мысль, над которой следует поразмыслить. «Животный мир, в том виде, в котором мы его застали, есть результат определенно направленной эволюции, и стоит расширить поле произвольных вегетативных скрещиваний, и мы получим живые образцы необычных, весьма причудливых существ. Дошло? Это тебе не восковая спелость исходящей за № 001. И вообще у нас в заповеднике столько новостей! Жаль, что не все ты сможешь оценить как следует. Кстати, когда у тебя будет отпуск? Отвечай сразу.
Кандидат сельскохозяйственных наук Шульгин П.».
Может быть, он и прав? Проклятые бумаги высасывают столько мыслей, которые погибают, попадая грызунам на завтрак. И страшно то, что вся жизнь может пройти в пространстве между шкафом для хранения бумаг и мусорной корзиной. А Паша скоро будет доктором. От него всего можно ожидать. Напористый, дьявол!
Написал ему, что отпуск получу с 1 августа. Проведем его вместе. Это было бы весьма кстати.
Увы! Я ничего не смог поделать со своим строгим начальником. Он нагрузил на меня такое количество бумаг, что отпуск мой постепенно переполз на декабрь. И скрепя сердце я шмыгал на лыжах в подмосковном доме отдыха и дал себе слово в будущем году обязательно навестить моего друга. Заявление об отпуске подал уже в апреле с учетом коэффициента сползания. А от Павла ни слуху ни духу. Только в мае он разразился небольшим посланием.
«Портфель из телячьей кожи!
Спрашивал я тебя как-то о струтиомимусе. Знаешь ли ты, мол, что это такое? Объясняю: в меловом периоде мезозойской эры существовал такой предок современного страуса. Не смущайся, от него нас отделяют каких-нибудь тридцать пять миллионов лет. Это странный длинноногий бегун с сильным хвостом. Он уже беззуб и имеет ороговелый клюв. Короткие остатки передних ног, которыми он еще умел хватать пищу. Эта крошка достигала шестиметрового роста. Питались струтиомимусы черт знает чем: травой, яйцами птиц и мелкими животными.
Путем сложной гибридизации мы получили нечто похожее. Птенец растет не по дням, а по часам. И всю нашу птицу он, мерзавец, перетоптал своими ножищами. Вспоминаю «Остров эпиорниса» Г. Уэллса. Но наш милый птенчик даст уэллсовскому выродку сто очков вперед. Если ты, наконец, соизволишь прибыть в наши края, будет на что посмотреть. Проклятый птенец страшно не любит желтого цвета.
Прошел я как-то в желтых трусах около вольера, так он готов был от ярости проволочную сетку сокрушить.
Приезжай. Жду».
Хороши шуточки! Струтиомимус! Всю литературу перерыл, но, к сожалению, о нем почти ничего не сказано. Но взрослой эта птица, вероятно, производила дикое впечатление. И бегала чуть ли не со скоростью курьерского поезда. Но летать не могла. Приручить ее будет не так легко, но зато какие перспективы! Павлу определенно повезло. Эх, почему я не зоолог?
А мой отпуск, как я и предполагал, переполз уже два раза, но август будет моим, чего бы это мне ни стоило.
В июле я заготовил категорическое заявление своему начальнику Глебу Борисовичу, старому, лысому холостяку, великолепному работнику и неисправимому педанту. Он пришел, как всегда, минута в минуту, снял пенсне и стал протирать его. В эту минуту я и подсунул ему свою реляцию. Он водрузил пенсне, молча прочел и отодвинул заявление жестом, которым отгоняют муху. Я снова подвинул заявление ему под нос. Он вскинул голову, посмотрел строго, но я приложил руку к сердцу, а жест сей означает: хоть зарежьте — не отстану. Он вздохнул, вынул ручку и размашисто начертал: «С 20 июля считать в отпуске».
С этого дня ночи мои стали бессонными, а неделя тянулась так медленно, словно ее кто-то держал клещами с той стороны. Багаж свой я уложил в большой портфель, билет на самолет купил заблаговременно и вечером двадцатого был уже в Гурьеве. С помощью гостеприимного завхоза базы в шесть часов утра двадцать первого был посажен на попутную машину, и мы тронулись в путь. Мы — потому что в кузове полуторки ехал еще молодой казах Кизилбаев в серой войлочной шляпе. Он возвращался из отпуска на работу в заповедник. Дорога проходила в трех километрах от усадьбы заповедника, и шофер обещал сбросить на. с в самом удобном месте. Мой спутник рассматривал своими узкими глазами рощи, поля, озера и гудел, точно комар, монотонную песенку. Мы дружно чихали от пыли, и, так как он плохо говорил по-русски, а я совершенно не владел казахским, беседа наша ограничивалась подмаргиваниями, улыбками и жестами, понятными всем народам.
К пяти часам вечера мы снова ощутили под собой твердую почву, угостили шофера папироской, закурили и пожелали ему счастливого пути. Кизилбаев, как старожил, отверг длинный путь по дороге, и мы тронулись напрямик, по клеверному полю, к роще с длинным белым зданием усадьбы. Пахло близким морем, было тихо и безлюдно. Вероятно, служащие после работы отдыхают.
— Море далеко? — спросил я спутника.
— Тири-пят километр, — ответил он.
Я не стал уточнять расстояния, и мы спокойно вошли в распахнутые ворота с табличками на столбах «Заповедник «Лукоморье» и «Посторонним вход воспрещен». Во дворе был большой круглый цветник, а далее — высокий сетчатый забор. И кругом на траве валялось какое-то тряпье. Мы тихо подошли к входу здания и обнаружили, что дверь сорвана с петель и валяется тут же, а ближние окна выбиты. И в здании тоже никого.
— Ой-бой! — покачал головой Кизилбаев и, сложив руки рупором, прокричал в степь высоким, протяжным криком: — Алексей Иваныч! Э-эй, Алексей Иваныч!
Произошло что-то непонятное. Послышался страшный топот, и, когда Кизилбаев оглянулся, я заметил, как лицо его побледнело. С криком бросился он в здание и в дверь направо. Я механически выскочил в окно наружу и опомнился лишь на крыше, куда вскочил по пожарной лестнице. Я стоял около массивной трубы и крепко держался за нее. В здании что-то топталось, храпело и шипело. Слышались резкие взвизги Кизилбаева и его крики. Наконец все затихло, и над крышей взвилась голова птицы величиной с футбольный мяч, сидящая на непомерно голой и длинной шее. Она стремительно рванулась ко мне, зашипела, и я мигом скрылся за трубой. Точно в кошмаре, смотрели на меня близкие круглые зеленые глаза с кроваво-красным ободком, а широкий клюв с зазубринами ритмически раскрывался и щелкал около моей физиономии. Скоро птица отвлеклась, подняла голову и пошла по двору, грозно посматривая на меня одним глазом. Мощные ноги у нее оказались трехпалыми, передние конечности были короткими. Она подошла к вольеру, нырнула в один из разрывов сетки и занялась своим делом — позже я рассмотрел, что она давит улья пчельника и лакомится медом. На пчел, облепивших ее, она не реагировала.
Тихо спустился я по железу крыши и, опустив голову, позвал: «Кизилбаев!» Птица повернулась и угрожающе хрюкнула. Я снова укрылся за трубой и только тут обнаружил, что портфель мой со мной и плотно прижат рукой к левому боку. Положив его на трубу, я вынул бинокль и стал осматривать окрестности: двор оказался разгромленным основательно. Сетка вольера была прорвана, а за ней валялись раздавленные кролики. Ближе на земле я увидел три палатки, лежавшие в страшно истерзанном виде, тут же валялся разбитый чемодан с бельем, разбросанным по двору. У здания были видны раздавленный стул, чей-то портфель, две кепки, соломенная шляпа, туфля и другие мелочи гардероба. За сеткой виднелись луга, небольшие рощицы, а далее, за широкой стеной камыша, ощущалось море. Справа, метрах в четырехстах, тянулась линия трехфазного тока, толстые провода которой низко провисали над землей, а за ней дальше — тоже камыши. За ними просвечивали небольшие озера. Что же произошло с людьми заповедника? Где они? И что привело в такую ярость эту дикую птицу? Неужели кого-нибудь она догнала и растоптала?
Я вытащил из портфеля бутерброд и с удовольствием поужинал; все-таки мое положение уж не такое ужасное. Еще раз тихо спустился по другому скату крыши и негромко позвал Кизилбаева. После шороха жидкий голосок моего спутника выговорил торопливо:
— Псе паратка. Сапог портил мал-мал.
В следующую минуту я отскочил к трубе, чтобы не получить в затылок удара клюва моего врага. Его голова вознеслась надо мною, словно молот, и медленно опустилась. Скоро он опять успокоился и, войдя в ворота, стал щипать цветы, изредка сурово посматривая на меня.
Что делать? Рассеянно я читал большие транспаранты, укрепленные вверху на сетке вольера, и, как ни пыжился, ничего не мог придумать такого, чтобы оказать помощь себе и людям. Придется сидеть на самом гребешке крыши.
С моря тянуло прохладой, и в сумерках я увидел, как из камышей справа выскочила фигура в белом, помахала руками и снова скрылась. Значит, люди разбежались и укрылись в камышах? Позже, когда стемнело и небо развесило свои великолепные люстры, где-то совсем недалеко грохнул выстрел. Струтиомимус сидел в цветнике и изредка шевелился. Если бы удалось ночью спуститься к Кизилбаеву и вызвать по телефону из города хорошую пожарную команду! Но три мои попытки слезть кончались одним и тем же: непримиримый враг мой храпел, шевелился и делал попытки встать. Что же? Утро вечера, говорят, мудренее. Я залез в трубу и заснул. Спал тревожно; во сне несколько раз злая птица извлекала меня из трубы, словно мышь из мышеловки, терзала и, наконец, растаптывала.
Очень рано я услышал птичьи голоса и, не вылезая из трубы, в тоске осмотрел горизонт: вдалеке по дороге прошли четыре машины. Я вскочил на трубу, махал полотенцем, но они проехали, не заметив меня.
Что же делать? Если тихо раздеться, быстро слезть, пробраться незамеченным вдоль изгороди и бежать направо, к камышам?
Я выскочил на поляну и так бешено замолотил ступнями, что трава на три метра вокруг вся прилегла от ветра. Лишь на одно мгновение я повернул голову и увидел, что бдительный враг мой мчится за мной, тяжело топая и низко пригнув шею. Этот топот отдавался в моих ушах, словно стук могильных лопат, и это значительно прибавило мне скорости.
И в тот момент, когда ноги мои уже зашлепали по болоту, около камышей, позади послышался страшный резкий треск. Я на бегу оглянулся и успел запечатлеть, как огромная птица метрах в десяти от меня рухнула наземь, хлестнув по земле длинной шеей, словно гигантским бичом. Провод еще качался, и я сразу понял все: встреча с цивилизацией оказалась для ископаемого роковой.
Я устало вошел в камыши и, увязая в тине, стал искать людей, чтобы сообщить им радостную весть. Но только в третьем озерце я увидел, что на болотной кочке сидел и трясся от холода высокий худой человек. Он поправлял очки, сползающие у него с носа, и определенно был готов при появлении опасности сразу нырнуть в воду. Нервное напряжение разрядилось припадком смеха, и, когда я опомнился, около меня появились два полуголых человека, дрожащих подобно первому. В одном из них я узнал значительно окрепшего Павла. Мы обнялись, и он представил меня коренастому и головастому здоровяку, который выжимал и чистил от грязи свою роскошную бороду. Мокрая рубаха и брюки его были также не в лучшем виде. Это и был Сергей Васильевич Золотухин. Они видели мою скачку с самого начала и сразу стали шутить, отмечая, что если бы не крайние обстоятельства, то, несомненно, был бы зарегистрирован мировой рекорд бега на пятьсот метров.
Мы вышли из камышей на поляну. Даже мертвая, лежащая у наших ног и пахнущая паленой шерстью птица казалась монументально неправдоподобной.
Мы двинулись к усадьбе.
— Почему же никто не вызвал срочной помощи из города? — спросил я спутников уже у самого здания.
— Эк, хитрец, — ответил Павел насмешливо, — эта длинноногая зверюга в первый же час своего безумия пооборвала все телефонные провода. А шоферы из гаража тоже, вон они, за нами бредут…
Ф. Сафронов НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 1, 1960
Рис. Ю. Соостра
УТРО выдалось превосходное. Ни малейшего ветерка. Море сияло прозрачной бирюзой. Из-за гор показалось солнце, окрасившее кромки облаков в золотой цвет.
Лодка плыла по спокойной воде почти беззвучно, тихо поскрипывая уключинами. В ней было трое: профессор-ихтиолог Поляков, бухгалтер Никодимов и инженер Берданов.
Все трое познакомились здесь, в поселке на берегу Черного моря, увлекались подводным плаванием и вместе проводили время. Подводное плавание и охота за рыбами сближали их, несмотря на разницу профессиональных интересов.
Когда лодка отплыла от берега, оставив далеко позади одиноких купальщиков, Берданов надел маску. Он натянул на ноги темно-зеленые ласты, взял в руки ружье и, стараясь не шуметь, спустился в воду.
Сразу стало очевидным, что это отличный пловец. Друзьям сквозь прозрачную воду было видно, как уверенно он держится под водой. Вот он увидел добычу и скрылся в глубине. Прошло несколько секунд — и Берданов показался на поверхности, держа в руках убитую кефаль. Он бросил рыбу через борт и, забравшись в лодку, снял маску.
— Большая стая кефали. Ушла туда, — он показал рукой дальше в открытое море. — Давайте догонять.
Налегли на весла. Где-то далеко в небе послышался характерный звук реактивного самолета. Все трое, словно по команде, посмотрели вверх, но ничего не увидели.
— Где же он? — удивился Берданов, прислушиваясь ко все нарастающему свисту реактивных двигателей.
— Вижу! обрадовался Никодимов, показывая рукой в небо. — Смотрите там, левее!
Действительно, в небе показалась небольшая серебристая точка. Она постепенно увеличивалась в размерах. Вскоре вместо серебристой точки можно было различить очертания самолета. Он быстро снижался. Теперь уже ясно было видно, что к земле приближается огромный самолет странной формы, с длинными треугольными крыльями. Самолет падал хвостом вперед. Из двигателей, расположенных в фюзеляже, изредка вылетали клубы дыма. Послышалось несколько резких хлопков.
— Катастрофа! — воскликнул Никодимов, вскакивая на ноги. От резкого толчка лодка закачалась. — Он падает прямо на нас!
Это впечатление оказалось обманчивым. Спустя несколько секунд все трое поняли, что самолет упадет в море довольно далеко от берега. Он приблизился к поверхности воды и на мгновение замер в воздухе. Видимо, экипаж самолета пытался выжать из двигателей всю их мощность, чтобы предотвратить катастрофу. Двигатели отчаянно ревели, вспенивая струями выхлопных газов гладкую поверхность моря. Вода фонтанами взлетала и рассыпалась во все стороны. Казалось, что море кипит вокруг воздушного гиганта. Теперь над поверхностью воды виднелась лишь половина его огромного фюзеляжа.
Неожиданно на самолете взвыла сирена. Тотчас же прекратили работу двигатели, и самолет ушел в воду. Море, лениво плеснув белыми гребнями высоких волн, поглотило его. На поверхности остался лишь огромный круг белой пены, словно саваном покрывший место катастрофы.
— Скорее туда! — заторопился Поляков. — Надо спасать экипаж. Может быть, они сумеют покинуть самолет!
Лодка помчалась вперед. От места гибели самолета друзей отделяло расстояние в несколько километров. Сидя на корме, Поляков внимательно вглядывался в даль, стараясь заметить на поверхности спасающихся людей. Напрасно! Только несколько раз подряд море снова вспенилось — из-под воды вырывались пузыри воздуха. Видимо, вода проникла внутрь самолета.
— Странно. Очень странно… — пробормотал Поляков.
— Что именно? — переспросил Берданов.
— Меня поразил непривычный вид затонувшего самолета. До самого хвоста треугольное крыло… Невиданные размеры… Огромная мощность двигателей, державших его вертикально над водой. Эта странная посадка хвостом вперед…
— Посадка? — переспросил Никодимов. — Ведь он же упал, а не совершил посадку.
— Может быть, а может, и нет. Будь я фантастом, я предположил бы, что это не самолет…
— А что же?
— Больше всего он похож на космический ракетоплан. И сделан он, я думаю, не у нас, на земном шаре, а на другой планете. Может быть, и на Марсе…
Лодка подошла к району падения самолета только минут через сорок. Все свесились за борт, внимательно вглядываясь в воду. Двигатели самолета подняли там тучи ила, песка и обрывков водорослей. Кое-где на поверхности покачивались прозрачно-голубоватые медузы и оглушенные рыбы.
— Ничего не заметно, — разочарованно сказал Берданов, оглядываясь по сторонам. — Ни самолета, ни людей.
— Придется нырять, — ответил Поляков. — Может быть, внизу что-нибудь разглядим.
Он быстро натянул маску, взял ружье и погрузился в воду. Далеко внизу сквозь мутную толщу воды просвечивали темные валуны дна. Вверху, совсем рядом, маячило красное днище лодки и часть погруженной в воду лопасти весла. Поверхность воды казалась серебряной, она отражала погруженные в воду предметы, точно зеркало.
Прямо перед собой Поляков увидел одинокую крупную кефаль. Казалось, что рыба совсем не двигала плавниками, а вместе с тем плыла довольно быстро, изредка меняя направление. Внезапно кефаль метнулась сначала вправо, потом влево и ушла вглубь. Вслед за ней с большой скоростью пронеслось огромное черное тело метров четырех в длину. На спине этого гиганта, промчавшегося совсем рядом, Поляков успел рассмотреть высокий вертикальный плавник.
«Акула!» — мелькнуло у него в голове.
Хищница кинулась вслед за кефалью и тут же настигла ее. Поляков увидел, как на миг открылась и захлопнулась огромная пасть. Все произошло за какие-то доли секунды. Кровь застыла в его жилах, когда рыба повернулась к нему своей мордой. Акула-молот! Один из крупнейших подводных хищников! Ему ли, ихтиологу, не узнать ее!.. От головы в обе стороны шел характерный горизонтальный выступ. Позади головы, на туловище, два больших выпуклых глаза. Вдруг они вспыхнули зеленоватым кошачьим светом. Ужас охватил Полякова. Отчаянно работая ластами, он бросился на поверхность.
Задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, он только показывал рукой в воду Берданову и Никодимову, тянувшим его в лодку.
— Акула-молот! — не сказал, а выдохнул он, срывая маску.
— Не может быть! Они не водятся в Черном море! — успел только выкрикнуть Берданов, как на поверхности воды, рядом с лодкой показался острый плавник и часть спины гигантской рыбы.
Никодимов в испуге отпрянул к другому борту. Лодка сильно закачалась. Акула описала возле лодки круг, потом второй, третий, за ним четвертый… Казалось, что она будет кружить так без конца.
— Посмотрите на ее хвост! — прошептал Поляков. — Это не акула. У акул вертикальные хвосты, а у этой горизонтальный, как у китовых…
— Так что же это?
— Не знаю… Странно… Такая рыба не известна ихтиологии.
Между тем странное существо продолжало монотонно описывать круги, будто не собираясь нападать на лодку. Ее влажный плавник, выступавший из воды, отсвечивал розоватым светом.
Поляков вдруг схватил Берданова за руку.
— Мне кажется, что это не живое существо…
— Что-о?!
— Приглядитесь внимательнее…
Плавники и хвост огромного веретенообразного существа были совершенно неподвижны.
Они замерли в одном положении. Было абсолютно непонятно, как передвигается чудовище.
Склонившись к воде, Поляков услышал чуть различимый шум, словно рядом с лодкой работал небольшой моторчик. Звук явно шел от «акулы».
— Слышите? Эта штука оттуда…
— Откуда?
— С марсианской ракеты, которая совершила посадку в море.
— Ну, это вы уж слишком!
— Смотрите! Смотрите! — закричал Никодимов, показывая в море.
С правого борта к лодке приближались еще две «акулы».
Берданов мельком взглянул на далекий берег: можно ли добраться вплавь? Поляков, внешне спокойный, не отрываясь, следил за «акулами».
Никодимов побелел как полотно.
В этот момент одна из «акул» поднырнула под лодку. Раздался сильный удар, и все трое кубарем полетели в воду.
Последнее, что увидел Берданов, было искаженное страхом и болью лицо Никодимова: отлетевшее весло ударило его по голове.
…Окунувшись в воду, Берданов увидел рядом с собой нерезкие очертания «акулы». Хищница разинула огромную пасть, и он почувствовал, что она засасывает его с ног. Рванулся в сторону. Поздно! Челюсти акулы мягко сомкнулись у него на поясе и рывками втягивали его внутрь. Еще миг, и они захлопнулись у него над головой. Сердце Берданова бешено колотилось. Он почувствовал, что глотка воздуха в легких хватит еще лишь на несколько секунд. В глазах поплыли красные круги. Почти теряя сознание, он приподнял голову и выдохнул воздух. Инстинктивно сделал глубокий вдох…
«Что за черт!» — подумал он.
Внутри «акулы» был воздух. Еще не веря самому себе, он задышал быстро и часто, словно после стремительного бега.
Ощупал туловище акулы. Жесткое и прочное, словно из металла.
Невольно вспомнились слова Полякова: «Это не живое существо…» Профессор был прав.
Кругом абсолютная темнота. Ровно гудит невидимый моторчик. Значит, «акула» плывет. Но куда? Сверху на лицо Берданова опустилось что-то холодное. Пощупал рукой — тонкая пленка. Протянул руку вперед — тоже пленка. Сзади — тоже. Невидимая пленка окутывала его со всех сторон. Он оказался словно в мешке.
Дышать стало трудно. Берданов попытался разорвать пленку руками — не вышло. Она была тонкая, но прочная.
Прошло несколько минут, и в мешке стало душно и жарко.
Он схватил пленку зубами и прокусил в ней небольшое отверстие. Пальцами разорвал пленку и высунул голову из мешка. Дышать стало легче.
Вдруг он почувствовал, что корпус «акулы» ударился о что-то твердое. По инерции он дернулся вперед. Пасть «акулы» внезапно раскрылась, Берданов заметил перед собою свет и почувствовал мягкий толчок сзади, выбросивший его через пасть наружу.
Он упал в воду. Тонкая пленка затрудняла движения. Барахтаясь в воде, он нащупал дно и стал на ноги.
В тот же момент он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Позади него, по грудь в воде, стоял профессор Поляков.
— Ну, как моя гипотеза?
— Какая?
— Насчет марсиан. Ведь мы на их ракетоплане, под водой!
— Вы так думаете?
— Уверен!
— А где же Никодимов?
— Не знаю…
— Вас тоже… «акула»?
— Тоже…
Берданов осмотрелся. Они находились в небольшом полутемном отсеке ракетоплана. На стенах тускло просвечивали два иллюминатора. Пол отсека залит на метр водой. Поляков помог другу освободиться от пленки. Внезапно раздался удар по левому борту. В стене отсека образовалась пробоина, через которую хлынула мощная струя воды.
— Люк… — коротко объяснил Поляков, оттаскивая Берданова в сторону. В люке, из которого хлестала вода, показалась морда «акулы». Механическая рыба влезла в отсек до половины туловища, закрыв своим телом, точно пробкой, доступ воде. Пасть раскрылась, и из нее выскользнул внутрь отсека человек, закутанный в прозрачную пленку.
— Никодимов! — воскликнул Поляков, бросаясь к нему на помощь.
Механическая «акула» подалась назад, в отсек снова хлынула вода, но лишь на секунду. Круглая металлическая крышка люка, захлопнувшись, закрыла доступ воде.
Никодимов был без сознания. Лицо окровавлено: ударом весла ему рассекло кожу на голове. Берданов и Поляков разорвали неподатливую пленку и подняли Никодимова на руки, поддерживая его над водой. Поляков приложил ухо к его груди и прислушался.
— Жив! Вот там, в углу отсека, сухой помост. Отнесем его туда. Осторожнее. Теперь ему надо что-нибудь подложить под голову.
Берданов подобрал мешки-пленки, из которых они недавно освободились, отряхнул их и устроил для Никодимова подобно мягкой постели. Потом разорвал рубашку на длинные полосы и самодельным бинтом перевязал рану. Никодимов застонал.
— К сожалению, мы ничем не можем больше помочь ему…
Оба уселись на краю помоста, стараясь не тревожить Никодимова. Отсек ракетоплана казался замкнутым металлическим склепом, из которого не было выхода. Берданов посмотрел на Полякова. Тот, видимо, тоже думал о создавшемся положении. Заметив на себе взгляд Варданова, Поляков тихо сказал:
— А ведь выход отсюда должен быть. Отсеки ракетоплана наверняка сообщаются между собой. Просто надо поискать как следует. Как вы думаете?
— Думаю, что так. Меня волнует другое: что делать с Никодимовым? Посмотрите-ка на него. Он все еще без сознания.
Никодимов застонал. Он дышал широко раскрытым, пересохшим ртом.
— Воды бы ему сейчас, — ответил Поляков, — да где ее взять. Марсиане, может быть, вообще не пьют воду. Ладно, — вдруг решился он, — пойдемте осматривать отсек. Не очень хочется снова залезать по грудь в холодную воду, да что поделаешь…
Они спустились с помоста и стали тщательно ощупывать стены.
— Профессор! — позвал Берданов. — Идите сюда! Посмотрите, что приносят акулы-роботы.
Он держал в руках пленку-мешочек, наполненную водой. Внутри мешочка билась крупная рыба. Вскоре они нашли еще несколько мешочков. В них были крупные и мелкие рыбы, крабы, камни, рачки, ракушки, медузы, пробы грунта, обломки палок, осколки стекла, куски ржавого железа — словом, все, что можно найти в море и на его дне.
— По-моему, акулы-роботы собирают все это в виде коллекции марсианам для изучения.
— Мы тоже экспонаты коллекции, — невесело улыбнулся Берданов, — может быть, это и к лучшему. Нас тоже будут изучать, и мы встретимся с марсианами. Значит, отсюда должен быть выход!
Как бы в ответ на его слова из дальнего угла отсека послышался стон Никодимова. Обернувшись, они заметили, как над помостом закрывается большой люк в соседний ярко освещенный отсек. Раненого Никодимова уже не было на помосте.
— Ваши марсиане украли его, пока мы с вами разглядывали рыб! — воскликнул Берданов. — Сейчас они рассматривают первого человека. Им-то это в диковинку. Наверное, и не сообразят, что он ранен!
Оба бросились к помосту и стали колотить в закрывшийся люк кулаками. Глухой звук ударов тут же замирал, люк не открывался.
— Надо беречь силы, — сказал Поляков, присаживаясь на помост. — Трудно предугадать, что с нами будет дальше.
Неожиданно в отсеке вспыхнул яркий свет. Казалось, что светился сразу весь потолок.
Оба прижались спинами к стене, внимательно наблюдая за необычными изменениями в отсеке. Из воды со дна отсека медленно поднималась металлическая сеть. Вот она целиком поднялась в воздух, накренилась, мелко и часто задрожала. Мешочки-пленки с рыбами, рачками и пробами грунта сползли к помосту, прямо под ноги Берданову и Полякову. Из-под помоста высунулись несколько двупалых лап и с большой проворностью, помогая одна другой, в течение минуты собрали с сети все до единого предмета. Короткие жадные лапы исчезли под помостом так же неожиданно, как и появились.
Берданов покачнулся. Он почувствовал, что дверь люка в соседний отсек, на которую он опирается спиной, медленно отворяется. Он оглянулся. В щель между люком и стеной прорывался свет из соседнего отсека.
— Смотрите-ка, — тронул он за руку Полякова, показывая на приоткрытую дверь.
Вдвоем они навалились на люк. Он медленно, но беззвучно открылся. Не помня себя от радости, они вбежали в соседний отсек и остановились на пороге. Второй отсек был ярко освещен равномерным зеленовато-голубым светом такой интенсивности, что при нем можно было читать книгу. Воды в отсеке не было. Стены покрывала ровная белая эмаль. Бросалась в глаза необычайная чистота помещения. Вдоль всего отсека тянулись рядами, почти касаясь друг друга, белые высокие шкафы, закрытые со всех сторон. На правой стороне каждого из них виднелся небольшой стеклянный глазок.
Поляков не утерпел, подошел к первому шкафу и заглянул через глазок внутрь.
— Эге! Да это препараторная! Смотрите: механизмы разделывают пойманных рыб.
Двупалые механические лапы подхватывали из бункера одну за другой находки акул-роботов и через определенные промежутки времени складывали их в большой белый шар. Из него часть находок отправлялась по правому прозрачному трубопроводу, а часть по левому. Вот лапы подхватили крупного краба в мешке-пленке и направили его в шар. Через несколько секунд краб, подхваченный струей воды, помчался по правому трубопроводу в соседний шкаф.
— По-видимому, это автоматический шар-анализатор, — предположил Поляков. — Он сортирует находки. Думаю, что здесь использована система электронной памяти. Она сравнивает находку со всем, что было до нее. Ненужное или сходное отбрасывается, а новые экземпляры отправляются в коллекцию. Хорошо придумано! А как четко работает!
В соседнем шкафу краба подхватили очередные двупалые руки и быстро поместили в небольшой ящик. Прошло меньше минуты, и из ящика был вынут аккуратный кубик льда, внутри которого был краб.
— Ого! Они его заживо заморозили!
— Причем вместе с той водой, в которой он был пойман, — добавил Поляков. — Теперь понятно, почему акулы-роботы обволакивают пленкой свою добычу. Это дает марсианам возможность изучить не только само животное, но и среду, в которой оно обитало.
— Такая же участь ожидала и нас… — содрогнулся Берданов.
Заглянув в соседний шкаф, профессор Поляков поразился:
— Вот это коллекция!
На полках шкафа в строгой последовательности были укреплены кубики льда, внутри которых находились замороженные животные и рыбы. Здесь были и темные крабы, и прозрачные креветки, и ракушки. Несколько полок занимали кубики льда с замороженными рыбами. Сквозь лед просвечивали скумбрии, кефали, морские скаты, ставриды, зеленухи, игла-рыба, морские коньки, хамса и другие обитатели Черного моря. При необходимости этот шкаф мог бы вместить даже и гигантскую голубую акулу, если бы она водилась в Черном море.
— Молодцы марсиане! — воскликнул профессор Поляков. — Скоро они будут иметь сведения о Черном море не хуже, чем мы. В таком состоянии экспонаты могут храниться сотни лет.
Вдруг Берданов замахал руками, подзывая к себе Полякова, и показал ему на пол. Там виднелась цепочка небольших красных пятен, тянувшаяся до самой двери в отсек.
— Что это, по-вашему?
Поляков опустился на колени и пристально осмотрел пятна.
— Кровь! — заключил он, оглядываясь на Берданова. — Вы думаете, что это кровь Никодимова? — тут же спросил он, хотя Берданов еще не высказал своего мнения.
Следы крови вели в глубь отсека. Они привели их к самому дальнему шкафу. Здесь цепочка пятен обрывалась.
— А где же он?
Берданов посмотрел в прозрачный глазок шкафа и тут же отпрянул назад. В холодной глубине шкафа на ослепительно белом столе лежало, покрытое полупрозрачным покрывалом, неподвижное тело Никодимова. Его руки неестественно вытянуты вдоль туловища, голова откинута назад, нос заострился, щеки ввалились.
Поляков и Берданов едва успели рассмотреть его, как стол с телом вздрогнул и медленно опустился вниз под пол. Захлопнулись белые створки. Шкаф опустел.
— Они заморозили его как экспонат!
— Так почему же они не заморозили и нас с вами?
— Может быть, им нужен всего один экземпляр, а может быть, наша очередь просто не пришла…
Берданов задумался.
— Тогда нам не сулит ничего хорошего встреча с вашими марсианами. В этом отсеке холодильных шкафов мы просто умрем от голода, а потом они превратят нас в ледяные мумии.
— Спасти Никодимова нам, по-видимому, уже не удастся, — нахмурился Поляков.
Друзья обошли отсек, заглядывая во все углы. Берданов заметил дверь, нащупал сбоку кнопку управления и нажал ее. Дверь тихо отворилась, открыв доступ в соседний отсек.
— Профессор! Быстрее сюда! Они забыли отключить управление этой дверью.
Все стены соседнего помещения занимали высокие пульты управления, окрашенные в серый цвет. От массы цветных огоньков, переключателей, рычажков и кнопок зарябило в глазах. Бесшумно захлопнулась дверь.
— Из огня да в полымя! — пробормотал Берданов. — Нас опять заперли! Теперь будем жить среди кнопок. Не пошевельнуться. Не дай бог задеть за что-нибудь!
— Чем вы недовольны? — удивился Поляков. — Плохо ли, хорошо ли, а мы знакомимся с их ракетопланом.
Берданову, как инженеру, было интереснее в этом отсеке, чем в предыдущем. Он внимательно разглядывал пульты управления.
— Вам эти матовые стекла не напоминают телевизионные экраны? Хотелось бы мне знать, зачем они здесь? — Он посмотрел на ряды кнопок и нажал на одну из них. Экран тотчас же вспыхнул голубым светом. Затем на нем появилось цветное изображение хвостовой части ракетоплана.
— Что вы делаете? — возмутился Поляков. — Одно неосторожное движение — и мы взлетим на воздух!
Берданов рассмеялся.
— Неужели вы думаете, что они, способные совершить межпланетный перелет, не смогли предусмотреть обычной блокировки на случай неверного включения кнопок? Уверяю вас, что это совершенно немыслимо с инженерной точки зрения. Не думайте, что марсиане менее осторожны, чем мы.
— Тогда нажмите следующую кнопку!
На экране возникло изображение носовой части ракетоплана. Остроносый, с большим выдающимся вперед острием, он напоминал сказочного единорога. Кое-какие иллюминаторы в его носовой части светились. Там шла жизнь. По всей вероятности, там и находились марсиане.
— Смотрите… — прошептал Берданов, не отрываясь от экрана.
К носовой части ракетоплана приблизились шесть фигур в скафандрах. Они волокли за собой сеть, наполненную добычей. Возле острого носа ракетоплана распахнулась дверь. Один за другим хозяева ракетоплана забрались внутрь корабля.
— Заметили? У них по две руки и ноги, — сказал Поляков. — Видели?
— Я-то видел, но и они видели, что мы наблюдаем за ними, — отозвался Берданов. — Ведь мы с пульта управления включили прожекторы ракетоплана.
— Видимо, при помощи этих кнопок мы можем осмотреть ракетоплан не только снаружи, но и изнутри, — предположил Поляков. — Давайте попробуем…
В этот момент чья-то тяжелая рука легла на плечо Берданова. Он обернулся и застыл от удивления. Перед ним стоял рослый марсианин, одетый в прочный металлический скафандр. Сквозь прозрачный шар на голове нельзя было рассмотреть его лица — оно было закутано серой непроницаемой повязкой. На Берданова смотрели два больших голубых глаза.
Первым пришел в себя Поляков.
— Мы оттуда, с берега! Одного из нас заморозили здесь!
— Подождите, профессор, — перебил его Берданов. — Ведь они не понимают земных языков…
Он показал марсианину три пальца. Тот удивленно взглянул на него и отрицательно покачал головой. Берданов еще раз поднял три пальца вверх, загнул один и показал на себя. Марсианин понял. Кивнул головой. Берданов загнул другой палец и показал на Полякова. Марсианин снова кивнул. Третий палец Берданов не сгибал. Он обернулся в сторону закрытой двери в холодильный отсек и показал туда рукой. Марсианин подошел к двери, незаметным движением руки распахнул ее и жестом пригласил Берданова следовать за собой. Берданов подошел к шкафу, в котором они с Поляковым видели замороженного Никодимова, и показал марсианину на третий палец. Тот заглянул в стеклянный глазок, увидел пустой шкаф и обернулся к двум своим спутникам, стоявшим на пороге. Ни Поляков, ни Берданов не услышали, как переговаривались марсиане. Жесткий скафандр не пропускал звука. Видимо, внутри стояли радиопередатчики. Заглянув еще раз в холодильный шкаф, марсианин взял под руки Берданова и Полякова и уверенно повел их. Перед ними, словно по мановению волшебной палочки, открывались все двери отсеков. Они прошли в носовую часть ракетоплана и попали в жилой отсек.
Марсианин сел на мягкую постель, прикрепленную к стене, быстрым движением снял с головы прозрачный шлем, скинул скафандр, снял с тела и с лица теплую шерстяную ткань и на безукоризненно чистом русском языке сказал:
— Что же вы стоите? Садитесь!
Берданов и Поляков опешили. Перед ними был молодой человек, лет тридцати двух. Он провел рукой по утомленному лицу и повторил:
— Садитесь же!
Поляков сел, но тут же спросил:
— Кто вы?
— Такие же советские люди, как и вы, — устало ответил голубоглазый «марсианин».
Поляков рассердился:
— К чему все это безобразие? Зачем вы заморозили Никодимова? Почему вы держали нас так долго в неизвестности?
— Сережа! — обратился голубоглазый «марсианин» к одному из своих товарищей. — Объясни им все. Я пошел спать. Видимо, переутомился.
С этими словами он с трудом забрался на верхнюю постель и тотчас же заснул.
Тот, кого он назвал Сережей, сел на его место.
— Зря вы на него так набросились. Сегодня он несколько раз спускался на огромную глубину. Мы только что вернулись из подводного плавания.
— Где же мы находимся наконец?
— Да не волнуйтесь, все уже в порядке, — ответил Сережа. — Вы случайно попали на опытный ракетоплан, который испытывается перед полетом на Венеру. Наш экипаж уже сделал несколько полетов вокруг Земли. Теперь мы отрабатываем посадку на новую планету.
— Почему же в море?
— По предположениям некоторых ученых, Венера покрыта сплошным океаном. Не исключена посадка в воду.
— А ваши «акулы»?
— Это электронные разведчики. Они доставляют нам экспонаты и тоже проходят испытания.
— Зачем же они захватили нас?
— Сами виноваты. Вы заплыли слишком далеко от береге. А мы в это время были вне корабля. С вами управлялись роботы-коллекционеры и роботы-санитары.
— А что с Никодимовым?
— Ему оказали первую помощь. Он в отсеке-изоляторе и сейчас вне опасности. Полежит у нас еще несколько дней, а потом мы отправим его на берег. Вам вдвоем придется покинуть наш ракетоплан без него.
Рослый молодой человек подошел к нему и положил на плечо руку.
— Пора? — спросил его Сережа.
Тот кивнул в ответ.
— За вами прибыл пограничный катер, — сказал Сережа. — Пойдемте…
…Прошло полгода. Однажды утром профессор Поляков, как обычно, развернул свежую газету. В глаза бросился большой заголовок:
Сообщение ТАСС
о прибытии советской космической ракеты
на Венеру
Поляков быстро пробежал глазами текст сообщения: «…Сорок дней назад ракета с экипажем покинула Землю… Сегодня в 5 часов 33 минуты 21 секунду по московскому времени ракета достигла поверхности Венеры… Самочувствие экипажа отличное… С экипажем поддерживается непрерывная радиосвязь… Приступили к научным исследованиям…»
Дальше профессор Поляков не смог читать. Он вдруг вспомнил голубоглазого командира, потом — коренастого Сережу, представил их на Венере и тихо прошептал:
— Ну что же… Ничего особенного…
М. Дунтау ЖЕРТВЫ БИОЭЛЕКТРОНИКИ
г. Измаил
Фантастическая юмореска
Техника — молодежи № 5, 1960
Рис. Н. Кольницкого
Это необыкновенное утро началось для тети Фени (так звали ее лефортовские старожилы) вполне обыкновенно. С половины восьмого она уже проворно семенила по привычному маршруту. В руке у нее позвякивал бидон с молоком.
Небольшая, сухонькая фигурка ее бодро мелькала в лефортовских дворах, а острый носик совался во все интимные детали быта покупателей молока.
Приближаясь к дому номер двадцать девять, она уже вспоминала, что хозяин его — Прокопий Матвеевич, и что сейчас он а отпуске, и что жена его — женщина с мужским характером, и что недавно она его… Да разве можно перечислить все, что знала тетя Феня!
Стуча в дверь, она раздумывала: «Наверное, Прокопий Матвеевич спит еще… Жена-то в отъезде…»
Вопреки ее ожиданиям дверь открылась сразу, и на пороге появилась солидная, грузная фигура хозяина. Усы его со сна топорщились, как у моржа, в руках он держал кастрюлю.
— Здравствуй, тетя Феня, — прогудел он.
— Здравствую, батюшка, здравствую, — пропела она. — Давай кастрюльку-то, налью…
Тетя Феня поставила бидон, взяла кастрюлю и… с изумленным выражением лица принялась, как заправский физкультурник, проделывать приседания с выбрасыванием рук вперед. Кастрюля со звоном покатилась по ступенькам.
Прокопий Матвеевич выпучил на нее глаза и собрался выразить свое недоумение, но не успел. Он почувствовал, что сию же минуту, немедленно должен делать то же, что и тетя Феня.
Несколько секунд он крепился, подавляя напряжение мышц, но неведомая сила победила, и он начал энергично повторять упражнения тети Фени.
Самое удивительное заключалось в том, что оба они выполняли одинаковые движения и в одном темпе. Казалось, что кто-то вроде диктора командует им: «Ра-аз, два-а, три-и, четыре».
Однако работа рук и ног не мешала языку тети Фени действовать. Диалог, происходивший между обоими партнерами, был необыкновенно сбивчив. Содержание его, надо признаться, было не совсем выдержанным.
— И чего ты?.. — вопрошала, приседая, тетя Феня.
Энергично повторяя то же упражнение, Прокопий Матвеевич растерянно оправдывался:
— Да разве… я?..
— Молоко не опрокинь!.. — жалобно молила тетя Феня, выполняя «отведение прямой ноги назад».
Тут оба перешли на исполнение «поскоков на обеих ногах попеременно».
— У-па-ду… за-мо-ри-лась… я… совсем! — выводила тетя Феня, подпрыгивая по-сорочьи.
Прокопий Матвеевич скакал молча, сосредоточенно глядя под ноги.
Ветхое крылечко тряслось и скрипело…
Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Тетя Феня в изнеможении опустилась на ступеньку, поправила сбившийся на затылок платок. Прокопий Матвеевич солидно, гулко откашлялся и разгладил усы. Сделал вид, что ничего особенного не произошло, и пробасил, подавляя злую одышку:
— Ну! Поза… позанимались — и ладно. Наливай… молоко, что ли…
— Молоко… молоко! — передразнила его возмущенная тетя Феня. — Капитолина Михайловна приедет, скажу ей… Она тебе пропишет… молоко-то!
Отдышавшись, она отмерила полагавшиеся полтора литре и взяла бидон. Бормоча что-то в адрес предполагаемого виновника (конечно, Прокопия Матвеевиче), тетя Феня побрела усталой походкой к калитке.
Предполагаемый виновник стоял на крылечке и задумчиво гладил усы. Он безуспешно пытался осмыслить: что же, в сущности, произошло? Вдруг он заметил, что тетя Феня от калитки быстро побежала назад, вскрикивая:
— Пошел! Ну! Тубо!
Повернувшись, она отчаянно замахала рукой:
— Ой! И здесь! Страсти-то какие! Пошел, говорю тебе! — И, обращаясь к Прокопию Матвеевичу, жалобно завопила: — Да убери ты своих псов, ради Христа! Проходу нет!
Прокопий Матвеевич, еще не вполне оправившийся от предыдущего, с тупым удивлением глядел на… собаку!
Да! Прекрасная крупная овчарка смотрела ему прямо в глаза, насторожив уши, как будто ожидая команды. Он машинально похлопал по ноге:
— Песик, песик, иди сюда! Ну, иди же!
Пес стоял по-прежнему неподвижно, только острые уши его слегка шевелились.
С чисто мужским самообладанием Прокопий Матвеевич попытался успокоить напуганную тетю Феню:
— А ты не бойся! Он на меня смотрит, а тобой и вовсе не интересуется.
— Да что ты, батюшка, ослеп, что ли?! Он только на меня и уставился! Вот уши-то, как у волка! Ой, люди добрые, страшно!.. Пошел! Тубо! Пиль! Куш! Апорт!
В смятенье она перебрала все собачьи команды, но видя, что помощи ожидать не приходится, начала планомерное отступление, прикрываясь бидоном, как щитом. Упершись спиной в калитку, она нащупала щеколду, открыла дверь и неожиданно ловко нырнула на улицу.
Тут тетя Феня почувствовала себя в безопасности и не замедлила отвести душу:
— Пропади ты пропадом с собаками твоими! Чтобы они подохли, окаянные!
С этой заключительной репликой она поспешно двинулась дальше.
Прокопий Матвеевич собрался еще раз задобрить неизвестную собаку, но ее уже не было. Растерянно почесав затылок, Прокопий Матвеевич (на всякий случай) обошел дворик, заглядывая во все углы, но нигде ничего особенного не обнаружил.
— Да-а, — коротко резюмировал он. — Приедет Капочка — расскажу ей все.
А объяснение этих необыкновенных событий было совсем близко! Стоило лишь кому-нибудь заглянуть в заднюю комнату соседнего дома номер двадцать семь. Он увидел бы, как сын Анны Семеновны Ковдиной, инженер Ковдин, сосредоточенно возится с каким-то аппаратом вроде радиоприемника, как Анна Семеновна в половине восьмого уходит за покупками, как инженер Ковдин заканчивает пайку последнего соединения в аппарате.
«Чем бы опробовать?» — думает он. Порывшись в ящике, он находит рулончик ленты с наклейкой: «Запись биотоков двигательного центра. Производственная гимнастика».
Ковдин вкладывает ленту в аппарат, включает его, быстро садится в кресло и бормочет: «Посмотрим, как с мощностью излучения обстоит дело…» У него начинают подергиваться мышцы рук и ног, а через две-три секунды он невольно выполняет те же упражнения, что и наши герои.
Но вот лента кончилась, Ковдин доволен.
— Отлично! Можно начинать в клинике, — замечает он.
Подумав секунду, он вкладывает в аппарат другую ленту, с наклейкой «Биотоки зрительного центра. Рекс», и включает аппарат. Сейчас его любимая овчарка находится а нескольких километрах от дома. Потом инженер выключает аппарат и, поглядывая на часы, принимается торопливо завтракать. Он очень спешит, потому что в десять чесов должен демонстрировать в хирургической клинике свой аппарат для восстановления двигательных функций мышц после повреждений нервных стволов.
Но… инженер Ковдин еще не подозревает, что его аппарат излучает не на пять метров, а по меньшей мере на целых двадцать!
Те, кто не склонен к полетам в будущее на крыльях фантазии, возможно, пожмут плечами и скажут: «Вздор!»
Ну что ж! Может быть, сегодня это еще и выглядит как вздор, но завтра? Существует же сегодня механическая «биорука», выполняющая мысленные приказания человека!
Георгий Гуревич ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Научно-фантастическая повесть
Техника — молодежи № 6–8, 1960
Рис. А. Побединского
1
В окошко смотрели четыре луны.
Четыре кривых ятагана.
В прятки играли четыре луны
За темной спиною титана.
Он проснулся рано утром — в семь часов.
Конечно, это только так говорится — утром. На станции Ариэль не бывало утра. День продолжался там сорок два года. Владимира (или Мира, как сокращали ого имя в XXIII веке) еще но было на свете, когда над железной горой восточнее станции впервые поднялось солнце — сверкающий брильянт на черном небо.
Мир прожил на Ариэле уже год, но без восхищения не мог смотреть на здешнее небо. Сегодня на звездной россыпи сверкали четыре луны — все четыре сразу: золотая вишенка Миранды; угловатый, освещенный сбоку Умбриэль, похожий на чертежную букву; золотисто-зеленая Титания, чуть поменьше ношей земной Луны, и в отдалении оранжевый Оборон, словно апельсин на черном бархате неба.
Это Мир подобрал сравнения за нас. Он всегда подбирал сравнения, глядя на что-нибудь красивое.
И стихи про четыре луны тоже он сочинил:
В окошко смотрели четыре луны…Луны двигались быстро, каждый час менялся их узор. Был треугольник, стал квадрат, а там черпак, а там лестница. А вот маленькая проворная Миранда вышла из игры, докатилась до черно-зеленого шара и спряталась за его спину.
Ураном назывался этот шар, хозяин лунного хоровода. Он висел на небе, невысоко над горизонтом, огромный, как скала, как многоэтажный дом. Половина лица у него была черная, и эта половина как бы всасывала звезды; другая, освещенная мертвенно-зеленым светом, выплевывала те же звезды через два часа. Аммиачные тучи рисовали на ней косые полосы, вилы, завитки и спирали. Изредка тучи разрывались… словно черная пасть раскрывалась в злобной улыбке…
2
Значит, в космоса есть такое,
Что лишает людей покоя!
Значит, есть не планетах волнение,
Достойное стихотворения!
Мира нельзя было назвать поэтом, хотя он и писал стихи. Стихи писали почти все сверстники его — молодые люди XXIII века. Писали стихи о первой любви, реже о второй, еще реже о третьей. Но Мир продолжал писать, может быть, потому, что в любви он был неудачлив. Продолжал писать, хотя стихи его отвергали в журналах.
Один пожилой и многоопытный редактор сказал ему так:
— Мальчик, ты пишешь о том, что ты влюблен в Марусю и Виолу. Но это частное дело Маруси и Виолы, только им интересно. Ты расскажи не о Виоле, о любви расскажи такое, что интересно всем людям. А если о чувствах ничего не знаешь нового, тогда поезжай за новым на край света, куда редко кто заглядывает, где сохранились новинки, еще не попавшие в стихи.
Юноша обиделся. В XXIII веке поэты все еще были самолюбивы. Но запомнил слова пожилого редактора.
Нет, в космос он пошел не за темами для стихов. Молодежь и в те времена рвалась туда, где трудно и опасно, мечтала о подвигах на целине, где не ступала нога человека. Но целины на земном шаре осталось не так много. Юноши ехали в Антарктику, где еще не отрегулировали климат, на океанское дно, под землю… и на небо. Мир был радистом, он понадобился в космосе.
Сначала он попал на Луну, на нашу земную Луну, так сказать, в космический вестибюль, на Главный межпланетный вокзал.
На Луне он тоже писал стихи. Ему удалось даже опубликовать в «Лунных известиях» (№ 24 за 2227 год) такое четверостишие:
Издалека блестит Луна, как золотой бокал. Вблизи она черным-черна, планета черных скал. В твоих глазах голубизна, походка так легка, Но я боюсь: ты, как Луна, блестишь издалека.Конечно, в XXIII веке Луна уже не считалась краем света. Там были ракетодромы, рудники, города… «Луна — это не целина», — написал Мир в своем дневнике.
Он прожил там только полгода, затем получил назначение на Цереру — в пояс астероидов. Пожалуй, это был уже передний край. Ракеты в ту пору обходили пояс астероидов стороной, бывали и несчастные случаи. С Цереры Мира, как радиста опытного, перевели на Ариэль, необычайное, быть самое грандиозное, предприятие XXIII века.
Мир понял, что его мечта осуществится. Не всякому дано творить историю, не всякому удается видеть, как она творится. Миру выпали честь и счастье свидетелем великого события. Оно всегда будет интересовать людей, каждое слово очевидца будет повторяться годами. А Мир увидит своими глазами и все, что увидит, опишет в стихах, волнующих, важных, интересных всем людям. Это будет целая поэма. И даже заглавие придумано для нее: «Первый день творения».
3
Я буду слушать и смотреть,
Все знать наперечет.
И тем, ному работать впредь,
В поэме дам отчет.
В тот знаменательный день Мир запоминал и записывал все детали. Записал, что он проснулся в семь утра, записал, что на завтрак ел свежие абрикосы, синтетическую говядину, компот витаминный. Они завтракали втроем, три радиста штаба: араб Керим, шведка Герта, его молодая жена, и Мир. Юна — четвертая радистка — опоздала: она любила поспать поутру.
Хозяйничала Гарта. Не потому, что так принято было, просто она любила хозяйничать. Большие руки ее все время двигались, накладывали, добавляли, передавали, и светлые глаза с беспокойством смотрели в рот мужу: достаточно ли ест, не надо ли еще?
А беспокоиться за Керима не приходилось. Он ел за четверых и работал за четверых. Его могучее тело как бы само просило деятельности. Другие радисты сидели с наушниками, а Керим предпочитал бегать по точкам, проверять и ремонтировать. Длинными своими ногами он мерил Ариэль, отмахивая в иной день километров полтораста. Ему нравилось работать руками, рубить, долбить, чувствовать, как хрустит материал, уступая могучим мускулам.
— Мне бы родиться на три века раньше, в героическом двадцатом, — говорил Керим, вздыхая. — Эх, на коне скакать, шашкой играя, лес корчевать в тайге, камни ворочать! В изнеженное время живем. Только в космосе и осталась работенка по плечу. Тут мы наломаем дров, правда, Герта? Мы наломаем, а Мир воспоет наши деяния. Воспоешь, Мир?
И, небрежно обняв прильнувшую жену, Керим скользнул в кладовку надевать скафандр. Помчался за семнадцать километров в ущелье Свинцовый блеск проверять замолкнувшую точку.
Герта прижалась лбом к стеклу, провожая его глазами. Она видела, как Керим удаляется длинными и плавными прыжками, словно скользит на невидимых лыжах. Вытянул ногу и ждет, ждет, ждет, когда же носок коснется твердого грунта. Впрочем, все так ходили на небесных телах с малой тяжестью.
4
Это было жестоко:
Бросить голос любимой
В огненные потоки,
Зеленые глубины.
У каждого из четырех радистов был свой круг обязанностей. Керим занимался ремонтом, Герта держала связь с Землей и межпланетными ракетами. Четвертая радистка Юна — та, что любила поспать, — вела переговоры с людьми, работающими на Ариэле и других спутниках Урана. Мир ведал кибами — кибернетическими машинами.
На Ариэле было немало киб. Одни строили ракетодромы, дороги и подземные дома, другие добывали руду, выплавляли металл, ремонтировали ракеты, и все в назначенный час докладывали Миру о проделанной работе. Но самые важные кибы находились на Уране. Именно они должны были начать то грандиозное предприятие, которое Мир собирался воспеть в своей поэме.
Проект «Коса Кроноса» — так называлось это предприятие.
На самом Ариэле трудились обычные кибы — тупые, узкопрограммные машины, изъясняющиеся радиосигналами. На Уран же отправились кибы особенные, умеющие видоизменять программу, перестраивать и регулировать свое управление. Люди никогда еще не спускались на Уран, никогда не посещали его недра, неточно знали, какие там условия, поэтому их посланцы на Уране должны были иметь некоторую свободу действий. И кибы на Уране могли даже описать обстановку человеческими словами, увидеть ее глазами машины. Для этого требовалась очень сложная схема, ее создавали многие. Мир делал только голоса, такие вещи умели делать в XXIII веке. И на одну из киб он поставил голос девушки… одной знакомой девушки… в общем той девушки, в честь которой он писал стихи на Ариэле:
Бросил голос любимой В зеленые глубины.С виду машина как машина — удлиненный снаряд в оболочке из жаростойкой вольфрам-керамики был установлен на стандартной атомной ракете. Люди нажали кнопку. Изрыгая пламя, в клубах беззвучных взрывов ракета унеслась в черное небо… А через несколько минут оттуда донесся глубокий и бархатистый голос девушки: «Угловатый силуэт на фоне частых звезд. Это Ариэль. Ракетодрома не вижу, он на дневной стороне, а передо мной ночная. Как бы бесформенный угольный мешок на фоне звезд. Он заметно съеживается. Скорость отставания у меня — четыре километра в секунду. Выключаю двигатель, начинаю свободно падать на Уран».
На Уран киба спланировала через сутки. Даже в телескопы Ариэля замечена была искорка в тот момент, когда ракета вошла в тучи.
Киба погрузилась в плотную атмосферу Урана. «Зеленый туман, серо-зеленый туман, оливковый туман, — сообщала она. — Тучи из аммиачных льдинок. Ледяные метановые ветры. Температура минус двести, давление десять атмосфер… двадцать атмосфер… тридцать атмосфер… Внизу черный сумрак. Как бы тону в вечернем море».
Ядовитые полосы, Тучи черные, грозные, И в любимом голосе Слезы, слезы…Впрочем, насчет слез Мир явно преувеличивал. Слез там не было и быть не могло. Монтируя голос кибы, Мир использовал магнитную запись радио-разговоров и пения на вечере самодеятельности. Поэтому голос был не жалобно-слезливый, а певучий или деловой. Иногда интонации приходились не к месту. О температуре киба сообщала, словно песню пела, но чаще она разговаривала тоном очень занятого секретаря, которому некогда выслушивать любезности в служебное время.
И подумать, что все это исходило от печатных блоков, плавающих в керосине! Керосин был удобен в трех отношениях: он мог служить резервным горючим для атомного двигателя; в жидкости легко перемещались миниатюрные паучки-манипуляторы, умеющие чинить и переключать провода; а самое главное, керосин можно было сжимать, чтобы уравнять давление с внешней средой. А давление возрастало с каждым часом.
Шестнадцать суток киба тонула, погружалась в черное ничто. Так глубока и так плотна была атмосфера Урана. На шестнадцатые сутки пришло сообщение: «Наконец-то я прозрела! Вижу тусклый бордовый свет внизу. Мягкий такой цвет, бархатно-вишневого оттенка. На Ариэле я видела платье такое у одной девушки».
— Женщина остается женщиной, даже если она машина, — сурово изрек Карим. — И на дна Урана она думает о платьях.
К сожалению, дна как раз на было. Светились газы, наэлектризованные высоким давлением. На Уране ионосфера оказалась в глубина, у специалистов возникли опасения. Припомнилась старая теория, которая гласила, что у Урана вообще нет дна, весь он состоит из ионизированного газа. Если бы это предположение оправдалось, сорвался бы весь проект «Коса Кроноса».
Но опасения были напрасны. На восемнадцатые сутки киба причалила к твердому дну, начала вгрызаться в него. И вот сегодня она доносила Миру: «Говорит киба «4А». Стою на дне вертикально. Вокруг сплошное сияние: белые струм, радужные струи, вихри искр. Давление предельное, материал разрушается разрядами, местами течет. Что мне делать дальше? Для чего меня послали сюда?»
Киба не знала, что ее «жизни» осталось четыре часа. Лишь человек умеет заглядывать в будущее, надеяться и страшиться. А киба просто напоминала, что программа ее исчерпана, следует прислать новый приказ. И повторяла своим деловито-кокетливым голоском: «Что мне делать дальше? Для чего меня послали сюда?»
И вдруг тот же голос продолжает за спиной:
— Я никогда не прощу тебе, Мир, эту глупую шутку.
5
Ты — трава. Ты — солнце.
Ты — звезда. Ты — жизнь!
Ты из мрака и света.
Ты из грусти и смеха.
Все женщины мира в тебе слились.
— Я никогда не прощу тебе эту глупую шутку, — сказала живая девушка. — Выдумал тоже: поставил мой голос на тупоголовую кибу. Я тебе страшно отомщу, страшно! Приделаю твой голос к автомату-напоминателю в ванной, и будешь вещать там: «Помойте ванну, бу-бу-бу. Уходя, гасите свет, бу-бу-бу. И не забудьте спустить воду!» Понравится тебе такая должность?
Керим был араб по происхождению, Герта — шведка, Мир, как вы догадываетесь по его стихам, русский. Никто не сумел бы сказать, какой национальности Юна. Все расы смешались в ее крови, и каждая оставила свой след: кожа темная, почти как у негритянки, тонкий с горбинкой персидский нос, чуть удлиненные монгольские глаза, тяжелые и пушистые русые волосы. Сочетания неуместные, дерзкие. На улицах на нее оглядывались с удивлением, оглянувшись, не могли оторваться.
Все женщины мира в тебе слились…Юноша вздрогнул. Сердце у него оборвалось, дыхание захватило. Все-таки была какая-то связь между ними. Присутствие Юны действовало на него, как электрический удар.
Вслед за Юной в комнату радистов вплыл тяжеловесный лобастый мужчина среднего роста с широченной грудью и бицепсами штангиста. Это был начальник станции Ариэль — Май Далин.
— Как настроение, молодежь? — крикнул ом. — Дождались решающего дня?
Причалив к окну, обратился с речью к зеленому шару:
— Пришел тебе конец, старик. Помнишь греческий миф? Ты был богом неба, но даже детям своим не давал света, заточил их в мрачный Тартар. И Гея — Земля, их мать, ополчилась против тебя, подала острую косу Кроносу — младшему из твоих сыновей…
И он тебя оскопил и низверг. Было такое дело? Мифы греков, в сущности, рассказывают о природе, — продолжал Далин, обращаясь уже к радистам. — Уран — небо, Крон ос — время. Время способно обесплодить даже небо, время все уничтожает, даже свои творения. Кронос, как известно, пожирал своих сыновей… пока его не сместил Зевс — гордый, ревнивый, похотливый, сварливый внук Земли, человекоподобный бог. И Человекоподобный победил и Время и Небо.
— Вот сегодня это и сбудется, — заключил Далин с улыбкой.
Он был немного говорлив, как все сверхсрочники. Слово это в XXIII веке имело новый смысл, совсем не тот, что раньше. В XXIII веке сверхсрочниками называли людей, которым врачи продлили жизнь и молодость сверх естественных 60–70 лет.
Далин был из старших сверхсрочников. Он помнил первые опыты по продлению жизни, когда долголетие доставалось еще не всем, только самым уважаемым и обязательно очень здоровым людям. Далин был и здоровяком и знаменитостью — космическим капитаном, участником первой экспедиции к Сатурну.
Он получил долголетие как бы в награду за работу в космосе и отдал космосу все сверхсрочные годы. Его сверстники давно ушли на покой («Кто на виллу, кто в могилу», — мрачно шутил он), а Далин все летал — по солнечной системе и за пределы ее— к черным и черно-красным инфразвездам.
Далин пришел в космос, когда эпоха капитанов кончалась в космосе, начиналась эпоха инженеров. Он не столько открывал, сколько строил, строил на знойном Меркурии и на ледяном Ганимеде, на клокочущей Венере и на невесомом Икаре.
— Но это уже в последний раз, — говорил он, принимая назначение на Ариэль. — Хочу жить на доброй Земле, где люди, выливая стакан воды, становятся тяжелее на двести граммов. В самый последний раз! Тут уж я морально обязан как сверхсрочник.
6
Судьба пожилого — возле дома
Выращивать невиданные цветы.
Судьба молодого — уходить в незнакомое
По горной тропе мечты.
— Тут уж я морально обязан, — сказал Далин, принимая назначение на Аризль.
Дело в том, что работа станции Ариэль и весь проект «Коса Кроноса» косвенно были связаны с проблемой долголетия.
Все люди стали жить по двести лет и больше. Смертность упала. Населенна земного шара росло быстрее. Оно уже достигло 86 миллиардов человек.
К XXIII веку люди уже превратили пустыни в сады, тропические леса в плантации, вели подводное земледелие на мелководье, строили в океанах понтонные плавучие острова.
Пришла пора вспомнить слова Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели».
Но в солнечной системе не было других планет, пригодных для обитания людей — либо слишком жаркие, либо слишком холодные.
Можно было, правда (техника уже позволяла), передвинуть планету на другую орбиту, более приемлемую для человека.
Какую именно планету?
Всемирная Академия наук решила Марс и Венеру с их своеобразной жизнью оставить как музейные экспонаты.
И тогда возник дерзкий проект: расколоть на части одну из больших планет, разрезать, как каравай хлеба, как головку сыра, как арбуз.
Ураном решено было пожертвовать.
Как расколоть планету? Главное препятствие — тяготение. Даже если планета будет расколота, силы тяготения вновь соединят, слепят, склеят отдельные куски.
Но в начале XXIII века выяснилось, что есть возможность рассечь не только планету, но и поле ее тяготения. И тут результат получался совсем иной. Если вы взрывали гору, обломки оставались на Земле, если же подрезали поле тяготения под горой, она кувырком летела вверх. Представьте себе туго натянутое полотно, которое вы режете ножницами. Как только разрез сделен, половинки распадаются. Так получилось и с горой. Она оказывалась по ту сторону разреза. Земля не притягивала ее больше, а все прочие светила притягивали. И гора улетала в небо со скоростью ракеты.
Кибы, посланные на Уран, в том числе киба с голосом девушки, несли на себе генераторы режущих лучей. И Далин должен был включить их сегодня в 12 часов 22 минуты по московскому времени.
7
В колыбели человечек.
Как назвать его, наречь его?
Не назвать ли Геркулесом.
Чтобы стал тяжеловесом?
Не назвать ли Любомиром.
Чтобы стал любимцем мира?
— Сколько у нас окошек на селекторе, Юна? — спросил Далин, поворачиваясь спиной к Урану. — Двенадцать есть? Собирайте общее собрание руководителей.
Юна проворно заработала клавишами. На селекторе один за другим засветились бело-голубые прямоугольники. Появились лица начальников групп, словно выставка в музее этнографии: китаец, американец, негр, аргентинец, индиец, голландец, чех, перс, грузин, татарин и француз.
— Внимание, товарищи, — сказал Далин. — Потолкуем в последний раз, выясним недоговоренности.
Некоторые участники заочного совещания прижали к уху карманные микропереводчики. Большинство понимало русский язык — язык науки XXIII века.
— Разрез Урана производим в 12. 22, как условлено, — продолжал Далин. — К двенадцати часам всем надо собраться на ракетодроме, каждой группе у своей ракеты. Как только Уран будет разделан, ракеты устремляются каждая к своему осколку.
— Надо распределить осколки заранее, — сказал китаец Лю, сморщенный и седой.
— Распределим, — согласился Далин. — Порядок такой: осколком номер один считаем ближайший к Солнцу, летящий по направлению к Солнцу. Это ваш, Лю. Идем против часовой стрелки, как вращаются планеты. Осколок номер два, левее, ближе к созвездию Девы, ваш, Дженкинсон…
Далин набросал схему и повернул блокнот к экрану. Двенадцать лиц склонились, перечерчивая ее.
— О позывных надо условиться, — продолжал методичный Лю. — По номерам неудобно. Путаница будет.
— Хорошо, дадим условные имена осколкам. — Далин оглянулся. — Юна, девушка, вы понимаете красоту. Быстро придумайте двенадцать звучных имен для будущих планет.
— Можно назвать их по группам, — предложила Юна. — Планета Лю, планета Дженкинсона… И обязательно должна быть планета Далина, — добавила она, краснея.
Далин энергично замахал руками:
— Глупость придумали, девушка! Я не допущу такого самохвальства. Тысячи людей готовили разрез, миллионы будут благоустраивать, миллиарды населять, а мы приклеим имя одного человека — стершего группы наблюдателен. А ну-ка, Мир, ты поэт, быстро сочини двенадцать поэтических имен.
— Поэзия, — сказал Мир второе, что ему пришло в голову. А первым пришло женское имя — Юна.
Далин обрадовался:
— Вот это хорошо. Даже традиция выполнена. Солнце — Аполлон, и вокруг него музы. Поэзия, Проза, Опера, Балет, Драма… А потом когда-нибудь возникнут Академии Искусств на каждой планете, школы художников, стили, общесолнечные празднества. Люди будут собираться танцевать на планете Балет, импровизировать стихи на Поэзии, слушать симфонии на Музыке. Хорошо, Мир, у тебя есть фантазия.
А Мир и не думал о таком. Просто он любил поэзию.
— Поэзия — Лю, — диктовал Далин. — Дженкинсон — Проза. Драма— Анандашвили. Газлеви? Вам по вкусу, наверное, подошла бы Гастрономия?
— А что? Гастрономия — тонкое искусство, — отозвался толстый перс, большой любитель покушать.
— Не будем раскармливать будущих жителей. Берите шефство над Балетом, Газлеви.
Все заулыбались, представив толстяка в роли балетмейстера.
— Теперь повторяю общие указания, — продолжал Далин. — Перед стартом каждый сам выбирает трассу. Подходит к своему объекту, тормозит, ложится на круговую орбиту. Держаться надо на безопасном расстоянии — сто или двести тысяч километров. Ближе и не нужно в первое время.
— А когда высадка? — нетерпеливо спросил черноусый Анандашвили, прикрепленный к Драме.
Инструктаж тянулся долго. И он не был закончен еще, когда из своей радиокабины высунула светлую головку Герта.
— Земля говорит. Будете слушать?
Это был обычный выпуск последних известий для космоса. И как в далекие времена, он начинался светлым перезвоном кремлевских курантов.
Заслышав эти знакомые звуки, суровые лица на экранах заулыбались смущенно и нежно. И каждому вспомнился свой дом — белые с черными заплатами березы, зеленые трубы бамбука или тюльпаны над тихим каналом. Дом, сад, мать, дети, Земля, ласковая и родная!
Земля рассказывала о своих достижениях: построен новый понтонный остров юго-восточнее Гавайи. Туда, в страну вечной весны, переселяется десять тысяч школ. Орошен большой массив в Сахаре водами пресного моря Чад-Конго. Соревнование садоводов в Гаарлеме. Выведена удивительная роза темно-фиолетового цвета. Ведутся исследования на границе внутреннего ядра Земли.
И вдруг…
«…Хотя ученые применяли последнюю новинку техники — лучи, режущие поле тяготения, такие же, как в проекте «Коса Кроноса», попытка взять пробу не удалась. Академик Жан Брио считает, что в особых условиях планетного ядра режущие лучи не действуют».
Далин вздрогнул, резко обернулся к селектору. Двенадцать пар глаз выжидательно смотрели на него.
Что означала эта передача? Информация или совет? Земля сообщала, что режущие лучи не берут ядро планеты. Значит, и ядро Урана они не сумеют раскроить сегодня? Надо ли отменить подготовленную работу, ждать, пока на Земле проверят режущие установки?
— Что скажете, товарищи? — спросил Далин.
— Так нельзя! — выкрикнул Анандашвили. — Под руку толкают.
Шесть человек высказались за включение режущих лучей, шесть против Далину приходилось решать.
Он задумался, положив курчавую бороду на грудь.
Выжидательно молчали белые, желтые и черные лица на экранах.
— Запросим Землю, — решил Далин. — Пошлем радио в Космическую Академию. Подождите выводить людей на ракетодром.
8
Считается, кнопку нажать — забава.
Пальцем ткнул — и иди в буфет.
А люди об этой кнопке плюгавой
Мечтали, может быть, тысячу лет.
Радиостанция дала направленный луч. Герта отстучала ключом… И пошла на Землю депеша, помчалась со скоростью света: 300 тысяч километров в секунду, 300 тысяч, и 300 тысяч, и 300 тысяч… Мир откашляться не успел, а радиограмма умчалась за миллион километров.
Но до Космической Академии она должна была лететь 2 часа 32 минуты и столько же времени обратно.
Радиограмма еще не дошла до орбиты Сатурна, когда вернулся Керим и потребовал обед. Что ели за обедом радисты, осталось неизвестным. Мир не записал меню. Он уже не был уверен, что этот день войдет в историю.
К концу обеда к радистам зашел Далин. Подсел к столу, но от обеда отказался.
Вообще он частенько заходил в спой радиосекретариат просто так, поболтать немножко, понабраться бодрости у молодежи. Так важный генерал (это Мир придумал такое сравнение) в час отдыха играет с внучком в солдатики.
Далин любил рассказывать, а радисты охотно расспрашивали его: Мир — о науке, а Керим — больше о прошлом, о героическом двадцатом веке.
— Расскажите, как все началось? Как брали Зимний дворец? Что говорили на улицах? А царя вы видели? Где был царь?
Далин отвечал улыбаясь:
— Голубчик, у тебя все перепуталось. Я родился гораздо позже. Взятие Зимнего я видел только в кино, как и ты.
— А капиталистов? Какие они были? Зубастые, толстые?
— И капиталистов уже не видел, Керим. Вот пережитки капитализма еще застал. Пьяных помню. Была такая забава: люди разводили этиловый спирт с водой и пили стаканами. От него был туман в голове и нарушалось торможение в мозгу. Некоторым нравилось растормаживаться, забывать осторожность и приличия, ни с чем не считаться, кроме своих настроений. И деньги помню. Такие бумажки с узорами — их раздавали не поровну: за сложную работу побольше, за простую поменьше.
Мира больше интересовало будущее.
— А потом? — спрашивал он. — Вот расколем мы Уран, дальше что?
— Дальше возни с планетами хватит лет на двести. Будем ждать, чтобы они остыли, выравнивать, на место отводить, менять атмосферу будем — превращать метан и аммиак в углекислый газ, азот и воду. Потом высадим растения, чтобы насыщали воздух кислородом…
— Ну а дальше? Благоустроим планеты, заселим…
— Дальше расколем Нептун, — отвечал Далин. — Потом Сатурн и Юпитер. Если только у них есть твердое ядро. Это еще уточнить надо.
— А потом?
— Потом, как предлагал еще Циолковский, построим искусственные спутники из стекла и алюминия.
— Но на спутниках невесомость. А детям вредна невесомость, так говорят профилактики (профилактиками называли в XXIII веке врачей. Ведь им чаще приходилось предупреждать болезни, а не лечить).
— Может быть, мы зажжем еще одно солнце: соберем темные тела в межзвездном пространстве, свалим их в одну кучу… Вы же знаете закон больших масс. Стоит только собрать достаточное количество материи, и обязательно загорится солнце.
— А потом?
…Но сегодня Мир не решался задавать свои вопросы. Нельзя было расспрашивать о завтрашних шагах, когда и сегодняшний не удался.
Далин сидел у стола и барабанил пальцами.
— Рыбу ловили когда-нибудь? — спросил он. — Не электричеством, не ультразвуком. На простую удочку, на живца ловили? Было такое развлечение некогда: сидишь на бережку, смотришь на поплавок. Вода блестит, поплавок прыгает в бликах. Плывут по речке отражения облаков. Хорошо. И внимание занято, и забот никаких.
Керим шумно отодвинул тарелку.
— Зачем тянете время? Все равно Земля ответит: «Отложите!» Всегда спокойнее отложить. Я бы нажал кнопку, и все! Будь что будет. Такое мое мнение.
— Будь что будет, — горько усмехнулся Далин. — А если ничего не будет? Думать надо, Керим. А кнопку нажать силы у всякого хватит.
Керим, обиженный, тут же ушел. Изобрел себе дело: проверить автоматическую сигнализацию в складе горючего. И Далин поднялся вслед за ним.
— Пойду пройдусь. Мир, проводи меня.
Но в шлюзе, где надевали скафандры, он сказал молодому радисту:
— Ты извини меня, Мир, мне подумать наедине надо. Не сердись. В другой раз пройдемся.
Мир скинул скафандр, через открытую дверь скользнул прямо в радиобудку. Девушки даже не заметили его. Они сидели в радиокабинах спиной к двери, не оборачиваясь, переговаривались о своих делах.
Шли секунды и минуты. Сонно гудели радиоаппараты.
Где-то на невообразимо далекой Земле писали ответ Далину: решалась судьба проекта.
9
Я сижу с тобою у стола,
я знаю твои дела.
Я шагаю рядом в строю,
вместе с тобой пою.
А какая у тебя мечта?
Мысли бы твои прочитать.
— А замечательно придумал Далин, — сказала Юна неожиданно. — Планета песни, планета драмы, планета танца. На планете танца я бы хотела жить. Там весело будет: утром вместо зарядки пляска, перед работой пляска, перед обедом хоровод. И красиво: все праздничное — цветы, цветы, цветы… Кто придет в некрасивом платье, высылают с планеты прочь. Как хорошо: все создается заново! Словно ребенка растишь: вот он крохотный несмышленыш, и ты учишь его, будто из глины человечка лепишь. А тут целая планета — праздничная, нарядная, веселая. Ты какую выберешь, Герта?
Герта тяжко вздохнула:
— Я бы хотела жить на Земле, в Швеции, где-нибудь на берегу. У нас тихо так, мирно: серое море, чайки над морем, чистенькие домики, красная черепица. Ты не осуждай меня, но я боюсь космоса, Юна. Не по-людски тут. Черное небо днем, звезды при солнце. И смерть рядом. Мне каждую ночь снится: лежит Керим в разорванном скафандре… я зажимаю дыру, а воздух выходит, выходит, просачивается…
Мир широко раскрыл глаза: «Вот так история! Герта — самая исполнительная и работящая радистка, так давно покинувшая Землю, забравшаяся на край солнечной системы, оказывается, не любит космоса. Зачем же она не возвращается домой?»
Юноша ничего не сказал, не кашлянул, предупреждая о своем присутствии. Ему и в голову не пришло, что следует предупреждать.
В XXIII веке не принято было скрывать свои мысли, поэтому и слушать чужой разговор не считалось неделикатным.
— А ведь Керим не захочет жить на Земле, — заметила Юна. — Керим тишину не уважает.
— Должен же он считаться и со мной, — сказала Герта, даже с обидой. — Я столько ездила за ним, до самого Ариэля. А когда у нас появится маленький… Керим должен будет принять во внимание, не оставлять меня одну…
— Оставит… — отрезала Юна безжалостно.
Герта почему-то испугалась.
— Только ты не говори Кериму, а то он рассердится. Я обещала идти за ним всюду-всюду, хотя бы на край света. Но я за себя обещала, не за маленького. Тогда будет другой разговор.
— А ты очень любишь Керима?
— Очень. Мне ничего не надо, лишь бы он был рядом. Когда его нет, я думаю только о нем… и когда он рядом, тоже о нем.
— Нет, ты не любишь его, — объявила Юна неожиданно. — Так не любят. На самом деле ты не умеешь любить. Ты большая и сильная с виду, на полголовы выше меня, а сердце у тебя, как у испуганной девочки. Ты обнимаешь, словно уцепиться хочешь, чтобы он не ушел, стоял рядом, оберегал тебя, опекал, помогал. Как будто не муж он тебе, а сторож.
К удивлению Мира, Герта почти не протестовала.
— А как же иначе? — спросила она. — Конечно, чтобы оберегал и опекал. На то и муж.
— Нет, это не любовь, — проскандировала Юна. — Когда любишь, становишься щедрым, хочешь дарить, в не получать. Я бы любила так, чтобы ему было хорошо, чтобы он до неба рос, а не приземлялся… в Швецию. Когда я люблю, я сильнее. Кажется, на руках унесу любимого. И вот я все искала такого, чтобы стоило на руках нести, чтобы не ровня мне был, а я ему по колено, чтобы сердце не жалко было вырвать и под ноги ему бросить. И я нашла, нашла, нашла. — Юна уже не говорила, а декламировала, выпевала каждое слово. — Нашла здесь, на краю света, на Ариэле. Увидела человека, который играет в бильярд планетами, как древний бог лепит новые миры, дает имена новорожденным и определяет их облик на тысячу лет…
— Ты любишь Далина? — воскликнула Герта почти с ужасом. — Но он же сверхсрочник.
— Он герой! Кто спрашивает: сколько лет герою?
Увлекшись, Юна вышла из своей кабины, остановилась среди комнаты. И только тут заметила Мира. Ее подвижное лицо выразило испуг, негодование, презрение. Потом она расхохоталась, громко, подчеркнуто, нарочито…
«Ты все слышал? — говорил ее смех. — И на здоровье. Тебе это не поможет».
10
Когда корабль идет на дно,
не требуй ужин и вино.
А вели дом сгорел дотла, к чему
салфетка для стола?
К чему плести стихи свои.
Когда отказано в любви?
300 тысяч километров в секунду, и 300 тысяч, и 300, и 300… Шел ответ с Земли, пересекая орбиты Марса, Цецеры, Юноны и Паллады, Юпитера и его двенадцати спутников… Но Мир забыл о том, что с Земли идет ответ. Даже в XXIII веке трудно было утешаться общественным, когда отвергнута любовь.
Он сидел один в полутемной кладовке при шлюзе, где хранились скафандры. Кажется, он плакал на плече у пустого скафандра. Возможно, это был скафандр Юны. Потом сидел, уставившись в темноту пустыми глазами, беззвучно шептал:
— Когда корабль идет на дно…И сам себе удивлялся. Какая смешная инерция! Ведь вся поэма писалась для того, чтобы Юна удивилась, оценила его, полюбила бы поэта…
К чему плести стихи свои, Когда отказано в любви?Вошел Далин. Он ставил в угол скафандр, а тот медлительно валился на соседние. На Ариэле все падало медлительно.
— Кто здесь? — спросил Далин, зажигая свет. — Ты, Мир? Еще не было?
Он спрашивал о радиограмме с Земли. А Мир не понял и не ответил поэтому.
— Рано. Не может быть, — сказал сам себе Далин. Сел рядом, положил на ладони кудрявую бороду.
А Мир думал:
«Вот человек, отнявший мое счастье, отнявший счастье, которое ему не нужно. Сидит и думает о какой-то депеше, о мнении какого-то Жана Врио. Зачем ему любовь девушки? Все равно что слепому полотно Рембрандта».
— У вас есть семья? — спросил юноша.
Старый космонавт вздохнул:
— Не склеилась как-то, Мир. Подруги были, жены не нашлось. Женщины — трудный народ. Они и любят нас, космачей, и не любят. Любят за то, что мы — покорители неба, и то, и се, овеяны славой. А полюбив, хотят разлучить с небом, привязать к своей двери шелковой лентой. Ищут льва, чтобы превратить его в бульдога. Вечная история про царицу Омфалу, которая заставила Геркулеса прясть пряжу. Ей, видите, лестно было самого Геркулеса унизить. Но ведь он не Геркулес уже был за прялкой.
«Ну, конечно, — думал Мир. — Не нужно ему счастье, отнятое у меня. Полотно Рембрандта, досталось слепому».
Ему очень хотелось рассказать все Дал ни у, поделиться со старшим другом с полной откровенностью. Люди XXIII века были очень откровенны, своим предкам они показались бы нескромно болтливыми. А Мир удивился бы, если бы встретил человека, скрывающего свою болезнь или слабость. Ведь слабость легче преодолеть сообща, и о слабом звене все должны знать, иначе общая работа провалится. Мир удивился бы также, если бы встретил изобретателя, в одиночку а тишине вынашивающего идею, ожидающего, чтобы открытие родилось. Наоборот, в XXIII веке было принято высказывать незрелые идеи вслух, вовлекать как можно больше людей в обсуждение. Все знали, что открытия делаются только сообща.
Но тут любовь — чувство древнее, эгоистическое. Мир хочет, чтобы его любили, Юна — чтобы ее любили. А Далин?
— А если бы вас полюбили сейчас? — спросил Мир, краснея.
Далин грустно улыбнулся:
— Если бы? Тогда я был бы счастлив. Бросил бы черный космос, посидел бы дома на Земле. Я так мало знаю наш дом. Есть уголки, где я не был ни разу. Я не видел восход в Гималаях, не видел Гавайских вулканов, на Южном полюсе побывал только мимоходом… Если бы спутница рядом…
«Нет, не надо ему говорить, — подумал Мир и опять покраснел. — А хорошо ли скрывать? Честно ли?»
Дверь в кладовую распахнулась. Герта стояла на пороге.
— Я услышала голоса. Земля прислала ответ…
11
Кнопка нажата.
Перед окном
ждем, ждем, ждем результата.
Секундам нет меры.
Они как смолы тягучие.
Ожидаем.
«Так, — говорят часы. — Тик-так».
Так или не так?
Не знаем.
Дело случая.
Земля радировала: «Дорогой Далин! Лучшие специалисты и конструкторы космической резки находятся на Ариэле. Мы всецело доверяем им и вам. На Земле пользовались уменьшенной копией ваших режущих аппаратов. Аппарат безупречно работал, пока не дошел до границы ядра. Глубже отказал. Принимайте решение сами».
Вновь на селекторе появились двенадцать лиц: седой и сморщенный Лю, Дженкинсон с выпирающей челюстью, толстяк Газлеви, горделивый красавец Анандашвили… Шесть осторожных, те же самые, что утром, сказали: «Подождем. Отложим». Шесть нетерпеливых возражали: «Не надо ждать. Нажимайте кнопку!»
— А что мы можем предпринять? — спрашивал Дженкинсон. — Вернуть кибы и проверить? Это не в наших силах. Они не могут взлететь с Урана.
— Ждать, ждать, ждать! — горячился Анандашвили. — А может быть, на Земле неполадки пустячные: контакт не контачит, надо было прижать его плотнее. Сколько раз бывало так в радиотехнике! Ждать, ждать полгода, а тут высокая температура, давление, радиация. И на наших кибах тоже что-нибудь испортится за полгода.
И Лю добавил, щуря глаза:
— Понимает зубную боль только тот, у кого зубы болят. Есть опыты, которые нельзя проделывать на моделях. Чтобы узнать, разрежется ли Уран, надо резать его.
Шесть «за», шесть «против». Опять решение должен был принимать Далин. И, вздохнув, он сказал совсем тихо:
— Назначаю опыт на 15 часов 50 минут.
Двенадцать пар глаз одновременно повернулись вниз и налево: на левую руку, где и в XXIII веке носили часы.
Оставшиеся сорок минут были заполнены предотлетной суетой. Вспыхивали и гасли экраны. Группы докладывали о готовности к отлету. Уверенные в успехе добавляли слова прощания. Сомневающиеся неопределенно улыбались.
Мир в сотый раз проверил давным-давно составленную и закодированную радиограмму кибам: немедленно включить режущий луч и вслед за ним поворотный механизм. Механизм нужен был для того, чтобы луч описал полный круг. Каждая киба должна была разрезать планету пополам, все вчетвером — на двенадцать частей.
Лента с приказом была заправлена в передатчик. Керим включил радиометроном. Механический голос начал докладывать: «Осталось пять минут, осталось четыре минуты, осталось три минуты…» Далин положил на гладкую кнопку указательный палец, толстый палец с обкусанным ногтем. Осталась одна минута… пятьдесят секунд, сорок, тридцать, двадцать, десять, пять…
«Тик-так-тик-так!»
Нажал!
И обернулся к окну. Все радисты тоже. За четким переплетом на звездном небе висел огромный серо-зеленый шар. С одной стороны он всасывал звезды, с другой выплевывал…
Мир лихорадочно подсчитывал в уме: «На разрез требуется минута… Затем тяготение как бы исчезает, куски начинают расходиться… с какой скоростью? С такой же, с какой тела падают на Уран».
— Прошла одна минута, — провозгласил метроном.
«Скорость падения на Уран до двадцати одного километра в секунду, — думает Мир. — Приобретается она не сразу, постепенно, за полчаса примерно. Если взять ускорение силы тяжести, помножить на время в квадрате, разделить пополам…»
— Прошли две минуты.
«…и разделить пополам, получится, что ширина щели между кусками минут через пять дойдет до тысячи километров. Через пять минут мы увидим щель своими глазами. А телескопы? Телескопы должны различать ее уже сейчас».
— Прошли три минуты.
Обсерватория молчит. На лбу у Далина глубокая морщина. Лицо Юны выражает страдание, лицо Керима — напряжение. Его могучие мускулы вздуты, пальцы сжимаются. Ему так хочется быть там, на Уране, ухватиться руками за край щели, стиснув зубы, поднатужиться, рвануть, чтобы планета треснула, словно арбуз, обнажив под зеленой коркой огненно-красное нутро.
— Прошли четыре минуты.
Это Мир все замечает. Это он придумал сравнение с арбузом. Волнуется так, что дыхание перехватило, но все замечает и придумывает сравнения. Словно два человека сидят в нем и даже три: подавленный несчастный влюбленный, рядом с ним — участник великого дела, нетерпеливо желающий победы, и тут же — любопытный наблюдатель, мастер увязывать слова.
— Прошло пять минут.
Но щель должна быть уже видна. С палец толщиной.
Или атмосфера закрывает ее?
На десятой минуте щелкнул один из экранов на селекторе. Появилось расстроенное лицо Анандашвили — коменданта народившейся планеты Драма.
— Не сработало. Может, повторить сигнал?
И другое лицо появилось тут же — спокойное лицо голландца Стрюйса, первого скептика, коменданта Скульптуры.
— Какой будет приказ? Ждать на ракетодроме или возвращаться по домам?
Далин ничего не ответил, протянул руку и щелкнул выключателем. Экранчики селектора погасли все одновременно.
Тьма. Тишина. Громадный мутно-зеленый шар висит на небе, как вчера, как миллиарды лет назад.
Подавленный, потерпевший поражение, рискнувший и разбитый, сидит, сгорбившись, плечистый и бессильный старик.
В глазах у него пустота, на курчавой голове седая прядь.
Так бывает у сверхсрочников: перенапряжение, сильное потрясение, и все лечение парализуется. Организм сворачивает на старый естественный путь увядания.
12
Разве все утешает любовь?
Разве все заменяет любовь?
Разве все принимает любовь:
И позор и проступок любой?
Тьма, тишина. Зеленый диск на звездном небе. Всхлипывает Герта, обеими руками держась за мужа. Подавленный старик у окна.
И вдруг, разрывая тишину, Юна с криком бросается к нему, плывет над полом… тянется вытянутыми руками.
— Не надо! — кричит она. — Не отчаивайся. Еще будет хорошо, все будет хорошо.
Герта перестает всхлипывать, смотрит любопытными и осуждающими глазами. Какая нескромность! Герта не позволила бы себе такого. Керим кривится, как будто в рот ему попало горькое. Он презирает чувствительность.
А Юна все равно. Пусть слышит весь мир. Она гордится своей любовью, любовью спасает любимого, самым сильным средством, которое в ее распоряжении.
— Я люблю… если это может тебя утешить, — шепчет она.
Узловатые пальцы ложатся на ее пушистые волосы. На лице Далина грустная улыбка. Но глаза уже не тусклые, не безнадежные.
— И за прялкой ты будешь любить меня, Омфала?
Девушка не понимает. Она же не присутствовала при разговоре в кладовой. Впрочем, Далин спрашивает больше себя. Через сколько недель эта девушка, полюбившая руководителя большого дела, отвернется от бывшего руководителя?
— Всегда-всегда-всегда, — уверяет Юна. — Мы будем вместе всюду-всюду-всюду. Земля прекрасна: там есть море и чайки над морем. Мы посмотрим ее всю: пирамиды, полузасыпанные песком, перламутровый туман над Темзой, рубиновые звезды Кремля… И мы будем ловить рыбу на речках, смотреть, как пляшет поплавок на блестящей воде. Я буду рядом всюду-всюду-всюду…
Откуда она знает мечты Далина? Или у любви особое чутье?
Мир трясущимися руками надевает наушники. Только бы не слышать!
Почему так тихо говорят кибы? Бормочут что-то, не могут заглушить это воркованье. Мир включает репродуктор. Пусть орет! С ним же не считаются, и он не будет считаться. Все равно киб не слышно. Да что там творится на Уране?!
И вдруг спокойный и ясный голос Юны заполняет комнату. Не девушки Юны, а Юны-кибы, той, что на Уране.
— Ослепительно белые струи, синеватые искры, — рассказывает киба. — Что-то лопается и рвется, толкает и давит. Прошла маршрут до конца, достигла проектной глубины. Давление на пределе прочности. Поверхность электризуется. Металл-керамика течет. Что мне делать дальше? Для чего меня послали сюда?
И тут большая рука отодвигает смуглую головку Юны.
— Почему эта киба слышна лучше всех, Мир?
Мир отвечает с неохотой:
— Я хотел сохранить обертоны, записал голос на более высокой частоте, на порядок выше, чем другие.
— Значит, низкая частота глушится, Мир?
— Как слышите.
— Значит, низкая частота глушится, Мир? — повторяет Далин. — Но это понятно, пожалуй. Ионизированные газы, ионизированная оболочка, возбужденные атомы, свои токи, свое собственное поле. Что же у нас там работает на низких частотах? Приказы до киб доходят, луч включается постоянным током. Ах, вот что: поворотный механизм, на нем обычный мотор — пятьдесят герц. А ну-ка, Мир, составляй новый приказ: еще раз включить режущий луч, а вслед затем крутить поворотный механизм вручную, манипулятором.
13
Тебя не любят — не кричи,
Не жалуйся стихами.
Любовь за горло взял — молчи!
О солнце не сказать словами.
Все было, как в первый раз: в передатчик заложена кодированная лента, тикал метроном, пять взволнованных свидетелей лбами прижались к окну.
Приказ кибам отправился в 17 часов 46 минут.
Метроном тикал медленно и зловеще. Миру не хотелось дышать. Горло сдавило от волнения.
К концу третьей минуты Миру почудилось, что на огромном зеленом диске появилась голубоватая ниточка.
Он не поверил своим глазам. Закрыл веки, опять открыл. Есть или нет? Есть! И вот вторая, вот и третья — на экваторе.
— Лава, — сказал Далин хрипло.
Где-то в глубине, под тысячекилометровой толщей атмосферы, уже текли огненные реки. Но сквозь зеленую муть метана пробивались только слабенькие лучи.
— Чем хороша наука? — сказал Далин счастливым голосом. — Тут можно ошибаться сто раз, но сто первая удача зачеркивает все ошибки. Никогда не падайте духом, ребята. Делайте вторую, третью, четвертую, пятую попытки…
Как будто это не он в глухом отчаянии сидел тут два часа назад.
Они стояли и смотрели.
Это не было похоже на взрыв, не похоже даже на замедленную съемку. Глаз не замечал движения. Но пока осмотришь огромный шар — пятнадцать градусов в поперечнике, какие-то изменения произошли. Голубые нитки стали, как шнурки. Синие и оранжевые искры заиграли на шнурках — это загорелись метан и водород в атмосфере. Шнурки еще толще — превратились в пояски. На поясках тучи — черными крапинками. Пояски все шире — они желтеют, потом краснеют. И вот Уран разрезан на ломти, а каждый ломоть — пополам. Сквозь зеленую корку просвечивает нутро — красное, как и полагается арбузу.
Ломти раздвигаются, просветы между ними все шире. Кипят и горят газы. Ломти раздвинулись. Теперь они висят на черном небе независимо друг от друга. На углах — блестящие капли. Поле тяготения у каждого осколка теперь самостоятельное. Углы и грани стали высоченными хребтами и пиками. А пики эти состоят из пластичной горячей магмы, конечно, они сползают, рушатся. Но только засмотришься на эти капли, уже на Ариэле другая расцветка — как на сцене, когда зажгут другие прожекторы. Залюбовался Ариэлем, а на Уране — на бывшем Уране— ломти расставлены еще шире, острые углы округлились, огня стало больше, зеленого тумана меньше…
Позже Мир много раз пытался в стихах и в беседах описать эту цветовую симфонию, пляску торжества, удовлетворенной гордости, сознания своего могущества. И не мог. Вот почему в эпиграфе этой главы стоят слова:
Любовь за горло взял — молчи! О солнце не сказать словами.Лю оторвал их от молчаливого созерцания. Минут через сорок после разреза на одном из экранов появилось его улыбающееся лицо:
— Говорит комендант Поэзии, Лю. Планета оформилась. Разрешите стартовать?
А Земля еще ничего не знала о победе. Свет до Земли шел два часа с половиной. Только через два часа с половиной земные астрономы заметили изменения на Уране. И тогда было объявлено по радио, что опыт с Ураном прошел успешно.
14
Это было жестоко:
Бросить голос любимой
В огненные потоки.
Зеленые глубины.— Потеряла ориентировку. Потеряла глубину. Вижу звездное небо. Временами его застилает пламя. Вижу красно-огненные горы. Они лопаются, выворачиваются и ползут, как тесто. Открываются сияющие недра цвета белого каления. Взрывы, всюду взрывы. Фонтаны и гейзеры огня. Грохот, рев, гул и вой. Потеряла ориентировку. Куда вы меня послали? Что мне делать, что делать дальше?
Все остальные кибы замолчали сразу: видно, были раздавлены в первый же момент, а эта с голосом Юны сохранилась каким-то чудом.
Мир записывал сообщения кибы на два магнитофона. Каждое слово ее было неоценимо для науки. Ни один человек не уцелел бы там, в пекле, ни один не мог бы сообщить столько подробностей.
Взрывы и электрические разряды забивали передачу. Голос кибы захлебывался, переходил на свистящий шепот, потом взвивался до истерического крика. Звучали непривычно-неуравновешенные интонации, как в голосе Юны. когда она объяснялась с Далиным сегодня. И Мир все снова и снова вспоминал сегодняшнюю сцену, о которой так хотел не думать.
«Действительно, глупая шутка была с этим голосом, — шептал он. — Сам себе дергаю нервы».
— Зачем вы послали меня сюда? — взывала киба.
Прошло часа два после разделения Урана, и картина за окном заметно изменилась. Все еще многочисленные солнца виднелись на небе, красные солнца, цвета раскаленного угля. Но симметрия уже нарушилась. Поле тяготения было разрезано, исчезло в центре Урана. Притяжение далеких небесных тел раздвигало куски и одновременно раздувало, растягивало разрез, превращало его в непрозрачный пузырь. Лучи света обтекали его, как струи реки обтекают остров. Наблюдатели на Ариэле смотрели в небо как бы через плохое стекло. Созвездия искажались, звезды виднелись совсем не там, где они были, а куски Урана раздвигались быстрее, чем на самом деле.
Голос Юны вопрошал:
— Я не понимаю, где нахожусь. Двигаться вверх или двигаться вниз? Меня несет в огненном круговороте. Не забыли вы послать новый приказ? Взлетаю в воздух в столбе пламени. Озеро лавы. Падаю. Несет по поверхности. Впереди черные утесы…
Мир был занят сообщениями кибы, а Юна в соседней кабине — еще более тревожным делом. Не только киба, но и Ариэль — железо-каменный корабль, на котором они плыли по небу, — потерял ориентировку. Распался на куски хозяин, и спутники сбились с пути, словно дети, потерявшие родителей, заметались, выбирая новую орбиту — самостоятельную, пока неопределенную. Обсерватория Ариэля беспрерывно вела наблюдения, стараясь уточнить новую орбиту. Но лучи света искажались в разорванном небе, ошибки громоздились на ошибки…
— Куда вы меня послали? Впереди черные утесы. Несусь по расплавленному морю. Что я должна делать? Синие взрывы. Боком несет. Сейчас ударит…
Треск. Словно лопнула натянутая кожа…
И тишина.
Мир вытер пот. Ему хотелось встать и обнажить голову.
Но еще больше хотелось отдохнуть. Чувство у него было такое: на сегодня хватит! Хватит рыдающих киб и влюбленных девиц, неудачных и удачных опытов, разбитых сердец и разбитых планет. Хватит.
Далин, напротив, был бодр, деятелен, полон планов. Он выслушивал доклады радистов, вел переговоры с обсерваторией и дальними спутниками Урана — Титанией и Обероном. Он напутствовал улетающие группы, напоминая каждому капитану:
— Держитесь на почтительном расстоянии, не торопитесь высаживаться. Наблюдайте. Следите, как формируется планета. Составляйте карту, наносите установившиеся хребты. Потом пошлете кибу, чтобы изучала остывание. Думайте, как ускорить остывание. Может быть, полезно перепахивать планету, ломать застывшую корку, что ли? И составляйте проект, когда и как выводить на орбиту вашу планету. Счастливого пути. Руку жму.
Потом он говорил, обращаясь к радистам, возможно, к одной Юне:
— Ариэль тоже не скверно бы развернуть, пустить за планетами вдогонку. А то штаб оторвался от флота, превращается в регистратуру радиограмм. Пожалуй, мы не останемся здесь. Как только с Земли пришлют нам мощную ракету, сядем в нее и отправимся объезжать все планеты по порядку. Попутешествуем, посмотрим новорожденные миры.
А Мир удивлялся: «Откуда такая энергия у сверхсрочника? Любовь окрыляет человека или успех? Ведь сегодня же, три часа назад, он мечтал только о рыбной ловле. А теперь — на тебе: инспектировать двенадцать планет, годы и годы в невесомой ракете».
Юна с бланком радиограммы подошла к Далину:
— Послушайте. Оторвитесь, важное дело.
«Даже тон у нее новый, — подумал Мир, — тон подруги, хозяйки».
Далин прочел радиограмму, нахмурился, сказал негромко:
— Керим, объявите тревогу номер один. Через час двадцать минут Ариэль столкнется с планетой Драма.
15
Нам было некогда любить
И некогда ненавидеть.
Я не успел тебя забыть,
Ты не смогла обидеть!
Усталость как рукой сняло. Позже Мир вспомнил о ней и удивился: «А я ведь, кажется, спать хотел?»
Тревога номер один как раз и предусматривала столкновение Ариэля с осколками Урана. Вероятность столкновения была не так уж мала — около 4 процентов (один шанс из двадцати пяти). Поэтому на случай катастрофы заранее был составлен план действий, каждый знал свое назначение, несколько раз проводились учебные тревоги.
Но в последнюю минуту все оказалось не совсем так, как предполагалось по плану.
По плану на случай эвакуации на Ариэле были подготовлены три ракеты. Каждый знал свою ракету, свое место. Но какая-то киба на Уране сработала лишний раз, получилось не двенадцать осколков, а четырнадцать. Час тому назад Далин сформировал еще две группы наблюдателей. Теперь всех людей с Ариэля надо было вывозить на одной ракете.
Далин первым долгом связался с ракетодромом. Оказалось, что все ракеты уже разлетелись, кроме двух. К старту готовился толстяк Газлеви… За ним на очереди стоял Амандашвили — хозяин злополучной Драмы.
— Старт задержать! — распорядился Далин. — У меня двадцать шесть человек на Ариэле. Штабная ракета не заберет всех. Газлеви, возьмешь пятерых, и Анандашвили — пятерых.
— Но я уже на старте, — сказал перс, округляя глаза. — Я должен уступить площадку этому беспокойному грузину?
— Возьмешь трех человек из ракетодромной команды, — распорядился Далин. — И со склада двоих. Сейчас склады ни к чему. А беспокойный грузин пусть становится на запасную площадку.
И тут же сказал Юне:
— Юна, у нас двадцать шесть человек на Ариэле. Предупредите каждого, всех держите в памяти.
Мир с Керимом по тревоге должны были отвезти на ракетодром все научные данные. Архив был упакован заранее, его не трудно было погрузить. Но ведь самые интересные материалы были получены сегодня. Их-то и надо было собрать: фотоснимки, киноленты, магнитограммы. Все надо было аккуратно завернуть, запаковать, а руки тряслись от волнения, глаза не могли оторваться от окна, от растущей огненной глыбы на небе. Прошла одна минута. Сколько осталось еще? Не пора ли все бросать, бежать сломя голову на ракетодром?
Мир на минуту забежал в свою комнату. Глянул — что взять? Стихи? Тут они родились, на этом несчастном Ариэле, пусть и горят тут же, пусть пропадают. Кому они нужны?
К чему плести стихи свои. Когда отказано в любви?Керим между тем грузил ящики на кибу-тележку. Тележка оказалась мала, все ящики не умещались. Керим сунул значительную долю материалов в пустой скафандр, перекинул через плечо, как мешок. Потом посадил на тележку всхлипывающую Герту и умчался за ней скользящими скачками.
Миру пришлось вызвать еще одну тележку. Сколько же времени он ждал ее, как она медлила! Наконец тележка подкатила, Мир накидал на нее ящики. А что там мешкают Юна и Далин? Нельзя же за любовью забывать о жизни!
Юны в штаба на было. А Далин стоял парад селектором. Только один экран светился, и на нам виднелось тонкое лицо Анандашвили.
— Возьмешь еще пятерых! — кричал Далин. — Не двоих, не троих, а пятерых. Все равно столько народу не нужно будет на Обероне. Там есть свои ракетодромщики и свои радисты. Полезных людей добавляю тебе: двух техников по кибам и лучших радистов, Юну в том числе.
Что такое? Далин улетает на Оберон, а Юну отправляет с Анандашвили?
Мир остолбенел. И за спиной послышался крик. Юна стояла в дверях, держа в руках чемоданы: свой и Далина.
Далин повернулся к ней.
— Юна, дорогая, так лучше. Ведь я сверхсрочник. Ты после поймешь…
Девушка высоко подняла голову. Голос ее был как натянутая струна, вот-вот надорвется:
— А разве вы приняли мои слова всерьез? Я просто хотела расшевелить вас, взбодрить.
Лицо Далина выразило недоумение.
— Ну, если так… — сказал он нерешительно.
Потом глянул на часы, кинулся к девушка, взял у нее чемодан, поцеловал руку и исчез за порогом.
— Не задерживайтесь! — крикнул он. — Осталось двадцать восемь минут. Мир, позаботься о ней. Потом сюда приходи.
Мир пошел в кладовку, разыскал скафандр Юны, вернулся. Девушка все стояла посреди комнаты и смотрела на правую руку, на ту, которую поцеловал Далин.
— Не огорчайся так, Юна, — проговорил Мир несмело. — Все еще будет хорошо. И одевайся скорее.
Он ласково ваял ее за руку, нисколько не ревнуя, почти сочувствуя.
Девушка вырвала руку.
— Не подходи! — крикнула она в бешенстве. — Ты что обрадовался? Все равно не полюблю. Презираю тебя! Всегда буду презирать!
Это было так грубо, так некрасиво, так несправедливо, в сущности. Ведь Мир не улетал с ней, он отправлялся на Оберон. Но… оставалось двадцать пять минут. Некогда было обижаться, объясняться и уговаривать. Мир схватил Юну за шиворот, как котенка, и сунул ногами вперед в скафандр. На Ариэле такие вещи проделывались без труда. Потом он нахлобучил шлем. Юна еще что-то кричала изнутри.
16
Век двадцатый.
Стенка,
Небо предзакатное.
Бит и связан.
Руки за спиной.
Смотришь прямо в дуло автомата:
Это есть твой решительный бой!
Мир посадил Юну не тележку, нажал кнопку. Перебирая гусеницами, киба побежала по обочине. Дорога была загружена. По ней спешили, пыля гусеницами, колесами и лапами, кибы, роющие, долбящие, грызущие, — все, что было самодвижущегося на Ариэле. Это Мир дал им приказ — стягиваться к ракетодрому.
Сегодня машины были красные — все до единой, — и пыль на дорогах красная, и скалы буро-красные, ржавые или багровые. И все потому, что четверть неба занимало ало-багровое конусообразное тело — раскаленная болванка, из которой люди собирались выковать планету по имени Драма.
Но смотреть и запоминать было некогда. Оставались двадцать три минуты. Мир забежал в кладовку еще раз, вытащил скафандр Далина.
К его удивлению, Далин, задумавшись, сидел в кресле перед окном, глядел на красное зарево.
— Осталось двадцать две минуты! Одевайтесь скорее!
Далин медленно повернул лобастую голову.
— Возьми стул, Мир. Сядь рядом. Дело в том… дело в том, что спешить некуда. Наша ракета опрокинулась, упала с площадки. Четырнадцать ракет стартовали сегодня. Видимо, бетон раскрошился.
В общем ракета лежит на камнях, сломана нога, дюзы погнуты, трещина в двигателе. Ремонта на трое суток.
— Трое? Трое суток? Значит… не улетим?
Мир отер холодный пот.
— Тебе не повезло, — меланхолически продолжал Далин. — Ракета Анандашвили рассчитана на шесть человек, я всунул ему еще десять. Больше небезопасно. Одиннадцать надо было оставить. Я оставил ракетодромщиков — слишком большое наказание за оплошность. Оставил астрономов — за мрачное предсказание. Оставил команду ракеты — за ненадобностью… и вот кого-то надо было выбрать из радистов. Женщин я обязан был спасти, Керим нужен своей жене… а ты одинокий, Мир.
Он говорил так спокойно, рассудительно, а Мир не слышал ни единого слова. Метался по комнате, думал: «Что делать? Что делать?» Если ракета опрокинулась, ее, конечно, не поднимешь за двадцать минут. Тем более нога сломана. Лезть к Анандашвили? Как лезть? Отталкивать Юну, сбрасывать Керима, драться с ним за место?
— Сядь, Мир, — повторил Далин. — Умирать надо с достоинством.
А Мир не хотел умирать. С какой стати? Он еще и жить не начал.
Зажегся экранчик на селекторе. Показалось растерянное, как бы измятое лицо Анандашвили.
— Слушай, Далин, я только что узнал, что твоя ракета опрокинулась. Беги сюда, я подожду. Там, где влезли десять, влезет и одиннадцатый. Беги что есть силы. Я успею. Мы взлетим напрямую, обрежем нос этой Драме. Гарантирую.
— Нет, — сказал Далин.
— Дорогой, не валяй дурака, не донкихотствуй. Ты самый нужный, самый знающий. Беги скорее, я жду. Я сам останусь вместо тебя.
Далин решительно отмахнулся.
— Если найдется место, возьми кого хочешь! — крикнул он. — Кого попало, кто под рукой, и взлетай немедленно. Я приказываю, слышишь?
Лицо Анандашвили искривилось, стало жалким и напряженным. Кажется, он с трудом сдерживал слезы. Далин задернул экран шторкой.
Мир затаив дыхание слушал этот разговор. Он так ждал, что Далин скажет: «Подожди, капитан. Я старик, жил на свете достаточно, но тут рядом молодой, сейчас я пришлю его». Мир даже открыл было рот, чтобы крикнуть: «Меня пошлите, меня!» Но не крикнул. Что-то остановило его. Не к лицу человеку умолять… даже о любви, даже о жизни.
Не оборачиваясь, Далин сказал:
— Спасибо за молчание, Мир. Мне неприятно было бы отказать тебе, а пришлось бы. Анандашвили нельзя сидеть на старте лишних десять минут, рисковать шестнадцатью людьми ради одного.
Минуту спустя за холмами полыхнуло зарево… потом съежилось, огонек ушел к звездам. Последняя ракета покинула Ариэль. С ней улетели радисты, Юна тоже.
Почему-то у Мира стало спокойнее на душе. Видимо, жить в беспрерывном страхе чересчур утомительно. Нервы не выдерживают.
И Мир молча уселся рядом с Далиным, глядя на великолепное и мрачное торжество собственной гибели.
Драма приближалась. Миру казалось — она росла. Словно огненно-оранжевое знамя разворачивалось по всему небу. Уже не красными, а угольно-черными на фоне этого знамени казались силуэты ближайших утесов. («Черное и красное — траур», — подумал Мир.)
Новорожденная планета еще сохраняла свои угловатые очертания. Тяготение не успело превратить ее в шар. Но воздух ужа стек с углов. Углы были ярче всего — желтого цвета. Желтое время от времени меркло, подернувшись прозрачной красной пленкой, но тут же остывшие пласты рушились, обнажая сияющие недра. И на углах и на ребрах шло беспрерывное движение, словно кто-то месил и перелопачивал огненное тесто. В середине граней, где скопился воздух, шевелились цветные — синие и оранжевые — языки пламени. Может быть, там горели метан и водород, а может быть, и не было никакого горения — газы нагрелись и светились, как на Солнце.
Мир разглядывал все это с удивительным спокойствием. Даже находил сравнения. Даже какие-то стихи составлялись у него а голове:
У смерти были красные глаза. И сотни языков, и каждый — пламя…Рифмы он не стал подбирать. Поймал себя на нелепом стихотворчестве и усмехнулся. Рифмовать за десять минут до конца? Смешная вещь — привычке.
Надеялся ли он? Пожалуй, надеялся. Человеку трудно отказаться от надежды, даже если он приговорен безапелляционно… А вдруг пронесет? Авось вывезет! Астрономы на Ариэле опытные, математика — наука точная, машина считает безошибочно… но вдруг… Ведь расчет велся по формулам Ньютона, поправкам Эйнштейна, а соответствии со всемирным законом тяготения. Но как раз поле тяготения и разорвано сегодня.
— Как вы думаете, не вынесет нас? — спросил Мир.
— Не знаю, дружок, едва ли. Могу обещать только, что смерть будет легкая. Взаимная скорость — 25 километров в секунду. Удар, взрыв, и все обратится в пар. Мы тоже в пар.
— Я обращусь а пар? — Мир не верил.
С напряженным вниманием он смотрел а окно. Наверное, так смотрит капитан потерявшего руль судна. Вот его несет на скалы. Сейчас ударит… А может быть, там пролив, безопасная бухточка, лагуна за рифами? Бывает же такое?
Огненное знамя превратилось в занавес, встало пологом от гор до гор. Из-за полога высовывались языки, и каждый больше предыдущего. И вот уже полога нет вообще, только языки на горизонте — громадные, разнообразные, изменчивые, как всякое пламя. Пляшут над черными горами огненные змеи, колышутся огненные пальмы, взвиваются огненные фонтаны… и вдруг один из них, самый высокий, перехлестнув через ближайшую гору, накрывает здание радиостанции.
Извечно безмолвный Ариэль наполняется гулом и воем пламени. Шумит, свистит, ревет и грохочет огненный вихрь.
И Мир думает: «Это все!»
Ариэль уже в огне — в чужой атмосфере. Как только он дойдет до плотного дна — взрыв. Конец!
От всей жизни осталась минута или полминуты.
И сделать ничего не сделаешь. Даже Далин ничего не придумал. Вот он сидит, уставившись в окно, лицо красное, как в крови. Бессилен, словно руки связаны. В героическом двадцатом бывало тек: наши побеждают, а тебе не повезло; тебя схватили враги. И конец: свяжут, скрутят, приставят к стенке, прицелятся. Вот она, смерть, — в черном зрачке карабина. Смотришь на нее… и поешь.
И Мир запел. Запел старый, трехсотлетней давности, гимн героического двадцатого века. Пел стоя, держа руки по швам, старательно выговаривал забытые, потерявшие смысл слова о рабах, проклятьем заклейменных.
Потом он заметил, что Далин тоже стоит и тоже поет, перекрикивая вой пламени. А пламя все жарче и светлее. Взметаются вспышки, снаружи грохочет и стреляет — взрываются двигатели застрявших на дороге киб.
«Это есть наш последний и решительный бо-о-ой!»
Юноша пел, и пел старик. Так встречали смерть люди. Человек может погибнуть, он смертен, но сдаваться ему не к лицу, потому что он человек из племени победителей. Он гибнет, а племя побеждает.
Они спели первую строфу и припев, а пламя все ревело за окном. Потом оно стало тускнеть, темнеть, сквозь него начал просвечиваться силуэт железных гор… потом показалось черное небо с багровыми тучами…
— Поздравляю тебя, Мир, — сказал Далин. — Жить будешь.
Мир продолжал петь, торжествуя. Голос его гремел в ватной тишине Ариэля. За помутневшим окном виднелась закопченная дорога, на ней оплавленные кибы.
— Отставить хоровой кружок, — улыбнулся Делии. — Садись к передатчику, Мир, ты теперь один за четверых. Обсерваторию вызывай, потом штаб, потом ракетодром… надо узнать, кто жив.
Мир сел на место Юны, застучал ключом. Далин, стоя сзади, обнял его за плачи.
— Дела, Мир! У живых много дел. После Ариэля вызовешь ракеты. Четырнадцать групп, есть с кем поговорить Ну и мы не засидимся. Получим с Земли ракету, будем облетать всех по очереди. Любишь путешествовать, Мир? Или отправить тебя на Драму, к Анандашвили?
Мир понял, о чем идет речь.
— Но Юна любит вас, — сказал он.
Далин похлопал его по плечу.
— У Юны много лет молодости. У нее есть время разобраться, она разберется еще.
В радиоприемнике послышался частый писк. Отвечала обсерватория, отвечали убежища штаба и ракетодрома. Все живы. Уцелели. Отсиделись в герметических помещениях.
— Поздравляю с жизнью, — просил передать Далин. — На всякий случай сидите в убежищах до завтра. Завтра свяжемся.
Завтра!
Первый день творения заканчивается.
Завтра будет уже второй день в истории четырнадцати человеком созданных планет.
М. Немченко НМ
г. Свердловск
Фантастический рассказ
Техника — молодежи № 9, 1960
Рис. Н. Кольчицкого
— То что, вы сейчас увидите, господин президент, является государственной тайной номер один, — сказал министр федерального спокойствия, когда после двухчасового полета над скалистыми гребнями гор геликоптер начал снижаться. — Между нами говоря, такие вещи не показывают иностранцам. Но для вас, лидера дружествен, ной страны, мы решили сделать исключение…
Генерал Хуан Педро Тинилья, диктатор небольшой тропической республики, известной своими бананами, яркой расцветкой почтовых марок и частыми государственными переворотами, с чувством пожал пухлую руку министра. Повернувшись к нему всей своей массивной фигурой и изобразив на лице самую сердечную улыбку, на какую только был способен, генерал заявил, что глубоко тронут оказанным ему доверием и, разумеется, никогда не забудет этих счастливых дней, проведенных им в гостях у правительства державы, преданным другом и союзником которой он, Тинилья, всегда был, есть и будет.
Геликоптер сел на широком, удивительно ровном каменном уступе, нависшем над глубокой пропастью. «Пожалуй, на эту чертову кручу иначе, чем по воздуху, и не заберешься», — вылезая из кабины, подумал генерал, с опаской посматривая на торчавшие далеко внизу острые зубья скал. Кругом, куда ни глянь, громоздились горы. Непроницаемой тишиной веяло от выжженных солнцем голых утесов, от далеких снежных вершин, смутно вырисовывавшихся на западе.
— Нам пора, ваше превосходительство, — профессор Пфукер, флегматичного вида блондин с кулачищами боксера, тронул высокого гостя за локоть.
Обернувшись, Тинилья широко раскрыл глаза от удивления. Прямо перед ним в скале чернело отверстие пещеры. Тинилья готов был поручиться, что минуту назад на этом месте была гладкая, без единой трещинки гранитная стена. Но, вспомнив слова министра о государственной тайне, он решил, что не следует удивляться этим неожиданным превращениям.
Часовые у входа, отдав честь, почтительно расступились. Миновав обширное сводчатое подземелье, освещенное мягким матовым светом, министр и его спутники вошли в широкий, совершенно пустынный коридор. Несколько минут они шагали по нему в полном молчании. Неожиданно коридор круто повернул налево и закончился тупиком. Перед ними была монолитная стальная плита без какого-либо намека на дверь.
— Не подходите близко! — раздался рядом предостерегающий голос министра. — Эта штука кусается.
Тинилья отметил про себя, что глава федерального спокойствия держится весьма странно. Он стоял и внимательно рассматривал указательный палец своей правой руки, видимо убедившись, что палец в полной сохранности, министр тщательно вытер его платком и сунул в маленькое, похожее на замочную скважину, отверстие, которое Тинилья сначала даже не заметил. В следующую секунду гигантская стальная заслонка бесшумно скользнула куда-то вверх, открыв широкий проход.
— Внушительно, — промолвил генерал, когда, пропустив их, броневая махина снова опустилась на свое место.
Подземный коридор был по-прежнему пустынным. За новой стальной стеной, которую министр федерального спокойствия отомкнул тем же способом, оказалась маленькая кабина. «Лифт», — догадался Тинилья.
Они спускались минуты две. Лифт остановился, и через распахнувшуюся дверь генерал и его спутники вошли в большую светлую комнату. Двое высоких парней в белых халатах, игравших на диване в карты, моментально вскочили и вытянулись перед министром по стойке «смирно». Глава федерального спокойствия сказал им что-то вполголоса, и оба сразу засуетились, доставая из белоснежного шкафа какие-то блестящие инструменты.
— Сейчас нам наденут специальные поглотители, — объяснил профессор. — Тут, знаете ли, носятся всякие летучие токи, пагубно действующие на незащищенные головы.
Генерала усадили в высокое кресло, напоминающее по виду зубоврачебное, и один из парней, встав за его спиной, принялся что-то прилаживать у него на голове. Он возился довольно долго. Наконец все было готово. Подойдя к зеркалу, генерал увидел, что его голова облачена в толстый белый шлем, опутанный наподобие чалмы какими-то тонкими проводами. Точно такие же сооружения красовались на министре и профессоре.
Все трое надели белые халаты. Оглядев своих спутников, глава федерального спокойствия открыл массивную пластмассовую дверь. Генерал переступил порог — и застыл от неожиданности.
Они стояли в огромном зале, конца которого не было видно. Продолговатые плафоны дневного света на высоком потолке сливались вдали в непрерывную световую дорожку, словно гигантский залитый светом тоннель уходил куда-то в бесконечность.
Но самым поразительным были стены зала. Они состояли из бесчисленного множества разноцветных светящихся кружочков. Подойдя поближе, генерал увидел, что это маленькие лампочки, смонтированные на широких белых щитах, покрывающих всю поверхность стен от потолка почти до самого пола. На щитах виднелись и какие-то приборы — циферблаты, графики, крутящиеся диски с вспыхивающими рядами цифр, но все они как-то терялись среди мириадов мерцающих огоньков.
Зал был почти безлюден. Лишь несколько человеческих фигур в белых халатах виднелось в отдалении. Неожиданно откуда-то сбоку появился плечистый мужчина с короткими черными усиками, щеголяющий военной выправкой.
— Позвольте, господин президент, представить вам полковника Ундерса, возглавляющего этот подземный бастион нашей демократии, — сказал министр.
— Удивительное совпадение! — воскликнул Тинилья, обмениваясь рукопожатием с полковником. — Вы знаете, что посол вашей страны в моей республике тоже Ундерс? Замечательный человек, должен вам сказать! Вы с ним, случайно, не родственники?
— Вероятно, просто однофамильцы, — улыбнулся полковник.
Голос у него был резкий и немного надтреснутый. «Точь-в-точь как у нашего Ундерса», — с растущим удивлением констатировал генерал. Именно таким голосом посол обычно делал ему внушения, когда бывал недоволен экспортными ценами на бананы или каким-нибудь случайно принятым без его ведома законом.
Генерал и его спутники медленно двинулись по залу.
— Вы, очевидно, уже обратили внимание на эти светящиеся кружочки, — заговорил Ундерс. — Всего их здесь несколько десятков миллионов, а точнее — на сегодняшнее утро 83 миллиона 643 тысячи 257 штук… Впрочем, давайте лучше начнем с некоторых общих данных. Я думаю, господину президенту интересно будет узнать, что длина этого зала вместе со столовой, бильярдной, комнатой для молитв и спальнями личного состава…
— Не то, Ундерс, — перебил его министр. — Вы начинаете с середины. Давайте-ка я сам сделаю предисловие.
Все уселись в мягкие кресла возле одного из сверкающих разноцветными огоньками щитов и закурили предложенные полковником сигары.
— Я надеюсь, высокий гость извинит меня за небольшой исторический экскурс, — начал министр, пустив к потолку облачко синеватого дыма. — Мне просто хотелось бы напомнить, что с тех лор, как некая предприимчивая порода обезьян ухитрилась превратиться в людей, у нас всегда было работы по горло. Да, господин президент, полиция поистине один из древнейших человеческих институтов. Между прочим, мне на днях показывали перевод найденного под какой-то знаменитой пирамидой папируса, где рассказывается, как наши древнеегипетские коллеги искореняли подрывные настроения у подданных фараона.
Министр вкусно затянулся и, сбив пепел с кончика сигары, продолжал:
— Самое любопытное, что их методы работы, оказывается, мало чем отличались от тех, которые до самого последнего времени применяли мы, полицейские двадцатого века. Да. да, как это ни парадоксально звучит, но факт остается фактом: техника полицейского дела за минувшие три тысячелетия не претерпела существенных изменений. Еще каких-то пятнадцать лет назад людям приходилось довольствоваться такими примитивными дедовскими приемами, как вербовка осведомителей, подслушивание телефонных разговоров да случайное фотографирование подозрительных сборищ. Правда, у нас тогда уже появились некоторые новинки, вроде, скажем, установки замаскированных магнитофонов в жилищах неблагонадежных лиц, но, согласитесь, господин президент, что в век атома все это выглядело жалкой кустарщиной.
Генерал, на родине которого полиция пользовалась гораздо более древними методами, тем не менее солидно кивнул головой, соглашаясь, что магнитофоны — это, конечно, кустарщина.
— Наконец несколько лет назад положение стало в полном смысле слова критическим. 8 силу ряда причин иам пришлось так основательно увеличить численность полиции, что она стала больше армии и флота, вместе взятых, а расходы на ее содержание начали поглощать около двух третей всего федерального бюджета. Скажу вам по секрету: мы стояли на грани государственного банкротства… Но, к счастью, электроника, кибернетика и электроэнцефалография достигли к этому времени таких успехов, что оказалось возможным начать работы в направлении полной автоматизации полицейской службы.
Глава федерального спокойствия сделал паузу и заключил:
— Ну, а все остальное расскажет Ундерс.
Полковник в этот момент отдавал какие-то приказания группе людей в белых халатах. Быстро отпустив их, он вернулся к гостям и продолжил рассказ шефа:
— Итак, господин президент, все началось с того, что было создано удивительно миниатюрное полупроводниковое устройство, получившее название «Наставник мысли», или сокращенно «НМ». Минуя скучные технические подробности, могу вам сказать, что этот крошечный прибор, будучи помещен на затылке, с поразительной точностью улавливает все нелояльные мысли, возникающие в голове данного субъекта, все основано на мгновенной расшифровке биоэлектрических импульсов мозга. Сигналы наших малюток принимаются специальной электронной аппаратурой, которой набито это подземелье. И, таким образом, здесь, на щитах, перед нами как на ладони все крамольные мысли, появляющиеся в головах граждан государства.
— Всех граждан?! — не удержавшись, воскликнул потрясенный генерал, который был так захвачен этим рассказом, что даже раскрыл рот, утратив свою обычную солидную невозмутимость. — Неужели всех?!.
— О, разумеется, меня не следует понимать буквально, — полковник широко улыбнулся, показав полный комплект крепких, ослепительно белых зубов. — Прежде чем приступить к подключению, мы выявили некоторое количество абсолютно благонамеренных людей, в основном таковыми оказались лица с состоянием от десяти миллионов и выше. Вместе с обитателями сумасшедших домов и врожденными кретинами это составило в общей сложности около шестисот тысяч человек. Все остальные жители начиная с четырнадцатилетнего возраста подключены к нашей аппаратуре.
Подойдя к стене, Ундерс обвел широким жестом переливающиеся мириадами светящихся точек щиты.
— Как видите, огоньки часто меняют цвета. Вот, например, некоторая — к сожалению, пока небольшая — часть кружочков светится зеленым светом. Это означает, что у лиц, которых олицетворяют эти лампочки, в данный момент отсутствуют какие-либо нелояльные мысли или, что то же самое, вообще нет никаких мыслей. Желтизна означает наличие неблагонамеренных мыслей, не носящих опасного характера. Как видите, это пока преобладающий цвет на наших стенах. В частности, вот на этих щитах перед вами. Здесь у нас мелкие предприниматели и служащие. Давайте познакомимся с кем-нибудь из этих людей.
Он наугад ткнул рукой в скопление желтых огоньков, передвинув первый попавшийся рычажок.
— Поль Флавини, — отрекомендовался металлический голос. — Владелец мастерской по ремонту электрических засовов. Порт-Мери. Западное побережье. Легкое брюзжание по поводу увеличения косвенных налогов.
— Обычная история, — презрительно скривил губы полковник. — Вся эта публика только и делает, что брюзжит… Но больше всего беспокойства нам причиняют вот эти. — Он показал на россыпи красных огоньков на левой стене. — Цвет опасной неблагонадежности. Рабочие, разумеется… А правее — видите, желтизна с алыми вкраплениями — это фермеры. За ними идут лица свободных профессий, а еще дальше — домохозяйки и школьники. Армия и флот — это уже в самом конце зала, отсюда не видно.
Генерал не мог прийти е себя от изумления и восхищения. Глаза его горели.
— Потрясающе! — выдохнул он. — Но каким же образом удалось их всех, как вы выражаетесь… подключить?
— Предоставим слово автору этой операции, — проговорил министр, знаком предлагая полковнику пока помолчать.
Профессор Пфукер самодовольно ухмыльнулся.
— Вы, наверно, слышали, ваше превосходительство, о компании «Автоматическая стрижка»? Ну да, та самая, которую прозвали «Грозой парикмахеров». В первый же год существования она смела со своего пути всех конкурентов, полностью монополизировав все парикмахерское дело в стране. Ни одна живая душа не способна стричь, брить и завивать так быстро и дешево, как это делают автоматы компании. Но вот, господин президент, могу вам по секрету сообщить, что, обрабатывая головы, эти милые машинки попутно производят еще одну операцию. В общем данная компания имеет некоторое отношение к нашему ведомству… Все делается под идеальным местным наркозом. Клиент преспокойно жует резинку или листает иллюстрированный журнал, а тем временем у него на затылке взрезается кожа и под скальп помещается наш аппаратик. Это крошечный цилиндрик размером с лимонную косточку. Затем с помощью особого состава все мгновенно заживляется, так что, поднявшись со стула, подключенный не может ничего заметить, кроме малюсенького бугорка на затылке. Его можно принять за самый обыкновенный прыщик. А через несколько часов после операции цилиндрик сам собой безболезненно внедряется в затылочную кость — и прыщик исчезает…
— Поразительно! Гениально!! — Генерал бурно выражал свой восторг. — Значит, вы теперь в любой момент безошибочно знаете, кого надо хватать!
— Мы давно уже никого не хватаем, — усмехнулся глава федерального спокойствия. — Сейчас полковник вам все объяснит. Только побыстрее, Ундерс. А то мы можем опоздать на обед, который дает сегодня в честь высокого гостя наш уважаемый премьер.
— В тех случаях, когда недовольство абонента носит характер легкого брюзжания, — заторопился полковник, — в его мозг автоматически посылается предупредительный импульс, который воспринимается нервной системой как удар здоровенного кулака по затылку. Иногда это повторяется несколько раз подряд. До тех пор, пока не загорится зеленый свет.
Полковник набрал воздуха и продолжал в том же темпе:
— Если же лампочка становится красной, объект подвергается электронаказанию, примерно эквивалентному по эффекту нокауту в боксе. Получив указанный удар, абонент обычно падает и лежит без сознания от десяти до пятнадцати секунд. Довольно основательно, не правда ли?
Высокий гость сердечно попрощался с полковником.
— Признаюсь, я просто потрясен всем увиденным, — растроганно заявил он. — Ваше волшебное подземелье — поистине бастион государственного спокойствия…
В «раздевалке», как мысленно окрестил Тинилья комнату у лифта, дежурные, которых они застали за прежним занятием, в одну минуту сняли с министра и его спутников диковинные шлемы. Вскоре все трое уже шагали по верхнему коридору. Генерал молчал, предаваясь мечтам, будущее рисовалось ему отныне в самом радужном свете.
— Знаете, — признался он министру, — я невольно думаю сейчас о том, как было бы великолепно, если бы мое правительство имело у себя нечто подобное. Тогда бы я мог, наконец, вздохнуть спокойно…
— Полагаю, что вам стоит затронуть этот вопрос во время предстоящих переговоров с премьером, — проговорил министр, уже влезая в кабину геликоптера. — Я лично думаю, что мы могли бы построить вам такую установку в порядке помощи слаборазвитым странам.
«Если только опять не надуете меня, как в тот раз с гнилой пшеницей», — подумал Тинилья, грузно усаживаясь рядом с министром. В то же мгновение искры посыпались из глаз президента: кто-то изо всей силы треснул его кулаком по затылку. Побагровев от ярости, генерал вскочил на ноги и грозно обернулся. Но сзади была только стенка. Оба его спутника сосредоточенно смотрели в окно. Геликоптер быстро набирал высоту.
Страшное подозрение мелькнуло в голове Тинильи. Сорвав с себя украшенную золотым шитьем генеральскую фуражку, он лихорадочно стал ощупывать голый затылок. Так и есть! На самой макушке отчетливо прощупывался крошечный твердый бугорок величиной с лимонную косточку.
Генерал издал пронзительный вопль и в ужасе схватился за голову. Министр и профессор повскакали со своих мест, спрашивая, что с ним случилось. Но Тинилья не мог выговорить ни слова. Он только с ужасом показывал пальцем на затылок, продолжая дико выть.
Ощупав указанное место, глава федерального спокойствия энергично выругался.
— Клянусь честью, это работа тех негодяев в раздевалке, — констатировал он. — Даю вам слово, господин президент: они жестоко поплатятся за свою дерзость, даже если это сделано не преднамеренно, а просто по халатности. Как только мы прибудем в столицу, я немедленно свяжусь с полковником Ундерсом и прикажу ему лично наказать виновных…
Генерал слушал его, продолжая держаться за голову. Когда министр кончил, он некоторое время молчал, ожидая, что тот еще что-то скажет. Но глава федерального спокойствия безмолвствовал, всем видом выражая искреннее сочувствие высокому гостю.
— А как же… я? — наконец нарушил молчание генерал.
Министр вздохнул.
— К сожалению, извлечь аппаратик нельзя. Это грозит серьезными мозговыми осложнениями… Но стоит ли слишком расстраиваться из-за такого пустяка? Ведь совершенно очевидно, господин президент, что «НМ» вас никогда ничем не потревожит. Уж кто-кто, а генерал Тинилья, наш преданный друг и союзник, разумеется, навсегда гарантирован от каких-либо нелояльных мыслей! А присутствие аппаратика в голове, говорят, даже поднимает общий тонус…
Только сейчас генерал осознал всю бесповоротность случившегося. Слезы выступили у него на глазах. Значит, ему теперь никогда нельзя будет даже мысленно ослушаться этих проклятых…
Новый удар по затылку прервал его мысли. В следующую секунду министр схватил Тинилью за плечо и изо всех сил начал трясти. Затем лицо министра вдруг исказилось и превратилось в усатую морду полковника Ундерса. «Вставай!» — потребовал полковник неожиданно тонким голосом.
Генерал попытался его оттолкнуть… и открыл глаза.
— Да вставай же наконец! — нетерпеливо повторяла жена, тряся его за плечо. — Ундерс велел тебя немедленно поднять. Говорят, что ты ему срочно нужен. Он уже больше минуты ждет у телефона…
— Полковник Ундерс?! — Генерал как ужаленный вскочил с постели. — Значит, это не сон?!!
— Что с тобой? — изумилась жена. — Какой еще там полковник? Говорю тебе, звонит Ундерс, посол…
При этих словах генерал, наконец, пришел в себя.
— Ах, да… — облегченно вздохнул он, торопливо ища ногами ночные туфли. — Но какое удивительное совпадение!..
— Боже мой, Хуан! — вдруг всплеснула руками жена, заметив на затылке супруга свежий синяк. — Ты что, стукнулся головой о спинку кровати?
— Мне приснилось, что они меня подключили… — пробормотал генерал, смахивая со лба капли холодного пота.
И, забыв накинуть пижаму, он опрометью помчался к телефону.
Ник. Шпанов ДА ИЛИ НЕТ?
Отрывки из романа
Техника — молодежи № 10, 1960
Рис. Р. Авотина
Мы предлагаем читателям отрывок из нового фантастического романа Ник. Шпанова «Ураган». Действие происходит в СССР в недалеком будущем. Группа советских людей работает над созданием новых летательных аппаратов, развивающих скорость выше звуковой. Одним из главных героев романа является советский летчик-гиперзвуковик Андрей Черных. Публикуемый отрывок — страничка из его жизни.
Анна Андреевна глядела в стол, чтобы не встретиться взглядом с прозрачно-голубыми глазами мужа. Небось он лучше нее понимает, чем угрожает сыну работа. Все, решительно все, с чем имел дело Андрюша, была смерть. И во имя чего?
— Во имя чего?! — она подняла голову и прислушалась, словно это сказала не она. Посмотрела на Алексея Александровича и повторила: — Во имя чего?! Ах, боже мой, не делай вид, точно не понимаешь. Как будто ты не отец, словно у тебя… — сбилась, не решившись досказать, что у мужа нет сердца.
— Не знал, что у тебя бывают такие мысли, — грустно покачивая головой, сказал Алексей Александрович. — Ты что же, хочешь, чтобы наши дети возлежали в этаком блаженном ничегонеделании среди дубрав и ловили бабочек? Хватит, мол, трудностей, пришедшихся на долю отцов? Этими нашими трудностями мы заслужили покой, счастье и что-то там еще для них, для наших детей и для детей наших детей? Так? Что ж ты молчишь?
Анна Андреевна потупилась. Казалось, ей не под силу говорить и даже слушать его. Потом продолжала чуть слышно:
— Ты и такие, как ты, бросаете их в черноту мирового пространства. Подумать только, чернота, одна чернота! И холод. Зачем? Неужели нам мало того, что есть здесь? Швырять своих детей бог знает куда…
— Они сами себя туда швыряют.
— На гибель?
— Почему гибель, а не победа?
— Над кем, над чем, для чего?
— А что, пусть бы оставались у ваших юбок? Нет. Пускай летят хоть на Марс. Это их право. Право их поколения. Мы делали революцию здесь. Их это уже не удовлетворяет. Дети, которые хотят только того же, чего хотели мы, — нестоящее повторение нас самих… Помнишь, как он сказал: «Быть вашим переизданием? Нет!»
— Ну да, ему непременно нужно не то, что у других, а что-то необыкновенное… Ведь дети родятся для счастья, Алеша. Они должны жить легче нас.
— Вот этого-то мы и добиваемся.
«МАК» стоял на наземной стартовой площадке, молчаливый, железно-равнодушный к возившимся вокруг него людям. Таким же равнодушным он оставался и тогда, когда к нему подошел Андрей. Машина была машиной, готовой подчиниться воле Андрея, но с такой же силой готовой оказать ему сопротивление: пусть только он забудет, упустит что-либо в ее повадках. Готовая вознести его за пределы атмосферы, машина с жестоким равнодушием ударит его о Землю со всей силой, какую ей сообщит двигатель в восемьдесят тысяч лошадиных сил. Душою бездушной системы, склепанных, сваренных и склеенных деталей был он, Андрей, но «МАК», не задумываясь, уничтожит эту душу при малейшей ошибке в управлении им, при любом ослаблении надетой на него человеком узды.
Длинноносый, со скошенным лбом, «МАК» не отличается красотой. Крылья едва намечены, словно недоразвитые отростки; трудно себе представить, что на этих тонких, как бритва, жабрах на краю стратосферы может держаться самолет. Глаз летчика, воспитывавшийся на стройности плавных форм, с неудовольствием задерживается на всем угловатом, что торчит из корпуса «МАКа». Хвостовое оперение кажется ступнями, повернутыми пальцами назад. Обрубленные кромки почти противоестественны: угловатый подфюзеляжный киль окончательно лишает машину привычной стройности. А куцые стальные лыжи, еще не подобранные внутрь фюзеляжа и торчащие, как хвост доисторического ящера, возвращают мысль куда-то в глубину веков. Необходимые далеким предкам «МАКа», чтобы, не капотируя, ползать по земле, и потом отмершие из-за полной ненужности, эти лыжи вдруг снова появились, как разросшийся атавистический аппендикс.
Но дело не только во внешнем облике машины. То, что творится внутри конструкции, в ее технологическом нутре, также непривычно для летчика дозвуковых и даже звуковых скоростей. На смену «звуковому барьеру» пришел барьер «аэродинамического нагрева». Его преодоление дается с таким же трудом, как в свое время преодоление числа М[27], равного единице.
Предыдущему поколению авиационных технологов и не снилось, что в строительстве самолетов могут понадобиться материалы, сохраняющие прочность, вязкость, упругость в температурах, близких чуть ли не к рабочим условиям газовой турбины. От поверхности самолетной обшивки нагрев передается всей конструкции. Андрей уже на опыте знал, что такое кабина самолета, обшивка которого нагрета до семи-восьми сотен градусов. Холодильная установка, двойная обшивка, продувание полостной конструкции, летной одежды и шлема-скафандра не делают существование летчика сносным.
В отношении Андрея к ракетоплану никогда не исчезало уважение. Чаще всего это бывало уважение к норовистому коню, опасному, но благородному. Но иногда сюда примешивалось отчетливое ощущение взаимной неприязни. Неприязнь Андрея рождалась из хмурой затаенности «МАКа». Это случалось в те дни, когда Андрей чувствовал себя не в своей тарелке: был раздражен какими-либо служебными неприятностями, устал или попросту не выспался. Впрочем, это бывало редко. Чаще Андрей чувствовал к «МАКу» симпатию. Когда небо отражалось в толстых стеклах фонаря, они становились голубыми. И тогда казалось, что это обычно такое мрачное, с головы до пят выкрашенное в черно-черную краску чудовище смеется. Одними голубыми глазами, а все-таки смеется. Ракетоплан становился веселее. Ну, а веселое чудовище — это уже хорошо. С ним можно сговориться.
Уже перенеся было ногу в кабину, Андрей остановился и посмотрел поверх голов стоящих внизу людей. Какое невозможное противоречие между высотным одеянием Андрея и земными одеждами земных людей! Тело Андрея, туго обтянутое серебристой тканью, опутано трубками и проводами и увенчано огромной белой головой шлема. Но при этом сквозь толстое стекло лицо Андрея казалось несоответственно простым: лицо обыкновенного, земного человека.
На пусковой установке трижды вспыхнула яркая зеленая лампа. Эти короткие вспышки заменяли доклад: «Предполетный осмотр ракетоплана закончен». Это было последним земным, что дошло до Андрея. Он перенес в кабину вторую ногу. Техник застегнул все пряжки и карабины, подключил шланги и провода. Взгляд Андрея еще раз обежал приборы, контрольные лампы электросистемы. Андрей проверил свободу движений рук, ног, головы и захлопнул фонарь. Чтобы не возиться со шторками на высоте, когда начнет слепить солнце, тут же затянул оба боковых стекла. Получив разрешение на взлет, запустил двигатель. Убедившись в том, что все приборы показывают его Исправную работу, нажал рычаг, приводящий в действие аэродромную катапульту. Это было последним, что связывало «МАК» и его, Андрея — душу «МАКа», с Землей.
Оставшиеся на Земле увидели пламя, клубы дыма.
Бетонный потолок бункера завибрировал от гула «РД», легкая волна от сработавшего заряда пусковой катапульты прошла по стеклу, искривив все, на что смотрели сквозь него люди; вместо одной катапульты они увидели сразу десять, вместо одной синей стены далекого бора — десять стен. Потом люди выбежали из бункера и стали смотреть на стремительно вонзавшийся в небо столб дыма, сквозь который просвечивало желтое пламя.
Как ни старались конструкторы, им не удалось погасить действие пороховых ускорителей на пилота, чтобы при взлете на его долю не осталась все-таки труднопереносимая перегрузка. Тело Андрея давило на сиденье так, словно оно весило центнеры; стенки кровеносных сосудов мозга были, вероятно, на пределе прочности. А сердце тяжелым молотом било по диафрагме. «МАК» вонзался в пространство, как засасываемый абсолютным вакуумом. Белая стрелка высотомера отсчитывала сотни метров. Вслед ей солидно, деление за делением, двигалась большая стрелка тысяч.
На высоте ста километров аэродинамические рули стали бесполезны. Андрей включил реактивные насадки и вывел ракетоплан на прямую, переключил управление на автомат и, как всегда, обежал взглядом приборы по твердо заученному кругу. Каждый прибор отражал состояние эвена сложной цепи, державшей самолет в воздухе, сообщавшей ему движение, направлявшей его, связывавшей его с Землей. Это была цепь жизни. Звенья в ней были большие и маленькие, ясно видимые и совсем невидимые, но не было ни одного, без которого вся эта цепь не начала бы рваться, как гнилая веревка. Приборов на доске было меньше, чем в самом скоростном самолете еще пять-шесть лет назад, — электроника позволила снять с летчика заботу о многом; многое было автоматизировано — показания десятка приборов суммировались и сводились к одному сигналу. Но решающее значение этого одного сигнала при данных скоростях было таково, что невнимание к нему, опоздание реакции пилота на малую долю секунды могло означать катастрофу. В любое мгновение каждое звено в цепи жизни могло властно потребовать вмешательства Андрея.
Взгляд Андрея возвращается к фонарю. Там чернота. Такая, какой не может вообразить человек, не побывавший выше ста километров. Чернота стоит вокруг самолета плотной стеной. Перед ней, за ней, под ней, по сторонам от нее ничего, кроме такой же ужасающей черноты. Чернота абсолютна, плотна, единственна. Самолет врезается в нее, как в нечто последнее. Только когда Андрей поворачивает голову вправо, он видит над изогнутым краем земного шара плавающий в черноте огненный диск Солнца. Туда можно смотреть, лишь надвинув на переднее стекло скафандра защитный козырек. Во все остальное время стекло фонаря с этой стороны закрыто рассеивающей шторкой.
В тишине шлема не слышно двигателей. Их рев срывается с сопел и остается позади, не в силах угнаться за самолетом. Почти невероятно, что все звуки покрывает шум собственного дыхания Андрея, резонирующего в шлеме. Обратное дыхание раздражает и утомляет больше всех шумов, вместе взятых. Говорят, что человеку так же невыносима абсолютная тишина, как трудно перенести сильный шум.
Самолет приобрел огромную инерцию — скорость слишком велика. Нужно пускать в ход тормозные устройства. На этой высоте аэродинамические тормоза так же бесполезны, как рули. Андрей поворачивает рычаг шторки перед соплами двигателей, направляя часть струи газов навстречу движению. Он делает это с таким же чувством, как человек, спускающийся на лыжах с очень крутой горы, садится не палки, чтобы уменьшить скорость: чуть-чуть пережать — и палки пополам. Чуть-чуть передать обратный газ — и хвоста самолета как не было!
Сделав площадку, Андрей включил струйное управление правой плоскости (со школьных времен он предпочитал левый разворот). Целая секунда ушла на то, чтобы осознать тревогу: реактивные насадки правого борта не работают. Анализы потом, сейчас нужно включить струйные насадки левого крыла и ложиться в правый вираж. Но, к удивлению Андрея, и на включение левых насадок «МАК» отвечает все тем же — полетом без крена. Это уже совсем тревожно. Взгляд на секундомер отметил: на все это ушла уже почти половина минуты. Световой индикатор маятника отсчитывает пол у секунды: раз и раз, раз и раз, раз и…
Струйное управление отказало. Аэродинамического здесь нет. Решение?
В гонке участвуют время и человек. Время измеряется полусекундами. А чем измерить силы человека?
Тик-и-так — секунда.
Тик-и-так — вторая.
Время обгоняет мысль. Мысль человека? А не человек ли должен уметь обогнать время? И все-таки оно смеется над человеком. Оно то добрый, то злой, глядя по обстоятельствам, джинн, вызванный человеком из бесконечного «ничто». Джинн мигает лиловым глазом: тик-и-так… Чего он хочет от Андрея? Может быть, только одного: унести его в Бездну непознаваемости, куда беспрестанно и безвозвратно уносится само время — самое невозвратимое из всего сущего.
Скорость — шесть М; высота — сто сорок восемь километров. Мгновения властвуют над человеком, таким же, какие стоят на аэродроме, с тревогой всматриваются в пустое небо, напрасно вслушиваются в его молчание.
Тик-и-так… Тик-и-так…
Ракетоплан без рулей — это непоправимо? Да. Остается лететь по прямой? Да. Снижаться, пока не подойдешь к Земле? Да. Удариться об ее поверхность на посадочной скорости в триста семьдесят километров?.. Нет!.. Да или нет?..
При последнем взгляде на маметр скорость была 6 М, теперь она уже 7 М?.. Значит, скорость растет?.. Да! И что же дальше?.. На такой скорости удариться о Землю?.. Столб пыли, взметенной ударом; сквозь дым — оранжевый блеск пламени; тщетные поиски чего-нибудь, что осталось от человека и самолета; безнадежные попытки установить причину катастрофы… Нет! Нет или да?..
Тик-и-так… Тик-и-так…
А решение?
Может быть, человек должен подчиниться беспощадности насмешливого лилового мерцания и примириться с несовершенством отказавших рулей?..
Нет!
Нет и нет!
Секунды теряют власть над машиной — человек принял решение: получив максимально возможный разгон, на скорости, превышающей наибольшую расчетную и практически выжатую в прежних полетах, он заставит самолет описать гигантскую петлю. Топливо будет, конечно, израсходовано еще на подъеме, но форсажем Андрей выбросит «МАК» далеко за плотные слои атмосферы. Чем выше будет вершина петли, тем больше будет запас для планирования. Сначала на спине, потом переход в нормальное положение с выходом на курс к аэродрому. Обратная глиссада как можно дальше за границу зоны даст хороший запас времени для пологого входа в плотные слои атмосферы. А там придут в действие аэродинамические рули и…
Ярко вспыхнула красная лампа в правом конце приборной доски. Еще и еще. Топливо кончилось! Андрей потерял представление о своей скорости: маметр уперся в последнее деление — «М-10». Стрелке больше некуда двигаться. Андрей видел: скорость далеко за расчетной. Что ж, вот он, и разгон. Когда это было? Минуту назад? Или сто лет назад? Разве он летит уже не целую вечность?
А что на акселерометре? 0,75… 0,50… 0,20?.. Тело Андрея повисает в пространстве, стремясь отделиться от сиденья; повисают в кошмаре и перестают слушаться руки; отделяется от красного колпака аварийной катапульты лежавшая на нем перчатка и повисает в воздухе. Н-е-в-е-с-о-м-о-с-т-ь! Это давно не ново для Андрея и все-таки всегда необычно. Скорей бы миновать эту точку кривой! Рукоятки приборов струйного управления не нужны: Андрей знает, что оно не действует. Но чтобы проверить себя, пробует поймать их, сначала правую, потом левую. Это удается не сразу, но все же он дотрагивается до них. Да, он полностью владеет сознанием и телом. Рефлексы и воля в порядке. Нервы в том состоянии радостного напряжения, какое всегда сопровождает у него выход из обычного в нечто новое, неиспытанное и неизвестно чем кончающееся.
Новым, таящим неизвестность являются на этот раз и высота и скорость. Таких не испытывал еще ни кто-либо до него, ни он сам. Очевидно, он сейчас где-то у верхней точки огромной кривой, которую с разгона описывает «МАК»… Да, вот маметр снова ожил. Еще несколько мгновений, и стрелка чуть-чуть отделилась от упора, где М равно десяти. Ага, значит, самолет начинает терять инерцию! Хорошо бы узнать свою точку в пространстве. Впрочем, это сейчас не решает. Важнее то, что начинает досаждать положение вниз головой. Врачи утверждали, будто в состоянии невесомости человеку решительно все равно, как висеть в пространстве. Так почему же Андрей чувствует, что Земля у него не под ногами, а под головой? А может быть, и это самообман? Разве здесь не все идет вверх дном? И все же очень хочется, чтобы планирование на спине поскорее пришло к концу, хотя сознание и твердит, что чем дальше протянется такое положение, тем лучше: больше будет глиссада для приближения к Земле головой вверх.
А вот и первый неприятный толчок проваливания: перегрузка 0,15. Планированию на спине приходит конец. Тянуть его опасно. При следующем толчке Андрей пустит в ход струйное управление в вертикальной плоскости, чтобы вывести машину в нормальное положение. Еще толчок. Андрей осторожно вводит струйное управление по высоте: надо сохранить наибольший раствор кривой. Из-за потери точного представления о скорости он не знает, над какой точкой Земли находится. В этом ему помогут снизу. Еще несколько мгновений, он получит ответ. Радиотеодолиты не обманут.
Ответ не радует: радиус кривой недостаточен, чтобы снизиться, не проскочив аэродром. А проскочив его, Андрей не сможет «дать по газам» и уйти на второй круг: горючее израсходовано. Значит, вход в плотные слои атмосферы должен быть более крутым, чем хочется. Придется гасить скорость на слишком коротком промежутке. Разогрев торможения? О нем лучше не думать. И так уж все тело покрыто испариной: пот горячими струями стекает в сапоги. Андрей глянул на термометр воздуха в кабине — плохо! Циркуляция воздуха в костюме может спасти при температуре внутри кабины не выше ста. Андрей включает тумблер холодильника: температура невыносима. Вероятно, внешняя обшивка самолета нагрета выше расчетного предела — 750°. Это предположение подтверждается тем, что радио уже отказало, а электронное оборудование начинает шалить, оно рассчитано на работу при температуре не свыше 500°.
Сердце тупой кувалдой стучит в груди: виски распухают, шлем сдавливает голову. Этого не может быть, ведь между черепом Андрея и стальным шаром шлема три сантиметра пространства. И все же при попытке повернуть голову боль в висках и шее невыносима. Вены на руках раздуваются. Пальцы утрачивают гибкость и через силу поворачивают кран, регулирующий поступление кислорода. Андрей вдыхает кислород осторожно, маленькими глотками. Сознание с особенной остротой воспринимает окружающее. Чересчур ярко отражается в нем показание температуры внутри кабины «МАКа». Андрей пытается подумать над тем, какою может быть температура обшивки корпуса и крыла. Но прежде чем справляется с этой мыслью, сильный толчок, словно кто ударил по правой плоскости, заставляет его крепче схватиться за ручку управления. Это еще бесполезно. Высотомер показывает шестьдесят тысяч: слишком высоко для аэродинамического управления. Андрей всем телом воспринимает беспорядочные броски самолета из стороны в сторону, но не в состоянии парализовать их.
Высотомер показывает сорок тысяч. При следующем ударе его стрелка истерически подскакивает и как бешеная вертится на своей оси. Спиною Андрей чувствует, что переборка между кабиной и вторым отсеком, где расположена электронная аппаратура, начинает выпучиваться. Он поворачивается, насколько позволяет тесное кресло: волна деформации пробегает по внутренней обшивке и, все увеличивая ее изгиб, приближается к носу «МАКа». Там по-прежнему неумолимо мелькает лиловое веко времени: тик-и-так… тик и-так… Прежде чем оно успевает мигнуть в третий раз, Андрей уже знает: через мгновение, более краткое, чем половина секунды, меньше чем «тик» или «так», деформация стенок достигнет лба кабины и стекла ее вылетят из пазов.
Андрей всегда был готов к тому, что такое может случиться и все-таки, как всегда, худшее оказалось неожиданным. Андрею не было видно, как за презрительной вибрацией последовала деформация всей несущей плоскости. Крыло скручивалось, как широкий пробочник. Это и сообщало самолету такие толчки.
Было удивительно, что в несколько мгновений, когда все это происходило, Андрей умудрился так много воспринять, передумать, взвесить и прийти к последнему решению. Это решение гласило: «Покинуть самолет».
Едва ли хоть один летчик, кроме разве какого-нибудь паникера или труса, принял в своей жизни решение покинуть самолет прежде, чем убедился в том, что его собственное пребывание в нем не спасет машину. До самой последней секунды, определяющей безнадежность положения, летчик готов делить с самолетом его судьбу. Пока, как гром, его не ударяет по сознанию мысль: «Все бесполезно».
Как инженер и летчик, Андрей сознавал всю непоправимость случившегося: он понимал важность собственного спасения при любых обстоятельствах. Не только потому, что спасение должно было быть примером другим людям, а и потому, что только он, Андрей, возвратясь на Землю, может рассказать, что произошло. И тогда последний полет на этом «МАКе» обратится в первый полет на более совершенной новой машине.
Андрей поставил ноги на подножки и нажал рычаг. Сиденье оказалось герметически закрытым со всех сторон. Андрей знал, что одновременно с этим также автоматически открылся аварийный люк. Взгляд Андрея упал на окно хронометра. Оно продолжало все так же зловеще отсчитывать полусекунды своим лиловым миганием. Капсула повернулась, легла по продольной оси ракетоплана. Андрей всем телом почувствовал удар сработавших пиропатронов. Сила толчка при выбросе была так велике, что Андрею захотелось обеими руками схватиться за горло. Но под пальцами была только сталь скафандра. Хотя он и лежал в капсуле, как в люльке, но ему показалось, что еще миг, и все, что у него внутри, — сердце, легкие, желудок — решительно все будет вытолкнуто…
Ивашину было досадно, что к месту падения капсулы он явился последним, и вместе с тем он не мог не порадоваться тому, что вертолеты санитарной службы были уже там. Ивашин соскочил в высокую траву, из-за которой ему было едва видно большое блестящее яйцо капсулы. Сдерживая нетерпение, Ивашин заставил себя замедлить шаги и издали глядел, как техники помогали Андрею освободиться из тесной прозрачной ячейки. В первый момент, когда Ивашин увидел, как врач подносит ко рту Андрея термос, ему захотелось отвернуться: Андрей не сам протянул руку, не сам взял термос. Но Ивашин заставил себя смотреть, и его взгляд стал отмечать все мелочи, даже, кажется, навсегда запечатлел несколько пятнышек ржавчины на вафельном полотенце, которым сестра отерла лицо Андрея: отметил крупные капли обильного пота, тотчас снова покрывшие лоб и щеки летчика. Ивашин готов сколько угодно стоять так и смотреть на бледное лицо, на полуприкрытые глаза Андрея, если бы тот вдруг сам его не заметил. Озорная усмешка тронула губы Андрея, и с очевидным усилием, но достаточно громко он выговорил:
— Что с «МАКом»?.. Термостойкость… Конструкция плывет… Разберемся… Спать… Ужасно хочу спать…
М. Лейнстер О ТОМ, КАК НЕПРИЯТНО ЖДАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Фантастический рассказ
Техника — молодежи № 11, 1960
Рис. Ю. Случевского
Всем нам было бы гораздо спокойнее, если бы у мистера Тэда Биндера было чуточку больше самолюбия, или если бы ему чуточку меньше везло, или, может быть, если бы его лучший друг мистер Медден не промахнулся, погнавшись за ним с выброшенной на берег палкой. К несчастью, уйдя на пенсию из одной электрической компании, Биндер занялся исследованиями. Он читает Аристотеля, Пуанкаре, Рона Хаббарда и Парацельса. Он вычитывает из книг идеи и пробует осуществить их. А нам было бы спокойнее, если бы у себя в кухне он стряпал бомбы. Одна из них могла бы взорваться. Больше ничего. А теперь…
Однажды он занялся проблемой взаимопроникновения. Есть такая философская идея о том, что два предмета могут занимать одно и то же место в пространстве одновременно. Не правда ли, это выглядит довольно безобидно? Но когда Биндер добился своего, то не только он, но и другие люди — более 70 оказались заброшенными по времени в середину, по меньшей мере, третьей недели, которая еще не наступила.
Это было безвредно, конечно, но ждать неприятностей неприятно. Никто не может угадать, чем Биндер займется в следующий раз. Даже его лучший друг, мистер Медден, стал подозрительным.
Медден тоже ушел в отставку: он был шкипером наемной рыболовной шхуны. Теперь шхуну водит его сын, и он сыном недоволен. Однажды Медден пришел к Биндеру и позвонил. Биндер открыл ему.
— А, Джордж! — радостно сказал он, увидев опаленную солнцем физиономию Меддена. — Джордж! Войди, я хочу показать тебе кое-что.
— Стоп! — сурово возразил Медден. — У меня неприятности, и мне нужно утешение, но я не сделаю в этот дом ни шагу, если ты намерен хвастаться своими научными успехами.
— Это не успех, — запротестовал Биндер. — Это неудача. Это только кое-что, чего я добился, работая с мыльными пузырями.
Медден подумал и сдался.
— Если только мыльные пузыри, — подозрительно сказал он, — то оно может оказаться безвредным. Но у меня неприятности. Я не гонюсь за новыми. Не нужно мне никаких противоречий! Я их не терплю!
Он вошел. Биндер весело провел его в кухню. Там на окнах были занавески, оставшиеся с тех пор, когда он еще не был вдовцом. Биндер освободил один стул, сняв с него хлебную доску, ручную дрель и чашку с кофе.
— Тебе понравится, — заискивающе сказал он. — Я заинтересовался мыльными пузырями, а это привело меня к поверхностному натяжению, а это… Ну, словом, Джордж, я сделал то, что можно назвать вакуумом. Но новым сортом вакуума — твердым.
Медден прочно уселся, развалясь и расставив колени.
— Ну, этим меня не удивить, — согласился он. — Вакуум бывает в электрических лампочках и всяком таком. И есть еще чистый вакуум, хотя я не знаю, кто бы мог думать о грязном вакууме.
Биндер рассмеялся. Медден оттаял при такой оценке его остроумия, но продолжал уныло:
— У меня неприятности с моим парнем. Он водит старуху «Джезебель», на которой я возил рыболовов двадцать лет подряд. А он поставил ее на стапели в верфи. На стапели, понимаешь? И говорит, что ей нужно новую машину. Она слишком медленная, он говорит. А рыболовам скорость не нужна. Им нужна рыба!
Биндер предложил ему угощение, зажег газ под кастрюлькой на плите, положил в стакан меду, корицы, мускатного ореха и хороший кусок масла. Все это он математически точно залил большой меркой темной жидкости из черной бутылки, долил стакан горячей водой и преподнес результат Меддену. Медден взглянул на стакан уже не так строго. Он снял шляпу и пиджак, ослабил подтяжки, расстегнул пуговицу на поясе брюк, а тогда уже взял стакан.
— Сам старый дьявол Ром! — снисходительно сказал он. — Ты подкупил меня, чтобы заставить слушать. Ладно, я тебя послушаю. А потом я тебе расскажу о том, что мой парень требует у меня тысячу двести долларов на новую машину для «Джезебели». Возмутительно!
Биндер просиял. Он подошел к верстаку, разжал тиски и взял деревянную палочку длиной дюймов шести. Один конец палочки слабо поблескивал. Биндер показал ее Меддену.
— Ты никогда не догадаешься, Джордж, — весело сказал он, — но на конце этой палочки вакуум. Попробуй — ветер!
Он поднес ее к обветренной щеке Меддена. С конца палочки дул заметный ветерок. Медден хотел было взять ее, но Биндер быстро спрятал палочку.
— Не сейчас, Джордж, — сказал он извиняющим тоном. — Ты можешь повредить себе, если не поймешь некоторых вещей.
— Тогда убери ее, — мрачно ответил Медден. — Я долью стакан и уйду.
Биндер запротестовал:
— Посмотри, Джордж! Вот что она делает!
Он схватил хлебную доску, поднес к ней блестящий конец палочки: раздался слабый щелкающий звук. Появилось слегка туманное пятнышко, и деревянная палочка прошла сквозь доску, оставив в ней аккуратную круглую дырочку. Медден разинул рот. Биндер схватил кусок листового железа. На этот раз звук походил больше на икоту, чем на щелканье, — палочка прошла насквозь, оставив круглую дырочку. Биндер схватил пустую бутылку деревянная палочка прошла сквозь нее, оставив круглую дырочку.
— Ну вот! — воскликнул заинтересованный Медден. — У тебя получилось замечательное сверло! Чем оно режет?
— Тем, что я назвал вакуумом, — скромно ответил Биндер. — На самом деле поверхностное натяжение здесь такое высокое, что оно ничего не подпускает к себе. Оно все отталкивает. В стороны. Даже воздух! Вот почему я назвал его вакуумом.
— Вакуум так вакуум, — снисходительно изрек Медден. — Что ты с ним хочешь делать?
— Ничего не могу, — с сожалением ответил Биндер.
— Гм, оно должно на что-нибудь годиться.
— Я просто покрасил им конец палочки, — сказал Биндер. — Вакуум очень легко сделать. Я думал предложить его военному ведомству. Для непробиваемой одежды, знаешь ли… Его можно накрашивать на ткань.
Медден замигал глазами.
— Представь себе, что это пуля, — вздохнул Биндер.
Он взял линейку и ткнул ею в конец палочки. Раздался звук, появилась дымка. Но линейка не ткнулась в палочку. Палочка пробила ее насквозь, и в линейке появилась дырка.
— Если пуля ударяется в ткань, покрытую твердым вакуумом, то ее отбрасывает в сторону в виде пыли, — пояснил Биндер. — Если человек одет в покрытую вакуумом одежду, то в него можно стрелять из пулемета, даже из пушки, и с ним ничего не будет.
— Ага! — обрадовался Медден. — Прекрасное патриотическое изобретение! Что сказало правительство?
— Не стоит показывать правительству, — с сожалением сказал Биндер. Человек в одежде из твердого вакуума не сможет сесть.
Медден взглянул вопросительно. Биндер указал на блестящий конец палочки:
— Пусть это будет «кормой» его штанов. — И притронулся предполагаемой «кормой» чьих-то штанов к сиденью стула. Палочка прошла насквозь. Осталась дырочка.
— Гм, — произнес Медден. — Придется ему сидеть на полу.
Вместо ответа Биндер прикоснулся блестящим концом к полу. Конец прошел насквозь. Биндер сказал, все еще согнувшись:
— У меня не хватает духу выпустить ее из рук. Она уйдет до центра Земли. Наверное, уйдет.
Изобретатель вакуума выпрямился и зажал палочку в тиски.
— Я думал, тебе это будет интересно, Джордж. Ну, в чем у тебя неприятности?
Медден отмахнулся от вопроса. Ему представился некто в одежде, поблескивающей, как конец деревянной палочки. Некто сел, и Медден увидел, как некто проваливается сквозь стул, сквозь землю, сквозь скалы, все вниз и вниз, без конца. По-видимому, в качестве одежды твердый вакуум не годился. Но тут Медден хлопнул себя по колену.
— Вот что! Дай им, — авторитетно сказал он, — «корму» на штанах обыкновенную. Людей туда, во всяком случае, не часто ранят.
Но Биндер покачал головой и вздохнул:
— Человек может споткнуться. Если он упадет ничком, будет все равно, что сесть на… словом, как обычно, Джордж. А в сражении человек делается невнимательным и не смотрит, куда ступает.
— Это верно, — согласился Медден.
Он отхлебнул из стакана. Биндер махнул рукой и сказал:
— В чем у тебя дело, Джордж?
Медден откашлялся. Неприятности у него были. Но Биндер задал ему задачу, а Медден был не такой человек, чтобы оставить умственную задачу нерешенной. Он поднял руку.
— Все ясно, — строго сказал он. — Как же ты не догадался? Ты можешь накрасить эту штуку на ткань. Возьми зонтик и выкрась в твердый вакуум. Потом возьми его за ручку и открой — ты полетишь. Закрой зонтик — и опустишься.
Но Биндер опять покачал головой.
— Иногда самолеты переворачиваются колесами кверху, — рассудительно заметил он. — Такое бывает. А если он ударится оземь, перевернувшись… И потом, Джордж, куда можно повесить такой зонтик?
— Нет, Джордж, это просто одно из тех изобретений, которые по идее хороши, но непрактичны. — Тут он вздохнул и прибавил ободряюще: — Что у тебя на душе, Джордж? Ты говорил, что у тебя неприятности?
Медден вздохнул в свою очередь.
— Да все мой парень, — сказал он. — Поднял старуху «Джезебель» на стапеля и говорит, будто нужна новая машина. Захотелось ему истратить тысячу двести долларов! Надо, видишь ли, быстрее возить людей на рыбные места! И я должен взять деньги из банка, чтоб тратить на машины!
Биндер утешал своего друга чем мог, но Медден оплакивал тысячу двести долларов и был безутешен.
В конце концов Биндер сказал неуверенно:
— Джордж, я могу предложить кое-что. Мой твердый вакуум не годится ни для самолетов, ни для коктейлей. Но это хороший вакуум. Я могу накрасить его на носу «Джезебели», и он потащит ее. Он заставит ее бегать быстрее, да еще сэкономит бензин.
Медден замигал.
Биндер продолжал задумчиво:
— И это должно быть безопасно. Корабли и лодки ни на что обычно не наезжают. И вакуум будет только на носу, а все остальное его уравновесит, так что он не умчится в небо. И корабли вроде не переворачиваются. И потом я могу накрасить его на парусину, а не на доски, чтобы его можно было снять. Давай попробуем, Джордж!
Придя к другу, Медден был подавлен, но теперь он воспрянул духом. Он был огорчен, но теперь утешился. И он был скуповат, а предложение Биндера могло сэкономить ему деньги.
Друзья поехали в такси, в ногах у них стояли две жестяные банки с материалами для нанесения твердого вакуума на нос рыбачьей шхуны. Медден так радовался, что громко пел, отбивая деревянной палочкой с вакуумом.
— Ну, Джордж, — сказал ему Биндер, — не нужно принимать все близко к сердцу. Мы можем попытаться, но в этом мире много разочарований. Может случиться что-нибудь, о чем мы не подумали.
— Чепуха! — возбужденно воскликнул Медден. — Признаюсь, я не ожидал, чтобы один из моих друзей оказался гением, но я должен был догадаться! Я не удивлюсь, если «Джезебель» с твоей штукой на носу будет делать десять узлов. Покрась ее всю, ладно?
— Лучше не надо, — возразил Биндер. — Может быть, придется его снимать.
— Прочь эти мысли! Думать так возмутительно! С твердым вакуумом на носу старуха «Джезебель» станет как новая да еще сэкономит кучу бензина.
Их машину обогнал грузовик. Клуб газов влетел в окно такси. Медден закашлялся. Биндер ободряюще похлопал его по спине. Медден уронил деревянную палочку с блестящим концом. Он не заметил этого, Биндер тоже.
Но палочка упала на пол концом вниз. Она слегка щелкнула и прошла насквозь. Она упала на дорогу, снова блестящим концом вниз, закашлялась, пронизывая асфальт. Вязкие материалы, вроде асфальта, устойчивее к поверхностному натяжению, или вакууму, чем хрупкие. Но палочка исчезла под поверхностью, оставив аккуратную круглую дырочку. Она жужжала, пронизывая каменную наброску под асфальтом. И весело запела, пробираясь сквозь четырехфутовый слой утрамбованной глины к стальной трубе под ним. Труба оказалась газопроводом высокого давления. Твердый вакуум зачирикал и вгрызся в нее. Природный газ из центра Техаса только и ждал этого. Его давление, конечно, не вытолкнуло палочку. Оно не могло: на конце палочки был вакуум. Палочка углубилась в газопровод, и тогда раздался грохот, словно от гейзера. Под давлением в 14 тысяч фунтов на квадратный дюйм газ устремился в дырку, оставшуюся после палочки. Он вырвался на улицу, увлекая за собой песок, глину, каменную наброску и асфальт. В несколько секунд здесь образовалась дыра диаметром в фут, и она все разрасталась.
Дыра образовалась под старым грузовиком, везшим кур в деревянных клетках. Камешки застучали снизу по кузову машины. Грузовик, обидясь, яростно загремел выхлопами. Он поднялся на передних колесах и кинулся вперед, как женщина, спасающаяся от мышей. Но он убегал не от мышей. Выхлопы воспламенили струю газа. Взрыв! К небу поднялся столб яркого пламени. Водитель грузовика в ужасе обернулся и… наехал на водяную колонку. Раздался треск. Все деревянные клетки поломались, куры захлопали крыльями и начали в панике разлетаться во все стороны. Из сломанной колонки вырос огромный и красивый фонтан.
А деревянная палочка продолжала свой путь. Струя газа, вырвавшись, отстранила ее верхний конец, она вышла из газопровода наклонно. Пройдя два фута, палочка встретила водопроводную магистраль и весело вонзилась в нее. Ее сравнительно обтекаемая форма снова сказалась. Палочка повернула и пошла в воде вдоль трубы. Идя, она отбрасывала воду в стороны с большой силой. Давление в трубе резко увеличилось. Труба затрещала. Носительница твердого вакуума хлопотливо мчалась вперед. Труба лопнула вдоль, вода вылилась в грунт под мостовой, стала искать выход, нашла его и вышла в погреба. Мостовая вздулась, а погреба залились потоками холодной чистой воды.
Палочка пошла дальше. На трубе был изгиб, которого она не заметила, прошла сквозь него, снова сквозь желтую глину, нашла трубу с телефонными и пожарносигнальными линиями. Палочка издавала музыкальные звуки, пробираясь сквозь них. За нею последовала вода, желавшая узнать, что она может здесь сделать. Все пожарные сигналы в городе зазвучали сразу. Все телефоны вышли из строя. Палочка, жужжа, пробиралась дальше, нашла бетонную стену подземелья, прошла сквозь нее, перекувыркнулась в воздухе — видимо, от радости — и угодила вакуумным концом вниз, в паровой высокого давления котел на электростанции. Однако, пронизав котел насквозь, она очутилась в топке. И тут ее карьера закончилась. Биндер утверждал, что твердый вакуум может справиться с любым твердым веществом, но с нагреванием он справиться не мог. 1800-градусный нагрев в топке уничтожил вакуумную оболочку. Когда вода хлынула из котла и залила топку, то деревянная палочка была просто обуглившейся деревянной палочкой, и только.
Описанные события следовали друг за другом очень быстро. Прошло всего лишь тридцать секунд между моментом, когда Медден задохнулся от выхлопных газов, и ревом пара на электростанции. За это время такси завернуло за угол, Медден перестал кашлять, а Биндер перестал хлопать его по спине. Потом Медден сказал сентиментально:
— Знаешь, чем больше я думаю, тем больше радуюсь, что у меня есть такой друг, как Тэд Биндер.
Мало кто знал об этом.
«Джезебель» была старая коренастая посудина длиной футов в 40 и шириной больше 12. Она стояла на стапелях наклонно, кормой к берегу. Вокруг нее пахло конопатью, краской, старой наживкой, морским илом и всякими отбросами. Лодка вполне соответствовала своему окружению. Биндер нанес первый из двух слоев на старый парус, прибитый к форштевню «Джезебели» кровельными гвоздями. Когда слой высох, он смазал его особым реактивом с твердым вакуумом. Биндер остерегался класть слой твердого вакуума до самых гвоздей (на случай, если парус понадобится снять). Медден же сидел на палубе под остовом навеса.
И когда Биндер вскарабкался по лестнице, прислоненной к борту «Джезебели», приятель весело приветствовал его:
— Ну что, можно пробовать?
Биндер очень осторожно протянул руку над реллингом. Он ощутил явственный ветерок, дующий снизу вверх: это воздух отталкивался во все стороны от слоя твердого вакуума. Если бы он протянул руку сбоку, то почувствовал бы, что ветерок дует к корме; если бы попробовал снизу, то почувствовал бы ветерок и там. Вакуум не разбирался, в какую сторону отталкивать. Он отталкивал во все стороны, избегая любого оскверняющего прикосновения. Это относилось и к воздуху. Это должно относиться и к воде.
Биндер перешел на корму и кивнул:
— Думаю, что пробовать можно, Джордж.
Потом сошел на берег. Пошел в контору. Добился того, чтобы осторожно наклонили гнездо, в котором стояла «Джезебель», пока ее нос не коснулся воды. Снова взобрался на палубу. Вошел в штурвальную будку, торчащую на палубе, как больной палец, и махнул рукой.
Рабочий у лебедки небрежно протянул руку и отвел собачку из зубчатки. Зубчатка завертелась, и «Джезебель» заскользила по наклонной дорожке к воде.
— Держите ее! — закричал Медден. — Потише! Легонько!
«Джезебель» скользила все быстрее. Медден выкрикивал слова команды. Они были совершенно бесполезны. «Джезебель» плюхнулась в воду. Маленькие волны жадно кинулись играть в пятнашки с ее рулем.
Вода пыталась прикоснуться к обитому парусом форштевню, но была с силой вытолкнута и разлетелась во все стороны тонкой, быстро мчащейся пленкой. Когда «Джезебель» встала на воду, перед нею выросло что-то похожее на жидкое колесо высотой в двадцать футов. Это была вода, убегающая от форштевня и оставляющая там вакуум. Природа ненавидит вакуум. Ненавидела его и «Джезебель». Она стремилась войти в вакуум, заполнить его собою. Но вакуум уходил от нее. «Джезебель» ускорила ход, разбрасывая воду все шире и все выше. Вакуум тянул все быстрее, так как был прибит к ее носу.
«Джезебель» выскочила из стапеля, словно летучая мышь из преисподней. Раньше она никогда не делала больше восьми стонущих узлов: нос у нее был тупой и неуклюжий, и на преодоление его сопротивления уходило много мощности. Но теперь сопротивления не было. Впереди не было ничего.
С самого начала, делая меньше 50 узлов, она была похожа на пожарный катер при полной работе всех шлангов. Правда, пожарные катера никогда не ходят так быстро. Между 50 и 60 узлами «Джезебель» получила еще более внушительный вид. Пена и брызги, разлетающиеся от ее форштевня, поднялись стеной на высоту 60 футов и более — это высота шестиэтажного дома — и летели во все стороны. Вокруг ее форштевня теперь было сколько угодно воды, и каждая капля ее летела куда-нибудь. Некоторые капли устремлялись вниз, к морскому дну. Другие летели к корме. Но большинство взлетало кверху. На каждую милю своего пути «Джезебель» выбрасывала в воздух около шести тысяч тонн воды в виде мельчайших летучих капелек. И сколько же было этих миль!
Когда шхуна налетела на пикник воскресной школы, она уже делала 80 узлов. Пикник был устроен на большом старинном колесном пароходе, и все старались там выглядеть кроткими, кроме маленьких мальчиков, ускользнувших от наблюдения и дравшихся под спасательными шлюпками или рисовавших картинки на белых стенах.
Вдруг ниоткуда, но очень быстро появился столб летящей воды шириной с половину городского квартала и высотой с шестиэтажный дом. Он накинулся на пикник воскресной школы и поглотил его. Пароход был залит шумящими волнами. Когда волны прошли, пароход беспомощно покачивался среди густого непроницаемого тумана. Все, кто старался выглядеть кротко, промокли. Некоторые даже произносили некрасивые слова. Пароход качался так сильно, что девочки то и дело заболевали морской болезнью. Все на пароходе были мокрыми, жалкими и испуганными, кроме маленьких мальчиков, дравшихся под спасательными шлюпками.
Такова внешняя картина подвигов «Джезебели» за первые несколько секунд ее деятельности. Но из штурвальной будки ничего не было видно. «Джезебель» была слепа. Она была окружена стенами бушующей воды, разбрасываемой твердым вакуумом у нее на форштевне. И вздымающиеся струи имели такую большую скорость, что разбивались на мелкие, все более мелкие и мельчайшие частицы, пока они не становились настолько мелкими, что не могли даже упасть. Они становились частицами тумана. Они плавали в воздухе, как пресловутые ниагарские туманы.
Как назло, навстречу лодке плыл буксир, таща длинный хвост бревенчатых плотов. Столб белого пара ударил в него, словно молния. «Джезебель» столкнулась с плотами. Форштевень у нее зарычал. Твердый вакуум на форштевне «Джезебели» загудел густым басом, отбрасывая от себя дерево, пытавшееся войти с ним в соприкосновение. Буксир убежал, но плоты были разрезаны и остались в тумане. Прямолинейный ход «Джезебели» вел ее прямо на верфи. Медден заставил лодку свернуть, лихорадочно, наугад крутнув штурвал.
— Выключи ее! — вопил Медден. — Останови ее, Тэд! Надо ее остановить!
— Мы не можем!
Друзья были отрезаны от всего мира стенами тумана.
Потом мир вокруг них почернел. Не потому, что они потеряли сознание. Просто «Джезебель» вошла в мелкую воду и мчалась вдоль самой дороги и нарядной приморской части города. Но это ее ничуть не задерживало. Она ни на минуту не прекратила своего разбрасывания. Она мчалась сквозь ил со скоростью 90 узлов ярдах в 15 от берега. Она подбрасывала густой ил кверху. Ил величаво летел над дорогой на берегу; он покрывал деревья, кусты, дома, окна и нарядных, изящных прохожих.
Медден не переставал бороться со штурвалом и вопить Биндеру о том, что нужно выключить вакуум. Тем временем «Джезебель» выписывала по воде круги, восьмерки и другие прелестные арабески. Она металась, как ненормальная, туда, сюда, повсюду оставляя за собой огромные массы тумана. Все движение в гавани остановилось. Корабли бросили якоря и включили аварийные гудки. Паромы свистели. На мелких судах звонили в колокола, гавань превратилась в сумасшедший дом.
Биндер пополз на корму и добрался до штурвальной будки.
— Выключи ее! — взвыл Медден, когда бугшприт парусника, стоявшего на якоре, вынырнул из тумана, воткнулся в окно будки, оторвал одну стенку и потащил ее куда-то. — Останови ее! Выключи! Сделай что-нибудь!
Биндер сказал кротко:
— Вот что я хотел сказать тебе, Джордж. Мы тонем. Наверное, когда она была на стапелях, ей вскрыли дно, чтобы спустить воду, и теперь она наполняется.
Потом он добавил жалобно:
— Это меня беспокоит. Если мы спрыгнем за борт, то при такой скорости мы разобьемся и утонем. А когда она начнет погружаться, то скорее всего встанет носом вниз и уйдет к центру Земли. А мы не можем выйти.
Рот у Меддена открылся. Глаза вышли из орбит. Потом он тихонько лишился чувств.
Когда он очнулся, кругом было тихо. Солнце ярко блестело. Где-то ласково плескались волны. Пели птицы.
Он услышал странный звук, словно кто-то рвал более или менее гнилую холстину. Звук повторился. Медден почувствовал, что «Джезебель» стоит совершенно неподвижно. Она не качалась, в ней не было даже того, слабого живого движения, какое есть у всякой лодки.
Медленно, недоверчиво, нетвердо Медден поднялся. Ему не пришлось выходить из штурвальной будки через дверь. Можно было удобно выйти там, где раньше была стена.
Он несмело огляделся. «Джезебель» стояла, выбросившись на плоский песчаный берег. Кругом не было ни следа цивилизации, если не считать ржавой жестянки, полузарывшейся в соленый песок. Медден узнал эти места. Их забросило на один из береговых островов, в 40 милях от гавани, где «Джезебель» побила все рекорды по скорости и по устройству беспорядка.
Звук рвущейся ткани раздался снова. Медден заковылял по палубе «Джезебели» и выглянул с носа. На песке стоял Биндер и рвал парусину, покрытую слоем вакуума. Оторвав порядочный кусок, он поджег его спичкой. Он обращался с парусиной очень осторожно — притрагивался к ней только с неокрашенной стороны. Медден ощутил запах горящей ткани и химикалий. Он прохрипел:
— Эй!
Биндер взглянул вверх и широко улыбнулся ему:
— А, Джордж! Хелло! Все в порядке, как видишь. Когда ты упал в обморок, я взялся за штурвал. Похоже, что мне повезло: удалось выйти из гавани в море. А когда «Джезебель» замедлила ход, я рассмотрел, где мы находимся, и направил ее соответственно.
— Замедлила ход?
— Да, — кротко подтвердил Биндер. — Я не сразу понял, но нам очень повезло. Когда «Джезебель» начала тонуть, то вода перегрузила ее кормовую часть. Нос начал выходить из воды. Вакуум вышел на свободу. В воде его осталось меньше, и он уже не так сильно действовал. Так что наш ход замедлился.
Медден протянул руку и взялся за что-то, чтобы удержаться. Он чувствовал себя липким от холодного пота. Биндер оторвал еще кусок парусины и сжег его. Ферштевень «Джезебели» почти совсем лишился этого украшения.
— Я шел вдоль берега, — пояснил Биндер, — пока ход не замедлился. Тогда я повернул к берегу. Мы почти затонули, помнишь, нос едва касался воды. Я вовремя сбавил ход и посадил посудину на мель довольно удачно. Нам придется вызвать буксир, чтобы снять «Джезебель» отсюда, но я не думаю, чтобы она была повреждена.
Медден закрыл глаза. В отчаянии он благодарил судьбу за то, что остался жив. Но вызывать буксир за 40 миль, чтобы снять «Джезебель» и вести ее 40 миль обратно… Он содрогнулся.
— Кажется, лучше снять парусину, — сказал Биндер извиняющимся тоном. Кто-нибудь может прийти и дотронуться до нее, не зная, что это такое. Но я сделал интересное открытие, Джордж! Я думаю, оно тебе понравится. Видишь ли, мой твердый вакуум сам по себе не годился для того, чтобы двигать «Джезебель», но я придумал для тебя кое-что получше.
Медден воздел глаза к небу, потом исступленно оглядел берег. Он увидел у кромки воды довольно толстый обломок дерева.
— Вот что я скажу, — продолжал Биндер. В руке у него был кусок парусины, окрашенной стороной кверху. Он очень осторожно сложил его вдвое. Видишь?
Медден промолчал.
— Твердый вакуум, — продолжал Биндер, — не хочет прикасаться ни к чему. Трение возникает только там, где два предмета соприкасаются. А твердый вакуум отбрасывает от себя все, что к нему прикасается, но другого твердого вакуума не может отбросить! Потому что они не соприкасаются! Понимаешь? Если у меня будут две поверхности, покрытые твердым вакуумом, и если я потру их друг о друга, то у меня будет скольжение без всякого трения!
Он широко улыбнулся Меддену, принимая его неподвижность за внимание.
— Я тебе скажу. Джордж, — весело произнес он, — все, что нужно для получения твердого вакуума, находится на борту. Ты пойдешь и достанешь буксир, чтобы снять «Джезебель», и велишь откачать ее и заткнуть в ней дыру. А пока тебя не будет, я разберу машину на части. Я покрою твердым вакуумом цилиндры изнутри, а поршни снаружи, покрою подшипники и то, что в них вращается. И тогда машина будет работать совершенно без трения. Тебе не понадобится новая, ты сэкономишь деньги…
Тем временем Медден медленно спустился с палубы «Джезебели» на песок и направился в сторону от Биндера.
Он подобрал тяжелую палку, валявшуюся у кромки воды, и двинулся на Биндера.
Палка не попала в Биндера — она пролетела очень близко, но все-таки мимо…
Если оставить гуманность в стороне, то об этом можно только пожалеть. Сейчас Биндер занят идеей, если 2 да 2 равны четырем, то это выведено лишь из длинного ряда наблюдений, которые могут быть простыми совпадениями. Он исследует теоретическую возможность того, что 2 да 2 когда-нибудь дадут атавистическое 5. Это звучит безобидно, но никто не может угадать, чего только Биндер может добиться.
Ожидать неприятностей — вот что неприятно.
Перевод с английского З. БобырьГ. Цуркин ШАХМАТНАЯ ДОСКА
Научно-фантастический рассказ
Техника — молодежи № 12, 1960
Рис. Ю. Случевского
МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ НЕПОБЕДИМУЮ ШАХМАТНУЮ МАШИНУ?
Вот первый вопрос, встающий перед каждым, прочитавшим рассказ Г. Цуркина. В сущности, это вопрос о том. что представляют собою шахматы: область искусства или область математики? Извечный и. собственно, до сих пор не разрешенный вопрос. Будучи искусством, они неисчерпаемы, как неисчерпаем духовный мир человека: в этом случае идеальная шахматная машина невозможна. Будучи областью математики, шахматы допускают, хотя бы a принципе, создание такого автомата, который никогда не проиграет человеку. Правда, это должен быть очень сложный автомат. Как высчитал немецкий математик Ричард Шуриг еще в 1886 году, число различных положений, которые могут занять на шахматной доске 32 фигуры, выражается 52-значным числом и составляет 7 534 октильона 686 312 септильонов 361 225 свитильонов 327 тыс. квинтильонов.
Интересно, а как относятся к «извечному вопросу» в наши дни шахматисты, математики и люди, не являющиеся ни шахматистами, ни математиками, но знающие о чудесных возможностях современных электронных устройств?
Шахматный мастер был немолод и сутуловат; многочисленные сражении на черно-белом поле разграфили его лоб в крупную клетку, отдаленно напоминающую набросок шахматной доски. Но и его начинала выводить из себя хитроватая физиономия усатого дядьки, восседающего за последней, двадцать первой доской.
Молодежь, как всегда, шепчется, двигает фигурами вперед и назад, словно смычками, а дядька сидит, улыбается сквозь очки да изредка длинными усами шевелит.
Мастер спокойно путешествовал от одной доски к другой, делал ходы и, казалось, не испытывал особенных затруднений. Лишь у последней задержался минуты на три: положение хотя и не блестящее, но бороться можно. Поскорее покончить бы с другими, а тогда можно будет и наказать этого зарвавшегося волонтера-усача. Особенно за его лукавую улыбочку.
Не прошло и часа, как аллея молодых вихрастых противников была вырублена основательно; на счету мастера уже числилось шестнадцать побед, три ничьих, а длинные тараканьи усы все еще невозмутимо шевелились.
«Доберусь и до тебя, сом усатый», — подумал мастер и беспощадно расправился еще с одной доской. Теперь уже никто не помешает сосредоточиться. И он решительно приступил к выполнению своего замысла на последней доске.
Сразу же их окружило такое плотное кольцо болельщиков, что при попытке почесать затылок мастер моментально попал пальцем в чей-то открытый рот.
— Простите, — извинился он и, сделав притворно суровую гримасу, спросил: — Ничья?
— Подожду еще… Рановато, — так же сурово ответил противник, и они стали смотреть на доску молча и сосредоточенно.
Ситуация складывалась как-то неопределенно, и это мешало мастеру собраться с мыслями. «А ведь мое положение не из приятных», — прозрел он вдруг и действительно через два хода потерял коня.
— Сдаетесь? — так же притворно грубовато спросил противник.
— Нет… Подожду немного…
— Ждите, а я пойду так, — усач двинул ферзя, и мастер понял, что партия закончена.
Усач этот, видимо, не такой уж простак, и желание во что бы то ни стало отыграться охватило мастера с огромной силой.
— Сдаюсь, — сквозь зубы произнес мастер и, распустив галстук, попросил болельщиков осадить назад. Потом предложил противнику:
— Хотите два партии подряд с результатом два — ноль не в вашу пользу?
— Два партии, извольте, а результат — посмотрим, — благодушно ответил тот и тоже подался назад, чтобы оттеснить болельщиков, головы которых нависли над плечами, словно связки воздушных шаров.
Мастер начал игру в стремительном темпе. Через несколько ходов он уже спросил противника:
— Сдаетесь?
— Мне моя специальность не позволяет, — ответил противник.
— Какая же у вас специальность? — полюбопытствовал мастер, бросая в атаку коня.
— Математик, — произнес противник спокойно и нейтрализовал грядущие неприятности движением пешки.
— Не думаю, чтобы эта специальность спасла вас, — продолжил мастер и снял пешку слоном.
Но не прошло и двадцати минут, как математик, разгромив пешечное заграждение короля, вторгся ферзем на последнюю горизонталь. И эта партия была проиграна мастером.
— Вы чародей, — смущенно пожал плечами мастер, торопливо расставляя фигуры. Втайне он уже пожалел, что так нескромно петушился в начале игры.
Следующую партию мастер играл осторожно, без болтовни, все время анализируя. Действительно, в манере усача ощущается лаконичная математика, но полностью отсутствует композиционная стройность. Он часто жертвует красотой комбинации ради кратчайшей атаки. Атаку начинает сразу же после развертывания основных сил.
И последнюю партию проиграл мастер. Математик раздавил его сопротивление тек же уверенно, как тяжелый грузовик давит велосипед. Влажной ладонью мастер пожал ему руку, и молодежь вокруг шумно зааплодировала. Особенно веселились любители, проигравшие свои партии мастеру.
Выбравшись из толпы, противники пошли по аллее парка.
— Устал смертельно, — попробовал оправдаться мастер.
— Возможно, — согласился математик, — только скажу без лишних слов: за последние пять лет я еще никому не проиграл.
— Ну, это вы, пожалуй… того, — усомнился мастер, — таких игроков не бывает.
— Глядите и удивляйтесь! Я первый, — шутливо вскинул голову математик.
Под ярким светом прожектора у ворот парка мастер рассмотрел его подробней. На коротковатых ножках, с большой стриженой головой, вооруженной выпуклыми очками, он походил на марсианина, придуманного писателями. Только усы у него были чисто земные, если они, конечно, не бутафорские.
— Скажу вам откровенно, — продолжал математик, когда они вышли из ворот, — вы пятый мастер, которого я обыграл. И мечтаю таким же манером обыграть какого-нибудь гроссмейстера, если, конечно, вы меня с ним познакомите. Признаюсь, что играл в сеансе потому, что знаю вас как самого близкого друга гроссмейстера Табакова.
— Ну что же, — согласился мастер, — мы действительно друзья… Давайте адрес.
Мастер вытянул из кармана сигареты и записал на пачке все, что сказал ему математик.
— Сергей Иванович Дроздов, — представился тот, и они, пожав руки, наконец, познакомились. Рукопожатие было длинным и, конечно, перешло в прощальное.
Давно мастер так тяжело не переживал своего поражения; лежа, он докурил последнюю сигарету, и на него навалились тяжелые ночные мысли: проиграть так и кому? Математику с какими-то тараканьими усами, который изящное искусство композиции променял на холодный рационализм алгебры.
Лишь под утро его одолел мучительный сон: человек-таракан долго преследовал его и щекотал шею длинными колючими усами. А бдительная половина мозга критически оценивала фантасмагорию: какой идиотский сон, а днем будет мучить скверное состояние.
Когда он поднялся, в комнате было много солнца. Он распахнул окно, глубоко вдохнул свежий ветер, и все тяжелые ночные мысли мгновенно испарились; пришли мысли дневные, ясные, боевые. Вероятно, энергия солнца проникает и в сознание человека? Нужно отдохнуть с недельку, отыскать этого математика и разделать его под орех. И, довольный принятым решением, он запел во все горло.
В конце недели в клубе мастер повстречал гроссмейстера Табакова, черноволосого юношу-студента с черными глазами. Пожав руку, тот потянул мастера в сторонку, на диван.
— Ну, говори, как тебя обыграл обыкновенный любитель?
Мастер не стал опровергать слуха и рассказал все до мельчайших подробностей. Гроссмейстер лишь подскакивал на диване и изумлялся.
— Сверхъестественно! Феноменально! Сногсшибательно!
Они наметили визит на ближайшее воскресенье, и мастер еще в субботу предупредил Дроздова об этом.
Дроздов встретил дорогих гостей приветливо.
— Каким образом вы так свирепо расправляетесь с бедными шахматистами? — спросил гроссмейстер, подойдя к тумбочке и постукивая по ее крышке.
— Играть надо точно и без просчетов, — лукаво сощурил глаза Дроздов, победоносно взбадривая усы.
— Тогда к барьеру! — скомандовал гроссмейстер, и они стали расстанавливать фигуры.
Мастер придвинул свой стул вплотную и пристально следил за руками Дроздова.
Гроссмейстер захватил центр и стал играть в своей обычной манере, рискованно и смело. Иногда он выпаливал свое любимое:
— Феноменально! Сногсшибательно! Сверхъестественно!
Дроздов защищался скупо, но изобретательно. Наконец и он вломился в оборону противника и вскоре одержал победу.
После третьей партии гроссмейстер побледнел, закусил губу и стал терзать подбородок пальцами.
— Чертовщина какая-то, — наконец не выдержал он.
Было темно, когда они опомнились уже на ступеньках лестницы, где долго курили.
— Вероятно, это гений, сошедший с ума, — робко предположил мастер.
— Феномен, — согласился гроссмейстер, — поразительно своеобразен и дьявольски предусмотрителен.
— Что же предпримем дальше? — спросил мастер, вставая.
— Сначала надо подкрепиться, — предложил гроссмейстер.
Они нашли кафе и выпили по две чашки черного кофе.
— Поговорим с ним сейчас же, — проговорил гроссмейстер, входя в телефонную кабину.
— Еще раз здравствуйте, Сергей Иванович! Один из ваших гостей. Ну, задали вы нам задачу! Хотелось бы узнать, что, собственно, последует дальше? Вы намерены оспаривать звание чемпиона мира?
Но трубка была исключительно миролюбива.
— Можете быть спокойными. Меня это не интересует.
— А что же вас интересует? — допрашивал гроссмейстер.
— Математика, — загадочно ответил Дроздов, — с меня довольно и третьей всесоюзной категории.
— Для чего же эта комедия?
— Для проверки некоторых сомнений.
— Тогда спокойной ночи, — любезно закончил гроссмейстер и, повесив трубку, добавил: — Терпеть не могу людей, поступки которых не имеют ясно очерченной цели.
До самой зимы среди асов интеллектуальных дуэлей не прекращались оживленные разговоры о Дроздове, и разговоры эти вселяли в душу неясную тревогу. Не раз прославленные стратеги вздрагивали, заметив среди любителей сеансов одновременной игры какую-нибудь физиономию с длинными усами. Тревога, однако, оказывалась напрасной. На сеансах Дроздов больше не появлялся.
Однажды мастер побывал в Москве и совершенно случайно забрел в Политехнический музей. В углу одного из залов он увидел знакомую шахматную доску. Надпись на тумбочке скромно гласила: «Тренировочная доска для шахматной игры С. И. Дроздова».
Мастер даже присел около доски от неожиданности и быстро схватил книжку-инструкцию. Она была написана бойким, живым языком и с полемическим задором. Прямо на первой странице значилось: «Даже мысли произведений художественной литературы могут быть выражены с помощью алгебры. К примеру возьмем фразу: «Шахматист, как и солдат, должен иметь находчивость и сообразительность». Все это гораздо короче можно выразить формулой: а = b+x+y Более сложные и тонкие мысли выражаются соответственно сложнее и тоньше».
— Аха-ха-ха-ха! — разразился громким смехом мастер. — Ну и намудрил Сергей Иванович!
Далее шла область малопонятная… «Электронная самоиграющая шахматная доска представляет автомат, разработанный для узкоспециальной цели — шахматной игры…»
«…Вся аппаратура помещается под панелью доски и питается от малогабаритных батарей».
«…Все шестьдесят четыре клетки доски имеют контуры, настроенные на одинаковую частоту, которая может быть увеличена при постановке на нее фигуры одного цвета или уменьшена при постановке фигуры другого цвета. Пешка, конь, слон, ладья, ферзь и король имеют в основании различные количества меди (белые) или магнетита (черные)».
— Черт побери! — громко удивился мастер и еще раз рассмеялся. Напряжение, накопившееся за последние месяцы, разряжалось.
— Потише, товарищ, — предупредил его голос за спиной.
Мастер оглянулся: молодой экскурсовод поправлял очки на носу, похожем на электрический паяльник. — Вам, вероятно, неясно что-нибудь?
— Да, электроника вот не совсем ясна.
— А что именно? Попробую разъяснить.
— Я видал однажды машину для шахматной игры, но та была величиной с комнату… А эта вся спрятана под доской.
— Согласен. Такая машина работала на обычных радиодеталях. А эта вся скомпонована на базе самой миниатюрной радиотехники. Но представляет из себя ту же счетно-решающую шахматную машину, с таким же количеством элементов…
— Ну хорошо. Допустим, это та же машина. Как можно сложную психику человека-шахматиста заменить электроникой? Когда я смотрю на доску, передо мной возникают десятки возможных вариантов. А все это зависит еще и от следующего хода противника.
— Понимаете, — улыбнулся молодой человек, — все это, даже самое сложное человеческое, можно разложить на простейшие последовательные операции. А полупроводники за короткий отрезок времени пробуют десятки, тысячи вариантов. И изберут при данной ситуации лучший.
— Как игрок, я могу снять фигуру, но могу и не снимать ее.
— То есть вы можете рискнуть или не рискнуть, — осторожно вставил фразу экскурсовод, — автомат такого риска не допускает. Он играет наверняка.
Молодой человек открыл принципиальную схему автомата и стал водить пальцем по высокому столбцу длинных уравнений. Мастер задумался, прищурил правый глаз и постарался поскорее распрощаться.
По Москве он шел, широко улыбаясь, и нахмурился лишь в поезде, когда в голову пришло: каким же образом Дроздов узнавал, какой фигурой и куда следует ходить?
Позвонил он ему на другой день утром. Сергей Иванович долго смеялся, услышав о том, что разоблачен, и, наконец, ответил на вопрос:
— Это так примитивно, что даже и говорить совестно… Все клетки доски пронумерованы, а в том месте тумбочки, где я упирался коленом, выскакивает маленький штифт — электромагнит. Толкнет он меня три раза и четыре, а после паузы — четыре и шесть раз, я знаю, что коня, который стоит на тридцать четвертой клетке, надо переставить на сорок шестую.
— И все? — удивился гроссмейстер.
— Абсолютно! — рассмеялся Дроздов. — Конечно, в последней разработке этого убожества нет. Игроку, который тренируется, нет нужды скрывать тайну изобретения. Нужные клетки освещаются мягким светом изнутри сквозь прозрачную пластмассу шахматной доски. И все видят, какой ход правильный.
ШАХМАТИСТЫ И ИНЖЕНЕРЫ ОБСУЖДАЮТ РАССКАЗ
Василий СМЫСЛОВ,
гроссмейстер, экс-чемпион мира по шахматам
ШАХМАТЫ — ЭТО МУЗЫКА
Идея создания шахматного автомата не нова. Всеобщий восторг вызвал шахматный автомат венгерского изобретателя Кемпелена, который демонстрировался его изобретателем перед венской публикой в 1769 году. Механический игрок-турок, одетый в красочный восточный наряд, побеждал всех желающих сыграть с ним партию. Слава автомата быстро росла. В 1809 году в Шенбрунне он выиграл партию у Наполеона.
Однако это было чудом искусства механики, а не математики, ибо внутри ящика с шахматной доской прятался живой человек.
Долго сохранялся секрет изобретения. «Мозг» машины сменяли поочередно сильнейшие шахматисты, пока в 1834 году в одном из французских журналов не появилось разоблачение секрета.
В наши дни внимание писателей-фантастов вновь привлекает тема «мыслящей» машины, основанной на достижениях современной электронной техники.
Можно ли создать непобедимый шахматный автомат? По-моему, реальной угрозы гибели шахмат как игры не существует. Глубоким заблуждением было бы полагать, что мысль мастера отличается от игры любителя только более далеким расчетом. Пытаться на подобной основе строить автомат, умеющий считать на 20, 100 ходов вперед, бесполезно.
Да, действительно, главная задача в шахматной партии — заматовать неприятельского короля. Но пути к достижению этой заветной цели не лежат в области счетного анализа. Важно другое — определить, что именно считать: иными словами, уметь правильно оценивать положение в динамических процессах шахматной игры. Ход в шахматной партии отражает борьбу идей, связанных с осуществлением планов сражающихся сторон. Факторы, влияющие на оценку позиции, столь многообразны, что решение шахматиста выбрать тот или иной ход зависит от глубины его проникновения в тайны позиции, от творческой энергии в проведении плана.
Шахматы — не механическое передвижение фигур, подчиненное определенным законам, а глубоко человечная игра. Сущность шахмат ближе к искусству, чем к научной проблеме, их содержание нельзя исчерпать готовыми схемами.
Как из гаммы звуков возникают бесчисленные музыкальные образы, так неисчерпаемо богатство комбинаций, зарождающихся на 64 клетках шахматной доски. Шахматы притягательны своим творческим содержанием.
Применяя аналогию, могу сказать, что утверждение автора рассказа о превосходстве шахматного автомата над человеческим мозгом означает для меня то же, что для музыканта мысль о превосходстве возможной машинной музыки над бессмертными творениями Бетховена, Чайковского, Верди.
Ольга КАЦКОВА,
научный сотрудник Вычислительного центра АН СССР,
чемпионка Москвы по шахматам
БЕЗ ЦЕЙТНОТА И ПРОСЧЕТОВ
О оставить программу для игры в шахматы на электронной машине, безусловно, очень трудно. Нельзя ограничиться простым расчетом всех возможных вариантов. Ведь если на доске у каждого из играющих будет только по королю и ладье, то и тогда машине, делающей 10 тысяч операций в секунду, для расчета всех вариантов на 10 ходов вперед… понадобятся сотни триллионов лет!
Человек при игре в шахматы совсем не рассматривает все возможные ходы и ответы. Значит, и машину нужно «научить» играть более квалифицированно, отбрасывая лишние варианты. Она должна уметь определять «главный участок» борьбы, учитывая в то же время возможности, возникающие в ходе игры и на других участках шахматной доски.
Кроме того, рассматриваемые варианты шахматист почти всегда считает не до мата, а до какой-то позиции, которая его удовлетворяет. Значит, и машину нужно «научить» оценивать получающиеся при расчете позиции. Нужно задать ей правила, по которым она будет отбрасывать бесполезные ходы.
Но вот сформулировать эти правила совсем нелегко — ведь даже квалифицированные шахматисты часто ошибаются при оценке позиций. Задача математиков и шахматистов в первую очередь в том и заключается, чтобы найти все такие правила.
До сих пор никто серьезно этим не занимался. Но я не сомневаюсь, что, если математики и шахматисты объединят свои силы, машины смогут хорошо играть в шахматы. Кроме того, нельзя забывать, что возможности электронных машин очень велики. Можно будет «научить» машину анализировать сыгранные ею партии, находить ошибки и не повторять их, совершенствовать свою игру.
Когда-нибудь, без сомнения, машина сможет играть сильнее лучших шахматистов — она ведь будет избавлена от цейтнотов и просчетов.
Владимир ГУТОВСКИЙ,
инженер
МОЖЕТ БЫТЬ, НО НЕ БУДЕТ…
Создание электронной машины сильнее самых сильных шахматистов — в принципе разрешимая задача, хотя здесь есть две трудности.
Во-первых, в отличие от большинства игр шахматы являются игрой позиционной: играющий видит перед собою не просто две противостоящие друг другу группы фигур, а одну позицию, имеющую собственное, почти неповторимое математическое лицо. Окинув одним взглядом картину «боя», шахматист должен решить невероятно сложную задачу: по кратковременной и, как правило, невиданной им ранее позиции создать другую позицию, более отвечающую его интересам.
Особенность гроссмейстера в том и заключается, что он умеет мыслить не фигурами, а позициями. Для машины составлять программу позициями очень трудно. Потому гроссмейстер и вообще сильный шахматный игрок, конечно, сегодня ее обыграет, если не сделает ошибок.
Вторая трудность создания идеального шахматного автомата в том. что его надо заставить видеть позиции, так сказать, в их движении, в их смене, и чтобы смена вела строго к одному: к выигрышу. А добиться этого тоже невероятно сложно.
Можно ли отсюда сделать вывод, что идеальная шахматная машина невозможна в принципе, то есть что такая задача принципиально неразрешима? Этого я бы не сказал. Надо ответить так: пока математики не доказали ни одного из двух взаимоисключающих положений — «беспроигрышную шахматную машину построить можно», «беспроигрышную шахматную машину построить нельзя». Доказательство одного из этих положений — дело будущего.
Но дело не в этом. Главное в другом: в том, что, по моему глубокому убеждению, люди никогда и не будут пытаться строить непобедимую шахматную машину, во всяком случае для того, чтобы она убила игру. Шахматы — искусство и им останутся до скончания веков. Никогда и ничто не заменит творческое начало, в чем бы оно ни лежало: в музыкальной ли композиции, в архитектуре, в поэзии или в шахматах.
Резюмируя, повторяю: хотя эта задача — построение идеальной шахматной машины — в принципе разрешима, но ее, конечно, никогда не будут и пытаться решить, как не пытаются фотографией заменить живопись.
Примечания
1
Уже сейчас здание Импайр-стейт билдинг в Нью-Йорке даже без телевизионной башни имеет в высоту 380 метров.
(обратно)2
Установками искусственного климата в настоящее время обеспечиваются крупные сооружения общественного пользования и научные учреждения.
(обратно)3
Для Жюля Верна, как и для многих его современников, типично представление о будущем как об эпохе, в которой прежде всего все возрастет количественно, например население городов, или количественно усложнится. Качественные изменения прогресса представлять, естественно, труднее.
(обратно)4
Фонотелефот, то есть сочетание телефона и телевизора, уже существует и называется «видеофон». В ближайшем будущем надо ожидать широкого распространения этого аппарата.
(обратно)5
Во времена Жюля Верна и не подозревали о существовании таких источников энергии, как атомный или термоядерный, но именно на эти источники энергии (а может быть, и другие, новые) намекает автор.
(обратно)6
Любопытна форма, в которой Жюль Верн предвосхищает открытие эквивалентности между разными формами материи, то есть то, что в наше время называется единой теорией поля.
(обратно)7
И аккумуляторы (накопители энергии) и трансформаторы (преобразователи одних видов энергии в другие) — обычные приборы для нашего времени, хотя пока мы и не умеем применять их для всех видов энергии, как предсказывает автор, и с достаточно высокой эффективностью (напр., при аккумулировании механической энергии при помощи пружин).
(обратно)8
Мы уже умеем «производить электрическую энергию без помощи батарей и машин (например, термоэлектричество) и «свет — без огня и сгорания» (обыкновенные лампы накаливания, дневного света и т. д.).
(обратно)9
Жюль Верн оказался оптимистом. «Нью-Йорк Геральд» просуществовал не тридцать поколений, а немногим больше одного поколения. В 1942 году эта газета прекратила свое существование. Любопытно, что именно по заказу «газетного короля» Америки своего времени — Гордона Беннета Жюлем Верном и был написан «XXIX век».
(обратно)10
Количество звезд на флаге США совпадает с количеством штатов. Сейчас, после объявления штатом Аляски на американском флаге имеется 49 звезд. Жюль Верн намекает на захватническую политику США.
(обратно)11
Это значение средней продолжительности жизни человека почти уже достигнуто в СССР. По сравнению с дореволюционным временем эта величина увеличилась как раз примерно на те самые три десятка лет, которые, по Жюлю Верну, удалось прибавить человеку в результате… тысячи лет прогресса.
(обратно)12
Нет никакого сомнения в том, что обратную сторону Луны человечество увидит еще до окончания текущего столетия. Для этого не придется механически поворачивать Луну. Ее другую сторону на Земле увидят прежде всего при помощи электронных приборов с искусственных спутников.
(обратно)13
Опыты по созданию искусственных облаков проводятся в наше время в разных странах.
(обратно)14
Тонкий юмор Жюля Верна: территория города и крепости Гибралтар едва равна… пяти квадратным километрам.
(обратно)15
Наш «ТУ-104» летает со скоростью без малого вдвое большей, чем по Жюлю Верну аэрокары в 2889 году.
(обратно)16
Картина «Ангелюс» («Вечерняя молитва») французского художника-реалиста Ж. Ф. Милле (1814–1875) — одно из лучших его произведений.
(обратно)17
Цветная фотография была изобретена не в конце XX века, а в конце XIX века. Цветные фотографии лаборанта Физического института Московского университета И. Ф. Усагина демонстрировались на Международном конгрессе в Париже уже в 1900 году. Первые же попытки получения цветных фотографий относились и к еще более раннему периоду (английский физик Дж. Максвелл, 1861 г.). Но Жюль Верн о них, по-видимому, не знал.
(обратно)18
Грамм самого дорогого на земле металла — радия — ныне стоит значительно меньше: по ценам 1959 года «всего» 64–84 тысячи рублей (16–21 тысяча долларов).
(обратно)19
Из периодического закона Менделеева вытекает, что в природе в естественном состоянии может быть 92 элемента. Всего же (вместе с искусственными «трансурановыми», то есть более тяжелыми, чем уран, по-видимому, может существовать 118 элементов.
(обратно)20
То есть первовещество, праматерию — «элементон». См. наш журнал № 11 за 1958 год.
(обратно)21
В наше время, да и в будущем вряд ли будут заниматься этим, памятуя, что в одной Антарктике льдов столько, что если б их все растопили, уровень океанов на земле поднялся бы на десятки метров.
(обратно)22
Опыты по непродолжительному охлаждению в медицинских целях производятся в наши дни, и, по-видимому, этот метод будет находить себе постепенно широкое применение. Полное замораживание на много лет пока — область фантазии.
(обратно)23
Современная лампа холодного света.
(обратно)24
У врачей нашего времени есть электронные фонендоскопы, позволяющие выслушивать больного.
(обратно)25
В наше время делаются пересадки различных органов. А на животных производятся опыты даже по пересадке таких важнейших органов, как голова, легкие, сердце, почки и т. д.
(обратно)26
Вот кем и когда впервые была предсказана электронно-счетная машина!
(обратно)27
Отношение скорости тела к скорости звука.
(обратно)



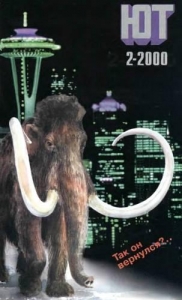




Комментарии к книге «Клуб любителей фантастики, 1959–1960», Журнал «Техника-Молодёжи»
Всего 0 комментариев