ИСКАТЕЛЬ 1961 № 1
*
Художники-оформители: В. Немухин, И В. Чернецов
Редакционная коллегия:
Б. А. Балашов, И. А. Ефремов, А. П. Казанцев,
В. С. Сапарин, Н. В. Томан, В. М. Чичков
Издательство ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
В ЭТОМ НОМЕРЕ:
КАКИЕ ОНИ, ЖИТЕЛИ КОСМОСА?
Размышления К. Э. Циолковского.
Из малоизвестных материалов
Новые произведения советских фантастов: Авиация будущего, КЧК — оружие мира. Необычная космическая экспедиция
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ «ПОБЕГ»
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ
Юмореска Я. Гашека. Публикуется впервые
Фантастический рассказ Александра Беляева
ПОЧЕМУ РИСКУЕТ ЖИЗНЬЮ ЖОЗЕ МЕФ-ФРЭ?
ТИГР НА УЛИЦАХ ДЕТРОЙТА.
ЧЕРЕЗ ГОРЯЩИЕ ПРЕРИИ
Дорогой читатель!
Книга, которую ты держишь в руках, предназначена для тех, кто любит фантастику и приключения, мечту и романтику, кто высоко ценит полет мысли и смелость человека. «Искатель» — новое издание, оно будет выходить как приложение к журналу «Вокруг света» раз в год.
Многие его страницы будут отданы произведениям советских и зарубежных писателей-фантастов. В одних рассказах тебя порадует смелый загляд в будущее, твердая вера в могущество человеческого разума, светлые мечты о близком коммунистическом завтра — это характерно для советских авторов и для литературы социалистических стран. Читая зарубежные произведения, ты порой встретишься с писателями, для которых будущее темно и неясно, но которые поднимают свой голос против уродливой капиталистической действительности, против войны. Эти писатели как бы говорят, что путь, который должно избрать человечество, один — путь мира и прогресса.
Заглянуть в будущее помогут тебе и видные советские ученые. Они расскажут о сегодняшних достижениях науки и перспективах развития разных ее областей: об освоении космоса и ракетном пассажирском транспорте будущего, о возможностях, что раскрывают перед человеком кибернетика, электроника, биология, химия и другие науки.
В «Искателе» ты найдешь и документальные приключенческие повести, рассказы бывалых людей, хронику героических поступков советского человека. В нашей жизни много смелых романтиков, отважных искателей; своими рассказами они, возможно, помогут тебе выбрать верную, интересную дорогу в жизни.
В разделе «Листая старые страницы» ты прочтешь некоторые забытые произведения фантастического и приключенческого жанров, увидишь, как жизнь порой обгоняет самые дерзновенные мечты писателей.
А каким бы тебе хотелось видеть «Искатель»? Какие произведения с удовольствием прочитал бы ты на его страницах?
Какие новые разделы были бы, по-твоему, необходимы в «Искателе»?
Ждем твоих советов и пожеланий, читатель!
Президент Академии наук СССР
А. Н. НЕСМЕЯНОВ:
Я приветствую выход в свет первой книги «Искателя». Мечта и фантазия — важное дело в науке, и фантастика, вдохновляющая на поиск, дерзание, внушающая веру в науку, необходима. Но все же нужна не всякая фантастика, а такая, которая сочетает мечту и реальность, с высоты полета вгдит землю.
Желаю «Искателю» искать такую фантастику.
Писатель МИХАИЛ ШОЛОХОВ:
Желаю «Искателю» счастливого пути, интересных находок и творческих удач!
Академик А. И. БЕРГ:
Поздравляю с рождением нового издания! Его название много обещает, поэтому и ко многому обязывает. Будить воображение юношей и девушек романтикой наших дней, развивать в них любовь к знаниям и мечту о подвиге — вот, по-моему, задачи нового приложения.
Искатель — всегда романтик, и это закономерно. Ведь неизведанное таит в себе источник вдохновения, обладает манящей силой. Но открыть этот источник можно, только хорошо зная предмет. Это знание и должен нести миллионам своих читателей «Искатель». На примерах достижений науки, культуры и техники «Искатель» поможет молодежи овладевать основным методом познания — материалистической диалектикой.
Что мне хотелось бы пожелать еще? Хотелось бы, чтобы на страницах «Искателя» публиковались новые, смелые идеи, лишь бы они не противоречили научной логике; чтобы наряду с заслуженными учеными выступала молодежь; чтобы даже самые, казалось бы, «специальные» статьи были написаны на высоком художественном уровне.
В добрый путь, «Искатель»!
Ученый, писатель-фантаст И. А. ЕФРЕМОВ:
Вновь созданный альманах — приложение к журналу «Вокруг света» получил удачное, на мой взгляд, название «Искатель».
Поиски нового, знаний и красоты — безусловно, важнейшее дело и одновременно ясная и чистая радость в духовной жизни человека. Каждый человек — прирожденный искатель. Однако далеко не каждому удавалось совершить восхождение — из-за несовершенства социальных условий — на этом прекрасном пути. Тысячелетиями искательские способности большинства людей растрачивались в однообразном и тяжелом труде.
В социалистическом обществе труд становится творческим, к тому же человек может все больше и больше времени уделять и «свободному поиску», получая радость сам и одновременно служа обществу.
Название альманаха «Искатель» отражает эту черту нашего общества. Но нужно, чтобы содержание и общее направление издания соответствовали названию. В старых приключенческих произведениях герой чаще всего сталкивается с особыми, необычными условиями, находится в ненормальном общественном окружении. Он попадает в дикие страны со свирепыми «туземцами» и прекрасными женщинами, отыскивает сокровища (денежные) на дне моря или в глуби пещер, охраняемых опять-таки злобными стражами, особо выделяется на войне, где ему сопутствует необыкновенная удача. Приключенческое произведение такого типа, как правило, посвящено человеку, который не может жить по обычным житейским меркам, среди обыкновенных людей.
Другие романы и повести нужны для воспитания человека коммунистического общества. Нужно искать свои путь развития познавательной и остросюжетной литературы. Здесь надо подняться не только выше обычных норм и стандартов, но совершить восхождение на качественно иную ступень, создавая литературу, воспитывающую искателей знания и красоты. Искателей, действующих в обыкновенной жизни, в нормальных условиях, но простирающих, свой поиск далеко за пределы обычного, в область науки и искусства, открывающих не тайны кладов и заколдованные тропы, а дороги научного исследования и художественного мастерства.
Показать им, искателям, все загадки мира — от недр атома и далеких галактик до глубин прошедших времен нашей планеты, будь то еще не расшифрованные письмена протоиндийской культуры или скелеты вымерших животных. Обозреть природу от сложнейших качеств живых организмов— радиолокации рыб, гравитационных компасов в мозгу птиц и удивительной химии внутри человека — до бездн сплошного мрака на дне океанов, где изредка появляются отпечатки чьих-то громадных следов. Увидеть все незабываемые краски, линии и формы искусств всех времен и народов.
Показать, что все зависит от любознательности человека, что каждый может вступить в неисчерпаемо интересный мир творческих поисков.
Нет почетнее задачи, как помогать человеку-искателю, и я от души желаю, чтобы новый альманах в этом трудном деле оправдал свое название.
СКВОЗЬ ЛУННЫЕ ТРУДНОСТИ… Беседа с доктором технических наук профессором К. П. Станюковичем
После того как в 1951 году из ракеты с высоты 110 километров был выброшен с парашютом и поныне здравствующий пес Цыганок, после того как в 1957 году в космос поднялась Лайка, а в 1960 из космоса вернулись Белка и Стрелка, последние сомнения отпали. Вопрос о том, может ли человек полететь на ракетном корабле в космос и вернуться на Землю, перестал быть научной проблемой.
Все дело стало сводиться к решению нескольких технических задач: требуются устройства для возвращения, имеющие, скажем, не 95, а 100 процентов надежности. Кроме того, пилот-астронавт должен располагаться в ракете с достаточным комфортом. Эти условия не пустяк. Труд огромного научно-технического коллектива, создающего советские межпланетные корабли, направлен не только на то, чтобы у ракет были несгораемые жаропрочные корпуса, отличное топливо, но чтобы не были забыты и многие «мелочи». Например, когда Белка и Стрелка приземлились, им ни секунды не пришлось лежать в контейнере вниз головой. Автоматическое устройство сразу же повернуло тележку с собаками в нормальное положение.
Существуют ракеты, разгоняющиеся столь быстро, что любое высокоорганизованное существо может быть в них раздавлено гигантским ускорением. Чтобы этого не случилось, ракету с экипажем надо разгонять постепенно. Но тут встает новая проблема: ракетный двигатель, работающий не на полную мощность, не экономичен. Он потратит слишком много топлива, если будет «ползти», а не мчаться.
Где же выход?
Как часто бывает, выход лежит где-то в «золотой середине».
Полеты летчиков-испытателей показали, что человеческий организм в состоянии переносить довольно долго 10-кратные перегрузки. Ракета разгоняется в этом случае с достаточно экономичной быстротой, с такой быстротой, что тело человека весит около 800 килограммов. Становится тяжелее и кровь в сосудах. Вместо 5 килограммов она весит 50.
Когда разгон ракеты прекращается и движение становится равномерным, наступает состояние полной невесомости. Живой организм теряет даже однократную нагрузку, которую он имел на Земле. И кровь, которая несколько секунд назад по весу могла спорить с ртутью, теперь становится легче водорода.
Конечно, подготавливая полет космонавта, ученые не могли не задуматься над тем, выдержит ли наш организм, привыкший к земному тяготению, столь резкие скачки. Что, если кровь, которая от сердца к ногам шла в какой-то степени «самотеком», в состоянии невесомости вдруг остановится?
К счастью, кровообращение, грубо говоря, только, на одну четверть зависит от веса, от силы тяжести, зато на три четверти — от мускульной энергии сердца. А эта энергия постоянна. Опыты с животными подтвердили, что кровообращение сохраняется.
Выдержит ли нервная система человека длительное состояние невесомости, отсутствие привычных, земных ощущений? Ведь полет до Луны будет продолжаться около трех суток, а до Марса — почти месяц.
Опыты показали, что собаки, сильно возбуждавшиеся от гула двигателей, от сильной вибрации, постепенно успокаивались, когда наступало состояние невесомости. Правда, на то, чтобы сориентироваться, привыкнуть к новым ощущениям, у них уходило время. Человек сможет сориентироваться гораздо быстрее, потому что он знает наперед, чего следует ждать. Он способен психологически подготовить себя к новому состоянию. Бесспорно, поможет ему и длительная тренировка перед полетом на Земле.
Мы еще ни слова не сказали о давлении воздуха в кабине, а это один из важнейших вопросов полета. Подразумевается, что все обойдется благополучно, что целостность кабины не будет нарушена.
Ну, а если?..
Если метеоритный «снаряд» или «пуля» все же пробьет стенку кабины? Что тогда?
Тогда автоматически включится аварийная система. Как только давление воздуха в кабине упадет, сработает прибор, связанный со скафандром астронавта и с аварийным баллоном для дыхания. Скафандр мгновенно наполнится сжатым воздухом и сдавит со всех сторон тело человека, заменив привычное давление атмосферы. Если этого не сделать, то в космическом вакууме, где давление практически отсутствует, человек окажется в положении рыбы, поднятой с больших глубин на поверхность моря… Надежно заделав пробоину и проверив, нет ли утечки, пилот отключит аварийные приборы. Снова станет свободным скафандр…
Теперь обратимся к моменту, когда первый человек достигнет Луны. Это будет еще не скоро. Ученые детально изучат Луну с птичьего полета, опустят на нее контейнер с автоматической аппаратурой, будут, вероятно, уже рассматривать в телевизор Марс и Венеру, к которым доберутся автоматические ракеты, а Луна еще некоторое время останется «неприкасаемой» для ноги человека. Причина одна: на Луне трудно собрать ракету для обратного полета на Землю. Но и эта трудность будет преодолена наукой и техникой.
И тогда-то в лунном мире станет властелином гость с Земли. Но он не отправится немедленно по прибытии разгуливать по своим новым владениям. Зарыться поглубже в грунт — будет его первой заботой. Только так человек избавит себя от опасности смертоносных космических излучений и от риска попасть под крупный метеорит, который обычно взрывается, как бомба.
Работать физически на Луне будет легче, чем на Земле. Ведь сила притяжения здесь в 6 раз меньше. Значит, человек в лунном мире станет в шесть раз сильнее. Но где человек заложит свое первое жилье на Луне? Вероятнее всего, оно будет расположено по соседству с одной из газовых скважин.
Газ на Луне? Но ведь здесь пет ни воды, ни газов, ни! жизни… Так ли? В ночь со 2 на 3 ноября 1938 года пулковский астроном Н. А. Козырев обнаружил с помощью фотоснимков, что в самом центре кратера Альфонс что-то светится. Что могло светиться на давно остывшей Луне? Вулкан? Многим журналистам хотелось, чтобы это было именно Так, и они поспешили сообщить о вулкане читателям. Но ученые объяснили это свечение иначе.
Спектральный анализ показал, что из расщелин центральной горки Альфонса некоторое время вырывались облака СО — окиси углерода. На Луне произошло то же, что происходит каждый день на Земле в газоразрядных, газосветных трубках. Редкие молекулы газа, рассеиваясь в вакууме, попали под «обстрел» частичек, испускаемых Солнцем, и начали светиться.
Открытие Н. А. Козырева нисколько не утратило своей важности, хотя светилась не огненная лава, а холодные газы. Ведь с открытием на Луне источников газа во многом упрощается и проблема завоевания человеком этого небесного тела.
Запуски советских лунников, исследования поверхности Луны укрепили ученых в мысли, что Земля и Луна — родные «сестры-двойняшки», планеты одного возраста, сложенные из одинаковых горных пород.
Значит, многое необходимое для жизни человек сможет добывать из лунных недр. Больше того: газы местами сами выходят на поверхность Луны. Выделяются окись углерода и, по-видимому, водород и азот.
Значит, удастся выделить кислород, а затем получить и «лунную» воду, соединяя кислород с водородом. Вполне возможно, что первое время активными помощниками человека в добыче кислорода будут растения, взятые с Земли. «Зеленые друзья» помогут астронавтам преодолевать лунные трудности. Но еще неизвестно, так ли уж безжизненна Луна. Может быть, в глубоких расселинах, спрятавшись от прямых палящих лучей Солнца и от холода лунной ночи, гнездится, питается редкими газовыми «родниками» робкая жизнь — бактерии, водоросли… Какой бы она ни была, люди будут рады ей.
Литературная запись беседы С. ГУЩЕВАСНИМКИ РАССКАЗЫВАЮТ
К. Э. Циолковский ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА В КОСМОСЕ
К. Э. Циолковский любил и умел мечтать. Свои мысли о покорении вселенной, о межпланетных путешествиях он нередко облекал в форму научно-фантастических повестей, рассказов, статей. Часто, начав писать научно-фантастические произведения, Циолковский непосредственно переходил к разработке сложных научных проблем. Константину Эдуардовичу принадлежат слова: «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль».
Ученого глубоко занимали вопросы биологии будущего, то есть биологии того времени, когда человечество практически приступит к завоеванию околосолнечного, а затем и межзвездных пространств. Этой проблеме Циолковский посвятил несколько работ. Одну из них — «Живые существа в космосе» — мы публикуем с некоторыми сокращениями ниже.
Эта малоизвестная читателям статья и ряд других не менее интересных материалов в скором времени выйдут отдельной книгой в издательстве ~ Академии наук СССР.
Естественно, что время и быстро развивающаяся наука внесли свои поправки в работу, написанную более 30 лет назад.
Иначе, чем раньше, объясняют ученые причины возникновения и пути распространения жизни в космосе; более определенным стало мнение исследователей по вопросам: будет ли остывать Солнце, все ли вещества годятся для создания живых организмов? Довольно спорным кажется высказывание Циолковского и о том, что для существования органической жизни совсем не обязательна атмосфера.
Но все это ни в коей мере не может снизить огромного значения идей Константина Эдуардовича Циолковского, развиваемых в этой статье. Могут ли на других планетах нашей и иных солнечных систем обитать живые организмы? Какие они? Нисколько — в силу других, чем на Земле, физических условий — они должны отличаться от человека и животных нашей планеты? Как будет проходить эволюция человека, шагнувшего в космос и приспособляющегося к новым физическим условиям?
Циолковский дает ответы на эти интереснейшие, актуальные сегодня вопросы.
…Все вещества годятся для создания организмов при подходящих условиях. Нужно думать, что на каждой планете, сообразно веществам ее поверхности, удалению от Солнца, свойствам последнего, температуре планеты и другим условиям, преобладают в организмах самые разнообразные вещества.
Животное состоит из твердых тел и жидких. Но ведь не одна вода жидка. Напротив, на удаленных от Солнца планетах — вообще при низких температурах — вода есть минерал, а преобладающие жидкие вещества имеют другой состав; например, жидкая углекислота, разные масла, спирты, углеводороды, углеводы, жидкие газы и т. д. Они бы и вошли в состав морей и организмов. Также на близких к солнцам планетах наши твердые тела были бы там жидкими и могли бы войти в состав животных.
Атмосфера других планет также может иметь иной состав. На холодных планетах преобладал бы водород, на близких к Солнцу — водяной пар или другие жидкости, обращенные в газы благодаря теплу.
Из этого сделаем новый вывод: на холодных и на жарких планетах возможны существа, составленные из тех морей, атмосфер и почв, которые существуют на планетах.
Действительно ли для обильного развития жизни нужна температура среды, колеблющаяся около 25°Ц? Мы видели, что ни высокая, ни низкая температура не лишает планеты океанов и атмосфер — только другого состава, а следовательно, не лишает и животных. Последние будут составлены из жидкостей и газов, подходящих к средней температуре Данной планеты. Значит, самая разнообразная температура планет не препятствует богатому развитию на них жизни.
…Температура тела высших существ Земли близка к 37°Ц. Почему это? Родина жизни — экватор. В водах его началась жизнь. (Причина — равномерное тепло и обилие солнечной энергии.)
Там средняя температура воды колебалась около 25°Ц. Это и есть температура первых животных, разгар жизни которых, ее яркие проявления соответствовали именно этой температуре. Животные принимали температуру среды, выносили и низкую и высокую температуру, но чувствовали себя хорошо только при средней температуре среды.
Благодаря слабой энергии жизни первых существ их температура была лишь немного выше температуры среды.
Но явились теплокровные с могучими проявлениями жизни. Вследствие этого (теплоты горения или химических процессов внутри животного) температура их тела сильно повысилась в сравнении со средней температурой среды. Итак, температуры животных всегда несколько выше средней температуры планеты. А так как температура планет может быть самая разнообразная, то и температура животных также. Одни очень горячи, другие холодны, как лед, — с точки зрения человека. Я не говорю про те случаи, когда температура среды несколько выше температуры животного. В этом случае теплокровным грозит смерть, так как мозг (нагретый) прекращает свою деятельность. Но тогда кожа или легкие испаряют воду, поглощается тепло от тела и мозг сохраняет нормальную температуру. Для жизни еще нужно и некоторое постоянство температуры. Резкое колебание ее гибельно для всякого организма. Так, на немногих планетах, всегда обращенных одной стороной к Солнцу, температура колеблется от 250° холода до 150° и более тепла.
Как тут жить? Как бы ни была велика разность температуры на внешней части планеты, это еще не исключает жизни, так как внутренность планеты сохраняет постоянную температуру. Животные, роя норы, в них и найдут спасение как от чрезмерной жары, так и от сильного холода. Однако положение низших существ тут беспомощно. Начало развития жизни при этих резких температурных контрастах затруднительно. Всему, конечно, есть пределы, также и выносливости жизни. Местами, неудобными для жизни низших существ, могут завладеть сознательные, с высшим развитием знания и техники.
Необходимо ли Солнце для существования животных? Энергия солнечных лучей очень распространена во Вселенной: в одном Эфирном острове насчитывают до миллиона миллиардов молодых и старых солнц, испускающих неустанно свои лучи. Понятно, что большинство животных существует солнечной энергией. Но все же это существование может совершаться силою другой какой-нибудь энергии. Так, солнца временно погасают, удаленные планеты почти не имеют солнечных лучей, но это еще не угашает сразу их жизни. Высокая температура и химическая энергия еще долго сохраняются внутри холодных с поверхности небесных тел. И это дает возможность еще долго сохранять и продолжать жизнь организмов. Только нет особенной надобности питаться этими жалкими остатками небесной энергии, раз есть ее сколько угодно в виде пылающих солнц. Теоретически всякая энергия может поддерживать жизнь, например энергия движения и вращения планет, сила тяготения, тепла, атомная энергия и другие ее виды. Каким образом — в это входить мы не будем.
Важное значение имеет мозг животного. Может ли он увеличиться при том же росте и насколько? Конечно, большее значение имеет строение мозга, но и объем мозга — качество хорошее, увеличивая память и умственные силы. Раз мы можем носить тяжелые грузы, то почему же не можем носить более массивную голову? Механика показывает, что объем мозга без всякого ущерба может увеличиться раза в два, три.
Но величина мозга может также возрастать вместе с пропорциональным увеличением всего животного. На Земле увеличению роста препятствует сила тяжести. Механика строго доказывает, что масса мозга сходных по форме (подобных) животных пропорциональна кубу уменьшения силы тяжести, которой подвергаются животные. Так, на Марсе и Меркурии, где тяжесть в два раза меньше, чем на Земле, объем мозга мог бы быть раз в 8 больше, чем у нас, — конечно, для такой же внешней формы животных. Рост этих существ был бы в два раза больше, чем на Земле. На Луне рост был бы в 16 раз больше, а масса мозга в 216 раз.
Этот вывод механики не относится к водным существам, ибо тяжесть их уничтожается противодействием воды. В воде могли бы появиться животные с большим мозгом. Но в воде невозможна индустрия (нельзя, разводить огня), мало кислорода, солнечной энергии (света), и потому там жизнь не пошла и не может пойти далеко.
Когда человек поселится в искусственных жилищах, в эфире, т. е. когда уйдет от Земли, победив ее тяжесть, то там, в эфире, между планетами не будет препятствия для объемного развития мозга, если не считать сложности большого мозга и питающих его органов, которые, конечно, положат предел и развитию мозговой массы.
Пока же человек на Земле (часть человечества обязательно останется на Земле), до тех пор объем мозга может увеличиться только в 2–3 раза. Будет некрасиво, но ко всему можно привыкнуть. Красота — вещь условная и субъективная.
Необходима ли человеку тяжесть, и именно такая, как на Земле? При подобии, или наружном сходстве организмов (при разных размерах или росте), тяжесть подавляет рост тем более, чем она сильнее. Значит, она же уменьшает и объем мозга, а следовательно, и умственные силы. Выходит, что она вредна.
Что полное устранение тяжести нисколько не мешает жизни, это видно из того, например, что водные животные, где тяжесть (или весомость) уничтожается обратным давлением жидкости, нисколько не страдают. Напротив, нигде размеры организмов не достигают такой большой величины, как в океанах. Кит на суше беспомощен, а в воде резвится, как котенок. Животное, поставленное вверх ногами, не умирает и не страдает, хотя тяжесть переменяется на обратную. Тем более оно не страдает в лежачем положении, когда давление столба крови уменьшается в несколько раз. Человек и в этом положении может совершать глотательные, пищеварительные и другие движения. Ванны, уничтожая тяжесть больных, во многих случаях их облегчают, помимо лекарственного (терапевтического) действия. Ослабленная тяжесть должна уменьшить массу органов передвижения (ног, крыльев и проч.), если не увеличивает рост организма. На планетах с меньшею тяжестью должны наблюдаться следующие явления:
1) Чем меньше радиус планеты или ее тяжесть, тем больше рост организма.
2) Если нет этого, то органы движения (ноги и проч.) становятся очень слабы или тонки.
3) Если нет этого, то увеличиваются прыжки животных или скорость их движения.
4) Может быть комбинация всех трех случаев, т. е. умеренное увеличение роста, умеренное ослабление ножных или грудных мускулов, умеренное усиление прыжков и других движений. Могут быть самые разнообразные сочетания трех крайних случаев.
На больших планетах с большой тяжестью получится обратное.
Но скажут: как можно обойтись без тяжести — испарятся океаны, разлетится атмосфера, и планета останется без того, без чего невозможна жизнь.
Разберем по порядку. Можно ли обойтись без воды и воздуха и в какой степени они необходимы? Человек легко приноравливается к высотам, где воздуха и кислорода вдвое меньше. Есть такие горные селения. Дети, рожденные там, переносят превосходно недостаток кислорода (но путешественники тяготятся). Здоровые люди некоторое время переносят вчетверо уменьшенное количество кислорода. Если легкие будут сквозные, то они удовлетворятся еще меньшим объемом живительного газа. Рыбы вместо воздуха как бы дышат водой, им пропитанной. Вода эта струится в одном направлении (изо рта к жаберным щелям), как кровь и пища высших животных. В воде содержится кислорода в 60 раз меньше, чем в атмосфере, однако это рыбам не мешает жить.
Но как же обойтись без атмосферного давления? Отсутствие давления воздуха или другой среды служит причиной кровотечений из носу, горла и других органов. Это понятно: крепость кровеносных трубок (сосудов) отчасти поддерживается внешним давлением атмосферы. Нет его, или оно ослабляется, и вот более слабые сосуды носа и горла разрываются от напора крови. Человек и высшие животные не приспособлены к слабому давлению окружающей среды. Если же в таковой рождаются, живут и вырастают люди, то вследствие замеченной (Ламарк) способности организмов приспособляться к новым условиям их кровеносные сосуды становятся прочнее, и животные без вреда будут существовать в разреженной среде.
В разреженной среде должно усилиться испарение воды в потовых железах и легких. Но некоторые животные (собака) совсем не испаряют воды кожей. Стало быть, возможен организм, не теряющий воды через потение. Есть такие же и растения (некоторые кактусы). Что же выходит? Возможны существа, нисколько не страдающие от уничтожения внешнего давления. Правда, если таковы и легкие, то животные неспособны будут регулировать температуру своего тела и погибнут. Но если она поддерживается постоянной, то этой опасности уже не будет.
Мы видим теперь, что животное может обойтись без тяжести и при малом количестве газов и их давления.
Да необходим ли и газообразный кислород или другая газообразная пища? Совсем нет. Кислород может животным приниматься внутрь как пища, в виде его непрочных соединений в жидком или твердом виде. Таковых известно в химии множество, и их откроет еще очень много химия будущего.
Нужна ли даже и пища? Не могут ли быть существа, не принимающие пищу, т. е. не поглощающие газы, воду, растения, мясо и соли? Правда, растения могут питаться одними минеральными веществами. Но все же эти вещества можем принимать за пищу организмов. Также и атмосфера принимает участие в этом питании, давая то углекислый газ, то кислород, то азот (больше при посредстве бактерий).
Есть и животные, подобные растениям. Они также могут питаться неорганическими веществами. Это животно-растения (зоофиты). Они содержат в своем теле зеленые крупинки (хлорофилл), при посредстве которых и участии солнечного света разлагают углекислый газ воздуха на углерод и кислород. Кислород выделяется в воздух, а углерод с другими неорганическими веществами образует сахар, крахмал, клетчатку (углеводы), азотистые и другие органические ткани, составляющие тело существа.
Отсюда мы только видим, что как растения, так и животные могут существовать с помощью одной неорганической пищи при наличии солнечной энергии. Все же тут принимает участие атмосфера, вода и земная почва. Возможна ли жизнь без постоянного участия этих элементов Земли, т. е. без участия окружающей среды?
Представим себе совершенно изолированное особенное животное. В него не проникают ни газы, ни жидкости, ни другие вещества. Из него также они не могут и удалиться. Животное пронизывается только лучами света. Встречая тут хлорофилл, растворенный в крови углекислый газ и другие продукты распада тканей животного, они разлагают их, соединяют и в результате дают кислород, крахмал, сахар, разные азотистые и другие питательные материалы.
Таким образом, наше животное получает все необходимое для жизни. Пища (подразумевается то, что Образовано в теле действием солнечных лучей) и кислород претворяются в ткани животного. Но последние опять разлагаются на углекислый газ и другие продукты распада (мочевину, аммиак и проч.). Пусть все эти отбросы не выкидываются наружу, а поступают в кровь и остаются в организме. Солнечные лучи опять относятся к ним, как в растениях к газообразному и жидкому удобрению, т. е. преобразовывают их в кислород и питательные вещества, которые пополняют убыль непрерывно работающих частей тела: мозга, мускулов и проч. Этот круговорот совершается вечно, пока самое животное не будет разрушено.
Что такое существо возможно, видим из следующего. Вообразим кварцевый (или стеклянный) прозрачный шар, пронизываемый лучами Солнца. В нем немного почвы, воды, газов, растений и животных. Одним словом, это подобие громадного земного шара, только в крохотном виде. Как в нем, так и на какой-нибудь планете определенное изолированное количество материи. Как в той, так и в другой совершается один и тот же известный круговорот вещества. Наш стеклянный шар и представляет подобие гипотетического существа, обходящегося неизменным количеством материи и вечно живущего. Животные в шаре если и умирают, то на место их рождаются новые, питающиеся растениями В общем стеклянный шар бессмертен, как бессмертна Земля.
Но спрашивается, как же может возникнуть такое животное, масса которого остается постоянной? Оно живет, мыслит, двигается, допустим даже, что не умирает. Но как же оно само родится и рождает? Можно вообразить, что в первой стадии своей жизни оно развивается, как и земные животные: получается из яйцеклетки, последняя развивается в подходящей питательной среде (может быть, и при участии солнечной энергии), растет, дышит, достигает максимального роста, оплодотворяет или производит яйца, затем понемногу преобразуется (как гусеница в куколку и бабочку), теряет потовые железы, легкие, органы пищеварения, покрывается непроницаемой кожей, одним словом, изолируется от окружающей среды и становится тем необыкновенным существом, которое мы описали. Оно живет только солнечными лучами, не изменяется в массе, но продолжает мыслить и жить.
Колыбель таковых существ, конечно, планета, подобная Земле, т. е. с атмосферой и океанами из каких-либо газов и жидкостей. Но такое сформированное существо уже может обитать и в пустоте, в эфире, даже без тяжести, лишь была бы лучистая энергия. К счастью, недостатка в ней нет. Миллионы миллиардов бездетных и семейных солнц, молодых и старых, неустанно ее испускают многие триллионы лет. Когда же погасают или ослабевают, то заменяются новыми. Этой обильной лучистой энергией не могут не пользоваться подобные существа. Они окружают все солнца, даже не имеющие планет, и пользуются этой энергией, чтобы жить и мыслить. Для чего-нибудь должна же существовать энергия звезд!
Мы говорили о существах, подобных земным растениям и животным. Мы не выходим из пределов известной науки, но наше воображение все же дало то, чего нет еще на Земле, но что возможно с точки зрения нашего узкого (так называемого научного) понимания вещества.
Н. Шпанов УРАГАН
Рисунки Г. ХРАПАКА
Проблеме мира, мирного сосуществования — этому вопросу вопросов современности посвящен новый роман Н. Шпанова «Ураган», главы из которого с некоторыми сокращениями печатаются ниже.
Фантастика и реальность тесно переплетаются в произведении Н. Шпанова. Самолеты, достигающие высоты 100 км, катализатор КЧК. обезвреживающий атомные и водородные бомбы, — это пока что из области фантастики. Но борьба советских летчиков с воздушными шпионами напоминает о последних событиях международной жизни, о бесславных провокациях поджигателей войны.
ТАЛИСМАН
— Мертвая петля, мой мальчик?
— Си ль ву плэ!
— Итак: раз, два… три!
Андрей видит, как два истребителя входят в петлю. Отчетливо видит в одном из «Яков» себя. И не только видит — он чувствует, воспринимает все ощущения и мысли этою второго Андрея; ясно осязает его ладонью ручку управления.
Андрей видит второго себя, но не видит Анри, летящего на другом «Яке». Только отчетливо слышит в шлемофоне его веселое:
— Еще разок, старина!
— Давай, давай!
— Раз, два… три!
Напряженные до визга голоса моторов — и вторая петля.
Снова голос Анри. Француз предлагает сделать вираж — машина над машиной. «Як» Анри лезет в небо, встает торчком и почти упирается левой консолью в правую плоскость самолета Андрея. Андрею сдается, что он чувствует вибрацию не только своей машины, но и самолета Анри. Ему кажется, что лента — это живой нерв, связывающий оба самолета в один.
Отвратительно жмет ларингофон — невозможно дышать. Туман, вязкий как кисель, обволакивает сознание. Движения затруднены. Тугими становятся ручка, педали. Не Андрей управляет «яком», а самолет несет его. Но ведь они — Андрей и Анри — связаны. Оборвать ленту? Позор!
…Как давит ларингофон!
Андрей слышит свой хрип: ларингофон душит его.
Скорее распустить ремешок…
Андрей проснулся, и его первым движением было расстегнуть воротничок: что за глупость — ложиться с застегнутым воротом!
Не хочется открывать глаза, и сон переходит в воспоминание. 1944 год. Эскадрилья «Лотарингия». Он, Андрей Черных, советский летчик, — офицер для связи. Праздник по случаю очередной победы…
В голове у Андрея весело шумело, когда вошли гости. Первым из них представили майора Денниса Барнса — командира «челночного» «боинга»[1]. Невысокий сухой человек с некрасивым, но чем-то располагающим к себе усталым лицом. Барнс держался очень скромно и скоро отошел в сторонку, словно желая спрятаться за спины своих спутников.
Коренастый седеющий блондин представился сам:
— Эдуард Грили.
Англичанин, в мирное время летчик-спортсмен, прилетел вторым пилотом на «боинге».
С ними Леслав Галич — бывший летчик, теперь журналист. У этого на рукаве сине-серого кителя нашивка «Польша».
— Не теряйте времени, господа, — шутливо пригласил он всех и наполнил стакан командира эскадрильи Анри, — завтра я уже не буду вашим барменом — тороплюсь: нужно поспешить в Варшаву, прежде чем эти скоты гитлеровцы задушат восстание. Я должен видеть ее. — И с неожиданной задумчивостью Галич повторил: — Видеть Варшаву…
Улыбаясь, Эдуард Грили заметил:
— Галич никак не может решить: следует ли называть родной город Варшау, как его называют оккупанты, или можно уже звать Варшавой.
— Он что же, не уверен в финале? — задиристо спросил Андрей.
— Что называть финалом?
— Когда поднимается такой ветер, его не остановить.
— О-о! — Грили глянул на Андрея. — Я вам завидую. Мне не все так ясно.
На поддержку Андрею пришел Анри:
— Мой друг Андре прав.
— И, значит, все мельницы станут вертеться в другую сторону? — с иронией заметил Грили.
— Те, на которые дуем мы, во всяком случае! — сказал Анри.
— Вы так же думаете, Лесс? — спросил Грили.
— Что касается моей, то никакой черт не заставит ее вертеться против моей воли. — Галич сверкнул белыми зубами: — Только туда, куда хочу я! Выпьем?!
Выпили. Если бы не вино, быть может, и Анри — всегда выдержанный и строгий майор Ренэ Анри — в ответ на просьбу Галича удивить читателей его газеты не сказал бы Андрею:
— Покажем гостям что-нибудь такое… Советско-французская дружба?! Есть идея: связываем два самолета — и немножко пилотажа. Именно сейчас, здесь. А если прилетят «мессершмитты» — деремся вместе. А?
— Согласен.
— Нам нужна такая, — сказал Анри и показал на ленту, вплетенную в волосы официантки, — только подлинней.
Добавили еще одну. Связали.
— Коротковато, а? — забеспокоился Анри.
— Сойдет! — сказал Андрей.
И вот — петля, «силь ву плэ», посадка.
Вот тут-то Лесс и придумал «талисман дружбы».
— Вы двое стоите того, чтобы разломить талисман. Когда-нибудь, когда вы уже забудете обо всем, что тут было, узнаете друг друга по этим кусочкам. Приставите их один к другому, обниметесь…
— А почему только они двое? — спросил Барнс. — Уж загадывать встречу, так всем вместе.
— В шесть часов вечера после войны?! — крикнул Андрей.
— После этой, последней войны, — поправил Грили.
— Ну, насчет последней… — усмехнулся Барнс.
— Непременно последней! — настаивал ГриЛи. — Люди придумают сыворотку, убивающую в мозгу клетку войны, и просто перестанут понимать, что такое война…
— Уж я-то знаю фашистов, — авторитетно заявил Лесс. — Они немедленно изобретут антисыворотку и будут прививать ее при рождении.
— Я, как социалист… — начал было Грили, но его перебил Анри:
— Социалист его величества?..
Пропустив колкость мимо ушей, Грили настойчиво продолжал свое:
— Все мы… вы, вы… все, кроме мистера Черных, пришли на войну с почтовых, пассажирских, транспортных машин, и все мы должны на них вернуться. И не только мы четверо, но и вы, мистер Черных, после этой войны снимете погоны и будете летать на линии Москва — Париж — Лондон…
Опять заспорили о сроках, о месте встречи, стали искать, что бы разломить на пять частей. Галич потянул торчавшую из кармана Андреевой гимнастерки открытку:
— Вот разорвем…
И разорвали. И выпили на прощанье.
А наутро — рассвирепевший комдив, жестокий разнос за «фокусы в воздухе»…
Как давно все это было…
ИСПЫТАНИЕ
Андрей шел по исполосованному бетоном полю аэродрома и думал о том, что предстоит сегодня. Сначала, как обычно, врач тщательно проверит его сердце, дыхание, реакции — все, что должно быть в исправности у пилота вообще и у пилота гиперзвуковой машины в особенности. Подчас такие проверки кажутся лишними. Но Андрей понимал: за все происходящее с человеком в полете врач несет ответственность не меньшую, нежели инженеры, механики, аэрологи. Ведь вместе с ракетопланом тело Андрея испытает нагрузки настоящего артиллерийского снаряда! Нужно иметь поистине железный организм, чтобы вынести переход к полету со скоростью в шесть, семь, девять раз быстрее звука. Когда летчиков начинают тренировать, то всего несколько секунд «провесив» на какую-нибудь полутонну больше собственного веса, они перестают подчас соображать, видеть, теряют способность контролировать свои движения. Артериальное давление крови оказывается недостаточным для снабжения мозга кислородом.
Впрочем, куда больше собственного самочувствия Андрея заботит сейчас работа катализатора КЧК. Ведь испытания КЧК — главное задание сегодняшнего полета. Когда МАК приблизится к блиндажу с условной атомной «бомбой», электронное устройство приведет в действие КЧК, и урановый заряд «бомбы» превратится в безобидный свинец. Эта операция будет повторена, при прохождении над второй условной «бомбой» — водородной. Ее заряд станет инертным гелием, и заключенная в ней потенциальная энергия взрыва будет обезврежена.
Все это произойдет на шестисоткилометровой трассе заозерского полигона, хорошо знакомого Андрею. На горизонтальном отрезке полета на высоте ста километров Андрей должен произвести выравнивание примерно в семь-восемь минут. По окончании операции надо вернуть МАК в плотные слои атмосферы и совершить посадку на скорости почти в четыреста километров в час. При воспоминании о посадке Андрей приостановился. На любом самолете посадка — самое трудное для летчика, а на МАКе… Ошибка глазомера в несколько метров, ручка, взятая на себя с опозданием в сотую долю секунды, — и вместо Андрея встречающие увидят только облако пыли, взметенной словно разрывом снаряда. Потом будут гадать, кто виноват — конструкторы, инженеры-эксплуатационники, врачи или сам пилот?
Пилот?! Просто смешно, как плохо Андрей разбирается в «устройстве» собственного тела, — а вот МАКа он знает как свои пять пальцев! Тупорылый, со скошенным лбом, МАК некрасив. Едва намеченные, словно недоразвитые, отростки крыльев не внушают доверия. Трудно представить, что на этих тонких как бритва плавниках на краю плотных слоев атмосферы может держаться самолет. Глаз летчика, десятилетиями воспитывавшийся на плавных формах, с неудовольствием задерживается на всем угловатом, что торчит из корпуса МАКа. Крылья, хвостовое оперение — все кажется повернутым задом наперед.
Обрубленные консоли плоскостей возбуждают сомнение в естественности конструкции, смахивающей на человека со ступнями, повернутыми пальцами назад. Летчик не сразу свыкается с тем, что аэродинамика гиперзвукового полета за пределами плотной атмосферы опрокинула традиционные представления об устойчивости и управляемости. Угловатый подфюзеляжный киль окончательно лишает машину привычной стройности. Куцые стальные лыжи, не подобранные внутрь фюзеляжа, торчат, как хвост доисторического ящера.
То, что творится в металлическом нутре машины, так же непривычно для летчика дозвуковых и даже звуковых скоростей. Температура встала на пути самолета. На смену «звуковому барьеру» пришел «барьер аэродинамического нагрева». Момент возвращения самолета в плотную атмосферу все еще остается самым опасным.
Как ни была теперь отработана техника ракетоплана и методика его вождения, почти каждый вылет открывал что-нибудь новое в поведении машины и человека в ней. Перед каждым полетом об этом поневоле думалось как о чем-то, с чем нужно справиться, что нужно преодолеть. Андрей был человеком. Его психика оставалась психикой существа, не приспособленного природой к перенесению такого рода ощущении, существа, вынужденного искусственно воспитывать в себе выносливость, необходимую для гиперзвуковой авиации.
Андрей всегда относился к самолету с уважением. Это было уважение к норовистому коню — опасному, но благородному. Впрочем, иногда примешивалось и отчетливое ощущение неприязни. Оно рождалось из хмурой затаенности МАКа. Эго случалось тогда, когда Андрей чувствовал себя не в своей тарелке — был раздражен, устал или попросту не выспался. Если в такие дни предстоял полет, Андрей не раз думал, что он не должен позволить неприязни перерасти в отвращение. Потому что за отвращением, как за тонкой завесой, готовой вот-вот прорваться, очень часто таилась отвратительная рожа страха. Почувствовав страх, Андрей мог потерять себя. А потерять себя на секунду значило потерять власть над машиной навсегда.
Когда же небо отражалось в толстых стеклах фонаря, они становились голубыми. И тогда казалось, что МАК, мрачное чудовище, выкрашенное с головы до пят в черную краску, смеется. Одними голубыми глазами, а все-таки смеется. Ну, а с веселым чудовищем можно и сговориться…
МАК подняли из подземного ангара, и он стоял на стартовой платформе. Андрей спросил инженера:
— Как?
Тот молча кивнул головой — мол, все в порядке. Андрей положил ладонь на крыло. Постоял минуту, с удовольствием ощущая спокойный холод металла. Мысль, что сегодня предстоит нечто особенное, исчезла: полет будет таким, как всегда. Об этом говорило стальное спокойствие МАКа. Машина заражала своим спокойствием человека.
…МАК вонзался в пространство, словно его засасывал абсолютный вакуум. Белая стрелка высотомера поспешно отсчитывала сотни метров. Вслед ей уверенно, деление за делением, двигалась красная стрелка тысяч.
Как ни старались конструкторы, им не удалось погасить действие пороховых ускорителей на пилота. Тело Андрея испытывало страшную перегрузку. С огромной силой давило оно на сиденье. А сердце — несчастное человеческое сердце! — било по диафрагме, как тяжкий молот. Но постепенно угнетающее ощущение безмерной тяжести собственного тела стало проходить.
Когда ракетоплан достиг высоты 100 километров, Андрею с Земли указали направление на цель. Андрей включил реактивные насадки и вывел ракетоплан на курс. Через полторы минуты загорелась лампочка бортового «искателя», отмечая приближение к урановому заряду первой условной «бомбы», Андрей переключил управление на автомат и почти машинально обежал взглядом приборы.
Приборов на доске было меньше, чем в самом скоростном самолете дозвуковой и даже звуковой эры: электроника позволила снять с летчика заботу о многом; многое было автоматизировано — показания десятка приборов суммировались и сводились к одному сигналу. Но решающее значение сигнала при данных скоростях было таково, что невнимание к нему, опоздание реакции пилота на десятую, а может статься, и на сотую долю секунды, могло привести к катастрофе. Никакая автоматика не в состоянии подменить волю и мысль человека.
Одновременно Андрей следит и за состоянием системы, питающей воздухом пилотскую кабину, скафандр, высотный костюм, присматривает за работой системы охлаждения.
Андрей с удовольствием отмечает благополучие во всем «организме» МАКа. Теперь можно ненадолго вернуться к толстому стеклу фонаря. Чернота стоит вокруг самолета плотной стеной. Ничего, кроме ужасающей черноты и светящихся в бесконечной дали звезд. Самолет врезается в черноту, как в нечто последнее. Только когда Андрей поворачивает голову направо, насколько позволяет шлем, он видит над изогнутым краем земного шара плавающий в черноте огненно-голубой, словно готовый вот-вот расплавиться, диск солнца. На него можно смотреть, лишь надвинув на шлем скафандра защитный козырек.
В тишине шлема почти не слышны двигатели. Их рев срывается с сопел и остается позади, не в силах догнать самолет, несущийся в несколько раз быстрее звука. Но воображение Андрея восстанавливает картину работы двигателей по легкой вибрации всей конструкции. Почти невероятно, но все — жужжание генератора КЧК, вой турбин и даже рев сопел, — все покрывается шумом дыхания Андрея, резонирующего в шлеме.
У Андрея мелькает мысль о возможности исследовать разгон. Но он поспешно отбрасывает ее: она мешает, тому, что нужно делать по заданию данной минуты. Ракетоплан имеет огромную инерцию — при подходе к цели скорость будет все еще слишком велика. Нужно гасить ее — пускать в ход тормозные устройства. На этой высоте аэродинамические тормоза так же бесполезны, как и рули. Андрей осторожно поворачивает рычаг шторки перед соплами двигателей, чтобы направить часть реактивной струи навстречу движению. Он делает это с тем же чувством, с каким человек, спускающийся на лыжах с очень крутой горы, садится на палки, чтобы уменьшить скорость спуска. Чуть-чуть перебрать — и палки пополам. Чуть-чуть передашь обратный газ — и хвоста самолета как не бывало.
Андрей переводит взгляд на регистратор урановой цели. Оранжевый блик, ярко вспыхнув, почему-то вдруг почти затух, снова вспыхнул и часто-часто замигал, как глаз растерянного человека. Цель вошла в зону действия КЧК. Андрей нажал красную кнопку и услышал резкий свист: прибор заработал с высшей интенсивностью. Неожиданно подумалось: «А что, если сдаст поле магнитной изоляции?» Он получит такую дозу рентгенов, что, вернувшись на Землю, останется только писать завещание. Но опасения Андрея напрасны: контрольный счетчик радиоактивности на потолке кабины молчит. Андрей отсчитал по глазу хронометра десять миганий — пять секунд — и перекрыл излучение. Генератор перестал свистеть. Где-то внизу урановый заряд «бомбы» превратился в свинец. Через сорок секунд нужно будет снова включить прибор — над вторым бункером с баллоном, имитирующим водородную бомбу. Сорок секунд! Здесь это большой срок. Восемьдесят счетов: один-и, два-и… Чертовски длинно! Длинно до нудности. Световой секундомер мигает и мигает… От урановой оболочки водородной «бомбы» снова затеплилась оранжевая полоска в прицеле. Андрей включил прибор, и скоро Земля сообщила, что в обоих пунктах зарегистрировано действие пучка частиц достаточной мощности. Задача Андрея была выполнена. МАК молодчина! Благодарю тебя, МАК. Сегодня мы с тобой дружим.
До границы полигона оставалось триста километров. В течение минуты все переговоры с Землей были закончены. Андрей включил струйное управление правой плоскости — со школьных времен он предпочитал левый разворот правому. Целая секунда ушла на то, чтобы осознать непредвиденное: реактивные насадки правого борта не работают. Анализы потом — сейчас нужно включить струйные насадки левого крыла и ложиться в правый вираж. Но, к удивлению Андрея, и на включение левых насадок МАК отвечает все тем же — полетом по прямой. Это уже совсем тревожно В таких условиях попытка разворота означает аварию.
Световой индикатор хронометра отсчитывает полусекунды; раз и раз… раз и раз… раз и…
Итак, струйное управление отказало… Аэродинамическое на такой высоте не действует… Решение?
В гонке участвуют время и человек. Время измеряется полусекундами. А чем измерить силы человека?
Время мигает своим лиловым глазом: «Тик-и-так»… Секунда. «Тик-и-так»— две секунды. Чего оно хочет от Андрея?.. Наверно, только одного: унести его в бездну, куда беспрестанно, неумолимо и безвозвратно уносится оно само?
Время подмигивает лиловым глазом секундомера: «Тики-так…» Человек, где же твое решение?! Не стоит, не смотри вниз. Там все равно ничего не видно. Здесь мы один на один: ты и я. Только ты и я.
«Тик-и-так… Тик-и-так…»
Самолет без рулей — это непоправимо? Остается лететь по прямой? Снижаться, пока не подойдешь к Земле? Удариться об ее поверхность?
Итак, твое решение, человек?..
Может быть, подчиниться насмешливому лиловому мерцанию и примириться с несовершенством отказавших рулей?..
Нет!
Нет и нет!
Секунды теряют власть над человеком — Андрей принял решение: сесть на своем аэродроме. Андрей это сделает: он возьмет максимальный разгон и заставит ракетоплан описать гигантскую петлю. Топливо будет, конечно, израсходовано еще на подъеме, но форсажем Андрей выбросит МАК как снаряд за плотные слои атмосферы. Чем выше будет петля, тем больше будет запас для планирования. Сначала на спине, потом переход в нормальное положение с выходом на курс к своему аэродрому. Обратная глиссада даст хороший запас времени для пологого входа в плотные слои атмосферы. А там придут в действие аэродинамические рули — и дело сделано: они дома. Оба — Андрей и МАК.
Если бы у Андрея было время, ему, как образованному инженеру, пришло бы в голову много всяких соображений за и против своего решения. Такие соображения приходили на ум людям, стоявшим на аэродроме и обсуждавшим вопрос: что делать для спасения Андрея? Аэродинамика, термодинамика, сопротивление материалов, аэрология, химия, ядерная физика и физиология — все было на вооружении этих людей. Мысли собравшихся завязались в клубок. разрубленный замечанием генерала Ивашина:
— Черных имеет право на самостоятельное решение. Если он сообщает, что принял его, нет надобности мешать ему советами и вопросами.
При общем молчании, делая вид, что об остальном нет смысла и толковать, Ивашин перешел в операторскую.
На экране мерцала зеленая капля. Эта капля была отражением радиоволн от тела, несущегося в пространстве… МАК… Этим телом был МАК.
В МАКе Андрей, его ученик, его друг. Ивашин пристально смотрел на экран. Казалось, его глаза, как у ночной птицы, утратили способность моргать. Зеленая точка вопреки вероятности, здравому смыслу и всем законам ползла все выше. Словно Андрей задался целью уйти туда, откуда еще не возвращался никто. Может быть, он вообразил себя космонавтом и свой МАК космическим кораблем, способным вознести его к далеким туманностям иных миров? А может быть, с Андреем случилось то, что всегда может случиться с одиноким человеком, брошенным в бездонную черноту вселенной, — ему могли изменить силы, мог помутиться рассудок. Нет, Ивашин этому не верит. Андрей человек, и его воля сильнее всего, что может ему противостоять.
Топливо кончилось. Андрей потерял представление о скорости: стрелка уперлась в последнее деление циферблата. Андрей понимал: скорость — далеко за расчетной. И, может быть, она все еще продолжает нарастать? Он движется быстрее артиллерийского снаряда, быстрее многих ракет.
А что на акселерометре?.. Перегрузка уже — 0,75… 0,50… 0,20…? Тело Андрея повисает в пространстве, повисают и перестают слушаться руки; от красной рукоятки аварийной катапульты отделяется лежавшая там перчатка…
Н-е-в-е-с-о-м-о-с-т-ь! Это состояние не ново для Андрея и все-таки необычно. Скорей бы миновать эту точку кривой, Только чтобы проверить себя, Андрей пробует поймать рукоятки приборов струйного управления — сначала правую, потом левую. Это удается не сразу, но все же он дотрагивается до них: да, он полностью владеет собой. Такой высоты и скорости не испытывал еще никто до него, ни он сам. Совершенно очевидно, что он сейчас где-то у верхней точки кривой, которую с разгона описывает МАК…
Но вот самолет начинает терять инерцию! Немного досаждает положение вниз головой, хотя врачи и утверждают, будто в состоянии невесомости человеку решительно все равно, как висеть… Так почему же он все же чувствует, что Земля у него не под ногами, а под головой? А может быть, это самообман? Разве здесь не все идет вверх дном?
А вот и первое неприятное проваливание: перегрузка 0,15 — МАК все теряет инерцию. Планированию на спине приходит конец. При следующем толчке Андрей пустит в ход струйное управление в вертикальной плоскости, чтобы вывести машину в нормальное положение. Еще толчок. Рука — на рычаге. Андрей действует осторожно: надо сохранить наибольший радиус кривизны.
Андрей не имеет точного представления о скорости и потому не знает, над какой точкой Земли находится. Но в этом ему должны помочь с Земли. Еще несколько мгновений, и он услышит голос Ивашина. Ивашин должен знать. Радиотеодолиты его не обманут.
Однако голос Земли не радует: радиус петли все же недостаточен, чтобы снизиться, не проскочив аэродром. А проскочив его, Андрей не сможет «дать по газам» и уйти на второй круг: топливо израсходовано. Значит, вход в плотные слои атмосферы должен быть более крутым, чем хочется. Придется гасить скорость на слишком коротком расстоянии.
Сердце кувалдой стучит в груди, виски распухают, шлем сдавливает голову. Почему? Ведь между черепом Андрея и стальным шаром шлема три сантиметра полого пространства. И все же, когда Андрей пытается повернуть голову, боль в висках и шее невыносима. Вены на руках вздуваются, как резиновые жгуты. Пальцы с трудом отворачивают кран, регулирующий поступление добавочного кислорода. Андрей вдыхает кислород осторожно, маленькими глотками. Мучительно пытается думать: какова может быть температура обшивки корпуса и крыла? Но, прежде чем он справляется с этой мыслью, сильный толчок — словно кто ударил по правой плоскости — заставляет его схватиться за ручку управления. Бесполезно. Высотомер показывает шестьдесят тысяч метров: все еще слишком высоко для аэродинамического управления.
Андрей всем телом воспринимает беспорядочные броски самолета из стороны в сторону, но не в состоянии парализовать их. Он понимает: еще несколько таких сокрушительных ударов, и МАК не выдержит.
При следующем ударе стрелка высотомера истерически подскакивает и как бешеная вертится на своей оси. Спиною Андрей чувствует, что переборка между кабиной и вторым отсеком, где расположены электронные приборы, начинает вспучиваться. Андрей поворачивается, насколько позволяет кресло: волна деформации пробегает по внутренней обшивке и приближается к носу машины. Там по-прежнему неумолимо мигает лиловый глаз времени: «Тик-и-так… Тик-и-так…» Андрей знает: через мгновение, более краткое, чем половина секунды, меньшее, чем «тик» или «так», деформация стенки достигнет лба кабины, и стекла ее вылетят из пазов…
Андрей давно был готов к тому, что такое может случиться, и все же худшее оказалось неожиданным.
Мысль, что аэродинамический нагрев будет выше допустимого, родилась в его сознании еще в тот момент, когда он вынужденно пошел на разгон выше предельной скорости. Но десятикратный запас прочности в основных узлах конструкции внушал надежду, что все обойдется.
Если бы обзор из кабины был лучше, Андрей бы давно уже заметил, что крыло скручивается, как широкий пробочник, сообщая самолету те самые толчки, которые взволновали его.
Едва ли хоть один летчик, кроме разве какого-нибудь паникера или труса, покинул самолет, прежде чем убедился, что не в силах спасти машину. До самой последней секунды пилот делит с самолетом его судьбу. Пока не ударяет по сознанию мысль: все бесполезно!
Андрей сознавал всю непоправимость случившегося и понимал важность своего. спасения. Только он, возвратясь на Землю, мог рассказать, что произошло. Значит, человек должен быть спасен. Даже когда гибнет такая машина, как МАК…
Андрей поставил ноги на подножки и нажал рычаг.
Сиденье тотчас же оказалось закрытым со всех сторон капсулой. Одновременно автоматически открылся аварийный люк. Андрею почудилось, что МАК сохраняет постоянное положение в пространстве. Это показалось оскорбительным: неужели решение прыгать было преждевременным? Но понадобилось меньше полусекунды, чтобы сообразить, что фюзеляж лишился обеих плоскостей и, подобно шилу, вонзается в атмосферу.
Капсула повернулась, легла по продольной оси самолета — и Андрей всем телом почувствовал удар сработавших пиропатронов. Сила толчка была так велика, что Андрею захотелось обеими руками схватиться за горло. Но под пальцами оказалась только сталь скафандра. Андрею казалось: еще миг — и все, что у него внутри, — сердце, легкие, желудок— решительно все будет вытолкнуто через рот. Андрей не слышал и не чувствовал, как вышел из капсулы малый парашют, как замедлилось ее падение. Сознание вернулось к Андрею только тогда, когда раскрылся главный парашют.
Андрей посмотрел в прозрачный потолок капсулы. Ничего, кроме огромного белого купола, не было видно. Пришла никчемная мысль: если фюзеляж, не сгорев, падает где-то рядом, то в кабине, верно, по-прежнему издевательски мигает лиловый глаз времени: «Тик-и-так, тик-и-так…»
ХИРОСИМА
От каменистой гряды, серпом опоясывавшей аэродром одной из баз УФРА, тянуло сухим жаром. Лилово-желтые скалы за ночь не успели остыть. Едва первые лучи солнца выглянули из-за холмов, стебли травы свернулись, поникли, мулы прижались к земле. Приехавшие на них солдаты спрятали седла в тень и улеглись под выгоревшими кустами. Казалось, им нет никакого дела до палатки иностранцев, которую они должны охранять.
Несмотря на ранний час, широкие полотнища большой палатки, раскинутой для экипажа самолета «ПиИкс-16», были подняты.
Летчиков было трое. Первый — полковник Деннис Барнс. Сухопарый, ссохшийся, словно зажаренный в машине для тостов. Следующим по старшинству был второй пилот, подполковник Райан — рыжий коренастый мужчина с ярко-розовой кожей. Барнс всегда недолюбливал Райана и терпел его на борту только как отличного пилота. Но после того как Барнс узнал о связи Райана с секретной службой, этот человек вызывал в нем трудно скрываемую брезгливость.
Третий — младший из членов экипажа, инженер по радиоэлектронике — Эрл Майерс. Эрл редкий для своей среды и своего возраста молодой человек. Он верит в бога, мало пьет, не курит и нежно любит свою мать.
— Боже мой, — страдальчески бормотал Эрл, сидя на койке, — если бы я мог представить, что стать летчиком — значит глотать песок и бояться ходить, сидеть — и все из-за фаланг!
Райан спустил ноги с койки и швырнул в угол палатки пропотевшую куртку:
— Меня этот климат тоже не устраивает. К черту! Вторые сутки без ванны.
— Милый мой, — усмехнулся Барнс, — борьба с коммунизмом — это не торговля мясом.
— Подайте сюда эту борьбу, настоящую — и я готов не мыться неделю. В том-то и беда: одна болтовня, болтовня и болтовня, — огрызнулся Райан.
— Господи, какое мне до всего этого дело? — простонал Эрл Майерс.
Барнс повернулся к нему: парень раскис. Жаль. Отличный малый. Спокойный и мужественный на борту, он становится ни к черту не годен, как только снимает шлем. Барнс охотно избавил бы Майерса от всех ужасов войны, чтобы тот не свихнулся, как когда-то едва не свихнулся он сам — Барнс.
Если бы не необходимость дождаться застрявших где-то в пути самолетов, Барнс, наверное, никогда не оказался бы в этих проклятых богом местах. Это слишком похоже на войну. Впрочем, в профессии Барнса и без того каждый рабочий день — война. Ведь он — командир звена экспериментальных скоростных самолетов «ПиИкс-16». Каждый день война с самолетами, с аэродинамикой, термодинамикой, с грозовыми фронтами, с космической радиацией; война с природой, с людьми — бесконечная война без надежды на победу. Может быть, поэтому Барнсу все тяжелее и тяжелее возвращаться к прошлому.
…Это было на Тиниане. Четвертого августа 1945 года Барнсу сказали, что он полетит в экипаже полковника Джиббета на «Эноле». Стоит Барнсу закрыть глаза, и он ясно видит строки, записанные им самим в потертую кожаную тетрадь через десять лет после того, как это случилось.
«Около полуночи 5 августа три экипажа прослушали церковную службу. Капеллан авиабазы на Тиниане кончил молитву словами: «Да будут все, кто летит этой ночью, под броней твоей всемилостивейшей десницы, и да возвратятся они во здравии и благополучии. Ныне и присно и во веки веков уповаем мы на милосердие и покровительство твое… Аминь»… Будто служитель бога не знал, что на борту «Энолы» — снаряд дьявола мощностью в двадцать тысяч тонн тринитротолуола. Ведь это не было секретом даже для солдат аэродромной команды, хотя и считалось самой сокровенной из военных тайн».
«Самым разумным было бы проспать оставшиеся до полета два с половиной часа, но никто не пошел к себе. Люди молча бредут к штабу. Нет, они вовсе не погружены в глубокие размышления о предстоящем полете. Среди улетающих есть парни, готовые сбросить бомбу, от которой провалится в океан вся Страна Восходящего Солнца… Вероятно, все молчат потому, что ночь слишком темная и душная».
«Как и предполагалось, летит тройка крепостей. Головной — «Энола», в шести тысячах метрах за нею — капитан Сидней. Его задача выбросить над целью радиотелеметрическую аппаратуру, которая зафиксирует силу взрыва бомбы, сброшенной «Энолой». Это нужно ученым. В шестидесяти километрах от капитана Сиднея летит майор Маркер — тоже на «крепости», — он будет снимать на пленку результаты «ее» работы. Это также нужно командованию и ученым. По-видимому, они и сами хорошенько не знают, как произойдет взрыв новой бомбы. Не полетит ли вместе с целью ко всем чертям и наш самолет?»
«6 августа в 2 часа 15 минут машины подвозят нас к «крепостям». Ребята из фотоотдела озабочены тем, чтобы снять каждого из нас, прежде чем мы влезем в самолеты. Вся орава провожающих сует нам в руки и прямо в карманы разную дрянь: значки, кольца, ключи: «Это будет исторический полет, ребята, привезите сувениры».
Джиббет Запускает один за другим все четыре мотора. Отсчитывает положенные «раз… два… три… четыре… пять…».
Потом голос штурмана:
— Управление, сэр?
Басок Джиббета:
— Проверено!
— Отметчик?
— На нуле.
— Радиокомпас?
— В порядке.
— Горизонт?
— Работает.
Собственно говоря, это ритуал мирного времени, и здесь, на Тихом океане, мы его давно отбросили. Но сегодня Джиббет тянет эту канитель с педантичностью школьного инструктора. Наконец он двинул секторы газа, и я услышал в наушниках:
— Джи ар файф… Джи ар файф… «Энола»… «Энола»… разрешите выруливать… Овер!
Щелчок: полковник переключился на прием. Секунда шипения, которая заменяет тишину молчания.
Голос с поста управления:
— «Энола»… «Энола»… говорит джи ар файф… разбег по полосе три… Курс известен?
— Известен!
— Старт два сорок пять?
— Старт два сорок пять!
— Выруливайте, «Энола».
Джиббет разблокировал тормоза и дал большой газ. Самолет трясется, как в смертельной лихорадке. Еще бы: семь тонн сверх предельной нагрузки! И все-таки пора отрываться. О чем думает Джиббет? Ей-же-ек Тиниан не самый большой из Марианских островов. Буквально под носом — океан. А Джиббет все разгоняет отяжелевшую дьявольским бременем «Энолу».
«Час с четвертью, как Энола в воздухе. Что-то уж очень медленно течет время. У всех странно рассеянный вид. Только Джиббет не отрывает глаз от приборной доски. Радисты смотрят куда-то поверх аппаратов: связь чертовски сокращена — идут только зашифрованные лаконичные сообщения о нашем местонахождении. Все остальные разговоры самолетов с Землей категорически запрещены. Право вызвать нас — только за базой на Тиниане. Голос генерала Пайрала — единственное, что мы можем услышать с Земли. Признаться, препротивный голос — всегда хрипловатый и неприветливый».
«Кто знает, чем Перкинс занимается в своем отсеке. Все же он не физик. Если он соединит что-нибудь не так, может начаться цепная реакция. А она, как сказали ученые, длится ровно одну десятимиллионную долю секунды. Что ж, и то слава богу: по крайней мере быстро. Перкинс вылезает из своей щели, распрямляет спину и кричит мне в самое ухо:
— Хотелось бы поговорить с тем, с физиком. Как ты думаешь, а?
Я киваю в сторону Джиббета, истуканом сидящего за штурвалом. Перкинс склоняется к нему и после коротких переговоров отправляется к радистам. Однако тут выясняется, что нарушена связь с физиком — ученым консультантом, оставшимся на Земле. Он должен был отвечать на вопросы Перкинса, если у того возникнут затруднения с главной штуковиной. Теперь Перкинс может спрашивать совета только у господа бога».
«Хорошо, что никто из жителей Хиросимы не видит Перкинса, как вижу его я; они не думают о том, что он сидит возле приборов, уткнувшись в инструкцию, и в сотый раз проверяет себя. Я-то знаю, что все их мечты, планы, вся их жизнь измеряется уже не десятилетиями, не годами, даже не днями. «Летающие крепости» будут над целью в 9 часов 15 минут: четыре с половиной часа осталось жить людям этого незнакомого летчикам японского города».
«Энола» приближается к точке встречи е двумя другими «крепостями». Джиббет выключает автопилот и тянет штурвал на себя. Перегруженный самолет медленно набирает высоту до предписанных трех с половиной тысяч. Почему командование избрало для сегодняшней бомбардировки именно тот город, к которому летят эти «крепости»? Никто из летчиков не знает. А если бы и знали? Разве взрыва не произошло бы? Нет, бомбу все равно сбросили бы. Но, может быть, знай я все, иначе пошла бы моя жизнь? Может быть, у меня хватило бы ума воспользоваться какой-нибудь лазейкой и отказаться от участия в полете? Кто знает, кто знает…»
«Вдруг стекло одного из приборов над головой Джиббета загорается ярким алым огнем. В первый момент не понять, что это значит. Смотрим в стекло фонаря: пронзая огненными стрелами облака, поднимается торжественный великолепный фонтан лучей — заря 6 августа 1945 года…»
«Слышится голос Джиббета:
— Обстановка?
По-прежнему не работает дальняя связь и данные приходят от сопровождающих самолетов.
— Видимость пятнадцать километров, у цели облачность два балла на высоте пяти тысяч.
Значит, не нужно сворачивать на запасную цель. Это смертный приговор над мужчинами, женщинами, старыми, молодыми, здоровыми и больными — приговор над жителями Хиросимы».
«До цели — сорок пять минут. Сорок пять? Легкий озноб проходит у меня вдоль позвоночника. Говорят, что «она» приблизит конец войны по крайней мере на полгода. А сколько людей погибло бы еще за это время! Может быть, действительно лучше покончить одним ударом?
Перкинс на секунду высунулся из своего отсека. Судорожно отер ладонью висящие на кончике носа капли пота и полез обратно. «Если у него что-нибудь не поладится — он первый, — подумал я, но тут же сообразил: — Тут уж все равно — первый, второй или последний. Все вместе. Своего рода утешение».
«Энола» выходит на боевой курс. Джиббет больше не трогает управления — самолет идет на автопилоте. Высота десять тысяч, но мне кажется, что я вижу город.
Осталось пять минут. Надеваем черные очки.
По приказу Джиббета радист нарушает наложенный на нас завет радиомолчания: в эфир несется короткий, как мигание глаза, сигнал. Это предупреждение самолетам звена, что до сбрасывания остается три минуты.
Две минуты.
Минута.
Мне приходит в голову, что не хватает капеллана, чтобы благословить «ее».
Тридцать секунд.
Двадцать секунд.
Радист включает передатчик на непрерывный сигнал. Он перестанет звучать в тот момент, когда, повинуясь пальцу Перкинса, «она» оторвется.
Боже благослови!»
«9 часов 15 минут. Пронзительного сигнала в наушниках больше нет.
Джиббет кладет «Энолу» в вираж такой крутизны, чтобы только-только удержаться от скольжения на крыло, и, снижаясь, набирает скорость. Как можно больше скорости! Уйти от того, что предназначено тем, внизу!»
«Джиббет сбрасывает очки — не видит приборов. Я делаю то же самое. В тот момент, когда я взглядом ловлю компас, все вокруг озаряется ослепительным лиловым сиянием. Я знаю — самолет уже в двадцати километрах от места взрыва. «Энола» получает мощный удар под хвост, ныряет носом и стремительно теряет высоту. Джиббет осторожно тянет штурвал на себя. Самолет выравнивается, но тут же новая взрывная волна подбрасывает его на несколько сотен метров и тотчас засасывает, как в бездну. Вертикальные токи, вызванные взрывом, похожи на космический сквозняк. Но, слава богу, все обходится благополучно. Вероятно, потому, что израсходована половина бензина и нет на борту «ее». Иначе бедная «Энола» рассыпалась бы как бумажная.
Пока «Энола» мечется, в небо взвивается столб дыма. Он пробил все слои облаков, снова плотно укрывшие землю, — кучевые, слоистые, высоко-слоистые; дым бьет, словно из кратера вулкана. Сквозь его сизые клубы просвечивают желтые, оранжевые, красные блики.
«Энолу» нагоняет серо-бурое облако, похожее на огромный гриб. Внутри клокочет ярко-оранжевое пламя. Нужно держаться от него как можно дальше. Оно тоже предназначено не «Эноле».
«Мы много повидали за время войны. И все же мне стало не по себе, когда я увидел в газетах торжествующий отчет о том, что сделала «Энола». Да поможет мне бог избавиться от мысли, что доля вины лежит и на мне.
Страшно совершить такое, даже если думаешь, что делаешь это во имя пятиконечной звезды в синем круге, за которой скрывается твоя страна, твой штат, твой дом…
Семьдесят восемь тысяч убитых, четырнадцать тысяч пропавших без вести японцев. Вот плоды «ее» работы.
А что значит пропавший без вести после «ее» падения? Может, он завален обломками и не найден; или расплющен взрывной волной о стену дома, превращен в кисель, в головешку или бесследно исчез, обратившись в пар?!
А что значит тридцать восемь тысяч четыреста двадцать семь раненых? Я их не видел и не хочу видеть. Не хочу видеть и тех, кто носит следы страшной лучевой болезни. Лучевая болезнь! Экипаж «Энолы» уверяли, будто никто из летчиков не пострадает. Так почему же от нас скрыли причину смерти Перкинса? Почему ослеп и умер Джиббет? Почему у меня нет ни одного своего зуба?
Они начали с Хиросимы, а теперь готовятся убивать миллионы. Кто-то должен им помешать. Кто? Если это не сделают другие — должен сделать я. Вот почему я служу, летаю…»
Люди Барнса по-прежнему сидели в палатке. В двадцати шагах от палатки, между пыльными кустами, генерал Готфрид фон Шредер разговаривал с полковником Деннисом Барнсом.
Только сейчас Барнс узнал о подлинной цели полета звена трех «ПиИксов», узнал об истинном назначении посадки на базе УФРА среди неприветливых холмов северозападной Азии. Маршрут их «испытательного» перелета, как выразился генерал Шредер, «случайно сломался»: вместо запланированного полета на Запад, через Средиземноморье и Атлантику, звену предстояло теперь повернуть на север, чтобы выполнить операцию «Кобра». Операция заключалась в следующем: звено Барнса должно было проникнуть в воздушное пространство СССР на большой высоте, недоступной истребителям советской ПВО, подстеречь в воздухе идущий из Азии самолет «ТУ-128» и сбить его.
То, что предлагал Барнсу начальник базы генерал Шредер, было самым подлым видом тайной войны, еще худшим, чем шпионаж: сбить мирный самолет.
Может ли быть, чтобы Шредер говорил правду, будто летящие в этом самолете намерены осуществить какую-то грандиозную провокацию против западного мира? А если это не так?.. Если, как много раз, все это вранье? Если западные дипломаты вместе с генералами УФРА плетут свои интриги, чтобы снова запутать человечество в кровавой паутине войны?..
Барнс вспомнил Анри, Грили, Галича, Андрея Черных. Русский Черных — первый заговоривший о том, что они пятеро никогда не позволят своим мельницам вертеться в сторону войны… А Шредер хочет, чтобы Барнс поверил в измену таких, как Черных, и сам изменил клятве?!
Шредер поднял острые плечи и с удивлением проговорил:
— Что с вами, Дэн…
— Не называйте меня Дэном, — грубо оборвал Барнс.
Разум подсказывал Барнсу, что на этом лучше закончить разговор. Но внутри все протестовало: это как раз и значило бы, что Барнс позволил своей мельнице вращаться в том же направлении, в каком вращалась мельница Шредера и вообще вся их огромная черная мельница.
— В чем дело?.. — начал было Шредер, но тут же осекся и только спросил: — Задание ясно?
— Я в своем уме, поэтому… поэтому и прошу вас, генерал, убираться ко всем чертям!
Шредер повернулся и пошел прочь. Барнс вынул сигарету и присел в тени куста. Он курил, задумчиво водя прутиком по земле. На тонком, как пудра, песке оставались ясно написанные имена.
ОПЕРАЦИЯ «КОБРА»
Генерал Ивашин вошел в комнату, где спал недавно вернувшийся из полета Андрей. Он посмотрел на его усталое лицо, осторожно тронул за плечо. Андрей рывком поднялся на постели и сразу спустил ноги, хотя глаза его были еще закрыты.
— Я долго спал?.. А знаешь, что я нашел? — Андрей протер глаза, раскинул руки, расправил грудь. Радостно посмотрел на Ивашина: — Мне стало ясно, какими средствами живописи можно показать человека, летающего в такой штуке, как МАК, и даже самый МАК в полете. Знаешь…
Но Ивашин, не слушая, перебил Андрея и быстро пересказал ему только что полученную директиву командования: перехвачен и раскрыт план диверсионной операции «Кобра». Его осуществление возложено на скоростной высотный истребитель-бомбардировщик «ПиИкс-16». Он уже вылетел с ближайшей базы УФРА и идет на перехват «ТУ-128», что летит с делегатами стран юго-восточной Азии на конференцию в Женеву.
— Вот подонки! — сказал Андрей. — Хотят не мытьем, так катаньем спровоцировать конфликт.
— Добьются петли на перекладине, как пить дать.
— Уж тут-то мы им поможем.
В приказе командования, принятом Ивашиным, говорилось, что, прежде чем дать ракетным частям указание сбить «ПиИкс», когда тот нарушит границу, нужно попытаться посадить его на нашей земле. Но полетные данные «ПиИк-са» таковы, что обычный строевой перехватчик его не достанет. Поэтому приказано поднять МАК Андрея.
— Принудить к посадке?! — усмехнулся Андрей, — Принудить! А если он не пожелает сесть?
— Тогда настичь и уничтожить!
Эрл Майерс был ошеломлен внезапным исчезновением Барнса. Вернувшись от генерала Шредера, Райан сказал, будто Барнс почувствовал себя плохо и нуждается в немедленной помощи врача. Они полетят без Барнса.
Через четверть часа экипаж «ПиИкса» занял свои места. Командиром был теперь подполковник Райан. Перед стартом он сказал, что «оторвет Эрлу голову», если тот притронется к передатчику без его приказания.
Работа Эрла ограничивалась наблюдением за радиооборудованием, и он решил дописать начатое на Земле письмо матери. Он понимал, что не получит на него ответа и даже не сможет его отправить по радио. Больше того: он решил, что порвет это письмо, когда самолет будет лететь над океаном. Почему именно над океаном, Эрл не мог себе объяснить. Наверно, несясь над Атлантикой, Эрл считал себя уже дома.
Поглядев на часы, Эрл прикинул, сколько времени может быть теперь на западном берегу родного материка. Прикрыл глаза, постарался представить себе, что делается дома.
Он знал, что на всем пути «ПиИксу» открыт коридор — база военной авиации и аэродромы гражданских линий наверняка уже предупреждены о его высоте и курсе. Только при подходе к Нороне предстоит сбавить высоту для встречи с самолетом-заправщиком. А там снова на высоту — и домой!
Откуда Эрлу было знать, что «ПиИкс» давно уклонился от курсовой черты, перерезающей штурманскую карту в направлении Средиземноморья и Африки, и вместо запада летит на север…
Райан был поглощен наблюдением за точками, двигавшимися на круге его радиолокатора. Он не понимал, почему их оказалось две. Шредер говорил только об одном «ТУ-128».
«ПиИкс» быстро настигал самолет, шедший в первой четверти круга. По расчетам Райана, это был объект его «операции». Но почему другой самолет — тот, что шел в третьей четверти, двигается наперерез «ПиИксу»? Райан решил, что лучше всего не обращать внимания на неизвестный самолет: «ПиИкс» настигнет «ТУ-128» и уничтожит его раньше, чем курс «ПиИкса» пересечется с курсом неизвестного, кто бы он ни был.
Андрей слышал громкий и ясный сигнал своей станции, наводившей его на «ПиИкс». Еще несколько мгновений — и Земля даст ему команду: доворот влево или вправо, — и он сам увидит цель в бортовом радиолокаторе.
Но вместо того Земля сообщила, что «ПиИкс» очень быстро набирает высоту: он идет уже на двадцати пяти, двадцати семи, тридцати километрах. Что ж, для Андрея не представляло трудности следовать за «ПиИксом» на любую высоту…
Райан видел на экране радиолокатора блестки настигавшего его МАКа, но был бессилен оторваться от преследователя. Скорость и маневренность советского ракетоплана была настолько выше, что только воля Андрея решала теперь судьбу «ПиИкса». Даже то, что в поле прямого визуального наблюдения Райана уже попал советский «ТУ-128», утратило для него интерес: стремительность, с которой неизвестный самолет настигал «ПиИкса», отрезав его от «ТУ», ясно говорила Райану, что «Кобра» уже не сможет нанести своего смертельного укуса.
Еще раз — последний раз — у Райана мелькнула мысль о том, что его задача — сбить «ТУ». Но новый всплеск на экране радиолокатора заставил Райана до отказа двинуть секторы, выжимая из двигателей все, что они могли дать: «Оторваться, уйти, спастись!»
Взгляд Райана переходит с указателя скорости на всплески светляка в радаре. С каждым оборотом луча светляк приближается к центру экрана. Гонка безнадежна. На решение остаются секунды. Райан дает штурвал от себя… Еще — сколько может выдержать самолет. Может быть, пикируя, он уйдет от русского… Почему эти негодяи в штабах держат в секрете, что у русских такие самолеты? Какое право имел Шредер говорить, будто ничто не встанет на пути «Кобры»? Скоты!
Пятно вспыхивает почти у центра экрана. Развернуться и встретить русского залпом своих снарядов — тех самых, что Шредер предназначал пассажирскому «ТУ»?.. Нет, к черту! На это уже нет времени — русский на хвосте. Райан валит машину вправо, чтобы разворотом переменить направление на 180 градусов. Может быть…
Несколько мгновений Андрей идет на параллельном курсе. В тот миг, когда Райан уходит в пике, у Андрея появляется надежда, что пилот «ПиИкса» понял приказ сесть и готов подчиниться. Но тут же Андрей видит: враг резко валится вправо. Андрей не может знать, что единственное желание Райана — уйти, во что бы то ни стало спастись. Андрею кажется, что тот пошел в разворот, чтобы выйти на куре летящего в стороне «ТУ». Раздумывать некогда: остается уничтожить «ПиИкс».
Отметка цели в бортовом радиолокаторе МАКа ясна. Еще секунда — и сбоку загорается лампочка: цель на дальности действительного огня. Андрей переводит тумблер, включающий систему управления снарядов. Загорается другая лампочка — система управления снарядов захватила цель. Она сама «видит» «ПиИкса» и следит за ним. Нажим на кнопку пуска снарядов. Сорвавшись с замков, они пошли на цель. Андрею остается отвалить в сторону…
Прежде чем сержант-планшетист перенес с экрана точку, где был сбит «ПиИкс», прежде чем офицер успел доложить генералу, что «Вега» — шифр Андрея — выполнила задачу и просит разрешения вернуться на аэродром, Ивашин приказал сообщить Андрею о появлении новой цели: второй «ПиИкс», очевидно, дублировал первый. Ивашин знал: у Андрея нет запаса топлива, который позволил бы ему маневрировать, чтобы посадить противника, нет и снарядов, чтобы его расстрелять. И все же приказ Ивашина заканчивался коротким «Уничтожить!».
Вся жизнь Ивашина ушла на то, чтобы учить людей летать, искусно маневрировать, без страха вступать в бой и безошибочным выстрелом сбивать врага. Но за всем — за маневрированием, за искусством огня и боя — оставалось никогда не произнесенное вслух, но всегда само собою разумеющееся: таран!
Ивашин хорошо знал, что значит таран в условиях современного боя. Тут уж речь шла не об ударе своим шасси по крылу врага, как учил когда-то Нестеров; не о том, чтобы показывать чудеса пилотажа, рубить винтом хвост противника, как делали герои Халхин-Гола. Теперь, когда скорость самолетов измерялась многими тысячами километров в час, таран почти не оставлял атакующему надежды на спасение.
Ивашин отдал своему любимцу короткий приказ: «Уничтожить!»
Андрей принял приказ. Снарядов нет. Значит… таран. Движения точны и спокойны. МАК следует указаниям Земли.
— «Вега», доверните вправо пятнадцать.
— Еще поправка по курсу. Поправка по высоте.
— «Вега», видите цель?
— Вишу.
На экране бортового радиолокатора появилась отметка цели. Андрею больше не нужны указания Земли. Он сам выводит ракетоплан на цель. Машинально, по привычке палец лег было на тумблер системы управления снарядов. Но Андрей его тут же отдернул: снарядов нет. Снаряд — он сам.
Секунда. Еще одна… Андрей и враг на пересекающихся курсах. Вопрос только в том, чтобы настичь «Кобру» прежде, чем та откроет огонь по Андрею. Рывок МАКа вперед, еще вперед! Страшной тяжестью жмет спинка сиденья. Счет переходит на сотые доли секунды. Андрей ясно чувствует, как пот стекает по спине, по ногам…
На Земле каждый по-своему переживал происходящее. Для Ивашина Андрей Черных был не просто любимым офицером. Много больше, чем свои знания, свой опыт и свою любовь, вложил генерал в этого человека. Чувство, что в Андрее должны жить, остаться после него, Ивашина, его собственные взгляды на жизнь, на работу, на службу, не покидало генерала. Всякий раз, видя Андрея или думая о нем, генерал переживал нечто похожее на раздвоение самого себя: словно на свете жил, двигался, думал второй он, второй Ивашин. И сейчас вот Ивашин был уже не здесь, не на Земле. Он был на высоте десятков километров, держал в руках управление МАКом.
Голос офицера-связиста прервал мысли Ивашина.
— Товарищ генерал, «Вега»… задание выполнила.
Короткая, совсем короткая пауза, и генерал спросил:
— Просит посадку?
— Нет.
Когда Ивашину доложили, что третий «ПиИкс», появившийся следом за двумя первыми, сбитыми Андреем, уничтожен залпом ракетчиков, Ивашин несколько мгновений молча глядел на докладывающего офицера, потом коротко кивнул и сказал:
— Ага.
Словно это само собою разумелось, как и то, что произошло с теми двумя.
Он уже шел к выходу, когда дежурный радостно крикнул:
— Товарищ генерал! Черных катапультировался!..
Джулиан Кэри КОМБИНАЦИЯ «ГОЛОВОЛОМКА»
Рисунки В. ЧЕРНЕЦОВА
Лемм и запаздывал, в трубке гудел голос шерифа, во дворе около кучи лома возилась ватага каких-то подозрительных парней — одним словом, я не мог уделить слишком много времени старику Дженкинсу.
— Мне нужен провод, — сказал он, — высокого качества, средних номеров и разных цветов. — И смущенно добавил: — Я не смогу заплатить, если это дорого…
— Пойдите и поищите сами, тогда обойдется дешевле. — Я не хотел спускать глаз с подозрительных парней. Дженкинс, потоптавшись, направился к складу.
Я прикрыл ладонью трубку телефона:
— Шериф? Это Джо. Очень сожалею, что заставил вас ждать. Что стряслось?
— Ничего, — спокойно ответил он, — по поводу налога. Цифры показывают, что ваш склад утиля расширился за последние годы, поэтому за вами числится кое-какой должок.
— Эй, подождите минутку! Если я использовал кусок заброшенного пустыря, то что же, с меня надо три шкуры драть? Или вы хотите из-за этого «расширения» шантажировать меня?
— Полегче, Джо! Если вы можете оспорить повышение налогов, заезжайте на следующей неделе, разберемся.
— Хорошо, — пообещал я. — Как семейство?
— Превосходно.
— А работа? Точило не причиняет хлопот?
— Нет, — отозвался он мягче, — но мне нужен более сильный мотор. Не подыщете ли что-нибудь подходящее?
— Ладно, посмотрю, — ответил я и повесил трубку.
Ватага во дворе продолжала беспокоить меня, я было двинулся к ней, когда на пороге наконец-то показался Лемми, мой помощник.
Я молча кивнул ему на подозрительных ребят и отправился на поиски старика Дженкинса. Тот копался среди всякого хлама.
— Нашли что нужно?
— Не совсем. — Он с усилием поднял бухту тяжелого провода в черной обмотке. — Это подходит по качеству и диаметру, но мне нужен провод разных цветов.
— Очень огорчен, но другого у меня нет, — ответил я, — а это очень важно?
— Да, для моего изобретения.
В Инглвуде каждый знал старика Дженкинса и слышал о его изобретении. Большинство частей для него было раскопано у меня среди старья, но если верить почтмейстерше, некоторые детали старик выписывал из Нью-Йорка. Единственная вещь, которую никто не знал достоверно: что же это за изобретение?
Я пожал плечами:
— Провод нужен для монтажа?
— Да.
— Тогда совсем не обязательно разные цвета. Достаточно покрасить концы. Сколько вам нужно?
— Тринадцать кусков, около шести футов длиной каждый.
— Давайте я вам нарежу, — предложил я. — Ну, а как поживает изобретение?
— Почти закончено, сказал он с гордостью и тут же просительно: — Вы сможете одолжить мне это?
— Пожалуйста! — Цена была пустяковой, а я — любопытным.
— Я позову вас, Джо, как только все будет закончено, — пообещал старик Дженкинс. — У меня сейчас небольшие неприятности, и от миссис Мэрфи нет никакого покоя. Я дам вам знать, как только все будет готово к демонстрации.
Тут появился Лемми с какими-то вопросами, и в деловых хлопотах я забыл о старике Дженкинсе.
Дела заняли у меня и последующие несколько дней. У Маккилвуда я забрал вконец разбитое пианино — полтонны ржавого железа. У Пордью нашел для шерифа подходящий мотор. И так одно за другим.
Дженкинс и его изобретение совсем улетучились у меня из памяти, когда в один прекрасный день Лемми сообщил, что мне звонили.
— Это был Дженкинс, — сказал он, — просил, чтобы вы немедленно зашли.
— Что-нибудь еще говорил?
— Нет, дескать, хочет показать вам кое-что.
— Хорошо, — ответил я, — подвезешь меня по пути к ферме Фентона. У Фентона есть кое-какой утиль для нас. Забери его и скажи, что насчет денег я загляну позже. Понял?
— Конечно, — сказал Лемми и подмигнул. Я сделал вид, что ничего не заметил.
В подвале большого старого дома, в котором миссис Мэрфи содержала пансион, и жил Дженкинс. Он отозвался тотчас же, лишь я дотронулся до звонка, и увлек меня вниз по лестнице, словно опасаясь, что вот-вот на него кто-нибудь прыгнет.
— Это все из-за миссис Мэрфи, — объяснил он, закрыв дверь. — Она очень жестокая особа. Я ее страшно раздражаю тем, что двигаю мебель и сжигаю предохранители.
Дженкинс задумчиво уставился на носки своих ботинок.
— В общем она предложила мне убраться в конце недели.
— М-да, — посочувствовал я, — а вам есть куда переехать?
— Это очень накладное дело, — старик покачал головой, — но скоро я уже ни о чем не буду беспокоиться…
— Вы не должны этого делать! — Что-то в его доверительном тоне встревожило меня. — Вы еще не так стары, лучшая часть жизни у вас впереди. Вы совершите преступление, если поступите так!
— Вы о чем? — Дженкинс казался изумленным. Вдруг он рассмеялся: — A-а, понимаю, что вы имеете в виду. Не волнуйтесь, Джо, я не собираюсь кончать самоубийством. Я имел в виду совсем другое, — он подтолкнул меня во вторую комнату, — я имел в виду вот что! — И он показал на свое изобретение.
Это была самая нелепая штуковина, которую мне когда-либо доводилось видеть. Центральная часть ее напоминала раму от кровати, поставленную на попа. Рядом громоздилась масса электрических приборов, соединенных с рамой множеством проводов. Они тянулись из чего-то, напоминающего распределительную головку.
— Я вам должен за эти провода, — сказал Дженкинс.
— Забудьте об этом, — я был слишком заинтересован, чтобы беспокоиться о пустяковой стоимости каких-то проводов. — Оно действует?
— Да, — Дженкинс дотронулся до своего сооружения так осторожно, словно прикасался к новорожденному. — Это работа всей жизни, и теперь она завершена, — сказал он с гордостью.
— А что оно может делать? — спросил я.
Дженкинс улыбнулся.
— Даже не знаю, Джо, как вам объяснить. Если скажу, что это дверь между физическими измерениями, поймете ли вы, о чем я говорю?
— Я ходил в школу, — сказал я натянуто, — и тоже умею читать.
Дженкинс помолчал. Потом ответил:
— Вообще-то я не хотел показывать, но я обещал вам. Кроме того, вы были добры ко мне тогда с проводами, да и вообще.
Он снова умолк. Затем продолжал:
— Вы знаете, Джо, что вся материя состоит из атомов. Электроны, позитроны, протоны и другие частицы атомов — все они плавают в пустоте. И пустоты много больше, чем частиц в ней, много больше. Каждый атом подобен миниатюрной солнечной системе с огромными пространствами между планетами. Понимаете?
— Конечно. Обо всем этом я уже читал в «Воскресном приложении».
— Хорошо, — продолжал Дженкинс, — много лет назад я подумал, что могут быть другие миры, подобные нашему, но как бы колеблющиеся, с отличной от нашего частотой. Это значит, что кажущаяся пустота атомов на самом деле вовсе не является пустотой, а содержит атомы материи другого рода. Вот я и решил построить что-нибудь, позволяющее предметам перемещаться из одного измерения в другое.
— Интересно. И это вам удалось?
— Да.
Дженкинс снова тронул рукой изобретение.
— Я добился своего. На это потребовались долгие годы и Масса денег, но теперь я закончил. Я испытал изобретение, оно работает.
Я опять взглянул на сооружение. Ей-богу, оно казалось самой невероятной коллекцией утиля. Большинство «деталей» этой конструкции были мне хорошо знакомы, но некоторые, по-видимому, изготовлялись специально. Так, сеть, опутывающая раму, походила на стеклянное кружево.
— Это кварц, — сказал Дженкинс, заметив мое удивление. — У меня ушло пять лет, чтобы открыть способ получения длинных поляризованных кристаллов, необходимых для достижения определенной вибрации.
— Кварц? — Я не считал Дженкинса лжецом, но, насколько мне было известно, кварц не мог так выглядеть. Я подошел к сетке, чтобы разглядеть ее получше.
— Она образует зону вибрации, — объяснил Дженкинс. — Когда машина действует, различные части сетки существуют в обоих измерениях одновременно, поэтому через нее можно перейти из одного мира в другой.
— В самом деле? — я еще не был ни в чем убежден. — А как насчет демонстрации?
— Хорошо, — он несколько колебался, — но дело в том, что у меня неприятности с миссис Мэрфи из-за просроченных счетов на электричество; кроме того, предохранители не очень надежны…
— Но ведь нам не потребуется много времени? — я продолжал настаивать.
— Возможно. — Дженкинс чувствовал себя обязанным показать мне, как работает машина, и я знал это.
Он щелкнул несколькими рубильниками, и мы стали ждать. Как только в сеть пошел ток, беспорядочная груда электроприборов ровно загудела. Кварцевая сеть мгновенно раскалилась, неуловимо затрепетала, словно покрылась тончайшим пухом, и вдруг сквозь ее ячейки слабо замерцала картина…
Вначале я просто не поверил. Подошел к машине сбоку и уставился на стену за рамой. Это была самая обыкновенная стена, по крайней мере спереди. И все же я выглянул из нашего мира куда-то наружу.
Там виднелись деревья и холмистая равнина, на горизонте — очертания города. По небу проплывали какие-то предметы; я подумал, что это, должно быть, летательные аппараты, но сразу забыл о них, лишь только увидел людей.
Их было восемь: трое интересных мужчин и пять красивейших женщин. Они сидели на траве и вели себя, как в разгар пикника.
— Могут они видеть нас? — спросил я Дженкинса.
— Только если будут смотреть прямо в машину.
— А можем мы перейти к ним?
— Конечно.
Казалось, увиденного было достаточно, но что-то еще заставляло меня сомневаться даже сейчас. Я схватил первое, что попалось под руку, — корзинку для бумаги, схватил ее и сунул в кварцевую сеть. В тот же миг корзина словно растворилась, и в следующую секунду погас свет. Зато тотчас откуда-то с лестницы послышалась истошная ругань миссис Мэрфи.
— Пробки сгорели, — шепнул мне Дженкинс, — чтобы провести предмет через машину, требуется много энергии.
Он выглядел очень напуганным.
— Знаете, Джо, будет лучше, если она не застанет вас здесь.
Я ненавижу скандалы, а в голосе миссис Мэрфи слышались нотки, которые убеждали, что Дженкинс желает мне только добра. Взглянув в последний раз на машину (никаких признаков бесследно исчезнувшей корзинки для бумаг!), я поспешил уйти.
На складе меня ожидали неприятности. Фентон решил, что я его ограбил. Потребовалась масса времени, чтобы объяснить, почему упала цена на утиль.
Последующие дни также прошли в борьбе с налоговым инспектором. Я как раз отдавал кое-какие распоряжения Лемми, когда появилась миссис Мэрфи. Ждать она не собиралась.
— Я хочу, чтобы вы убрали весь хлам из этих проклятых комнат, — с вызовом заявила миссис Мэрфи.
— Дженкинса?
— А кого же еще?
— Но я думал, что он останется у вас до конца недели.
— Теперь уже этого не случится, — мрачно сказала она. — У меня было твердое намерение напустить на него шерифа. Вы знаете, что натворил этот человек? Колдовал с пробками до тех пор, пока не сжег все провода в доме! Спасибо еще, что не сжег дом! Сколько вы дадите за его рухлядь?
— Подождите минуту! — Я предложил ей кресло, а сам лихорадочно обдумывал положение. Очевидно, Дженкинс возился с предохранителями не случайно. Я догадывался, что вызвало перегрузку сети.
— Вы не можете так просто распоряжаться его собственностью, — осторожно сказал я. — Как он к этому отнесется?
— Меня это не волнует, — ответила миссис Мэрфи, — он исчез.
— Исчез? — Моя догадка переросла в уверенность. — Но куда?
— Откуда мне знать? Он был дома вчера вечером, когда я отправилась в гости к своей сестре. Вернувшись, я уже не застала его.
Миссис Мэрфи плотно сжала тонкие губы.
— Если он пожелает подать на меня в суд, я согласна; но ему же будет хуже, я вам говорю. Я хочу очистить его комнату, и хочу это сделать немедленно. Так сколько вы дадите за весь хлам?
— Трудно сказать, — я пытался выиграть время. — Может, лучше перевезти пока все сюда и подождать немного, не вернется ли он. Если вернется, то сам заплатит вам долг, если нет, я продам все на комиссионных началах. Это оградит вас от суда да и даст больше денег.
Она размышляла минуту, потом кивнула головой.
— Хорошо. Только заберите этот мусор немедленно, иначе я обращусь к кому-нибудь другому.
— Все будет сделано, — быстро ответил я, потом спохватился. Налоговый инспектор мог вызвать меня в любой момент, но, с другой стороны, мне очень хотелось заполучить изобретение Дженкинса. Я подозвал Лемми.
— Отправляйся вместе с миссис Мэрфи, — сказал я ему, — забери машину, которую увидишь в подвале, и привези сюда.
Он кивнул.
— Хорошо. Можно ее сразу разломать?
— Боже упаси! — вскрикнул я, но тут же понизил голос: — Ни в коем случае ничего не ломай. Будь с ней очень осторожен. Просто привези ее сюда. Понял?
— Конечно! — он повернулся и пошел вслед за миссис Мэрфи.
Все утро я думал только об этом деле. Поэтому налоговому инспектору не стоило большого труда расправиться со мной Я, конечно, возражал, доказывал, спорил, но он все-таки повысил налог на десять процентов. Расстроенный, я ушел на склад.
Было ясно, что произошло со стариком Дженкинсом. Он перегрузил сеть, чтобы перешагнуть в другой мир. Он уже не мог вернуться обратно и распорядиться судьбой своего изобретения. После того как я уплачу немного миссис Мэрфи, оно будет принадлежать мне, только мне!
Наконец вернулся Лемми. Раму, отсоединенную от других приборов, он поставил в конторе, а рядом свалил груду всякого электрического оборудования. Я схватил горсть проводов и… тупо уставился на тринадцать концов. Я смотрел на провода. Я смотрел на клеммы. Я смотрел на Лемми.
— Да, босс? Я все сделал аккуратно и осторожно, как вы и велели.
— Да, да, а теперь скажи мне, как были соединены эти провода?
— Что?
— Ты, мякинная голова! — простонал я. — Ты все разъединил! Какого черта?
— Я не мог увезти все в одном ящике, — недоуменно пробурчал Лемми, — я ничего не сломал, только отсоединил провода…
— Но почему ты не переметил их?! Как я теперь все это соединю?
— Я не знаю, хозяин, — Лемми отошел на шаг, — я не подумал об этом. А вы разве не знаете?
Я не знал…
Вот оно, одно из самых выдающихся изобретений со времени открытия колеса. Дверь в другой мир, вещь, которая могла бы сделать меня богатейшим человеком. Все, что для этого требуется, — соединить тринадцать проводов. Это просто, не так ли?
Не слишком. Тринадцать проводов можно соединить шестью миллионами всевозможных способов, и только один из них окажется правильным! Если работать непрерывно, для этого потребуется пара сотен лет! Но ведь я еще должен есть, спать, зарабатывать на жизнь! По самому оптимистическому подсчету, уйдет добрая тысяча лет. Я не думаю, что проживу столько.
Неужели Дженкинс не мог обойтись меньшим количеством проводов?
Сокращенный перевод с английского Т. ГЛАДКОВАЛ. Чекуолис ЧЕТЫРЕ ГОРОХОВЫХ СУПА
Рисунки П. ПАВЛИНОВА
«Кукурузник» накренился на левое крыло. Земля опрокинулась и горой заслонила небо.
— Вниз гляди, тебе говорят! Теперь видишь? Видишь лагерь или нет, я тебя спрашиваю?
Деревья, рядом с ними не то кусты, не то камни, подозрительно близкие горные вершины — все слилось в сплошной серо-пегий диск. Зигмас помотал головой. Пилот выровнял машину и пошел на четвертый заход.
— А теперь? Сюда гляди, сюда! — опять услышал Зигмас в наушниках сердитый голос летчика.
Зигмас утвердительно кивнул, и мотор, словно только того и ждал, сразу затих, пропеллер начал рубить воздух с размеренным посвистом. Разбуженные, зашумели ветки кедров, самолет подскочил на поляне и остановился. Зигмас выбросил за борт рюкзак, вылез; поддерживая машину за крыло, помог ей развернуться и остался один.
Под ногами затрещал мох, и снова тишина: ни птичьего голоса, ни дыхания ветра. Неяркое северное солнце едва пригревает. Растения кругом будто с другой планеты: черные, точно обгорелые, березки, унылые кедры, еле доходящие до плеча, низкие, словно притиснутые рукой великана. Зигмас достал карту, установил азимут и тронулся в путь.
Лагерь появился впереди совершенно неожиданно. Радостно вскрикнув, Зигмас пустился бегом. Но на стоянке никого не было. На небольшой площадке — затоптанный олений помет. Среди деревьев — натянутая медная антенна. Зигмас громко позвал, потом выстрелил в воздух. Никакого ответа. Порылся в палатках, перекусил, улегся и, поворочавшись немного, заснул.
Проснулся от охватившего с новой силой чувства неуверенности, которое преследовало его с той минуты, как он отправился в путь. Зигмас протер глаза, огляделся. На стойке палатки висели надувная боксерская груша и перчатки.
От удара груша зазвенела и отскочила до самого верха палатки. Зигмас надел перчатки и принялся тузить грушу — левой, левой, «хуком» справа. Вскоре вся палатка закачалась и загудела.
— Добро, добро! Будет мне кого потренировать!
У входа в палатку стоял высокий парень с большим рюкзаком, в ковбойке, распахнутой по самый пояс, в резиновых сапогах с отвернутыми голенищами. Он был невероятно худ, даже щеки запали. На жилистой шее выступало большое, как часто бывает у тощих людей, адамово яблоко.
— А может, я тебя потренирую? — огрызнулся Зигмас.
Легко, как кошка, незнакомец повел плечом, и рюкзак соскользнул наземь.
— Становись, становись! — парень наклонился, и в руках у него оказалась вторая пара перчаток.
Зигмас сделал шаг — из глаз посыпались искры. Будто натолкнулся на бетонную стену.
…Холодная струя воды стекала по лбу. Упираясь локтями, Зигмас сел.
— А теперь давай познакомимся. Данила Каузов, начальник геологической партии.
Зигмас увидел клетчатый рукав. Безотчетно пожал протянутую руку. Встал. В голове шумело, по палатке мелькали какие-то точки.
— Пошли ужинать, — услышал он. — И лучше бы сразу сказал, что ты за боксер.
Это звучало как указание. На будущее время.
…Утром Зигмас сквозь сон почувствовал, что Данила встал и вышел. Было темно и холодно. Зигмас взглянул на часы: всего пять. Поднимался Данила, кажется, беззвучно, а радистка Люда и рабочий Петя в соседней палатке все-таки услышали, побежали вслед за начальником и заплескались в ручье. Зигмас был не из лентяев. Но в удовольствии понежиться лишний десяток минут в теплой постели он себе не отказывал. А кроме того, после ухода Данилы — Зигмас никогда и ни в чем не боялся себе признаться — в палатке стало будто уютнее. Ничего себе начальничек! Вот и работай с таким, вот и советуйся!
Отыскав мыло, подпоясавшись мохнатым полотенцем, Зигмас вылез из палатки. От мисок уже поднимался пар. Впоследствии Зигмас заметил, что Данила всегда такой: сразу успевает выполнять несколько дел.
«Умоюсь попозже», — решил Зигмас. Ели торопливо и молча. Пока Зигмас добрался до донышка, те трое уже отбросили в сторону росистую траву, которой обтерли ложки. Данила развернул карту.
— Пойдешь с Людой. И поживей навертывай, ты тут не у тещи в гостях!
Зигмас демонстративно откинул в сторону миску, а Данила добавил:
— Все вытрешь, вещи уложишь в мешки. Домработниц здесь нет. Для начала тебе тридцать километров. На первый день хватит. Пойдешь вверх по течению Вертушинки. Видишь?
По зеленым и синим линиям незнакомой карты Зигмас постарался запомнить маршрут.
— Все остальное тебе покажет Люда. Я пойду по дуге, встретимся возле Чалдонских ключей. Твой счетчик в порядке, я его вечером отрегулировал.
Разворачивая карту, Зигмас еще слышал за спиной шаги Данилы. Собирался кое-что спросить, но когда повернулся, не было уже ни начальника, ни палаток. Люда улыбнулась, поймав растерянный взгляд новенького:
— Ничего, привыкнешь… Я тоже привыкла…
И первая, понукая оленя, полезла под кедры.
Зигмас был ей благодарен. Она придерживала ветки, чтобы не хлестали его по лицу; перейдя ручей, возилась с оленями, пока он, балансируя, скользил по камням, заросшим водорослями, окруженным кипящей пеной. Километров через пять они нашли скалу с пятном извести — знак, оставленный Данилой. Это было начало маршрута. Люда сняла с плеч ручной бур, врезалась в землю на 60 сантиметров и, пока Зигмас пристраивал наушники с пористой резиной, прошла еще сотню метров и снова начала бурить. Зигмас сунул щуп счетчика Гейгера в свежий шпур и даже вздрогнул, когда в наушниках запищало и засвистело. Но стрелка пометалась, пометалась и застыла на 10. Радиоактивность слабая.
Километра через два разряды и вой усилились. Зигмас сорвал с головы обруч. Счетчик показал 80. Еще не вполне уверенный, подозвал Люду.
— Да, тут руда, — подтвердила радистка.
Она огляделась и, отсчитав в сторону 25 метров, опять сделала шпур.
Они потратили целый час, но Зигмас стал гораздо бодрее.
— Мне везет, — сказал он и попытался похлопать Люду по плечу.
Радистка покачала головой и осторожно, словно нянька, которая отнимает у ребенка игрушку, сказала:
Нет… Маловато, очень слабое пятно… Шахты тут не будет.
Вскоре он вспотел, устал, его охватила ярость. Девушка мчалась, как на свидание, все поглядывая на часы. Она легко изгибалась, ныряя в темные тоннели под кедрами, с козьей легкостью перемахивала с камня на камень, забредала по пояс в холодные пенистые ручейки и озерки, ведя за собой оленя.
«Второй Данила!» — злился Зигмас. Девушка вообще чем-то походила на начальника — стройная как тростинка, подпоясанная широким ремнем, порывистая в движениях, она вдобавок явно подражала Даниле: такие же рыжие лыжные брюки с прошитой стрелкой, такая же клетчатая ковбойка, расстегнутая до отказа: выглядывал краешек розового кружева. Только волосы туго, по-деревенски, повязаны платком.
Когда Зигмас второй раз обнаружил следы руды и они остановились, он долго не мог вымолвить ни слова — так запыхался. Люда достала носовой платок, вытерла ему лоб и, предваряя упреки, заявила:
— Лучше сразу обтерпеться… Ночью будут ныть кости и с утра еще поболят. Но ничего, обойдется, быстро привыкнешь. Завтра пройдем уже пятьдесят километров, и так до осени…
Радистка сама собрала образцы туфа, налила из цветастого китайского термоса горячего крепкого кофе.
— Вчера Данила один покрыл всю дистанцию. Конечно, не совсем в одиночку, с двумя оленями. — Она улыбнулась, блеснули сощуренные глаза северянки. — С тех пор как Дрогов сломал ногу, — продолжала она беззаботно (на место Дрогова и был прислан Зигмас), — Данила всегда один работает. А в прошлом месяце мы оставили медвежью шкуру. На кедре растянули. Это Данила подстрелил. Может, найдет кто-нибудь…
Сумасбродная, несуразная девица! Зигмас нервничал, а ей, кажется, все нипочем: и полупудовый бур, и нехоженая горная тайга, и даже обжигающий кофе — она выпила две кружки одну за другой, умудряясь в то же время тараторить без умолку.
До лагеря добрались поздно ночью. Данила подыскал изумительное место. Здесь росло несколько настоящих высоких кедров и черные раскидистые пихты. Рядом были утесы, напоминавшие разваленную печь. Должно быть, именно они и прикрывали деревья от бешеных, всесокрушающих ветров с океана. Ветви в вышине шумели совсем как в родных местах в Литве, но Зигмасу теперь было на все наплевать. Он упал ничком у костра и думал об одном — чтобы Люда не рассказала Даниле, как они работали. Но Люда ставила палатку, а потом тоже растянулась возле костра, у ног Данилы.
— Так что, нравится тебе работа геолога? — спросил Данила у Зигмаса.
— А я уже работал. На Коле, в Воркуте. Практику там проходил.
— Тоже сравнил! — начальник расхохотался. За ним Люда и вылезший из палатки Петя. Будто они что-то знали, но таили про себя. Зигмас освирепел. Он сел, чувствуя, как исчезают усталость и робость.
Но как ни силился он проявить безразличие и самоуверенность, рассказывая про свой маршрут, он запинался, словно на экзамене. А Данила сунул руки в перчатки и стал лупить по груше. Даже не дал ему закончить:
— Я эти места знаю, — бах, бах, — я ведь шел параллельно. Больше, — бах, бах, — надо в воду смотреть, тут ключи из глубины идут. Глина, — бах, бах, — ерунда. Ты вглубь гляди!
Если б не этот разговор, Зигмас утром ни за что бы не поднялся. Ведь ночью глаз почти не сомкнул. Сводило икры. Только зажмуришься — под ногами разверзается зыбучее болото. Когда на рассвете Данила вышел, Зигмас схватил градусник. 38,5! Вытянул руки — пальцы дергает и сводит, словно во время лихорадки. Неужели нельзя было остаться в Литве? Вот влип так влип!
Обмотав шею полотенцем, Зигмас заковылял за утесы. Данила уже был там и, услышав шаги, даже не обернулся. Ведет себя так, будто один на целом свете. Подскочил и плюхнулся в омут. У Зигмаса уже не было сил удивляться. Он осторожно притронулся ладонью к ледяной воде, потер нос, щеки, шею. Данила плавал, как в бассейне, тщательно проделывая все движения. Вынырнув, выбрасывал руки вперед и в стороны, чтобы опять надолго погрузиться. Только по выпученным глазам можно было догадаться, что начальнику тоже отчаянно холодно.
Для Зигмаеа это был страшный день. Толстое мохнатое полотенце, которым он повязался вместо шарфа, душило, натирало шею. Зигмас уже плохо видел дорогу и, споткнувшись, больно ушибся: камни были острые как ножи. Его уже нисколько не интересовало, что о нем подумают, и он несколько раз кричал Люде, чтобы обождала, не бросала его одного. Но радистка останавливалась, только когда Зигмас ее нагонял. Тогда она брала счетчик, шла проверять, а потом еще укоризненно покачивала головой.
Однако с полудня Зигмас с удивлением ощутил, что в голове прояснилось, сердце бьется хоть и учащенно, но равномерно, а ноги ступают тверже. Все шло так, как предсказывала Люда. Под вечер он даже что-то замурлыкал себе под нос.
С каждым днем партия уходила все дальше в горы. Кедры все ниже жались к земле. Появилось больше прогалин. А за ними, казалось, совсем близко виднелись рыжие, обнаженные склоны сопок. Когда темнело, они еще долго сверкали на солнце, и с них в долину падали золотые отблески. Данила укладывал в папку все новые карты пройденных мест — ободранные, замызганные, словно побывавшие в руках у первоклассников. На них пестрели пометки об интенсивности — желтые, синие, зеленые, черные пятна. Будто деревенская юбка.
Чем выше, тем больше высыпало на картах красноты. Зигмас думал, что Данила остановится. Залежи были отличные, никто не стал бы их упрекать. И все-таки начальник вытаскивал новый чистый лист. «Надо добраться до водораздела», — говорил он. Но прошло еще две недели. Вертушинка сузилась, стала ручейком, который легко перепрыгнуть, а склоны ни на километр не казались ближе. Только снежные шапки на сопках становились все белее, сползали языками все ниже.
Взберешься на высокий утес, и можно обозреть весь пройденный путь, обидно короткий, как думалось теперь Зигмасу. Вот вертушинский омут, вот утесы первого лагеря, а дальше все тонет в голубизне долины; ни тропки, ни дымка от костра, так и кажется, не хватит сил всего человечества, чтобы обойти эту тайгу.
Близилась зима. Исхудалые олени кричали так жалобно, что сердце разрывалось. Первые морозы иссушили траву, скрючили мох, и корма у них почти не стало. В ручейках и родниках появился лед.
Зигмас надел меховой комбинезон Дрогова. Ногти Зигмаеа пообломались, лицо обветрилось и загорело, мышцы окрепли. Он действительно притерпелся. Два раза начальник гонял его, сонного, голодного, на вторичную проверку небрежно проведенных маршрутов. После этого очередные пятьдесят километров, конечно, представлялись сущим пустяком. Как и прежде, Данила мало интересовался Зигмасом, а тот не видел надобности расплачиваться за это откровенностью или почтением. Остальные считали поведение начальника совершенно естественным. Люде иногда влетало даже больше других: и за то, что трещал край палатки, и за то, что кровоточили копыта оленей. А девушка и не пыталась огрызаться, только смущенно смеялась.
Как-то раз, взволнованная, собираясь что-то сказать, она положила ладонь на локоть Данилы. А тот как откинет голову:
— Это еще что? Может, тут, в тайге, начнем любовь крутись?
Возмущенный Зигмас хотел было заступиться, но передумал: их дело… Не так уж важно все это, необходимо просто как-то просуществовать два-три месяца. Его волновало теперь другое. По вечерам Люда включала рацию и сообщала товарищам, что партии одна за другой возвращаются на базу. Но никто, кроме Зигмаса, на это, кажется, и внимания не обращал. Те втроем закопченными пальцами скребли карту, как ребята, готовящие поход: лихорадочно отбирали друг у друга циркуль, вышагивали им по карте еще десятки, еще сотни километров, будто можно птицей перелететь через эти ущелья и горные цепи, а не тащиться с рюкзаками, счетчиками, бурами, спальными мешками на плечах. Ни один из них даже не заикнулся, что больше нельзя, что пора возвращаться, что на дворе октябрь…
Зигмас в отчаянии пытался загипнотизировать Данилу — уставится ему в затылок и беззвучно шевелит губами:
«Псих! Зима нагрянет, кто нас отсюда вывезет? Ведь тогда конец! Домой, дурак, домой!»
Но Данила не оборачивался.
Однажды утром начальник встал, озабоченный, раньше обычного. У него была своеобразная логика:
— Кормежка кончается, надо поторапливаться.
Съели гороховый суп, сваренный густо, как пюре, без всяких жиров. А потом Данила, подгоняя оленя бичом, побежал вверх по склону. Люда направилась по долине налево, тоже бегом. Олени тащили теперь только тяжелые кожаные чемоданы, обитые железом, со сложными никелированными замками. В них лежали величайшие ценности — образцы руды, результаты всей работы. Остальную кладь приходилось нести самим.
Зигмас тоже перешел на бег. Тут уж не отстанешь. Он прислушивался к счетчику, брал образцы минералов и мчался вдогонку за девушкой. Убедившись, что девчонка готова носиться до самого вечера, Зигмас подумал: бросить все, присесть. Хватит, наплевать. Как только станет совсем невмоготу, сяду, и все тут. Пусть несут. Тогда и всем придется возвращаться. Но такой момент никак не наступал. Ноги подкашивались, мускулы ныли и все же работали. Как машина.
Данила запоздал на ночевку; на ужин опять ели гороховый суп, но эти трое были очень веселы. Данила обнаружил очаг. Образцы начальник завернул в целлофан, а потом бережно положил в отдельный резиновый мешочек. Пятно замечательное. Может, другого такого и нет. Данила сказал об этом просто, будто каждый год делал подобные открытия. Он изводил Люду: та где-то упала и разодрала свои лыжные штаны. Данила показывал, как ей придется маневрировать по городским улицам с заплатой сзади. А Петя глубоко порезал о камень колено. Люда промыла, перевязала ему рану и, забывшись, долго гладила отросшие ежиком волосы паренька. Поглаживала, а сама смотрела на Данилу.
Утром опять было гороховое пюре.
— Вот бы мяса! — тихо сказал Зигмас Люде. Но Данила услышал.
— Пюре — очень полезная еда. Особенно когда другой нету! — усмехнулся начальник с довольным видом. — Настоящая пища!
Не то на десятый, не то на пятнадцатый день проснулись в полночь от стужи. Термометр показывал 30 градусов ниже нуля. Утром все оказалось покрыто снегом. В долине не было видно кедров: метель намела сугробы по самые верхушки. Только еще торчали ветви, вылезшие за лето. Им предстояло засохнуть. Теперь Зигмасу стало ясно, почему верхушки кедров похожи на грибы. В глазах у начальника Зигмас заметил растерянность и в глубине души возликовал. Разве не был прав он, Зигмас, в своих безмолвных упреках? Самолету тут не приземлиться, вертолет не долетит.
Данила разодрал свою рубаху и роздал новые портянки. Поели горохового супа. Зигмас проклинал это желто-зеленое, сладковатое, даже не застревающее в зубах варево и рассказывал Люде, какой закажет обед в городском ресторане. Прежде Данила высмеял бы его, но сейчас молчал, и Зигмас ощутил это тоже как некую победу.
Труднее всего было поднять оленей. Потом они побежали, как собаки, поджимая копыта, сердито фыркали и, мотая головой, норовили боднуть. Данила уговаривал их, увещевал, как усталых людей, как добрых приятелей.
Шли без остановки двое суток. Ночью не спускались в тайгу, где есть топливо и защита от ветра: времени было жалко. Только вырыли яму в снегу и, прикрыв ее палаткой, переночевали, прижавшись друг к другу.
На следующий вечер услышали собачий лай, увидели блуждающие огни. Это люди с факелами вышли им навстречу. Охотники ительмены, отец и сын, уже облачились в полный зимний наряд: в собольи шапки, в высокие меховые торбаса с узорами. Землянка была поблизости. Сверкали новые, свежеобтесанные бревна. На колышках белела вереница собольих черепов раздвоенными носами к двери. Над дверями был приколот спичками портрет Ленина. Если верить карте, здесь должна была протекать речонка. Но теперь лед занесло снегом, только петляла тропинка да чернела прорубь. Ительмены накрошили в чай медвежьего жиру, табаку, налили спирту. Отдавать свои «ветки» — лодки — они не хотели. Данила долго их упрашивал. Зигмас в первый раз видел его в таком состоянии, хотя начальник и пытался всячески скрыть волнение от охотников, а тем более от товарищей. Сын тоже уговаривал отца, переходя в возбуждении на непонятный геологам язык. В конце концов старик не выдержал. Поплевал на ладони, тщательно вытер их о грудь своего мехового малахая и ударил с Данилой по рукам.
Данила выложил на пол все богатство: топор с резиновой ручкой, свою двустволку, бинокль, палатку, бидон со спиртом.
Утром охотники запрягли в «ветки» оленей и поволокли их по льду. Данила рассчитал правильно. Ниже речка из-за большего угла падения еще не совсем замерзла. Над черной водой стоял пар. На первую лодку погрузили кожаные чемоданы с образцами и свернутую палатку, где также лежали камни. Рацию и прочее имущество сложили во вторую лодку. Данила велел всем сесть во второй челнок, а первый стал подталкивать к воде.
Зигмас не выдержал. Все-таки тут есть крупица и его работы.
— Первая лодка скорее перевернется… Ничего не успеешь разглядеть… Все пойдет ко дну… Отдавай нам чемоданы!
— Пойдет ко дну? — Данила насупился. На минуту призадумавшись, снял с себя пояс, сделал петлю, привязал один чемодан к левому локтю, второй и свернутую палатку — к правому. Ладони сразу побагровели от прилива крови.
— А теперь пусть попробуют идти ко дну! — Он резко двинулся, край льда проломился, и «ветка» ринулась вниз.
Зигмас ахнул и начал подталкивать вторую лодку. Люда не замечала ни Зигмаса, ни светлого льда, крошившегося под ногами. Всеми помыслами она была там, внизу, куда несло быстро уменьшавшуюся «ветку» Данилы. Зигмас усадил девушку спереди и налег на весла. Петя помогал ему доской. Зигмасу приходилось все время оборачиваться, он приходил в ярость, боясь потерять из глаз Данилу.
Речонка была геологически молодая; вырывавшаяся из недр вода катилась куда хотела: по утесам, по бурелому, перескакивала через завалы кристаллических пород. Зигмас всем своим существом ощущал, как внизу пролетают подводные скалы. Но не они были самыми страшными. Соскакивая вниз со ступеньки на ступеньку, лодка глубоко зарывалась носом, водоворот поворачивал ее и все норовил выбросить на лед или ударить в каменные «столбы». Отталкиваясь от них, Зигмас, совершенно того не желая, только ускорял ход «ветки». Давно уже исчезли из виду застывшие на берегу ительмены, давно уже кедры стали высокими — их снежные кроны неслись над головами. Речушка спадала все круче.
Из-за рева падающей воды Зигмас не мог услышать крика. Скорее всего он почувствовал его и, повернувшись, увидел, как Данилина лодка подскочила кверху, исчезла в облаке брызг, потом трижды повернулась на месте и, уносясь боком вдоль берега, скрылась за излучиной. Пенящийся порог приближался, как курьерский поезд. Зигмас поднялся на ноги, разглядел единственную падающую ровной дугой узкую струю и направил к ней лодку. Вскоре они догнали Данилу. Данила сидел на корме и греб единственным уцелевшим веслом.
Второй порог появился совершенно неожиданно. Это была самая настоящая западня. Упираясь в высокую стену из слоистого камня, речушка круто сворачивала вправо, потом еще вправо и падала с высоты пяти метров. Одно мгновение Зигмас видел повисшую над водопадом лодку Данилы, потом она скрылась. Зигмас и Петя одновременно били веслами. Войдя в крутой поворот, их лодка накренилась, зачерпнула воды и налетела на лед. В тот же момент они увидели перевернувшуюся «ветку» Данилы: далеко внизу она выплывала мокрым днищем кверху. Зигмас выскочил и побежал по прибрежному льду. Перекатившись через водопад, река разливалась широко, как озеро. Она была совершенно пустынна, и Зигмас заорал так, как не кричал еще никогда в жизни.
— Где Данила? — трясла его за руку Люда, не в силах по-верить своим глазам. Зигмас забрел по пояс в воду, дальше шла черная глубь, пенистый поток сбивал с ног. Но Люда не могла ничего понять, она все лезла поперек течения, порываясь броситься вплавь.
А потом до них донесся еле слышный вздох. У противоположного берега из воды показалась черная голова. Это был Данила, воскресший из мертвых. Он снова нырнул и появился еще ближе к берегу, уже торчали плечи. Данила шел, нагнувшись вперед, спотыкаясь, опустив руки. Вот он подобрался к выступающему из воды камню и уперся в него подбородком.
Переправились на ту сторону, но никак не могли добраться до Данилы. Не пускало течение. Отдохнув, тот вылез сам. Прижатые к бокам руки почти почернели: их оттягивали чемоданы.
— Чертовски великолепные камни! — Данила пытался улыбнуться, но голос его прервался. — Такой чудесный якорь…
На мгновение Зигмаса даже зависть охватила. Ведь никто не спасал Данилу! Он сам спасся! Прошел по дну и пронес образцы! Зигмас знал: немногие люди сумели бы так, как Данила, выдержать. Только теперь Зигмас понял, как все это случилось.
Когда лодка перевернулась и груз прижал Данилу ко дну, он не стал распутывать ремни, чтобы выплыть. Он просто пошел по этому самому дну. Как будто это заранее было им предусмотрено. А может, Данила действительно заранее предвидел подобное положение? Господи, но разве тех, кто тонет, не охватывает животный страх, разве Данила из другого теста? Данила зашагал по дну. Направление указывал ему бурлящий поток зимней реки. Чемоданы волочились за ним по дну. Только неоткуда было хлебнуть воздуха. Надо было идти, вот и все. Когда совершенно опустели легкие и уже уплывало сознание, все равно нужно было ощущать стремительный бег реки. Это был единственный компас.
В снегу торопливо выкопали яму, развели костер, переодели Данилу в сухую одежду, а он все никак не мог согреться. Люда из куска брезента соорудила у костра экран, от которого, как от печки, по яме распространялось тепло. Забыв обо всем на свете, девушка прижалась лицом к груди Данилы. Данила в забытьи ласково гладил Люду по голове. Зигмас и не подозревал, что у начальника могут быть такие нежные чувства.
Обтаявшие края ямы сверкали, как стеклянные. От брезента шел пар. Данила уже сидел, укрытый всеми одеждами, а сверху — грудой кедровых веток, и ничего не говорил — словно, просто отдыхал после тяжелой работы.
— Послушай… — Зигмас замялся: разговоры между ними до сих пор не доставляли особого удовольствия ни тому, ни другому. — Неужели ты не перепугался? Я бы… да и всякий другой… Ведь там здоровенная глубина… Черт знает, что стал бы человек выделывать!..
Данила улыбнулся, взглянул на Люду, словно спрашивая совета. Она тоже улыбнулась, но иначе, по-своему.
— Что ты! Я крепко струхнул… — После каждой фразы Даниле еще приходилось останавливаться. — Струхнул: а вдруг да испугаюсь по-настоящему? Тогда все. Тогда бы не дошел. Да где там… С перепугу у человека весь кислород в поджилки уходит.
— Хорошо. Допустим, я тебя понимаю… — Зигмас придвинулся поближе. Больше он не мог держать камня за пазухой. — Ну, а вообще? О нашем походе? Ведь ты знаешь, — Зигмас замялся. — Ну, а если б мы не нашли охотников на месте? Тогда… Ты ведь понимаешь, ты сам сибиряк…
— Я с Сивцева Вражка… Есть такой в Москве.
— Ну, все равно. Ты давно… когда ты кончил?
— В позапрошлом.
Зигмас опустил руки: стена, разделявшая их, нисколько не уменьшалась. Данила словно не интересовался этим разговором. Странным было его лицо. Лицо усталого человека. Подбородок и щеки худые, как у подростка. Выпирающий кадык. Густые заломленные брови, высокий и широкий лоб. От пушистых волос голова казалась еще шире. Данилины глаза, подернутые синей дымкой, были теперь огромными. Ресницы длинные, как у актрисы в кино.
Однако Дацила не забыл невысказанного вопроса Зигмаса.
— Выходил ты когда-нибудь на марафонский бег? — спросил он вдруг.
— Нет, где уж мне… Сам знаешь, какой из меня спортсмен.
— Да я совсем не про спорт! — Данила досадливо нахмурился. — Не хотел я тебе говорить, ты у нас человек случайный. Через пару дней расстанемся, и поминай как звали. Но ты скажи, у тебя когда-нибудь разрывалось сердце от счастья?
Зигмас молчал.
— Каждому нужно покрыть свою марафонскую дистанцию. Всего себя бросить в бешеный темп. Бежать, когда уже отказывает сердце и все затягивается туманом, когда ты чувствуешь, что сделал все, а говоришь себе «еще»! Тебе помогают тысячи незнакомых людей. Потомков, если тебе так хочется. Понимаешь? Им ты оставляешь свои дела. Геологическую карту, шахты, шоссейные дороги в тайге! Распаханную целину!
Данила обеими руками дернул ворот: ему уже стало жарко.
— На свете немало несчастных людей. Они немножко любят, немножко ненавидят. Обнимут — и сразу отпустят. Дышат — да только одной половиною легких. Помирают — и сами не знают, почему они такие несчастные.
Шуршал на ветках тающий от костра снег.
Зигмас чувствовал себя странно, будто во сне. Ему показалось, что с Данилой не случилось никакого несчастья. Данила такой, как всегда, взгляд устремлен в себя самого. Вот он даже не кутается в одеяло, грудь нараспашку.
— Так это и есть твой марафон? — Зигмас покраснел, сообразив, что, пожалуй, не так надо задавать этот вопрос.
— Нет… Должно быть, еще нет. Может, в будущем… — Данила говорил совершенно спокойно, словно о будничных вещах. — Надо пробовать еще и еще. Если удалось один раз, трудно дальше жить по-старому… Буду проситься в управлении на Чукотку… Есть там одно место, я знаю…
— И Люда с тобой?
— Да, и Люда и Петя. Мы друг другу нужны.
Петя сидел, упираясь руками в ветки и гордо откинув голову. Пете всего шестнадцать лет. Для Люды же вообще, кроме Данилы, ничего не существовало.
Утром на уцелевшей лодке они двинулись дальше. Переплыли еще два-три порога, а потом река стала уже слишком глубокой, чтобы ее могли стеснять какие-то пороги и водопады. Лишь местами приходилось прорубать ледяные перемычки.
У берега моря их ожидал вызванный по радио маленький буксир с громким именем «Робеспьер», насквозь пропитанный запахом селедки. Седой капитан с нервно подергивающимся лицом божился, что если их по дороге застигнет шторм, то он укроется в первой попавшейся бухте и там зазимует.
…Неделю спустя с чемоданами в руках они стояли на деревянном причале, удивленные обилием людей и городским шумом. Тут же, над гаванью, светилась вывеска с надписью «Ресторан «Север».
Багаж они свалили на некрашеный пол, поручив его попечению швейцара. Только чемоданы и завернутые в палатку образцы Данила поставил так, чтобы не терять их из виду. Люда побежала за последними радиограммами: «только взглянуть и обратно».
Данила с подчеркнутой торжественностью вручил Зигмасу меню.
— Командуй парадом! Я слышал, как ты хвастал. Что ж, показывай свое западное воспитание.
Вернулась Люда, раздала письма, радиограммы.
— Для вас тоже хорошее известие, — Люда протянула Зигмасу синий листок. Она в первый раз сказала ему «вы».
Это был ответ министерства на заявление, поданное еще летом. Зигмаса вызывали домой, в Вильнюс.
— Что мы кушаем? — Люда не могла усидеть на месте. — Зигмас выбирает. Вот наедимся!
— Стало быть, отделался ты и от Данилы, и от тайги, и от всего прочего. С чем и поздравляю! Думаешь, я не видел, как тебе было со мной трудно? — Данила холодно рассмеялся, откинув голову.
— Есть хочу! — нетерпеливо топал ногами Петя.
Официантка стояла рядом и ждала.
— Будьте добры, четыре порции горохового супа, — тихо сказал Зигмас.
Петя и Люда зашумели:
— Спятил совсем! — Петя провел ладонью у подбородка. Они еще ничего не понимали.
— Зиг-мас? — Данила хлопнул ладонью по столу, и посуда со звоном подскочила. — Подумай! Ты же сам говорил, какой из тебя спортсмен…
— Четыре… супа… — повторил Зигмас и даже обиженно поджал губы.
Перевод с литовского И. КАПЛАНАСАЧудеса ХХ века
СЕГОДНЯ — ЭТО ПРОЕКТ, НО ЗАВТРА…
Прислушайтесь внимательно к пульсу нашей жизни, вглядитесь пристальней в нашу действительность — и вы увидите, как рождаются чудеса.
Советские инженеры разработали проект единой европейской системы речного судоходства, советские биологи оперируют живую клетку, советские физики изучают элементарные частицы с помощью самого мощного электромагнита в мире…
О семи чудесах света ходили легенды. Рассказы о чудесах нашего времени, чудесах, которым нет счета, не сходят со страниц газет и журналов, Вот очередные сообщения.
Завтра вы сядете в Москве на теплоход и отправитесь в… Париж. Крылатый корабль отойдет от причала Химкинского порта. Канал имени Москвы, Большая Волга, Горький, Саратов, Сталинград, последние шлюзы Волго-Дона — и вот перед вами Азовское море. Так можно плыть уже сейчас. В недалеком будущем целая система гидротехнических сооружений пересечет Арабатскую стрелку, Крымский полуостров и через строящийся сейчас Северокрымский и уже существующий Краснознаменский каналы соединит Днепр с Азовским морем.
Рассекая воды Днепробугских лиманов, ваш теплоход помчится к Одессе, а затем вдоль побережья — к устью Дуная. По Дунаю вы сможете добраться до Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.
Но ваш теплоход держит курс на… Берлин.
Система каналов соединит Мораву — приток Дуная — с Одером и Эльбой. Короткая полноводная Шпрее — и вы в Берлине. Здесь путь снова разветвляется. Новый канал пойдет на запад, к Эльбе. По Эльбе вы спуститесь к Гамбургу, а оттуда через Северное море или по среднегерманскому каналу попадете в Бельгию, Нидерланды, Францию…
По каналу Марна — Рейн или по бельгийским путям даже крупные грузовые суда смогут прибыть в Париж, а канал Рейн — Сона — Рона свяжет Центральную Европу с югом Франции.
Из Берлина вы сможете повернуть и на восток. Система каналов соединит Одер с Вислой, а затем — через Буг и Припять — с Днепром.
Единая европейская «река» гигантским кольцом свяжет многие страны…
Так в общих чертах выглядит проект единой европейской системы речного судоходства, предложенный Советским Союзом Экономической комиссии ООН.
За принятие проекта голосовали страны социалистического лагеря, Франция, ФРГ, Швеция, Голландия, Австрия. Деловые круги этих стран уже предпринимают шаги для реализации советской идеи единого европейского водного пути.
В осуществлении проекта, видимо, будут посильно участвовать все заинтересованные страны. Расходы на гидротехнические сооружения окупятся менее чем за 10 лет с того времени, когда единый европейский водный путь вступит в строй.
МИЛЛИОН ВОЛЬТ
В герметически закрытых защитных кабинах, поставленных на огромные фарфоровые треножники, работают научные сотрудники экспериментальной станции Института постоянного тока. Не думать о технике безопасности нельзя: на опытной линии электропередачи напряжение достигает 1 000 000 вольт.
Такого высокого напряжения на линиях электропередачи нет нигде в мире. Достичь его стремятся энергетики многих стран, Ведь чем выше напряжение, тем экономичнее транспортировка энергии. Исследования ученых Института постоянного тока помогут создать крупнейшую, в мире линию электропередачи постоянного тока Сталинградская ГЭС — Донбасс, которая будет работать под напряжением 800 тысяч вольт. Еще большее напряжение потребуется на линиях, которые предстоит соорудить в Сибири.
Этот фантастический пейзаж вы можете увидеть в районе Бюраканской астрофизической обсерватории. На снимке — антенны крупнейшего в Советском Союзе радиотелескопа. Радиотелескоп позволяет астрономам проникнуть в тайны жизни вселенной — он исследует радиоизлучения небесных тел, отдаленных звездных систем.
Какому богатырю под силу поднять эти огромные — в несколько этажей высоты — штабеля древесины? А вот человек, который управляет мощными кабель-кранами, может выполнять сегодня подобную работу. Эти машины доставляют древесину на площадку Красноярского целлюлозно-бумажного комбината.
ОГОНЬ ДОБЫВАЕТ РУДУ
…Огненная струя газа температурой в 3000° устремляется в горную породу и пронзает ее. Это не строки из научно-фантастического романа. На шахтах Криворожья уже применяются первые установки кислородного бурения.
На 8 метров в глубь земли уходит за час огненный луч. Обычные механические станки дают 3–4 метра за смену.
НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ — ЖИВАЯ КЛЕТКА
Можно ли представить себе операцию на клетке? Вспомним: в сантиметре — 10 миллиметров, в миллиметре — 1 000 микрон. 10–20 микрон — размер большинства клеток, из которых построены живые организмы.
И тем не менее ученые проводят хирургические операции отдельных клеток. В последние годы арсенал инструментов микрохирургов пополнился удивительным «лучевым скальпелем».
Профессор С. С. Чахотин разработал новый способ облучения отдельных частей клетки микропучком ультрафиолетовых лучей. Сечение этого пучка составляет всего одну миллионную долю квадратного миллиметра.
Подвергнутые операции клетки помещаются в микроклинику, где микроскопические пациенты остаются живыми в течение недель. Таким образом, ученые имеют возможность наблюдать последствия микрооперации.
Метод профессора С. С. Чахотина открывает широкие перспективы в области изучения развития организмов.
Самый глубокий в мире
В Донбассе сооружается гидрорудник «Октябрьский». Его стволы уйдут в глубь земли на 870 метров. Это самый глубокий гидрорудник в мире. Уголь будет добываться и подниматься на поверхность силой воды и сжатого воздуха.
Д. Краминов ПОБЕГ
Рисунки П. ПАВЛОВА
1
Устругова и меня доставили в концлагерь Бельцен. Партию новых заключенных выстроили перед «административным блоком». Комендант, невысокий, плотный эсэсовец с маленькой белобрысой головкой и по-женски широким задом, пробежал вдоль шеренги, остановился в дальнем конце, потом медленно двинулся назад. Изредка он задерживался перед теми, кто имел несчастье привлечь его внимание. Остановился и перед Уструговым. Смерив его взглядом с головы до ног, Дрюкашка — так прозвали эсэсовца в лагере — ухмыльнулся и, сделав шаг вперед, ударил тростью по глазам Георгия. Мой друг взметнул руку, вырвал трость и, сломав ее своими сильными пальцами, отбросил в сторону.
Комендант отпрянул назад, взвизгнув:
— Ах ты, швайн! Ты портить мою дорогую вещь!..
Он сунул руку в карман брюк, где держал пистолет, но вытащить его сразу не смог.
— Не стреляйте его, герр штурмбанфюрер, — выкрикнул толстоплечий и крупнолицый охранник. — Он ищет легкой смерти.
Комендант резко повернулся.
— Что ты сказал?
Вместо ответа охранник вытянул перед собой огромный кулачище, оттопырил указательный палец, затем согнул, будто нажимая гашетку. Дрюкашка понимающе кивнул и погрозил Устругову пальцем.
— Не будет тебе легкий смерть.
Потом, обращаясь к охране, закричал:
— Бить его, чтобы лежачим стал! Поднимется на ноги — еще бить, еще поднимется — опять бить. Потом повесим.
Я не удержался и закричал, что коменданту не миновать расплаты. Дрюкашка удивленно посмотрел на меня и махнул охранникам:
— И этого.
Затем, шествуя, как на параде, вдоль шеренги заключенных, он совал кулаком в лайковой перчатке в сторону выбранных и тут же осужденных им людей:
— И этого… и этого… и этого…
Толстоплечий обладатель огромного кулака сказал что-то другим охранникам, показав на Устругова. Те изучающе осмотрели его. Один из охранников протянул толстоплечему руку, а другой ребром своей ладони разрубил их рукопожатие. Они держали какое-то пари. Толстоплечий направился к Георгию, постоял немного, самодовольно осклабившись, потом коротко размахнулся и ударил в подбородок. Устругов охнул, откинув резко голову назад, отступил, но на ногах удержался.
Охранники засмеялись.
— Проиграл, проиграл! — выкрикнул кто-то из них.
— Готовь бутылку коньяку…
Толстоплечий, расставив ноги пошире, снова размахнулся и ударил моего товарища, вложив е удар силу и вес своего крупного тела. Георгий опять устоял. Это вызвало еще больший хохот и крики:
— Две бутылки коньяку!.. Две бутылки… Две, две…
Охранник бросился на Устругова, повалил на землю и стал топтать ногами.
Позже мы узнали: физически очень сильный, но тупой и злобный Гробокопатель — т ак звали в лагере охранника — хвастал, что одним ударом собьет с ног любого заключенного. Он предлагал своим товарищам пари и всегда выигрывал. Это было нетрудно: истощенные голодом и побоями заключенные были слабы. Не сбив Георгия ни с первого, ни со второго удара, Гробокопатель выставил две бутылки коньяку и предложил повторить пари. Он уговорил Дрюкашку пока не вешать Устругова.
Через несколько дней, как только Георгий поднялся на ноги, охранник, надеясь отыграться, снова попробовал свои кулаки. Не сумев бросить Георгия на землю с первого удара, он опять избил его. Это повторялось много раз.
Мы понимали: как только Гробокопатель выиграет пари, Устругова отправят на виселицу. Почти всем бараком заключенные помогали Георгию набраться побольше сил. Провожая на тяжкое испытание, просили:
— Держись, Егор, крепче держись… Только один удар… Понимаешь — один!..
В тот первый день, проиграв пари, Гробокопатель обрушился на новых заключенных с особым ожесточением. Избитых и обезображенных, нас с Георгием приволокли в барак штрафных.
Первое, что увидел я, очнувшись, была большая толстая петля виселицы, заглядывавшая в окошко. Я невольно прошептал:
Конец…
— До конца еще далеко, брате мой, если человек сам говорит «конец», — возразил кто-то.
Оторвав глаза от окошка, я увидел прямо над собой изуродованное лицо. На худых, ввалившихся щеках, будто кляксы, расплывались синяки и кровоподтеки, большой рано облысевший лоб бороздили шрамы, разбитый нос распух. Наверное, человек заметил испуг в моих глазах.
— Страшно? — И сам же ответил: — Да, разукрасили, постарались.
— Охранники?
— Кто же еще!
Он вытер мокрой тряпкой мой лоб.
— Им нравится калечить людей, Это Дрюкашка «смягчает» новых заключенных, чтобы боялись и послушней были.
— Всех он так встречает?
Сосед утвердительно кивнул головой.
— Почти всех. Правда, вас с товарищем отделали сильнее, чем обычно. Приятель твой трость коменданта сломал, а тот с ней не расставался: признак благородного происхождения. Вам еще повезло. Он мог пристрелить обоих там же.
— Ну и лучше было бы! Сколько мук еще примешь, а конец один… Через день-два грозят повесить.
Склонившийся надо мной вздохнул:
— Тут есть люди, по два месяца и больше живут. А тоже грозили их повесить. Может, забывают угрозу-то.
— Забудут на день, на два, на неделю, на две даже. А дальше что?
— Выиграть полмесяца жизни, брате мой, — великое дело. За полмесяца многое может произойти и в этом лагере и за его оградой.
Сосед осторожно, даже нежно коснулся моих плеч.
— Не сдаваться и не терять надежды, брате мой. Слышишь? Не сдаваться!
В те дни худое, с кровоподтеками и шрамами лицо не раз склонялось надо мною. После этого почти всегда становилось легче: раны и ссадины горели меньше, лежать было удобнее, жажда почти не томила. Я узнал, что человека, который обмывал мои раны, поил и кормил меня, именовали Василием Самарцевым, все звали его просто «Вася».
Штрафной барак наш был длинный деревянный сарай с редкими мелкими окошками, мокрым земляным полом и нарами, расположенными в три яруса. Средину сарая занимал большой сколоченный из неотесанных досок стол. Прямо над ним к стропилам были прикреплены электрические лампочки. Огражденные проволочной сеткой, они мутно желтели по ночам.
Здесь томились русские и украинцы, белорусы и поляки, чехи и евреи, французы и бельгийцы, сербы и голландцы. Было несколько немцев, датчан и норвежцев и даже один англичанин. По разным причинам попадали сюда люди, но участь их была одинаково ужасна: штрафников чаще и ожесточеннее били, чаще посылали на виселицу или в «медицинский блок», где над заключенными проводились какие-то зверские опыты.
Прошло еще несколько недель, прежде чем я услышал от Самарцева слова, заставившие мое сердце заныть от радости и тревоги. Вася и я работали в дальнем углу песчаного карьера. Мы были подавлены и молчаливы: в тот день охранники застрелили троих заключенных. И вдруг Самарцев, продолжая грузить тачку, спросил:
— Готов рискнуть, чтобы вырваться отсюда?
Я выпрямился и обрадованно сказал:
— Хоть сейчас!
— Не разгибайся, не разгибайся! — шепотом приказал он. — Не привлекай внимания того черта, что над нашими головами на краю карьера стоит.
Я усердно заработал лопатой.
— Только как отсюда вырвешься? Как?
— Придет время — за оградой лагеря окажемся, — ответил Вася. — А там сумеем от конвоя избавиться, если заранее все продумаем и ко всему приготовимся.
Сказав последнее слово, он схватил тачку и погнал ее по доскам наверх. Я последовал за ним в бесконечной веренице тачечников.
Вернувшись с пустой тачкой, я попытался возобновить разговор, но Самарцев тут же прекратил его и взял с меня слово ни с кем не говорить об этом и никогда не упоминать слова «побег».
Лишь убедившись, что я могу терпеть, быть осторожным и держать язык за зубами, он познакомил меня с товарищами по заговору.
К ним я уже успел присмотреться. Двадцатитрехлетний Алексей Егоров был сдержан, решителен и в разговорах и в деле; через непоседливого и словоохотливого Максима Медовкина мы узнавали новости из всех уголков лагеря; капитан Жариков был угрюм и молчалив. Участвовали в заговора еще двое наших товарищей: пианист Миша Зверин, быстро переходивший от жалкого уныния к вызывающей бесшабашности, и колхозник Павел Федунов, ожесточенный до крайности. Он трижды бежал из плена, его ловили, избивали и, наконец, бросили в концлагерь. О нашем замысле знал Казимир Стажевский. Польский антифашист, скитавшийся в эмиграции по многим европейским странам, участник боев, в Испании, этот сорокалетний человек прошел большую жизненную школу.
Участником заговора стал и Георгий Устругов. По-прежнему мы были с ним дружны. История нашей дружбы была давняя и необычная. Впервые мы встретились, с ним в веселой студенческой компании весной сорок первого года. Мне тогда захотелось поближе узнать этого рослого, широкогрудого парня с продолговатым худым лицом и большими карими глазами, смотревшими вопрошающе и смущенно. Но мы не успели сдружиться, не успели приступить к работе: началась война.
Под Смоленском моему взводу приказано было прикрывать саперов, которые отступали последними, взрывая станционные здания, водокачки, мосты. Командовал саперами долговязый лейтенант, на обросшем и грязном лице которого выделялись большие карие глаза. В них застыло недоумение, будто хозяин не мог понять, что же произошло. Глаза показались мне знакомыми, и, присмотревшись внимательнее, я узнал Устругова.
Меня ранили. Вернувшись через несколько месяцев из госпиталя в действующую армию, я получил назначение в полевую разведку. Ходил с дозорами, устраивал засады и вылазки. Немецкая засада подкараулила нас. Меня оглушили ударом по голове и скрутили, забив рот кляпом. Очнулся я в немецком блиндаже от острой боли в руке: мне жгли пальцы, чтобы привести в сознание. Те, кто захватил меня, спешили: на советской стороне чувствовалось большое движение, и немецкое командование хотело знать, что там происходит. Я молчал. Меня били, допрашивая в блиндаже, били в штабе полка, затем в штабе дивизии, армии; били на всем долгом пути от родных мест до западногерманского городка Дипхольца, где находился лагерь военнопленных.
Там я вновь увидел Устругова. Сначала ни я не узнал его, ни он меня: так изменились оба. Высокий, худущий, с длинными большими руками, он выглядел еще более неуклюжим. Сапер странно таскал ноги, будто их обременяла невидимая тяжесть. Лицо его стало суровым и неподвижным, как маска. Большие карие глаза, смотревшие раньше на мир то с благожелательным интересом, то с недоумением, казались пустыми, словно уличные фонари без ламп.
Окликнутый мною, Устругов долго всматривался в меня, узнал, наконец, и жалко улыбнулся.
— В-в-вот х-х-хорошо, что т-ты попал сюда, — сказал он, сильно заикаясь. Поняв, что сморозил чушь, с той же медлительностью стал поправляться — Т-т-то есть п-п-плохо, что т-т-ты здесь… в этом лагере, то есть… что м-мы в-вместе.
Он совсем сбился и обескураженно замолчал.
Когда я обратил внимание на го, что он говорит с трудом и ноги передвигает, будто глину месит, Георгий пожаловался:
— К-к-кон-т-тузия… Она, п-п-прок-к-лятая, меня сюда п-при-вела.
Он помолчал немного, точно отдыхая от речевого напряжения, потом, произнося слова реже и четче, добавил:
— Отпускать немного начала… А т-т-то совсем п-п-плохо говорил.
После неудавшегося побега нас перевели в Бельцен.
И вот мы снова сговариваемся о побеге.
Все ждали возможности вырваться на волю с мучительным нетерпением, но сдерживались. Однако Зверин и Федунов иногда взвинчивали других, и мы тоже готовы были действовать очертя голову. Едва оставались одни, Зверин начинал приставать к Самарцеву, чуть ли не беря его за грудки.
— Ну, когда же? Когда?
Василий советовал ждать. Это вызывало у пианиста ярость.
— Чего ждать? Когда нас всех перевешают? Или в «медицинском блоке» уморят?
Самарцев осторожно отводил его руки.
— Должны ждать, брате мой. Должны ждать, когда за лагерем окажемся. У нас нет иной надежды вырваться.
— Лучше попробовать рвануться прямо отсюда, — сказал Федунов, — и будь что будет! А то поодиночке всех передушат.
— По одному не скоро перебьют, — убеждал Самарцев, — а так сразу всех уничтожат. Это, брате мои, массовое самоубийство.
В конце концов, покипев и побурлив в своем тесном кружке, мы следовали совету: ждать. Мы крепко дружили. И хотя в настоящей дружбе не может быть ни старшинства, ни подчинения, Василия считали старшим. По годам этот большеголовый и большеглазый парень был ровесник Медовкину и мне и значительно моложе капитана Жарикова. И все же, не голосуя и даже не обмениваясь мнениями, мы избрали вожаком именно Самарцева.
Наша готовность терпеть подверглась вскоре горькому испытанию. Однажды утром охранники забрали и увели куда-то непоседу и балагура Медовкина. Мы ждали его целый день, ночь и еще день. И, наверное, долго бы ждали, как ждут пропавших без вести, если бы знакомый Егорова из соседнего барака не рассказал, что посиневшее и изувеченное тело Максима зарыли в дальнем углу лагеря.
В тот вечер мы не собрались у нар Самарцева, как обычно. Долго сидели молча. Мысленно мы хоронили верного и нужного друга. Как часто бывает, только теперь почувствовали, какого хорошего парня лишились. Не стало человека, которого иногда иронически, чаще с восхищением называли «лагерной газетой». Его смерть напомнила, что наши жизни зависят от дикой воли коменданта-садиста и каждый может отправиться за Максимом в любую минуту.
— Нет, мы не можем больше ждать, — шептал едва слышно Зверин, опустив голову. — Не можем, не можем…
Егоров положил ему на плечо руку и встряхнул:
— Держись… На тебя англичанин смотрит.
Миша вскинул голову и злобно посмотрел на Крофта, стоявшего в двух шагах.
— Пусть смотрит… Я не могу больше, не могу…
Своей широкой спиной Федунов загородил товарища, шагнул к англичанину.
— Что нужно? Хочешь посмотреть, как русские по товарищу горюют? Слезами нашими полюбоваться захотелось?
Крофт не понял, конечно, ни слова, хотя почувствовал неприязнь, вложенную в них. Тем же равнодушно-презрительным взглядом смерил Павла, пожал узкими плечами и повернулся спиной. Он подошел к Самарцеву, одиноко сидевшему на своих нарах, и опустился рядом.
Федунов показал на них и сплюнул.
— Видите? Вон какие теперь у Самарцева дружки завелись.
Никто не отозвался. Только Зверин, вперив глаза в пол и тихо раскачиваясь всем корпусом, продолжал шептать:
— Не можем мы ждать… не можем…
— Ждать не можем, но и сделать ничего не можем, — резко сказал Жариков. — Ничего!
— Ничего? — переспросил Федунов. Он окинул злым, почти ненавидящим взглядом Жарикова, меня и смачно выругался, — Командиры!.. Не можем да не можем… Ведь вас учили, денег кучу потратили! Не можем… А вы скажите, что можем. Должны сказать, вы же командиры…
Подошел Василий и втиснулся на нары между Звериным и Егоровым. Некоторое время все сидели молча. Потом Федунов вскочил и стал перед Самарцевым.
— Ну что, Васька, и теперь будешь советовать ждать и терпеть?
Тот поднял на него потускневшие глаза.
— Да, и теперь…
Павел начал быстро краснеть: он всегда краснел, когда злость достигала степени бешенства. Перейдя на свистящий шепот, снова выругался.
— Не хочешь ничего делать — убирайся! Командир… Ты не командир, а тряпка! Ин-тел-ли-ген-тик…
Устало, больше с досадой, чем с обидой или недовольством, посмотрел Василий в искаженное злобой лицо Федунова, перевел глаза на Жарикова, Егорова, меня. В наших лицах не было ни злобы, ни ненависти. На них отразилась лишь тревога и безнадежность, близкая к отчаянию. Никто из нас не видел, не знал выхода, и нам хотелось верить, что Вася знает его и что он требует терпения, чтобы приготовить что-то верное, безошибочное. Солги он что-нибудь обнадеживающее, мы бросились бы качать его. Но Самарцев не хотел лгать и обнадеживать.
— Со мной можете поступать, как хотите, — сухо и даже жестко сказал он, — а вырываться отсюда не пытайтесь. Это самоубийство. Ничего другого сказать не могу — только ждать, товарищи, только ждать… И готовиться… Выпадет же случай, когда по ту сторону проволоки окажемся!
2
Лишь в самом конце зимы нам удалось оказаться «по ту сторону проволоки». Сильная метель, налетевшая откуда-то на северо-западную Германию, занесла дороги, по которым шло снаряжение на фронт, и власти распорядились послать на расчистку заключенных. Нас подняли еще ночью, накормили наспех вареной брюквой и, выдав лопаты, вывели за ворота лагеря.
Охваченная цепочкой конвоя, длинная колонна по четыре человека в ряд миновала последнюю сторожевую вышку и выползла в поле. День только начинался. Мутное, почти черное небо придавило землю. Мела поземка. Ее белые космы путались в ногах заключенных. Снег был рыхл и сух. Ноги, обутые в брезентовые бутсы на толстой деревянной подошве, со скрипом скользили и вязли в нем.
Колонна двигалась медленно и тяжело. Обессиленные голодом и побоями, заключенные вяло, с безнадежностью уже Побежденных, отбивались от ветра. Четкие ряды, в которые, как в обоймы, втиснули нас перед выходом из лагеря охранники, распались.
Мы воспользовались этим, чтобы сойтись на несколько минут вместе. Поманив меня, Самарцев стал пробираться к Жарикову, шедшему немного впереди. Я протиснулся к нему и пошел рядом.
Василий заглянул в глаза капитану и тихо, так что я едва-едва расслышал, произнес:
— Рванем сегодня.
— Другой такой случай представится не скоро, — подхватил я.
Жариков кивнул головой. Мы так долго думали о побеге каждый в отдельности и так часто шептались вместе, что понимали друг друга с полуслова, по намеку, по жесту. Самарцев показал на ручку своей лопаты.
— Когда конвой сольется с колонной…
Едва заметным наклоном головы мы одобрили намерение сокрушить охранников лопатами. Вася понизил голос до шепота:
— Передать всем нашим: пусть каждый держится вплотную к ближайшему конвоиру. Бить по моей команде. И захватывать автоматы.
То ли по фронтовой привычке, то ли подчеркивая, что слова Самарцева принимает как приказ, Жариков чуть слышно подтвердил: «Есть!» Василий повернулся вполоборота к нему.
— Ты с Федуновым возьмешь голову конвоя.
— Я возьму хвост, — поторопился я, добавив: —с Егоровым и Уструговым или еще с кем.
— Хвост будет самым трудным, — по-прежнему тихо и как будто бесстрастно заметил Самарцев. — Там удар должен быть совершенно неожиданным и быстрым. Замыкающих конвоиров возьму я с Егоровым и Звериным.
— Хвост возьмем мы, — повторил я. — Устругов сильнее всех, Егоров не подведет, а у меня опыта в таких делах больше, чем у любого из вас.
Я боялся за Василия: слов нет, он хитер и ловок, но физически для такого дела слаб.
— Ты не имеешь права рисковать собой, — сказал я.
Самарцев вскинул на меня глаза.
— Это почему же?
— Потому что без тебя нам не обойтись после.
Схваткой с конвоем побег только начинался. Ее удачный исход мог лишь открыть путь на волю. Долгий и трудный путь этот вел через большую враждебную страну, и беглецов всюду подстерегала опасность. Самарцев знал это. Бежав из лагеря военнопленных под Гамбургом, он прошел всю Германию, Польшу и в Белоруссии попал в руки немецкой полевой полиции потому, что не бросил заболевших спутников-беглецов. Потеряв Василия в схватке, мы лишились бы надежного проводника и вожака.
— Ты напрасно отправляешь меня на тот свет, — с усмешкой заметил он, поняв мои опасения. — Устругов твой крепок и силен, только в таком деле сила не главное. Тут нужна прежде всего ловкость. Смелая и осторожная ловкость. — И заключил категорично, почти резко: —Ты будешь с ним в центре колонны.
Жариков опять молча наклонил голову: одобрял Самарцева.
— Где начнем? — спросил капитан.
Самарцев вглядывался в мутную даль, где на фоне темной гряды леса обозначились фермы большого моста.
— Думаю, на мосту.
— Правильно, — одобрил капитан.
— Верно, лучшего места не найти, — согласился я, когда Василий вопросительно посмотрел на меня.
Я и сам подумал о мосте, как только колонна повернула на дорогу, по которой нас с Уструговым доставили в лагерь. Тогда конвоиры, державшиеся по обочинам дороги, на мосту пошли вплотную с заключенными. Это запомнилось мне особенно хорошо, потому что там у Георгия появилось вдруг желание схватить ближайшего эсэсовца и броситься с ним вниз, в воду…
Оставалось только ждать, пойдут ли охранники вместе с заключенными. Если пойдут — нам повезло! У нас в руках железные лопаты, и схватка будет рукопашной.
Возвращаясь на свое место, я бросал быстрые взгляды на соседей. Выискивал товарищей. В однообразной толпе нелегко было найти их. Обнаружив кого-нибудь, я шел с ним рядом, шепотом передавал приказ, затем находил другого и так же тихо объяснял, что нужно делать.
За нашей спиной скрылись, потонув в белой мгле, крыши бараков и сторожевые вышки проклятого лагеря. Я пробыл в нем пять месяцев, а постарел, казалось, на пятьдесят лет.
Впереди все отчетливее темнел лес, все яснее выступали фермы моста. Конвоиры, шагавшие по обочинам дороги, все чаще прижимались к заключенным. Они вливались в толпу, выделяясь среди полосатых фигур темно-зеленой одеждой да автоматами, висевшими на груди. Я уже примеривался на глазок, смогу ли достать лопатой «своего» охранника.
С опасением и надеждой посматривал я назад, в хвост колонны. Один за другим отставали Самарцев, Зверин, Егоров, пока все трое не оказались в самом последнем ряду. Василий уныло плелся, втянув голову в поднятые плечи и глядя себе под ноги. Со стороны никак нельзя было догадаться, что он приготовился к схватке. Так же уныло брел Егоров, хотя ему трудно было согнуть мощную спину и опустить квадратные плечи. Да, на Егорова можно было положиться. Этот парень дела не испортит.
Хуже вел себя Зверин. Он слишком часто вскидывал голову и посматривал на конвоиров так, будто собирался броситься на них сию секунду. Самарцев, думал я, напрасно рисковал, взяв его с собой в хвост колонны. Конечно, Михаил смел, быстр и увертлив, как кошка, у него цепкие, сильные руки, но характер его уж очень неустойчив.
В голове колонны я видел широкие плечи Жарикова. Он шел, немного наклонив голову вправо, будто прислушивался к тому, что говорил ему Федунов. Они держались в третьем ряду и могли, сделав несколько широких шагов, оказаться прямо за спиной начальника конвоя.
Ближайшие товарищи, которым я передал приказ Самарцева, плохо скрывали нетерпение. Даже Устругов, шедший рядом, уже несколько раз показывал глазами на конвоиров, подходивших вплотную, точно подталкивал: пора начинать. Я отрицательно качал головой и почти беззвучно напоминал:
— На мосту.
Красноватый каркас моста медленно надвигался на нас.
Теперь ясно различались отдельные фермы и переплеты, оранжевые бочки с песком, поставленные у входа на мост, и даже зеленоватые стеклянные изоляторы телеграфа, прилипшие к фермам. С реки поднимался пар.
Чем ближе подходила колонна к мосту, тем беспокойнее становилось у меня на сердце. А вдруг начальник конвоя разделит охранников на две группы: одна пойдет впереди, вторая позади колонны? Тогда все расчеты наши и надежды рухнут!
Волновался я напрасно. У моста начальник конвоя остановился и медленно, словно на шарнирах, повернулся. Упав во время скачек с лошади и повредив позвоночник, он носил подобие жесткого корсета, который подпирал его голову. Старый солдафон двигался четко, как машина, и мог поворачиваться только всем корпусом. Опасаясь неожиданного нападения, он держал рядом сильного и скорого на руку вахмистра. Тот был проворен, стрелял моментально и без промаха. Начальник брезгливо осмотрел уныло бредущую толпу, потом так же медленно повернулся к ней спиной и зашагал дальше. С гулким топотом на мост вступили заключенные. Полосатый поток как бы слизывал конвоиров с обочин и нес с собой в теснину моста.
До боли в пальцах зажав ручку лопаты, я бросал взгляды то вперед, где ровно двигалась торчащая над всеми голова начальника, то назад, на хвост колонны, растянувшейся по насыпи. Мы рассчитывали ударить по конвою, когда вся колонна втянется на мост. Это явно не удавалось. Голова конвоя уже приближалась к последней ферме, а хвост все еще месил снег перед мостом. Прошло еще полторы-две невероятно длинные и томительные минуты, заставившие меня взмокнуть от пота, прежде чем послышался звонкий голос Самарцева:
— Бей!
В ту же секунду я вскинул лопату и с силой опустил ее ребром на голову конвоира. Белобрысый охранник громко крякнул, уронил руки с автомата, висевшего на груди, и стал медленно оседать.
Растерявшийся на секунду Устругов рванулся к охраннику, который шел в нескольких шагах позади нас. Тот видел, как сверкнула в воздухе лопата, и, даже не сообразив, что это значит, направил автомат в нашу сторону. Но его правая рука в толстой вязаной рукавице не смогла нажать гашетку. Он пытался сорвать рукавицу зубами. Через одну-две секунды автомат хлестнул бы в нас сокрушающей смертельной струей.
— Бей его! Бей! — закричал Георгий, стараясь прорваться к конвоиру.
Охранник отпрыгнул к стальной ферме и прижался к ней спиной. Нацеленная неуверенной или слабой рукой, лопата плашмя опустилась на его голову, большого вреда не нанесла, а лишь надвинула шапку конвоиру на глаза. Мгновение, которое потребовалось ему, чтобы оторвать руку от автомата и поправить шапку, спасло нам жизнь. Сбив двух заключенных, оказавшихся на пути, Устругов подскочил к охраннику и ударил его своей лопатой. Громко стукнувшись головой о ферму и скользя по ней спиной, тот сполз на дорогу. Георгий сорвал автомат, оттолкнул труп в сторону и присел спиной к ферме. Тоже завладев, автоматом, я подбежал к Георгию и опустился рядом, чтобы вместе отражать нападение.
В голове колонны треснули два выстрела.
— Э, черт! Не сумели голову сразу снести…
Значит, Жарикову и Федунову не удалось справиться с начальником и вахмистром неожиданно и кто-то из них стрелял, либо обороняясь, либо поднимая тревогу. Будто отвечая на сигнал, в хвосте колонны пугающе громко гаркнул автомат.
— И там сорвалось. Хвост тоже не срубили…
Автомат, однако, тут же умолк, словно захлебнулся. В другом конце моста хлопнули еще два выстрела, резких и четких. Я вскочил на ноги, стараясь рассмотреть, что там происходит, но ничего не увидел.
Бурлящая толпа закрывала оба конца моста. А на мосту шла смертельная схватка.
В хвосте колонны снова загремела автоматная очередь, за ней другая, более длинная. Потом сразу затрещали два-три автомата. Их говорок слился в одно злобное рокотание.
— Ложись! Все ложись! — скомандовал я и тут же с досадой выругался: меня не слышали.
То, чего мы так боялись, случилось: хвост конвоя уничтожить не удалось. Самарцев, Егоров, Зверин погибли или сейчас погибнут. Теперь нам, завладевшим автоматами, надо было заканчивать схватку в открытом бою.
— Ложись! — громко повторил команду Устругов. — Все ложись!
То ли услышав приказ, то ли догадавшись, что от автоматов надо спасаться лежа, заключенные повалились на мост. На насыпи стояла группа конвоиров, Старательно и спокойно они расстреливали лежавших. Я прицелился в высокого охранника, палившего с особым азартом, и выстрелил. Выронив автомат из рук, тот рухнул плашмя. За ним повалились, но уже по собственной воле, другие. Наши товарищи, завладевшие автоматами, открыли шумную беспорядочную стрельбу.
— Берегите патроны! — крикнул я, но услышал меня только Георгий. Он ожесточенно рявкнул:
— Беречь патроны!
Я сказал своим безоружным соседям, чтобы ползли в дальний конец моста и тянули за собой других. Полосатые фигуры задвигались.
— Не поднимать голову! Не поднимать голову! — предостерегал я ползущих мимо. — За мостом сразу под откос и в лес…
С умелым старанием охранники расстреливали близлежавших.
— Они так перебьют всех, — растерянно пробормотал Устругов и повернулся, будто собираясь уползти вместе с другими. Я схватил его за плечо.
— Нам надо подобраться к ним ближе. И дать бой.
— Дать бой? — удивленно переспросил Георгий. — Вдвоем?
— Нет, не вдвоем. Со всеми, кто захватил автоматы.
— А как их соберешь? Они же по всему мосту…
— А вот так, — перебил я, вскакивая на ноги, и бросился вперед, крича во все горло: — За мной, кто с автоматами! За мной!..
Двумя секундами позже Георгий уже бежал рядом. Навстречу нам загремели выстрелы. Быстро и ловко, как во время перебежек на фронте, мы упали и поползли, раздвигая людской поток. Оглянувшись, я заметил, что за нами ползут еще несколько полосатых фигур: обладатели автоматов правильно поняли наше намерение.
Георгий вдруг резко взял вправо. Окликнутый мною, он показал пальцем вниз и крикнул:
— Я — под мост!..
С неожиданным проворством он просунул свое большое тело между горизонтальными фермами и исчез. Несколько минут я полз вперед один. Меня догнал Стажевский. Тронув за плечо, поляк сказал:
— В лоб их не возьмешь… Надо бы под мост двух-трех послать… чтоб со спины или с боков ударить конвоиров.
— Устругов уже под мостом.
На насыпи вспыхнула перестрелка. Мотнув головой в ту сторону, я не мог удержаться от радостного восклицания:
— Молодец, Георгий!..
Я вскочил на ноги и, сделав несколько прыжков, начал стоя стрелять по охранникам. Разбившись на две группы, они ожесточенно палили по обе стороны насыпи, целясь под мост. Рядом со мной вырос Стажевский, вскоре присоединились другие.
Два эсэсовца, лежавших к нам боком, выронили автоматы и плотно улеглись на снег, будто собирались отдохнуть. Третий попытался повернуться в нашу сторону, но тут же завалился на бок, потом на спину. Молодой охранник, виляя задом и пятясь, пополз от моста. Подгоняемый страхом, он вскочил и побежал. Пойманный пулей, рухнул в снег.
Стрельба прекратилась. Из-под моста выскочили Георгий и Федунов. Держа автоматы наготове, они ногами поворачивали лежавших ничком охранников, чтобы убедиться, не притворяются ли те.
3
Мы потеряли на мосту Егорова, Зверина и Жарикова. Вася Самарцев был тяжело ранен. Из первой семерки, которая подготовила эту схватку, остались трое: неуравновешенный, ожесточенный Федунов, тугодум Устругов и я. Все мы готовы были идти за кем-нибудь, но, как нам тогда казалось, не могли вести. Ни у кого из нас не было ни жизненной мудрости и обаяния Самарцева, ни командирского опыта Жарикова.
Мы не знали, что делать дальше. Долго не могли решить, как быть с Самарцевым. Сбитый им охранник выпустил очередь из автомата по Васиным ногам и почти перерубил их выше колен. Собравшись над товарищем тесным кружком, мы сочувственно вздыхали и жестоко ругали охранника. Самарцев пытался подняться, ухватившись за мою ногу, но тут же со стоном падал назад.
— Не бросайте меня здесь, — говорил он торопливо и испуганно. — Я не хочу оставаться в их руках. Они теперь со мной что-нибудь особенно страшное сделают.
И опять старался оторвать спину от асфальта. Я нагнулся и придержал его за плечи.
— Лежи, не возись. Ты только хуже себе делаешь…
Федунов молча отстранил меня, взял руку Самарцева и сунул в нее пистолет. Зажимая пальцы раненого на ручке пистолета, глухо пробормотал:
— Не пойдешь ты никуда, не сможешь… Ноги у тебя начисто перебиты. Не повезло тебе, друг Вася… А нам бежать надо. Иначе все тут останемся.
Самарцев поднял руку, синевато-черный «люгер» с плотной ручкой и длинным стволом удивил его. Внимательно и тревожно рассматривал он пистолет, словно впервые видел и никак не мог понять, зачем ему его дали. Поняв, метнул взгляд, полный смертельной тоски и ужаса на меня, на Устругова, на Стажевского. Никто не осмелился посмотреть ему в глаза. Тогда раненый, точно стыдясь чего-то, опустил веки и, положив руку с зажатым пистолетом на грудь, затих.
Эта обреченная покорность была тяжелее страха смерти, и я готов был завыть от бессильного горя. Вокруг расстилалась вражеская страна. Наша жизнь зависела теперь от того, насколько быстро мы будем уходить. Люди, терявшие способность передвигаться, теряли самую жизнь. Мы все понимали это и смотрели на Самарцева такими же опустошенными глазами, какими смотрят на могилу, принявшую в свое сырое, черное ложе гроб с близким человеком. Вот тогда-то мрачно-молчаливый Устругов, вдруг грубо выругавшись, оттолкнул локтем Федунова и, нагнувшись над Самарцевым, вырвал у него пистолет.
— Мы возьмем Василия с собой, — объявил он, не обращаясь ни к кому и даже не глядя ни на кого.
— Он же шагу ступить не может! — резко бросил Федунов. — Ты только измучаешь его, а конец все равно один. Знаю я вашу интеллигентскую жалость!
Устругов повысил голос:
— Мы возьмем его с собой!
— Действительно, мы только затянем агонию, — бросил кто-то за моей спиной.
— Мы возьмем его с собой! — почти закричал Георгий. — Возьмем с собой! Возьмем!..
Он распахнул шинель ближайшего охранника, расстегнул китель и, добравшись до белья, сорвал нижнюю рубашку. Поняв его намерение, я сделал то же самое. Разодрав рубашки, мы забинтовали Самарцеву ноги. Поверх повязки положили дощечки от разбитой бочки и закрутили их срезанным телефонным проводом.
После перевязки Георгий надел на раненого шинель охранника, его рукавицы и шапку. Затем так же торопливо снял шинель и сапоги с другого охранника для себя. Мы последовали его примеру: уже почувствовали, что появился новый враг — холод. Лишь Федунов отказался переодеваться, с отвращением оттолкнул труп конвоира, который указали ему.
Устругов взял Василия на руки, и вся группа почти бегом пересекла мост, задержавшись на минуту над телом Жарикова. Капитан лежал, широко раскинув руки. Повернув лицо на восток, он смотрел туда широко открытыми, остановившимися глазами.
Пока добирались до леса, погода ухудшилась. Снова надвинулись тучи, иссиня-черные и тяжелые, как чугунная заслонка. Повалили крупные хлопья снега. Метель, бушевавшая здесь последние дни, вернулась.
Это обрадовало нас и напугало. Радовались мы потому, что снег заносил следы и затруднял преследование. Боялись того, что холод убьет плохо одетых, голодных людей раньше, чем охранники бросятся в погоню.
В лесу, который вырос перед нами темной гудящей стеной, было тише. Над головами свистели и скрипели верхушки деревьев.
— Остановимся на минутку, — попросил Георгий, кивнув головой на три ели, тесно стоявшие недалеко от опушки. Их плотные ветки создавали что-то вроде естественного шалаша.
— Рано останавливаться, — пробурчал кто-то. — Нас тут сразу сцапают.
Я оглянулся, чтобы узнать, кто возражает. За нами шло человек семь-восемь. Одинаково одетые, одинаково обросшие и истощенные, они походили друг на друга, как пни после лесного пожара. Так и не узнав, кому принадлежал голос, я поддержал Георгия:
— Остановимся тут.
Беглецы расположились вокруг раненого тесной группкой. Нас оказалось совсем немного. Вероятно, остальные, вырвавшись на свободу, убежали в глубь леса. Страх погони будет подстегивать их до тех пор, пока они не попадают от изнеможения. Заключенные не знали о нашем замысле, но каждый мысленно совершал побег из лагеря ежедневно, обдумывал его в деталях, мечтал о нем. Каждый давно избрал свой путь. Немногие дойдут до конца, но все будут пытаться дойти.
Быстро оглядев собравшихся здесь, я еще больше упал духом. Обдумывая свой замысел, мы допускали, что кого-то потеряем в схватке или в пути. Но не думали, что вольными или невольными участниками побега окажутся люди, на которых трудно положиться.
У самых ног раненого сидел голландец Хаген. Он с удивлением посматривал то на Стажевского, то на меня. Он еще не пришел в себя после того, что пережил на мосту, и его большие светлые глаза выражали недоумение и испуг.
В лагере рыхлый, неповоротливый и неуклюжий голландец был воплощением беспомощности. Его широкое лицо, когда-то, вероятно, круглое и полное, напоминало теперь неосторожно испеченное яблоко — сильно помятое, со сморщенной, жухлой кожей. Под глазами чернели иссеченные морщинами мешки. По лицу Хагену можно было дать все пятьдесят, хотя на самом деле совсем недавно ему исполнилось тридцать пять лет. Встречаясь с соседями по бараку взглядом, он улыбался приветливо и немного заискивающе, а обращаясь к кому-либо, неизменно извинялся:
— Прошу прощения…
Соседи недоумевали, как, чем мог этот бывший учитель заслужить немилость нацистов. Голландец охотно рассказывал, за что попал в концлагерь. Хаген решил не подчиниться порядкам, установленным чужаками в родном городе. Первое же нарушение полицейского часа привело его в немецкую комендатуру. Там учителя продержали до утра и выпустили, посоветовав впредь внимательнее смотреть на часы. Второй раз ему прочли нотацию. Немецкий поручик с явным удовольствием напирал на умственную ограниченность местных жителей, не умеющих даже соблюдать порядок, наведенный, наконец, другими. После третьего задержания Хагена передали военному суду: хотели его проучить и других постращать.
На суде учитель попробовал доказывать, что сердце человека, его ум нельзя покорить силой, что их можно покорить тоже только умом и сердцем. Ошеломленный председатель суда — полковник — сорвал с носа очки, пошептался с членами суда и тут же лишил подсудимого слова. Не выходя из-за стола, суд торопливо посовещался и определил: в концлагерь на три года.
Крофт, и тут оказавшийся рядом, оставался равнодушно сдержанным, будто ничего особенного не случилось. Он снял бутсы и вытряс снег, тщательно очистив жалкое подобие носков. Англичанин занимался этим с такой серьезной озабоченностью, точно ничего важнее на свете не существовало.
В противоположность ему бельгиец Валлон, казалось, кипел от возбуждения. Он никак не мог усесться как следует. Его черные глаза, особенно выделявшиеся на бледном худом лице, светились радостью. Валлон осматривал всех с таким видом, словно говорил: «Наконец-то мы вырвались! Теперь мы покажем, что значит быть свободными».
— Молодцы! Вот молодцы! — проговорил он, улыбаясь Устругову, Федунову, мне. — Я даже не догадывался, что вы подготовили это. И так великолепно сделали!
Устругов сердито вскинул голову.
— Великолепно! — передразнил он. — Мы там половину друзей оставили. Самарцева вот в каком состоянии подобрали…
Валлон пожал плечами, явно жалея, что его неправильно поняли. Он сочувствовал нам, но радовался за себя, и глаза его продолжали по-прежнему излучать сияние. Англичанин оторвался от своих бутсов, услышав раздраженное замечание Устругова, его тонкие губы сложились в улыбочку, которую можно было принять и за насмешку и за укор. Но он тут же вытянул губы в нитку, и лицо его вновь приняло равнодушно-безучастное выражение.
Мало помощи приходилось ожидать нам и от француза Бийе. Нет, он не был беспощадным пацифистом, как Хаген, или себялюбцем, как Крофт, или вертлявым болтуном, каким прослыл в лагере Валлон. Француз был близок нам по духу, по симпатиям к советской земле, которые он не раз высказывал. Черные глаза француза искрились не то радостью, хотя радоваться было нечему, не то внутренним огнем. Он высвистывал веселые мелодии даже тогда, когда весь барак был охвачен унынием.
— Молодец! — говорил про него Самарцев. — Не сдается, что бы эти мерзавцы ни делали…
Дрюкашка запретил ему свистеть, но Бийе не затих. Тогда эсэсовцы вытащили его из барака на площадку под виселицу, долго били и топтали ногами. У Бийе несколько дней шла горлом кровь, он стал кашлять. Француз все же пытался свистеть, но вскоре бросил: прежние мелодии не получались.
Бийе пробежал от моста до леса не больше полутора километров, а уже сильно устал. Он не мог далеко уйти, и по пути сюда его подхватывал под руку чех Прохазка.
Чешский историк и литератор Прохазка, сидевший за спиной француза, посматривал на меня и Устругова с явной укоризной, точно говорил: «Нехорошо вы поступили со мной. Очень нехорошо».
Прохазка казался слишком изнеженным и мягким. Случайно толкнув локтем кого-нибудь или наступив на ногу, чех смущался и просил извинения таким тоном, что становилось жаль его самого. По утрам он непременно желал всем «доброго утра». На улице приветствовал «добрым утром» даже охранников. По вечерам, укладываясь спать, желал соседям «спокойной ночи» с таким усердием, будто верил, что не пожелай он этого, люди будут томиться всю ночь.
— Что же тут плохого? — удивился Стажевский, выслушав как-то мое ироническое замечание. — Вежливость — одно из приобретений цивилизованного человека. Прохазка хочет показать, что охранники не лишили и не могут лишить его этого приобретения. Отсутствие вежливости — первый признак оскудения души.
Самарцев, которому я передал слова поляка, подумал немного и решительно согласился:
— Верно. Грубому озверению нацистов чех противопоставляет яркую человеческую черту. Это как насвистывание мелодий у Бийе.
Прохазка заметил, что советские люди что-то замышляют. Улучив удобную минуту, он подошел ко мне.
— Когда бы и на что бы я ни потребовался, русские друзья могут располагать мною, как собой…
Я постарался изобразить на своем лице удивление, но, встретив прямой и понимающий взгляд чеха, пробормотал:
— Спасибо. Будем полагаться на вас, как на себя…
С неприязнью и даже раздражением обнаружил я среди бежавших немца Брюкнера. Его все считали врагом. Ненависть, которую зажгли в наших сердцах немцы в военной, особенно в эсэсовской форме, была так сильна, что распространялась и на него.
Как-то еще в лагере, чувствуя, что за настороженным равнодушием соседей зреет удар против него, немец подошел ко мне:
— Я есть не враг вам, я есть друг вам.
— Мы знаем, кто вы, — ответил я. — Иначе вы не были бы среди нас.
Глаза, наверное, выдали меня. Схватив мои руки выше локтя, Брюкнер почти с отчаянием зашептал:
— Вы должны мне верить, что я не враг есть…
Мы не верили ему, остерегались его как шпиона Дрюкашки и искали случая избавиться от него. Но не избавились в лагере, не избавились и на мосту. Теперь он посматривал на нас выжидательно и твердо, точно говорил: «Как бы вам ни хотелось, я все-таки тут и останусь с вами».
Был среди нас еще один беглец — Калабутин, которого я совсем не знал. Он попал в лагерь, вероятно, недавно: его лицо не было еще истощено, хотя немцы успели его изуродовать.
То, что все эти люди носили такие же, как у нас, полосатые фуфайки, штаны и тяжелые бутсы, не делало их одинаково надежными товарищами в долгом и трудном пути, который лежал перед нами.
Но пока нас связывала общая опасность, и мы, не рассуждая долго, решили пробираться в глубь леса.
Связывала нас также беспомощность раненого Самарцева. Упрямый Георгий хотел нести его один: сам взял, сам и понесу. Другие воспротивились этому.
По совету Стажевского сделали носилки и переложили на них раненого. Сначала несли их Устругов и я, потом Федунов и Стажевский, Прохазка и Калабутин. Затем протиснулись Валлон и Хаген и потребовали, чтобы им тоже дали понести Самарцева. Бийе и немец не нашли нужным спрашивать у кого-либо разрешения, молча взяв носилки из рук бельгийца и Хагена, будто считали это не только своей обязанностью, но и правом. Француз вскоре закашлялся, и равнодушно-безразличный Крофт сам вызвался заменить его.
Лес то редел, то становился гуще, снег под ногами то почти совсем исчезал, то доходил до колен. Метель не унималась. Временами скрип стволов и постукивание мерзлых сучьев затихали, будто пес прислушивался к чему-то.
В одно из таких затиший мы услышали церковный звон. Одинокий колокол ронял редкие звуки, которые летели друг за другом с медлительностью утомленных птиц. В этих воплях колокола слышалась скорбь и тревога: то ли прощались с кем-то, то ли сзывали людей.
Брюкнер, несший с англичанином носилки, кивнул головой в сторону набата.
— Там есть деревня, а на деревне похороны есть.
Минуты две стояли мы, прислушиваясь, потом резко повернули направо и пошли прочь. Звук набата исчез, заглушенный гудением сосен. Однако, пройдя в новом направлении около часа, мы опять услышали звон, такой же медлительный и печально-тревожный. Все остановились, повернувшись к немцу.
— Имеется еще одна деревня и еще одни похороны, — сказал Брюкнер без прежней уверенности.
Мы помнили, что повернули прямо на ветер и шли против него. Однако две деревни с похоронами в такую погоду… Уж не обманул ли нас ветер, который покружил нас по лесу и вывел к той же деревне?
Люди совсем растерялись, когда, повернувшись спиной к деревне и пройдя по лесу еще около часа, опять услышали рыдающий набат. Столпившись вокруг носилок, мы всматривались в низкое темное небо, сеющее снег, точно в самом деле надеялись увидеть, откуда появляются эти медные вопли.
Федунов растолкал беглецов и остановился перед немцем.
— Этот проклятый водит нас вокруг одной деревни, чтобы охранники подоспели и сцапали.
И хотя Брюкнер шел впереди меньше, чем остальные, все уставились на него. Утомленные и голодные, мы легко поверили, что немец действительно обманывает нас.
— Убить его, гада! Сейчас же избавиться от шпиона!
— Я есть не шпион, — твердо возразил Брюкнер.
— Не шпион! — передразнил Федунов. — Так мы тебе и поверили! Ведь тебя и в барак наш подсадили, чтобы шпионить.
— Я не был подсажен к вам никем, — так же твердо опроверг немец. — Я был, как все, туда посажен, и они мне такую же судьбу приготовленной сделали.
— Врешь ты, гадина! Тебя и по-нашему говорить научили, чтобы русских подслушивать и коменданту доносить.
— Я русский язык в Ленинграде выучил, — защищался Брюкнер. — Я там на «Электросиле» почти два года техником работал.
— На «Электросиле» работал? — спросил молчавший всю дорогу Самарцев, приподняв голову.
Он учился в Ленинграде, знал город и хотел проверить Брюкнера.
— А где жили немцы с «Электросилы»?
Брюкнер обрадованно повернулся к нему.
— На Васильевском острове, Детская улица, дом три.
— Верно, я знаю ту улицу, — подтвердил Самарцев. — И дом тот знаю, где немцы жили.
— Я в концентрационный лагерь послан был, потому что против войны с Россией говорил.
— За это тут посылают не в концлагерь, а на фронт, — заметил Стажевский. — В штрафные батальоны на восток.
— Со мной они еще хуже сделали.
— Что же они сделали с тобой? — спросил Устругов с неприязненным интересом.
— Я не могу этого сказать, — тихо ответил немец. — Мне стыд большой будет.
— Вон оно что! Стыдится секрет свой выдать! — издевательски выкрикнул Федунов. — Смотрите, он даже краснеет, как девчонка!..
Немец испуганно оглядывал людей, окруживших его. Он искал сочувствия. Но обросшие лица были одинаково жестоки.
— Так что же они сделали с тобой? — повторил Георгий с такой суровостью, что Брюкнер втянул голову в плечи, будто его ударили.
— Они меня бесчестным сделали, — тихо проговорил Брюкнер, смотря себе под ноги. — Они меня из мужчины в немужчину сделали…
И, вдруг решившись, комкая фразы и путая русские слова с немецкими, стал рассказывать свою действительно страшную и постыдную историю.
После возвращения из Ленинграда в конце 1933 года Брюкнер поступил на завод в Альтоне, под Гамбургом. Нацисты уже хозяйничали в Германии, и некоторые его знакомые по «Электросиле» отправились прямо в тюрьму. Он политикой не интересовался, держался от нее в стороне. Но новые хозяева страны скоро затронули и его: налоги повысили, питание урезали, молодых заставили маршировать по вечерам и воскресеньям, пожилых — заниматься пожарным делом. Когда началась война, жить стало еще голодней и тяжелей: днем приходилось работать, вечером дежурить на, крышах, тушить пожары.
Война с Россией принесла новые беды. Брюкнер увез из России симпатии к этим странным, так не похожим на немцев людям. Правда, по своему характеру он не одобрял склонности, может быть, даже страсти некоторых русских много говорить, прежде чем что-либо сделать. Ему даже казалось, что слишком много энергии уходит у них на словесные бури. Но главное, что поразило его в русских, — их простота, душевная искренность и щедрое гостеприимство. Он радовался их увлечению в труде, видел, с каким напряжением создавалась новая жизнь, и понимал, что они скорее умрут, чем позволят кому-либо вернуть их назад, к прошлому. Брюкнер был глубоко убежден, что немцы не имеют права вмешиваться в жизнь русских, и говорил об этом своим родственникам, друзьям, соседям.
Одни молча и опасливо выслушивали его, другие останавливали и советовали покрепче держать язык за зубами, третьи злорадствовали, что советская зараза, сидевшая где-то внутри него, пробилась, наконец, наружу. После провала немецкого наступления на Москву, когда в Германию двинулись эшелоны с обмороженными и ранеными, среди рабочих Гамбурга, который совсем недавно звали «красным Гамбургом», на заводах заговорили о необходимости кончать войну, в двух или трех местах вспыхнули забастовки. Власти арестовали «для острастки» несколько сот человек. Всех, кто мог носить оружие, тут же послали на фронт. Брюкнера, арестованного одним из первых, почему-то объявили «главным смутьяном». Он, дескать, ведет разговоры против войны, потому что боится, а боится потому, что не мужчина. Пусть так и будет!.. По приказу начальника гестапо Гамбурга его отвезли в клинику и… оскопили. Когда рана немного зажила, его снова доставили на завод и провели раздетым перед строем рабочих. Власти хотели показать, что со всяким мужчиной, выступающим против войны, будет сделано то же самое. Прямо с завода Брюкнера привезли в Бельцен.
Федунов, однако, не был тронут рассказом. Он потребовал:
— Пусть докажет, что не морочит нас!
Брюкнер с испугом и отвращением посмотрел на него и отрицательно завертел головой. Федунов кинулся на немца, пытаясь повалить его. Брюкнер оторвал его руки и оттолкнул от себя. Оступившись в снег, Павел упал. Быстро вскочив на ноги, он подобрал толстый сук и тихо, как бы крадучись, пошел на немца.
В два больших прыжка Устругов оказался между ними. Взяв автомат за ствол, вскинул его на плечо и негромко, почти шепотом пригрозил:
— Только тронь, голову размозжу! Только тронь…
Я понимал его. Георгий не хотел допустить, чтобы мы, сами вытерпевшие столько мук и унижений, повторили здесь, в лесу, то, что нацисты сделали на гамбургском заводе. Все мы искренне считали самым страшным падением, самым грязным позором для человека уподобиться в чем-либо нацистам.
С минуту удивленный Федунов смотрел на Устругова, ничего не понимая, потом грубо выругался:
— Защитник нашелся… Интеллигентский слюнтяй…
Мы стыдились посмотреть друг другу в глаза: каждому хотелось загладить вину перед Брюкнером, но никто не знал, как это сделать.
Немец понял наше состояние и, чтобы облегчить его, посоветовал Хагену, стоявшему рядом, поправить ноги Самарцева, потом взялся за передние ручки носилок и сказал:
— Это есть время дальше идти.
Голландец поднял носилки, и все мы двинулись дальше, прочь от печального звона. В густеющих сумерках он звучал еще более уныло и тревожно. (Только после войны узнал я, что в тот день в Германии был объявлен траур в связи с гибелью немецкой армии под Сталинградом, и все колокола звонили, как на похоронах.)
Совсем стемнело, когда мы наткнулись на лесную сторожку. Едва различимая в окружении черных сосен, она казалась одновременно укромным уголком и ловушкой. В маленькой избушке расположились прямо на полу, прислонившись спинами к промерзшим бревенчатым стенам. Тут было так темно, что мы не видели друг друга, и только по голосам можно было определить, кто где устроился. Умолкнув, мы оказались наедине с темнотой и холодом. В черной тишине раздалось вдруг лязганье зубами. Оно прерывалось несколько раз: видимо, замерзающий пытался стиснуть зубы. Это не удавалось, и они снова выбивали четкую дробь.
— Замерзаю, — едва слышно проговорил Бийе.
— Он действительно замерзает, — как-то странно, будто зевая, подтвердил Валлон и добавил таким тоном, точно сделал открытие: — А ведь тут в самом деле холодно.
— Нужно бы развести огонь, — сказал Хаген.
— Огонь, пожалуйста, огонь! — попросил Бийе.
— Это опасно, — возразил Георгий.
— А все-таки давайте разведем огонь, — просительно сказал Валлон. — С огнем опасно, а без огня мы все замерзнем к утру.
— Нельзя огонь: почуют дым, отыщут по свету…
— Зажечь огонь…
— Не зажигать…
Выкрики сыпались на русском, немецком, французском языках. Лишь Крофт молчал.
Эта жалкая разноголосица вызвала у меня горечь и досаду. Беглецы подняли такой гвалт по поводу простого вопроса — развести огонь или не разводить. Сколько же, думал я, потребуется разговоров, споров, криков, чтобы решить более серьезные вопросы! Мое уныние возросло, когда сторожка утихла. Сторонников огня было явно больше, чем противников. Однако никто не тронулся с места, чтобы принести дрова и развести огонь. Победило, как часто бывает, бездействие.
Когда в холодной тишине вновь раздалось мелкое постукивание зубами, Устругов, плечо которого я чувствовал, завозился, стараясь подняться.
— Ты куда?
— Дрова принести. Тут почти все за огонь, а чтобы развести его, никто двинуться с места не хочет.
— Но сам-то ты против огня. Чего же ты чужое дело на себя берешь?
— Мало ли что сам…
В разных углах сторожки завозились, поднимаясь, люди.
— Я тоже пойду…
— И я… И я… И я…
— Никого не надо, — с сердцем сказал Георгий. Он пошарил рукой, нащупывая дверь, открыл ее ударом ноги и вышел, впустив в сторожку невидимое, но ощутимое облако еще более холодного воздуха.
— Ты знаешь, Костя, — зашептал Самарцев, горячо дыша мне в ухо. — Георгий-то лучше и умнее, чем кажется.
Похвала была неожиданна и необъяснима, особенно после того, как Устругов вопреки собственному убеждению решил выполнить желание других.
— Я знал, что он медлителен и неуклюж, — также шепотом ответил я, — но такое безволие вижу впервые. Не могу понять, чему тут радоваться?
Самарцев стиснул мою руку, будто пытался этим пожатием передать что-то такое, чего я не мог понять.
— Понимаешь, — шептал он, — понимаешь, не велика доблесть для сильного навязать свою волю беспомощным людям. Этим кичатся очень многие… Нужно уметь подчинить свое желание желанию других, если оно разделяется многими, если оно для многих важно… Егор наш любит людей, они скоро поймут это и оценят…
Дров, принесенных Уструговым, оказалось достаточно, чтобы накалить чугунную печку до того, что она стала светиться в темноте. Сгрудившись вокруг нее, мы быстро договорились, что делать дальше. Решили бежать в Голландию.
— Голландцы примут нас, — говорил Хаген, протягивая руки к светящемуся зеву печи, — накормят, помогут переодеться, спрячут, если потребуется.
Его внимательно и обрадованно слушали.
Валлон советовал бежать в Бельгию, в Арденны. Это не равнинная Голландия, открытая взору немцев. В Арденнах леса, горы, овраги. Деревушки там разбросаны по таким глухим местам, что до них добраться-то без провожатых нельзя. А народ там гостеприимный, чужакам не выдаст и в обиду не даст.
Голландец возражать не стал: в Арденны так в Арденны. Но бежать все же лучше через Голландию: ближе всего. У нас была, конечно, мечта, даже не мечта, а дума, глубокая и постоянная, — пробраться домой, в родные места. Но теперь она казалась совершенно неосуществимой: куда побежишь с безногим Самарцевым на руках?
Ранним утром мы покинули сторожку. Вытянувшись цепочкой, шли торопливо и настороженно. Когда лес впереди редел, задерживались, посылали кого-нибудь узнать, что там. Деревни и хутора, расположенные обычно на опушках, обходили стороной, поляны пересекали в узких местах.
Большие неприятности доставляли нам дороги. По ним то с грохотом и звоном катились грузовики, то, шурша шинами, проносились легковые машины. Мы бросались в снег и обеспокоенно следили за ними сквозь замерзшие черные кусты. Улучив момент, когда дорога очищалась, бегом пересекали ее и скатывались с насыпи по другую сторону. Проваливаясь в снег и падая, поспешно вскакивали и бежали дальше, снова проваливаясь и падая. Стиснув зубы, обливаясь потом, мы уходили подальше от дороги, где снова слышалось гудение машин.
4
Мы шли и шли…
Густая тьма, свалившаяся на лес, укрыла нас, но сделала слепыми. Идти наугад было опасно: мы могли повернуть назад или напороться на полицейскую засаду. Приходилось ночевать в лесу. Среди плотных елей нашли подходящее место, наломали веток, чтобы было теплее, и расположились, прижавшись друг к другу. Утомленные и удрученные, мы даже не шептались, а лишь вслушивались в тишину лесной ночи. Над нами тихо поскрипывали деревья, слышался невнятный, но постоянный гул да легкий хруст под осторожными ногами лесных обитателей. Плохо одетые и голодные, мы не могли долго хранить тепло, и сон — этот предательский союзник холодной смерти стал наваливаться на сидевших, увлекая в небытие.
— Заснут — никогда не проснутся, — шепнул я Устругову, который тоже начинал дремать. Он чаще и дольше всех нес раненого и, конечно, устал.
Георгий встрепенулся, переспросив испуганно и недоверчиво:
— Совсем спать нельзя? Даже вздремнуть немного?
— Спать совсем нельзя. Сон — это верная смерть…
С минуту он сидел тихо, то ли вдумывался в мои слова, то ли всматривался в ночь. Потом, вздрогнув всем телом, тронул меня за плечо.
— Так чего ж ты? Поднимать всех надо.
И тут же начал толкать соседей.
— Спать нельзя!.. Спать никак нельзя!..
Те старались держать головы прямо, а глаза открытыми. Но усталость и холод брали свое, глаза снова закрывались, головы падали на грудь. И мы снова трясли людей. К полуночи, однако, встряхивания и уговоры перестали действовать. Поднявшись сами и подняв Федунова, Стажевского, Прохазку, мы подхватывали сонных под мышки, ставили на ноги и приказывали топтаться.
— Спать нельзя! Сон — это погибель…
Заставляли собирать сучья для костра, разводить который не намеревались: огонь мог выдать нас. Бросив охапку валежника в кучу, выросшую рядом, Крофт, долго не желавший подниматься, снова пристроился под елями. Едва свернувшись, он заснул. Я разбудил его и вновь насильно поставил на ноги. Крофт вырывался из моих рук, ругался, кричал, что никто не имеет права заставлять «офицера его величества короля Великобритании» делать то, что он не хочет.
Все же он топтался, постепенно согреваясь. Некоторое время спустя, согревшись и утомившись, Крофт снова пристраивался под елями. И я снова поднимал его, как и других, упрашивал топтаться, ругал и даже дал несколько раз пинка, когда уговоры и ругань перестали действовать.
Одно и то же событие по-разному раскрывает характеры людей. И поведение наших спутников в ту тяжелую ночь было очень различным. Утомленный, но сильный и настойчивый Устругов почти автоматически тряс и поднимал замерзающих людей, ставил на ноги и заставлял топтаться. Стажевский уговаривал, убеждал, легонько подталкивал, словно боялся растратить собственные силы. Федунов выбирал только «своих», считая излишним возиться с «чужими».
Перед утром Прохазка шепнул мне, что Федунов подозрительно возится с немцем, который топтался здесь и вдруг оказался на снегу по другую сторону кучи хвороста. Я побежал туда, поймал за воротник фуфайки Федунова, склонившегося над Брюкнером, и резко рванул вверх:
— Ты что с ним делаешь?
— Ничего, — растерянно и виновато ответил тот. — Совсем ничего. Он упал и…
— И ты воспользовался этим?
— Ничем я не воспользовался, — отрезал Павел. — Очень мне нужно воспользоваться!
— Так чего же ты делаешь с ним?
— А я виноват, что он не поднимается? — ответил Федунов. — Я с ним и по-хорошему и кричал на него, а он все равно не поднимается. Не оставлять же на снегу! Он так через полчаса богу душу отдаст.
Сказано это было резко, как говорят только сильно обозленные люди. И я готов был обругать его за это, но вдруг в какую-то долю секунды меня осенила догадка: да ведь он грубит, чтобы скрыть смущение! Я обнял его за плечи и притиснул к себе.
— Правильно, Павлуха…
Этот жест еще больше задел его.
— Что же тут правильного? Ну что?
Не получив ответа, сам сказал с ожесточением:
— Слюнтяи мы, вот что. Не можем ненависть долго хранить, а без этого с обидчиками нашими никогда не рассчитаемся.
— Рассчитаемся, — заверил я, вовсе не думая сейчас о расчете. Меня волновало другое: сумеем ли уберечь жизни этих людей? Взяв Федунова за локоть, я кивнул в сторону немца.
— Сбереги его. Подними на ноги, потопчись с ним.
— Еще чего! Топтаться с немцем! Может, целоваться с ним прикажешь?..
За Брюкнера можно было не беспокоиться: в сердце его ненавистника произошел перелом.
Сердце Федунова оказалось не только жалостливым, но и самоотверженным. И мы узнали об этом на следующий день.
После той тяжелой ночи мы продвигались медленно, часто останавливались и отдыхали. Особенно долго задерживались перед пересечением дорог: копили силы, потом, улучив удобный момент, поднимались и бросались через дорогу, а потом падали, подкошенные напряжением.
Дорогу Хальдер-Эммерих, последнюю дорогу, которая отделяла нас от Рейна и Голландии, полиция усиленно охраняла.
Подгоняемый нетерпением и голодом, Федунов предлагал «пугнуть» немцев.
— Тряхнуть чертей, пусть знают, что мы не беззащитная лесная дичь.
Устругов досадливо отмахивался.
— Попробуй тряхни… Тут такую облаву устроят, что и под землей не спрячешься.
Павел смерил его насмешливым взглядом.
— Мы перебьем этих толстых крыс в два счета и очистим дорогу. Пока тут соберутся, наш и след простынет. Ударим?
Беглецы не отзывались.
Федунов пренебрежительно бормотал:
— Трусы… слюнтяи…
Георгию надоело это брюзжание, и он посоветовал Федунову помолчать. Замечание, сделанное спокойным и даже просительным тоном, почему-то взорвало того.
— Распоряжаться, командовать желающих много, а подставить свою шкуру, чтобы другим помочь, никого нет.
— Свою шкуру подставляй, да других не подводи.
— Я и не собираюсь подводить. Только если никто не рискнет, то нам через дорогу до ночи не перескочить. А ночью опять плясать на одном месте придется.
Мы промолчали. Павел посмотрел на Устругова и на меня, точно ждал согласия или возражения, затем, будто разговаривая сам с собой, пообещал:
— Я бы этим свиньям тут жару дал, чтобы они сюда все сбежались. А остальные через дорогу в другом месте перемахнут и в том лесу скроются.
— А сам?
— Что сам?
— Ведь тут остаться придется.
— Где-нибудь все равно придется остаться…
Почти до вечера ползали мы вдоль дороги и, вероятно, так и не перебрались бы через нее, если бы не Федунов. Этот парень, которого считали недалеким и черствым, решил в одиночку, молча пожертвовать собой, чтобы помочь другим. Опасаясь, что Георгий и я помешаем его замыслу, Павел исчез незаметно. Некоторое время спустя мы услышали резкую автоматную очередь за поворотом дороги, куда только что промчалась полицейская машина.
«Федунов», — сразу же подумал я. Та же догадка мелькнула и в голове Устругова. Он приподнялся и осмотрел беглецов.
— Федунов! Где Федунов?
Вместо ответа в лесу звонко татакнул автомат, за ним раскатисто прогремели винтовочные выстрелы. Расстилая по дороге белые хвосты, туда пронеслись две полицейские машины. Винтовочные выстрелы в той стороне посыпались чаще. Автомат огрызался короткими злыми очередями.
— Павел очистил нам дорогу, — сказал я Георгию, который готов был броситься туда. — Он стянул к себе полицейских, чтобы мы смогли перескочить дорогу тут.
Устругов понимающе и сурово посмотрел на меня, подумал немного, потом молча поднялся и исчез в кустах позади нас. Через минуту вернулся, неся на руках Самарцева, и, коротко бросив мне: «Возьми носилки», — вышел на дорогу. Стараясь ступать ему вслед, мы пересекли шоссе, перебрались через маленькую полянку и снова вошли в лес.
Там остановились, прислушиваясь к перестрелке. Винтовки били и били, автомат отвечал все реже и короче. Среди винтовочных выстрелов мы хорошо различали его голос, и ждали с таким нетерпением, с каким ждут появления пульса у больного после серьезной операции. Мы знали, какой будет конец. И все же, когда автомат замолчал, долго не могли поверить, что тот замолк совсем. В наступившей тишине пугающе резко прозвучали два пистолетных выстрела, которые заставили меня вздрогнуть и вобрать голову, будто стреляли мне в спину. Прохазка поспешно и испуганно снял шапку.
Тяжело переступая и громко дыша, мы двинулись дальше. Останавливались и отдыхали через каждые сто-сто пятьдесят метров. Только остервенелое упрямство Устругова толкало вперед. Теперь он почти бессменно нес носилки, поднимался первым и торопил других, то уговаривая, то понуждая:
— Пошли, пошли… Долго сидеть нельзя.
Лишь на рассвете добрались до Рейна. За Рейном темной немой стеной стояли леса. За ними была Голландия!
День, однако, наступил быстро, и нам пришлось спрятаться в одинокой риге, стоявшей у оврага. Закрыв изнутри ворота, мы залезли на сено, сложенное в углу, и протиснулись к самой крыше. Едва согревшись в сене, изнуренные беглецы засыпали, словно проваливаясь в небытие. Мы с Георгием и Стажевским бодрствовали по очереди, будили храпевших слишком громко и прислушивались к звукам за ригой.
Сон немного восстановил растраченные силы, и мы почти вслух начали мечтать о том, что ночью будем в Голландии, где найдем приют и пищу.
Перед вечером мы услышали два голоса — грубоватый басок мужчины и тонкий, ломающийся голос мальчика. Голоса приближались к риге. У ворот мужчина сказал с укором:
— Опять ты забыл щеколду как следует задвинуть. Видишь, она отошла назад. Будь ветер посильнее, он распахнул бы ворота.
— Я задвигал щеколду, — оправдывался мальчик.
— Щеколда сама не может отодвинуться.
— Отодвинулась сама, ей-богу, сама! — уверял мальчик и вдруг осекся, будто открыл что-то необыкновенное, а затем позвал: — Посмотри-ка сюда, папа, видишь, след от оврага к воротам? Тут, наверно, вор был.
— Вор? Пуцци, это не вор. Следы-то видишь? Только в ригу. У нас кто-то прячется. — Он распахнул ворота и крикнул: — Кто тут? Кто тут прячется?
Не получив ответа, вошел в ригу и, заметив сбитое сено, догадался:
— Эй, кто там на сеновале? Слезай!..
Все затаили дыхание, я положил ладонь на горячие и шершавые губы раненого.
— Ах, не хочешь слезать… Значит, от властей прячешься. Но мы тебя все равно достанем. Слезай, дьявол!..
Он несколько раз выкрикнул: «Ну! Ну же! Ну!» Потом сказал сыну:
— Пуцци, беги к дяде Гансу, скажи, что у нас в риге преступник какой-то прячется. Пусть мчится сюда, награду за поимку пополам разделим.
И тогда я почувствовал, как Брюкнер, лежавший справа, приподнялся, нащупал меня и едва слышно прошептал:
— Он думает, что здесь один. Я вылезу к нему, и он больше искать не будет.
Я сунул ему в руку пистолет.
— Трахни его.
Брюкнер вернул пистолет.
— Стрелять нельзя. Всполошим деревню — всем конец.
Я поймал руку немца и крепко сжал ее. Брюкнер ответил коротким сильным пожатием. Он быстро выбрался наверх и соскользнул с сеновала, заставив крестьянина отпрянуть к воротам.
— Э, да ты, я вижу, крупная птица, — злорадно определил он. — Из концлагеря. За тебя награда солидная будет. И раз я тебя один самолично захватил, она мне одному и достанется. Пошли-ка, я тебя сам в город, в полицию, доставлю.
— Ну что ж, доставляй, иуда, — сказал Брюкнер. — Не принесут тебе счастья деньги, которые за меня получишь.
— Принесут или не принесут — это не твое дело, — проворчал крестьянин.
Он с шумом захлопнул ворота, резко стукнул щеколдой и увел Брюкнера, продолжая что-то бормотать.
Все лежали, не зная, что сказать. Немец, которого мы долгое время ненавидели и презирали, пошел умирать за нас. И ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы решиться на это.
Мы поспешно спустились с сеновала, вынесли Самарцева, которому в тот день стало заметно хуже, и длинным отлого спускающимся оврагом выбрались к реке.
Без труда нашли рыбачьи лодки, которые видели еще утром, спустили на воду и торопливо расселись. Мы с Георгием, Васей Самарцевым и голландцем оказались в одной лодке. Хаген советовал держаться середины, а когда пройдем Эм-мерих, взять немного влево: ниже Рейн распадается на два рукава, и нам надо попасть в левый, в Ваал. Река приведет прямо к Неймегену, а оттуда до Бельгии совсем недалеко.
Мощное течение повлекло лодки вниз, едва мы оторвались от берега. Они шли рядом, и мы видели силуэты соседей, слышали легкие всплески весел и невнятное бормотание воды за кормой. Левого берега не было и в помине, высокий правый берег казался черной стеной, еще более черной, чем непогожее зимнее небо.
Некоторое время спустя где-то вверху послышалось далекое гудение. Гул приближался с запада: английские «Ланкастеры» или американские «летающие крепости» шли бомбить Германию. Прямо над нами сверкнул синевато-белый луч прожектора и уперся в низкое небо за Рейном. С реки он казался прозрачно-светлым мостом, выросшим в одно мгновение. Через полминуты рядом возник еще один такой мост.
Мы стали грести с лихорадочной поспешностью и напряжением. Хотелось поскорее выбраться из-под этих прозрачно-светлых мостов. Они исчезли так же неожиданно, как возникли, оставив нас в еще более густой тьме.
Минут через десять-пятнадцать, а может быть, тридцать — время для нас перестало существовать, — мы подняли весла и прислушались. Над Рейном стояла тишина. Лишь далеко на юге, где вспыхивали необычные зарницы, раздавались глухие вздохи: шла бомбежка. Совсем рядом звонко шлепались в воду капли с весел. Мы не услышали, однако, того, что хотели слышать; скрипа уключин. Подождав немного, тихо позвали Стажевского, Прохазку, потом Валлона, Калабутина, Бийе. Рейн молчал. Я боялся, что с друзьями случилось несчастье.
Эта мысль настолько угнетала, что мы не обрадовались, увидев в сером рассвете голландскую деревню. Она вылезла из-за высокого глинистого берега. Кирпичные домики с черепичными крышами еще спали. Лишь на самой окраине белая ветряная мельница махала крыльями, точно звала: «Скорее, скорее!»
Мы пристали к берегу, поросшему мелким леском. Вытаскивая нос лодки на песчаный выступ, Хаген задыхался от радости.
— Спасены! Спасены! — восклицал он. — Я узнал место. Тут живет брат моего приятеля. Спасены, спасены!..
Я выпрыгнул на песок, чтобы помочь ему. Устругов шагнул на корму, где, опустив голову на грудь, полусидя спал Самарцев. Георгий тронул его за плечо и, когда тот не проснулся, тряхнул посильнее. Голова Самарцева мотнулась из стороны в сторону.
— Вася! — с испугом позвал Устругов. — Вася!..
Все люди смертны… Сколько раз говорилось и писалось это! Сколько раз каждый думал об этом, относя, однако, неопровержимую и страшную истину ко всем, кроме себя, своих близких!
И смерть Васи Самарцева казалась мне тогда чудовищной несправедливостью, подлым ударом из-за угла, предательством. Подумать только! Смерть сберегла его на мосту, хранила во время тяжелого побега и поразила тогда, когда помощь была близка.
Хаген потряс меня за плечи. Растерянный — и удрученный, стоял он рядом, не зная, что сказать. Голландец сочувствовал нам, но беспокоился за себя и за нас еще больше: смерть никогда не уменьшала забот у тех, кто оставался жить.
— Прошу прощения, — бормотал он, — надо уходить отсюда. И как можно скорее. Тут нас могут увидеть издали. Попадемся на глаза мерзавцам-муссертовцам[2] — все наши усилия пропадут даром.
Пораженный горем Устругов смотрел на реку невидящим взглядом и поглаживал руки мертвого. Он не слышал или не понимал того, что говорил Хаген, согласно и как будто одобрительно кивая головой, едва слышно, почти шепотом повторял:
— Пропадут даром… все даром… даром…
Мне пришлось взять Георгия за руки, повернуть к себе и повторить слова голландца. С той же автоматической готовностью он закивал головой, но не тронулся с места. Лишь когда я сам попытался поднять тело Самарцева, он оттолкнул меня. Осторожно и нежно, как берут детей, взял мертвого на руки, положил его голову себе на плечо и вынес из лодки.
Вместе с Хагеном мы быстро втащили лодку в кусты и вернулись к Устругову, окаменевшему со своей ношей. Голландец тронул его за локоть и повел за собою через лесок. Мы взобрались на высокий берег, который врезался здесь в Ваал. На вершине тихо гудели сосны, высокие, стройные, с густыми шапками. Отсюда была видна мощная река, огибающая выступ, уходившая на восток и запад до самого горизонта.
— Мы похороним его тут, — сказал голландец, — не сейчас, прошу прощения, а вечером. Вернемся с лопатами и похороним тут, на самой вершине, под этими соснами. А когда прогоним немцев, поставим белый памятник. Обязательно белый, чтобы виден был всем, кто плывет по реке. И напишем на памятнике золотыми буквами что-нибудь такое… хорошее… Что-нибудь вроде того… что он покорял умом и сердцем, потому что ум был у него ясный и честный, а сердце большое и любящее.
Похоронив Васю Самарцева, мы двинулись дальше. Мы вновь встретились с товарищами, с которыми разминулись было на Рейне. Вместе партизанили. В Арденнах Георгий Устругов поднялся во весь рост, и все увидели, какой это великолепный человек. В короткий срок он превратился из растерянного и удрученного парня в смелого и даже какого-то вдохновенного вожака многонациональной партизанской вольницы, которая действовала в том необыкновенном уголке Европы, где сходились пять стран. Здесь он и погиб.
Много лет спустя, попав на сессию ООН в качестве журналиста, я неожиданно встретился со Стажевским и Крофтом. Казимир Стажевский представлял здесь интересы своей страны. Воспоминания о товарищах, о побеге разбередили старые раны, взволновали нас. Это видно было даже по чопорному английскому дипломату Крофту, который за эти годы успел разувериться в моральных качествах человека и пытался убедить нас со Стажевским, что построить общество как единую счастливую семью невозможно.
— Помните, Крофт, — сказал я ему, — было время, когда нам не стоило большого труда проникнуть в сердца друг друга. Чужие и разные, мы жили и часто действовали тогда, как братья. Ведь так?
Крофт одобрительно закивал головой.
— Конечно. Конечно, так.
Он вдруг нахмурился, точно вспомнил о серьезной и неустранимой неприятности.
— Да, но тогда была особая обстановка.
— Вы настроены слишком мрачно, Крофт! Когда-то вы умели бороться. И сейчас надо бороться так же горячо, так же страстно, как в те годы. Бороться за то, чтобы никогда не повторились ужасы, которые мы с вами пережили…
ВСЕМИРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
КТО ВЫШЕ?
Трудно сказать, кто больше увлечен занимательным спортом — кенгуру или ее «тренер» по прыжкам на батуте Георг Ниссен из города Йонкерс (США).
Кажется, они получают равное удовольствие. Однако победителем в этих необычных состязаниях всегда оказывается способная ученица. Успехами в прыжках она обязана не столько дрессировщику, сколько своим природным данным.
«НА МЫЛО!»
Один американский «ученый» опубликовал как-то свои досужие расчеты. Оказывается, в человеке достаточно жира, чтобы сделать семь кусков простого мыла, хватит железа, чтобы получить среднего размера гвоздь, а сахара — чтобы наполнить сахарницу. Извести содержится столько, что ею можно выкрасить курятник, а калия — чтобы взорвать детскую игрушку; магния хватит на один прием магнезиевого порошка, серы — чтобы избавить собаку от блох; фосфором можно покрыть головки двух тысяч спичек. Стоимость всего этого «ширпотреба» — 99 центов. Не слишком ли дешево ценит человека американский «ученый»?
ОВОСИПЕД
Испанец-художник Сальватор Дали долгие годы пытался удивлять мир экстравагантными новшествами в области искусства.
По-видимому, недостаточно оцененный по заслугам, он решил попробовать свои силы на другом поприще. Дали дебютировал перед парижанами в качестве изобретателя и первого пассажира «овосипеда».
Овосипед — шар из плексигласа диаметром в 142 сантиметра, с раздвигающейся дверцей. В нем может поместиться только один человек. Взобравшись на сиденье, закрепленное на подвижной оси, пассажир движениями ног по внутренней поверхности шара приводит его в движение. Нажимая то справа, то слева на ось, пассажир двигается в нужном направлении. Говорят, что шар может развить большую скорость, однако желающих покататься или приобрести овосипед немного.
Но «художник» не унывает. Сейчас он занялся обучением… свиней абстрактной живописи.
ПРОХОДИТЕ МИМО!
Это чудовище из металлического лома, демонстрирующее зрителям свои внутренности, автор выдает за скульптурный портрет генерала. Сооружение прислано в Бонн на выставку современного нидерландского искусства скульптором Яном Мойем.
Интересующимся Мой доверительно сообщал, что его самого больше всего привлекает в этой скульптуре ее глубокое внутреннее содержание…
Чем, как не стремлением любыми средствами привлечь к себе внимание публики, можно объяснить подобное надругательство над искусством?
Ярослав Гашек КОМЕНДАНТ ГОРОДА БУГУЛЬМЫ
Рисунки А. КАНЕВСКОГО
Имя Ярослава Гашека, автора веселого «Швейка», хорошо знакомо советским читателям. Но далеко не все знают, что Гашек активно помогал упрочению советской власти в России, куда он попал в 1915 году: чех, солдат австрийской монархии, Гашек сдался в плен русским войскам.
В России Гашек пробыл пять лет, вступил в Коммунистическую партию, стал деятельным и отважным работником молодой советской власти. Гашек всегда охотно отправлялся в самые трудные и глухие места. Об этом периоде своей жизни, вернее — об одном эпизоде из этого периода, рассказывает писатель в автобиографических юморесках, которые печатаются ниже. На русском языке эти воспоминания публикуются впервые.
Заслуживают глубокого уважения мужество и политический такт, которые проявляет коммунист Гашек, работник политотдела Пятой армии Восточного фронта, на посту коменданта одного из прифронтовых городков. Его отношения с «батькой» Ерофимовым, командиром «самостийного» полка, — живая картинка той эпохи. Поведение Гашека могло бы служить образцом действий красного командира в период, когда при нехватке дисциплинированных кадров приходилось иметь дело и с некоторыми разношерстными, неустойчивыми частями, дисциплинируя их, воспитывая и используя на службе революции.
В начале октября 1918 года Реввоенсовет «левобережной группы» войск в Симбирске назначил меня комендантом города Бугульмы. Я спросил у представителя Реввоенсовета:
— А вам наверняка известно, что Бугульма взята нашими частями?
— Свежих сообщений у нас нет, и я сомневаюсь, что в настоящий момент Бугульма в наших руках. Но пока вы туда доедете, она наверняка будет наша.
— А конвой? — спросил я неуверенным голосом. — И еще: как я туда доберусь? Где, собственно, эта Бугульма находится?
— Конвой получите. Двенадцать человек. Что касается остального, то ищите сами на карте. Не думаете ли вы, что у меня только и забот, что ваша дурацкая Бугульма?
Внизу меня ждал конвой — двенадцать молодцеватых чувашей, видимо добровольцев. По-русски они говорили прескверно.
Я получил свои документы и кипу мандатов, в которых категорически предлагалось всем учреждениям и частным лицам оказывать мне всяческое содействие на пути от Симбирска до Бугульмы.
Мы сели на пароход и поехали по Волге и Каме до Чистополя. По дороге не произошло никаких событий, и только в Чистополе, когда мы слезли с парохода, один из моих чувашей объявил, что пойдет за подводой, и больше не вернулся. Оставшиеся объяснили мне, что пропавший земляк оказался здесь в нескольких верстах от своего дома и, наверное, пошел поглядеть, как поживают его родители.
После долгих расспросов я выяснил у местных обывателей, где лежит Бугульма и как туда добраться.
По немыслимо грязным дорогам этого края мы тронулись в путь. К вечеру были в Новой Песчанке, последней русской деревне перед Бугульмой. Жители хорошо знали, каково положение в Бугульме. Город покинут без боя белыми войскам?! три дня назад., а немногочисленные советские разъезды в ожидании подкрепления дефилируют по другому берегу, опасаясь засады и не входя в город. В Бугульме безвластие. Городской голова со всею думой уже два дня дожидается с хлебом-солью первого завоевателя, который войдет в город.
Я послал вперед одного из моих чувашей, лучше других говорившего по-русски, и рано утром мы вступили в Бугульму.
На границе города нас ждала громадная толпа жителей. Городской голова держал на подносе каравай хлеба и солонку. В своей речи он осторожно выразил надежду, что я не буду слишком крут с населением.
Я поблагодарил и, отрезав ломоть хлеба, посыпал его солью. Я сказал, что пришел сюда, чтобы водворить спокойствие и порядок, что это является задачей советского коменданта. Потом я пожал руки представителям города и отправился в думу, где мне были указаны помещения комендатуры.
После этого я дал расклеить по городу приказ № 1 такого содержания:
«Граждане!….
Благодарю за радушный прием и встречу хлебом-солью. Прошу иметь в виду, что я назначен комендантом города и приступил к своим обязанностям. Поэтому предлагаю населению сдать все имеющееся на руках оружие в комендатуру завтра до 12 часов дня. Не угрожаю никому, но напоминаю, что город находится на военном положении. Подчеркиваю, что имел право наложить на город контрибуцию, но таковой накладывать не буду».
Подпись.На другой день к полудню площадь наполнилась вооруженными людьми. Явилось свыше тысячи человек с винтовками, некоторые даже с ручными пулеметами. Наш маленький отряд утонул бы в массе этих вооруженных людей. Но они сдавали оружие, сдавали его целый день до позднего вечера, и каждому я пожал руку и сказал несколько приветливых слов.
Утром я дал отпечатать и расклеить приказ № 2:
«Граждане! Благодарю все население за точное выполнение приказа № 1»,
Подпись.* * *
В этот вечер я спокойно лег спать, не ведая, что надо мной уже занесен дамоклов меч в образе «тверского красно-зеленого полка». Этот порядком разложившийся «самостийный» полк во главе с бесшабашным командиром Ерофимовым считал себя частью советских войск и с ведома Реввоенсовета, не знавшего его истинной цены, вступил в Бугульму. «Взяв» город, полк триумфально прошел по улицам, ружейными залпами нарушая безмятежную ночную тишину. У ворот комендатуры он натолкнулся на сопротивление двух моих часовых чувашей, которые не захотели впускать командира Ерофимова. Последний с револьвером в руке, предводительствуя полком, стремился завладеть думой.
Чувашей связали, и Ерофимов ввалился в мое присутственное и одновременно спальное помещение.
— Руки вверх! — воскликнул он, упоенный победой, и прицелился в меня из нагана.
Я поднял руки вверх.
— Кто такой? — вопросил красно-зеленый командир. — От белых или от советских войск?
— От советских. Можно опустить руки?
— Можно. И по военным порядкам прошу немедленно сдать мне дела коменданта. Я взял город.
— Но я же назначен Реввоенсоветом, — возразил я.
— Черта ли мне в этом назначении! Раньше нужно завоевать. Знаете что, — великодушно решил он через минуту, — я вас назначаю своим адъютантом. А не хотите, велю вас через пять минут расстрелять.
— Отчего же? Я ничего не имею против, — ответил я и вызвал ординарца. — Василий, поставь самовар, попьем чайку с новым комендантом. Он только что взял город.
Что слава? Мираж!
* * *
Первым делом я пошел освободить моих чувашей, а затем отправился продолжать сон, прерванный переворотом в городе. Проснулся в полдень и обнаружил, что, во-первых, все мои чуваши таинственно исчезли, оставив мне записку невразумительного содержания, засунутую в сапог: «Тов. Гашек. Много помощи смотреть туда-сюда.
Начальник Ерофимов секим-башка».
Во-вторых, я увидел, что Ерофимов с утра потеет над составлением своего первого приказа населению Бугульмы.
— Товарищ адъютант, — обратился он ко мне, — как вы думаете, это будет неплохо? — Он взял перепачканный проект приказа и прочел:
«Всему населению Бугульмы
С сегодняшнего дня, взяв город Бугульму, принимаю власть над городом. Бывшего коменданта за неспособность и трусость отстраняю от должности и назначаю своим адъютантом.
Комендант города Ерофимов»— Превосходно! — одобрил я. — А что вы думаете делать дальше?
— Прежде всего, — ответил он с важностью, — я объявлю мобилизацию лошадей и велю расстрелять городского голову. Из буржуев возьму десять заложников и посажу их в тюрьму до конца войны. Потом проведу повальный обыск в городе и запрещу свободную торговлю. На первый день этого хватит, а завтра придумаю еще что-нибудь.
— Позвольте мне высказаться, — сказал я. — Я не против мобилизации лошадей, но решительно возражаю против расстрела городского головы. Он встречал меня хлебом-солью.
Ерофимов вскочил.;
— Вас встречал, а меня нет?!.
— Это дело поправимое, — сказал я и, присев к столу, написал:
«№ 2891. Действующая армия. Городскому голове Бугульмы
Предлагается Вам немедленно явиться с хлебом-солью к новому коменданту города.
Комендант города Ерофимов Адъютант Гашек»Подписывая бумагу, Ерофимов добавил от себя: «Иначе вы будете расстреляны, а дом ваш сожжен».
— В официальных посланиях, — сказал я Ерофимову, — подобные вещи не пишут. Иначе оно будет недействительно. — И, переписав письмо в первоначальной редакции, я отослал его с ординарцем.
— Далее, — обратился я к Ерофимову, — решительно возражаю против заключения в тюрьму десяти буржуев. Такие вещи может решить только ревтрибунал.
— Ревтрибунал, — самодовольно сказал Ерофимов, — это мы. Город в наших руках.
— Ошибаетесь, товарищ Ерофимов. Что такое мы? Ничтожная пара — комендант города и его адъютант. Трибунал назначается Реввоенсоветом Восточного фронта. Разве вы хотите, чтобы вас поставили к стенке?
— Ну ладно, — со вздохом отозвался Ерофимов, — но повальный-то обыск в городе нам никто не запретил?
— На основании декрета от 18 июня сего года, — ответил я, — массовый обыск может быть проведен лишь с согласия местного ревкома или совдепа. Их у нас еще не имеется, так что оставим это дело на потом.
— Вы ангел, — сказал Ерофимов нежно, — без вас бы я влип как кур во щи! А свободную торговлю мы можем прикончить?
— Большинство из тех, кто приезжает сюда торговать, — объяснил я, — это народ из деревни, мужики, которые не умеют ни читать, ни писать. Надо научить их грамоте, тогда они смогут читать наши приказы и понимать, в чем дело. После этого можно будет издать, например, ваш приказ о мобилизации лошадей. Кстати, скажите мне, товарищ Ерофимов, почему вы так упорно настаиваете на мобилизации лошадей? Разве вы собираетесь реорганизовать свой полк в кавалерийскую часть? Так ведь для этого есть инспектор по формированию советских войск левобережной группы.
— Ей-богу, вы правы, товарищ Гашек, — сказал Еро-фимов со вздохом. — Что же мне остается делать?
— Учить народ грамоте, — ответил я. — А я пока что пойду поглядеть, как ведут себя ваши молодцы. Не затеяли ли они каких-нибудь глупостей и как расквартированы.
Я вышел и отправился бродить по городу. Партизанский полк вел себя образцово: никого не обижал, сдружился с населением, попивал чаи, варил пельмени, щи, борщ, делился своей махоркой и сахаром с хозяевами. Словом, все было в порядке. Я дошел до Малой Бугульмы, где помещался первый батальон полка. Там тоже была идиллия: пили чай, ели борщ и вели себя, как рыцари.
Вернувшись поздно вечером, я увидел на углу свеженаклеенный приказ. В нем стояло:
«Всему населению Бугульмы и уезда
Приказываю всем не умеющим читать и писать ликвидировать свою неграмотность в течение трех дней. Уличенные после этого срока в неграмотности будут немедленно расстреляны.
Комендант города Ерофимов»Придя к Ерофимову, я увидел у него городского голову. Кроме хлеба и соли, которые лежали на столе, голова принес несколько бутылок водки. Ерофимов был в хорошем настроении, обнимался с головой и закричал мне:
— Видел, как я выполнил твой совет? Сам ходил в типографию. Прямо с наганом — шасть! Говорю заведующему: зараз напечатай, голубок, а то я тебя, сукина сына, на месте укокошу. Трясется, сволочь, читает и опять трясется, а я бац в потолок. И напечатал-таки, славно напечатал. Грамота — это первое дело. Издашь приказ, все читают, всем понятно, и все довольны. Верно, голова? Пей, товарищ Гашек.
Я отказался.
— Будешь пить или нет? — закричал Ерофимов.
Я вытащил револьвер и выстрелом разнес вдребезги бутылку с водкой. Потом прицелился в своего начальника и сказал вразумительно:
Сейчас же марш спать, или…
— Иду. Уже иду, голубок. Ей-богу, иду. Я только так, повеселиться, погулять маленько.
Я отвел Ерофимова спать и, вернувшись, сказал голове:
— На первый раз я вам прощаю. Идите домой и радуйтесь, что так легко отделались.
Ерофимов спал до двух часов следующего дня. Проснувшись, он послал за мной и, недоверчиво поглядывая на меня, спросил:
— Кажется, ты вчера хотел меня застрелить?
— Да, — сказал я, — я хотел только сделать то, что сделал бы с тобой ревтрибунал, узнав, что ты, комендант города, пьянствуешь.
— Голубок, ты этого никому не рассказывай. Я больше не буду. Буду учить народ грамоте.
Вечером явилась депутация от окрестных деревень — шесть баб от шестидесяти до восьмидесяти лет и пять стариков в том же возрасте. Все они кинулись мне в ноги.
— Отпусти душу на покаяние, отец родной! За три дня грамоте не выучимся. Голова не варит. Кормилец наш, пожалей нашу старость!
— Приказ недействителен, — сказал я, — это все наделал дурень Ерофимов.
Ночью приходили еще депутации, а к утру всюду были вывешены и разосланы с нарочным по уезду плакаты. Содержание их было такое:
«Всему населению Бугульмы и уезда
Объявляю, что сместил коменданта города Ерофимова и снова приступил к своим обязанностям. Тем самым его приказ о ликвидации неграмотности в три дня считать недействительным.
Комендант города Гашек»Я смог это сделать, потому что ночью в город прибыл Петроградский рабочий конный полк, который привели мой бравые чуваши.
Смещенный мною комендант города Ерофимов дал приказ своему полку выступить из Бугульмы в боевом порядке и расположиться за городом, а сам пришел попрощаться со мной.
Я заверил его, что, если он попробует снова затеять какое-нибудь бесчинство, я велю полк разоружить, а его самого передам ревтрибуналу Восточного фронта. Игра пошла в открытую.
Ерофимов, со своей стороны, оповестил меня с исчерпывающей откровенностью, что как только Петроградский конный полк покинет город, он явится и повесит меня на холме около Малой Бугульмы, откуда я буду хорошо виден со всех четырех сторон.
Мы подали друг другу руки и расстались добрыми приятелями…
Перевод с чешского Юр. МОЛОЧКОВСКОГОПОЛЕТ ЗА СКАЗКОЙ
В наши дни дикие гуси — мало популярный вид транспорта. Это учел французский режиссер Ляморисс, создавая фильм-сказку для детей.
Полвека назад шведская писательница Лагерлеф, чтобы познакомить детей с природой и достопримечательностями родной страны, выбрала для этого увлекательную форму сказки. Кто не знает «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»? У Ляморисса диких гусей заменил аэростат, мальчика Нильса — сын режиссера, маленький Паскаль, а сказку — сказочный фильм о Франции.
Паскаль один много раз подымался на воздушном шаре и летал над Францией в поисках приключений. Отец Паскаля следовал за воздушным шаром на вертолете, переоборудованном в летающую кинокамеру. Ляморисс истратил все деньги на осуществление своей затеи. С выпуском фильма «Необыкновенное путешествие Паскаля на воздушном шаре» Ляморисс с лихвой вернет затраты. Он ожидает сказочных дивидендов.
Но кто бы вернул Лямориссу сына в случае катастрофы?
ИГРА СО СМЕРТЬЮ
В западной прессе приходится подчас читать об удивительных и нелепых рекордах: то о состязании обжор, то о соревнованиях пианистов, победителем которых считается… дольше всех играющий. Обычно чемпион конкурса едоков рискует лишь потерей аппетита, у победителей «фортепьянного марафона» пропадает вкус к музыке, спортсмены же, решившие сделать бизнес на нездоровых интересах публики, играют со смертью.
Один из них — французский велосипедист Жозе Меффрэ — пытается достичь на велосипеде скорости 200 километров в час. «Мои встречи со смертью» — так назвал он книгу, в которой рассказывает о том, как ему удалось «выжать» скорость 175,609 км/час. Чтобы никто не усомнился в огромной опасности, которой он подвергается, Меффрэ украсил свою спортивную майку изображением черепа и скрещенных костей. Игру со смертью этот сорокасемилетний человек сделал своей профессией.
Погоня за сверхрекордами не раз приводила Меффрэ к катастрофам, после которых он подолгу отлеживался в госпитале. Перед очередной попыткой промчаться на велосипеде со страшной скоростью Меффрэ пишет завещание, в котором требует похоронить его в случае падения здесь же, на месте катастрофы, у дороги. Столь обстоятельный смертельный реквизит привлекает к гонке немало людей. А это-то и нужно гонщику.
ДОБРОГО ПУТИ ЗАВТРА
— Для того чтобы писать о будущем, надо прежде всего знать настоящее. Вот почему я сегодня в Советском Союзе.
Наш собеседник улыбается и добавляет:
— Я сделал себе громадный сюрприз: во время своего путешествия остановился в Москве.
Известный чешский писатель-фантаст Ян Вейс хорошо знаком советскому читателю по переводам его произведений «Звезда в небе Африки», «Звезда и женщина», «В стране наших внуков».
Узнав о новом издании — «Искателе», Вейс с увлечением говорит о научно-популярной, приключенческой литературе и фантастике.
— А почему именно эти жанры привлекают вас? — любопытствуем мы.
Писатель понимающе посмеивается:
— Выходит, это интервью? Ну что ж, придется отвечать! Видите ли, с самого детства я увлекся Жюлем Верном и Карелом Чапеком. Первый привлек меня своей безудержной фантазией, проницательным умом исследователя, ученого; второй — тонким психологизмом, глубокой верой в человека, чувством юмора. И теперь, оглядываясь назад, я все больше утверждаюсь в мысли, что именно благодаря им я стал писателем. Но было бы неверным сказать, что я увлекаюсь лишь фантастикой и приключениями. Полистайте написанное мною, и вы сами убедитесь в этом. Например, мой роман «Барак смерти», «Истории старые и новые», «Лойзка» — реалистические произведения.
Вообще я считаю, что в нашем писательском деле создать нечто стоящее можно лишь тогда, когда испробуешь себя в самых разных жанрах, как говорят актеры, в разных амплуа.
— В каком же амплуа вы выступаете в последнем своем произведении?
— Моя новая работа довольно необычна. Я пытаюсь написать фантастическое произведение белыми стихами. Главное в нем— моральные вопросы. Мне хочется рассказать о жизни людей завтрашнего дня: о мыслях, мечтах, стремлениях человека будущего, о его быте.
Разговор заходит и об американской фантастике.
— Знаете, — говорит Вейс, — у американцев есть любопытные писатели-фантасты — Азимов, Бредбери. Но… — Ян Вейс задумался. — Эти писатели творчески находчивы, остроумны, умело строят сюжет. И при всем при этом — ужасные пессимисты. Их настроение становится совершенно понятным, если вспомнить о современной жизни человека Запада: ему твердят о неизбежной войне, он в тисках непрестанного страха перед потерей работы, перед завтрашним днем… Пусть наш читатель познакомится с этим миром отчаяния и безнадежности, пусть он узнает его людей — ему легче будет понять многое на Земле. Он поймет тогда, как глубока причина того, что произведения наших писателей дышат бодростью и оптимизмом.
— А каким бы вам хотелось видеть «Искатель»?
— Конечно, ищущим! — шутит писатель. — Ведь его читатели — удивительный народ. Это будущие космонавты и диспетчеры атомных станций, это конструкторы «думающих» машин и живого белка, это строители городов на Марсе и создатели нового климата на Земле. Да, это искатели, творцы завтрашнего дня всей планеты. Наша социалистическая литература должна помочь многим ищущим юношам и девушкам найти свое призвание, свой добрый путь в завтра, научить их мечтать и добиваться исполнения самой большой светлой мечты.
Валентина Журавлева МЫ УХОДИМ К АЭЛЛЕ
Рисунки Н. ГРИШИНА
Мой друг,
мой далекий друг, я буду говорить с тобой. Капитан дал нам сорок минут. Кристаллофон запишет мои слова. Шифратор сожмет, спрессует записанное, и на мгновение корабельные реакторы отдадут всю свою мощь передатчику. Короткий всплеск энергии будет долго идти сквозь космос — туда, где за невообразимой далью находится невидимая Земля. Но настанет время, и ты услышишь мой голос.
Я должна многое сказать тебе. Еще несколько минут назад, выслушав распоряжение капитана, я знала, что именно надо сказать. Я бежала по трапу, чтобы скорее попасть в свою каюту. Но стоило мне включить кристаллофон, и я почувствовала: слова, казавшиеся такими необходимыми, совсем не нужны.
Вероятно, это усталость. Да, все мы безмерно устали. Через двадцать девять дней после старта, когда корабль достиг субсветовой скорости, приборы отметили повышенную плотность межзвездного газа. С этого времени аварийные автоматы почти беспрестанно подают сигналы опасности. Я слышу их звон и сейчас, когда говорю с тобой. Межзвездный газ постепенно разрушает оболочку корабля. Установки магнитной защиты, доведенные до предельного режима, работают с перебоями. Частицы межзвездного газа проникают сквозь экраны реактора, вызывая побочные реакции. Электронные машины захлебываются в потоке бесконечных расчетов. По шкалам приборов мечутся ослепшие стрелки…
Мы свыклись с опасностью. Сигналы аварийных автоматов вызывают только одно ощущение — глухую досаду. Они означают, что снова надо идти к пультам управления. Снова думать, рассчитывать, искать. Усталость сделала нас неразговорчивыми. Мы молча работаем, молча едим. И если кто-нибудь пытается шутить, мы лишь молча улыбаемся.
Но раз в сутки все меняется. В двадцать часов по корабельному времени капитан выключает систему аварийной сигнализации. Управление кораблем полностью передается электронным машинам, а экипаж собирается в кают-компании. Час — с двадцати до двадцати одного — все разговорчивы, оживленны, веселы. Мы ведем себя так для единственного пассажира корабля. Он выходит из своей каюты только на час. И тогда мы стараемся скрыть усталость. Наш полет имеет смысл лишь в том случае, если этот человек будет доставлен благополучно…
Мой далекий друг, над кристаллофоном висят часы. Минутная стрелка бежит с головокружительной быстротой, а я еще ничего не сказала. Сердце бьется в такт часам — взволнованно, быстро и… растерянно. Трудно найти нужные слова.
Помнишь вечер накануне твоего отлета? Ты улетал утром, на три недели раньше меня, и это было наше прощание. Ты помнишь, в тот вечер мы почти не говорили. Мы долго стояли у реки, а над городом полз багровый от бесчисленных огней осенний туман. Сквозь туманное марево пробивался свет кремлевских звезд, и казалось, эти звезды так же далеки, как и те, к которым нам предстояло лететь. А потом ты спросил:
— Любишь?
И я ответила.
— Спроси, когда вернемся.
— Через полтора года…
«Это для нас, — подумала я. — А на Земле пройдут десятилетия. Что будет здесь, на этом месте?»
И, словно угадав мои мысли, ты тихо произнес:
— Мы придем сюда. Правда?
Туман поднимался снизу, с реки, и полз к нам. Ты молча снял теплую куртку и накинул мне на плечи. Почему я не ответила на твой вопрос? Почему? Быть может, ждала, что ты спросишь еще раз? Или нечто более властное удержало меня от короткого «да»?
Через несколько дней я снова пришла на это место. Пришла одна. Твой корабль уже набирал скорость где-то там, в звездной бездне. До боли в глазах всматривалась я в затянутое тучами небо. Было удивительно тихо, и только изредка шелестели листья, словно скупой ветер пересчитывал, много ли их осталось.
Я знала: меня уже ждут на ракетодроме. Да, обстоятельства сложились так, что я покинула Землю раньше, чем предполагалось. К системе звезды Росс 154 уходил с особым заданием звездный корабль «Орленок», и меня назначили дублером радиоинженера. В этот последний вечер я смотрела с нашего холма на серебристые огни Москвы. Они простирались до горизонта, сливаясь там в широкую светлую полосу. Не верилось, что скоро эти огни, и все огни Земли, и сама Земля превратятся в светящуюся точку. А потом исчезнет и эта светящаяся точка и останется лишь беспредельная черная пустота…
Мы летели к Электре, планете в системе звезды Росс 154. «Орленок» должен был доставить туда термоядерный генератор. Не стану рассказывать о полете: ты прочтешь о нем в рапорте капитана. Мы достигли Электры и на озерном ракетодроме, пока кургузые, похожие на майских жуков буксировщики тянули корабль к причалу, узнали, что предстоит срочный обратный рейс.
Через три часа, когда заканчивалась погрузка, по трапу поднялся человек в сером свитере. Это был наш единственный пассажир — человек, о котором на Земле рассказывали легенды. Здесь его называли Открывателем.
Лишь в редких случаях одно слово может вместить жизнь человека. Легенды, которые я слышала на Земле, казались мне поэтической выдумкой, не больше. Но здесь, на Электре, я поняла, что они лишь слабый отзвук действительности.
Человек, которого называли Открывателем, родился на первом корабле, летевшем к Электре. Тридцать один год назад корабль достиг Электры. Чужая планета стала родиной Открывателя. Это была странная планета. В ее атмосфере содержалось вчетверо больше кислорода и вдвое больше углекислого газа, чем в атмосфере Земли. Вода, насыщенная углекислотой, бурлила, пенилась. Над ржавыми скалами поднимались огни бесчисленных газовых источников. Растения и животные жили буйной, не похожей на земную жизнью. В каменистых пустынях за несколько часов возникали непроходимые леса и так же быстро исчезали. Ветер уносил в небо потоки горючих газов. Они сгорали, а на иссохшую почву падали струи кипящего дождя…
Люди дорого платили за каждую тайну Электры. Открывателю было шестнадцать лет, когда он остался один. Быть может, его спасли прирожденные способности исследователя: он умел понимать, помнить, предвидеть. Быть может, он, выросший на этой планете, каким-то шестым чувством догадывался о приближающейся опасности. Или ему просто везло. Но он выжил. Семь лет он был единственным человеком на Электре. С Земли прилетали лишь транспортные ракеты с оборудованием. Позже он узнал, что вторая экспедиция, вылетевшая на Электру, не достигла цели.
Семь лет Открыватель исследовал Электру. Спускался на дно ее океанов, взбирался на покрытые пенистым снегом пики, пересекал кочующие леса. Сражался с хищниками, строил опорные станции, посадочные площадки, радиомаяки. Семь лет с ним были только машины.
Потом прилетел корабль с людьми. Открыватель мог вернуться на Землю. Быть может, он и вернулся бы, но корабль прибыл в период весенних бурь. Серая клокочущая вода лавиной шла по равнинам. Ураганный ветер разбрасывал тяжелые валуны. Из болотистых лесов, подгоняемые ветром, выползали низкорослые черные кустарники; их источавшие кислоту ветки цепко опутывали все, что встречалось на пути. Открыватель знал; только он может предостеречь людей, остающихся на Электре, без него они погибнут. *Он умел читать следы на влажном песке. Умел по едва уловимому запаху, по едва приметным изменениям в окраске неба определять приближение урагана. Он любил планету, еще чужую для других людей.
И он остался.
На Электру все чаще прибывали корабли. Открыватель указывал людям залежи бериллия, титана, урановой руды. Он отыскивал места для будущих городов. Его роботы всегда появлялись в тот момент, когда люди нуждались в защите или помощи. Роботы, как и сам Открыватель, были ветеранами. Их электронная память хранила все необходимое для жизни на этой планете. Другим роботам предстояло еще годами приспосабливаться. Роботы Открывателя уже знали Электру. Могущество Открывателя было могуществом человека, управлявшего немногими из прижившихся на планете машин. Но людям казалось, что Открыватель наделен какой-то особой силой. Теперь я знаю: в этом есть немалая доля истины. Суровая борьба, закалившая интуицию и волю Открывателя, сделала его человеком необычным.
Время шло. Люди наступали на Электру. В скалах гасли вечные огни. Отчаянно сопротивлявшиеся хищники уходили в леса. Каналы прорезывали каменистые пустыни. Открыватель чувствовал: теперь он может вернуться на Землю.
Ракетодром, с которого улетал наш корабль, обступили провожавшие Открывателя люди. Но где-то рядом сверкали огни сварки. Там строили стартовую площадку для полетов к неисследованным звездным системам. Люди работали и в день отлета Открывателя.
С верхней площадки трапа он долго смотрел на черную дымку, скрывавшую горизонт. Красный диск звезды Росс 154 медленно погружался в эту похожую на предштормовое море дымку. Никто из нас не решался поторопить Открывателя. «Орленок» был готов к старту, но мы ждали…
В первые же часы полета мы поняли, как трудно будет Открывателю. Регенеративные установки поддерживали на корабле атмосферу такого же состава, что и земная. Открыватель не мог дышать земным воздухом: он вырос на Электре, и теперь ему не хватало кислорода. Его поместили в отдельную каюту, в которую подавался насыщенный кислородом воздух. Только раз в сутки Открыватель выходил из своей каюты; он хотел привыкнуть к земному воздуху.
Он появлялся в кают-компании точно в двадцать часов. Он шел наклонившись, словно преодолевая сопротивление ветра. Медленно, избегая лишних движений, подходил к своему креслу. Темные очки защищали его глаза от корабельных ламп, излучавших солнечный, богатый ультрафиолетовыми лучами свет. Атмосфера Электры, содержащая в верхних слоях много озона, не пропускала ультрафиолетовых излучений, и лицо Открывателя, никогда не знавшее загара, было неестественно белым. Откинувшийся на спинку кресла, глубоко дышавший через полуоткрытый рот, в темных очках, подчеркивающих его бледность, Открыватель производил впечатление тяжелобольного.
Мы, не сговариваясь, старались развлечь своего пассажира. Расспрашивали Открывателя о его работе (он писал историю покорения Электры). Говорили о Земле. Охотно смеялись над каждой шуткой и ни словом не обмолвились о том, что угрожает кораблю. В этот час для нас не существовало никаких опасностей.
О чем думал Открыватель, слушая наши разговоры? Понимал ли, что мы только играем? Возможно. Не знаю, как другие, но в его присутствии я чувствовала себя ребенком. Все мы, в сущности, еще очень мало сделали в жизни, а Открыватель сделал столько, что хватило бы на много жизней.
Да, вероятно, он с самого начала видел нашу игру, но молчал. А на лице его ничего нельзя было прочесть. Когда он изредка снимал очки, меня поражал контраст между живыми, очень выразительными глазами и совершенно неподвижным, похожим на мраморное изваяние лицом.
— Результат одиночества, — сказал как-то наш врач. — Все чувства ушли внутрь.
…Стрелка часов неумолимо движется по циферблату. Надо спешить, и я буду говорить о главном.
Однажды Открыватель, спустившись в кают-компанию, никого там не застал. Обстоятельства сложились так, что экипаж должен был работать. Никто не мог покинуть пост управления, и только мне капитан приказал идти в кают-компанию. Я дублер, и для меня полет считался учебным.
С капитаном не спорят. Я оставила товарищей и прошла в кают-компанию. Открыватель, как обычно, сидел в кресле. Он встал, увидев меня, и молча кивнул головой. Он не удивился тому, что я одна, ни о чем не спросил. И я старалась говорить весело и беспечно. Это было трудно. Темные стекла очков бесстрастно поблескивали под светом корабельных ламп, но мне казалось, что Открыватель видит все. После нескольких фраз наступило молчание. Сквозь гул двигателей пробивался тревожный звон аварийных автоматов. Я тщетно искала, что сказать. И, когда молчание стало невыносимым, услышала негромкий, спокойный голос Открывателя:
— Скажите… какая она… Земля?
Я уже хотела ответить первой пришедшей на ум фразой, как вдруг что-то остановило меня. Я подумала: «Ведь этот человек никогда не был на Земле. Как ему объяснить?» Странно, но только в тот момент я впервые осознала, что это такое — никогда не быть на Земле.
Открыватель ждал ответа, а я думала о том, что никакие слова не могут передать красоту Земли. Слова — жалкие копии. Они действуют лишь тем, что пробуждают живые воспоминания. Но если нет воспоминаний, слове бессильны.
Мысль эта нахлынула внезапно, и в течение какой-то доли секунды я вдруг — до боли остро — почувствовала непередаваемую прелесть Земли. Нет, в это мгновение я увидела не те праздничные, украшенные людьми уголки, с которыми часто связывается наше представление о красоте. Я увидела заброшенный лесной пруд: шершавые стволы над зеленой, присыпанной золотом солнечных стружек водой, и сморщенный желтый лист, который, покачиваясь, плывет мимо мокрой травы… Как передать это тому, кто не видел, как падают в воду листья, кто никогда не слышал, как ветер ласкает гибкие ветви* никогда не прикасался к нагретому солнцем камню, никогда не держал в зубах кисловатую травинку, никогда не вдыхал влажный, пронизанный сотнями запахов лесной воздух?
— Спасибо, — неожиданно произнес Открыватель. — Я понял.
Он встал и направился к трапу. Он ничего больше не сказал, но я знала: он действительно понял меня. В этот день я по-новому увидела Открывателя.
На следующий вечер в кают-компании собрался весь экипаж. Говорили о Земле, о том, какой она стала за время нашего отсутствия.
— Земля всегда меняется, — сказал капитан. — Это видно уже издалека. Помню, в прошлый рейс мы обнаружили в солнечной системе две планеты с кольцами. Когда штурман доложил мне об этом, я рассмеялся. Сатурн — один, у другой планеты не могло быть колец. Но штурман оказался прав. Пока мы были в полете, у Земли появилось кольцо Черенкова. Теперь меня ничем не удивишь. Возможно, будет создана атмосфера на Марсе. Или изменится орбита Венеры… Знаю только, что мы увидим изменения еще издалека. Это как возвращение в родной город: уже в пригороде замечаешь, как переменилось все за время твоего отсутствия…
Я сидела в углу, куда не доходил свет ламп, и следила за Открывателем. Он слушал капитана, но лицо его ничего не выражало. И, глядя в черные стекла очков, я подумала, что он ждет совсем других изменений на Земле. Словно угадав мои мысли, Открыватель посмотрел в мою сторону. Это был беглый взгляд, не больше. Но, подчиняясь неведомой силе, я сказала:
— На Земле изменится атмосфера.
Капитан обернулся. До сих пор все мы, по молчаливому соглашению, избегали говорить о земной атмосфере.
— На Земле изменится атмосфера, — повторила я.
— Почему? — спросил врач.
— Она обогатится кислородом, — ответила я. Эта идея появилась у меня внезапно, но я сразу поверила в нее. — Атмосфера будет такой же, как на Электре. Это лучше для людей. Исчезнут многие микроорганизмы. Повысится мощность двигателей. Станут обитаемыми высокогорные районы.
Никто не ответил. И только после долгого молчания Открыватель сказал:
— У вас щедрое сердце.
Позже, когда мы расходились из кают-компании, я спросила врача:
— А вы верите, что так будет? Вы медик и должны…
— Нет, — перебил он. — Не верю. Но я вижу, что вы любите… его.
Он ошибался, наш старый доктор, и я не виню его в этом. Мог ли он знать, что меня связывало с Открывателем совсем иное — однажды до боли осознанная любовь к Земле.
Шли дни, и как-то рация впервые уловила сигнал. Он был еще очень слаб, этот пришедший из черной бездны неведомый голос. Мы ничего не могли разобрать. Мы только знали, что кто-то говорит с нами. Невыносимая мука — слышать Землю и не понимать, что именно тебе говорят. Прошло несколько до бесконечности длинных дней, пока мы, наконец, смогли понять далекий голос.
Это была не Земля. С нами говорил «Памир» — корабль, летевший к звезде Струве 2398. Когда наш главный радиоинженер в сотый раз изменил схему дешифратора и послышался тихий явственный голос, мы были так обрадованы, что не сразу поняли смысл радиограммы. Мы летели к Земле, и уже давно для нас существовали лишь Земля и наш корабль. А мир был велик, и в этом мире к другим звездам шли другие корабли.
«В звездной системе Струве 2398, — гласила радиограмма, — пропала без вести первая исследовательская экспедиция, отправленная на планету Аэлла. Экипаж «Памира» — четыре человека— ведет к Аэлле транспортную ракету с оборудованием. Сообщение о потере связи с первой экспедицией было получено в пути. Первая экспедиция успела лишь передать, что встретилась на Аэлле с какой-то неведомой опасностью. Экипаж «Памира» решил продолжать полет. Аэлла — планета, во многом подобная Электре. Просим Открывателя передать возможно более подробные инструкции и советы…»
Я помню наизусть эту радиограмму. Она лежала на моем рабочем столике долгую ночь дежурства. Мы ждали Открывателя. Сколько времени ему нужно, чтобы составить ответ? Час, три часа, сутки?.. Рация была подготовлена к ответной передаче. Капитан приказал установить круглосуточное дежурство.
В полночь главный радиоинженер ушел из рубки. Я осталась одна. Я думала о тех четырех неизвестных мне астронавтах, которые шли к Аэлле. Они не повернули свой корабль. Четверо против Аэллы… Но ведь мог же Открыватель выстоять в одиночку против Электры! Кто эти четверо?
Мой далекий друг, в ту ночь я думала о тебе. Мне казалось, что люди на «Памире» такие, как ты.
Я дремала, положив голову на столик. В полусне я видела рубку «Памира» и четырех людей, удивительно похожих на тебя. У них были твои глаза — с золотыми, как солнечные блики на воде, искорками, вспыхивающими при улыбке…
В половине четвертого по трапу поднялся Открыватель. Я услышала тяжелые шаги и машинально посмотрела на часы. Открыватель кивнул мне и медленно прошел к креслу штурмана.
— Радиограмма? — спросила я, пытаясь стряхнуть сон.
Открыватель не ответил.
— Радиограмма готова?
Он снял очки и обернулся ко мне. В его глазах было что-то новое, еще невиданное мной.
— Где… Земля? — странным голосом спросил он.
Я включила обзорный экран. Там, где перекрещивались нити, чернело пятно, окруженное густой россыпью фиолетовых звезд. Скорость корабля исказила вид звездного неба.
— Она там, — тихо сказал Открыватель.
— Ее не видно, — возразила я. — Солнце будет заметно месяца через три, не раньше.
Открыватель покачал головой.
— Она там…
Сон окончательно прошел, и я поняла, что возражать нельзя. Я молча стояла за креслом Открывателя и смотрела на обзорный экран. Это продолжалось долго. Потом Открыватель, все еще склонившись к экрану, едва слышно произнес: Есть голубая звезда, Джаннета,
Езды до нее двенадцать лет, Если мчаться со скоростью света. И белая есть звезда, Джаннета. Езды до нее сорок лет, Если мчаться со скоростью света. К какой же звезде Мы с тобой поедем — К голубой или белой?Мой друг, ты знаешь эти стихи. Это «Детская песенка» Сэндберга. Однажды (с тех пор прошла вечность) ты читал их мне там, на Земле. Но в голосе Открывателя была недетская грусть. И я вдруг все поняла.
— Вы… решили? — спросила я.
Открыватель быстро надел очки и обернулся ко мне.
— Выключите экран.
— Вы решили? — повторила я.
Он посмотрел на меня и улыбнулся.
— Да, конечно.
— Но…
Движением руки он остановил меня.
— Скажите капитану: нужно пересчитать курс. Я перейду на «Памир».
…Неудержимо бежит стрелка часов, а я еще не сказала тебе самое главное.
В эту ночь аварийные автоматы молчали. И только под утро раздались тревожные воющие сигналы. Через минуту весь экипаж был в рубке. Прошло несколько часов, пока мы восстановили магнитную защиту. И когда капитан отошел от пульта управления, я передала слова Открывателя. Странно, но капитан не удивился. Он сказал:
— Хорошо. Идите. Я сам пересчитаю курс.
Однако никто не вышел из рубки.
— Идите, — повторил капитан.
Казалось, никто не слышал приказа.
— Хорошо, — сказал капитан. — Пусть будет так. Но сначала подумайте. Если все решат уйти к Аэлле, мы полетим. Но если хоть один из нас захочет вернуться, мы вернемся на Землю. А Открыватель перейдет на «Памир».
Он посмотрел на часы и добавил:
— Через пятьдесят минут. Я буду ждать здесь. Идите же…
Капитан наклонился к пульту управления. Я заметила: он смотрит туда же, куда ночью смотрел Открыватель…
Пятьдесят минут — они тянулись бесконечно. Я сидела в своей маленькой каюте и думала. На «Орленке» одиннадцать человек. Капитан остался у пульта управления. Десять человек разошлись по каютам. «Если хоть один из нас захочет вернуться, мы вернемся на Землю». Что скажут мои товарищи? За стальной переборкой каюта доктора. Это был его последний рейс… Главный радиоинженер — он оставил на Земле семью… Мои подруги, механики — их тоже ждут дома…
Пятьдесят минут — они тянулись бесконечно, и лишь в последние секунды время стремительно рванулось вперед. Надо было встать и идти в рубку. Но какая-то сила мешала мне подняться. Быть может, у меня больше, чем у других, права вернуться на Землю? Я дублер радиоинженера. Для меня этот рейс учебный. А там… на Земле… И вдруг я услышала Землю. Среди бесчисленных звуков я вдруг услышала один — шум морского прибоя. Это было так явственно, что машинально я посмотрела на динамик кристаллофона. А шум моря слышался сильнее и сильнее. Рокот морских волн, гул прибоя и еще всплеск покачивающейся На волнах лодки… В этот момент вся Земля воплотилась в пригрезившемся мне голосе моря. Ты слышал, как плещется вода под покачивающейся на волнах лодкой?..
С последним ударом часов я встала, поднялась по трапу и увидела, что все-все, кроме меня, уже в рубке. Они пришли сюда давно, я сразу поняла это. Никто, кроме меня, не ждал пятидесяти минут.
— Надо идти к Аэлле, — сказала я и удивилась, настолько чужим показался мне собственный голос.
— Да, — ответил капитан. — Мы рассчитываем курс.
Десять человек стояли вокруг меня. Никто из них не сомневался, что я скажу «да». Они давно собрались здесь, и сейчас электронная машина уже пересчитывает курс. Десять человек знали, что я скажу «да»…
Непередаваема красота Земли, но если меня спросят, что самое красивое на Земле, я, не задумываясь, отвечу: «Люди».
Мой друг,
мой далекий друг, стрелка часов летит по циферблату. Я должна сказать тебе все. Сейчас, когда я говорю с тобой, твой корабль летит где-то в черной бездне космоса. Но пока мои слова достигнут Земли, ты вернешься туда и будешь ждать меня на нашем холме.
Мой друг, мы уходим к Аэлле. «Орленок» удаляется от Земли. С каждым часом, с каждой секундой увеличивается расстояние между нами. И все-таки мы ближе друг к другу, чем раньше. Что значит жалкая арифметика расстояний, если я люблю тебя!
Не знаю, что ждет нас на чужой и злобной планете. Но как бы ни бушевало и ярилось небо Аэллы, я буду искать в нем твой корабль. Я знаю, мы увидимся с тобой. Ты не собьешься с пути, ты придешь, потому что я люблю тебя!
В этот первый полет я взглянула в бездонные глаза вселенной. Да, мой друг, мой далекий и близкий друг, бесконечность сильна. В сравнении с ней наша Земля — ничтожная пылинка. Но есть нечто сильнее черной бесконечности. Это разум и воля людей. Это право людей стоять плечом к плечу. Это простые слова, перед которыми отступают пространство и время, — я люблю тебя!
Чудеса ХХ века
ГИГАНТСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
Большое белоснежное здание, как сказочный замок, возвышается на одном из гребней Кавказского перевала Цхра-Цкаро на высоте 2 500 метров. В нем помещается высокогорная космическая станция Института физики АН Грузинской ССР.
Здесь будут проводиться исследования частиц, что непрерывно залетают к нам из космоса.
Чтобы уловить обладающие огромными энергиями частицы, советские физики установили уникальный электромагнит: он создает магнитное поле объемом а 6 кубических метров! Это самый мощный электромагнит в мире, используемый для изучения элементарных частиц.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ПРЯХА»
Сложен путь рождения нити: одна машина выпрядает нити, вторая — соединяет несколько нитей в одну, третья — скручивает их, четвертая — наматывает. Казалось бы, стандартный, твердо установившийся технологический процесс.
А что, если поручить эти четыре операции одной машине? Недавно в Ташкентском научно-исследовательском институте хлопчатобумажной промышленности после долгих поисков была сконструирована новая машина ПК-100.
П. К. Кориковскому, научному сотруднику института, впервые в мире удалось создать совершенную уникальную прядильно-крутильную машину, производительность которой оказалась в полтора-два раза выше прядильной и крутильной машин, работающих на раздельных операциях.
Скоро в просторных светлых зданиях наших фабрик появится универсальная «пряха».
ПОДВЕСНОЙ КАНАЛ
Испокон веков ирригационное строительство основывалось на том, что вода из оросителей шла в борозды по земле. Группа узбекских инженеров решила пересмотреть этот принцип. В одном из недавно созданных совхозов вода на участок в восемь тысяч гектаров будет подаваться по висячему акведуку. Его длина более восьмидесяти километров.
Преимущество подвесных каналов огромно. Этот метод орошения позволит сохранить влагу от излишней утечки в пути, ликвидировать сотни тысяч мелких арыков, затрудняющих использование сельскохозяйственных машин.
Профессор Г. Покровский ЗЕМЛЯ — ЕДИНЫЙ ГОРОД
На рисунке Т. Покровского изображена транспортная межконтинентальная ракета будущего. Все ступени ракеты оформлены в виде сверхзвуковых самолетов. На рисунке: мощный портальный кран устанавливает ракету на стартовой площадке.
Лет, скажем, сто назад лишь богачи могли позволить себе ездить в каретах, запряженных несколькими лошадьми. Если бы в те времена кто-нибудь сказал, что в недалеком будущем каждый человек сможет пользоваться экипажем, запряженным десятками лошадей, его бы сочли фантазером и безумцем.
А между тем в наши дни любой трудящийся может нанять такси и получить в свое распоряжение столько «лошадей», сколько не снилось богатейшим людям прошлого. И таких, которые помчат его со скоростью, недоступной лучшим скакунам.
Впрочем, зачем сопоставлять эпоху столетней давности и нашу современность. Возьмем гораздо меньший промежуток времени. В тридцатых годах нашего столетия люди только мечтали о самолетах, летающих со скоростью вращения Земли. Сегодня каждый из нас, вылетев из Новосибирска в семь часов утра, может прибыть в Москву в то же самое время!
Энерговооруженность человечества в последние десятилетия растет невероятно ускоряющимися темпами. Подсчитано, что за время жизни одного человека нашей эпохи мощность обслуживающих его машин увеличивается приблизительно раз в десять. Все возрастающая энерговооруженность позволит удовлетворять многие новые потребности человечества.
Сейчас, например, полеты межконтинентальных ракет — редкие и дорогостоящие научно-технические эксперименты. Но, несомненно, настанет время, когда такие ракеты войдут в быт, так же как вошли автомашины или самолеты. Это приведет к значительным сдвигам в жизни людей всего земного шара.
Одна из характерных особенностей современной жизни — развитие крупных городов. Чем крупнее город, тем большую роль играют в жизни горожанина средства передвижения: метро, железные дороги, троллейбусы, автомашины, речные катера.
Подсчитано, что максимальное расстояние, которое приходится преодолевать людям в пределах крупнейших городов, составляет 50–60 километров (ведь обычно путь идет не прямой). Средняя скорость городского транспорта достигает 60 километров в час. Значит, любая встреча может состояться в течение часа. В пределах одного города возможно свободное повседневное общение людей.
Творческая, трудовая взаимосвязь многих профессий приводит к необходимости жить и работать рядом, вблизи друг от друга очень большие коллективы людей. Однако расширять все дальше и дальше крупные города невозможно. Следовательно, остается один путь — совершенствовать междугородный транспорт, «укорачивать» с его помощью расстояния, отделяющие разные города.
Уже сейчас все сильнее растет потребность людей разных стран общаться друг с другом в области культуры, науки, искусства, спорта. Будущее человечество будет жить единой семьей, никакие расстояния не смогут затруднить повседневное общение людей.
Наука и техника, достигшие сегодня грандиозных успехов, позволяют нам говорить о таком транспорте будущего, который позволил бы людям, живущим в разных концах Земли, встретиться так же быстро, как если бы они жили в одном городе.
Техническое решение этой проблемы, по существу, уже реализовано в советских межконтинентальных ракетах. Как известно, такие ракеты могут долететь до любого пункта нашей планеты в предельно короткое время. Автоматическое управление обеспечивает точное приземление в определенном месте. Если при запуске ракеты и при последующем торможении удастся добиться сравнительно небольшой перегрузки для человека, перегрузки, равной еще одной силе тяжести, то можно обеспечить скорость полета, при которой за полчаса пассажир будет доставлен на расстояние 5 тысяч километров.
Окружность земного шара равна 40 тысячам километров. Поэтому наибольшее расстояние на поверхности Земли не может превышать 20 тысяч километров. Расчеты показывают, что это расстояние ракета одолела бы за 57 минут (на дальних рейсах ракета будет развивать более высокую скорость). Но столь дальние полеты будут нужны сравнительно редко. Наиболее часто придется преодолевать расстояния от 5 до 15 тысяч километров.
Конечно, чтобы использовать или, скорее, преобразовать межконтинентальные ракеты в средства повседневного транспорта, необходимо прежде всего обеспечить достаточную его экономичность. Теоретически при дальних расстояниях полета ракеты оказываются даже более экономичными, чем скоростные самолеты. Ракета движется вне плотных слоев воздуха и практически не тратит энергии на преодолений его сопротивления. Самолет же, наоборот, все время борется с сопротивлением воздуха и тратит энергию на непрерывное создание подъемной силы. Коэффициент полезного действия у авиадвигателей заметно ниже коэффициента полезного действия жидкостных реактивных двигателей межконтинентальных ракет.
Правда, есть одно существенное обстоятельство, удорожающее ракетный транспорт. Дело в том, что ракеты-носители не только дороги сейчас вообще, но и используются пока что один раз; они отделяются в полете от головной части и разрушаются при падении в более плотные слои атмосферы. Значит, нужно снабдить все ступени ракеты, так же как ее головную часть, крыльями и аэродинамическими рулями, а в двигателях оставлять немного горючего. Все ступени ракеты и головная часть должны иметь автопилотов. Эти приборы обеспечат посадку всех частей ракеты на аэродромы или на воду.
Поставить на службу мира и прогресса современную ракетную технику, перековать могучий меч наших дней — межконтинентальную ракету — в не менее могучее орало — сверхскоростной всемирный ракетный транспорт — это значит превратить земной шар как бы в единый город.
Листая старые страницы
Сегодня мы мечтаем о том, чтобы средством сообщения стали межконтинентальные ракеты.
А еще не так давно… Прочтите, о чем писали старые журналы.
«…Несколько слов о новоспроектированной конструкций подводного корабля… По уверению изобретателя, на этом корабле можно смело пробыть в воде до 3 и даже 9 часов, причем быстрота его хода тоже весьма почтенная — около 18 морских миль (33,3 км) в час.
Само собой разумеется, все это пока одни теоретические предположения. Но, во всяком случае, сама попытка устроить подводный корабль достойна полного внимания, и если ей суждено будет осуществиться, то, весьма вероятно, ею воспользуются не для одних только воинственных целей, она может сослужить немалую службу и при изучении подводного мира».
(«Природа и люди», 1878 г.)«…Ввиду того, что автомобилизм распространяется все сильнее и сильнее, то какие же блага он даст человечеству, если со временем вся лошадиная тяга будет заменена тягой автомобильной?
…Прежде всего удвоится скорость передвижения и значительно увеличится удобство седоков. На улице получится много лишнего места… Исчезнет стук копыт, шум колес… Уничтожатся также конюшни и склады сена, от которых нередко происходят пожары. Копыта сильно портят мостовые, а при автомобильной тяге такой порчи не будет. Пыли почти совсем не будет. Отсюда последует полное устранение уличной грязи, и поливка улиц станет излишней».
(«Русский турист», 1900 г.)«…Искусство подниматься в воздух и путешествовать по его течению известно уже 80 лет, но изумительным успехом было бы, без сомнения, открытие способа путешествия в желаемом направлении и с желаемой возможной скоростью. Весьма недавно Вальтер Уэлдон сообщил очень простые средства для плавания в воздухе. По его мнению, стоит только подражать рыбам, то есть употреблять по-прежнему мешки, наполненные водородом (соответствующие плавательному пузырю рыб), и давать им форму не шара, а сплюснутого цилиндра с параболическими округленными концами».
(«Вокруг света», 1864 в.)А вот несколько заметок из журнала «Автомобиль» за 1902 год:
«…Некий англичанин, Пирс, предлагает приз в 100 тысяч франков тому, кто совершит полет на аэростате из Лондона в Бирмингем».
* * *
«…В начале марта текущего года Саратовская судебная палата будет слушать кассационный протест прокурора Уральского окружного суда Ленгера на приговор этого суда по обвинению местного присяжного поверенного Логашкина в автомобильной езде по улицам г. Уральска. Логашкин, будучи на Парижской выставке, приобрел для себя автомобиль с целью заменить им несколько своих лошадей. Автомобиль еще не был выслан из Парижа, а Логашкину уральский полицмейстер объявил по телефону приказ уральского губернатора генерала Ставровского о воспрещении ему езды на автомобиле по улицам г. Уральска… В сентябре прошлого года прекрасно изучивший свой автомобиль Логашкин выехал на нем по улицам города Уральска, а 30 октября предстал перед судом мирового судьи за неисполнение телефонного приказа губернатора».
ДЕЛО О МАЙСКИХ ЖУКАХ
«…Дело о майских жуках было в 1473 году перед духовным судом Лозанны. В этом году майские жуки напали на Бернскую область. Епископ лозаннский поручил одному из священников прочесть личинкам майских жуков на бернском кладбище следующее увещевание: «Глупые, неразумные твари! Личинок майских жуков не было в Ноевом ковчеге. Во имя моего милостивого господина и епископа лозаннского повелеваю всем удалиться в продолжение шести дней со всех тех мест, где растет пища для людей и скота. Ежели вы желаете обжаловать это решение, то я приглашаю вас на суд в шестой день, в 1 час пополудни, к моему милостивому господину, епископу лозаннскому, в Восбельсбург». Однако личинки все-таки не явились на епископский суд. Тогда суд постановил следующий приговор: «Мы, Бенедикт Монсерратский, епископ лозаннский, выслушали жалобу могущественного повелителя бернского против личинок майского жука, и так как вы не явились на суд, то мы изгоняем вас, отвратительные черви, и проклинаем».
(Журнал «Нива», 1894 г.)НАТУРАЛЬНЫЕ ЧАСЫ
«Знаменитый французский путешественник по Тибету и Китаю Ле-Гюк рассказывает, что однажды, встретив на дороге мальчика, пасшего быка, он спросил, есть ли 12 часов. Мальчик посмотрел на солнце, но оно скрывалось за густыми облаками; он попросил подождать, побежал в ближайшую крестьянскую избу и немедленно воротился оттуда с кошкой в руках. Показав нам на глаза кошки, он приподнял у нее веки и сказал, что еще нет 12 часов. «Мы, — продолжал Ле-Гюк, — взглянули с удивлением на мальчика, но он, очевидно, не шутил, и сама кошка, несмотря на неприятность своего положения, казалось, свыклась с подобной операцией, сидела спокойно, как будто действительно служила часами. Китайцы объяснили нам, что зрачки кошачьих глаз до полудня постепенно суживаются и в полдень достигают наибольшего уменьшения, так что представляются в виде тонкой, как волос, черточки, проведенной перпендикулярно над глазами. Потом зрачки опять расширяются постепенно и пополуночи получают форму большого шара. Нас уверяли, что по кошачьим глазам каждый ребенок скоро и верно определяет время, да и мы сами убедились тут же, что такие часы действительно идут очень верно и согласно».
(Журнал «Живописное обо-зрение», 1873 г.)СНИМКИ РАССКАЗЫВАЮТ
ТАИНСТВЕННЫЙ МИР
Что это? Иллюстрация к фантастическому роману о будущем или последний шедевр художника-абстракциониста? Ни то и ни другое. Этот загадочный мир, наполненный мельчайшими, словно по законам геометрии вычерченными фигурами, открывается перед человеком, обладающим «всевидящим глазом» — электронным микроскопом. Так выглядит белый кровяной шарик, увеличенный в 120 тысяч раз. Благодаря электронному микроскопу оказалось возможным узнать строение клетки человеческого тела, сфотографировать ее. По таким фотографиям белых кровяных шариков недавно была построена модель кровяной клетки, увеличенной в миллион раз. Эту модель английское телевидение использовало для серии научных передач.
Она наглядно показывает сложную тончайшую конструкцию клетки. Диаметр модели 7,5 метра и высота — 3,5 метра, так что «клетку» можно изучать и изнутри. сквозь огонь
СКВОЗЬ ОГОНЬ
Море огня на площади 120 гектаров. Оранжево-красные волны степного пожара бушевали в прериях восточного Техаса, захлестывали полотно железной дороги, по которой точно по расписанию возвращался экспресс «Техас — Тихий океан».
Машинист понял, что промедление подобно смерти. И, решившись, на полной скорости устремился вперед.
Экспресс пробился сквозь пламя. Машинисту не пришлось платить штрафа за опоздание. Он привел поезд вовремя.
ЛЫЖЕКТОР
В виде громадных щитов, безумно раскрашенных стен, гороподобных букв и каскадов огней является американцам реклама.
Казалось бы, исчерпана фантазия ее создателей. Но нет. Недавно жители Нью-Йорка подверглись ночному нападению швейцарского инженера Фернанда Оберсона. Оружием ему послужила громадная пушка калибром 51 сантиметр, установленная на мощном грузовике. Из ее жерла вырывался сноп света колоссальной силы — 92 миллиона свечей. Достигнуть столь огромного излучения можно, лишь соединив 70–80 мощных прожекторов. Во время работы аппарата температура ламп приближается к 800 °C, поэтому инженерам пришлось решать сложную техническую задачу охлаждения пушки.
Зачем же понадобилось это всесокрушающее море огня?
Все затем же — для рекламы. Сноп света, вылетающий из огромного ствола, способен увеличить в 72 миллиона раз любой текст или рисунок, заложенный в аппарат. Изображение, радиус которого достигает 900 метров, остается четким на экране, расположенном в нескольких километрах от передатчика. Экраном для огромного изображения может служить стена небоскреба, вершина горы, даже облако. «Лыжектор», как названо это изобретение, может быть применен для рекламы, для передачи важных сообщений и новостей. Стоит это устройство больше шести миллионов швейцарских франков. Однако его считают весьма рентабельным: в течение целой ночи можно вбивать что угодно в головы миллионов обывателей враз.
РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ
Оказывается, и безобидная на первый взгляд профессия коллекционера редких бабочек сопряжена с риском и опасностью.
Посмотрите, сколько ловкости, силы и смелости понадобилось английскому энтомологу Джону Бококу. Высоко взобравшись по гладкой лиане, обвившейся вокруг гигантского баобаба, он старается поймать сачком беззаботно порхающего мотылька.
Джон Бокок — один из участников английской экспедиции, изучающей фауну Танганьики.
ВСЕМИРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРЯЧИЕ ТРОТУАРЫ
Этой зимой жителям Стокгольма не придется вязнуть в снегу. Даже при самых сильных снегопадах тротуары центральных улиц останутся чистыми. Под ними предполагают проложить трубы, в которых будет циркулировать горячая смесь воды и гликоля. Для начала намечено обогреть таким образом около десяти тысяч квадратных метров.
НЕ ПРОСНУЛСЯ
Из детройтского зоопарка удрал тигр. Хищнику наскучило смотреть на людей из-за решетки, выслушивать их реплики и переносить легкие удары палкой. Тигр вырвался на свободу и, оглушенный шумом огромного города, залег в придорожном кювете. Попытка выгнать его оттуда не удалась. Тогда принесли ружье. Заряд с крупной дозой снотворного усмирил животное, и полусонного тигра благополучно препроводили обратно в клетку.
КОШКИ-МЫШКИ
Года два назад в печати появились сообщения об интересном способе борьбы с чайками, «оккупировавшими» один из английских аэродромов. Птиц, мешавших самолетам, стали прогонять с летного поля при помощи магнитофона: на его ленту записали крик стаи чаек в момент опасности.
Теперь этот метод получил довольно широкое распространение. В Пфальце (ФРГ), например, так же отгоняют скворцов, опустошающих виноградники. А в Филадельфии (США) на продовольственных складах решили подобным образом расправиться с крысами и мышами. Мяуканье кошки, транслируемое время от времени во всех уголках складов, приводит грызунов в трепет.
КАРМАННОЕ РАДИО
Удобная вещь — радиоприемник на полупроводниках. Во время туристской прогулки или на пляже можно послушать музыку, передачу со стадиона, узнать, что творится на белом свете.
Однако в некоторых европейских странах городские советы не на шутку озабочены широким распространением походных приемников. Австрийские газеты даже называют эту техническую новинку «национальным бедствием». Дело в том, что карманное радио стало модой и, как всякая мода, перешло в крайность. Представьте себе вагон дачного поезда, где одновременно работает десяток разных радиостанций, или пляж, где каждый купальщик — довольно голосистая радиоточка!
ЧЕЛОВЕК КРЫЛАТОЙ МЕЧТЫ
Александра Беляева нет в живых уже почти два десятилетия, но его повести и романы до сих пор волнуют людей. Их с увлечением читает молодежь, с охотой перечитывают те, кто еще в тридцатых годах с нетерпением ждал очередного номера «Вокруг света» и «Всемирного следопыта», где часто печатался писатель.
…Жизнь А. Беляева, небогатая внешними событиями, была поистине подвигом.
В юности Беляев занимался в консерватории. Но он не стал музыкантом. Юридическое образование привело его на другой путь: будущий писатель работал юрисконсультом в Наркомпросе, воспитателем в детском доме, инспектором милиции.
В 1925 году в журнале «Всемирный следопыт» появилась научно-фантастическая повесть «Голова профессора Доуэля», подписанная никому тогда не известным именем «А. Беляев». В этой повести есть примечательный эпизод. Отделенная от тела голова профессора продолжает жить. Вдруг в раскрытое окно влетает жук. Он вьется вокруг головы, садится ей на лоб. И Доуэль, лишенный возможности что-либо предпринять, испытывает невероятный ужас перед этим маленьким чудовищем.
Беляев признавался, что в этом эпизоде много автобиографического. «Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать, — рассказывал он. — Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни «головы без тела», которого я совершенно не чувствовал. Вот когда я передумал и перечувствовал все, что может испытать «голова без тела».
Болезнь преследовала писателя всю жизнь. Но он мужественно боролся с недугом. Его оружием был труд. Книга выходила за книгой — романы, повести, рассказы, очерки, статьи, рецензии. Огромная эрудиция подсказывала все новые темы, неистощимая выдумка — все новые и новые сюжетные повороты. Автор приключений на суше и на море не мог путешествовать. Но знания и воображение сделали доступными для его взора и далекую Индию, и тропики Южной Америки, и суровую Арктику. За шестнадцать лет А. Беляев создал около семидесяти произведений!
В произведениях А. Беляева — одного из основоположников советской научно-фантастической литературы — великолепно соединились политическая направленность, динамизм действия и научная достоверность.
«Острофабульный научно-фантастический роман о классовой борьбе» — так определил сам А. Беляев характерный для него тип романа.
В основе беляевских книг, как правило, лежит политический конфликт: люди труда, люди мира и прогресса сталкиваются с представителями капиталистического общества, носителями уродливой человеконенавистнической морали. Писатель показал растленность того строя, который порождает ученых-преступников типа профессора Керна или воинственных претендентов на мировое господство вроде Штирнера и Бэйли. Читая его книги, мы видим, как в царстве капитала даже самые ценные научные открытия обращаются во вред людям. Столкновения, описанные романистом, завершаются обычно победой разума, гуманизма. Тех, кто пытается идти наперекор прогрессу, ждет неминуемая гибель.
Оптимизм Беляева проявляется еще ярче, когда писатель говорит о завтрашнем дне нашей страны. Он рисует ее будущее светлым, радостным, наполненным творческим трудом. К сожалению, писатель не успел создать книги, в которой хотел дать широкую картину грядущего. Но в разных его романах и очерках мы находим этюды для этой картины, отдельные зарисовки нашего Завтра, Это межпланетные полеты, это новые прекрасные города, отепленная Арктика, космическая станция.
Есть еще одна необыкновенно привлекательная черта в произведениях Беляева. Это его излюбленный художественный прием. Он почти всегда рисует необычайное в обычной обстановке. В самых обыденных условиях действуют герои романов «Властелин мира», «Продавец воздуха», «Человек, нашедший свое лицо», осуществляются удивительные изобретения. И мы верим в их реальность.
Иногда творческий прием писателя несколько изменяется — он помещает обычное в необычную обстановку. Благодаря такому приему как нечто вполне реальное воспринимаются грандиозные картины космоса, подводного мира и т. п.
Одна из особенностей произведений Александра Беляева, придающая им большую убедительность, — научная достоверность. Даже самые, казалось бы, невероятные проекты и догадки, изложенные на страницах его книг, оказываются вдруг не невозможными. Вот лишь один пример. В романе «Звезда КЭЦ» рассказывается о том, как с помощью отражающих зеркал на Землю были направлены солнечные лучи. Они растопили вековые льды, прогрели почву и позволили создать зеленый оазис в царстве вечной мерзлоты. Разве не перекликается эта дерзкая идея с проектом современных советских ученых, предполагающих создать вокруг Земли отражающее свет кольцо (отдаленно напоминающее кольцо Сатурна), с тем чтобы использовать солнечное тепло для переделки климата на нашей планете?
Особенно много внимания перспективам развития советской науки и техники Беляев уделял в тридцатые годы. Беляев переписывался с Циолковским. Эта переписка была на редкость плодотворной для писателя. «Звезда КЭЦ» — результат увлечения идеей Циолковского — идеей создания внеземной станции. Константин Эдуардович много помогал Беляеву. По замечаниям ученого писатель доработал роман «Прыжок в ничто». Благодаря общению с Циолковским А. Беляев смог создать яркий, запоминающийся образ ученого в очерке «Гражданин Эфирного Острова».
Книги Александра Беляева, человека крылатой мечты, помогут воспитать еще не одно поколение смелых, отважных, любознательных.
Б. ЛЯПУНОВАлександр Беляев АНАТОМИЧЕСКИЙ ЖЕНИХ
Рисунки М. КЛЯЧКО
Рассказ «Анатомический жених», последнее печатное произведение А. Беляева, был написан в 1940 году. Впоследствии по его мотивам А. Беляев создал сценарий «Когда погаснет свет», к сожалению не доведенный до экрана.
С Джоном Сиддонсом случилось большое несчастье: он влюбился в Мери Дельтой.
У Мери были такие глаза, волосы, нос, руки, ноги, фигура, какие могли быть только у нее и ни у кого больше. Достаточное основание, чтобы влюбиться без ума.
Вот как это произошло.
Джон был в парикмахерской. Угрюмый парикмахер, перестав щелкать ножницами и сопеть в темя, снял с Джона простыню.
Сиддонс направился к выходу. И тут на его пути возникло белое видение, и скоро, в состоянии невменяемости влюбленных, он сделал ей предложение, которое было принято благосклонно.
Джон стал женихом и несчастнейшим человеком в мире.
Любовь поссорила сердце Джона с его рассудком. Нетерпеливое сердце требовало, чтобы брак был заключен немедленно. * Холодный рассудок не одобрял этого: семья, говорил рассудок, коммерческое предприятие, которое имеет одну только расходную часть и всегда пассивное сальдо. Мери едва сводит концы с концами. Сам Сиддонс служит счетоводом в фирме «Кин и К°» — пуговицы «Идеал». Его заработка едва хватает на скромную жизнь. Свадьбу можно справить самую скромную. Но ведь надо же обзавестись хоть маленькой семейной квартиркой, купить в рассрочку мебель, посуду, белье… А дети? Если пойдут дети, Мери, наверно, потеряет место, расходы же увеличатся.
Выходило так, что счастье Сиддонсу не по карману. Чтобы владеть Мери, надо во что бы то ни стало увеличить свой заработок. Но как?.. Эти мысли не покидали Джона и на работе.
Сиддонс занимался в большой узкой крмнате с тремя десятками других служащих. Столы. были поставлены так, что главный бухгалтер, сидевший в конце комнаты за стеклянной перегородкой, мог видеть всех, и горе было тому, кто прекращал работу хоть на минуту.
В канцелярии стоял невероятный шум: скрежетали арифмометры, трещали контометры и пишущие машинки. Было непонятно, как люди могли заниматься в таком звуковом кошмаре. К концу долгого рабочего дня Джон совершенно обалдевал. Нечего было и думать о сверхурочном заработке или какой-нибудь работе на дому: треск и скрежет стояли у него в голове до утра. Переменить профессию? Невозможно. Положение казалось безвыходным.
По вечерам слипающимися от усталости глазами он просматривал газетные объявления и находил только бесконечные предложения труда. Но бывают же случаи, когда кинопредприятие приглашает желающих за приличное вознаграждение броситься в Ниагарский водопад или прыгнуть с поезда на ходу! Джон был готов и на это.
Однако кинотрюкачи, очевидно, находились и без объявлений. Джон уже терял надежду на счастливый случай, но продолжал читать газеты и однажды нашел несколько загадочное объявление:
ТРЕБУЕТСЯ ЗДОРОВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ НАУЧНОГО ОПЫТА.
Профессор Аббингтон. 2 авеню, 36/127. От 21 до 23 ч.
У Джона сразу пропала сонная одурь. Он посмотрел на часы и, наскоро одевшись, побежал к ближайшей станции подземки.
Профессор Аббингтон критически осмотрел Джона и кратко сообщил свои условия. В вознаграждение за риск обещал значительную сумму. Джон должен дать расписку о добровольном согласии подвергнуть себя опыту и о неимении никаких претензий в дальнейшем.
— Не можете ли вы мне сказать, как велик риск и в чем он состоит? — спросил Джон.
— Опыт для того и производится, чтобы ответить на этот вопрос, — возразил ученый. — Могу только сказать, что> эксперименты над животными прошли удачно. Кролики и морские свинки остались живы и здоровы. Но нельзя предусмотреть всех побочных явлений, которые может произвести опыт в человеческом организме.
— А в чем состоит опыт?
— Едва ли вы поймете мои объяснения.
— Но должен же я по крайней мере знать, будете ли вы меня жечь огнем, натирать мазями или пичкать порошками!
— Для поднятия производительности физического и умственного труда, для борьбы с болезнями, старостью, дегенерацией, для борьбы с вечным гнетом усталости, влекущей за собой потребность сна, а следовательно, и для уничтожения самой потребности сна, для расцвета всех жизненных функций я разрабатываю режимы и дозировки потенционирования — укрепления организма радиометаллами. Зарядка организма радиоэлементами превращает его как бы в мощный генератор лучистой энергии.
— И я смогу гораздо больше работать без утомления и сна? — с интересом спросил Джон.
— Надеюсь, что так. Но мне необходимо уточнить метод, установить дозировку, сделать потенционирование организма совершенно безопасной процедурой.
— Что же со мной может случиться в худшем случае?
— Жизни опыт не угрожает, остальное неизвестно мне самому.
Джон задумался. Рискнуть или не рискнуть?
Из передней послышался звонок. Джон вздрогнул и произнес:
— Согласен!
Аббингтон молча кивнул головой и провел Джона в кабинет. Весь опыт отнял всего несколько минут. Ученый осмотрел Джона и предложил ему взять в руки электроды, обвернутые мокрыми салфетками. Зажужжал аппарат, по телу Джона прошли мурашки легкого электрического тока.
— Вот и все, — сказал Аббингтон и выключил ток. — Приходите ко мне через три дня, я должен проверить результаты. Подпишитесь под договором и получите деньги.
Когда Джон уходил, в передней уже толпился народ.
«Опоздали!» — подумал Джон и выбежал на улицу.
Сиддонс чувствовал необычайную легкость во всем теле и ясность мыслей. От усталости не осталось и следа. Даже утром он никогда не приходил на работу таким свежим. И ни малейшей сонливости! Великолепно! Если так пойдет дальше, он сможет поступить на ночную работу. Днем — у Кина, ночью — в другом месте. Теперь Мери скоро будет его женой… Но только когда же наслаждаться семейным счастьем, если работать круглые сутки? Джон вздохнул. Ничего, останутся воскресенья. Тем с большим нетерпением он будет ждать их.
Вернувшись в свою комнату, Джон быстро разделся, погасил свет и лег в кровать. Но ему не спалось. В полной темноте он мечтал о том, как завтра вечером встретится с Мери и обрадует ее неожиданной удачей. Теперь они могут пожениться! В первый воскресный день они пойдут подыскивать квартиру и покупать мебель. Джон даже не пересчитал денег, полученных от Аббингтона. Профессор не обманет, а все-таки…
И ему захотелось еще раз убедиться в своем неожиданном обогащении, подержать в руках, пересчитать хрустящие новенькие банковые билеты.
Вскочил с кровати и впотьмах начал искать пиджак, в кармане которого лежали деньги.
Ему показалось, что слева от него мелькнул неясный свет, словно бледно-зеленое облачко.
Джон всмотрелся и вскрикнул от удивления. Перед ним на туалетном столике стояло овальное зеркала, а в нем слабо светящееся отражение его самого.
Не веря своим глазам, он протянул руку и увидел, что рука светится, как светлячок. Светились руки, голова, грудь — все тело. И этот свет усиливался по мере того, как глаза привыкали к темноте.
Джон снова посмотрел в зеркало, и от того, что он увидел, волосы зашевелились на голове. Сквозь ночную рубашку проникал фосфорический свет тела, которое стало как бы прозрачным. Отчетливо вырисовывались ребра, позвонки, было видно, как бьется сердце, сокращается желудок, расширяются и сжимаются легкие. Почки, селезенка, кровеносные сосуды просвечивали лучше, чем на экране рентгена. Он видел, как колотилось его взволнованное сердце.
— Что же это такое? — просипел перепуганный Джон. Зажег электрическую лампу. При ее свете фосфорическое мерцание тела исчезло и внутренние органы не просвечивали, но, всмотревшись попристальней, он заметил отчетливые контуры.
Трясущимися руками Джон надел пиджак, пальто, набросил на себя одеяло. Напрасно. Свет проникал через все преграды, вырисовывая скелет, сердце, легкие.
— Как же мне теперь жить?..
Джон опустился на стул возле зеркала. Ему хотелось плакать. Потом его охватила злоба на Аббингтона. Пойти сейчас же и избить его, вытряхнуть из него душу, если он не вернет телу прежнего вида! Но разве Джон не выдал расписку в том, что не будет предъявлять к Аббингтону никаких претензий? Не за риск ли платил ему деньги Аббингтон? И как пойти, да еще ночью, когда тело светится, словно фонарь?
— Несчастный я, несчастный! — бормотал Джон. — Лучше бы ногу сломать, прыгая с автомобиля!
Джон ходил по комнате, то гасил, то зажигал свет, смотрелся в зеркало. Пробовал подкладывать под рубашку газеты, клеенку со стола, закрывался, как щитом, тазом, подносом — светится! Проклятие! Что скажет Мери, когда увидит его? А он только хотел обрадовать ее! Ужасно, ужасно…
Занялась заря. Наступал день. Надо было собираться на работу. Джон умылся, причесал перед зеркалом волосы — брр! Приготовил завтрак. Доедая бутерброд, не мог удержаться, чтобы не заглянуть в зеркало. Он сам себе казался противным, как живой мертвец.
На работу, однако, идти надо. Надел теплое пальто, хотя было лето, надвинул шляпу на лоб и вышел.
Джон готов был ко всему, и все же не мог себе представить, что в своем новом виде вызовет такую сенсацию.
Уже в вестибюле дома его увидела жена портье, истерически взвизгнула и убежала в свою каморку под лестницей, с шумом захлопнув за собою дверь.
На улице вокруг Джона тотчас образовалась толпа.
— Привидение! Скелет в шубе! Живой труп! Стеклянный человек! — слышались голоса.
Мальчишки смеялись, свистели, более храбрые дергали за полы. Сбегались полисмены, привлеченные уличным беспорядком. И Джон сам бросился бежать, спеша скрыться в подземке.
Там было темнее, чем на улице, и он имел еще более эффектный вид. Кондукторша застучала зубами; публика взволновалась; с женщинами начались истерики; пассажиры кричали и требовали «высадить это безобразие». Джон чувствовал себя отверженным, прокаженным.
Истерзанный и совершенно упавший духом, кое-как добрался он до конторы, насмерть напугал старика швейцара, который, приняв пальто, так и сел на пол, и вошел в бухгалтерию.
Он пробирался к своему столу и словно гасил на пути все звуки. Умолкло стрекотание машинок, перестали скрежетать арифмометры. Наступила необычайная тишина. Только одна машинистка, сидевшая рядом со столом Джона, продолжала трещать клавишами, с головой уйдя в работу. Но необычайная тишина дошла и до ее сознания. Она подняла голову, взглянула на Джона, завизжала, как сирена хроматической гаммой в две октавы и упала в глубокий обморок.
В конторе вновь стало шумно, но это уже был шум бури, катастрофы, стихийного бедствия. Все служащие повскакали со своих мест, кричали, размахивали руками. Женщины убежали, мужчины несмело обступили Джона.
— Мистер Сиддонс! — послышался громовой голос бухгалтера.
Джон с таким чувством, будто он был раздет донага, прошел за стеклянную перегородку.
Бухгалтер долго и внимательно рассматривал легкие и сердце Джона, потом сказал:
— Извольте объяснить, что значит этот… этот… я не подберу слова… этот необычайный маскарад?
— Простите, мистер… это не маскарад, а скорее несчастный случай, — лепетал Джон. — Последствия одного неудачного опыта… лечения…
Роковое слово было произнесено.
— Лечился? — воскликнул бухгалтер. — Значит, вы больны? И притом такой… неприличной болезнью? Зачем же вы пришли? Здесь не клиника и не анатомический музей.
— Но, уверяю вас, я здоров… я совершенно здоров… Я хотел только сказать, что опыт производился для того, чтобы лечить больных…
— Разве здоровые люди просвечивают, как графин, и бесстыдно выставляют напоказ свои селезенки? Вы сами видите, что работать в вашем присутствии немыслимо. Извольте идти к кассиру и получить расчет. Вы больше не служите у нас, мистер Сиддонс.
— Но, может быть, за ширмой… — начал Джон и махнул безнадежно рукой. От этих проклятых лучей не защитит никакая ширма.
Опустив голову, поплелся он к кассиру, который завыл, увидев скелет в светящемся теле, долго не мог прийти в себя и, наконец, трясущимися руками отсчитал деньги.
С торговым домом было покончено. И со всем на свете покончено. Другой работы ему не найти, о Мери нечего и думать…
Джон собирался побить Аббингтона, но свалившееся несчастье так подавило его, что даже злость испарилась, осталось только чувство безнадежного уныния. И когда Сиддонс явился к ученому, то мог лишь с горестью воскликнуть:
— Что вы со мной сделали, мистер Аббингтон?
Профессор внимательно осмотрел Джона и пришел в восторг.
— Прекрасно! Великолепно! — восхищался он, поворачивая Джона. — Дышите. Не дышите. Изумительно! Этого я не ожидал.
— Если бы я этого ожидал, то отказался бы и от миллиона, — возразил Джон.
— Ваши легкие в совершенном порядке, — продолжал в восторге Аббингтон, не слушая Джона. — Ни малейших затемнений. И сердце не увеличено. Почки на месте. Вы совершенно здоровый человек, мистер…
— Здоровый! — вздохнул Сиддоне. — Что мне в этаком здоровье? Я предпочел бы полное затемнение, чем такое просвечивание. Я лишился работы и не могу показаться на улицу.
— Зато какое удобство для врачей и для вас самого! Если вы заболеете, то даже самый неопытный врач поставит безошибочный диагноз.
— Очень мне поможет ваш диагноз! — рассердился Джон. — Вместо того чтобы смотреть, на месте ли у меня печень, вы бы поглядели на желудок!
— Да? Посмотрим. Совершенно нормальный. Никаких намеков на язвы…
— И никаких намеков на пищу!
— Действительно. Желудок совершенно пустой. Ну, эта беда поправима. С голоду не умрете, не беспокойтесь. Вы представляете теперь для науки исключительный интерес. Я устрою вам место при медицинском институте. Вы будете показывать себя ученым и студентам. Только и вся работа. Плата небольшая, но, пожалуй, столько, сколько вы получали счетоводом, вы получите. Все в порядке? А как вы себя чувствуете?
— Отвратительно!
— Я говорю не о вашем настроении. Чувствуете ли вы усталость? Спите ли?
— Усталости не чувствую ни малейшей. Мог бы работать за троих, но кто возьмет меня?
— Я уже говорил, что у вас будет служба. А сон?
— Совершенно не сплю. Но, думаю, на моем месте и вы не спали бы.
— Отлично! Сон побежден! Это великолепное открытие! С вашим свечением вышел маленький недосмотр. Но ведь это только опыт. Вы видите, я забочусь о вас больше, чем обещал. К своему необычайному виду вы привыкнете, безработица вам не грозит. Чего же еще вам надо? Поверьте, многие и многие еще позавидовали бы вашему положению.
— Чего мне еще надо? Мистер Аббингтон! — воскликнул Джон. — Неужели вы не понимаете? Ведь я живой человек, молодой, здоровый. И… не одним хлебом жив человек…
— Кажется, я начинаю догадываться.
— Догадаться не трудно. Я люблю девушку. Она моя невеста.
— Это действительно некоторое осложнение, — улыбнулся Аббингтон. — Но если невеста вас любит, она не откажется от вас. Разве не у каждого из нас есть сердце, легкие, почки? Вы ей так и скажите. А привыкнуть можно ко всему.
— Привыкнуть! Я сам не могу к себе привыкнуть.
— Она видела вас? — спросил Аббингтон.
— Нет. Я не решился. Написал письмо, что уехал по делам. Мистер Аббингтон, верните мне прежний вид! Умоляю вас!
— Этого я сделать не могу. Вы останетесь прозрачным, пока радиоактивный элемент, введенный в ваше тело, не распадется.
— Сколько же мне ждать этого распада?
— Продолжительность жизни радия две тысячи двести восемьдесят лет…
У Джона подкосились колени.
— Тысячи! — воскликнул он.
— Да, но, к вашему утешению, могу сказать, что мною введены в ваш организм искусственные радиометаллы. А они живут от долей секунды до десяти лет. В частности, радиокобальт…
— Мистер Аббингтон! Но неужели же нет никакого средства скрыть от людей свечение моего тела?
— Только свинцовые экраны.
— Тогда, может быть, свинцовый плащ…
— Свинцовые штаны, свинцовый капюшон? Едва ли такой костюм был бы для вас удобен. Да и зачем? Не горюйте же, мистер Сиддонс. Я вас устрою в институте, это дело решенное. Мы оградим вас от праздного любопытства. Там вы будете и жить. Приходите ко мне завтра утром.
Вернувшись к себе, Джон застал возле двери толстенького коротенького человека, солидного и вместе с тем юркого.
— Мистер Сиддонс?
— К вашим услугам.
— Вы не знаете меня, я никогда не видел вас, но нельзя ошибиться в том, что вы мистер Сиддонс. Я к вам по делу, если позволите…
— Пожалуйста. — Джон открыл дверь комнаты и впустил посетителя.
— Моя фамилия Наайт. Джером Наайт. Разрешите с вами познакомиться поближе. — И Наайт начал бесцеремонно разглядывать Джона, обходя со всех сторон и приговаривая: — Эффектно! Сенсационно! Оригинальнее, чем я ожидал. Это, наверно, сердце? Ишь, как екает! Я не знал, что оно такое большое. И совсем не похоже на те сердца, которые изображают с пронзенной стрелой или на картах червонной масти. А это что? Печенка или селезенка? А где же почки? — Он так увлекся, что стал вертеть Джона. — Доктора говорят, что у меня почки не в порядке. Интересно посмотреть, как они выглядят. А почему у вас мозги такие сморщенные? У телячьих мозгов…
— Что вам угодно? — спросил Джон, теряя терпение.
Мистер Наайт предложил Джону сигару, закурил сам и объяснил цель своего визита.
О мистере Сиддонсе уже говорит весь город, пишут газеты. Тысячи людей жаждут видеть феноменального прозрачного человека. И мистер Наайт, по своей доброте, решил взять на себя труд удовлетворить это желание публики, если на то будет согласие мистера Сиддонса. Расходы по организации публичных сеансов велики, и поэтому Наайт не может предложить мистеру Сиддонсу крупную сумму за выступления, но надеется, что о размере вознаграждения они сговорятся.
Джон отказался наотрез. Этого еще не хватало! Его будут выставлять напоказ, как крокодила или сиамских близнецов!
Наайт полагал, что Сиддонс просто хочет набить цену, и стал быстро прибавлять. Джон не соглашался. Наайт все прибавлял, и Джон начал колебаться. Он вспомнил о Мери. Аббингтон подал надежду, что прозрачность тела может исчезнуть. Он перестанет быть живым анатомическим объектом и сможет жениться на Мери. Неплохо заработать на первое обзаведение. Днем — в институте, вечером — у Наайта. Спать ему не надо, усталости он никогда не чувствует. Почему бы и не согласиться?
Теперь уже Джон умышленно набивал цену и, когда убедился, что больше из Наайта не выжать, дал свое согласие.
Для Джона началась новая жизнь. Он был почти доволен ею. Хорошо зарабатывал без всякого труда, физически чувствовал себя отлично. Ему даже начала нравиться роль феномена, возбуждающего сенсацию. Одно беспокоило Джона — его отношения с Мери. Под всякими предлогами он откладывал свидание с нею, писал ей письма, говорил по телефону. Мери отвечала. В ее письмах звучали упреки и жалобы. Почему он избегает ее? Не разлюбил ли? Из газет она уже знает, что с ним произошло. Но ее любовь неизменна, и он напрасно скрывается, если дело только в этом. «Гора не идет к Магомету, а Магомет придет к горе», — закончила она свое последнее письмо.
Джон содрогался, представляя себе встречу с невестой. И эта роковая встреча произошла скорее, чем он ожидал.
Когда вечером «Стеклянный человек» — мировое чудо — мистер Сиддонс выступил перед публикой при погашенных огнях, испуская фосфорический свет и просвечивая все^ги внутренними органами, в зале послышался истерический женский крик. На сеансах это случалось нередко. Но Джон вздрогнул: голос показался ему знакомым.
— Женщина в обмороке! Зажгите свет! — прозвучал чей-то голос.
Вспыхнули лампы. Джон заглянул в зрительный зал и вскрикнул. Это была она, его Мери! Джон приказал перенести девушку в свою уборную и вместе с врачом начал приводить ее в чувство.
Мери открыла глаза, посмотрела с ужасом на Джона и закричала:
— Уйди! Уйди! Это ужасно! Я не могу тебя видеть!
— Мери, дорогая, успокойся! Неужели я так страшен? Ведь у каждого человека есть скелет, и сердце, и селезенка, — вспомнил он слова Аббингтона. — Только у других не видно, а у меня видно. Ты же сама писала, что твоя любовь так велика…
— Да, но я не ожидала… я не могла вообразить… Нет, нет! Не прикасайся ко мне! Я не могу, не хочу быть твоею женой. Оставь! Ай! — И она вдруг вырвалась из рук Джона и убежала. Сиддоне погнался за нею, но споткнулся. Мистер Наайт схватил его за руку и крикнул в ухо:
— Опомнитесь! Публика волнуется, требует деньги назад. Извольте продолжать сеанс!
И он вывел Джона на сцену. Свет был вновь погашен.
Тело Джона засветилось — и вдруг померкло.
Послышались негодующие крики публики. А Джон стоял растерянный среди темной сцены, еще не понимая, что с ним случилось. Недолговечный искусственный радиоэлемент распался. Джон вдруг почувствовал необычайную усталость и сонливость. Его пришлось отвести в уборную, где он повалился на кушетку и захрапел.
Проснулся он уже в своей комнате. Посмотрел на руки. Кости не просвечивали. Взглянул в зеркало. Ни ребер, ни сердца не было видно. Его тело имело обычный вид.
Побежал в коридор, где был телефон, вызвал Мери. Задыхаясь от волнения, сообщил ей о происшедшей перемене.
— Нет, нет и нет! — послышался в телефоне голос Мери. — Я не в силах забыть вида вашего сердца!
— Тогда поищите себе жениха совсем без сердца! — раздраженно крикнул Джон и повесил трубку.
Еще семь тысяч лет спустя (Пародия)
Рисунки Н. ГРИШИНА
Шел 99999-й год Сверхкосмической Эры. 99999 лет назад человеческая мысль вырвалась из тесных объятий времени. Теперь времени не существовало — не совсем не существовало, а как бы не существовало, хотя оно и было. Всего один год четыре месяца двенадцать дней двенадцать часов сорок семь минут тридцать одна секунда по Земному счету оставалось до наступления юбилейного 100-тысячного года, когда нажатием кнопки (традиция!) на Земле будут настроены в резонанс все метасоматические чувства всех мыслящих существ во всей вселенной.
Сергей, Маша и ИвПет неслись со сверхсветовой, приближающейся к бесконечности, скоростью по волнам заомега-пространства, лишь сверхкосмические скафандры слегка дымились. К тому времени уже все буквы греческого алфавита были использованы для обозначения всевозможных полей, и поэтому пришлось выдумать новую букву греческого алфавита — заомегу — для обозначения поля обратных временных взаимодействий. Троих друзей — ИвПета, Сергея и Машу — передавали с Альфы-Центавры на звезду 1-Щ 239-бис Галактики У-2Б сектора 313271/527 для выполнения особого задания.
ИвПет, начальник экспедиции, был крупным ученым, руководителем лаборатории Спиралевидных Галактик Института Психотелепатии, Сергей — молодым стосемидесятилетним ученым, подающим надежды и готовящимся защищать кандидатскую диссертацию, а юная Маша, которой лишь позавчера исполнилось 97 лет, была астроагрономом.
Конечно, Маша любила Сергея, Сергей любил Машу, и они все время ссорились.
Мимо них проносились пространства, антипространства, мнимые пространства, замкнутые сами на себя пространства, содержащие галактики, инфрагалактики и метагалактики. Но это нисколько не беспокоило путешественников — броня из волокнистого пространства надежно предохраняла их от метеоров, космических лучей и бактерий.
«Хорошо было бы узнать, что думает Маша про меня», — подумал Сергей.
Маша только этого, оказывается, и ждала. Ее биомыслительный центр давно уже был настроен на Сергея.
«Наконец-то ты вспомнил обо мне, — прочитал Сергей ее мысли. — Интересно, о ком ты думал? О красавице с фтороводородной планеты, с которой мы беседовали в клубе перед отлетом? Или о прекрасной Нальр с Оранжевой?»
«Как ты можешь так думать, — подумал ей Сергей, — ведь ты знаешь, что я и не смотрю ни на кого последние 80 лет, с тех пор кик встретился с тобой. Ты всегда рада подумать обо мне плохое. Ты даже думала, что меня напрасно взяли в экспедицию, хотя и проверяется моя теория!»
«Какой он смешной! — подумала, отключившись на минуту, Маша. — И так любит меня! Я не могу жить без него! Мы поженимся, когда вернемся. Я верю в него и в его идеи».
Но, включившись, она сказала:
«Не зазнавайся, пожалуйста. Может быть, твои идеи — послать антимысли в Белую Область — просто бред!»
Страшная Белая Область, начинавшаяся неподалеку от звезды, куда они направлялись, была населена странным народом, усиленно противодействующим объединению метасоматических чувств. Эти существа никого не пускали к себе, безжалостно расправлялись со всеми, кто предпринимал попытки к ним проникнуть, и поэтому все надежды человечества возлагались на смелую экспедицию. Пока не было средств сближения с населением Белой Области, но по косвенным признакам можно было заключить, что их представители время от времени вмешиваются в деятельность людей в космосе. Ничем другим нельзя было объяснить, например, катастрофу на фабрике консервирования пространства в районе Волос Вероники.
Идея о сообщении в Белую Область Универсальной Мысли Добра была высказана впервые около 200 лет назад Ив-Петом, а способ конверсии коллективной мысли Белой Области и направления ее обратно, но с противоположным знаком был разработан в диссертации Сергея.
«Нет! — возразил Сергей. — Это не бред, так будет!»
В этот момент справа от него начало что-то сгущаться и затем приняло форму Пети, младшего братишки Маши.
«А ты как сюда попал?» — грозно подумал ему Сергей, но Петя, конечно, был отключен — он вовсе не хотел знать, что думает о нем Сергей, он, как всегда, искал опасностей, этот смышленый мальчуган.
— Как ты сюда попал? — закричал Сергей в разговорный аппарат.
Тут уж Пете было не отвертеться.
— Я залез потихоньку в передаточную камеру, боялся показываться, а теперь мы уже скоро прибудем. Вы ведь меня не отправите обратно?
ИвПет, который раньше что-то обдумывал отключившись, тоже увидел Петю.
«Ишь ты, постреленок, — подумал он ему, — ты и сюда попал! А ну-ка, подумай сейчас же с мамой!»
«Мамочка! — жалобно подумал Петя, — Последний раз, больше не буду! Я так мечтал побывать на звезде 1-Щ 239-бис!»
Мама, штопавшая Петины носки на 207 этаже дома № 173215 по улице Набережная Китайского Моря (Земля), сразу сообразила, в чем дело, — это было с ним уже не первый раз. Да и как могла она не пожалеть своего единственного сына!
«А что скажет ИвПет?»
«Не беспокойтесь, Марья Ивановна, — долетели к ней его мысли. — Раз уж Петя с нами, мы за ним присмотрим».
— Ой, спасибо, ИвПет! — обрадованно воскликнул Петя и хотел было поцеловать его, но вспомнил про скафандр и остановился. — Честное-пречестное, вы не пожалеете!
Они продолжали лететь. По дороге ИвПет рассказывал Пете, как десятки тысяч лет назад были созданы биометасоматические центры, как был осуществлен замкнутый цикл питания человека, как работают аппараты сверхсветового взаимодействия. Незаметно пролетали секунды.
— Внимание, прибываем! — сообщил ИвПет, и путешественники очутились в металлической камере, совсем пустой, если не считать приборов. На стенках запрыгали стрелки манометров, пинкнометров и гальванометров, и стальная дверь медленно открылась.
Все вышли на зеленую поверхность звезды 1-Щ 239-бис.
— Ай-ай! Держите его! — раздался вдруг отчаянный крик.
Все обернулись и увидели Петю, преследующего катящееся колесо. Затем колесо превратилось в шар, затем в собаку, затем в лист, который с оглушительным треском лопнул и образовал столб пара неопределенных очертаний.
— Не дотрагивайтесь! — закричал Петя. — Я чуть не остался без пальца!
Но ИвПет уже подбежал к облаку. В облаке образовался просвет, и в него медленно начала втягиваться рука отважного исследователя. Он отчаянно сопротивлялся. Вдруг сзади раздался негромкий хлопок, и облако покрылось твердой прозрачной оболочкой. ИвПет упал. Маша быстро забинтовала ему руку, а заодно и палец Пети. Все это произошло в считанные мгновения. Сергей в это время заслонял Машу своей широкой спиной от опасности.
«Вот оно, это облако, — прошептал ИвПет, приходя в себя. — Наконец-то! Теперь мы сможем проникнуть в таинственную Белую Область. Кто не боится опасностей, шаг вперед, друзья!»
Все сделали шаг вперед.
Все, кроме Пети. Петя знал, что его все равно не возьмут.
Но он уже обдумывал, как ему туда пробраться одному, этот смышленый мальчуган.
И он проберется, я знаю, и я проберусь вместе с ним.
И почему-то мне кажется, что не только я. Надо только следить за литературой.
СНИМКИ РАССКАЗЫВАЮТ
ТЫСЯЧЕНОГИЙ ХИЩНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
Когда собираешь или фотографируешь под водой морских животных, то и дело встречаешь лиловых с желтым узором амурских звезд, ярко-синих с оранжевыми пятнами звезд патирий или темно-красных лизастрозом.
Кто поверит, глядя на амурскую звезду, что она прожорливый и активный хищник! Однако это так. По морскому дну звезда ползет медленно, со скоростью улитки. Только добыча морской звезды еще более неподвижна — это моллюски, из которых многие навсегда приросли к грунту.
Разноцветные морские звезды — обычные животные морей с океанической соленостью воды.
Странные существа морские звезды! Как и у других иглокожих животных: офиур, морских ежей, голотурий, морских лилий— у морских звезд лучистое строение. Головы, в обычном смысле этого слова, у звезды нет совсем. Передней, головной частью тела животного считается тот луч, которым звезда движется вперед в настоящий момент. Любой из ее лучей может оказаться «передним». На конце каждого луча — небольшое красное пятнышко с линзой. Это глаза, которые различают лишь свет от тьмы.
Снизу вдоль лучей идут бороздки. Все они сходятся в центре, у рта звезды. А в каждой бороздке шевелится множество нежных, прозрачных стебельков, или амбулякральных ножек. Ни у одного животного, кроме иглокожих, нет таких оригинальных органов. Это растягивающиеся трубочки с присосками на конце. Вода, нагнетаясь в амбулякральные ножки, заставляет их вытягиваться и присасываться к какому-нибудь предмету. Тысячью своих ножек звезда в состоянии сделать то, что бывает трудно даже руке человека: например, открыть плотно закрытую раковину большого моллюска.
Иногда среди нормальных пятилучевых патирий или амурских звезд встречаются уродцы. Это животные с тремя или четырьмя лучами, а бывают звезды, у которых шесть, семь и даже восемь лучей. Еще чаще находишь звезд, у которых один или два луча короче других.
Я сфотографировала амурскую звезду, у которой на месте отломанного луча отрастает новый, он пока еще совсем маленький. Пройдет немного времени, и он сравняется по величине с остальными. Вообще явление регенерации (то есть восстановления) свойственно многим морским животным. Вновь отрастают оторванные ноги у осьминогов. У крабов и других ракообразных легко отламываются конечности. Это часто помогает животному спастись от врага. А через небольшой промежуток времени потерянные конечности восстанавливаются. У некоторых червей может отрасти даже голова, а если раздробить губку на мелкие кусочки, то из отдельных частиц образуются новые животные. Есть морские звезды, у которых даже на одном отдельном луче может отрасти центральный диск и остальные лучи. Вначале такая звезда выглядит довольно странно — большой луч и на нем маленькая звездочка. Похоже на комету с хвостом. Кстати, этот период жизни звезды и называется — кометная стадия регенерации.
Чтобы были видны амбулякральные ножки, звезду, которую вы видите на фотографии, пришлось перевернуть на спину. Как только я отняла руку, она тотчас выпустила из одного луча пучки ножек и присосалась ими к камню. Непрерывно в действие вступали все новые ножки, и прошло едва ли тридцать секунд, как звезда, изогнувшись плавным и гибким движением акробата, вернулась в обычное положение — спиною вверх. Ее известковый скелет состоит из множества отдельных пластинок и нисколько не мешает звезде изгибаться самым причудливым образом.
Морских звезд особенно много на устричных и мидиевых полях. Присасываясь амбулякральными ножками к створкам раковин, звезда постепенно раздвигает их; как только между створок появится щелка, звезда погружает туда свой вывернутый через рот желудок. Мягкие части тела добычи растворяются желудочным соком и всасываются.
На устричных заводах, где устриц разводят в громадном количестве, морские звезды являются серьезным врагом. В те годы, когда морские животные были еще мало изучены, владельцы устричников своеобразно боролись со звездами. Звезд вылавливали, разрубали на части и… кидали обратно в море. Нет ничего удивительного в том, что количество звезд на устричниках не уменьшалось, а увеличивалось. Только чаще стали встречаться звезды с лучами неравной величины.
О. ХЛУДОВАИ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ
НАШЕЛСЯ!
На премьере одной плохой пьесы Александр Дюма заметил автору, что пьеса его слишком скучна и что он видел, как некий господин преспокойно заснул с первого акта. На другой день шла пьеса самого Дюма, и обиженный им автор сказал писателю: «Я тоже заметил господина, спавшего на Вашей пьесе». — «Да это тот же самый, который уснул в Вашей пьесе. Он еще до сих пор не проснулся», — ответил Дюма.
ПРОСЬБА ВОЛЬТЕРА
В молодости Вольтер был посажен в Бастилию за то, что сочинил злую эпиграмму на герцога Орлеанского. Когда по освобождении из тюрьмы Вольтера представили герцогу, тот милостиво обещал ему свое покровительство, на что философ ответил: «Я прошу ваше высочество только об одном: не заботьтесь больше никогда о моей квартире».
ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА
Прошли столетия. Человек стал всемогущим. Он отдаляет смерть, покоряет планеты, искусственным путем создает живое вещество. Изменились и сами люди. Они мыслят и чувствуют иначе, чем мы. Они разговаривают на других языках, по-другому одеваются и даже иначе ссорятся и спорят…
Да, нам интересно заглянуть в далекое завтра, но не менее интересно им, людям будущего, встретиться с нами. Вот почему с таким упорством и настойчивостью проводят они сложнейший опыт — пытаются оживить человека, который жил в середине XX века. Удастся ли этот опыт? Встретятся ли представители разных эпох? Найдут ли они общий язык? Об этом вы узнаете из нового романа Г. Мартынова, который будет печататься в № 2 «Искателя».
Примечания
1
Бомбардировщики «боинг» — «летающая крепость» — совершали так называемые «челночные» полеты. Самолеты вылетали со своих баз (на Западе), бомбили гитлеровские объекты, потом садились на советских аэродромах, заправлялись и затем летели в обратном направлении.
(обратно)2
Фашисты, члены партии гитлеровского ставленника в Голландии Муссерта.
(обратно)
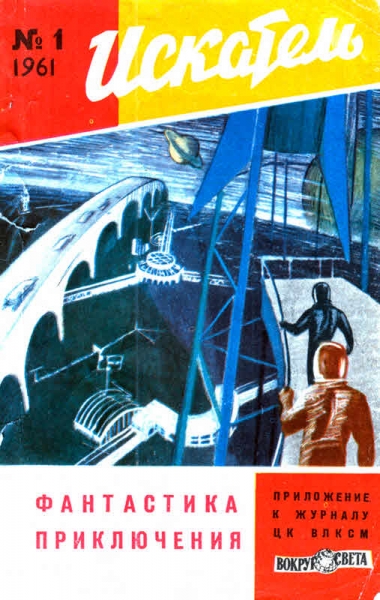

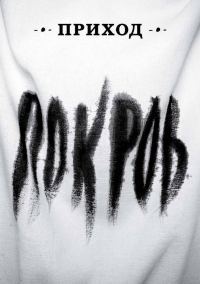






Комментарии к книге «Искатель, 1961 №1», Журнал «Искатель»
Всего 0 комментариев