№ 01 2005
Память
Василий Белов Невозвратные годы
Несмотря на войну, мы, ребятня, все же торопились расти. Многие из моих сверстников хлебным (вернее, бесхлебным) ножом делали зарубки на дверных косяках. Потом то и дело бегали глядеть-проверять, на сколько миллиметров подросли за неделю, за месяц, за лето или зиму. У меня прибывало до слёз медленно, однако прибавлялось…
Игры у нас были традиционны и многообразны. Главные развлечения тоже. Пример: с Мишкой да Лаврушкой (говорилось — Мышка да Ловушка), смеялись мы над тем же, над чем смеялись наши матери и бабушки. Иногда хохотали над физическими недостатками: то над хромыми, то над заиками, даже над недостатками лошадей, овец и коров. Хохот стоял по любому поводу. К примеру, искусали голодную девку тараканы, голодные бабы смеются и над голодной девкой, и над голодными тараканами. Особенно смешно, когда эти быстрые тараканы разных сортов бегут через улицу по снегу, спасаясь от мороза и птичек. Чего только не выдумывают по этому поводу!
Или взять топку печей. Дрова сырые горят, делая остановку, дыму много, жару и тепла мало. Умудрялись старики и бабы и тут посмеяться. А сколько хохоту в деле с пословицами. Не счесть пословиц, и смешных случаев с пословицами не счесть! Некоторые только сейчас, в старости, и понимать начал…
Перепутает кто-нибудь одно слово — бабы и девки в хохот, и мы, ребятишки, в хохот. Не хочется от баб отставать… А уж рёв с причитаниями — тоже в первую голову наш. Ревут матери, бабушки, тётки, родные и двоюродные сёстры, причитают на разные голоса. Некоторых приходилось откачивать. Медицины никакой нет и до сегодняшних пор. Да, женских рыданий мы наслушались. А вот стариковского рёву я не слыхивал.
Женщины никак не обходятся без рассказов о чудесах с нечистой силой. Две старухи, две бабы вместе, и дело пошло. Разговоры, где кому что померещилось, где поблазнило, где что показалось, вплоть до чертей и леших. А ребятня тут как тут.
Впервые я испытал ужас, когда у продавца Калабашкина отвалились… что бы вы думали? Не рука, не нога, не голова, а… зубы! Мне было лет шесть-семь. Я купил у него какую-то игрушечку и — бежать чуть не без памяти, а он повторил свой фокус и молчит. Это было ещё до войны, году в 37-м примерно. Я использовал этот случай в сценарии для кино, которое называется «Целуются зори».
Чудеса в детстве бывали и напрямую, реальные чудеса. Вот одно из них. Дело было на рыбалке. Одна глупая щука выпрыгнула из воды — и прямо к нам в лодку. Мы ехали с Юрием, братом, по речке, по болоту как раз в щучий нерест. Совсем сказочный сюжет! Не зря Емеля (или Иван-дурак) плавал в корыте по избе. Он разговаривал с живой щукой. А другую щуку во время голодной весны я загнал к себе в вёршу. Да, видно, так этому обрадовался, что даже ушёл без нее домой. Правда, та щука не разговаривала человечьим языком.
Почему я эту щуку не вытащил из вёрши сразу? Да лень было вёршу расшнуровывать и посмотреть. Побулькал в воде палкой — и домой. Я даже не знал, что она в вёрше, и утром ничего про неё не знал. Пришёл смотреть, вытащил вёршу, а ловушка тяжёлая, не от воды, а от рыбины. Можно представить мою радость! Голодные сестры и братья, а тут живая щука весом не менее десяти фунтов. Я начал вытряхивать щуку из вёрши. Скорей, скорей ставить вёршу обратно в речку. А она, эта щука, живая, скользкая — плюх, плюх и доплюхалась до воды. Ушла в речку. Только её и видели! И заревел от обиды. Дожил до 72 лет, а мне ее и до сегодняшнего дня жаль едва не до слёз.
Летом мы с приятелями ходили удить на молей. Но дело в том, что этих молей тоже надо поймать. Опытный удильщик Ленёха Громов (он и до сих пор живой) ходил со специальным ведром с водой. Моли в ведре, а он сидит или стоит около ведра, глядит на уду, вернее, на пробку.
Итак, прежде чем удить, необходимо изловить хотя бы одного моля. Моли же водились только у дружининской водяной двухпоставной мельницы.
А что значит водяная дружининская, да ещё двухпоставная, то бишь двухколёсная мельница? О, это чудо. К тому времени я уж был знаком с нашей тимонинской ветряной. С ног до головы облазил её всю, на всех лесенках сидел, и мы даже катались на её крыльях. Правда, никто не осмеливался сделать на крыле полный круг: прицепишься, подведешь, пока крыло не начнёт подниматься. Поднимет оно тебя метра на два вверх, и надо срочно отцепляться, а то поднимет ещё выше…
А чем выше, тем страшней и опасней. Полетишь если с такой высоты — или убьёшься, или руки-ноги сломаешь. Нас Господь спасал от полного круга на крыле и от слишком высоких прыжков, хотя так хотелось проехать полный круг!
Водяная дружининская — тут тоже сплошь романтика. Во-первых, плотина с плёсом. Сколько раз каждый из нас ездил туда со своими бабушками. Узелки фунта на два и то надо обязательно молоть, иначе без муки, без сочней насидишься. А без сочней тебе не едать ни картофельных рогулек, ни более вкусных творожных.
Как хороши были вечера на водяной мельнице! Как тихо, как отрадно дышится, как умиротворённо ровно шумят жернова! Как редко плеснёт в плёсе крупная рыбина, как вкусно пахнет дымок от костра!
Мне до сих пор снится плотина со скользким настилом. Широкий настил пройти можно лишь босым, и то очень осторожно. Доски от «сороковки» выгнуты от водяной тяжести, и кажется, вот лопнет одна или две, водой сметёт с настила всех смельчаков. В дырки меж этими досками упруго бьют холодные острые струйки. Где вылетел сучок, в тех местах струю не сдержать ладонью, отбросит водой. Подальше от плотины, и так уже мокрый! Скинешь рубаху, штаны, выжмешь с помощью напарника до влажного состояния и давай сушить на полдневном солнышке. После всего этого надо обнаружить стайку рыбёшек-молей. Найти между камнями струю, раздвинуть штаны или рубашку и — одному держать этот куль, другому загонять в него вёртких молей. Хотелось поймать хотя бы пять-шесть молей. Но иногда получалось до десятка. Мы их сунем в водичку и ждём, когда можно будет начать удить. Но так жалко времени. Оно после обеда стремительно убывает…
Ура! Мы, все трое, у большого омута под Алфёровской. Я насаживаю моля на маленький острый крючочек. Закидываю. Раз — и моля как не бывало. Насаживаю и второго. Пробка удочки чуть шевельнулась. Я тащу, но, увы, и второго моля кто-то слопал! Насаживаю третьего… Нет, надо беречь моликов-то, а то их совсем немного. Есть у меня и коробка с червями, но, во-первых, я их не люблю насаживать на крючок. Они крутятся, как змеи. Во-вторых, червей тоже не так много. В-третьих, время идёт да идёт, уже и солнышко печёт сбоку. Вдруг поплавок чуть-чуть шевельнулся. Успокаиваю его таким же незаметным движением удилища… Может, вообще поднять на поверхность крючок с молем? Я приподнял — наживки на крючке не было! Съели, гады! Кто? Я взглянул на поллитровую банку с водой. Молей, добытых с таким трудом, в банке не числилось. Ни одного… Волей-неволей пришлось открыть спичечный коробок с противными дождевыми червями. Я чувствовал, что клёв начался. Лихорадочно начал насаживать на крючок червя. Он крутился, как бес, но всё же пришлось ему уступить. Всё, червяк на крючке! Я тороплюсь закинуть удочку. Пробка установилась и не движется — шабаш. Никакого толку, никакого движения. Стоит пробочка в прогалине между двух широких кувшиночных листов. Они зелёного цвета, по очертаниям похожи на палитру художника. Я перевёл снасть в другое местечко, свободное от кувшинок. Комары начали садиться на щёку и кусать. Придётся уходить. А на другой стороне, на озёрной лыве, сидит Лёнька Громов на своём ведре с молями. Сидит как истукан. Я вижу его. Нет, пора сматывать удочку и убираться с омута. Может, и червяк обглодан, как мы обгладываем сладкие места пирога.
Начинаю сматывать уду с тоненького конца удилища. Вдруг поплавок дрогнул. Тащу, а удилище в дугу. Лёска напряглась, как струна. Я не тащу, а волоку. Дальше всё смешалось. Громадная сильная щука оказалась на берегу. Выволок! Рыбина скользкая, могучая, я навалился на неё всем телом, всей грудью и брюхом. Нет, эта уже не убежит от меня. Поспешно достаю из кармана личное своё оружие. Ножик сделан из обломка пилы, один конец в ружейном патроне, залит расплавленным свинцом. Тяжёлый патрон, зато надёжный. Острый конец длиной с вершок. Я всадил его прямо в упругую щучью шею, чтоб не убежала к воде. Щука ещё долго пыталась сворачиваться в кольцо, но и я не зевал, раза три всадил свой ножичонко в непробиваемую её шею.
Восторженный победный крик полетел через озеро и был услышан Лёнькой Громовым. Он крикнул что-то — по воде вечером слышно лучше. Наверное, считал пойманную мной щуку снятой с крючка крёстного Коклюшкина Ивана Михайловича. Этого я не мог допустить и, собрав все силы, поднял щуку на руках как можно выше, чтобы все видели. Васька Агафонов, мой приятель, орал что есть мочи и приплясывал на верхнем месте у омута. Ура! И мы потащили домой тяжёлую, уже не подающую признаков жизни рыбину.
В деревне я во всех подробностях докладывал крёстному, как выудил щуку, как её успокоил своим крохотным ножичком, как Лёнька Громов и Санко Курица обвинили нас в воровстве. Мол, щука снята с крюка крёстного.
Крёстный слушал меня и тоже вроде бы не верил моим рассказам. Хорошо, что в деревне был свидетель — мой тёзка Агафонов Васька. Он и подтвердил, что мои слова были правдивы.
Так завершился счастливый день с ловлей крохотных молей и громадной щуки. Тот день и сейчас, через шестьдесят пять лет, стоит в моих глазах в полных подробностях.
Никто не знает, за что Сашку Корзинкина прозвали Курицей. Он был младшим братом Витахи, которого мы дразнили профессором Мамлоком за то, что он всё время придумывал всякие хитрые механизмы. То мудрил с гирями и старыми часами-ходиками, то делал карету на колесах, в которой можно ехать за счёт педалей. Впрочем, о Витахе-Мамлоке я уже писал что-то, а вот о его родном брате Сашке вроде бы ещё ничего не говорил.
Санко Корзинкин (Курица), бывало, выйдет из дому, встанет посреди деревни и глядит то вправо, то влево. Он стоит на одной ноге. Может, потому и прозвали его Курой? Не знаю и врать не хочу. Но с Санком бывали всякие интересные случаи.
Однажды парни (без девок) пошли «гулять» на Крутец. А Крутец далеко, аж в другом, Вожегодском районе. Не шутка. Пришлось им ночевать у одного знакомца. Их поместили то ли на повети, то ли в коридоре. Нагулялись крепко, а уснули ещё крепче. И что? Да ничего, привычное дело. Привычное-то привычное, но… Санко Корзинкин тоже спал крепко. На рассвете спится особенно крепко. Не забудем, что у него прозвище Курица (Кура). Так мы, ребята, все его звали. А все парни ходили с ножиками: у одного нож большой, в карман не влезал, у другого поменьше, в карман помещается. У Санка был ножик карманный. Утром на заре первыми просыпаются куры и петухи следовательно. И вот надо ж: один петух прямиком с насеста спикировал на Санка Курицу. Дома в Тимонихе Санко с гордостью взахлёб рассказывал: «Хотел я его ножиком в жопу, да убежал, гад!».
Улетел или убежал петух с Куры, уже не имело для нас значения… Мы добавляли детали с намёками птичьего свойства. Санко и сам над собой смеялся. Не помню, в ту или не в ту весну его уговорил председатель пахать вешнее. Я помню, как его уламывали все мужики во главе с уполномоченным и все бабы: «Уж попаши, Саша, сколько Бог даст, попаши!» Санко Курица в рёв: «Не буду пахать на Астре, у неё всё плечо стёрто… Другую лошадь давайте, тогда буду».
Уполномоченный из деревни Семёновской Иван Иванович Варюшонков (отец моей будущей пассии) объяснял, что все живые лошади висят на вожжах (их действительно подвешивали в конюшне на вожжи, чтоб не упали. Упадёт — уже и не встанет кобылёнка! Висит с неделю, пока не доживёт до свежей травы. Об овсе или сене даже и речи не было. Солома — другое дело, но соломенные крыши уже были раскрыты — для коров, а не для коней).
Санко поревел-поревел да и побежал заправлять Астру. Подвязали какие-то подушки на войлок хомута, чтобы хомут не тёр больное место лошади и… Шутки насчёт ворошиловых и будённых облегчали нашу сиротскую судьбу (моего отца в ту весну уже не было в живых). Пашня на Астре-кобыле хоть и небольшая, но всё-таки состоялась, а мой роман с дочерью Ивана Ивановича тоже состоялся. И я не теряю надежды написать об этом хотя бы рассказ в стиле Бунина. Надеюсь, моя жена Ольга Сергеевна не обидится.
Первое знакомство с Богом состоялось для меня благодаря Раисе Капитоновне Пудовой из деревни Вахрунихи, а первая загадка русского языка была задана братом Никанора Ермолаевича Шабурина Никандром Ермолаевичем, который, подвыпивши, и спел в Тимонихе такую песенку:
Все милашки как милашки, А моя как узолок!Мы с моим сверстником долго пели, передразнивая Никандра, две эти строчки, не понимая смысла. И до сих пор неясно, что имел в голове мой родственник Никандр, когда сравнивал свою милашку с узелком. Всего скорее, он жаловался на судьбу, мол, слишком тонка милашка-то, не худо бы, чтобы была и потолще (вспомним про чеховских или про лесковских купцов, что отправляли кого-то за девками и требовали: «вези попухлявее»). Мы хохотали с дружками над Никандром, а зря, в народе действительно предпочитали пухлявых, чтоб и детей рожали ядрёных, и работать могли как подобает. А «узолок» есть «узолок», чего от него ждать? Но приставьте к этому узолку любое междометие, и поглядим, что с узолком получится, может, узолок обернётся лошадью, а то и целым жеребцом.
Первые лекции Раисы Капитоновны Пудовой были насчёт Бога и Предтечи, это уже посерьёзнее «узолка». Раисья так горячо, так убеждённо говорила о Христе и Предтече, что и не веришь, да поверишь. Таковы мои университеты. Верьте-не верьте.
Как меня крестили и где? Мне думается, что это я в самом деле помню. Или я просто спутал то, что писал, с тем, что должно было быть? Господь ведает! О судьбе нашей безбожной и судьбе наших давно умерших, нас крестивших священников уже написано много романов. А сколько ещё будет написано!
…О гармони люди мечтали в каждой избе. Гармонь была как корова. Она необходима каждому дому. Иногда корову подменяли козой, но это совсем не корова. С козьим племенем я, как, впрочем, и старший брат Юрко (Георгий), был не в ладах. Беда была в том, что помимо упомянутых игр (зимних и летних) каждый из сверстников и родных братьев влюблён был в оружие, стреляющее и колющее. О, сколько у меня было дел с ружьями и наганами! Перед войной отец имел охотничье ружьё 16-го калибра да ещё одно, 24-го. С этим последним я, дурак, повозился и настрадался. По-моему, отец выменял это ружьё у Рогова из Большой деревни. Отец уехал на войну, и хозяином ружья в основном стал я. Не будут же возиться сестры и младший, совсем маленький брат с патронами, дробью и пулями! Я стрелял из ружья всего раза два. И стрелял или в воздух, или в круг, нарисованный углём или мелом. Но ружьё было с затвором — партизанское, как говорил Рогов, когда они с отцом, подвыпившие, ехали в одной телеге из нашего «центра», то есть с Азлы. Я тоже впервые ехал в той одноколой телеге и слышал, как Рогов хвастал ружьём. Но у затвора не оказалось выбрасывателя, и однажды я не смог удалить из ствола гильзу. Вздумал выбивать её ивовым прутом. В стволе застрял и прут. Я начал его выбивать другим, более коротким. И до того добил, что маленький прутик тоже остался в стволе… Пробовал я высверлить прутья, но тонкой напарьи в доме отцовском не оказалось. В доме у крёстного Ивана Михайловича такого тонкого сверла тоже не было. Я так колотил, что даже разбил деревянную ложу! Всё! Крышка! Испортил партизанское ружье вконец! Аж разревелся (тогда я учился, кажется, в четвёртом классе). Ружье было матерью продано охотнику Парфению Лукичёву вместе с прутом в стволе. Как он освободился от прута, не знаю. Я уехал в школу ФЗО… Может, ружьё и до сего дня висит где-то с забитым стволом. Парфений Степанович сам был хромой. Полез однажды за белкой, упал с дерева. Вскоре он умер. А сына его я не стал спрашивать, как они освобождали забитый ствол. Может, выжигали калёной проволокой, может, от «партизанского» и вообще отступились. Патронов-то к нему не было ни у меня, ни у Парфения.
Из ребячьих игр вспоминаю хождение в крапиве и «гигантские шаги». Только эти «шаги» скоро отказали. Перестало крутиться колесо на вершине столба, и верёвка начала наматываться на столб. Как верёвка укоротится, мы стукаемся о столб головами. Шагов, да ещё гигантских, не получилось. Столб был спилен, верёвку бабы использовали по хозяйству.
Вообще, кроме гармони да игры в рюхи (в городки) мало что запомнилось. Лишь игра «в имальцы», то есть с завязанными глазами: нужно было кого-то искать. И очень забавно было чувствовать, когда кричали «Огонь!», чтобы ты не расшиб нос.
Но прыганье на гибкой доске было самой распространённой игрой. Некоторые девчонки скакали уже и взрослыми, ломали ноги или руки. Любили мы играть «в муху», «гонять попа», играли в чалу, в «цыпки» и т. д. Много было игр, летом особенно. Почему нынешние детки ни во что, кроме как в прятки, не играют?
Мы закалялись, падая с печки и с лошадей. Работа на конях давала подспорье нашим матерям. Хоть и жалкое, колхозное, но подспорье.
Помню, я погонял Свербёху на конной молотилке. Пошёл на конюшню обратывать (Свербёху иногда ловили граблями за гриву, так обратывали и надевали хомут. Дальше она не сопротивлялась). Гоняли лошадей по кругу — обычно четверо мальчишек и четыре лошади. От привода к молотилке шла крутящаяся передача. Однажды Свербёха упала на эту передачу, и у неё намотало хвост. Пока останавливали молотилку, у лошади по самую репицу хвост оборвало. Так она осталась куцей, словно заяц.
В тот раз она, видимо, вспомнила что-то и не захотела «обратываться». А мне надо было во что бы то ни стало её обратать. Я хотел схватить кобылу за холку, но она подняла морду, и я не смог ухватиться. И сейчас не очень-то я высок, a тогда был совсем низенький. Кобыла окрысилась и повернулась ко мне широким задом. Она не лягнула, нет, она просто сильно прижала меня задом к кормушке. Так прижала, что я упал под кормушку без сознания. Каким-то способом я выкатился в конюшенный коридор…
Собрал все силы и добрёл до дому.
С той поры и живу с выставленной ключицей.
Юные косточки срастаются быстро. Недели две я лежал дома, за шкапом, а тут и Свербёху на балки подвесили. Подвесили от бескормицы да, вероятно, ещё от какой-то болезни. Она повисела дня два и сдохла. Так завершились мои отношения с этой кобылой.
Правда, пришлось вспомнить Свербёх еще раз. Как пришла зима и мороз, Антоха Рябков рубил топором тушу Свербёхи и кричал, спрашивая: «Бабы, этот кусок кому? Не гляди, мать-перемать! Говорят, не смотреть!»
Кто-нибудь из бабёнок, зажмурясь, называл наугад, говорил чью-либо фамилию. «Дворцовым!» И Павла Дворцова волокла домой тяжёлый кусок от дохлой Свербёхи.
— А этот кусок кому?
…Была зима 1945 года. Последняя военная зима. Предыдущей весной из Ярославля приехала сестра Ивана Михайловича Коклюшкина Парасковья Михайловна Сухова. (Та самая Паранька, за которой бегал её отец по деревне Алфёровской и кричал сквозь слезы, звал её домой в Тимониху.) Я помню, как Паранька, хлопая резиновыми голенищами сапог, шла с Азлы в Тимониху. Первые недели она жила у нас в зимовке, пока не перебралась в Алфёровскую. Она и участвовала тоже в антохиной делёжке моей Свербёхи. Парасковья Михайловна два больших куска дохлой конины сварила в чугунке и нас попотчевала. Я попробовал, однако жевать и глотать не стал, мясо было скользкое, как мыло, и «духовито» к тому же.
Война заканчивалась.
Дочь Автонома Анна Рябкова вышла замуж за внука Раисы Пудовой Стасика, которой был намного её моложе. И невест не было в колхозе, не только женихов. Молодые женихи прибирали к рукам всех старых девиц.
Сам Антоха ушёл однажды в лес и умер. Там его и нашли, лежащего на сухой болотной кочке.
Мой друг Анатолий Заболоцкий увёз из сломавшегося дома Стасика икону и расписанную кухонную дверцу. Икону я забрал себе. Она и сейчас висит в углу в Тимонихе. А дверца у Толи Заболоцкого в Москве. На дверце нарисован зубастый лев с хвостом.
Не зря мужиков из деревни Помазихи брат моей родни Никандр Ермолаевич ругал «совошниками» (от слова «совок», «совочек»). На нашей речке Сохте стояло в разные годы до 12 мельниц. Три из них я хорошо запомнил, сам ездил молоть крохотный узелок с колхозным зерном. Немудрено, что мужик Денис построил тринадцатую мельницу прямо дома, на повети. Эта была мельница не водяная, а песчаная, насыпная, и выглядела так: большое колесо было оборудовано Денисом карманами по своим бокам. Эти карманы (деревянные ящички), по идее мужика, должны были черпать песок снизу и поднимать его наверх, высыпая в большой ящик. Из ящика песок по жёлобу вытекал в другой жёлоб и далее сыпался на сухие плицы колеса. Своей тяжестью песок должен был двигать, вращать колесо. По замыслу Дениса, колесо на смазанных дёгтем или колёсной мазью подшипниках обязано было делать вращательное движение, то бишь крутиться. И оно действительно сдвинулось, когда Денис вёдрами натаскал песок по лесенке вверх и ссыпал его в большой ящик.
В седьмом классе мне стало известно, что значит перпетуум мобиле, то есть вечный двигатель. Денисова мельница и впрямь крутилась, но крутилась, пока в ящике был сухой речной песок. Не вода, а песок. Но когда песок весь высыпался, Денису надо было снова таскать его по лесенке наверх. Денису вскоре надоело таскать, его мельница, увы, больше не крутилась. Вечный двигатель, как и все вечные двигатели, почему-то не действовал…
Об этом я и думал, когда рубашкой ловил в воде маленьких рыбок — молей. Нет, не напрасно Никандр Ермолаевич всех помазовлян ругал совошниками! Совошники и есть. Лишь через два столетия явился в колхозе бензиновый двигатель и начал крутить машину, которая дала ток. Лёнька Головешка и зарабатывал себе на хлеб, дежуря около этой машины. Леонид Громов и сейчас жив. Можете и сейчас спросить, как он давал свет и как мы ловили на молей щук.
Мир Свиридова «Врагом интеллигенции был Пушкин…» (1915–1998 гг.)
В нынешнюю публикацию входят размышления Г. В. Свиридова, записанные на магнитофон на рубеже 80–90-х годов ХХ века, о творчестве Булгакова и Шолохова, Твардовского и Ахматовой, а также о русской поэзии 60–80-х годов и о европейских писателях ХХ века.
Со своими воспоминаниями о Г. В. Свиридове выступают композитор Антон Висков, литературоведы Сергей Субботин и Валентин Непомнящий.
I Георгий Свиридов
М. А. Булгаков «Собачье сердце»
…В своей повести «Собачье сердце» Булгаков изумительно изобразил схему советской власти. Власть осуществляет один человек — Швондер, это олицетворение власти, и при нём несколько ассистентов, в том числе и одна русская барышня с аристократической фамилией Вяземская, что тоже очень характерно: были такие иуды из дворянского сословья. Швондеру противостоит русский интеллигент, не просто интеллигент, а частый для Булгакова образ русского гения, это именно русский гениальный человек — русское творческое начало, русская творческая мысль, русская гениальность. Также у него имеется психиатр, неслучайно носящий фамилию Стравинский — фамилию русского музыкального гения, а также профессор Персиков, который делает гениальное изобретение. И этот Преображенский. Обратите внимание на имена: Стравинский, Преображенский — это люди явно из духовного звания, как и сам Булгаков; Персиков — имеется в виду Северцев, замечательный учёный, портрет которого написан Михаилом Васильевичем Нестеровым и хранится в Третьяковской галерее. В общем, это — символ России, её творческая мысль, её гениальность и борьба её и Швондера.
И вот что профессор делает. Он берёт русского же человека Шарикова — это человекоподобное создание, люмпен-пролетарий, неважно то, что это искусственный человек. Был бы человек из пивной — это было бы бытовое дело, бытовая повесть. Здесь же — фантасмагория, здесь интеллектуальные глубины человеческого духа, который вторгается в божественную природу созидания, в царство Бога, и в конце концов терпит поражение; и сам человек понимает, что в это лучше не вмешиваться, что всё идёт путём эволюции, всё идёт по воле Божьей со всеми потрясениями, нормальная жизнь эволюционирует постепенно, через драмы, через сложности, через высокую творческую мысль. Он берёт именно русского человека, но не человека — полусобаку-получеловека, Шарикова, Булгаков не даёт ему человеческого имени, а называет его «Полиграф Полиграфович», понимая, что было бы ужасно собаку называть человеческим именем, как теперь евреи называют своих собак русскими именами, унижая русских. Вот он берёт этого человека, в жилах которого течёт собачья кровь, но какие-то рудименты человеческого мозга присутствуют. И этот люмпен-пролетарий в сущности был человек, у которого взяли этот мозг, обитатель пивной, люмпен-пролетарий Клим Чугункин или Чугунков, музыкант, играющий в пивной на балалайке. Мир его интеллектуальный ясен, и чувственный мир совершенно ясен. Это — полуживотное, которое хочет немедленно исполнять любую свою потребность; где бы ни было, он должен её исполнить. Если ему захочется нагадить — он нагадит, если ему хочется половой акт совершить, то совершит.
Швондер действует как бы таким способом расслоения русского общества, он же не думает, что это собака. Нет, он думает, что это человек, он его воспитывает на марксистский лад, как воспитывали тогда всех русских людей, особенно тех, кого еврейство взяло к себе в союзники. Вот этого люмпен-пролетария он обучает, знакомит с перепиской Карла Маркса, не помню, с Бебелем или там с Каутским. Он его заставляет доносить, выспрашивать, он его делает соглядатаем, доносчиком. Первое дело — он устраивает его в отдел очистки, это же символическое название, ясно, что это такое — отдел очистки, и, наконец, он в решительную минуту даёт ему револьвер для убийства. Главное противостояние не между Швондером и Шариковым, а между Швондером и Преображенским. Потому что Швондер должен уничтожить Преображенского. И жизнь нам показывает, что Швондеры уничтожали Преображенских, они их не просто уничтожили фигурально, они их стерли с лица земли, уничтожили интеллигенцию, сослали, истребили до седьмого колена, истребили духовенство. Потомкам этих людей, детям интеллигенции, которые готовы были к восприятию культуры, к получению образования, — не дали такой возможности, им не дали получить образования, ибо швондеры создавали свою советскую интеллигенцию, в значительной своей мере еврейскую интеллигенцию, мыслящую по-еврейски и видящую в русских своих врагов. Ибо Швондер видит в русском интеллигенте своего лютого врага, которого он должен уничтожить. Вот мораль и содержание этого произведения, а совсем не то, что показывают нам в театре, что русский человек такая скотина, свинья, что он похож на собаку и т. д. Это сопутствующие дела. Да он и не русский, да он и не человек, он не человек, в этом-то всё дело, тогда как Швондер (и в этом ужас!) — человек, а это — страшно. При всех условиях Шариков — все-таки фантасмагория, и он перестаёт существовать. А Швондер существовать остаётся. Мы знаем прекрасно, что он Преображенского убьёт. И Преображенских Швондеры уничтожили, а сами Швондеры живы до сих пор. Швондер жив и колоссально размножился, он пронизал всю нашу жизнь, все этажи, он сидит и правит нами, он ставит спектакль с фальшивым акцентом, ставит спектакль в детском театре и детям внушает мысль о том, что Швондер — славный, хороший, смешной человек, а Шариков — страшный, русский и опасный, берегитесь его, дети!
Он руководит театром, он руководит Театральным союзом. Вот что такое Швондер. Это Ульянов и Лавров. Вот Швондеры современные театральные — сидящие в театре. Арро, который сидит в союзе писателей, Петров в Союзе композиторов, вот Швондеры — Щедрин, Терентьев, который был когда-то Гольдбергом. Они руководят всей жизнью, они сидят в филармониях, консерваториях.
И этот Швондер издаёт теперь журналы. Журнал «Знамя», журнал «Октябрь». Этот Швондер издаёт газету «Московские новости».
Швондер — это тип послереволюционного времени, до революции этого Швондера не существовало, он появился только после Октябрьского переворота. Этот великий Швондер, который овладел всей Россией, занимал скромную должность, какое-нибудь скромное место, например фотографа на базаре, базарного фотографа в Свердловске. А завтра, когда его привлекли, он царя убил, самолично застрелил царя и его сына, его детей, его прислугу — всех пострелял этот Швондер по фамилии Юровский. Его сын жив до сих пор, и жена его сына Галина Шергова ставит теперь спектакли, ставит телефильмы.
Швондер этот после революции сидел всюду, он сидел в каждом учреждении, в каждой клетке нашей жизни, в каждой конторе. Вспомните, у Булгакова были такие действующие лица, крупные советские бюрократы «братья Кальсонер» в его замечательном произведении «Дьяволиада», которое не издаётся, потому-то можно сообразить, что это — антисемитизм. Современный Швондер не даёт это печатать, хотя у нас гласность, но для Швондера наши разговоры о гласности не указ. Он по-прежнему владеет цензурой, он владеет издательством, он всем владеет в нашей стране, он сидит в каждом тресте. Швондер сидит в каждой творческой организации, в каждом учебном заведении, как он сидел в каждом обкоме партии, в каждом облисполкоме, вплоть до Совета Министров, ВЦИКа и т. д.
Ныне он ушёл в глубину, на второй этаж нашей жизни, сверху как бы редко показывается, но всё равно он правит страной в качестве консультанта. Это — замечательная профессия. Булгаков — гениальный человек, видевший сеть, которой опутана наша страна, наш народ, ведь неслучайно он сатану, этого Воланда, называл «консультантом», потому что такой консультант сидит при каждом руководителе любого учреждения, вплоть до Политбюро.
Шариков оказался форменной, сущей находкой для Швондера, который сразу привлёк к себе этого человека. Стоило тому сходить в жилконтору, как он (Швондер) опутал, взял его за глотку так, что Шариков и не заметил этого.
Конец 80-х — начало 90-х годовНаблюдения и мысли об А. Т. Твардовском и А. А. Ахматовой
…В новом государстве его почитали как государственного поэта, крупнейшего, лучшего, который считался первым поэтом в России. С этой высоты он позволял себе рассуждать о поэзии. Не совсем эти рассуждения украсили его биографию и не совсем они были для него полезны. Сначала о Есенине, которого он взялся хулить и противопоставил ему Исаковского и Багрицкого, заявляя, что зря Есенина проходят в школах, что надо бы проходить Багрицкого. Это я понять не могу. Впрочем, под конец жизни он сильно попал в объятия не просто дамские, но еврейские, очень сильно попал в эти объятия и так оскоромился в смысле моральном, что удивительно. Можно его, конечно, пожалеть*. А вообще, разговаривая об этом, не то чтобы виню его — это дело не моё в общем-то. Но всё-таки, всё-таки. Он также написал статью об Ахматовой, где её, так сказать, легализировал как советскую поэтессу, наследницу Пушкина, и уделил ей нескромное, а я даже сказал бы — большое место в литературе Серебряного века. Но это глубокая ошибка. Существуют страсти посильнее поэтических, посильнее литературных. Они у него были, он очень понадеялся на свое положение, на его прочность, а вот мадам Ахматова оказалась отнюдь не такой доброй. Она о Твардовском высказывалась не то чтобы критически, она высказывалась о нём презрительно, снисходительно. Уничтожая его как поэта вообще. Вот это всякому умному человеку да будет уроком, потому что страсти существуют не только литературные, но и народоинтеллигентские, условно говоря… Противоречия, о которых когда-то много писал Блок, они не только не изжиты, но и страшно усилились. Потому что если старую интеллигенцию ещё можно было назвать «русской интеллигенцией», то современную интеллигенцию можно условно называть русской, это скорее уже еврейская интеллигенция или скорее даже космополитическая с очень сильным еврейским, так сказать, ядром. И не следует никогда забывать об этом ни писателям, ни художникам, ни музыкантам. Никакой здесь снисходительности в оценках быть не должно, либо надо молчать, либо говорить, учитывая все точки зрения. Человеку народного сознания такой интеллигент этого народного сознания никогда не простит, он ему, интеллигенту, человек народного сознания, ненавистен. Врагом интеллигенции был Пушкин, ведь его противники были именно из интеллигенции светской и литературной: Булгарин, Греч, Каченовский, Сенковский и много других таких же не совсем русских при русской литературе, при русском троне. При российском троне.
Такое же положение было у Кольцова, которого просто забыли. «Воронежский песенник», как написал о нём один еврей в календаре, отрывном, как я помню. «Воронежский песенник» — что ж такое? Между тем это поэт очень талантливый.
Такое же положение было и у Ломоносова, у Менделеева, отчасти и у Блока… Такое же положение у Есенина, у всех крестьянских, «мужиковствующих» поэтов, которые были просто русскими поэтами. Эти вопросы очень острые, и до сих пор они не потеряли своей остроты и в других родах искусства. Если в человеке сильно народное сознание — это считается признаком чего-то унизительного.
Надо отдать должное мадам Ахматовой. Женщина легендарной злобы, она умудрилась обгадить своих современников, начиная с Блока. Да и мужа своего весьма принижала, в сущности. «Я и Данте». Поэтому больше всего нравился ей Клюев. Они писала, что это самое лучшее его стихотворение, где Данте и её имя были рядом.
Это люди особенные. У них невероятно развивается честолюбие, как у людей подпольных. Пастернак, Ахматова… Они несут в себе комплекс людей подполья. О Есенине она пишет, что он похож «на городскую квартиру с самоваром». Какая же городская квартира у Есенина, который не имел квартиры вообще, не имел жилья, преследуемый, скитался, бегал от ЧК, а его преследовали серьёзнее, чем Ахматову, за которой Сталин посылал самолёт со своим персональным пилотом, чтобы вывезти её из блокадного Ленинграда.
И вообще надо сказать: относительно того, как её всю жизнь травили, сложный вопрос. Конечно, травили, но, с другой стороны, она получала от Берии подарки, дачу получила, не говоря уже о колоссальных гонорарах, которые платили ей за её просоветские произведения.
Пастернак, который выхлопатывал помилование, письмо писал, передавая через специальных лиц. Надо ведь тоже было иметь этих специальных лиц.
Это все очень сложные вопросы. Писал ли стихи по случаю подношения, стихи-подношения… Тоже нельзя забывать. Это были люди очень ловкие, а Пастернак, по воспоминаниям его двоюродной сестры, просто свой человек был в высшем эшелоне советской власти. Они его все знали с детских лет и бывали в салоне его папаши, а там вершились многие дела, приходили туда не только смотреть картины художника-реалиста.
Очень сложные биографии, чью историю писать рано, должны быть признаны факты, и тогда можно будет сказать, кто был святой, кто был грешник, а кто иуда. А сейчас рановато ещё.
О литературе ХХ века
А теперь я хочу записать, какую литературу я любил.
О литературе ХХ столетия. Много замечательного в ней было. Почему-то вспоминается «Боги жаждут» — Анатоль Франс. «Боги жаждут» — это потрясающая штука, французская, французским умом, умом острым прослеживается механизм революции, механизмы поведения людей… А в сущности то, что творилось в России, описанию не поддаётся.
Много, конечно, я интересного прочитал, но я не скажу, что так уж и много.
Из русской литературы, конечно, замечателен Блок, думается, вечен.
Поэтов вообще всемирно судить трудно, поэзия дело национальное, и как бы замечательно не перевёл Жуковский «Лесного царя», это все-таки… Гёте, я думаю, немцы лучше чувствуют, чем мы, русские, хотя мы, русские, очень сильно чувствуем чужое, немецкое.
Французская поэзия — я бы не сказал, что она и раньше была великой, а стала просто г… А у немцев кроме Шиллера или Гёте были Стефан Георге, Рильке. У Рильке были потрясающие вещи.
Англичане… Олдингтон, Хаксли… (Замечательная вещь Уэллса «Человек-невидимка», что-то в ней есть, от чего оторваться невозможно.) А Бернард Шоу — это вообще ничто. Горький… Не знаю, в нём, конечно, что-то гениальное есть, но жуткое, грядущий хам какой-то. Личность же, конечно, феноменальная в своём роде.
Бунин — да. Изумительный, но это не из породы самого великого.
Какая-то дура написала, что Блок — поэт ХIХ века, нет, это поэт ХХ века и ХХI. Он утонул в революции, первая жертва революции — прекраснодушный и гениальный Блок. Этот человек жаждал весны и света. Он первый погиб. Первый был убит. «Двенадцать» — величайшая вещь. Для всей мировой и русской литературы.
Есенин — тоже невыразимо трагично и прекрасно.
Шолохов. Да, конечно, замечателен. В «Тихом Доне» есть страницы буквально потрясающие.
Из русской литературы — Солженицын фигура. И тем не менее непонятно, о чём он мог говорить с таким человеком, как Ростропович. Это же прохвост. Или (как её фамилия) Вишневская, возлюбленная вечно полупьяного старичка, похожего на Фёдора Палыча Карамазова. Фёдор Палыч Карамазов из ЧК.
Грандиозные вещи есть и у Шаламова.
Человечество без памяти об этом жить не может. ЭТО все замечательные люди.
М. А. Булгаков. Самая замечательная его вещь — это «Собачье сердце», тут есть самое главное противостояние. Роман мне нравится значительно меньше, это всё уже куда тривиальнее, театральное, общечеловеческое. Зачем пересказывать своим языком Евангелие? Правда, он взял с таким тактом, что ему невольно прощаешь. Но всё это хуже, чем его великие произведения, например «Собачье сердце», тут написано просто и честно для нас все, что произошло. Сила, которая губит Россию, русскую мысль — Швондер, вот это царь, а не Воланд. Там — театральная бутафория. А настоящий Воланд — это Швондер.
Россия — православная страна и должна нести надежду, потому что Европа её не имеет. Кнут Гамсун… Великий писатель, «странник, играющий под сурдинку и под осенней звездой», — это гениально просто. Потом Луи Фердинанд Селин, «Путешествие на край ночи». Это мне кажется величайшим из французской литературы. Томаса Манна я не так ценю. Конечно, замечательно написан «Доктор Фаустус», но тут умствований больше, чем гения. А вот Фаллада — «Маленький человек — что дальше?» — невозможно читать. Я от сочувствия к немцам плачу от жалости к этому потрясающему народу, который столько принёс в мир прекрасного, столько принёс красоты, ума, гения. Как он бьётся в тенетах и продолжает биться, этот великий народ. Он потерял сейчас всё — искусство, литературу, оккупирован, измучен, распят. Сытая распятость. Ганс Фаллада, «Каждый умирает в одиночку», да это гениальная штука, которую всякий русский человек не может читать без потрясения.
Что касается американцев, то они слишком сыты, чтобы создать что-либо великое.
II
В январе 1984 года Свиридов загорелся идеей: сделать на радио передачу стихотворений Станислава Куняева в исполнении актера Юрия Яковлева, а также, как он писал в письме к Ст. Куняеву: «Остальное место должны занять: вступительное слово Свиридова (ибо передача — музыкально-литературная!), такое слово мной уже было произнесено и записано, но я его немного доделаю (слово недлинное), и музыка Чайковского П. И. и Рахманинова С. В. — компания почётная! Музыка (в отрывках) мной уже подобрана…». Однако русофобствующие чиновники из Радиокомитета уже в то время обладали такими возможностями, что знаменитый композитор, сделавший для них всю композицию передачи, не смог добиться того, чтобы она вышла в эфир…
А свиридовское вступление к передаче, недавно найденное в архиве Георгия Васильевича его племянниками Александром и Василием Белоненко, интересно тем, что выходит за рамки предисловия и представляет собой глубокое размышление о сущности русской национальной поэзии в советскую эпоху 60–80-х годов.
* * *
Я очень рад предоставленной мне возможности сказать несколько слов перед сегодняшним концертом, в котором будут читаться стихотворения Станислава Куняева, современного поэта.
Должен сказать, что я очень люблю поэзию, особенно русскую, и связан с нею всю свою жизнь. Несколько лет назад я неожиданно открыл для себя, что, оказывается, у нас сейчас, в наше время, в нашей стране, существует новая, очень интересная русская поэзия, что при нас творили и творят высокодаровитые русские поэты. Я бы мог назвать здесь такие имена, как Николай Рубцов, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, Владимир Костров, Анатолий Жигулин, Глеб Горбовский, Василий Казанцев и, может быть, другие, кого я ещё не знаю. Это целая плеяда настоящих поэтов, чьи стихотворения я читаю с большим увлечением.
Чем замечательны мне кажутся эти поэты? И что в них, мне кажется, особенно ценное? Я должен сказать, что лет 25 назад Александр Трифонович Твардовский, говоря о молодой тогдашней поэзии, такую обронил фразу: что, к сожалению, поэты (он говорил о поэтах того времени) «получают заветы поэзии из вторых рук».
Вот этого не скажешь о поэтах, которых я назвал. Это именно поэты, получающие заветы поэзии, что называется, «из первых рук». Они навели мосты между нашим временем и Пушкиным, Лермонтовым, Боратынским, Тютчевым, Фетом, Блоком, Есениным. И именно влияние этих великих поэтов ощущается сейчас в новом поэтическом творчестве. И мне кажется это очень важным и очень большим качеством этой поэзии.
Что я имею в виду, когда говорю о влиянии?.. Прежде всего это творчество отличает большая глубина темы. Не просто поэтическое самовыражение, когда поэт собственную лирику пишет и, может быть, это всё талантливо. Но, понимаете, в этой поэзии есть большая тема, которая стоит как бы над поэтическим самовыражением. Тема этих поэтов — тема Родины. Это не описание, не только описание природы или современной жизни. Нет. Это ощущение и осмысление Родины в её большом, крупном значении. Осмысление и ощущение Родины как некоего великого целого — то есть её истории, её духовной жизни, огромных перемен, которые она претерпела на протяжении своей истории. И это мне кажется важным именно для наших дней. Мы переживаем такое время, когда очень важно ощущать себя частью этого целого, частью своей Родины, чувствовать своё родство с поколениями людей, живших когда-то, чувствовать себя их детьми. Чувствуя свою связь с прошлым, тогда только и можно правильно думать о будущем.
Мне кажется, что этим поэтам свойственно также чувство духовной самостоятельности русской литературы и русской культуры вообще, её незамкнутости, её всемирности, обращённости ко всему человечеству.
Среди этих поэтов совершенно своеобразное место принадлежит Станиславу Куняеву. Я говорил много об общей тенденции, о целой волне в нашей поэзии. Но я бы хотел сказать, что в Станиславе Куняеве замечательно. Стихи Куняева отличает страстность чувства и страстность мысли. Его поэзия нагружена большим смыслом, большими идеями, не поверхностными, а лежащими на глубине духовной жизни. Поэзии Куняева свойственно кровное ощущение Родины, Родины не в отдельных её приметах и деталях, а именно как целого — со всей её историей, со всеми её громадными приметами и потрясениями, со всеми её радостями и печалями. И это мне необыкновенно близко. Это мне кажется чрезвычайно ценным именно сейчас, в наше бурное, сложное время. Всё это есть в ярких, глубоко трогательных и сильных стихах Станислава Куняева. Я позволяю себе говорить сегодня о поэзии только потому, что я люблю эту поэзию.
В сегодняшней композиции совершенно неслучайно поэзия Станислава Куняева связана с музыкой Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова. Их связывает колоссальное ощущение, кровное ощущение Родины. Вот что общее в них. Я не берусь, когда я говорю о современной поэзии, я меньше всего склонен вообще давать какие-либо оценки поэтам, о которых я говорил. Время даст оценку современному искусству. Я хочу сказать, что связывает замечательного современного, высоко, с моей точки зрения, даровитого поэта Станислава Куняева — общность чувства, общность идеи творческой — с именами великих музыкантов прошлого. Поэтому мне кажется такое соединение необыкновенно убедительным. И оказывается, что это соединение необыкновенно действенно. Эта музыка как-то развивает и дополняет эту поэзию. Если Куняев пламенным, обжигающим словом мысль даёт, то музыка Рахманинова и Чайковского даёт нам такое же пламенное и обжигающее чувство, чувство Родины.
Стихи Станислава Куняева прочтёт замечательный наш артист Юрий Васильевич Яковлев. Я думаю, что нет никакой необходимости мне его представлять.
III Антон Висков «Любовь Святая» (Свиридов, Юрлов и «юрловцы»)
…Это было одним из тех событий жизни, которые навсегда остаются в памяти. Стояли прощальные деньки «золотой» осени. Я с сознанием собственного достоинства шествовал на репетицию своей вещи в знаменитую Государственную хоровую капеллу России имени Александра Александровича Юрлова. Храм Покрова в Рубцове, многие годы служивший репетиционным помещением капеллы, утопающий в густой листве столетних деревьев, представлялся дивным островом исконно русской культуры посреди грохота и бедлама окружающих улиц. Когда я входил в ворота церковной ограды, я вдруг подумал, что точно так же на репетиции собственных произведений ходил здесь когда-то Георгий Васильевич, в своих бессменных тёмных очках, погружённый в глубокие раздумья, направляя взгляд себе под ноги; он, так же, как и я, подняв глаза, видел эти одухотворённые, словно живые, стены древнего храма, его устремлённые в бесконечную лазурь купола, стройные ряды кокошников, так же, как и я, с волнением и радостью предвкушал встречу с артистами прославленного хора. Внутри, под низкими, нависшими сводами, выложенными из гигантских кирпичей, спаянных в почти скульптурные формы и лежащих на чудовищных размеров дубовых балках, всегда витал тонкий, почти непередаваемый дух старины: так обычно пахнет в деревенских крестьянских домах. Здесь создавалось величественное полотно великой русской хоровой культуры, ткались невидимые нити, связывающие нас со всеми предшествующими её эпохами: с Рахманиновым и с «синодалами», и дальше в глубь веков, в средневековье, в Византию. Неужели и я, робко вступавший под эти сени, стану достойным причастником великих тайн? Тут все было напоено Божественными свиридовскими созвучиями, кажется, будто стены вобрали и хранят в себе вибрации звуковых волн от его музыки. Именно здесь, под этими сводами, впервые обрели звуковую материальность все самые великие его хоровые произведения. Вступаю под священные своды. Гулко разносится где-то знаменитая «Аллилуйя» из «Песнопений и молитв»: даже в антракте кто-то из солистов-басов не может удержаться и то и дело принимается петь эту удивительную, вселенского дыхания мелодию.
Начинается репетиция. Передо мной — весь состав могучего русского хора. Кажется, будто стоишь перед Собором Василия Блаженного или Кижским храмом. Звучит Свиридов. Опять возникает удивительное, таинственное ощущение связи времен. Я слышу прекрасное пение артистов, вижу пред собой в хоре то там, то здесь лица тех же самых людей, которых видел Георгий Васильевич: Валерии Андреевны Голубевой, Евгения Степановича Прижилуцкого, Василия Михайловича Дмитриева, Константина Владимировича Золотарёва. Они помнят звук его голоса, они следуют его заветам, они старательно воплощают именно его слышание, передавая традиции молодым артистам. Властно и тонко ведёт за собой хор преемник великого Юрлова, замечательный дирижёр — Станислав Дмитриевич Гусев, бессменный руководитель коллектива на протяжении вот уже более четверти века, также очень по духу близкий Свиридову человек. И мистический трепет охватывает душу — ведь будто бы слушаешь Синодальный хор, с которым репетировал сам Рахманинов, потому что Свиридов и Юрлов в своём сотворчестве равновелики Рахманинову и «синодалам».
Да, время Юрлова и Свиридова — то была потрясающая эпоха русской музыки, пора её неслыханного взлёта, осенённая содружеством этих двух титанов. Как много было сделано, сколько надежд возлагалось на будущее! Тогда казалось, что мощный подъём национальной культуры уже не остановить.
Одним из потрясений для меня явилось знакомство с пожелтевшими страницами старых тетрадей, в которые незаменимая на протяжении вот уже тридцати лет директор капеллы Раиса Ивановна Андрейкина — честь ей и хвала — скрупулезно вносила все сведения об артистической жизни хора. Это — поистине летопись пушкинского Пимена, уникальный документ той незабвенной эпохи. Скупые строчки отчётов и цифр, год за годом, квартал за кварталом: где, когда, сколько. Но что за этим кроется! Шутка ли — более ста концертных мероприятий в год, по всей стране, по всему миру, из года в год! Очень часто мелькают названия всех крупнейших залов обеих столиц, а также и всех крупнейших городов Советского Союза, здесь отражены и частые съёмки на телевидении, череда фондовых (по заказам Государственного телерадиофонда) записей на радио и фирме «Мелодия», тут же рядом шефские концерты, творческие встречи с рабочими, военнослужащими, крестьянами — прямо в цехах заводов, на кораблях, на фермах. Порой бывало, что артисты целыми неделями, иногда по нескольку раз в день, выходили на сцену. Сибирь и Дальний Восток сменялись Прибалтикой и Закавказьем (притом в графике иногда даже не было перерыва, чтобы отдохнуть дома). Хор мог сегодня выступать на шахтах в окрестностях Кузбасса, а завтра отправляться на почти месячный тур по Великобритании или Чехословакии. Более пятнадцати стран объехали «юрловцы». Гордо по всему миру пронесли они знамя отечественной хоровой музыки. И почти в каждой программе, ими исполняемой, вместе с произведениями русских и зарубежных классиков обязательно звучал Свиридов, его хоры, кантаты, оратории.
Современная хоровая молодежь, с которой мне часто приходится общаться, и представления не имеет, что такое возможно, на меня всегда устремляются круглые от удивления глаза. Надо заметить, что почти все проводимые мероприятия были с современной точки зрения убыточными в финансовом смысле. Государство заботилось в первую очередь о культурно-нравственном просвещении своего народа, пропаганде и развитии отечественного искусства, покрывая все расходы коллективов на переезды, гостиницы, аренду залов, оплату артистов. Мыслимо ли сейчас нечто подобное, когда аренду помещения для репетиций и концерта должен оплачивать сам исполнитель, а ее стоимость во много раз превышает скудный фонд месячной заработной платы всего такого коллектива (без малого семьдесят человек), как капелла?
Однако и в те времена было не всё так просто. Сколько усилий, кулуарных разговоров, бесконечных хождений по «высоким» кабинетам, дипломатических «игр» с чиновниками были вынуждены предпринять два друга-единомышленника: Александр Александрович Юрлов и Георгий Васильевич Свиридов. Притом, по воспоминаниям «капельцев», Свиридов всегда бесстрашно лез напролом, в то время как более опытный в организационных делах Юрлов предпочитал тактику обходных маневров, в результате чего всегда достигал больших результатов. Как вспоминает многолетняя сподвижница Юрлова, первый дирижер-хормейстер капеллы Розалия Константиновна Перегудова, сам Свиридов говорил ей: «Вы знаете, Юрлов — умнейший человек. Придем мы по делам в Министерство культуры, я как гаркну: „Пошли в этот кабинет!“ (с золотыми буквами на двери). „Не-ет! — вкрадчиво ответствует Александр Александрович, — мы пойдем сюда“ (показывает на маленькую незаметную дверцу). И шли куда нужно».
Благодаря этим изнурительным хождениям по «нужным дверцам» им удалось, например, в масштабах всей страны организовать мощное фестивальное хоровое движение, вовлекая в это дело огромную массу поющих и слушающих людей, профессиональные и многочисленные любительские коллективы. По всем городам и весям нашей необъятной родины люди приобщались к высшим достижениям как мировой, так и отечественной музыкальной культуры. Юрлов, «юрловцы» и Свиридов на практике воплощали великие идеи народности подлинного искусства — мечту многих выдающихся художников-гуманистов: Баха, Бетховена, Толстого… «Мы вместе с Юрловым поднимали хоровое дело… То было дело величайшей государственной важности, оно имело целью воспитание добрых чувств, приобщение к высшим достижениям человечества самых широких кругов советского народа!» (цитирую Свиридова).
В центре всех начинаний стоял Юрлов со своей капеллой. Обычно происходило так: один из дирижёров капеллы командировался в центр проведения фестиваля и там, на месте, разучивал с многочисленными коллективами, как профессиональными, так и самодеятельными, весь материал предстоящей концертной программы, притом вещи, в неё входящие, были ой как непростые — крупные сочинения, которые сейчас не по зубам и высококлассным коллективам. Затем, после предварительной «местной» подготовки, подтягивались уже и основные силы — капелла вместе с Юрловым. Резонанс от этих выступлений был столь впечатляющим, что его отголоски прошли сквозь все потрясения последних времён: сейчас одно имя Юрловской капеллы, и особенно с сочинениями Свиридова, наполнит до отказа любой зал современной России. (Поэтому тем более удивительно, что государственные мужи не в состоянии до сих пор оценить весь этот накопленный потенциал и использовать его в деле воплощения прокламируемой ими идеи возрождения России, выделив хотя бы средства для гастрольных мероприятий прославленного хора!)
Творческое содружество Свиридова с Юрловым стало закономерным итогом развития русской музыкальной истории. Свиридов обратился к хоровой музыке, которая раньше его «как-то не привлекала» («в молодости я и представить себе не мог, что буду сочинять для хора»), сравнительно поздно, уже к концу 50-х годов, в средний, так сказать, период творчества, в связи с углубленным погружением в мир есенинской поэзии, в период, когда человек вдруг снова переживает впечатления детства, возвращаясь к ним в закоулках души. Здесь всё играет свою роль: память запахов, звуков, мимолётных ощущений, щемящая тоска по невозвратно потерянному «детскому раю» (В. Набоков). Расплавленные генератором могучего свиридовского творческого духа, овеянные нестандартностью его художественного мышления, чувства эти вдруг вылились в неслыханные доселе музыкальные формы, знаменуя, по существу, рождение целого стилистического направления, того, которое мы привыкли называть свиридовским, которое, с одной стороны, всецело развивает традиции магистрального пути русского музыкального реализма, с другой — не имеет себе подобия ни в предшествующей, ни в современной ей музыкальной отечественной литературе: впервые жанр хора без сопровождения, до того пребывающий на своей, так сказать, средней полочке, местном хоровом уровне, возведён по широте масштаба и художественного обобщения на одну ступень с симфоническим и музыкально-драматическим жанрами. (Вот почему Свиридов не обращался к симфонии или опере: он обладал способностью к необыкновенной концентрации мысли, мог в двух-трех нотах сказать больше, чем порой найдешь на десяти страницах, вот почему его творческой идеей была, как он сам говорил, «святая простота».)
Может быть, он и сам не представлял всей степени новаторства своего открытия, требующего соответствующих качеств и со стороны исполнителей, иначе не понес бы свои «Пять хоров на стихи русских поэтов» Александру Свешникову, человеку необычайно педантичному и ортодоксально настроенному, как страж блюдущему незыблемые традиции Московской Синодальной школы, пронесшему их через все горнила советского музыкального строительства. И в этом его роль, в этом его величие. Он — хранитель. Свиридов — бунтарь. Если Свешников прикладывал все силы для того, чтобы сохранить былое, Свиридов уже работал на то, чтобы возродить, продолжить, развить. Свешников был авторитарен, с ним мало кто мог найти общий язык. И подобно тому, как Рахманинов или Калинников никак не могли найти контакта с Сафоновым (дирижёром и ректором, так же как и Свешников, Московской консерватории, прекрасным музыкантом, построившим грандиозное здание российского музыкального образования), Свиридову не удалось по-настоящему сдружиться со Свешниковым. «Это не та музыка, которую я написал», — с горечью возопил Свиридов, услышав в первый раз свешниковское исполнение. Такая же ситуация позже возникла и при работе Свиридова со Светлановым. («Каждый дирижёр должен быть соавтором композитора и иметь право на своё слышание произведения», — утверждал Евгений Федорович. «Ну, вот и исполняйте то, что Вы сами сочинили», — возражал Свиридов.) Светланов всегда совершенно по-своему исполнял свиридовские вещи, внося в них свою исключительной силы духовную страсть, благодаря чему они приобретали совершенно невероятное по глубине и тонкости звучание. А Свиридов до конца жизни считал Светланова в первую очередь композитором. «Федосеев — он сейчас в России первый дирижёр», — гордо утверждал Георгий Васильевич. «А как же Светланов?» — нежно пела из соседней комнаты Эльза Густавовна. «Ну, Светланов ведь композитор!» — почти возмущённо возражал Свиридов.
Вынужденный забрать свои «Пять хоров» у Свешникова (вообще-то надо быть Свиридовым, чтобы отважиться на такое), автор отнёс их Юрлову. И этот момент следует считать поворотным в развитии русского музыкального искусства.
Хоровое письмо в то время страдало от множества стереотипных приёмов фактуры, голосоведения и т. д., восходящих по своему происхождению ещё к «кучкистам» и Чайковскому. Стандартны были подход к тексту, к обработке народных мелодий. В основе хоровых композиций лежал как самоцель принцип полифонии, как правило, западного типа, что очень, в целом, вредило и донесению смысла текста до слушателя, и созданию конкретного образа. (Кроме того, владея определёнными техническими навыками полифонического письма, посредственный композитор всегда мог скрыть свою собственную творческую несостоятельность.) Полифонический метод, давший высочайшие образцы в творчестве Танеева, «кучкистов», последователей «синодалов», и в первую очередь самого Свешникова (достаточно вспомнить его бессмертную обработку песни «Вниз по матушке, по Волге»), фактически изжил себя ко времени обращения Свиридова к хору, сделался неспособным к музыкальному осмыслению насущных проблем современности. И вот у Свиридова на первый план как высшее средство художественного воплощения вышло звучание единой хоровой массы, одухотворённой великой национальной идеей. Свиридов пел грандиозный реквием («панихидус», как он грустно шутил) своей Родине. Его творческая натура противилась рутине, он был революционер в искусстве.
Вот почему он часто гремел: «Полифония — враг музыки!» Это было и протестом против засилья многонотного, гипертрофированно усложнённого симфонизма шостаковичевского типа. Чистое многоголосие инструментально по своей природе, так как в нём совершенно затушёван и скрыт от слушателя смысл, выразительность и словесная, звуковая красота («собуквие», по выражению Свиридова) поэтического, литературного текста. Для Свиридова Слово имело высший духовный смысл и материальный вес. Он любовался словесными сочетаниями, как драгоценными камнями, и с чрезвычайной тщательностью подбирал для них индивидуальную музыкальную оправу. Он справедливо полагал, что музыка и слово были едины в древнем искусстве, что Боговдохновенные стихи Библии первоначально предназначались для музыкального исполнения, что «в начале было пропетое Слово».
В лице Юрлова Свиридов счастливо обрёл человека, который интуитивно стремился к тем же высоким целям. Александр Александрович пытливо искал новые пути развития хорового искусства, с одной стороны, обращаясь в глубины отечественной музыкальной истории (именно он, не без влияния Свиридова, впервые после долгого забвения со своими капельцами стал включать в программы репрессированную русскую духовную музыку, от старинных распевов до петровских кантов и роскошных многоголосных концертов), с другой — почуяв в суровых и строгих, словно брёвна северных церквей, свиридовских звуках будущее национальной певческой культуры.
Свиридов, особенно в хоровых сочинениях, стремился к скупости и аскетичности письма (как говорил Шостакович, «у Свиридова нот мало, а музыки много»), что ставило перед исполнителем задачи чрезвычайной технической сложности: всё на виду, невозможно спрятаться ни за какими узорчатыми хитросплетениями. Кроме того, художественная палитра Свиридова безгранична по количеству порой диаметрально противоположных красочных средств. Каждый фрагмент музыки пестрит дополнительными объяснениями его характера и образа. И наконец, самым главным средством является объём, масса хорового звучания, которые могут быть достигнуты лишь путём тщательного подбора и долгих планомерных репетиций большого количества (минимум 60 человек) первоклассных по природным данным певцов. Только в этом случае мы можем слышать произведения Свиридова в их первозданной красоте, когда кажется, будто звучность хора заполняет собой всю вселенную. Нет ни одного композитора, чья музыка до такой степени зависела бы от уровня и качества исполнения. Мне кажется, что пытаться исполнять хорового Свиридова, не обладая звуковыми возможностями большой капеллы, всё равно что играть Баха на губной гармошке.
Но и этого мало. Чтобы петь Свиридова, надо иметь русскую душу, русское сердце, нести в себе «трагизм русской судьбы и жизни». Надо чувствовать вселенское величие страны, до конца повторяющей крестный путь Спасителя, спасающей через это и себя, и весь мир, быть способным на ослепительной художественной высоте воплотить эти идеи посредством музыкальной гармонии. Лишь Александр Александрович Юрлов и все воспитанные им артисты капеллы смогли подняться на уровень свиридовских идей и обобщений и донести их до современного слушателя. С другой стороны, не будь у Свиридова столь совершенного и согласного с ним музыкального инструмента, как Юрловская капелла, вряд ли могли появиться на свет многие его до сих пор непревзойдённые, удивительные, не имеющие аналога в мировой музыкальной практике творения, которые, по существу, и определили его уникальное место в истории музыкальной культуры.
Творческий процесс композитора значительно интенсифицируется (знаю по себе), когда имеется конкретный исполнитель, звук голоса (или инструмента) которого автор слышит и представляет во время сочинения музыки. Именно благодаря его работе с «юрловцами» мы обязаны рождению таких шедевров, как «Три хора к драме А. К. Толстого „Царь Фёдор Иоаннович“», хоры на стихи Сергея Есенина, «Три миниатюры», наконец, «Концерт памяти А. А. Юрлова», эта грандиозная фреска, в которой человеческая боль утраты безвременно погибшего друга перерастает в апокалипсического масштаба картины гибели целого народа, всего мира. Именно с расчётом на Юрловскую капеллу были написаны и «Курские песни», и «Снег идёт», и «Весенняя кантата».
Творческое общение со Свиридовым духовно преображало артистов. Находясь рядом с ним, слушая его гортанные возгласы, подкреплённые энергичной, необыкновенно артистичной жестикуляцией, невозможно было не воспламениться от сжигающего его самого душевного огня. Даже сейчас, по прошествии многих лет, люди преображаются, вспоминая о совместной с ним работе: горящие глаза, пылающие щёки, взволнованная речь и всегда, всегда — сердечная теплота, человеческий восторг и трогательная любовь в интонациях, сопряжённая с грустью и ностальгией о безвозвратно ушедших тех незабвенных годах.
Чем же тревожил, привораживал к себе людские души этот импульсивный, парадоксальный, порой нетерпимый, неуправляемый и сумасбродный человек, почему до сих пор не ослабевает власть его над людскими сердцами? «Не любить Георгия Васильевича было нельзя! — вспоминает Розалия Константиновна Перегудова. — Хотя нам, артистам, крепко от него доставалось. Во время репетиций он доводил до изнеможения не только хористов, но и самого Александра Александровича. Порой „загибал“ такой крепости фразеологию, что у Юрлова тряслись руки, а с закусанной губы стекала кровь. А Свиридов то вдруг „взрывается“, впадает в бешеный гнев (как Бетховен), может запустить валенком в сторону хора (зимой на репетицию приезжал всегда в своих домашних валенках), может вообще покинуть репетицию. Это были страшные моменты: он вдруг весь съёживался, подбирался, бросал скупые короткие команды голосом Цезаря, приговаривающего к казни. Концертмейстеру: „Отойдите!“ (резкий взмах руки), „Садитесь Вы“ (указывает на одного из хормейстеров, тот остаётся недвижим), „Вы!“ (указывает на другого, тот же результат). Тогда Свиридов молча, как грозовая туча, встаёт и также молча, слегка пружиня и шаркая ногами, уходит, даже не обернувшись…
Зато и не было конца его счастью, если что-либо удавалось. „Хорошо-о, друзья, это очень хорошо-о-о!“ — с хрипом, гортанно вопил он и удовлетворённо плюхался на сиденье с увлажнившимися глазами. — Давайте выстроим мужской хор. Это основа. Важен педальный тон (неизменный звук, обычно в средних голосах, который „держит“ все остальные. — А. В.). Надо стремиться к органности (то есть звуковой непрерывности. — А. В.) Органность звучания — это и есть русский хор!».
Казалось бы, за такую придирчивость и манеру общения артисты должны были бы ненавидеть его, ведь не секрет, что хоровые и оркестровые исполнители воспринимают себя ущемленными по отношению к композитору, который, по их мнению, пожинает лавры за их счет. («Если бы мне не надо было кормить многочисленную семью, разве я бы стал терпеть все эти издевательства?» — как говорил один из скрипачей на первой репетиции «Скифской сюиты» Сергея Прокофьева.) Притом непримиримую позицию занимают они преимущественно к новым сочинениям, которые автор приносит для первого исполнения. Более строгих, более изощрённо-ехидных критиков, чем сами музыканты, невозможно представить, но нет и более благодарных, и более тонких и справедливых ценителей, чем они.
Что касается Свиридова, то ситуация складывалась вообще поразительная: репетируя свою музыку, он обладал способностью к буквальному преображению людских душ, к приобщению их к тайнам только им слышимых Божественных гармоний, к пробуждению скрытых доселе творческих сил человека, погружая души во всеобъемлющий восторг и восхищение перед сияющей красотой Божественного творения! Репетиции со Свиридовым и его концерты были подобны приобщению Святых Таинств, а он сам казался Вседержителем, вещавшим в окружении огненной купины. Вот за что столь любим был он всеми артистами, он, давший им вкусить заветного счастья единения с Божественным.
Конечно, была технология, было многолетнее оттачивание звука, слова, ансамбля, было множество технических ухищрений, приёмов, достигнутых трудоёмкими упражнениями. Юрловым был создан исключительный по своим возможностям, непревзойдённый до сих пор музыкальный инструмент, монолитный и многокрасочный. Но даже Александр Александрович признавался, что его «всему (то есть главному. — А. В.) научил Свиридов» (как потом говорили о себе и многие другие работавшие со Свиридовым исполнители).
Случалось и вообще удивительное. Как вспоминают артисты — на репетициях Свиридов бегал по всему залу как сумасшедший! «Кричал через весь зал, перекрывая мощный хоровой звук, показывал, пропевая отдельные фразы, рисовал, артистично проигрывая, различные образы, привлекая множество ассоциаций, ругался, негодовал, топал ногами, стучал в ладоши, останавливая буквально в каждом такте, но… „Всё это не то, не то, не то!“ — горестно восклицал он, продолжая добиваться, требовать, шлифовать. Однако удовлетворения не наступало. В полном изнеможении и отчаянии, обхватив голову руками, прямо перед хором, на сцене, падает на дирижёрскую подставку, а потом как-то боком садится Юрлов. Повисает напряжённейшая пауза. Тогда Свиридов вдруг бросается на сцену, встаёт перед хором, застенчиво улыбается и нежным, ласковым, как бы извиняющимся тоном, точно успокаивая не по заслугам наказанного ребёнка, произносит: „Это же так просто: пойте, и всё…“ — и поднимает руки наподобие распятия». И тут случается чудо, при воспоминании о котором до сих пор наворачиваются слёзы у участников этого события: да, хор запел, запел без всякого дирижёрского управления, будто бы властно ведомый незримой силой, запел так, как невозможно было представить человеческому разуму, как не слыхивал ещё человеческий слух, и потоки музыки заполнили всё пространство, и люди плакали от охватившего их блаженного восторга, и казалось, что уже не человеческие, но ангельские голоса присоединяются к общему хору, но звуки влекли всё дальше и дальше, и все жаждали нескончаемости этого чуда, и только Свиридов, сам потрясённый до глубины души, оставался неподвижным, с поднятыми руками, как распятый Христос!
«Пойте, и всё», — это звучало равносильно «Встань и иди!» Видимо, композитор обладал способностью концентрировать и направлять потоки Божественной энергии, видимо, было ему дано слышать звуки Божественной гармонии. Как справедливо заметил отец Иоанн Экономцев, невозможно написать икону Преображения, хотя бы раз своими глазами не сподобившись узреть нетварный Фаворский Свет. Точно так же невозможно создать истинно Божественное произведение, не удостоившись слышать ангельское пение, быть сопричастным небесной музыкальной гармонии. А Свиридов постоянно ощущал эту гармонию, стремясь передать свое слышание исполнителям. Поэтому-то он никогда не мог останавливаться на просто удовлетворительном или хорошем, как тот гончар, который разбил прекрасную, вылепленную им вазу только потому, что ему мерещился образ ещё более совершенного и прекрасного произведения.
«Надо петь сердцем!» — это основа творческого метода Юрловской капеллы, заповеданная Георгием Васильевичем Свиридовым. В своих музыкальных образах он в первую очередь исходил из смысла слова, побуждая к этому и исполнителей. Нередко просто, медленно и подчеркнуто весомо, как бы поддерживая на ладони, декламировал слова поэтического текста. И тут же начинал объяснять их значение, рисовать яркие и зримые образы, создавать исторические, художественные ассоциации, с ними связанные. Пропевал хрипло целые фразы, часто фальцетом, то плавно полукругом проводя перед собой рукой (изображая мелодию большой протяженности и широкого дыхания), то по-ораторски вздымая руку вверх и потрясая ею (символ большого эмоционального накала в музыке), то вдруг начинал шептать с заинтересованной и таинственной интонацией, низко опустив повёрнутые к собеседникам ладони.
Репетировали «Поэму памяти Сергея Есенина»: «Пойте тихо, без нажима. Это — как воспоминания, остались одни песни, Руси больше нет!» («Ночь на Ивана Купалу».) «А это такие бунтари, анархисты скачут на конях, позвякивая сбруей. С огро-о-о-мными маузерами!» («Крестьянские ребята»). (Всё это довелось ему видеть в детстве.)
Бывали и курьёзные моменты. Никак не мог Свиридов добиться желаемого исполнения начальной унисонной фразы знаменитого хора «Табун» на стихи Есенина. «Ну как же вы не понимаете? — возмущался он. — Вы поёте: „В холмах зеленых табуны коней…“ — это совершенно не так, надо (поёт, в такт подбрасывая обе руки вверх, словно выплёскивает музыкальные звуки на простор фатежских степей): „В холымах зелёных…“». Все смеялись, и он смеялся, но так и не смогли полностью скопировать эту уникальную, напоённую отголосками архаичных крестьянских говоров Курщины свиридовскую речь.
Юрловцы трогательно заботились о своем композиторе, доставали автомобиль, чтобы привезти его на репетиции. И вот он, в сопровождении верной Эльзы Густавовны, появляется в зале: король, император, полководец. Резкий, высокий взмах руки, крик: «Приветствую вас, мои друзья!». В любом возрасте необыкновенно легко и быстро подбегал к своему месту, размашисто кидал рядом плащ или пальто, небрежно и покровительственно кивал случайно увиденным знакомым лицам. «Начнём, друзья!» — кричал он. Ничего, кроме музыки, для него уже не существовало. Он сразу же становился эпицентром происходящего, постоянно концентрируя внимание всех только на себе, на своих высказываниях и замечаниях, на своей музыке. Даже дирижёр сразу же уходил на второй план. Дирижёр для Свиридова — покорный исполнитель его, авторской, воли. Дирижёр — генерал, а Свиридов — маршал. Ему приятно было, что называется, быть на коне, у всех на виду, с высоты обозревая поле боя. Он как должное беззастенчиво и шумно требовал от всех полного подчинения задачам исполнения своей музыки. Он имел на это полное право. В перерывах вокруг него собирались дирижёры, хормейстеры, солисты, и он покровительственно, по-царски вёл подчеркнуто эмоциональную беседу о музыке, об искусстве, вспоминая знаменитых хоровых артистов, веселился, рассказывая остроумные истории из музыкальной жизни прошлого.
Порой его энергия, которую он не в силах был сдерживать, его, казалось, ничем не ограниченный творческий эгоизм (от которого он и сам страдал) выводили из терпения даже самого терпеливого и кроткого Александра Александровича Юрлова. Свиридов требовал и настаивал, чтобы Юрлов во что бы то ни стало в выходные непременно приезжал к нему на дачу: «Друг мой, мы обязательно должны с Вами поработать!» Юрлов, как любой руководитель огромного коллектива, обременённый всевозможными творческими и организационными проблемами, прекрасно понимал, что визиты эти превращаются в грандиозный спектакль одного актера, отнимающий у зрителя не только всё время, но и все силы, а дела в капелле тем временем стояли, ведь не одного же Свиридова они пели! Притом эти встречи со Свиридовым были настолько духовно насыщающие, насколько эмоционально выматывающие. По себе знаю, что после дня, проведённого со Свиридовым тет-а-тет, я неделю был совершенно физически измотан и обессилен, зато воспоминаний и впечатлений хватало на полгода! Как у всех композиторов, у Свиридова, только в обостренном состоянии, существовало неосознанное стремление иметь свой придворный коллектив. Поэтому как бы ни хотел поехать Юрлов к своему другу, дела не отпускали его из Москвы, а отказать Георгию Васильевичу было практически невозможно. Тогда на выручку приходила многоопытная Раиса Ивановна, честно заявлявшая по телефону разыскивающему его повсюду Свиридову, что, де, Александр Александрович либо только что вышел, либо поехал туда-то. «Раиска! — вопил обо всём, конечно, догадывающийся маэстро. — Немедленно разыщи мне Сашу, дело чрезвычайной важности!». Да, общения со Свиридовым с его нечеловеческим напором и бескомпромиссным отношением к искусству постоянно мало кто мог выдержать. Он в музыке был всегда подобен огромному снопу пламени, свет и тепло от которого и согревали, и обжигали одновременно.
Мне посчастливилось общаться с теми артистами капеллы, которые работали в своё время со Свиридовым. И столь сильна была его энергия, что и спустя многие годы, беседуя с ними, я вдруг ощущал незримое присутствие этого великого человека; казалось, что начинаю слышать звук его резкого, властного голоса, видеть стремительные, порывистые движения.
Почему-то артисты хора всегда воспринимали его как своего друга: он был нарочито простоват в общении и манерах, всегда что думал, то и говорил, был мужиковат (частенько ходил, как Толстой, в валенках), подчас был груб и неотесан, но обладал потрясающей внутренней духовной силой и горячей верой в правду своего дела. (Впрочем, многие помнят Свиридова и чрезвычайно аристократичным и утончённым, одетым с иголочки, пахнущим дорогим одеколоном, с характерными интонациями старой петербургской речи. Таким он бывал на концертах, многочисленных совещаниях на самом высоком уровне.) Он сплачивал вокруг себя людей, заражая их пленительной идеей своего творчества, русской национальной идеей, и артисты всегда были близки с ним духовно, они вместе создавали великое русское хоровое искусство. Без этого единения композитора со своими исполнителями невозможно было бы достичь столь ослепительных творческих вершин!
…Вот я достаю из шкафа старую пластинку с репродукцией знаменитой картины Андрея Мыльникова на обложке, той самой, которая висела на стене свиридовского кабинета: весенняя дымка в нежных лазурно-салатовых тонах, плывущий над широкой рекою, точно облако, древний храм. Именно с этой картиной и записанной на самой пластинке Юрловской капеллой свиридовской музыкой у меня связаны самые сильные воспоминания детства и юности, когда сквозь закостенелые лозунги пионерско-комсомольской жизни передо мною постепенно, шаг за шагом, начинал проступать образ истинной, исконной, древней, родной Руси с ее завораживающим всепоглощающим духовным пространством…
Слегка потрескивает старый винил. И снова я слышу одинокий, тоскующий женский голос, парящий в бесконечной вышине над бескрайними земными просторами: голос Богоматери, с великим состраданием взирающей с небесных высот на Богооставленное человечество. «Любовь Святая». Во все времена во имя Любви, во имя жизни люди шли на страдание и смерть. Во имя Любви принял крестную смерть Сам Спаситель, и Россия вослед за Христом повторила его путь. Голос, поющий «Любовь Святую», стал символом всей русской судьбы, русской истории, всего её трагизма и величия, в нём — вся боль осиротевших русских матерей, в нём — смысл бытия России — страдания за Любовь. И голос этот принадлежит скромному человеку, с давних пор работающему в капелле, замечательной артистке — Валерии Андреевне Голубевой. Её пением восхищался сам Георгий Васильевич. О, сколько сил, нервов и времени пришлось потратить, чтобы отыскать именно тот единственный, ускользающий образ! Как долго и мучительно выбирал Свиридов, прослушивая и пробуя на это соло по всему Советскому Союзу многих, подчас очень именитых исполнителей. Как настойчиво добивался он того единственного, лишь ему слышимого звучания. «Сначала мы, претенденты на это соло, исполняли его по всем правилам вокального искусства, — вспоминает заслуженная артистка России Валерия Голубева, — пели так, как если бы исполняли музыку любого другого композитора. Но Свиридова это не удовлетворяло. Он добивался бесплотного, ангелоподобного пения, предельно наполненного духовным содержанием. Объяснял: „Это должно быть как голос с небес“». (Вроде бы самое примитивное толкование, однако главное здесь, что тот, кто это произносит, действительно слышал бы этот небесный голос, только тогда и будет он способен передать свое слышание исполнителю.) А как был счастлив Свиридов, когда наконец, после упорных поисков и репетиций, нашлось то единственное воплощение его идеального звучания. «Он посадил нас, артистов, после репетиции в свою машину, — продолжает Валерия Андреевна, — и всё возбуждённо твердил: „Мы запишем с Вами золотую пластинку, золотую!!“ Мы тоже были счастливы: угодить Георгию Васильевичу было делом непростым. „Кстати, куда вам ехать? Я могу подвезти“. И, конечно, все мы дружно соврали, что нам в сторону Тишинки (там, где он жил), потому что всем хотелось хоть ещё немного побыть вместе со Свиридовым». А после триумфального концерта в Ленинграде маэстро просто влюбился в свою исполнительницу. Шутил: «Вот только зубы вставлю, я Вам ещё такое скажу!».
Записывали ту самую «золотую пластинку» в Большом зале Московской консерватории. Опять долго искали — теперь необходимого расположения микрофонов: по правилам звукозаписи, микрофон должен находиться непосредственно перед исполнителем, но в этом случае звук голоса получался бы слишком приземленным, пришлось искать особое положение звукоснимателя, подвешивая его к потолку и т. д. Кроме того, чтобы избежать нежелательного скрипа половиц во время записи, пришлось солистке даже разуться и подстелить под ноги мягкое полотно. В итоге было зафиксировано непревзойдённое до сих пор исполнение всех основных произведений Свиридова, такое, каким он сам его слышал и какого он добивался, а сама эта пластинка является одним из вершинных достижений русского хорового искусства. На всю запись ушло только четыре смены. И если в начале работы, после первого дубля, через динамик из режиссёрской аппаратной мог вдруг раздаться характерный хриплый голос: «Кошмар-р-р! Хора нет! Ничего не слышно! Всё разрушено!!», то в конце сеанса — удовлетворённое гудение: «Гениа-ально! Спасибо вам, друзья мои! Капелла — гениальнейший хор в мире!»
Когда в поисках музыкального решения спектакля «Царь Федор Иоаннович» всё руководство и художественный совет Малого театра отправились на репетицию в капеллу, то Юрлов предложил им большое количество выдающейся русской хоровой музыки, начиная от самых древних образцов, но все пришли к единому мнению, что лучше духовных хоров Свиридова ничего нет, именно их и отобрали для спектакля (нужно вспомнить, что это было в те годы, когда вся отечественная духовная музыка находилась под запретом). Когда решение уже было принято и почтенная комиссия собиралась расходиться, к уставшим музыкантам подошёл постановщик спектакля Борис Равенских и, растроганный, попросил ещё раз исполнить «Любовь Святую»: «Спойте, пожалуйста, ещё раз, теперь уже для души!».
Движется, слегка покачиваясь, вертушка старинного (сейчас уже можно так сказать) музыкального проигрывателя. Снова доносятся до меня могучие звуковые перекаты Юрловской капеллы, поражающие мгновенной сменой эмоциональных состояний: от почти неслышимого унисона до потрясающего вселенского фортиссимо. Как-то Юрлов, совершенно потрясённый общением со Свиридовым, с гордостью признался: «именно он научил меня всему в музыке и хоровом деле». Действительно, Свиридов имел колоссальное воздействие на становление всех крупнейших личностей русского национального искусства второй половины ХХ столетия, таких как Минин, Чернушенко, Ведерников, Образцова, Нестеренко, Архипова, Пьявко и многих, многих других.
Розалия Константиновна Перегудова часто посещала семью Свиридовых. Какие незабываемые впечатления остались у неё! Каких только людей она там не встречала! Без преувеличения, весь цвет русской интеллигенции перебывал у него в гостях. До самого последнего времени, когда Эльза Густавовна уже очень плохо себя чувствовала, Розалия Константиновна помогала по хозяйству, с продуктами Свиридовым, как и другие участники капеллы. (Позор тем функционерам от искусства, которые бросили на старости лет на произвол судьбы величайшего русского гения!) Свиридов, со свойственной ему манерой давать своим друзьям прозвища, переделывая их имена или фамилии на иностранный манер, ласково и шутливо называл Розалию Константиновну «Розита». «Большое напряжение было работать с ним, — вспоминает она, — но после его занятий хор преображался!» (Это даже в сравнении с работой великого Юрлова! — А. В.) Он рисовал конкретный, зримый, осязаемый образ и заставлял петь только тогда, когда представляешь этот образ перед собой, когда находишься в его власти. Если исполнитель не чувствовал образа, а просто грамотно исполнял музыкальный текст, то получался уже совсем не Свиридов. «Это не моя музыка!» — резко заявлял он тогда. Порой нам, артистам, казалось, что его придиркам не будет конца. Однако в результате оказывалось, что всё вроде бы то же самое, но появляется что-то невыразимое ещё и сверх того, и ради этого сверх он готов был часами биться, не щадя ни себя, ни других.
Иногда бывало, что он останавливал репетицию уже выученной вещи и начинал озабоченным, глухим голосом, как бы извиняясь, глухо бормотать: «Я здесь что-то сам не доделал, мне нужно забрать эту вещь и еще подумать…» Это означало, что его внутренний слух уловил какие-то новые звуковые горизонты и он уже не в силах преодолеть властного к ним стремления. И у артистов забирались ноты, и произведение уносилось обратно в творческую лабораторию, порой уже навсегда. Так случилось с замечательной кантатой «Четыре русские народные песни», где была дивная, с щемящей русской грустью, песня «Сронила колечко». Капелла уже почти довела до стадии концертного выступления это произведение. Но внезапно Свиридову стало казаться, что он что-то «неправильно сочинил», хотя звучало всё прекрасно, и он навсегда унёс свой шедевр на доработку, несмотря на страстные уговоры и желание исполнителей спеть эту потрясающую вещь.
Как говаривал Александр Александрович Юрлов: «У Свиридова дома есть о-огромный сундук, а там — сокровища: масса неведомого музыкального материала. Он пороется в нем, пороется, да и извлечёт что-нибудь эдакое, от чего дух захватывает. Но тебе должно ещё о-очень повезти, чтобы Свиридов отдал эту вещь для разучивания, а то сыграет, споёт, ты уже загоришься весь, а он возьмет да и спрячет всё обратно, и… крышечка захлопнулась!» Ох, сколько ещё потрясающих тайн хранит этот легендарный свиридовский «сундучок»!
Учил Свиридов правильно составлять концертные программы: не любил разношёрстности, стремился к тематическому единству, как сейчас принято говорить, к концептуальности, не допускал исполнения отдельных, вырванных из цикла номеров. Работал с артистами почти уже до выхода на сцену, буквально по кусочкам, не пропуская ни одной даже самой мелкой детали. Невероятно, до умопомрачения волновался за успех исполняемых сочинений: «Вы в первом отделении поёте Рахманинова, так после его музыки меня уже точно не воспримут!» — горестно восклицал великий композитор, и как бывал счастлив, всегда встречал восторженный, горячий прием любой аудитории. (До сих пор не могут забыть капельцы, как вскочили со своих мест чопорные англичане после поистине грандиозного исполнения в Лондоне «Патетической», как долго, долго не отпускали потом артистов со сцены.)
Помню, как-то раз я показывал Свиридову одну из моих новых хоровых работ. «Хотите прямо сейчас позвоню в капеллу и попрошу, чтобы они Вас спели?» — внезапно и решительно спросил он. Хотя было ясно, что от таких предложений не отказываются, всё же мне представилось более правильным уклониться от него, поскольку я не чувствовал себя ещё творчески готовым к встрече со столь знаменитым коллективом.
Капелла имени Юрлова под руководством Станислава Гусева до сих пор, несмотря ни на какие препятствия современной жизни, продолжает хранить традицию исполнения свиридовской музыки. Дух великого композитора живёт в сердцах артистов этого замечательного коллектива. Поистине необъятной представляется тема совместного творчества Свиридова и Юрловской капеллы. Сохраняются композиторские ремарки в партитурах его произведений, отчёты о многочисленных концертных выступлениях и записях, ещё свежи многие интересные воспоминания о его работе и жизни. Надеемся, что пытливые исследователи нового поколения скоро обратятся к нашей недавней музыкальной истории, освещённой негасимым духовным светом одного из величайших гениев России — Георгия Свиридова.
Сергей Субботин Мои встречи с Георгием Свиридовым
15 декабря 1983 года я поздравил Георгия Васильевича с днем рождения по телеграфу, а 30-го получил от него поздравительную открытку такого содержания:
Дорогой Сергей Иванович, с Новым Годом!
Сердечный привет и самые добрые пожелания Вам и всем Вашим близким.
Часто вспоминаю Вас! Движется ли книга о Клюеве? Хотелось бы мне сочинить музыку на его слова, да увяз я в недоделанных работах. Болею.
Г. СвиридовКонечно, я немедленно отправил на Большую Грузинскую телеграфное поздравление. А 2 января нового, 1984-го, года, отвечая на вопрос Георгия Васильевича о Клюеве, написал ему подробное письмо-отчет о том, что мне удалось узнать нового о поэте за полгода, минувшие с нашей встречи (в частности, при работе в рукописном отделе Пушкинского Дома осенью минувшего, 1983-го, года). Сообщил также, что редколлегия журнала «Русская литература» приняла мою статью к печати.
11 января случай привел меня и моих друзей и близких на предпремьерное исполнение (Московским камерным хором под управлением Владимира Минина) хоровой симфонии-действа Валерия Гаврилина «Перезвоны». Это событие состоялось при организационной поддержке Общества охраны памятников истории и культуры в одном из вузов, расположенных на Ленинском проспекте (кажется, это было в одной из больших аудиторий Московского нефтяного института). В те же дни из печати вышел «День поэзии 1983» со стихами и прозой Клюева, в том числе с начальным разделом его великой поэмы «Погорельщина», появившимся тогда в советской печати впервые.
Одним из первых, кто получил от меня экземпляр альманаха, стал племянник Свиридова, с которым мы после 17 июля 1983 года виделись еще раз (уже в Ленинграде). В письме композитору от 2 января я вспоминал об этих встречах так: «В октябре я был в Ленинграде по „клюевским“ делам (без Александра Сергеевича Белоненко, организовавшего мне номер в гостинице и опекавшего меня в свободное от дел время, мне совершенно не удалось бы столь эффективно использовать отпущенные мне ситуацией 10 дней — я ему очень-очень благодарен)». Наверное, уже тогда я рассказал А. С., что наконец-то мне удалось с помощью друзей заполучить фотокопию полного текста «Погорельщины» из зарубежного клюевского двухтомника. Через месяц (16 ноября) А. С. написал мне: «Говорил о Вас с Гаврилиным. Он очень заинтересовался „Погорельщиной“. Нельзя ли у Вас попросить один экземпляр „для ограниченного пользования“?».
Выполняя это пожелание, я вложил в бандероль с «Днем поэзии» для А. С. фотокопию поэмы и попросил его дать мне адрес В. А. Гаврилина, чтобы я мог послать тому альманах непосредственно. Этот адрес был прислан мне Александром Сергеевичем в письме от 16 января и сопровожден такими словами: «…для Гаврилина имя Клюева много значит, чего я, откровенно, не подозревал».
17 января я решился позвонить Свиридову: очень уж хотелось поделиться с ним радостью, что Клюев напечатан. Оказалось, что Георгий Васильевич только что вышел из больницы. Мы проговорили минут пятнадцать. Вот запись этого разговора, которую я сделал сразу по его окончании.
После взаимных приветствий Свиридов сказал (вспомнив, очевидно, свое приглашение, сделанное при нашей летней встрече):
— Мне очень хотелось бы видеть вас с Владимиром Яковлевичем (Лазаревым) у себя. Но сейчас я был вне жизни полтора месяца, накопилось много дел, мешок писем, из которых примерно на двадцать я должен ответить. И сейчас я приехал в Москву хлопотать (как можно было понять из контекста — за кого-то). Но примерно через полмесяца надо бы повидаться. Я не хочу, чтобы это было в Москве. Увидимся у меня. Как нам лучше сговориться? Вы не болеете? И не будете ли вы или В. Я. в отъезде?
— Лучше всего так же, как в прошлый раз, — ответил я. — Пожалуйста, пришлите мне телеграмму, и мы приедем к назначенному времени. Уезжать никто из нас никуда не собирается.
— Хорошо, хорошо, — согласился Свиридов. Я сказал о выходе «Дня поэзии» с Клюевым.
— Замечательно! — воскликнул композитор. — Вы знаете, я тоже написал о Клюеве две-три странички. Один критик обратился ко мне с просьбой высказаться, и я написал. Но это только моя точка зрения…
— Думаете ли вы опубликовать это?
— Посоветуемся.
Затем речь зашла о публикации в альманахе неизвестных материалов В. А. Жуковского, подготовленных Лазаревым.
— Очень интересно! Я внимательно прочел предисловие В. Я. к книге Жуковского (М.: Современник, 1982). Оно мне очень понравилось, как и вся книга. Но у меня есть к В. Я. одна претензия — говоря о музыке на стихи Жуковского, он не упомянул Глинку. Но, наверное, это вышло в какой-то степени случайно.
— Мне говорили, — продолжил Свиридов, — что в «Дне поэзии» будет подборка из двадцати стихотворений поэта из Костромы, фамилию которого я забыл, но который лет десять тому назад прислал (почему-то мне) свой крохотный сборничек, вышедший в Костроме. Тогда они произвели на меня впечатление чего-то живого.
Я ответил, что, скорее всего, это стихи В. Лапшина, что подборка его действительно производит неплохое впечатление, но уровень остальных стихов всё же оставляет желать лучшего.
— Ну, хорошего всегда мало, — сказал Георгий Васильевич. — Вы знаете, что сегодня в Ленинграде премьера большой вещи Гаврилина, жалко, что я не смог поехать…
— А я был на ее московской премьере, — откликнулся я.
— Как так? — Свиридов очень удивился.
Я рассказал о «прогоне» «Перезвонов» в Нефтяном институте и об очень сильном эмоциональном отклике, который вызвала эта вещь не только у меня и моих близких, но и у всех тех, кто был там в этот вечер:
— Один из моих приятелей, человек, вообще от такой музыки далекий, по окончании сказал: «Я забыл, где я и кто я»…
— Мы возлагаем на Валерия Александровича большие надежды, — подчеркнул Свиридов и, как бы с кем-то полемизируя, заметил:
— Видите, всё-таки настоящее находит дорогу, нельзя всё мазать чёрной краской!
Разговор завершился такими словами Георгия Васильевича:
— Ваши письма читаю, надо повидаться обязательно. Передайте Владимиру Яковлевичу мой нежнейший привет.
22 января я отправил В. А. Гаврилину «Дни поэзии» 1981 и 1983 гг. с клюевскими сочинениями и сопроводительным письмом (его копию я себе не оставил, а теперь не могу вспомнить оттуда ни единого слова). Тогда же я узнал от Лазарева о полученном им письме Георгия Васильевича с высокой оценкой книги Жуковского, составленной В. Я.
Днем позже я послал Свиридову «День поэзии 1983» с вложением фотокопии полного текста «Погорельщины» и с письмом, которое заканчивалось так:
Ваши слова о музыке на стихи Н. А. <Клюева> — это луч надежды, что давняя моя мечта осуществится. Я много думал о музыке самого клюевского слога… И сейчас во мне окончательно окрепла мысль, что подлинно и совершенно воплотить поэзию зрелого Клюева в музыке сможете только Вы, его — что немаловажно! — младший современник, очень близкий ему по духу, так же, как и Н. А., органически связанный с Русским началом искусства. Ваша музыка на стихи Есенина имела колоссальное значение для возвращения есенинской поэзии в народное сознание, где до того она настойчиво подменялась «-щиной». Но ведь творчество Николая Алексеевича в широком обиходе до сих пор «украшено» тем же ярлыком, даже таким: «-ЩИНА» (аршинными буквами). Я просто убежден, что слово Н. А., получившее новую жизнь в Вашей музыке, сыграло бы великую роль в возвращении его словесного искусства в русское сознание, — возвращении, настоятельно необходимом.
И я от всей души желаю Вам по-настоящему доброго здоровья, так необходимого для осуществления всего того, что связано с Вашим великим Делом, которое — конечно же — есть вечно живая часть нашего общего Русского Дела.
29 января мне пришло почтовое уведомление, что «клюевская» бандероль достигла Большой Грузинской. 6 февраля я позвонил туда. Трубку взяла Эльза Густавовна. Георгия Васильевича в тот день дома не было. Я спросил о его самочувствии.
— После выхода из больницы, тьфу-тьфу, всё превосходно, — ответила Э. Г. и предложила мне позвонить на следующий день, когда Георгий Васильевич будет в Москве.
Так я и сделал 7 февраля во второй половине дня.
Однако сам Свиридов, говоря о своем состоянии, был гораздо менее оптимистичен, чем его жена:
— Я вышел из формы, очень трудно в нее входить, масса накопившихся дел, так что встреча с Владимиром Яковлевичем и с вами пока откладывается — до лучших времен… Тогда я вас извещу.
И тут же обратился к общей для нас теме:
— Я написал пять страничек — портрет Клюева, как я его вижу. Там у меня были дебаты с одним (кто был этот «один», выяснится спустя несколько месяцев, но об этом — попозже. — С. С.), и я написал…
— Хотелось бы прочитать, — робко сказал я.
— Когда-нибудь обязательно покажу.
Разговор коснулся «Дня поэзии 1983», и прозвучала реплика:
— Там есть живые стихи, есть-есть…
Но больше внимания было уделено не самому альманаху, а недоброжелательной рецензии Юлии Друниной на него в «Правде» (от 29 января). Свиридов расценил ее как эпизод во внутригрупповой борьбе:
— Это — групповщина… А сама Друнина как поэт — так себе.
Сообщив мне, что официальная московская премьера гаврилинских «Перезвонов» предстоит 12 февраля, Георгий Васильевич заметил:
— Я очень хочу там быть. Мне все говорят, что это превосходная вещь. Я слышал только часть ее. Она исполнялась год назад, и я написал о ней первую рецензию в «Известия».
Теперь я отыскал в библиотеке номер «Известий» с материалом, о котором упомянул тогда композитор. И выяснилось, что этот текст можно отнести к жанру рецензии лишь с изрядной долей условности. Свиридовский отклик на «Перезвоны» оказался составной частью его интервью под редакционным заголовком «Музыка революции» («Известия», московский вечерний выпуск, 1 декабря 1982 г.).
На вопрос корреспондента газеты о «художественных впечатлениях» Свиридова последнего времени он ответил так:
«…произведение, о котором я хотел бы сказать, — хоровой концерт ленинградца Валерия Гаврилина „Перезвоны“, с большим успехом исполненный Московским камерным хором под руководством В. Минина. Редкий талант этого композитора мы знаем уже давно, а новое сочинение позволяет говорить о нем как о зрелом, сложившемся мастере. Музыка Гаврилина вся, от первой до последней ноты, напоена русским мелосом, чистота ее стиля поразительна. Органическое, сыновнее чувство Родины — драгоценное свойство этой музыки — ее сердцевина. Из песен и хоров Гаврилина встает вольная, перезвонная Русь. Но это совсем не любование экзотикой и архаикой, не музыкальное „штукарство“ на раритетах древнего искусства. Это — подлинно. Это написано кровью сердца. Живая, современная музыка, глубоко народного склада и самое главное — современного мироощущения, рожденного здесь, на наших просторах».
Эти поразительно точные и емкие суждения о глубинной сущности гаврилинского мелоса Свиридов отдал в печать задолго до того, как «Перезвоны» прозвучали полностью. И неудивительно, что теперь он с таким нетерпением ожидал момента, когда это произведение наконец-то можно будет услышать целиком…
Вечером 12 февраля Большой зал консерватории был переполнен. Георгий Васильевич пришел на премьеру вместе с Эльзой Густавовной.
Перед началом концерта я подошел к ним, поздоровался и обратился к Свиридову:
— Я рад видеть вас в добром здравии.
Он очень тепло ответил мне и представил Отару Васильевичу Тактакишвили, сидевшему с ним рядом.
Как и в Нефтяном институте, «Перезвоны» произвели на публику — на этот раз по-настоящему музыкально искушенную — исключительно сильное впечатление. Произведение имело выдающийся успех. Стали вызывать автора, и на сцену вышел молодо выглядящий скромный человек в очках, который стеснительно и как-то бочком стал кланяться залу. И очень мало кто из сидящих там в тот вечер знал, каких усилий стоило Гаврилину, мужественно преодолев свою болезнь, всё-таки приехать из Ленинграда, чтобы услышать свои «Перезвоны» с первой филармонической сцены страны…
Аплодисменты и вызовы кончились, публика стала расходиться, и в суматохе раздевалки я неожиданно оказался недалеко от Валерия Александровича. Приблизившись к нему, я назвался и поздравил с большим успехом «Перезвонов». В ответ Гаврилин сказал несколько добрых слов о полученных им от меня «Днях поэзии» и представил мне Андрея Андреевича Золотова, который стоял рядом, со словами:
— Это наш Стасов.
Но тут же композитора вовлекли в разговор какие-то давние его знакомые, и я отошел в сторону.
Этой нашей мимолетной встрече с Гаврилиным так и суждено было остаться единственной…
* * *
Вечером 27 февраля Большой зал, как и за полмесяца до того, был осажден жаждущими попасть на хоровой концерт — «лишний билетик» спрашивали уже на далеких подходах к консерватории. В программе вечера были духовные сочинения Рахманинова (фрагменты из «Всенощной» и «Литургии Иоанна Златоуста») и «Пушкинский венок» Свиридова в исполнении Республиканской русской академической хоровой капеллы им. А. А. Юрлова под управлением Станислава Гусева.
А через два дня, 1 марта, хор Минина представил в Большом зале два премьерных сочинения коллег Свиридова по композиторскому «цеху» — впервые в Москве исполнялись «Концерт для солистки, хора, флейты и арфы» Владимира Рубина и цикл для сопрано, хора и ударных «Зимние пейзажи» Романа Леденёва с солисткой Натальей Герасимовой. В программе концерта была также и свиридовская хоровая поэма «Ладога».
На этот раз по моему приглашению вместе со мной пришел на концерт М. П. Иванов-Радкевич — художник, чьи воспоминания о Клюеве я пересказывал Свиридову несколькими месяцами ранее. Уже шла речь о том, что и отец, и родной брат Михаила Павловича были композиторами-профессионалами. Да и сам он был человеком разносторонних дарований, в том числе и музыкальных.
В одном из наших разговоров с М. П., который состоялся уже после моей встречи со Свиридовым в Ново-Дарьине, художник вновь вернулся к мысли, которую он не раз высказывал и до этого (опираясь на полное отсутствие пейзажа в Библии), — мысли о том, что евреи не имеют своего живописного языка. Вспомнив аналогичное суждение Георгия Васильевича об отсутствии у этой нации собственного музыкального языка, я рассказал об этом Михаилу Павловичу.
— Так, значит, он русский? — воскликнул художник. — А я слушаю его музыку и думаю: как же это еврею удалось проникнуть в русский мелос?..
Словом, желание М. П. послушать «живую» музыку Свиридова (и увидеть композитора воочию) было не случайно. Впрочем, прозвучавшие в тот вечер произведения других авторов тоже пришлись ему по сердцу — ему очень понравились не только «Ладога», но и «Концерт» В. И. Рубина.
21 марта под патронажем Лазарева в московской библиотеке им. В. А. Жуковского (Лялин переулок) прошел первый вечер памяти Клюева в связи с его грядущим столетним юбилеем. Среди участников вечера был и Михаил Павлович, поделившийся своими воспоминаниями о поэте. Кроме того, впервые в Москве прозвучали тогда песни и романсы на слова Клюева, автором которых был ленинградский музыкант и композитор Виктор Иванович Панченко. В те годы В. И. уже начал свой (ныне уже многодесятилетний) неустанный творческий труд по воплощению клюевского поэтического слова в музыке — воплощению, уникальному по своей искренности и проникновенности…
Буквально через несколько дней после клюевского вечера вышел в свет третий номер петрозаводского журнала «Север» за 1984 год. Там, через 65 лет после появления в газете «Звезда Вытегры» 1919 года, были перепечатаны стихи поэта, не известные даже самым внимательным читателям его книг. А одно из стихотворений Клюева («Ураганы впряглися в соху…»), включенных в подборку «Севера», вообще появилось в печати впервые. Под публикацией значились две фамилии — А. К. Грунтова и моя.
16 апреля я отправил на Большую Грузинскую бандероль с экземпляром журнала и одновременно написал композитору письмо. В нем я кратко сообщил о составе участников вечера 21 марта, о его содержании и о том, что в газете «Книжное обозрение» удалось поместить информацию о прошедшем событии.
Обрадованный (и, можно даже сказать, опьяненный) успехом первого клюевского вечера и удачей с журнальной публикацией его произведений, я — что совершенно очевидно — был в тот момент просто не в состоянии логически рассудить, кому всё-таки я пишу. Будь иначе, я никогда бы не закончил свое письмо Свиридову так, как это получилось:
Теперь я думаю об организации клюевского вечера для более широкой аудитории. Такая возможность сейчас есть, но пока не в Москве, а там, где я живу. Наш город является научным центром АН СССР, при котором есть, как и в Москве, Дом ученых с залом по числу мест примерно как Малый зал консерватории. Договоренность с администрацией зала уже есть. Проведение вечера предполагается между 20 и 30 мая…
Георгий Васильевич, дорогой, разрешите пригласить Вас с Эльзой Густавовной на этот вечер. Ведь Вы познали суть личности и творчества Н. А. <Клюева>, его глубину и масштаб, как никто. И потому-то, как думается мне, Ваше присутствие в дни памяти Н. А. среди подлинных друзей и ценителей его поэзии — а именно такие люди соберутся в мае — будет для памяти Н. А. неоценимым даром.
Буду рад узнать, что Вы обо всем этом думаете. От души желаю Вам доброго здоровья. Поклон Эльзе Густавовне.
Владимир Яковлевич передает Вам свой сердечный привет.
И всё же — при абсолютно ясной на трезвый взгляд нереальности (а можно сказать и жёстче: бесцеремонности) моего предложения — оно, по-видимому, так или иначе повлияло на решение Георгия Васильевича больше нашу встречу не откладывать…
* * *
Вскоре он дал знать (не припомню теперь, каким образом), что ждет нас с Лазаревым у себя на даче 29 апреля.
Как встретил нас Свиридов, не помню. И вообще, понадеявшись на своего спутника (для которого этот визит был, как-никак, первой личной встречей с великим человеком, то есть, по моему разумению, событием совсем не рядовым), я не сделал потом, по горячим следам, никаких записей о содержании нашей беседы. Я не сомневался тогда (и нимало не сомневаюсь теперь), что Владимир Яковлевич может описать эту встречу так, как мне никогда не сделать. Но ныне у меня всё чаще и чаще возникает вопрос: найдется ли у него время для этого — в его теперешней жизни на тихоокеанском побережье американского штата Калифорния?..
Корю себя за допущенную беспечность; понимаю, что очень ошибся. Сейчас же мне остается лишь одно — рассказывать о том очень и очень немногом, что удержалось в памяти.
В Ново-Дарьино я взял с собой переносной магнитофон и кассету с записью песен В. И. Панченко на слова Клюева в исполнении самого композитора. Мне хотелось познакомить Георгия Васильевича с этими сочинениями и узнать его мнение о них.
Помню реплику Свиридова в начале разговора, что «для музыки на Клюева скрипочка не годится…» Я стал говорить о вечере в библиотеке имени Жуковского, о песнях на клюевские слова, там исполненных. Сказал, что хотел бы показать их и здесь.
Свиридов решительно протянул руку. В первое мгновение я не понял этого жеста. Но тут же до меня дошло, что он требует ноты. Их у меня не было, и я попросил позволения включить магнитофон.
Прозвучали две «клюевские» песни В. И. Панченко: «Отвергнув мир, врагов простя…» и «Вы деньки мои, голуби белые…». Когда пение автора окончилось, Свиридов сдержанно произнес:
— Это будет нравиться публике…
Затем начался общий разговор, постепенно переросший в диалог Свиридова и Лазарева. Из этой беседы я запомнил очень мало.
Так, В. Я. упомянул, что был в консерватории на исполнении «Перезвонов» Гаврилина. Георгий Васильевич, видимо, вспомнив, что я подходил к нему в тот вечер один, спросил собеседника:
— А почему же вы не подошли?
Другого памятного момента я уже касался — именно тогда я услышал из уст композитора, что адресатом записанных им размышлений о поэзии Клюева (о чем шла речь в нашей январской телефонной беседе) является В. В. Кожинов.
* * *
Октябрь был юбилейным месяцем для Клюева — день столетия со дня его рождения (22 октября) стремительно приближался. О связанных с этой датой мероприятиях, которые прошли в Вологде, Вытегре и Москве, когда-нибудь я расскажу в подробностях особо. Но о главном из них — вечере памяти поэта в Малом зале московского Центрального Дома литераторов — не упомянуть здесь невозможно.
Это событие состоялось как раз 22 октября. Главный его вдохновитель и организатор С. С. Лесневский сделал так, что мне довелось тогда говорить первым. По ходу своего выступления я привел слова Свиридова из его письма ко мне от 14 ноября 1980 г., посвященные Клюеву. Повторю их здесь еще раз:
Поэт он — несомненно, гениальный. Влияние оказал громадное, и на Блока, и на Есенина… Как прискорбно, что имя его покрыто до сих пор глубокой тенью. Место его в Русской литературе — рядом с крупнейшими поэтами XX века.
Среди тех, для кого удалось тогда получить пригласительные билеты в Малый зал ЦДЛ, был и А. С. Белоненко.
Вернувшись домой, в Ленинград, он отправил мне 6 ноября письмо, в котором поделился размышлениями о прошедшем вечере:
Дорогой Сергей Иванович! Я вынужден был спешно удрать в конце конференции, боясь опоздать на поезд, так и не успев Вас поблагодарить.
Вечер до сих пор в моей памяти. Впечатления от него — разные и даже взаимоисключающие. Как бы то ни было, хорошо, что он состоялся. Там было много хорошего, много слов от сердца, замечательные воспоминания (особенно <Н. А.> Минха). Были слова умные, а были и весьма неумные и просто бездушные.
Вы выступали хорошо, времени было у Вас мало, начали Вы эпически, и по интонации Вашей я почувствовал, что Вы только начинали набирать высоту, только шли к горе, а Вас оборвали на полуслове.
Запомнилась мне одна последняя фраза из выступления <Г. С.> Клычкова о том, что Клюев, Есенин и его отец — были поэтами честными и все их слова — абсолютно чистые. Во многих выступлениях наших присяжных от литературы не хватало чистоты. От многих исходил запах казенного дома… И уж когда под занавес кто-то из них во весь голос заявил, что Клюева мы будем поверять Маяковским, тут мне стало не по себе. Мне как-то и Клюева самого стало очень жаль, и Вас, Ваш бескорыстный энтузиазм и любовь, и слова Георгия Васильевича, переданные Вами, показались мне какими-то совсем нелепыми в этом собрании… Быть может, я всё преувеличиваю, не всё понимаю и не так, но отделаться от этого осадка, от этой горечи не могу… Долго еще, очень долго Клюеву придется ждать, когда его признают пророком в своем отечестве. Не исключено, что и не признают совсем. Вот его духовный отец — Аввакум ждал почти 300 лет. Да и сохранился-то в памяти общества, потому как народ хранил о нем память, переписывал старательно его письма, сочинения. Впрочем, то, что такой вечер состоялся — это уже хорошо, значит, что, хоть и подспудно, хоть из-под железобетона, пробивается живая водица клюевского слова.
Еще раз огромное Вам спасибо за вечер. Он заставил меня задуматься о многом, в том числе и о моем герое — Г. В. Свиридове, судьбе его музыки. Она — с тех же полей, что и клюевское слово.
* * *
Тогдашнее общение Георгия Васильевича с внешним немузыкальным миром было вообще сведено к минимуму. И всё же иногда мы беседовали с ним в то время по телефону. Я, по слабеющей памяти своей, совершенно забыл об этом. И, конечно, так никогда бы и не вспомнил, если бы, перебирая старые письма уже в текущем, 2004-м, году, на конверте одного из них не наткнулся на собственную помету:
В день получения этого письма (20. 04. 85) — телефонный разговор с Г. В. Свиридовым (часть письма прочитана мною ему по телефону).
Письмо, о котором идет речь, действительно стоило того, чтобы донести его содержание до Свиридова. Его автором был уроженец Вятской губернии В. Ф. Кропанев, в 1935–1936 годах девятилетним мальчиком живший бок о бок со ссыльным поэтом в той самой томской «избе № 12», о которой Георгий Васильевич уже слышал от меня в июле 1983 года… Прочитав в «Литературной газете» информацию о вечере памяти Клюева в ЦДЛ, Кропанев написал туда письмо. Из газеты его переслали мне, и я обратился к автору с расспросами об их тогдашней жизни в Томске. Читанное мною Свиридову письмо Кропанева как раз и было ответом на мое обращение. Мемуарист описывал облик Клюева, рассказывал, как тот вел себя с окружающими, вспоминал подробности быта «избы № 12»… Письмо заканчивалось так:
Сейчас, Сергей Иванович, о самом главном, может, вы это даже не знаете. Вы спрашиваете, не лежал ли в больнице, не ездил ли куда, словом, не отлучался ли куда-нибудь из дома Н. А. Клюев. Нет, никуда он не отлучался. Его арестовали, приехали ночью и увезли, как и многих других в то время. Мать видела, как это происходило, да и сквозь заборку всё было слышно. Было это зимой, месяц она не помнит. (Через несколько лет по делу Клюева из архива Томского НКВД, открывшемуся для исследователей, будет установлено, что этот арест произошел в марте 1936 года. — С. С.)
Больше он не вернулся. Потом хозяева в его комнату пустили новых квартирантов…
Скорее всего, именно это сообщение В. Ф. Кропанева я и прочитал Свиридову в нашей телефонной беседе.
* * *
В октябре 1985 года, в связи с предстоящей поездкой в Вытегру для проведения там первых Клюевских чтений, я приехал в Ленинград заранее, чтобы перед отъездом в родные места поэта успеть поработать в архивах с его материалами.
Встретившись с А. С. Белоненко, я получил приглашение побывать у него на квартире и 18 октября пришел в дом № 22 по Дровяному переулку.
Во время беседы А. С. дал мне прочесть машинописную копию письма Свиридова о Клюеве, адресованного В. В. Кожинову. С первых же строк я понял, что передо мною — тот самый «портрет Клюева» в свиридовском видении, о котором я узнал от самого композитора еще в январе 1984 года…
Извинившись, А. С. сказал, что выйдет купить что-нибудь к чаю, и оставил меня одного.
И тут я должен повиниться перед Александром Сергеевичем. Не удержавшись, я без его разрешения стал конспектировать письмо Свиридова на узеньких бумажных обрезках, подвернувшихся под руку.
И пусть меня простят (или не простят), но теперь я не в силах умалчивать об этом конспекте.
Георгий Васильевич начал свое письмо с того, что слова А. Блока о клюевской поэзии («…нельзя лететь», очевидно, процитированные Кожиновым в их разговоре о Клюеве) ему известны, «но „лететь“ совершенно необязательно ни для поэзии, ни для искусства вообще» (точная цитата).
Затем шла речь о движении как основе немецкого искусства (чтимого Г. В. почти так же, как и русское). После ремарки: «Не то у других народов. Будда статичен» — Свиридов писал о статике в жизни русского крестьянина и в русском искусстве (архитектура — «парение» храма Покрова-на-Нерли и необычайная мощь Новгородской Софии; ангелы на иконах не летят, а парят; статична «Троица» Рублёва).
Земля для русского человека, — продолжал Г. В., — это не земля Галилея и Коперника, суетливо вращающаяся как волчок, нет, для русского Земля покоится на трёх китах. Клюев — поэт Земли, покоящейся на трёх китах. И это близко мне, «греет душу».
Далее характеризовалось клюевское творчество:
Это совсем не лирика! Это поэзия мистической, тайной сути вещей, духовная по преимуществу. Стихи — тяжелы, но это тяжесть золотого потира (а не железного болта), тяжесть парчи, а не легкость небесного «серенького ситца», тяжесть риз, венца: царского или тернового…
Перечислив затем ряд русских поэтов, вышедших из народных глубин (Кольцов, Никитин, Суриков, Дрожжин, Есенин, Орешин, Тряпкин), композитор резюмировал:
Всем этим поэтам несомненно свойственно чувство Родины, иногда даже глубокое. Но ни у кого из них, однако, не было чувства самой Земли (даже у Есенина). Оно было дано лишь Клюеву, и это делает его совершенно особой и весьма внушительной фигурой в русской поэзии, значение которой еще абсолютно не понято. Также, впрочем, не раскрыт еще и Есенин, повернутый к нам пока, как луна, лишь одной своей стороной. Но это, верно, — дело будущего.
Воздействие Клюева — весьма велико, и, что самое главное, оно ощущается у крупных поэтов.
За примеры такого воздействия были взяты А. Блок (не только его статьи, но и стихи — «Задебренные лесом кручи…»), Есенин, Заболоцкий (по словам Свиридова, в «Торжестве земледелия» сочеталось влияние Клюева и Хлебникова), Павел Васильев.
Заключительный абзац свиридовского «портрета Клюева» гласил:
Если представить себе из будущего нашу Россию как целое, как дух и культуру, то ее поэзию (одно из драгоценных слагаемых этой культуры) нельзя будет вообразить себе без Н. А. Клюева. Она не будет полна!
В момент, когда я торопливо водил карандашом по бумаге, переписывая эти драгоценные (по крайней мере, для меня) строки, раздался телефонный звонок. Я, естественно, не отреагировал. Но спустя несколько минут звонок повторился вновь.
Подумав, что это может быть какое-то срочное сообщение для А. С., я решился взять трубку.
На мое «Алло!» последовало властное и повелительное:
— Кто это?!
В первое мгновение мне захотелось ответить в столь же жестком тоне. Но я (слава Богу!) удержался, вспомнив, где нахожусь (и чем занимаюсь), и назвался. В ответ прозвучало удивленное:
— Сергей Иванович! Как вы здесь?
И тут я узнал этот голос — голос Свиридова…
Я объяснил Георгию Васильевичу, что я делаю в Ленинграде, где сейчас А. С., а он ответил, что позвонит еще раз попозже. И почти сразу же по возвращении А. С. домой телефон зазвонил опять: разговор Свиридова с племянником наконец-то состоялся.
В тот же день, 18 октября (о чем мне станет известно вскоре, по приезде в родные места поэта), в вытегорской районной газете «Красное знамя» вышла в свет уже вторая часть моей статьи «Сибирские письма Николая Клюева». Статья эта стала первой обзорной публикацией тех самых писем Клюева из сибирской ссылки, которые я читал (двумя годами ранее) композитору у него на даче.
Домой из поездки я вернулся в конце октября, имея в багаже несколько комплектов из четырех номеров «Красного знамени» со своей статьей. В начале ноября я отправил эти газеты и Свиридову, и его племяннику. В те дни, в канун своего 70-летия, Георгию Васильевичу, конечно, было не до переписки… Ответное письмо А. С. Белоненко пришло ко мне тоже не сразу — я получил его (с датой: 23.12.85) лишь в самый канун Нового, 1986-го, года:
Так получилось, что Ваше письмо пришло в самый «кризисный» момент подготовки сборника, посвященного 70-летию Г. В. Свиридова, к обсуждению на секторе моего института (теперь бывшего). Я выдержал тяжелый бой в полном одиночестве, без всякой поддержки. На «похвалы» и «оценки» не скупились. Так, статью В. А. Гаврилина (она выйдет в сокращенном виде в № 12 «Советской музыки») без смущения и без всяких доводов назвали «хулиганской». «Шовинизм», «религиозная пропаганда» и пр. милые определения так и сыпались как из рога изобилия. В ультимативной форме потребовали убрать статью Гаврилина. Конечно, я отказался. И в самый напряженный момент произошло давно мною ожидавшееся событие. Ректор консерватории Чернушенко наконец пригласил меня возглавить кафедру истории русской и советской музыки. Тут уж выражению злобы у моих бывших коллег не было пределов! <…>
Бой вокруг моего сборника носил отнюдь не частный характер, за ним просматривается более глубокая и хорошо Вам понятная конфронтация сил. Имя Свиридова сегодня — в своем роде знамя в музыкальном движении, и, как вы догадываетесь, есть много людей, которые стоят под иными знаменами по ту сторону баррикад. Идет борьба, и я вступил в нее теперь уже в качестве рядового бойца, а не стороннего, сочувствующего наблюдателя. Вот почему я не мог Вам ответить сразу.
Письмо сопровождалось припиской: «Прошу Вас, о сборнике — ни полслова Г. В. Свиридову. Он об этом ничего не знает».
* * *
2 января 1986 года я ответил А. С. Белоненко, приложив к письму новую клюевскую публикацию — незадолго до этого она появилась в 43-м номере альманаха «Поэзия», выпускавшегося издательством «Молодая гвардия». Благодаря главному редактору издания поэту Николаю Старшинову там были напечатаны пять стихотворений Клюева разных лет, неизвестных в России, с моим вступлением.
В тот же день я отправил другой экземпляр альманаха Свиридову. В сопроводительном письме шла речь (правда, помнится мне об этом не вполне отчетливо) о моих исключительно сильных впечатлениях от первых двух концертов юбилейного филармонического абонемента № 10 «Георгий Свиридов». Оба они состоялись в присутствии автора в Большом зале консерватории 25 и 29 декабря 1985 года. Провел их Евгений Светланов с Государственным симфоническим оркестром СССР. Из симфонических сочинений композитора в первом из концертов исполнялись «Маленький триптих для оркестра» и «Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина „Метель“», а во втором — сюита «Время, вперед!». Центральное место в программах концертов заняли произведения для хора и оркестра: «Поэма памяти Сергея Есенина» (25 декабря; Республиканская академическая русская хоровая капелла имени А. А. Юрлова, солист А. Масленников), «Снег идет», «Весенняя кантата» на слова Н. А. Некрасова, «Курские песни» и «Патетическая оратория» (29 декабря, с участием четырех хоров: Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Московского и Новосибирского камерных хоров и капеллы мальчиков при Московском хоровом обществе; солисты И. Архипова и Е. Нестеренко).
Вскоре мне пришло из Москвы заказное письмо с почтовым штемпелем отправления на конверте — 14.01.86. На вложенной в него новогодней открытке было написано:
Дорогой Сергей Иванович, получил книжку альманаха «Поэзия» с Вашей прекрасной статьёй и подборкой стихов Н. А. Клюева. Большая Вам благодарность! Как приятно видеть, что эхо Клюева стало откликаться в нашей жизни — то здесь, то там! Н. К. Старшинов — хороший, благородный человек и высокопорядочный, с ним, как я понимаю, можно иметь дело. Он понимает его! Важно Вам не прекращать своей исследовательской и изыскательской работы, она имеет огромный смысл для нашей культуры. Желаю Вам успеха и бодрых сил! Я — здорово устал — дел — по горло! Много есть хорошего, но есть и гадости, о них писать не буду. Привет и поздравление с праздником Святого Рождества, с Новым (старым) Годом! Г. Свиридов.
<Приписка над текстом письма:> Кланяется Вам — моя жена!
23 февраля 1986 года в концертном зале Института им. Гнесиных в честь свиридовского юбилея состоялся вечер его музыки, подготовленный силами педагогов и учащихся музыкального училища им. Октябрьской революции (ныне Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке). Впервые услышал я тогда части сюиты из музыки к кинофильму «Время, вперед!» и фрагменты из «Метели» в переложении для оркестра народных инструментов. Не скажу, чтобы от этого осталось впечатление такой же яркости и силы, которое неизменно возникало, когда эти произведения шли в оригинальном — симфоническом — звучании… Остановил внимание лишь «Романс» из «Метели», да и то потому лишь, что был аранжирован как вокализ для сопрано под аккомпанемент оркестра.
Выступали и певцы-солисты с песнями композитора. Несколько вещей исполнил хор а капелла, в том числе миниатюру на слова А. С. Пушкина «Где наша роза?..», которую я до этого не слышал. И, конечно, прозвучали сочинения более крупной формы — «Курские песни», «Снег идет» и даже отрывки из «Патетической оратории».
Атмосфера — и на сцене, и среди слушателей — была исключительно теплая, приподнятая и торжественная. Исполнители выступали с неподдельным энтузиазмом.
Автор был в зале. После концерта он обратился к его участникам, педагогам училища и слушателям и от души поблагодарил за доставленную ему радость. По окончании, в небольшой раздевалке, мы оказались рядом. Свиридов очень удивился — очевидно, не ожидал увидеть меня здесь. Мы обменялись несколькими словами, и он направился к выходу. Я смотрел ему вслед. Почему-то до сих пор не могу без волнения вспоминать видавшую виды шапку-ушанку коричневого (в прошлом) цвета, которую надел Георгий Васильевич…
Через четыре дня (27 февраля) в Большом зале консерватории состоялся третий концерт абонемента № 10. На этот раз сочинения Свиридова пела капелла им. А. Юрлова под управлением С. Гусева. Открылся концерт хоровой поэмой «Ладога» на слова А. Прокофьева. Затем были исполнены два хора на слова Есенина («Ты запой мне ту песню» и «Душа грустит о небесах»). Завершилось первое отделение «Концертом памяти А. А. Юрлова».
А во втором отделении прозвучал «Пушкинский венок». Я впервые услышал тогда это удивительное произведение в исполнении одного хорового коллектива. До тех пор мне доводилось бывать лишь на концертах, где оно исполнялось двумя камерными хорами (хором Минина и Новосибирским хором Б. Певзнера) совместно. По моему дилетантскому ощущению, Юрловская капелла (большой хор с широким спектром голосов) представила «Венок» слушателям, что ли, монументальнее и величественнее, чем это позволяли возможности камерных хоров…
И так хотелось узнать, что же думает об этом исполнении сам автор, который внимательно слушал свою музыку, сидя, как всегда, в шестом ряду партера… Но что-то удержало меня, и я не подошел к нему.
* * *
15 ноября 1986 года в Большом зале консерватории состоялся последний, шестой концерт юбилейного свиридовского филармонического абонемента предыдущего сезона. Это было как раз сольное выступление Елены Образцовой. В ансамбле с В. Чачавой она спела девять песен композитора на слова Блока и поэму «Отчалившая Русь» на слова Есенина. В «бисах» прозвучала никогда до того не слышанная мною «блоковская» песня Свиридова «Русалка» (с первой строкой «Мой милый, будь смелым…»). Скорее всего, это было первое публичное исполнение произведения.
Побывать на этом концерте Свиридовы не смогли. А мы пришли в консерваторию вместе с В. Я. Лазаревым и его женой Ольгой Эдгаровной Тугановой. Был со мной и мой сын. Само собой, тогда никто из нас и ведать не ведал, что накануне Георгий Васильевич не только вспоминал о Лазареве и обо мне, но и адресовал нам свои теплые дарственные надписи…
16 декабря, в день рождения композитора, поздравляя его с этой датой, я отправил на Большую Грузинскую 9-й номер журнала «Север» с еще одной клюевской новинкой. Там была напечатана статья «„Эти гусли — глубь Онега…“ (Из поэзии Николая Клюева конца 20-х — начала 30-х годов)» с не публиковавшимися ранее произведениями поэта, в том числе с началом его монументального произведения «Песнь о великой матери», которое ранее считалось утраченным. Статья была написана мною совместно с Людмилой Климентьевной Швецовой, десятилетием ранее принимавшей участие в подготовке стихотворений Клюева для издания 1977 года в малой серии «Библиотеки поэта». Именно ей доверил тогда друг поэта — художник А. Н. Яр-Кравченко (он ушел из жизни в 1983 году) — начало сохранившейся у него великой клюевской поэмы.
26 декабря в мой адрес из Москвы было послано ответное письмо:
Дорогой Сергей Иванович, поздравляю Вас с Новым Годом, шлю самые добрые пожелания — от сердца! Получил «Книгу о Есенине», журнал «Север» — всё это прекрасно. Ваши публикации очень интересны и очень ценны. Не оставляйте своей работы, она так нужна! Я живу еще в медленном темпе, б<ольшей> частью за городом, в Москве почти не бываю. Сердечный Вам привет, жена — кланяется. С любовью — Г. Свиридов.
Передайте новогодний привет Л. Швецовой.
Я получил эти удивительно душевные строки 29 декабря и на следующий день отправил Георгию Васильевичу телеграмму со словами благодарности и поздравления с новогодием.
* * *
В 1990 году композитору исполнялось 75 лет. Прежде (в 1975 и 1985 гг.) его юбилеи отмечались широко, и свиридовская музыка не смолкала тогда в филармонических залах на протяжении всего концертного сезона. На этот же раз состоялся лишь один концерт. Молодая певица Нина Раутио посвятила юбилею Свиридова вечер его музыки, который прошел в Большом зале консерватории 24 октября 1990 г. В первом отделении были исполнены романсы и песни на слова Пушкина, Лермонтова и Блока, а во втором — есенинская «Отчалившая Русь». Автор был на этом концерте.
Спустя несколько недель мне передали просьбу связаться с редактором Центрального телевидения Л. Остащенко. Она сообщила, что О. И. Доброхотова готовит телевизионную передачу о Валерии Гаврилине и (каким-то образом узнав обо мне и о моем отношении к творчеству композитора) приглашает принять участие в ней. 5 декабря в Останкине состоялась запись нашей беседы с Ольгой Ивановной. (Сама же передача будет дожидаться выпуска в эфир больше года.)
Конечно, в этом разговоре о Гаврилине невозможно было обойтись без имени Свиридова… Как раз приближался день рождения Георгия Васильевича, накануне которого я отправил ему ставшее уже традиционным в наших отношениях телеграфное поздравление. И большой радостью стала праздничная новогодняя открытка с Большой Грузинской, которую я получил 3 января 1991 года:
Дорогой Сергей Иванович, с Новым Годом! Спасибо за память.
Часто вспоминаю Вас, с радостью Душевной думаю о Вас.
Самые лучшие пожелания Вам!
Г. СвиридовВ тот же день я позвонил Георгию Васильевичу, поблагодарив за сердечные слова и поздравив его с наступившим Новым годом.
Спустя одиннадцать с лишним месяцев, 15 декабря, я вновь поздравил его с днем рождения. А на следующий день мне пришло телеграфное уведомление из ЦТ о том, что передача О. И. Доброхотовой о Гаврилине «Приглашение к музыке» пойдет 19 декабря по первой программе телевидения. Но в указанное в телеграмме время (23 часа) вся страна увидела совсем другой сюжет — М. С. Горбачёв выступил с заявлением о сложении полномочий Президента СССР в связи с прекращением существования государства… Тем не менее передача о Гаврилине всё же была дана в эфир, но попозже, в 23.30. Из-за экстраординарных известий этого вечера неудивительно, что она прошла практически незамеченной.
31 декабря, за пять часов до наступления нового, 1992-го, года, я нашел в своем почтовом ящике конверт, надписанный Георгием Васильевичем. На открытке, вложенной в него, значилось:
Дорогой Сергей Иванович, поздравляю Вас сердечно с Наступающим Новым Годом, с праздником Светлого Христова Рождества. Здоровья и благоденствия Вам и Всем Вашим близким.
Георгий СвиридовЭто его поздравление стало в нашей переписке последним. Позднее я по-прежнему регулярно посылал композитору телеграммы ко дню его рождения, но письменных ответов от него уже не получал.
В 1992–1994 годах мы лишь изредка встречались в консерватории (например, 26 января и 18 февраля 1994 года на юбилейных концертах капеллы им. А. А. Юрлова, приуроченных к 75-летию коллектива) и — по моей инициативе — говорили по телефону.
5 февраля 1992 года мне почему-то непреодолимо захотелось услышать его голос. Это было впервые, когда я решился позвонить Свиридову без всякой видимой причины.
После взаимных приветствий он сразу спросил:
— Это вы выступали в передаче о Гаврилине? Я сам ее не видел, но мне говорили.
Я подтвердил это, но последовал еще один вопрос:
— Как же они на вас вышли?
Я не знал, что ответить, — ведь тогда мне еще не было известно, что идея пригласить меня к участию в передаче возникла у самого Гаврилина…
Вспоминается и другой наш телефонный разговор — в 1993 или 1994 году. В те дни он был дома один — Эльзу Густавовну положили в больницу, и чувствовалось, как ему трудно без нее. Но когда разговор перешёл на музыкальные темы и он узнал, что я никогда не видел в Малом театре спектаклей по пьесам А. К. Толстого с его музыкой, он даже захотел сам позвонить в театр с тем, чтобы помочь мне попасть на один из этих спектаклей. Но предупредил, что билеты — за мой счёт. Меня очень тронула такая отзывчивость, и поначалу я даже вроде бы согласился, но потом вовремя опомнился… И, чтобы Георгий Васильевич не беспокоился, дал, что называется, задний ход.
* * *
В наступившем 1996 году исполнилось восемь лет с тех пор, как наше более или менее регулярное общение со Свиридовым сменилось эпизодическим. За эти годы вышли в свет вновь обнаруженные поздние произведения Клюева. Много ранее неизвестного выяснилось при подготовке Полного собрания сочинений Есенина, проходившей при моем непосредственном участии. Не сомневаясь, что Георгию Васильевичу всё это интересно, я всё чаще и чаще задумывался о необходимости большого разговора с ним на клюевско-есенинские темы.
И осенью 1996 года (кажется, это было в ноябре) я решился позвонить ему, чтобы попросить о встрече. Живо откликнувшись, он сказал:
— Повидаться нам надо обязательно, но скоро я еду в Ленинград, где мне (в одном там учреждении) присвоили звание доктора honoris causa (совсем недавно я узнал, что этим «одним там учреждением» был Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. — С. С.). Когда вернусь, сговоримся.
Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем был определен день нашей беседы (2 февраля 1997 года) и ее место — московская квартира композитора.
Готовясь к встрече, я стал разыскивать в своих домашних книжных и бумажных завалах печатные материалы о Клюеве, Есенине, Клычкове и Ширяевце, накопившиеся за эти годы, чтобы передать их Георгию Васильевичу. На стол легли: четвертый том издания «Сергей Есенин в стихах и жизни» — «Воспоминания современников»; иллюстрированный сборник стихов Есенина, озаглавленный начальной строкой его стихотворения («Шел Господь пытать людей в любови…»), выпущенный к 100-летию поэта санкт-петербургским издательством «Глаголъ»; вышедшие в нашем институтском издательстве «Наследие» два сборника научных работ серии «Новое о Есенине», где были и мои статьи… Львиную же долю того, что я понёс в тот день на Большую Грузинскую, составляли газеты, журналы, буклеты, пригласительные билеты на конференции и их программы, выпущенные большей частью в родных местах поэтов (Рязань, Вытегра, Петрозаводск, Талдом). Было там и несколько фотографий, снятых в селении Коштуги, где родился Клюев, и в его окрестностях (эти снимки сделал в 1993 году мой друг В. Евреинов, который за двадцать с лишним лет до этого фотографировал Свиридова и А. Ведерникова на концерте в Большом зале консерватории).
Моя жена, мастерица татарской кухни, испекла что-то вроде беляшей треугольной формы (их название по-татарски звучит приблизительно как «ошпёшмэк»), загрузила ими кастрюлю, чтобы не остыли — закутала её как следует и разместила в той же сумке, где уже были бумаги и книги.
С этой поклажей я выехал из Троицка в Москву.
* * *
Придя в условленное время (около трех часов дня) к дому № 36 по Большой Грузинской, я набрал на подъездном домофоне номер квартиры и нажал кнопку звонка. Никто не ответил. Постояв в растерянности у закрытой двери, я вспомнил про телефон-автомат, находившийся неподалёку. Но у меня не было жетона, чтобы позвонить оттуда. Пришлось возвращаться за ним на станцию метро «Баррикадная»… Когда Георгий Васильевич услышал, что я у подъезда, но не могу войти, он направил вниз женщину, помогавшую им с Эльзой Густавовной по дому, чтобы та впустила меня.
И наконец-то я переступил порог 62-й квартиры… После взаимных приветствий, когда внимание Свиридова чем-то отвлеклось, я попытался украдкой передать встретившей меня женщине кастрюлю с «треугольниками». Но Георгий Васильевич увидел это, а когда узнал о содержимом кастрюли, воскликнул:
— Ну, сейчас мы будем пировать!..
Он попросил свою помощницу пойти в магазин купить что-нибудь к чаю, а потом пригласил меня в комнату, которая, очевидно, была его рабочим кабинетом. Я увидел рояль, стол, где лежало множество бумаг и нот. А у стен комнаты выстроились полки с книгами.
Но некоторые книги лежали на полу в стопках… Перехватив мой взгляд, Свиридов пояснил:
— Вы знаете, когда мы жили за городом, в квартиру залезли воры. Вот с тех пор так и осталось.
И началась наша беседа, продлившаяся (как и летом 1983 года) несколько часов. Темы ее то и дело менялись — от прошлого мы переходили к современности, и наоборот. Понапрасну понадеявшись на память, я не сделал себе тогда, по горячим следам, никаких заметок. Теперь же остается рассказывать лишь о том немногом, что не забылось до сих пор…
Помню, зашел разговор, что музыка композитора к «Метели» часто звучит в уличных подземных переходах и в метро. Георгий Васильевич, грустно улыбнувшись, сказал с легким оттенком горечи:
— Вот судьба! А я ведь написал ее т а к…
И взмахнул кистью руки снизу вверх, как бы показывая, насколько легко далось ему сочинение этой музыки. А затем саркастически добавил, что и сам нередко слышит ее — по телевизору, когда идет… реклама презервативов, впрочем, тут же отметив одобрительно, что в последнее время на телеэкране стали появляться содержательные передачи по истории России.
Взяв одно из писем со своего рабочего стола, он посетовал, что некому помочь в работе с поступающей корреспонденцией:
— Это (он назвал какую-то иностранную музыкально-издательскую фирму) предлагают издавать ноты моих сочинений, пишут об условиях, а у меня нет секретаря, который мог бы вести переписку с ними. А жена болеет…
И тут из другой комнаты донесся слабый голос Эльзы Густавовны, о чем-то попросившей мужа. Оказалось, что она по нездоровью уже почти не встает с постели.
…Речь пошла о том, что нового появилось в печати за эти годы о Клюеве, Есенине и их друзьях-сопесенниках. Я постепенно стал вынимать из своей сумки материал за материалом и передавать их Георгию Васильевичу.
Когда у него в руках оказалась книга «Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников», он сказал добрые слова о предыдущих трех книгах этого четырехтомника. И я понял, что эти книги, оставленные мной для него в артистической Малого зала консерватории в ноябре 1995 года, он тогда взял с собой…
Особое внимание было обращено на провинциальные издания, выпущенные в Вытегре, Талдоме, Рязани… Перелистывая газеты и брошюры, посвященные Клюеву, Клычкову, Есенину, Свиридов обронил, упомянув перед этим о своей переписке с курским губернатором А. Руцким:
— А вот в Курске пока такого нет…
(Но — замечу в скобках — тогда, при жизни творца, такому, наверное, и не пришло еще время… Теперь-то мы знаем, что горячие почитатели гения композитора на его родной земле были всегда. Их выдающиеся организаторские способности, направленные на то, чтобы память о Свиридове и его музыке продолжала жить в сердцах курян, особенно ярко проявились в деятельности по увековечению имени композитора на родине в самые последние годы — имею прежде всего в виду подвижническую деятельность организатора курских фестивалей свиридовской музыки Леонида Марченко.)
* * *
Тем временем в соседней комнате был накрыт стол, и мы перешли туда. К столу медленно, с трудом подошла Эльза Густавовна. Мы поздоровались и сели за стол, как четырнадцать лет назад в Ново-Дарьине — Георгий Васильевич и я напротив друг друга, а Э. Г. в торце стола.
На столе появились «треугольники» выпечки моей жены. Увидев их, Э. Г. улыбнулась и сказала:
— Ответ за мной.
Георгию Васильевичу (очевидно, по ассоциации) вспомнилось:
— В 20-е годы в Курске еще были частные лавки, куда я ходил за покупками, чаще всего за колбасой. Продавец спрашивал: «Что тебе, мальчик?». Я отвечал — «Смесь», и тогда он поочередно брал колбасы разных сортов, тонко-тонко их нарезал и взвешивал. А вдобавок давал мне еще и конфетку: ведь я у него был постоянный покупатель…
Рассказы о прошлом были продолжены:
— Мой учитель музыки (была названа полностью его фамилия, имя и отчество, но я их не запомнил. — С. С.) говорил: «Свиридов, вы будете композитором». И когда я окончил школу, моя бедная мать отправила меня в Ленинград — продолжать учиться музыке. Она зашила мне (кажется, в пояс брюк) пятьдесят рублей — всё, что могла дать мне на дорогу…
— Меня поселили в общежитии. Однажды я постирал рубашку и, по своей наивности, повесил ее сушиться на чердаке… Когда я вернулся туда — рубашки и след простыл.
— До войны, когда я уже стал постарше, я бывал в ленинградском Доме писателей и не раз наблюдал там Алексея Толстого, Вяч. Шишкова и других. Администратором Дома был тогда Анатолий Левкиевич Жевержеев. Он меня выделял…
Затем разговор перешел на события 1948 года после знаменитых постановлений ЦК ВКП(б) об Ахматовой и Зощенко и об опере «Великая дружба» В. Мурадели.
— Я узнал о постановлении на даче у Д. Д. Шостаковича от бывшего там же Анатолия Мариенгофа…
Тут Свиридов остановился и воскликнул:
— За мной записывать надо! Ведь я же современник, современник!
А потом продолжил:
— В формализме тогда обвинили и меня, перестали исполнять мою музыку, хотя я уже был лауреатом Сталинской премии. Помню, режиссер Вивьен, для постановок которого я писал, утешал меня: «Ничего, скоро всё забудется, ты напишешь музыку к другим спектаклям, и она опять пойдет…».
И тут же вернулся в современность, вспомнив свою недавнюю поездку в Англию и тамошнюю концертную публику. Он подчеркнул, какими подготовленными к восприятию серьезной музыки приходят на концерт лондонские слушатели (нередко с партитурами исполняемых сочинений):
— Такая культура, конечно, создавалась столетиями…
Заговорили о его музыке, и он обронил, что теперь у него есть написанное на слова Клюева. Эльза Густавовна, до того молчавшая, включилась в разговор и подтвердила:
— Да, да, есть…
Но я не решился тогда спросить, что же именно…
Мне вспомнился кинофильм начала 1950-х годов «Великий воин Албании Скандербег». Что к нему писал музыку Свиридов, я узнал много позже, а теперь просто сказал, что впервые встретился с творчеством композитора, тогда еще не зная этого, уже в свои десять лет, когда смотрел картину про албанского героя.
Похоже, я завел речь о чем-то капитально отложенном в долгий ящик: Свиридов живо посмотрел на жену и сказал:
— Это надо достать и продать!
…Вернулись к Есенину, к его 100-летию, и тут Эльза Густавовна спросила, не найдется ли для нее еще один экземпляр четырехтомника «Есенин в стихах и жизни», добавив, что хочет подарить книги друзьям. К счастью, дома у меня еще оставался свободный комплект издания, и я обещал, что завезу его на следующий день.
Откликаясь на мой рассказ о коллективной работе по подготовке Полного собрания сочинений поэта, о некоторых новых результатах наших научных поисков, отразившихся в комментариях к есенинским произведениям, Свиридов заметил:
— Да, наконец-то Есенина стали изучать по-настоящему…
Мне вспомнилось, что первая строка («Симоне, Пётр») пятой главки поэмы Есенина «Пришествие» (эту главку Свиридов впоследствии сделал одной из частей своей «Отчалившей Руси») первоначально была записана автором как «Симоне, Пётро» (что, в отличие от окончательного варианта, правильнее грамматически). Я рассказал об этом композитору, упомянув и про музыку «Отчалившей Руси».
— Я этого не знал, — ответил он. — Но если брать этот вариант, то музыкальная интонация должна быть другая. Ведь в обращении «Симоне, Пётр» слышится жалоба…
И тут я в первый раз услышал пение самого Свиридова:
Симоне, Пё-ётр… Где ты? Приди!Эти несколько напетых им тактов до сих пор в моей памяти…
* * *
Выполняя просьбу Эльзы Густавовны, на следующий день я повез на Большую Грузинскую четырехтомник «Есенин в стихах и жизни». Кроме того, я взял с собой то, что забыл отдать Георгию Васильевичу за вчерашним разговором — журнал «Наше наследие» (1991, № 1) с воспоминаниями о Клюеве, автором которых был Б. Н. Кравченко, родной брат художника А. Н. Яр-Кравченко, а также миниатюрное издание Клюева «Лесные были», выпущенное в 1990 году Всероссийским обществом книголюбов.
Георгий Васильевич приветливо встретил меня, сказав, что просмотрел всё оставленное мной накануне.
— Очень много интересного, особенно в провинциальных изданиях…
Номер «Нашего наследия» он сразу же стал перелистывать и остановился на статье о Великом Архидиаконе Константине Розове:
— Ко мне обращалась его дочь, но я всё никак не могу ей ответить…
(Дочь К. Розова просила, кажется, содействовать делу организации музыкальных фестивалей памяти ее отца.)
Когда он увидел миниатюрные «Лесные были», то сказал:
— Ну, куда же я эту книжечку дену?
Я предложил поставить ее на книжную полку лицевой частью напоказ. Место он выбирал сам. Рядом я увидел фотографию. Свиридов пояснил с теплотой в голосе:
— Это Дима Хворостовский…
* * *
Следующей нашей очной встрече со Свиридовым суждено было стать последней.
5 мая 1997 года я позвонил на Большую Грузинскую, чтобы узнать, можно ли занести туда 2-й и 5-й тома Полного собрания сочинений Есенина, которые только что вышли в свет. Трубку взяла Эльза Густавовна и сказала, что Георгия Васильевича сейчас нет дома, а она меня ждет.
Как и 2 февраля, на мой звонок по домофону никто не ответил, и мне пришлось звонить Свиридовым из автомата. Оказалось, что Георгий Васильевич только что вернулся домой и еще не успел снять верхнюю одежду. Поэтому он спустился вниз сам и открыл мне дверь подъезда.
Я был в обычном для себя «демисезонном» виде, в берете, который ношу со студенческих лет. Мы вошли в лифт. Тут Свиридов внимательно посмотрел на меня и вдруг спросил:
— Что это на вас за камилавка такая?
Эта ассоциация была не случайной — Георгий Васильевич только что побывал в Свято-Даниловом монастыре, на открытии IV Всемирного Русского Народного Собора.
Судя по последующим его репликам, впечатление от этого события у него осталось смешанное. Он проворчал что-то неодобрительное насчет приветствия Собору президента Ельцина (и насчет самого президента), но развивать эту тему не стал. Зато выступление на Соборе митрополита Кирилла назвал выдающимся.
Принесенным мною есенинским томам Свиридов очень порадовался…
* * *
В конце ноября я вернулся из Вытегры с очередных (тринадцатых по счету) Клюевских чтений. В том, 1997-м, году они проводились в дни, когда в Вологде вышел краеведческий альманах «Вытегра» со статьями о Клюеве постоянных участников Клюевских чтений — филологов Е. И. Марковой из Петрозаводска и А. И. Михайлова из Петербурга.
Мне захотелось порадовать Свиридова как этим альманахом, так и выпущенным незадолго до этого (издательством нашего института) сборником «Николай Клюев: Исследования и материалы», который был составлен и отредактирован мною. И я позвонил на Большую Грузинскую.
Эльза Густавовна сказала, что Георгий Васильевич сейчас на даче, а она готова увидеться со мной.
Дверь в свиридовскую квартиру была не заперта — там полным ходом шел евроремонт. Войдя, я дал о себе знать и услышал в ответ голос Эльзы Густавовны: она приглашала меня пройти в комнату. Я увидел ее полусидящей на кровати. Усадив меня на стул, она стала расспрашивать — что нового, хорошего? (Точно такой же вопрос мне не раз задавал и сам композитор в начале 1990-х годов при наших мимолетных консерваторских встречах.) Я передал ей книги, которые привез с собой, и она сказала, что непременно перешлет их с оказией Георгию Васильевичу на дачу, присовокупив:
— А то ему там скучно.
Я говорил о нашей работе над собранием сочинений Есенина, о текущих делах. Помнится, с надеждой сказал, что жить стало немного полегче, что грязная пена, захлестнувшая жизнь общества и каждого человека, всё же схлынет, а правда вновь найдет дорогу…
Зазвонил телефон. По начавшемуся разговору я понял, что на проводе — Георгий Васильевич. И я попросил у Эльзы Густавовны разрешения поговорить с ним.
Она выполнила мою просьбу, и я услышал голос Свиридова… Я повторил то, о чем только что сказал его жене, и ему. Но он не разделил моего оптимизма. Глубокой печалью были пронизаны его ответные слова: «Вряд ли…».
Он резко сменил тему и спросил, не знаю ли я поэта по фамилии Минаков. Я никогда не слыхал про такого автора и попытался выяснить, откуда он и каких примерно лет. Георгий Васильевич ответил, что живет Минаков в Харькове, а лет ему, наверное, около пятидесяти. Почти сразу же после этого наш разговор закончился. Конечно, я и помыслить тогда не мог, что неповторимый голос моего собеседника умолк для меня навсегда…
15 декабря я, как обычно, послал композитору телеграмму ко дню рождения, а дней через десять позвонил. Эльза Густавовна лаконично сказала: «Юра в больнице». Расспрашивать, что и как, я не стал. А вечером 6 января 1998 года пришла горестная весть о кончине Георгия Васильевича…
И началась его «жизнь после смерти».
Июль 2003 — апрель 2004Валентин Непомнящий Свиридов Из личного опыта*
Есть у каждого пишущего долги творческой и человеческой благодарности современникам, без чьей помощи — невольной, ибо сами эти современники о ней и не подозревают — писалось бы, а значит, и жилось, куда более одиноко. Порой с таким помощником (собеседником, сочувственником, учителем) настолько сживаешься, так к его неотменимому присутствию во внутренней жизни привыкаешь, что долг рискует остаться неотданным, «кредитор» о нем так и не узнает — если не подворачивается случай.
Такой случай судьба предоставила мне в 1990 году: редакция журнала «Новый мир» в лице Ирины Роднянской — одного из наиболее глубоких литературных критиков нашего времени — предложила мне написать о только что вышедшей книге, посвященной творчеству Георгия Свиридова. Я тогда удивился и растерялся: сборник специальный, музыковедческий*, я же ни нотной грамоты не знаю, ни к какому инструменту в жизни не прикасался, сведения по музыке — на общегуманитарном уровне, — что я могу сказать о такой книге?
Правда, однако, и то, что музыка в моей жизни издавна была для души примерно тем же, что воздух для тела. Еще с отрочества благодаря хорошей музыкальной памяти и благословенному советскому радио у меня на слуху оказалась, в сущности, вся симфоническая и вокальная классика, я знал и пел, сверх прочих романсов, песен, арий, а также оркестровых шедевров, весь шаляпинский репертуар, увлеченно размахивал руками над проигрывателем, мечтая о профессии дирижера. Музыке я обязан множеством моментов несравненного счастья, даримого то Большим залом Московской консерватории, то радиоконцертом, то пластинкой, а то и летним днем одного из 70-х годов: мы с семьей и друзьями жаримся на солнце под Угличем, в деревне с навсегда дорогим сердцу названием Деревеньки, перед нами, царственно сверкая, расстилается-катит Волга, на песке стоит транзистор, и из него звучит до крови родная симфония Калинникова. Солнце в сияющей голубизне, банька из бревен, с востока серебристо-седых, с запада золотых, зеленый сосновый бор на островке посреди реки. Волга, Калинников и мы — всё это тогда слилось в какой-то единый, ослепительный, блаженно длящийся миг сбывшейся мечты, торжество всеобщей гармонии (не подобное ли что-то ощущал Моцарт, когда в его воображении вспыхивала не написанная еще симфония, вся разом?).
То счастье, которое дает музыка, это в сущности, в конечном счете — удостоверение нашей внутренней сродности тому, чему лучшее из секулярных определений — «музыка сфер»: непосредственное чувствование человеческой душой своего божественного происхождения и действительного бессмертия. Но тем самым музыка есть и своего рода наука для души, школа метафизики бытия и человеческого духа. Если бы у меня, исследователя Пушкина, думающего не только о словесности, но и о человеке, об истории и культуре, «звездном небе» и «нравственном законе», о жизни и о России, — если бы у меня спросили об учителях, то в первую очередь я назвал бы не пушкинистов — предшественников и старших коллег, — а, с одной стороны, великую дисциплину по имени классическая филология (древнегреческий и латынь, изучавшиеся мной в МГУ), с другой — симфоническую музыку. Я назвал бы Баха и Достоевского, Шаляпина и Станиславского, назвал бы Бетховена, Грига и Шопена, Чайковского и Лемешева, всё то и всех тех, кому и чему обязан я умением мыслить не только в пределах филологической специальности, но в широком бытийном — полифоническом — контексте.
Настал момент, и в этом ряду учителей появилась музыка Свиридова. И с тех пор без нее мне трудно представить мое культурное существование на протяжении многих лет, а порой и мою литературную работу.
Когда случилась первая встреча с ней, не припомню точно, но случилась именно в связи с Пушкиным — хотя как исследователь я к Пушкину еще и не подступался, всё было впереди. Я услышал свиридовские романсы, и главное, что выделил для себя и запомнил — «Роняет лес багряный свой убор…».
Как известно, пушкинские романсы Свиридова — вещи в большинстве ранние, но уже классически совершенные, замечательные не только глубиной, смелостью и красотой, а и редкостным «слухом на автора», стремлением и умением внимать и с наслаждением повиноваться авторскому слову и духу. В романсе же «Роняет лес…» услышалось нечто совсем особенное, с чем я редко встречался даже в прославленных романсах на пушкинские стихи. Там было: Пушкин и Глинка; Пушкин и Римский-Корсаков; Пушкин и Рубинштейн и т. д. А здесь — Пушкин и… Пушкин! Такое тождество стиха и музыки, интонация и самая мелодия не совсем сочинены композитором, скорее непонятным способом изображены самими стихами: то ли Свиридов просто «перевел» это в ноты, то ли у Пушкина, что называется, так и было. Нечто сходное с подобным полным совпадением есть, может быть, — из того, что мне известно, — у Бородина в романсе «Для берегов отчизны дальной» (особенно в начале) и в «Урну с водой уронив…» Кюи.
Но с наиболее точным подобием такого абсолютного слуха на интонацию и мелодику текста я столкнулся много позже. Тогда только-только научился читать, то есть складывать буквы и слова, мой сын. Я указал как-то ему на первую строку стихотворения «Я помню чудное мгновенье……», и чуть только он начал читать, я ахнул: ребенок, не знающий содержания стихов, не умеющий еще держать в глазу более двух коротких слов одновременно, произнес слова «Я помню…» сразу на восторженном выдохе, то есть прочел в той вдохновенно восходящей, вертикальной интонации, которая — я понял, — стало быть, неким образом записана у Пушкина вот этими самыми тремя слогами.
И тут мне стало упорно припоминаться, что нечто подобное однажды уже было; наконец я сообразил, что это — случай свиридовского романса «Роняет лес…», в котором композитор слышит, как музыка истекает из самого пушкинского слова и стиха.
Всё это, как оказалось позже, имело непосредственное отношение к выработке моей собственной методологии изучения Пушкина, включающей как непременное условие произнесение вслух пушкинского текста — его, так сказать, интонационно-фоническую идентификацию. Чем дальше, тем больше я убеждался, что «главное», «немое» чтение и восприятие Пушкина утаивает от нас громадную, порой даже ключевую, часть смысла изучаемого текста. Кажется, я единственный из пушкинистов, не мыслящий ни филологического, ни философского анализа текста Пушкина без его «озвучания» (в том числе, разумеется, и публичного). В записях (радио, пластинки, телевидение) моих лекций и бесед, исследовательских композиций музыка играла роль камертона: пока в голове не зазвучат мелодии (чаще всего симфонические), наиболее близкие моей теме и материалу, я не мог начать писать текст. Приходила музыка — и на бумаге возникали первые слова.
Так вот, очень часто это была как раз свиридовская музыка («Маленький триптих», «Метель», «Пушкинский венок» и др.); она звучала в моем радиоцикле 70-х годов «Пушкинский час», она заняла центральное место — между Шостаковичем и Бахом — в альбоме пластинок (1981), на которых я записал композицию «Пушкин. Времена года», во многом предуказавшую направление, характер, методологию моей исследовательской работы (и, кажется, понравившуюся Георгию Васильевичу: о необходимости переиздания альбома есть упоминание в записях, вошедших в книгу «Музыка как судьба»*; позже (2003 г.) появится музыка Свиридова и в телевизионном цикле «Пушкин. Тысяча строк о любви»…
Вот только память моя, легко принимающая в себя тексты и мелодии, во всем остальном отвратительна — в частности, можно сказать, антимемуарна. То немногое, что написано в воспоминательном роде, возникло решительно по какой-то странной случайности. К примеру, не помню, когда совершился мой первый, как это сейчас говорят, контакт с Георгием Васильевичем (письменный? телефонный?). Впрочем, откуда-то и с какого-то времени я привык знать, что он читал мои работы и вообще следил за моею деятельностью (радио? телевидение 70–80-х годов?). Знаю лишь, что в 1987 году, когда в свет вышло второе, дополненное издание моей книги «Поэзия и судьба», я каким-то образом передал экземпляр Свиридову, и на то есть «документ» — письмо от 25 декабря 1988 года (дата на штемпеле) — поздравительное с наступающим 1989-м от Георгия Васильевича. Не могу забыть, как я был ошарашен начальными строками письма (которое приведу целиком — не тщеславия ради, а просто чтобы пополнить корпус текстов Свиридова еще одним, никому пока не известным).
«Дорогой Валентин Семёнович, желаю Вам хорошего, счастливого Нового года, плодотворного года! Не считайте меня невежей и наглецом. Целый год я собираюсь Вам написать, поблагодарить за бесценный (это так!) подарок — книгу Вашу о Пушкине. Жизнь моя стала трудной, болею я сам, болеют мои близкие. Читаю Вас с наслаждением: замечательные мысли, свежие, верные, среди множества написанного на эту тему малоценного, постороннего, что попадалось иной раз на глаза. Книга Ваша прямо указует главное в поэте — первопричину его духовного сознания — Христа, соединение Высшей Мудрости с наивностью ребенка. Близка мне и мысль о таинственности мира, которую и не надо пытаться разгадывать, а следует принять целиком. Крепко жму руку Вашу. Г. Свиридов».
О том, что за событие был для меня сам факт — письмо от Свиридова! — уж и не говорю; но — «Не считайте меня невежей и наглецом»! — все лестные и дорогие мне слова словно бы расплылись, как в слёзном тумане, в этой интонации отважного и простодушного самоумаления; словно бы это не он, а я — всенародно признанный, всемирно известный художник, к тому же старше на двадцать лет…
…Одним словом, после первой растерянности, вызванной предложением «Нового мира» написать про книгу о Свиридове, оказалось, что жизнь, творческий опыт и возникшие заочно человеческие отношения меня к этому в определенном смысле всё же подготовили — не профессионально, так сердечно.
А тут еще случился в БЗК концерт к 75-летию Георгия Васильевича, на который я был им приглашен и в котором великолепная певица Нина Раутио (теперь, к великому сожалению, — не наша) с пианисткой Еленой Савельевой исполнили свиридовские романсы и поэму «Отчалившая Русь» на есенинские стихи, — удивительный, трагической глубины, неимоверной внутренней мощи и какой-то хрустальной красоты «русский пассион» (так названо произведение в одной из статей сборника), вызвавший в душе невыразимое ощущение величия, скорби и счастья. И здесь, слушая эту музыку и сидя рядом с автором, я окончательно понял: бывают вещи, которые поважнее и посильнее, чем сумма профессиональных сведений.
Статья была написана (для себя я определил её по-гоголевски: «щи, но от чистого сердца»). Конечно, это было нелегко. Я ведь, к примеру, совсем не искушен в такой сложной материи, как взаимоотношения «архаистов» и «новаторов» применительно к музыкальной жизни (если употребить термины, близкие мне как пушкинисту), а эта тема очень сильно звучит в книге. В своих культурных воззрениях и вкусах я, натурально, консерватор, мои привязанности и надежды — на стороне традиции. Однако, писал я в статье, от души разделяя с авторами сборника неприятие рационализма, изобретательной и бездушной «учености» в музыке, безликого, пусть порой и эффективного музыкального «эсперанто» современного модернизма, я хотел бы думать, что любезные мне музыковеды прилагают эти и другие определения лишь к сочинителям и сочинениям, которые в них действительно укладываются, не имея в виду художников масштаба А. Шнитке или С. Губайдуллиной, пусть те и исповедуют иную (стороннюю мне, но глубоко выстраданную) эстетику. Однажды мне с вполне партийной принципиальностью заявили, что с подобной примиренческой позицией я ничего, стало быть, в музыке не понимаю, — пусть не понимаю, но в таком случае я, значит, и о музыке Свиридова судить не имею права, а вот ведь и сужу, и восхищаюсь — и испытываю горестное недоумение, слыша исполненные партийной же непримиримости — пополам с высокомерием — пассажи относительно «примитивности» и «кондовости» этой музыки, поражающие (особенно в людях, считающих себя тонкими ценителями) глухотой к той скрытой тонкости, которая, перефразируя Гераклита, сильнее явленной и которая столь необычайно характерна для такого могучего и монолитного явления, как Свиридов.
Но было в книге и то, что оценить мне оказалось вполне под силу, и это как раз вещи главные, которым и профан может дать их истинную цену, выйдя при этом ненароком к собственным утлым соображениям. В этих главных моментах книга оказалась своего рода путеводителем по собственным моим интуициям, помогающим осознать безотчетное, назвать неназванное и тем полнее его восчувствовать.
Так, с самолюбивой отрадой читал я о Пушкине как эталоне стиля Свиридова, ориентире на его пути, особой мете его художественного мира — это и мое убеждение. Одно только гениальное «Зорю бьют» могло бы навсегда вписать Свиридова в великую русскую культуру, как, скажем, «Соловей» вписал Алябьева; но ведь есть не только этот шедевр, а целое созвездие пушкинско-свиридовское, исполняющее некую центральную в творчестве композитора функцию — от хорошо известных «Подъезжая под Ижоры» и «Вянет, вянет лето красно» до не опубликованного, не игранного, не петого еще (кроме самого автора) «Пира во время Чумы»… Упоминавшийся уже «Маленький триптих», глубоко связанный с образом и традицией Древней Руси, вместе с тем весь, на мой слух, пронизан Пушкиным — как и прославленный «Романс» из «Метели», родившийся из нескольких тактов вещи совсем другой эпохи («Не уходи, побудь со мною») и представляющий истинное чудо: в форме «неслыханной», по слову Пастернака, простоты явлены идеальная сущность и величие того бессмертного жанра, что носит имя «старинного романса». Этой музыкой я, в моих «Временах года», сопровождаю чтение «Дорожных жалоб»:
Долго ль мне гулять на свете То в коляске, то верхом, То в кибитке, то в карете, То в телеге, то пешком? Не в наследственной берлоге, Не средь отческих могил, На большой мне, знать, дороге Умереть Господь судил…А высказанная в книге мысль о белизне как световом излучении свиридовской музыки! Ведь и я что-то такое всегда чувствовал в ней, и не только оттого, что там много снежного: в этой музыке всегда есть солнечный свет, сливающий все цвета в белое, и это тем очевиднее, чем более бывают неожиданны, порой парадоксальны, свиридовские гармонические ходы, и впрямь будто пучки ослепительного света излучающие — особенно в хоровых произведениях (скажем, в «Курских песнях», а то и в потрясающих духовных песнопениях). Каким подарком стала мне эта идея о белизне, дает представление то, что я писал когда-то в «Поэзии и судьбе»: облик Музы Пушкина «неуловим, невыразим — а потому текуч и многообразен, и если бы можно было разом соединить все её краски в одно целое, то получилось бы, наверно, ослепительное белое сияние».
А еще я почувствовал, благодаря работе с книгой, громадную в культуре роль отношений композитора с русским фольклором — который еще с ХIХ века считался исчерпанным, а потом, в ХХ, добавлю от себя, был на каждом шагу унижаем, бесстыдно эксплуатируем и целенаправленно уродуем — так что, к примеру, Хор Пятницкого, когда-то неописуемо прекрасный деревенский хор, превратился в конце концов в «академическое» приложение к официозной масс-культуре: всех стали учить и научили петь плоским «открытым звуком» (уместным при «фабричном» пении) — это называлось, как объяснял мне покойный Дмитрий Покровский, руководитель замечательного фольклорного ансамбля, «пролетарским» пением, в отличие от прежнего, «кулацкого»…
Песня — то ли материя, то ли душа музыки Свиридова. Но он заново художественно осмыслил русский фольклор, сняв этнографический и прочие поверхностные уровни и открыв «сверхисторический», который только и может сегодня дать ключ к сущности и судьбе России; добавлю, что Свиридов и тут в каком-то смысле продолжатель Пушкина, совершившего в свое время подлинный переворот в отношении общества и культуры к народному творчеству (на эту необычайно волнующую меня тему немало говорилось в уже упоминавшейся «Поэзии и судьбе»).
Но главное, чему меня научила книга о Свиридове, — это живое ощущение в его музыкальном мире того глубоко залегающего фундамента, которым являются древнее искусство церковного пения, знаменный распев, колокольные звоны. Всё это и раньше отзывалось в русской классике, особенно глубоко и блистательно у Мусоргского, Римского-Корсакова, того же Калинникова в его симфонии; в других случаях встречались и применения более или менее декоративного рода; в ХХ же веке всё, безусловно, прекратилось. И Свиридов был первым, едва ли не единственным, кто вернулся к этой мощной традиции; более того, именно в ней — родословная непридуманности, органичности его мелодий и интонаций (эта музыка «не сочинена, а выросла», пишет Валерий Гаврилин в статье, составляющей жемчужину сборника); в этой традиции — основа эпического и «предвечного» характера свиридовского художественного мира, его подчас аскетической простоты, истовости и устойчивости, которые противостоят, в частности, пресловутому «игровому отношению к жизни», каким соблазняются и соблазняют людей (особенно в нынешнюю эпоху) многие таланты; в этой традиции — исток тех качеств, которые равнодушный к ним и к их высокой природе слух как раз и принимает за «примитивность». В этом же истоке — начало соприродности свиридовского звука — слову (к чему еще Даргомыжский призывал); ведь церковное пение всегда было прежде всего пением слова.
И здесь же, вероятно, одна из главных причин одиночества Свиридова в течение многих лет: что могло быть более несовременным, несвоевременным, чем опора — пусть даже и не всегда явная — на фундамент духовной музыки?
Одиночество, как известно, нередко оборачивается в культуре первенством и торжеством. Свиридову принадлежит великая заслуга: он олицетворил в себе, он создал целое направление, вернувшее современной русской музыке ее роль органа национального самосознания, опирающегося притом не на амбиции формального толка, не на национальное себялюбие, а на духовные идеалы Древней Руси и на Пушкина, с порожденной им новой русской культурой. Значение этого культурного подвига особенно наглядно подчеркивается в сборнике напоминанием, что в лице автора «Поэмы памяти Сергея Есенина» музыка у нас опередила литературу, еще в 50-х годах предвосхитив основную тему и пафос наших «деревенщиков», культурную и общественную роль которых в России второй половины ХХ века переоценить невозможно.
А вот чего, к сожалению, не было в книге, так это темы, которая — в моем, по крайней мере, понимании — должна была бы быть одной из основных: темы о трагизме искусства Свиридова. Я имею в виду не только трагизм, предусмотренный, так сказать, авторским замыслом, но прежде всего тот, что проявлялся сам, объективно, помимо сознательных намерений автора, проявлялся в силу невольной прозорливости, всегда входящей в состав того достояния художника, что называется даром Божьим. Когда, к примеру, авторы некоторых статей именуют — и, может быть, даже отчасти справедливо — финал «Поэмы памяти Сергея Есенина» («Небо — как колокол») экстатической кульминацией, славящей «обновление России», и прочее в том же духе, они по привычке словно бы замыкают слух, чтобы не внять в этом потрясающем трагическом гимне отчаянный вопль гибнущей, распинаемой народной души — рыдание, облеченное в величавую интонацию знаменитого распева и в зловеще мерный ритм, то ли маршевый, то ли погребальный. Подобный же глубинный, необъявленный, можно сказать, интуитивный — в облике патетики, — трагизм можно услышать и показать и в грандиозной торжественности «Патетической оратории» на стихи Маяковского. И совсем уж очевиден он во всенародно знаменитой (благодаря телепрограмме «Время») музыке «Время, вперед!», которая ужасом своей неотвратимой, словно мчащийся на тебя поезд, механичности, холодно ликующей, подминающей, но и, несомненно, захватывающей, сравнима разве что с Восьмой симфонией Шостаковича или со скерцо из Шестой Чайковского — чудовищным маршем смерти, в котором советские популяризаторы упорно учили нас слышать торжество жизни.
Для осмысления такого трагизма и такой прозорливости свиридовского дара специалистам, видимо, еще потребно время — ничего удивительного в этом нет: «знатоки» вообще очень часто поначалу отстают от «любителей».
…Закончив статью, я предался ликованию; но потом погрузился в настороженное ожидание. Я откуда-то знал, что Георгий Васильевич бывает, по старинному выражению, крутенек в своих суждениях и оценках, и притом невзирая ни на какие лица и личные отношения. Тревога продолжалась бы долго, если бы Ира Роднянская не познакомила Свиридова с моим текстом еще до публикации и не передала мне, что… что статью эту он считает лучшим, что о нем написано.
Выслушал я это сообщение как под анастезией — ее роль сыграло допущение в характере Георгия Васильевича кроме «крутости» ещё доброты и снисходительности к человеку другого «цеха», завоевавшему его симпатию. Через некоторое время, уже лично и в подробностях услышав от него ту же оценку, я снова сходным образом оградил свое сознание — и потому многое забыл*.
Было это, кажется, у него в гостях: он пригласил Роднянскую и меня вместе с женой. Не помню, говорил ли я ему, что Таня — неповторимого дара и обаяния актриса, что в свое время она была известна всем детям Советского Союза как Клоун Таня из пленившей всю страну детской телепередачи «Абевегедейка» (где были также Клоун Сеня — С. Фарада, Клоун Саня — А. Филиппенко и Клоун Владимир Иванович — покойный В. Точилин); что взрослые знали ее как «приму» своеобразнейшего театра-балагана «Скоморох», несколько лет разъезжавшего по всей стране и имевшего бешеный успех, как миссис Бардль в телевизионных «Записках Пиквикского клуба» и еще — по роскошно уморительному эпизоду фильма А. Митты «Гори, гори, моя звезда»… Говорил или не говорил я об этом, но Георгий Васильевич, видно, и сам, душою артиста, почувствовал нечто: по рассказу Иры Роднянской, он, делясь с нею впечатлениями, вдруг заявил: «…больше всего мне понравилась Таня. Какая Таня!!»
И снова я кляну мою эгоистически скупую, неуместно экономную на усилия память, не запечатлевшую того, о чем мы все говорили с Георгием Васильевичем, — всё какие-то обрывки. Впрочем, и сам-то разговор был неорганизованным — как и весь этот вечер: благодаря хозяину и Эльзе Густавовне возникла такая простая, теплая, домашняя атмосфера (будто мы близкие друзья много лет), что как-то неощутим стал масштаб события, которое надобно запоминать цепко, по деталям, по фразам и интонациям. Шла непринужденная болтовня о том о сём, о музыке, о литературе, кажется, и о театре, еще о чем-то с пятого на десятое… В результате я настолько потерял бдительность, что даже содержание рассказа Георгия Васильевича, касавшегося «Ночи перед Рождеством» Римского-Корсакова как спектакля, со временем вылетело из головы, а ведь там было что-то очень значительное, произведшее на меня тогда сильное впечатление… Зато — конечно же — осталось взволнованное признание композитора о необычайном его интересе к «загадке» пушкинской «Сказки о золотом петушке» (эх, подумал я тогда, вот бы сесть и потолковать!). И еще — короткий разговор о… ливерпульской четверке, которая, по нашим с Таней представлениям, не должна была вызывать в хозяине особого восторга; и как же мы были, если можно так выразиться, приятно шокированы, услышав хоть и сдержанную, но очевиднейше благосклонную оценку обожаемых нами Битлов, зерном которой стала, по крайней мере для нас, фраза: «они сохранили христианский лад!» На фоне довольно мрачных ощущений Георгия Васильевича относительно современной музыки это как-то очень весомо прозвучало.
Но вот совсем недавно, с выходом книги «Музыка как судьба», я испытал другой шок, когда при первом ее просмотре на глаза попалось необычайно резкое и жёсткое высказывание Свиридова о Битлах, относящееся… к тому же 1991 году! Впрочем, недоумение длилось недолго — пока я не вжился в книгу, не почувствовал её целостного контекста, не вник в её обильный парадоксами характер, в её огненный темперамент, обжигающую сиюминутность стиля каждой записи, отчаянную непосредственность эмоций и неслыханно, почти мальчишески простодушную искренность в их выражении. Вспомнилось то ли знаменитое, из Достоевского, «…широк человек…», то ли до необозримости размашистая антиномичность гениального мышления Василия Розанова, то ли… Стенька Разин — полюбивший и утопивший… Одним словом, более русской книги я давно не читал. Начинаешь думать, что именно русский человек в особо полной мере наделен даром — или бременем — с болью видеть жизнь в той объективной парадоксальности, с какою сочетаются, сплавляются в ней взаимоисключающие стороны и качества, в той трагической гармонии человеческого бытия, где, по Пушкину, «благо смешано со злом», — которая отразилась в поговорке о недостатках как продолжении достоинств. Начинаешь думать, что именно русскому человеку, который жаден до истины, справедливости, идеала, которого воротит от пресной, но ядовитой жвачки, называемой «политкорректностью», именно ему свойственно особенно страстное стремление устранить из гармонии бытия ее трагизм (но не для удобного своего устройства в жизни, а — для той же истины!), сделать так, чтобы в каждом явлении, поведении, произведении, в каждом человеке, во всем бытии зло «знало свое место», чтобы благо с ним не «смешивалось», а над ним торжествовало; а для этого надо то и другое прежде всего назвать своими именами — прямо, честно, не стесняясь в выражениях и невзирая на лица. Часто это получается неловко, грубо, внутренне противоречиво, порой до нелепости, ведь жизнь — материя тонкая, иррациональная, и нашему конечному, дискурсивному разуму упорядочить ее так же невыносимо трудно, как отделить воду впадающих в море рек от морской, — и все же невыносимо хочется… Может, это и потому, что сам-то русский человек остро, как никакой, вероятно, другой, в первую очередь в себе самом ощущает соседство добра и зла — и невыносимо (осознанно или неосознанно) от этого страдает.
Корень этого страдания, как известно, в том даре, каким Бог наделил высшее свое творение и который называется свободой. Я глубоко убежден, что русский человек — самый свободный человек на свете; это та его безмерная «широта», которую Мите Карамазову хотелось бы «сузить», — оттуда и тяготение наше к сильной власти. И отсюда же — пошлый и подлый миф о якобы свойственном русскому человеку «рабском» сознании. Поистине, только рабское сознание, но рядящееся в свободное, могло, для самоутверждения, породить такую несусветную чушь. «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи?» — это Пушкин о крепостном мужике говорит! «Либеральное» сознание не может, по своей темноте, ни принять, ни понять: русский человек наделен такой свободой, что сам ее опасается — как Митя, — сам невольно и, может быть, от самого себя тайно стремится эту свободу как-то упорядочить, окоротить смирением, взять в узду, подчинить чему-то несомненному, незыблемому, высшему — в конечном счёте некой единой для всех Истине, в которой, как в Боге, — никакого зла, одно благо. Конечно, это редко получается, или совсем не получается, или выходит уродливо, — но не здесь ли, в этом наивном с житейской стороны «максимализме», истоки всего подлинно великого в русском искусстве?
И, конечно, здесь же, думаю, исток как максимализма и противоречивости свиридовских суждений и записей, так и того свойства художественного мира Свиридова — монолитности, устойчивости, предвечности ценностного фундамента, — о котором уже шла речь. В конечном счете именно благодаря этому свойству Свиридов даёт человеку — как сказал другой наш музыкальный гений, Гаврилин — «только то, мимо чего проносит сутолока ежедневности, когда в спешке можно позабыть нечто такое, без чего мучения жизни потеряли бы смысл».
…Возвращаясь к тому вечеру, снова не могу себе простить тогдашней счастливой расслабленности — ведь вечер так и остался единственным. Были потом другие встречи, но всё мимолётом, на ходу — в антрактах, после концертов, — в «сутолоке ежедневности»…
А потом пошли мне подарки: в 90-х годах — когда в течение пяти лет на телеэкран дважды в год выходил мой десятисерийный цикл «Пушкин и судьбы русской культуры» — Георгий Васильевич не раз звонил мне, делился впечатлениями, первым поздравлял по телефону с праздниками — будто не ведая о той дистанции, общественной и возрастной, что нас разделяла: черта, свойственная далеко не всем людям творчества (особенно получившим статус мэтра), но только поистине крупным среди них личностям. А это ведь бывает: талант немалый, а личность…
В итоге вышло так, что сама краткость и эфемерность нашего личного общения сыграла роль некой чудесно тонкой формы, в которую облекалась в душе массивная громада свиридовской музыки, ставшая оттого особенно и по-новому родной, почти «своей»; и так же тонко и реально ощущал я присутствие ее автора в моей жизни, едва ли не прямого участия в ней.
Это было ощущение остро личное — но не только. Его могли бы выразить — если бы тогда вспомнились — слова Блока из статьи «Солнце над Россией», посвященной 80-летию Льва Толстого: «Пока Толстой жив, идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой, — еще росисто утро, свежо, не страшно, упыри дремлют, и — слава Богу…». Но эти слова — а я именно так и чувствовал, — не вспомнились: может быть, до этого не допускали последние строки: «А если закатится солнце, умрет Толстой, уйдет последний гений — что тогда?».
Георгий Васильевич был на два десятка лет старше меня; а я считал себя почти молодым — стало быть, и его не совсем старым. И потому жить и писать не одиноко, как-то спокойно, словно под защитой: «…упыри дремлют…». Слова Блока пришли только в 1997-м, когда ушел «последний гений».
Это было как удар в спину. Я испытал чувство необыкновенного душевного одиночества. И припомнились еще другие слова — самого Толстого, при известии о смерти Достоевского:
— Словно какая-то опора отскочила от меня.
Вот это точно. Это грянуло из памяти само, сразу, облекая в слова тоскливое чувство внезапной оставленности, огромной потери. И возникало то и дело — пока я не получил весточку.
Случилось это во время очередного Пушкинского театрального фестиваля, ежегодно проводимого в феврале Пушкинским театральным центром Владимира Рецептера вместе с администрацией нежно любимого теперь города Пскова и всегда включающего посещение участниками 10 февраля могилы Пушкина в Святогорском монастыре, где в 14.45 служится, при большом стечении народа, лития, а один из участников фестиваля произносит краткое слово о поэте. В этот раз вышло, что тот, кто должен был говорить такое слово, по каким-то причинам отсутствовал. Это выяснилось чуть ли не в последний момент. Произнести слово попросили меня. Высказать нечто значащее перед множеством людей, и притом экспромтом, да еще за четыре-пять минут, да еще на могиле Пушкина — для меня это оказалось ситуацией катастрофической. Едучи в автобусе из Пскова в Святые Горы и безуспешно пытаясь не слышать дорожных разговоров, отвлечься, сосредоточиться, овладеть разбегающимися мыслями, я претерпевал неописуемую внутреннюю панику, почти уже решил просить, чтобы выступил кто-нибудь другой, — но тут мы подъехали к месту назначения. Все вышли и медленно направились туда, где шоссе поворачивает к монастырю.
У поворота стоял большой динамик, передававший патетическую музыку, не помню какую. Но когда подошли мы с Таней, динамик на несколько секунд замолк. А потом из него зазвучал Свиридов.
Это был тот самый «Романс» из «Метели» — знакомый, кажется, до нотки, но здесь и сейчас по-новому ударивший в сердце. Это было что-то вроде голоса. В горле мгновенно встал комок — и вдруг стало необыкновенно легко. В смятенной голове всё начало собираться, находить свои места и в какие-то секунды обрело устойчивый порядок, форму и смысл. И когда мы поднимались по крутой каменной лестнице к месту упокоения поэта, я внятно услышал ключевую тему своего слова на могиле Пушкина: я скажу о том, как потерянное может обернуться обретённым, смерть — жизнью, великая скорбь — великим торжеством.
И пока я, обращаясь к множеству людей, говорил — словно под диктовку, — эта мысль становилась моей, то есть она оказывалась моим чувством, которое внушила музыка.
Нет потерянного — есть обретённое. Это не «философия». Это — из моего личного опыта: полученной от ушедшего композитора, на могиле поэта, весточки жизни.
Дневники
Сергей Есин Выбранные места из дневника 2002 года
1 января, вторник. Весь день сидел и приводил в порядок дневники за последний квартал прошлого года, дописывал, вставлял пропущенные цитаты. На улице очень холодно. Возле метро куча невостребованных, непроданных елок. Это произвело на меня большое впечатление. Елки — дети, они могли бы расти. И наши и ихние «зеленые» смотрят только в политику.
2 января, среда. Вечером по ТВ показали американский фильм «Самолет президента». Приключенческая голливудская картина. Русские террористы захватили самолет американского президента, и в безнадежной ситуации американцы, показывая чудеса героизма, находчивости и национальной спайки, отбивают и самолет, и свою свободу. Фильм о великой Америке и ее людях. В. С. тут же провела грустную параллель между этим фильмом и фильмом Александра Зельдовича «Москва». Фильм-то, может быть, неплохой, но все российское в нем оказывается обгаженным. Их государственная политика — наша.
3 января, четверг. Институт пуст, все готовятся к экзаменам, а наш деканат так распределил сессию, чтобы удобнее всего было преподавателям, чтобы растянуть им каникулы. Эта такая же ситуация, как с распределением нагрузки преподавателей на неделе. Борис Николаевич готов читать с утра до вечера, но лишь один день, хоть целый день; М. О. тоже предпочитает читать кассетой, «пачкой». Итак, институт пуст, но вот мелькает тень нашего молодого преподавателя Лисунова. Ты чего здесь? Оказывается, он сегодня «принимает стихи». В рамках его курса — 1-я треть XIX века, он ведет семинар, кажется, после Ю. И. Минералова. Лисунов требует от студентов обязательного знания ряда «программных» стихотворений. Наизусть и с разбором. Студенты по собственному выбору этот список варьируют. Я попросил хоть какой-нибудь вариант. Через час у меня на столе лежал ксерокопированный лист текстов. Это тесно набранные рядом друг с другом стихи Пушкина, Батюшкова, Вяземского, Языкова, Боратынского, Лермонтова. Какие стихи, какая редчайшая работа мысли и слова! «Недорого ценю я громкие права…/ Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно»; «Есть наслажденье в дикости лесов…/ Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, / Для сердца ты всего дороже…»; «Я полюбил в тебе сначала брата; брат по сестре мне стал еще милей»; «Все тлен и миг! Блажен, кому с друзьями / Свою весну пропировать дано, / Кто видит мир туманными глазами / И любит жизнь за песни и вино!..»; «Глубокий взор вперив на камень, / Художник нимфу в нем прозрел…»; «В полдневный зной в долине Дагестана / С свинцом в груди лежал недвижим я…» «…но спал я мертвым сном». Как правильно, что почти силой мы пытаемся обогатить духовный мир наших студентов. Потом они вспомнят добрыми словами преподавателей, заставлявших их учить наизусть стихи. Придет старость, сузятся горизонты, и опять: «Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспаривать налоги / Или мешать царям друг с другом воевать…»
6 января, воскресенье. Уже пару месяцев назад я встретил во дворе института Аню Кузнецову, свою ученицу, и в литературном разговоре она мне рассказала о новом романе Александра Мелихова «Любовь к отеческим гробам». Вот, дескать, это класс, вот это, дескать, новое слово. Я с большой опаской взял 9-й и 10-й номера «Нового мира» за прошлый год, но очередь до романа все не доходила. Как важно все читать в свой собственный срок, не гнать и не опаздывать. Уже на первых же страницах я сделал одно открытие, которое меня восхитило. Но ничего бы я здесь не понял, если бы я уже не был вооружен опытом чтения Л. Улицкой и Э. Лимонова. Но как, оказывается, Улицкая и Мелихов похожи! В принципе, это один прием в прозе, она описательная, берется сцена, может быть даже и из телевидения, — например, гуляние собак, — все это переводится в некий словесный ряд. Люди эти очень способные, этот ряд, эта картинка оснащается метафорами, точными словечками, даже находками. Вот это очень важно, за счет языка банальность поднимается над обыденностью. Но мысль не вздымается, она как бы ползет по земле, а все нити рассказа ведут в логово, в скромную обывательскую семью. Сформулировал ли я? Наверное, нет, скорее, определил направление. Текст Мелихова действительно неплох, но так напоминает его «Роман с простатитом».
Вечером передали скандальную новость: ограблен писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий. Есть и подробности, в этом случае телевидение никого особенно не жалеет и готово бить по своим. Михаил Михайлович ехал на свою дачу в Серебряном бору. Здесь комментарии излишни. Даже не в Переделкино или в Барвиху, а в черте Москвы.
Для «Труда»:
«Хорошо и ответственно подготовилось российское телевидение к Рождеству. Уже ночью накануне сочельника показали занятный итальянский фильм „Пожирательница мужчин“. О чем? Все о том же, о пожирательнице. Попутно с этой дамой, которую „приводили к жиганской присяге“ несколько молодых гвардейцев жизни зараз, показали здесь же еще стриптиз, и мужской и с трансвеститами. Были, конечно, на телевидении и традиционные криминальные убийства. Взрывались машины, персонажи отбивались ногами и руками, раздавались выстрелы, текла кровь — все как надо и как обычно. Искусство сливается с жизнью, если иметь в виду, что в сам сочельник показали еще ограбленного и выброшенного из собственного недавно купленного „мерседеса“ Михаила Михайловича Жванецкого. Подробно показали и дачный поселок в черте Москвы „Серебряный бор“, и пятиметровые заборы дач, и камеры слежения, а вот тем не менее не уберегли. В сочельник по всем каналам было также очень много разного светского смеха, как всегда, что-то увлекательное рассказывал Петросян, показывали крокодилов, и все время сновали разные нелепые личности. Народ хочет, уверяет телевидение, только смеяться. Смейся, паяц!
Также на телевидении много играли на деньги. Просто какое-то поветрие. После того как миллионерами стали Гусинский, Березовский, Абрамович и другие олигархи от промышленности и искусства, решили сделать при помощи игры богатым и народ. Галкин и какая-то суровая дама из „Слабого звена“, и еще не очень известный молодой человек — все возле денег. Один раз я видел, как разбогател кто-то и из народа. Об этом даже написала „Комсомольская правда“. В сочельник играли на деньги Владимир Кара-Мурза, Эрнст Мацкявичус и Андрей Норкин. Все было разыграно как по нотам. Скажем прямо: общество неравных возможностей. Серьезно и сдержанно прозвучал в рождественскую ночь и в сочельник голос Патриарха. Я-то вообще думаю, вслед за министром культуры Швыдким, что новогодний праздник нам надо справлять именно на Рождество. Все-таки православная страна, но это не значит, что, следуя неправославному примеру нашего телевидения, надо своим нетактичным весельем обижать другие конфессии».
8 января, вторник. Я собирался к трем часам на работу, где должно было состояться первое заседание Отделения языка и литературы Академии российской словесности. Это мой первый отпускной день. Машина из-за мороза не завелась, поехал на метро. Мороз свыше двадцати, вся Москва завалена снегом. Я давно предполагал, что вся наша кутерьма с Академией может закончиться скандалом или хотя бы иронией в прессе. Давно раздали все дипломы, понаустраивали разных суаре, а работы никакой нет. И это в то время, когда готовится реформа правописания, когда наш язык добивает телевидение, когда плохо говорят учителя и интеллигенция.
9 января, среда. Почти весь день сидел дома, только ездил встретить на Казанский вокзал возвратившегося из дома Анатолия. Его рассказы о доме — полный мрак. В Ростовской области теперь тоже холода, в колхозе полная разруха. Приедут из Сальска, из райэнерго, надо платить за электроэнергию, председатель дает команду сдать на мясо очередные три десятка коров. Скота в хозяйстве почти не осталось. Все надеялись на Альфа-банк, который вроде перекупил хозяйство, но лучше не стало. С собой Анатолий привез в подарок двух потрошеных гусей и вареного кролика.
На вокзале вход в туалет уже стоит 5 рублей, еще совсем недавно, когда я прошлый раз, осенью, встречал Анатолия, он обходился трудящемуся в 4 рубля. Это — истинный показатель стремительно надвигающегося на нас повышения цен.
Читал статьи для «Вестника». Пока хороши Замостьянов, Михайловская и Рудзиевская со своими исследованиями о тексте дневников. По ТВ показали начало суда над партией Лимонова. Корреспонденты иллюстрировали деяния партии. Это захват башни в Севастополе в знак протеста против присоединения Крыма к Украине, захват собора в Риге, тоже известно, в знак чего, и несколько подобных эпизодов. В народе действия лимоновцев вызывают только одобрение. Власти боятся этой хорошо организованной партии молодежи. Молодежи вообще власти стоит бояться. Лимонов — в тюрьме. Для многих ясно, что дело его сфабриковано. Я думаю, что в его судьбе большую роль сыграла книжка в защиту красноярского алюминиевого магната Анатолия Быкова.
Показали также подельщиков по двум судам: дипломата Моисеева, которого повторно суд признал шпионом, и журналиста Пасько, которого общественность вопреки суду всё защищает. Сейчас прокуратура требует от суда срок для Пасько добавить. Один — раз восемьдесят встречался с корейским дипломатом и получил от него до 14 тысяч долларов. Другой — будучи военным журналистом, что-то в прессе рассказал, что рассказывать было бы не надо. Обоих мне жалко, но оба этих человека зарабатывали на том, что делали плохо своей стране. Сергея Ковалева в зал заседаний не пустили, он кричал, что он депутат Государственной думы. Как же этого суетливого болтуна не любит простой народ…
10 января, четверг. Третий день отпуска. Утром пришел «Труд». От моего материала остались только рожки да ножки, вся часть со Жванецким, с Патриархом вылетела. Газета показывает образцовое лавирование между вашими и нашими, но это будет продолжаться, пока она одна в нише, дальше надо будет выбрать «за кого» и, если это коммерческая газета, смелее идти на обострения. А может быть, это рука Анри Вартановича, играющего за обе команды? Я смиряюсь только потому, что добавляются новые краски у меня в дневнике. На всякий случай, протестуя против этой своеобразной цензуры, я переношу в текст не напечатанные в газете фрагменты. Меня там заменили Поволяев и Брагинский — крупнейшие мастера слова.
«Искусство сливается с жизнью, если иметь в виду, что в сам сочельник показали еще ограбленного и выброшенного из собственного недавно купленного „мерседеса“ Михаила Михайловича Жванецкого. Подробно показали и дачный поселок в черте Москвы „Серебряный бор“, и пятиметровые заборы дач, и камеры слежения, а вот тем не менее не уберегли».
И другой фрагмент не прошедшего цензуру «Труда» текста.
«Также на телевидении много играли на деньги. Просто какое-то поветрие. После того как миллионерами стали Гусинский, Березовский, Абрамович и другие олигархи от промышленности и искусства, решили сделать при помощи игры богатым и народ. Галкин и какая-то суровая дама из „Слабого звена“ и еще не очень известный молодой человек — все возле денег. Один раз я видел, как разбогател кто-то и из народа. Об этом даже написала „Комсомольская правда“. В сочельник играли на деньги Владимир Кара-Мурза, Эрнст Мацкявичус и Андрей Норкин. Все было разыграно как по нотам. Скажем прямо — общество неравных возможностей. Серьезно и сдержанно прозвучал в рождественскую ночь и в сочельник голос Патриарха».
Если внимательно взглянуть на эти «непошедшие отрывки», оба они направлены против неправого богатства, против двойного стандарта, против лицемерия богатых.
Складывается ощущение, что народная газета, называемая «Труд», именно богатых и защищает. Иначе как понять?
…Выставку Моне нечего описывать, я все это видел в Орсе в Париже, все подборки фотографий и некоторые выставленные предметы эпохи Моне — Пруста тоже знакомы. То же помню по музею в Комбре, по иллюстрациям к только что прочитанной книге Моруа. В одной из четырех витрин, где выставлены книги Пруста и книги о Прусте, лежат и автографы трех русских поэтов, творчество или хотя бы чтение которых как-то с Прустом было связано. Это два письма, одно написанное М. И. Цветаевой, а другое — Б. Л. Пастернаком, но вот зато третье имя никто не отгадает сразу… Это три (три!) чисто перебеленных автором текста своих стихов. «Ты так печальна, словно с уст…», «Биография гения…», «Есть где-то церковка…» Этот автор — Александр Кушнер. Просто классно! Придется вставлять новую цитату из В. Топорова. Вот как он объясняет свойства этого литературного гения, стоящего рядом с Цветаевой и гениальным Пастернаком. «Прочтите наконец стихи Кушнера открытыми глазами, по крайней мере, стихи последнего десятилетия! Написанные без божества, без вдохновенья, с непременной кражей, которую люди поделикатней назвали бы аллюзией, а люди поподмашистей — „интимной связью“…
Кроме вторичности и неподлинности стихам Кушнера присущ еще один недостаток — метафизический изъян. В них отсутствует внутреннее напряжение — и в сравнительно безобидных, и в совсем никудышных. В его сознание встроен „маячок“ типичного советского поэта: качество жизни обеспечивается количеством строк. Сейчас, когда у Кушнера берут все подряд, это особенно удручающе заметно: он просто-напросто не может остановиться. Вдохновения нет — и не надо, поэтический мотив подменен банальным рассуждением, техника подражательна, ритм заёмен, — но деньги-то платят! Работа идет на износ — результаты в любом журнале». Чему я так радуюсь? Может быть, Топоров сформулировал то, чего не смог, хотя и чувствовал, сформулировать я?
Вчера телевидение передало, что по поводу «вывода активов» привлечены ряд руководителей одной из дочерних компаний Газпрома, в частности некий Голдовский; сегодня сказали, что берут дознание с Рема Вяхирева, а также что Генеральная прокуратура заинтересовалась деятельностью руководителя президентской администрации Волошина в период его работы в коммерческих структурах. Список «внезапно» разбогатевших, которых «достает» власть, пополнился: Гусинский, Березовский… и далее. За этим я опять, как и в прошлые разы, вижу спокойную, ненавидящую богатую мразь, руку Путина. Так ли это?
11 января, пятница. Четвертый день отпуска. У Алика в столовой, со слов А. Филиппенко, сообщили некоторые подробности о джипе Жванецкого. Это был джип-геолиос фирмы «Мерседес» стоимостью в 150 000 долларов. Я представляю, как исполнитель скетчей не хотел бы, чтобы эти данные попали в прессу. На новой машине Жванецкого остановили пятеро кавказцев, которые, наверное, следили за ним еще из магазина. Вроде бы кого-то из них нашли. Вообще-то по-человечески Жванецкого очень жалко, каждый из нас может оказаться в его шкуре, но не у каждого такие огромные деньги.
15 января, вторник. Утром положили в почтовый ящик «Труд» с двумя «моими» новостями. Скончался в Санкт-Петербурге от побоев академик РАН 87-летний Игорь Глебов. Его несколько дней назад избили вместе с женой в подъезде дома. Вторая новость заключается в том, что победное объявление, будто бы нашли угонщиков, ограбивших Жванецкого, оказалось преждевременным. Правда, газета сообщает, что нашелся легендарный портфель с набросками главного сатирика перестройки и что фирма, застраховавшая его лимузин, готова выплатить 89 тысяч долларов страховки. Во-первых, значит, цифра, определявшая стоимость джипа, точна, а во-вторых, почему-то в своем сознании я сближаю содержимое этого знаменитого портфеля и деятельность бандитов; мне даже кажется, что здесь есть какая-то причинно-следственная связь. От портфеля — к бандитам.
16 января, среда. Мне стоит написать сегодня лишь о двух фактах. О звонке Светланы Николаевны Лакшиной, которая прислала мне книжку «Великие женщины России». Еще не читал, но уже по оглавлению понял, что это некоторый противовес разнообразным женам и подругам из Кремля. Опять много с С.Н. говорили о Лакшине. Я не смогу написать о нем воспоминаний, потому что никогда не мог к нему приблизиться. Уже с университетских времен он казался для меня неким Монбланом. А уже когда стали в «Знамени» работать вместе, то я, по натуре не втируша, не решился приблизиться. Говорили о Солженицыне, о его нечеловеческой, нерусской памятливости по отношению ко всем жизненным неудобствам и удивительной неблагодарности. Владимов писал, что его, этого учителишку из Рязани с рюкзаком рукописей, просто бы с поезда скинули как бомжа, если бы Твардовский не дал ему охранную грамоту.
Второе соображение связано с теми стихийными бунтами, которые идут по всей Аргентине уже почти две недели. Глядя на то, как там народ отнесся к девальвации и замораживанию вкладов, невольно вспоминаю нашу Россию десять лет назад. Почему такое молчание? Почему так спокойно и так тихо сдали советскую власть, о которой теперь жалеют. Жалели ли о падении власти царской? Наверное, отдельные слои тоже жалели.
Путин сейчас находится с визитом в Польше и, как всегда, демонстрирует новое видение, в том числе и международных проблем. (Писал ли я, что читаю мемуары Станислава Понятовского, польского короля и фаворита Екатерины? Впрочем, я сразу много чего читаю, а когда кончаю читать и утыкаюсь в телевизор, сразу же начинается депрессия.) Так вот, в Польше на заданный ему на пресс-конференции вопрос относительно визита папы римского в Россию Путин ответил вполне по-светски: да, дескать, пущай приезжает и с Патриархом разбирается в богословских вопросах. И тут же, буквально наутро, последовал резкий ответ Святейшего Патриарха Алексия II: в обстановке экспансии католической церкви на Восток, в обстановке, когда разоряются в Западной Украине традиционные приходы и закрываются православные церкви, встреча с папой римским для русского патриарха невозможна. Редчайший по решительности отпор. Браво, церковь! Я вообще последнее время много думаю о так называемом плюрализме. Гадкое, нерусское слово. Под его мурлыканье воровство стало называться бизнесом, предательство — прагматизмом, обман — деловой хваткой.
18 января, пятница. С утра у меня в плане три дела: сходить к врачу, В. С. уже устала меня к нему записывать, съездить на работу, чтобы посмотреть список коммерческих жильцов и определиться с приказом об их оплате на этот год, и утром, к 12, съездить на Пречистенку, 10 на собрание по случаю очередной годовщины нападения американцев на Ирак. «По случаю 11-й годовщины бессмертной „Матери битв“ и нападения на страну коалиции тридцати держав» — это уже официальная формулировка. Позвонил накануне Сережа Журавлев и сказал, что мне, как члену правления Общества дружбы, надо бы на это собрание придти, застращал тем, что будет Сажи Умалатова, генерал Валентин Варенников и Саша Проханов. Сережа в этом обществе один из главных — с ним я ездил в Ирак несколько лет назад, — и он отец нашего платного студента Вани Журавлева. Ваня учится плоховато, но играет за институтскую футбольную команду; дружу с обоими.
Честно говоря, я подумывал, стоит ли идти, не лучше ли поработать дома, но очень часто не дневник идет за мной, а я за возможностью что-то интересное вложить в дневник. Какое-то сложное чувство повело и соблазнило меня. Я навзлет прикидываю, что Пречистенка, 10 — это или Дом ученых, или музей А. С. Пушкина, но в обоих случаях ошибся. Какие же еще могут быть на этой стороне улицы общественные здания?
Десятый дом по Пречистенке оказался милым особняком, он рядом с музеем Пушкина, и на этом особнячке я уже давно приметил мемориальную доску. О тексте доски. Здесь во время войны размещался Еврейский антифашистский комитет, члены которого в 1952 году пали жертвами сталинского террора. Здесь же еще были вывески — Общество дружбы со странами Африки и Юго-Восточной Азии и пр. (за точность всего здесь изложенного не ручаюсь). Вот уж не думал, что мне доведется попасть в этот особняк. Наконец подъехал Сережа Журавлев, и мы вошли в дом.
Я определенно всегда найду именно то, что мне надо. Не успели мы с Сережей раздеться, а я уже разговаривал с каким-то человеком моего возраста — то ли швейцаром, то ли хозяйственником, а возможно, и каким-то большим начальником ныне или ранее всех этих комитетов. Есть такая порода доброжелательных и разговорчивых людей, которые с удовольствием расскажут обо всем, что знают, в этом они видят долг какого-то своего общественного служения. Оказалось, что этот особняк, который я помню лет 60 и которым я лет 50 интересуюсь, потому что до 45-го года жил на этой улице и учился в школе, которая находилась вблизи, интересуюсь еще и потому, что на доме все время, сменяя одна другую, красуются разные вывески — я, например, помню, что здесь был и какой-то шахматный комитет, и Комитет сторонников мира, — так вот, дом принадлежал знаменитому декабристу Михаилу Орлову. Еще маленьким, повторяю, я ведь жил на этой улице, когда она еще называлась Кропоткинской, еще крохой, я уже тогда никак не мог понять, как из ничего что-то получается. Как возникают эти комитеты? Как собираются и кучкуются в них люди? Кто дает им эти особняки и зарплаты, потому что без зарплаты жить нельзя. При знакомом имени Михаил Орлов я сразу подумал, что эта роскошная лестница из чугуна и мрамора слышала шаги Чаадаева и Пушкина. Воистину, всё здесь рядом: в десяти минутах ходьбы дом Павла Воиновича Нащокина — любимого друга Пушкина, за домом самого Орлова расположен Чертольский переулок, а значит, район, где селились опричники. Говаривали, что и Малюта Скуратов где-то здесь неподалеку был похоронен; недавно, будто бы в районе храма Христа Спасителя, нашли древнюю плиту с его могилы. А знаменитая лестница из мрамора и чугуна, по словам моего внезапного собеседника, оказалась привезенной из Италии. Но по ней кроме Пушкина ходил еще и герой-летчик Маресьев, потому что был председателем одного из комитетов, и Илья Эренбург, и Николай Тихонов, поэт и тоже председатель. «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей». Видимо, в этом доме бывал и Михоэлс, но главным образом здание в то давнее время занимал славянский комитет. В 1991 году представители того самого разгромленного Еврейского антифашистского комитета хотели объявить себя правопреемниками и требовали в свое пользование здание. Время было горячее: кто дома себе оттребовал, а кто недра и электростанции целой огромной страны. Ситуация складывалась по аналогии с Домом писателей на Комсомольском, который хотел закрыть префект Музыкантский. Хотел, но не закрыл. Лавры французской революции никому не давали спать спокойно. Но «правопреемникам» Еврейского антифашистского комитета, посмотрев в бумаги и чертежи далеких лет, объяснили, что в те времена Еврейский антифашистский комитет занимал всего две комнаты, а остальные 48 — всеславянский комитет. На этом все дело и закончилось, но мемориальная доска серого гранита, с изображенным на ней девятисвечником, спешно повешенная, осталась, и хорошо, что повешена и что осталась. Поговорили мы еще и о том с внезапным доброжелателем и любителем истории, что у Сталина всегда были какие-то, хотя бы фантастические, основания для его репрессий. Вроде бы граждане еврейской национальности хотели организовать свою советскую еврейскую республику в Крыму. На полуострове Крым. Просачивались слухи о работе антифашистов на разведку своих соплеменников. А потом, организованный не без помощи Сталина, этот самый Израиль как бы кинул нашего Большого Джо. Сталин помог и людьми, приоткрыв для выезжающих в Палестину железный занавес, и помог своим авторитетом, а Еврейская советская республика на Ближнем Востоке не получилась. Советские евреи стали ориентироваться на США и Англию. По логике Сталина, еврейский комитет как бы должен был отвечать за своих людей.
В выступлении посла Ирака, перевод которого раздали, есть такие цифры: «…общий бомбовый груз, сброшенный на Ирак только за 43 дня агрессии, аналогичен 141 961 тонне взрывчатки, что равно 7 атомным бомбам типа той, сброшенной американцами на Хиросиму». Речь и атмосфера моего детства. Потом выступил посол Палестины. Он говорил о двух стандартах ООН, о тех резолюциях Совета Безопасности, которые выполняются, когда надо притеснить Палестину, и которые не выполняются, когда Израиль должен уйти с оккупированных территорий. Это тоже из решений ООН. Оглядываюсь на большое число присутствующих людей — из других посольств, моих соотечественников, а также иракцев, прижившихся в Москве, — и думаю, что многим из них не очень много дела до Ирака, но все пришли, потому что возмущены поведением Америки и Израиля.
19 января, суббота. Утром уехал на дачу. Несмотря на свою «Ниву», к участку не пробился, машину оставил возле дома сторожа и по снежной целине тащил сумки с едой. Одно утешало: удивительная тишина, отсутствие телевизора и белый, незагрязненный, провинциальный снег. Отчетливо чувствуется, что промышленность не работает. Кстати, здесь неподалеку, под Малым Ярославцем, находятся какие-то предприятия, в которых что-то, и видимо, немалое, принадлежит сыну Черномырдина. С чувством глубокого удовлетворения услышал недавно в одной из передач по телевидению упоминание о нем и дочери другого магната, Рема Вяхирева, в связи с очередными нефтяными скандалами. Радостно, что этих присвояльщиков наконец-то выводят на чистую воду. По крайней мере, они живут в атмосфере тревоги. Удобную нашли форму — через детей, через наследников. Они будут лежать в сандаловых гробах, в мраморных саркофагах, а наследники вершить судьбами нищего народа. Они стали богатыми и еще желают носить, как знамя, хорошую репутацию. Нынешнему поколению богатых людей общество вправе отказать в звании порядочных. Богатство можно было нажить только путем махинаций и присвоения общенародной собственности. В лучшем случае, лишь ко временам внуков что-либо забудется в наше памятливое время. Когда я читал у Бальзака о временах, последовавших за французской революцией, я удивлялся этому бесстыдству присвоения и полагал, что ни в какое другое время подобное повториться не может. Неужели общество ничему не может научиться?
21 января, понедельник. Не успел я справиться с письмом, как сначала позвонила Г. А. Ореханова, а потом вместе с заместителем директора и пришла. Появилась еще одна разгромная статья на спектакль «Униженные и оскорбленные», который Т. В. Доронина делала к 180-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. На этот раз в «Независимой». Здесь тот же тезис, что и в «Коммерсанте» — спектакль не получился, а здание хорошо бы отобрать и использовать под спектакли-мюзиклы. Г. А. Ореханова принесла мне подписать письмо, которое вроде бы составил В. Г. Распутин в защиту театра. Это обращение к президенту; суть его в том, что мы уже видели, как после подобных подготовок отобрали симфонический оркестр России у Е. Светланова и Большой театр у В. Васильева. Именно поэтому мы не обращаемся к министру культуры. Т. В. Доронина полагает, что это начинается подготовка. Письмо уже подписали В. Розов, В. Распутин, обещал подписать Ф. Ф. Кузнецов, Н. Н. Скатов, директор Пушкинского дома и директор бывшей Ленинки. И мы еще говорим о каком-то плюрализме. Убеждаюсь, как много в нашей культуре делается, чтобы отогнать русскую культуру от центра, развеять ее. Как еще держат и терпят меня? Надо тоже ждать налета. Может быть, кампания уже началась?
23 января, среда. Ночью, в три часа, на станции Беломорканал к нам подсадили какого-то сравнительно молодого мужика. На улице, видимо, жуткий холод, от его тулупа так и пыхало въевшимся холодом. Он быстро устроился, но я уже заснуть не смог, принял снотворное и пошел в коридор читать роман Саши Проханова. Практически это его первый роман, который я читаю после большого перерыва. Уже к середине мне показалось, что это скорее памфлет, потому что все движется по живому руслу сегодняшней истории. Пока прочел о времени Ельцина, о появлении некоего Избранника, в котором угадывается, вернее, ясно просматривается Путин. В романе Избранник выступает как явный ставленник крупных чинов КГБ, сохранивших в новых условиях свои связи и ощущение себя как некой масонской ложи. Они ставят власть, но одновременно все они теперь находятся при крупных магнатах и как бы ими управляют. По крайней мере, в материальном смысле они, все эти генералы и полковники, неплохо устроились. Это мир «мерседесов», компьютерных залов, нарядных гостиных, охот и правительственных приемов. Сейчас они заняты тем, как бы скомпрометировать Генерального прокурора. Опять явно угадывается Скуратов, а вся сцена очень по аранжировке знакома. Большой это пишет писатель? Большой, такой энергетики больше нет ни у кого из пишущих сегодня. Мне кажется, что всё это слишком определенно, без случайностей, слишком логично вылеплено, слишком рассудочно, с какой-то нерусской логикой отысканы причинно-следственные связи. Заметна Сашина любовь к КГБ, к разведке, к таинственности, к миру сильных сего, к их машинам, к их образу жизни, приемам, шампанскому, охотам. Но показатель мощи писателя — его стиль. Всем нам рядом с Прохановым надо заткнуться. Под Томаса Манна, под Фолкнера, под Солженицына, под Пруста мы можем писать, а под Проханова — нет, не сможем. Иногда он достигает необыкновенного гротеска. Это описание празднования дня рождения дочери президента Татьяны в Кремлевском дворце и явление туда в плаще президента, и прием в зале «Россия», когда всех гостей он видит в виде животных и частей человеческого тела. Виртуоз. Очень сильно и всерьез Саша взялся здесь и за еврейскую тему. Всерьез, как никто и никогда за последнее время. «Русская Хазария». Вот она, вторая еврейская революция. Продолжаю читать.
24 января, четверг. Кстати, как я уже писал, с большим мужеством Проханов ведет библейскую тему в своем романе. Ряд вполне реальных действующих лиц узнаваем, они выступают под своими псевдонимами, но есть и просто инвективы. Например, Владимир Познер, бегущий с американским флажком в зубах по коридорам Останкино. Недостаток романа в слишком близком следовании за канвой жизни, и чем ближе эта канва к сегодняшнему дню, тем менее интересно. Пока две лучшие сцены романа — это все, что связано с домом возле «Ударника», на крыше которого светящаяся аргоном бабочка, и пир победителей в Кремле. Последняя сцена мне напоминает пир Трехмалиона у Петрония. Но и когда Проханов начинает переконструировать жизнь — отрезанная чеченцами голова генерала Шипуна, которую премьер-министр роняет на сцене, открывая коробку с вазой, это по сути довольно безвкусно и где-то уже было. Саша Проханов, как я заметил, внимательно смотрит мировой кинематограф. Голова — это старый символ. Сильное само по себе место — голова лошади в постели в «Крестном отце».
…Нас всех порадовали. Я расцениваю это как новое достижение Германа Грефа. Не может быть неумным человек, так изысканно и аккуратно стригущий усы и бороду. Правительство объявило, что естественные монополии просили поднять тарифы на 60 процентов, а правительство, проявив немыслимое человеколюбие и понимая, что за повышением тарифов на электричество и газ пойдет и повышение цен на все остальное, включая хлеб и картошку, разрешило естественным монополиям поднять тарифы только на 20 процентов! Как на рынке, запрашивали с «походом», чтобы была возможность поторговаться. А, собственно, почему правительство вообще разрешило? Разве всем не трудно? Разве пенсии подняли с февраля не на 6 процентов, а на 30? Эти господа полагают, что у населения и страны рабские потребности, как и положено рабам, а вот господам у нас много надо — они европейцы. Теперь будет на что учить детей за границей и покупать загородные дома.
25 января, пятница. Постепенно роман Саши Проханова меня несколько разочаровывает. В нем по-прежнему возникают грандиозные сцены, но чем ближе к нашим сегодняшним дням, тем все больше раздражают прямые параллели. Скоро и Ельцина-то забудут, как забыли большинство политиков. Иногда мне кажется, что роман Саши заменяет ему дневник. В этом отношении мы с ним похожи, только свои записи он развертывает с присущим ему энтузиазмом, а я делаю это рационально и сухо. Есть вещи головные, и хотя, опять же, написаны с блеском, тем не менее не отлипают от листа бумаги. Например, сцены посещения мощей, как «красных», так и «белых». Все это, особенно визит в «лабораторию», где лежит на простынях над ванной труп Ленина, сделано, скорее, по картинке телевидения и даже по фильму Паши Лобкова. Тем не менее это одно из самых значительных произведений наших дней, и, безусловно, таких сил, как в патриотическом лагере и в лагере так называемых демократических писателей, нет. Все это вялая, скучная проза, где ловкость притворяется талантом. Какая у Проханова редкостная энергетика! Чего стоят только военные сцены в Чечне. Можно сказать, что все это описательность, все это как бы списано с телевизора, и тем не менее там есть такое виртуозное слово, которое несравнимо по передаваемому эффекту ни с каким телевизионным кадром. Ни один телевизор не сможет привести читателя в такой ужас. Но есть и куски просто грандиозные. Они и запомнятся, от романа нельзя требовать во всех его частях одинаковой силы. Помним ли мы всё и во всей полноте «Войну и мир»? Нет, бал Наташи, небо Аустерлица, Пьер и Даву, княжна Марья, купание солдат глазами князя Андрея, батарея капитана Тушина.
Все время по телевидению говорят о Законе об альтернативной службе. Накануне очень упорно, с экивоками, вот как у них, на Западе, в Америке, выступал депутат еще первого демократического разлива Владимир Лысенко. Он автор самого, видимо, либерального закона, по которому московский мальчик может стать регистратором даже в московской же поликлинике.
Сегодня вся эта напряженка с альтернативной службой продолжается. Из предложений Генерального штаба есть и такое: срочная служба — два года, альтернативная — четыре. Мне это по душе. Квашнин требует, по словам Владимира Лысенко, чтобы «альтернативщик» принес какую-нибудь справку, что, дескать, душа не принимает держать в руках оружие. Если это будут врачи, то они уже надавали освобождений от армии и здесь напишут всё, что надо, лишь бы оплата шла «зеленью». Я понимаю, чем вызвано это требование Квашнина. Справку такую достать трудно. Но ведь из многих племен и конфессий лишь одно племя стойко не хочет служить в армии этой страны. Они всегда хотят иметь вместо себя парня из деревни или из городских окраин.
Лысенко долго распространялся о том, что, дескать, самые золотые годы молодой человек должен потратить на армию. Это вы, господа демократы, до такого состояния довели армию, устроили ползучую войну в Чечне, что демонстрирует ваше неумение управлять, а этой подлой войны все, естественно, боятся. В наше время армия многое давала, она этих чеченцев-хлеборезов и других адыгов с гор учила чистить зубы и русскому языку, давала специальность, москвичей учила делать зарядку и прыгать через «козла», армия — это была мужская судьба. Это рубеж юности, после которого начиналась мужская жизнь.
31 января, четверг. В театре встретился и до начала спектакля довольно подробно поговорил с Еленой Григорьевной Драпеко, знаменитой нашей артисткой и депутатом Госдумы. Известность она приобрела после фильма Ростоцкого «А зори здесь тихие». Судя по всему, партийность — она коммунистка — здесь не по быстрой выгоде, а по внутреннему убеждению. Элегантна, хорошо говорит, ориентируется в вопросах культуры — знает и мелочи, и крупное. Разговорились с ней по поводу Закона об альтернативной службе. У меня старая мысль, что заядлыми «альтернативщиками» станет лишь один сорт людей, а если не они, то наши дорогие мелкие интеллигенты. Зашел разговор о двойном гражданстве, о гражданстве вообще, закон о котором так и не был до сих пор принят. Тут же Е. Г. рассказала, что недавно с группой депутатов была в Палестине. Я догадался, что речь шла о моральной, внутренней поддержке Арафата. Е. Г. сообщила, что наши бывшие российские ребята там охотно служат в армии. Страна второго гражданства настаивает на службе в своей армии. Служат охотно потому, что настоящая, подлинная родина наконец-то выбрана. Да и служба в этих, хорошо снабженных войсках безопаснее и комфортнее. Главный враг — палестинец — для солдат этой армии лицо почти беззащитное, приниженное, здесь легко и служить, и легко возвыситься. «Любовь к отеческим гробам». Вот и новый роман Мелихова, о котором я писал выше, почти русский роман, заканчивался тем, что герой попадал в Иерусалим. Боже мой, как всё одно за другое цепляется.
Потом Е. Г. заметила, что на всех блокпостах, которые непосредственно соприкасаются с восставшими палестинцами, обычно ставят выходцев из России с их русской речью. Здесь возникает внутренний конфликт с традиционно всегда хорошо относившимися к русским палестинцами. Ну, как же вы, русские! Да вот так же!
1 февраля, пятница. Из встреч запомнился «только что приехавший из Израиля» Андрей Дементьев. Рассказал мне, что Толя Алексин сильно болеет. Я думаю, оба жалеют, что так поторопились сойти с корабля. Вот Жванецкий не уехал. Было грустно, «везде говорят, что у тебя хороший институт и ты хороший ректор». Андрей к старости остался без большого дела. Журнал он в своей нерабочей суете, в жажде поездок, которые нахлынули на него в начале перестройки, потерял. А хороший, один из лучших в стране был журнал — «Юность». Вот все я это понаписал, но тут раздался телефонный звонок от одного парня из «Литгазеты». Мы с ним поболтали. Я рассказал о сегодня виденном, и, к моему удивлению, он сообщил мне, что во многом я ошибаюсь. Совсем Андрей не безработный и не брошенный своими друзьями. Он уже, оказывается, председатель Общественного совета «Литературной газеты». Правда, добавил собеседник, сидит в газете мало, «у него какие-то командировки — то в Нью-Йорк, то в Тель-Авив». Попал в «Литгазету», я думаю, Андрей через И. Д. Кобзона, тот его песни пел; или через Ю. М. Лужкова. А уж Юра Поляков, редактор «Литгазеты», — он всегда помнит добро, в «Юности» Юра, собственно, и начинал.
Для «Труда»:
«Независимо от того, когда и в каком виде Госдума примет Закон об альтернативной военной службе, последняя передача канала НТВ „Свобода слова“ показала, что народное, общественное восприятие этого закона сильно отличается от его либерально-демократической трактовки. Во-первых, в дискуссии выяснилось, что принципиальных противников у закона нет, включая Минобороны, которое по традиции наше либеральное общественное мнение хотело бы сравнять с землей. Если тебе убеждения не позволяют, не служи, иди в „альтернативку“! Во-вторых, таких убежденных и у истовых противников брать в руки оружие по стране немного, всего от 500 до 2000 человек. Больше, оказывается, тех, кто хотели бы поменять риск и мужскую тяжесть исполнения воинского долга на, конечно, нелегкий и, в принципе, нужный труд в больнице, в сфере социальной помощи. Переведя эти рассуждения в более доступные дефиниции, я бы сказал так: умные и интеллигентные молодые горожане и их родители хотели бы, чтобы служили ребята из деревень и с рабочих и неимущих окраин. Что касается бреда о том, что армия на заре зрелости мешает человеку реализовать свои возможности, то на это отвечу: тоже служили-с и не сломались, и даже, наоборот, до сих пор благодарен воинской службе за многое, что она дала. А что до „дедовщины“ и всего остального — приведите армию, если взялись управлять и диктовать обществу, как жить и думать, приведите в порядок, а потом смело говорите о том, как у нас, либералов, слова не расходятся с делом. В конце передачи одна из участниц, мать, сыну которой еще только предстоит служить, очень точно сказала: „Мне хотелось, чтобы мой сын не занимался ночными горшками или работал в морге, а служил в нормальной армии, но только чтобы армия была в порядке“. Ну а если все же предубежденность против армии, сиречь трусость, — в свободной стране я вправе называть вещи своими именами и так, как я о них думаю, — если эта предубежденность все же непреодолима, ну что здесь поделаешь, но в этом случае строй воинские объекты, работай на воинском складе, не бери в руки оружие, но, как и все остальные твои сверстники, служи! Это опять одно из мнений передачи. И вот тут я схожусь не только с рядом выступавших, но даже с губернатором Аяцковым — в „альтернативке“ надо служить на порядок дольше. Аяцков предлагает четыре года. Это, конечно, круто, но это тот случай, когда здравый смысл и справедливость протестуют против записного оголтелого либерализма».
Вечером перебирал газеты — и вдруг снимок: «Новый редактор журнала „Октябрь“ Ирина Барметова вручает премию…». Значит, в «Октябре» выбрали И. Барметову. Ну что, ничего неожиданного в этом нет, Ирина всю свою жизнь здесь проработала, была замом покойного Анатолия Андреевича. Но какое снижение уровня: в «Октябре» вместо Ананьева — Барметова, в «Новом мире» после С. П. Залыгина — А. Василевский, в «Дружбе народов» вместо С. Баруздина — А. Эбаноидзе.
Вечером по ТВ в программе «Суд идет» разбирали дело о «матерных словах» и оскорблении общественной нравственности в фильме В. Зельдовича «Москва». Присяжные — когда их только показали, я уже предугадал их вердикт, — естественно, вынесли оправдательный приговор. Такая прекрасная рекламная акция! Она так хорошо спланирована, так отлично срежиссирована, так подобраны свидетели и присяжные, что создается ликующее ощущение, что и организовал ее Зельдович. Но рекламная акция должна быть подкреплена значительным произведением. А я уже фильм «Москва» и не помню, в сознании только мертвящее ощущение рационального холода.
6 февраля, среда. Отпуск отпуском, а на душе неспокойно. У себя на письменном столе нашел письмо Т. В. Дорониной. Сделалось хорошо на душе. Это обязательность натуры или свойство русского характера помнить о заботах и дружбе близких тебе людей? Перепечатываю этот текст в свой дневник и тут же решаю, что надо посмотреть те исходные материалы, которые в свое время так взволновали Т. В. Даша в библиотеке ищет соответствующие номера «Коммерсанта» и «Независимой газеты». Но сначала письмо.
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Примите сердечную благодарность за полную и безоговорочную поддержку коллектива МХАТ им. М. Горького в критическую минуту.
Ваше обращение к Президенту России в защиту русского театра было очень своевременным и, безусловно, сыграло решающую роль в решении Министерства культуры о проработке долговременных планов сотрудничества Минкульта с МХАТ им. М. Горького.
Приходите к нам почаще. Всегда рады Вас видеть. Дай Бог Вам крепкого здоровья, сил и жизненной стойкости. С искренней признательностью за всегдашнюю поддержку (это уже от руки) — Т. Доронина.
Художественный руководитель театра, народная артистка СССР Т. В. ДоронинаТеперь ставшие печально знаменитыми статьи. Еще раз убеждаюсь, какой я наивный мальчик. Даже при беглом взгляде видно, что авторам немного дела до художественных недостатков спектакля. Сначала «Коммерсант», № 2, от 11 января 2002 года. Автор Роман Должанский. Статья называется «Предел человеческого унижения. „Униженные и окорбленные“ Татьяны Дорониной». Вот, на мой взгляд, ключевые фразы этой статьи.
«…Между тем это учреждение по-прежнему занимает одно из самых больших и знаменитых театральных зданий в центре Москвы, подчинено напрямую Министерству культуры России, называется Московским художественным театром, крупными буквами пишет на любой программке, что его основали лично К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко, а любое творящееся на сцене безобразие торжественно покрывает занавесом с парящей чайкой.
…Этой самодеятельности законное место в Доме культуры, а вот вместительному, хотя и не приспособленному для серьезного театра зданию на Тверском давно можно было бы найти применение. Здесь, например, на ура бы пошли новые мюзиклы. Кстати, и нынешняя дирекция, несмотря на всю духовность худрука, спокойно сдает площадку под гастроли радикальных западных музыкантов. То есть прагматические соображения горьковскому начальству не чужды.
Существование МХАТа имени Горького как театра в нынешнем его виде можно объяснить только нерешительностью и непрагматизмом культурных властей. У которых, как все помнят, хватило твердости и на Большой, и на госоркестр. И на Московскую консерваторию».
А вот и другой газетный пассаж. Это уже газета «Культура» от 16 января 2002 года. Тут автор — Антон Красовский. Может быть, они списывали один у другого? Статья тоже называется очень оригинально — «Королевство кривых зеркал. Очередной спектакль второго МХАТа». Но здесь все пообнаженнее… Дом!
«Построенные в 1973 году по проекту академика Кубасова все эти тысячи квадратных метров, с одной стороны, совершенно не приспособлены для драматических представлений. С другой, как точно отмечают коллеги, могли бы использоваться для красочных звонких представлений. Тут и сейчас в свободное от Дорониной время дают концерты заезжие трип-хоперы и английские антрепренёры. Так не отдать ли это здание каким-нибудь умным доходным продюсерам, чтоб ставили тут — а не у черта на куличках — свои мюзиклы или что-то в этом роде? А МХАТ Горького закрыть. Немедленно!»
13 февраля, среда. Быть средним ректором в большом и в малом вузе — это не трудно. С годами все ложится на свой конвейер, ты обрастаешь приемами и т. д. Трудно быть ректором, который все время думает о своем учебном заведении, как не о простом месте работы, который просто хочет, чтобы оно было на виду, хочет, чтобы о нем говорили, который хочет по-настоящему выполнить свой долг. В свое время надо было бы отказать в просьбе израильского посольства прислать нам своего профессора-политолога. Но если отказать сейчас, то не откажешь позже. Израиль сейчас то место, где скрещиваются многие интересы, об этом много говорят, поэтому я согласился, и приехал сравнительно молодой парень Зеев Ханин, по-нашему Володя, Владимир Эммануилович, из университета Бар-Илан, по-нашему, как объяснил всё тот же Володя, Берлин. По-русски говорит прекрасно. В свое время окончил институт Азии и Африки у нас, потом, в 91-м году — Оксфорд. Читал лекцию «Израиль, история, сегодняшний день».
В общем, интересно. Кое-что из истории, чего я не знал, кое-что из сегодняшнего дня. Я, конечно, все время держал в памяти, что получил, дескать, у нас образование и уехал. Лекция проходила в зале заседаний ученого совета, сидело человек сорок — я опять удивлялся тому, как нелюбопытны наши преподаватели, да и наши студенты.
Хорошая была лекция, но, как часто бывает, во многом соглашаясь с автором, я укреплялся в бескомпромиссности своей любви к нашей стране, к нашему народу. На площадке вопросов и ответов я назвал ряд наших писателей, деятелей искусства, таких как Анат. Алексин, Дина Рубина, Михаил Козаков, и спросил: можно ли сказать, что их судьба в Израиле состоялась? Кстати, Дина Рубина сейчас в Москве, она представляет еврейское агентство. Еврейские писатели по-прежнему пишут на русском языке и площадка у них, конечно, Россия. И по ответу Володи стало ясно, что, в общем, у тех из актеров и писателей, кто возвращается, там жизнь не получилась. Амбиций много, страна маленькая.
15 февраля, пятница. В три часа собиралась Академия, народу было немного, но разговор был хороший, правда, всё это были единомышленники. Речь на этот раз шла о разрекламированной реформе русского языка. Все это идет под знаменем демократизации письма, но, по сути, это упрощение культуры. Надо сказать, что и все предыдущие реформы что-то отрывали от слова и смысла. Слово на письме стало менее конкретным и определенным. Язык вообще не поддается регламентации сверху, сам язык определяет, что с ним надо делать, а тут правила пытаются рекрутировать под командой Академии. Но говорят, что и само Отделение под командой академика Челышева отвергает эту реформу. Обо всем этом можно спорить, но бесспорно другое. При помощи реформы языка есть попытка как бы отчертить старый, советский, период нашей истории. То есть здесь вмешивается политика. Вызрели ли эти изменения, которые хотят вводить? Эти новые куцые правила сделают огромное количество народа безграмотным. Государство плохо занимается школой и тут ищет лазейку, чтобы по одному из самых сложных предметов учить меньше и проще. Упрощая письменную речь, мы отгораживаемся от нашей классики. Что-то ничего не слышал о реформе правописания в английском языке!
Поговорили, посидели, попили чаю. Решили сделать определенную декларацию от имени Академии и ученого совета.
Для «Труда»:
«Как обычно в воскресенье, Парфенов проговаривал свое „Намедни“, Андрей Караулов испытывал телезрителей „Моментом истины“, Ревенко, глядя незамутненным чистым глазом, рапортовал „Вести недели“, и все они по инерции, особенно правдолюб Караулов, говорили и несли такое, после чего в других странах освобождают от портфелей и кресел министров и распускают парламенты. Но ведь мы к этому уже привыкли, мы-то знаем, что слово в нашей стране никак не корреспондируется с делом, и потому передачи эти давно уже считаем не политическими, а, так сказать, игровыми.
Самой серьезной политической акцией телевидения этой недели надо считать ретроспективу фильмов с участием легендарной Любови Орловой, приуроченную к ее 100-летнему юбилею. Вот поистине случай, где слово не расходится с делом и где юбилей высвечивает глубинность присутствия личности в жизни общества. Согласимся, что это не юбилей какого-нибудь бойкого, но „своего“ скетчиста. Телевидение на этот раз не смутила ни советская риторика, ни портреты Сталина на экране, ни чуждая сегодняшнему времени идеология. Когда дело касается таланта и искусства, идеология невольно отходит на второй план. Кстати, об идеологии, которую у нас все, начиная с правительства и президента, ищут. Судя по фильмам с Орловой, она возникает в сытой стране, по крайней мере, я ее такой запомнил».
25 февраля, понедельник. Утром показали фильм «Под Полярной звездой». Это две серии об освоении одного из сибирских газовых месторождений. Будут говорить, что это производственный роман, и это верно, но сделано все с любовью к простому человеку, к заботам о его размножении и популяции. У этого человека не очень много желаний, и они самые естественные. Его духовность не вычурная, а естественная. Для меня картина интересна сегодня еще и тем, что она показывает, что именно было украдено и приватизировано чубайсами, черномырдинами и ремами вяхиревыми. В фильме снялся актер Сергей Баталов, у меня ощущение, что я его знаю по жизни, обаятелен и духовно подвижен замечательно, но чуть в красках однообразен.
Вечером состоялся гала-концерт. Мне понравилась серьезная нота, которую в концерт ввели, как ни странно, актеры. Изумительно прочитал несколько стихотворений Блока и большой кусок из «Возмездия» Сергачёв. Потом хорошо и точно выступил Назаров. Он пел под гитару, в его «Ленинградской песне» все время повторялось слово Ленинград, и в этом был определенный вызов. «Слышишь, Ленинград, я тебе пою…». При ныне действующем Петербурге! Так в советское время, объявляя романсы Чайковского, называли не имя автора стихов, а говорили «К.Р.», и в этом был определенный вызов. Потом вышел Николай Бурляев и вдруг прочел всю поэму Державина «Бог». Я еще раз восхитился точностью и удивительной возвышенностью этих стихов. Какое надо было иметь поглощенное предметом сознание, чтобы подобное написать, какой глубины внутреннюю веру! Бурляев «разделал» поэму по смыслу, обнажил связи, логические причины и вытекание одного из другого. Здесь нужно было иметь не только актерскую дерзость и интуицию, но и быть аналитиком, суметь прочесть стихотворение, разобрать его. Весь зал слушал с каким-то затаенным воодушевлением, будто ликбез по катехизации. Актер и автор вторглись в интимное, в ту часть духовной жизни, которая внезапно актуализировалась, а для многих стала и делом немедленным: успею или нет? Мы часто привыкли говорить о том, что народ придурковат, ему надо все лишь облегченное, сфера его понимания — это желудок, стяжательство и секс, народ не понимает ничего серьезного. Народ с интересом и вниманием выслушал всю поэму и разразился долгими и благодарными аплодисментами.
4 марта, понедельник. Как и обещал, вчера поздно вечером приехал в Ленинград Сережа Кондратов. Он для меня не только бескорыстный жертвователь, не только человек, который несколько раз выпускал меня и, в первую очередь, издал огромное «Избранное», сразу поставившее меня в определенный ряд писателей, но он еще и человек-загадка. Я люблю и изучаю его. Я любуюсь им, я наблюдаю, как он ходит, как тратит деньги, как общается с людьми, как возникают у него деловые идеи, пытаюсь проникнуть в глубь его привязанностей, его быта и отношений. Он один из самых эрудированных в литературе людей; потом я узнал, что за его плечами аспирантура и он — кандидат наук. Он для меня еще и «новый русский». У него огромное дело, я наблюдал его в момент принятия решений. Дело расширяется и давно ушло за книжные горизонты. Он уже занимается коньками и кино. Это все какая-то форма самовыражения и самоутверждения. Он не ездит в слишком дорогих машинах и не носит слишком заметных костюмов, но всё, что на нем надето, это недоступного качества. А тем не менее порой он упомянет, вернее, в разговоре проскользнет, что он детдомовец, возникает его родня, живущая в деревне. Это какой-то новый, пока ускользающий мой герой.
7 марта, четверг. В 11 часов началась Третья конференция Международного союза книголюбов. Два часа заседали, потом был тут же в музее экслибриса небольшой банкет, посвящённый и этому событию, и дню рождения С. Г. Шувалова. В смысле организации у нас ничего не изменилось — он — председатель исполкома, я — председатель Союза. Произнося доклад, я даже сказал: а куда они денутся, в смысле выбора — избирать меня или не избирать?
Вот данные из доклада Шувалова: «Усредненный европеец в течение суток смотрит телевидение 130 минут, слушает радио 90 минут, а читает 5–7 минут». А вот исследование уровня восприятия текста 15-летними учащимися, проведенное одной из международных организаций в 32 странах мира, в том числе и в бывших республиках СССР: «Простейший прочитанный текст смог объяснить только каждый третий из учащихся этих стран». В рейтинге 32 стран Россия и бывшие республики СССР заняли 28-е место. После Польши, Греции и Португалии.
Я выступил с очень неплохими тезисами. Речь шла о наших будущих действиях. В первую очередь — законе о защите чтения и читателей. Говорили о так называемых президентских программах, о них никто, естественно, ничего не знает. Мне кажется, что эти программы расходятся между родственниками и знакомыми деятелей президентской жизни и администрации, еще не выходя за территорию Кремля.
Разговор с М. Ф. Ненашевым — о власти и обо всем другом. Путин не откровенен. Он всегда знает, что сказать, им не руководит инстинкт. Недавно, сказал М. Ф., он заговорил о духовном кризисе в стране. Все об этом говорят уже десять лет. В этом отношении Ельцин был искреннее, хотя и глупее. И тут вдруг, в уме прокрутив всех путинских помощников, виденных мною по ТВ, их искреннее умение идти в фарватере за принципалом, я понял, что все это — гарем, с хозяином гарема и евнухами гарема. Таков и самый гибкий и эрудированный из них М. Е. Швыдкой — и умен, и решителен, и знающ, но без собственной идеологии, без ощущения корней. Но всегда готов возбудиться от какого-нибудь спущенного сверху постулата. Мысль о том, что Министерство культуры спонсирует или поддерживает канал «Культура», а канал «Культура» платит гонорар своему ведущему министру. А иначе как он проживёт?
Следующий семинар начну с дневниковых записей Г. Свиридова, которые я уже неделю назад прочел в «Литгазете». Надо только точно все выбрать. В собственный дневник, как незабываемую драгоценность, я переношу лишь одну:
«Сейчас, в наши дни, в большой моде искусство первой половины XX века; в поэзии — это Пастернак, Ахматова, Цветаева, Гумилёв, Мандельштам, прекрасные настоящие поэты, занимающие свое почетное место в русской поэзии, место, которое у них уже нельзя отнять. Они оказывают (вместе с другими) несомненное влияние на современный творческий процесс.
Творчество этих поэтов, в сущности — лирическое самовыражение, личность самого поэта в центре их творческого внимания, а жизнь — как бы фон, не более чем рисованная городская декорация, видная за спиной актера, произносящего свой монолог…
К сожалению, фигуры великанов русской поэзии: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Бунина, Есенина, глубоко ощущавших народную жизнь, движение, волнение народной стихии, подчас незаметное и неслышное, и соизмерявших с нею биение своего творческого пульса, как-то отошли в тень. Их громадность кажется подчас преувеличенной, неестественной, нелепой среди окружающей нас жизни».
К национальному вопросу. У нас в общежитии живут ребята-таджики, которые учатся в Москве. В одной из комнат ночью случился пожар — на работающую электрическую плитку упало одеяло. Могла бы сгореть комната или выгореть весь этаж. Я приказал в течение дня выселить ребят, жалко. Им бы сразу слинять, но еще приходили ко мне просить и грубили охране. В тот же день, когда выселили таджиков, от начальника охраны я узнал, что азербайджанцы, которые арендуют под магазин у нас часть первого этажа в общежитии, ночью, пользуясь черным ходом, приносят в общежитие водку и сигареты. Хорошо, что еще не наркотики, но ведь не посчитаются ни с чем, ни с какими загубленными жизнями, когда речь зайдет о собственных доходах. Гнать их надо, договор с этими молодцами заканчивается в мае. Вечером в воскресенье и в субботу по телевизору показывали цыганские семьи, которые торгуют наркотиками в Сибири и на Урале, их роскошные особняки, которые буквально построены на крови.
13 марта, среда. Вечером, в уже московской съемке, опять наблюдал нашего доблестного спикера Совета Федерации, который объяснял, почему он не поехал в Рамалл к Арафату. Миронов будто забыл, что это законно избранный глава автономии, забыл о нашей многолетней поддержке Палестины. Он, видите ли, ехал по приглашению парламента Израиля, он не советовался с МИДом, это его личный поступок. Комментирующий это поведение государственного человека корреспондент сказал, что или этот человек лучше всех знает волю президента, или наша позиция все же иная, чем мы ее декларируем.
Уже перестало быть событием то гигантское воровство в государственном масштабе, о котором постоянно говорит телевидение. Фамилия названа — кажется, это генерал Олейников, бывший финансовый руководитель военного министерства. Подельница — небезызвестная красавица Юлия Тимошенко. В качестве свидетеля допрашивали Игоря Родионова: все те же 450 миллионов долларов, которые исчезли между Россией и Украиной. Комментатор говорит, что на суде за давностью лет и из-за возраста — этому событию уже несколько годков — Игорь Родионов не помнит все обстоятельства подписания им документов, но в кулуарах сказал, что об этом надо спрашивать Черномырдина; была, впрочем, названа и еще одна какая-то громкая фамилия, не запомнил точно, просто фамилия намозолившая, человека, по инициативе которого все это и проводилось. Совершенно справедливо, разве может министр обороны подписать документов на полмиллиарда долларов, не поставив в известность премьер-министра и, скажем, министра финансов? И еще о воровстве — на этот раз один из бывших министров финансов, Борис Федоров, давал жесткое интервью о воровстве, несколько раз всплывало имя Вавилова. Федоров все объясняет так: он ни на кого не доносит, но если прокуратура у него спросит, он скажет. Но прокуратура неприкасаемого Вавилова старательно обходит стороной. Фраза из передачи по 3-му каналу: «Люди Вавилова сначала стреляют, а потом думают».
18 марта, понедельник. Так бы весь день и утонул, если бы вечером не поехал вместе с В. С. в Дом кино на вечер, посвященный 50-летию выхода в свет фильма «Рим в 11 часов».
Неужели я все помню это еще с молодости? Это, конечно, классика неореализма, но сегодня отчетливо видно, как жестко все это сделано. Реализм всегда подразумевает жесткую, почти формальную конструкцию. Во-первых, здесь — единство времени, все происходит в течение суток, во-вторых, почти полное единство места, одна декорация. И единство действия, одно событие — обломилась лестница. Каждый образ также как бы сконструирован и рассчитан инженером, и тем не менее, несмотря на все «блоки» и «подпорки», фильм смотрится на одном дыхании — так точно очерчены социальные границы, мы узнаем стоимость десятка каштанов, стоимость газеты, ночной заработок проститутки и месячное жалование машинистки. Настоящее искусство — всегда социология. А как точен разброс социальных групп героинь!
Во время фильма почему-то размышлял о профессии сценариста. Почему все они, даже самые знаменитые, так стремятся идти по ведомству писателей, хотят во чтобы то ни стало называться писателями? А просто потому, что все эти люди при помощи одного слова, как это делает писатель, не могут выйти на конечный вариант, на продукт творчества. Габриловичу всегда будет нужен Райзман, а Райзману еще и актер с его неповторимой, конкретной человеческой палитрой чувств. Слова сценаристов должны быть накрыты, как колпаком, душой актера и мастерством режиссера.
На выходе после кино встретил Вл. Семаго. Он пришел посмотреть «Рим», потому что считает, что современному кино необходимо что-то подобное, «диалоги должны быть посовременнее». Значит — фильм о тотальной нищете народа.
19 марта, вторник. По телевидению передали, что ограбили квартиру дочери Собчака Ксении. Налетчики открыли металлическую дверь и похитили драгоценностей на 600 тысяч долларов. Трудно, конечно, предположить, что Ксения эти деньги заработала сама. Это наследство от градоначальника и демократа. Плата за увиденные с такой очевидностью саперные лопатки.
22 марта, пятница. В двенадцать дня в мэрии церемония вручения премии «Легенда века» Борису Васильевичу Петровскому — знаменитому хирургу и Николаю Константиновичу Байбакову — знаменитому экономисту, тому самому, который 20 лет, с 65-го года, был Председателем Госплана. Белый зал мэрии освоен уже по-другому. Стулья стоят не спинками к окнам, а как бы из угла в угол, двумя такими клиньями. На этот раз на небольших хорах наверху, которые держатся на четырех колоннах, инструментальная четверка: скрипки, альт, кажется, виолончель. Под хорами, под балкончиком, два кресла на фоне двух скрещивающихся флагов: российского и московского. Все участники церемонии заходят, как обычно, со стороны лестницы. Обстановка самая державная, тоска у нас всех по величавости. Все ждут. Наконец открываются двери, ведущие вглубь. Толпой любимцев окруженный, выходит мэр. Уже много позже, вдогон церемонии, по-свойски, как черный ангел, из тех же дверей выйдет Орфей нашего времени Иосиф Кобзон. Потом ко мне подойдет балетмейстер Брянцев, и мы с ним вспомним, как на комиссии Иосиф Давыдович предлагал в качестве «легенды» Башмета или Спивакова. Запамятовал. Помню его еще молодого, и мы тогда подумали, рано в легенду, до легенды надо дожить.
Мэр очень точно и без спрямлений обрисовал заслуги каждого. Такое ощущение, что недавняя советская эпоха уже не вызывает неприязни и отторжения, — о ней говорят, как о данности, которая улетела. Она уже не такая плохая, как еще несколько лет назад. Две легенды. Один — долгие годы был Председателем Госплана, и с его именем связаны разработки газа и нефти в Сибири, а другой — 15 лет был министром здравоохранения. Неплохое было, оказывается, здравоохранение. Приводятся цифры — в 3,8 раза за время «царствия» Байбакова вырос доход страны. Петровский сделал первую в стране пересадку почки. Байбаков был еще наркомом и министром нефтяной и газодобывающей промышленности. Так вот, природный газ в стране не добывали почти вовсе, а в 88-м году уже 815 миллиардов кубометров. Когда объявили эту цифру, я вспомнил, как нам в центр Москвы где-то в конце 50-х проводили в дом газ. Как все в этом мире связано!
Все эти цифры и вся эта подробная и доброжелательная речь мэра — я, кстати, отметил, как хорошо и толково ему пишут речи и тексты, — прозвучали обвинением сегодняшнему строю, который ничего не может, а дожевывает наше прошлое.
Потом выступили лауреаты.
Петровский говорил о необходимости помнить историю. Говорил о перевесе смертности в России над рождаемостью, о нездоровье нации. «Нельзя же проходить мимо того, что скоро мы не будем иметь здоровых учеников».
Байбаков в такой же, как у Петровского, спокойной и уверенной манере старого человека сказал сначала, что у него 6 орденов Ленина и все ордена стран народной демократии. Говорил о должностях, которые занимал: «На этих должностях надо было много думать, прежде чем принимать решения». Называл цифры добычи нефти и газа, когда он занимался всем этим. Подчеркнул, что на эти деньги страна и жила. Сказал, что ему обидно, что те показатели, которые были, сейчас неуклонно снижаются. В конце речи сказал так: «Дай Бог всем 100 лет жизни. Если мало будет, то — продлю».
Поили шампанским. Я, как и сидевший рядом со мной Ульянов, от шампанского, которым обносили, отказался. Я спросил: «Михаил Алексеевич, отказываетесь потому, что, когда выпьете, плохо работается?» — «Да, работается тогда плохо».
27 марта, среда. Еще когда грузился в вагон, отправляясь на конференцию в Нижний Новгород, на подходе сразу заметил, что в небольшой очереди, как раз передо мной, стоит Анатолий Игнатьевич Приставкин. Не стал окликать, но утром, выходя из вагона, увиделись. У каждого из нас разные дела. Но я по своей мстительной привычке все же вспомнил, что накануне в моем семинаре занималась одна его студентка, которая жаловалась и от своего имени, и от имени своих товарищей на то, что они редко видят своего мастера. Будет случай, обязательно скажу ему об этом.
Два блока событий. Первое: экскурсия по музеям. Домик Каширина. Квартира Горького.
В этот раз у меня была возможность оглядеться по сторонам возле домика Каширина. Зашел в мастерскую, увидел эти три котла, в которых красили ткань. Как-то со всей стереоскопичностью увидел весь этот быт. Наверное, это один из лучших литературных музеев детства писателя. У меня одна лишь аналогия — дом Прустов в Комбре — здесь опять бабушка, утешение.
Недалеко от домика Каширина стоят две безобразные девятиэтажные блочные башни. Каким же нужно было обладать идиотизмом и внутренней черствостью, чтобы разрешить это строительство! Там, где надо было охранять даже воздух, строят эти безобразия. Впрочем, надежда есть — ведь ломают же новый «Националь» в центре Москвы!
Квартира Горького, которая видела такую бездну людей, тоже заплывает современными постройками. Нужна охранная зона, нужно понимание того, что все заводы, вся современная техника, её свершения — всё это со временем уйдет и испарится. А горьковская планета еще долго будет вращаться вокруг этих мест и сверкать. В музее предложили некий новый принцип показа экспозиции. Горьковская актриса играла актрису МХАТа того времени Цветкову, которая много раз бывала и жила в этом доме. Как прием — это грандиозно, но текст не до конца продуман, здесь нужна еще драматургия, надо играть саму личность актрисы.
Вечером пытался не пойти в театр на спектакль «На дне». Но в конечном итоге оказался в новом Театре комедии — на спектакле, поставленном моим московским знакомцем Валерием Беляковичем. В антракте стали спорить: Горький это или не Горький. Наши московские литературоведы уверяли, что не Горький, им мешали куски, которые Белякович внес в пьесу из черновых вариантов, и отрывки из его ранних романтических произведений. Пугало всех и оформление, то же, что и в Театре на Юго-Западе: нары, стоящие в ряд, и пар, который поддают под сцену. Но общая картина спектакля вылилась в какой-то эмоциональный крик. Молодежь всё воспринимала с интересом. Что может помешать Горькому? Он победит только в том случае, если ему предоставят свободу. Кстати: я много думал о самой внутренней стати Горького — конечно, он протестант, диссидент, я бы сказал — анархист, не любит позитивный мир, этот позитивный хорошо бы разрушить, чтобы потом его описать.
28 марта, четверг. Конференция состоялась в Кремле, в бывшем дворце губернатора, который уже лет 8–10, как переоборудован под художественный музей.
Как ни странно, в конференции больше заинтересованы иностранцы, чем мы, только одних японцев было 8 человек. Наши исследуют, в основном, мелкие проблемы, много занимаются архивом. Отдельных выступлений я даже просто так и не понял — было очень скучно. А вот немец Кнегге Армен сразу поставил проблему «новый или вечный Горький», вопрос о реинтерпретации личности и творчества писателя. Меня его сообщение обожгло: точный отсчет шел не от «Матери» и «первого пролетарского писателя», хотя и это имеет значение, а от специфики творчества, от бунтарства, от его бездельников, бичей, и пора закрывать — здесь я уже не могу понять, где Кнегге, а где я сам, — и пора закрывать мелочи его биографии, социалист ли он, или вечно сомневающийся. Кстати, не нужно забывать, что Екатерина Павловна, его жена, была убежденной эсеркой.
Мое сообщение пошло в виде приветствия вначале. Я говорил, что приветствие — не мой жанр, но зал слушал с огромным вниманием, и я это чувствовал, пока выступал. Твердо решил из этого доклада, добавив цитат из моих студентов, сделать большую статью для «Литгазеты». Завтра самый интересный, секционный день, но, к сожалению, я вынужден уехать. Поэтому при встрече с губернатором я обязательно выскажу мысль о необходимости поддержки такой неповторимой величины, как Горький, — всегда и в любое время.
Разговор за обедом с Марфой Максимовной Пешковой. Бывают моменты, когда довольно долго молчавший человек прорывается.
Я начал с того, что мы с ней так долго жили на одной и той же улице — Малой Никитской, потом Качалова, потом опять Малой Никитской. Я только умышленно утаил, что она жила в знаменитом горьковском особняке, а я — в 18-метровой комнате, выгороженной от вестибюля. Я еще мальчиком помню тот дом с наглухо забитым поверх знаменитой кованой решетки забором. Меня всегда волновало — что там, как там, в особняке Рябушинского, творилась жизнь. Марфа Максимовна была замужем, как известно, за сыном Л. П. Берии. Я, естественно, не сказал, что ордер на арест моего отца был подписан лично Л. П. Зато сказал, что видел Берию живого и достаточно близко несколько раз. Рассказал, в частности, эпизод, когда весною, где-то в 50-м году, мы играли в мяч на небольшой площадочке возле Дома звукозаписи. Вся эта охрана с поднятыми вверх воротниками нас хорошо знала, и поэтому мы не представляли для них никакой опасности. Но когда я случайно повернулся, то увидел: угловое окно бывшего литвиновского особняка открыто, и человек с портрета, в пенсне, смотрит на играющих детей.
В ответ на эту откровенность Марфа Максимовна тоже что-то рассказала о жизни деда и своей семьи. С легкой руки Берберовой, которую в свое время как бы выдворили из дома Горького в Италию (и, кстати, вместе с Ходасевичем), возникла легенда о Максиме как сыне-бездельнике. К Берберовой Горького ревновала Андреева, а Максиму выпала миссия сказать этой супружеской чете, что им пора сменить местожительство. Так вот, о легенде. Во-первых, Максим был кем-то вроде секретаря и дипкурьера при отце. Отец очень часто посылал его с гостями в путешествие по Италии, а во-вторых, будто бы было дано Максиму, всегда сочувствующему большевикам и левым течениям, особое поручение Ленина — быть рядом с отцом. Второй для меня неожиданностью оказалось известие о том, что Горький очень мало жил в Москве, в знаменитом своем особняке. Его дни, в основном, проходили на даче, в тех известных Горках-10, где потом жил Ельцин. У Горького был даже особый свой чемоданчик, с которым он ездил с дачи в Москву. В нем он возил книги. Умер он также на даче. На ней долго была мемориальная доска. Потом она исчезла, и дача превратилась в профилакторий для высокопоставленных партийцев. Еще существовал какой-то мемориал — затем всё пропало. Большая часть вещей ушла во второй музей Горького, на Поварской.
Максима не любил Сталин. Максим, уже в СССР, очень часто ездил вместо Горького, которого приглашали в колхозы и другие места, и был там как бы «глазами писателя». Вот тут его и начали спаивать. Вроде бы принимал в этом участие и секретарь Горького Крюков. А Максим, видимо, слишком много давал точной информации отцу.
По городу. Два часа ходил по городу, по центральной улице, которая у них называется, кажется, Покровской. Город действительно может очаровать своей вычурностью и непосредственностью — он весь как русский характер. Видно, какое огромное количество денег и труда вогнали в этот город прежние поколения и как комфортно и свободно здесь жили.
Много молодежи, бросается в глаза, что нет таких повальных разговоров по мобильным телефонам, как в Москве. Возле Оперного театра довольно одиноко и неухоженно расположился памятник Добролюбову, а почти напротив него — памятник Свердлову, он отсюда. В нескольких шагах от памятника большая памятная вывеска некой мастерской Свердлова, в которой делались печати, штампы и, кажется, там же находилась и типография. Стоит дата — 1861 г. В революцию шли только сыновья обеспеченных родителей. На Оперном театре афиша: 6 марта приезжает Алла, тут же вывешены и расценки концерта знаменитой певицы — с первого по десятый ряд по четыре с половиной тысячи рублей за место. Искусство воистину принадлежит народу, и теперь народу ничего не остается, как заводить свое собственное искусство, может быть, это и к лучшему.
Встреча с губернатором Ходаревым.
Тот же самый, полюбившийся мне Кнегге Армен, профессорствующий в университете в Киле, рассказал, что в свое время побывал на встрече с губернатором Немцовым. Судя по всему, Немцов несколько удивил его своей раскованностью, которую Кнегге квалифицирует почти как развязность. Я отмечаю этот эпизод потому, что имя Немцова Геннадий Максимович Ходарев упомянул примерно в таком контексте: «Немцов принимал от меня область (а Ходарев был первым секретарем обкома), входившую в первую пятерку по доходам и уровню жизни в СССР. А сейчас область занимает 44-е место по этим показателям».
Ходарев выглядит значительно лучше, чем его показывают на телевидении. В нем много жизненной энергии, он коротко подстрижен; кстати, он сказал, что вернулся на этот пост исключительно из-за Немцова, чтобы не дать тому окончательно погубить город и область, которые считает детищем своей жизни. Говорил губернатор о большой смертности: до 30 тысяч человек умирает в год. Это много. Прожиточный минимум в области — 1400 руб., около четверти населения колеблется в этом пределе, половина — за чертой бедности. Большое количество предприятий ушло в офшор, т. е. не платит области налоги. Судя по всему, так же стремится поступить бывший ГАЗ, владельцем которого стал «Сибирский алюминий». Политика Ходарева заключается в том, чтобы вернуть неплательщиков.
29 марта, пятница. Вот пишу и пишу, а о главном умалчиваю, на самом деле все время обеспокоен положением дел в Израиле. Начавшееся несколько недель назад противостояние палестинцев и израильтян переросло в войну. Ночью взяли бункер Арафата, и практически он сейчас под арестом. До этого была целая серия терактов, когда смертники-палестинцы, среди которых есть и женщины, взрывают кафе, устраивают взрывы на остановках транспорта и в автобусах. Мне кажется, что все это очень и очень серьезно. Мир, потревоженный в одной стране, в первую очередь в Афганистане, детонирует в другой — в Палестине. Энергия перетекает. Здесь не только борьба за права коренного народа и веру, но и протест против уровня и образа жизни, предложенных в первую очередь Америкой. В известной мере это все направлено против США. Сейчас израильтяне ввели на территорию автономии много танков, но собери они всё оружие на свете в эти места, по-прежнему жить они уже не будут. Израиль превратится в зону страха. Арабы объединены общей справедливой идеей и своей молодой кровью.
Наконец-то вышла моя книжка «Попутные мысли». Тираж крохотный, но посмотрим, что из этого получится. Вечером показал книжку B. C., а потом мы долго говорили о моих дневниках. Не мое это изобретение — печатать дневники по мере их написания. Я достал с полки дневники Достоевского — здесь другой, не камерный размах, но точно так же писатель не пишет своего, очень личного, а лишь политический и общественный фон. Мои живые и действующие герои — это лишь персонажи вокруг, попытка придать политике видимость беллетристики. Она ведь тоже бывает разная. Отчетливо сознаю, что такой дневник можно писать лишь на моем месте или месте очень похожем.
Вечером в свою передачу «Глас народа» Савик Шустер пригласил Зюганова, Немцова, Губенко. Это главные действующие лица, был еще молодой человек со стремительным желанием облизать президента, фамилия его типа Володин. Передача была посвящена двухлетию Путина у власти. Путин сам сейчас отдыхает на Байкале, катается на лыжах и ведет умные переговоры с сибирскими учеными. Телевидение с энтузиазмом, как если бы царь встретился с волостными старшинами, докладывает об этом. Но что они могут ему посоветовать? Сменить режим? Сменить в государстве или хотя бы скорректировать форму собственности? Национализировать собственность олигархов? Но с чьей поддержки пришел Путин к власти? Кстати, утром или накануне я видел по ТВ Глеба Павловского, который уверял, что Путин сейчас лидер нации. Глеб Павловский — большая Берта режима, его последний резерв.
О передаче. Это был, конечно, разгром правых сил во главе с Немцовым. Если бы не возраст Губенко и Зюганова, время-то молодых! Губенко цитировал монолог царя Бориса, обращенный к сыну. Здесь о советчиках, об армии, о «царском слове». Оценки, которые давали, как в школе, Путину, балансировали от тройки до четырех с плюсом. Интересно говорил Саша Ципко, мой старый знакомый по земскому движению: что от Путина ожидали личной безопасности, уничтожения коррупции, изменения курса в экономике. Ничего этого не произошло. Страна, взятая в аренду.
30 марта, суббота. В 19-часовых «Вестях» передали о гибели американского многоразового космического корабля «Шатл». Погибло семь или шесть космонавтов, среди них парень из Израиля. Американцы делают так же, как в свое время и мы — космонавт-болгарин, космонавт-монгол. У американцев космонавт-израильтянин. Как передали, полковник или подполковник израильской армии был одним из лучших летчиков ВВС, в свое время в Ираке принимал участие в воздушном налете на атомный центр, потом участвовал в знаменитой операции в Ливии. Всех жалко. Это тот случай, когда скорбит все человечество. Но Америка слишком часто начала давать нам примеры мировых телевизионных катастроф. Только что, так же как и долгий трагический полет «Шатла» в атмосфере, когда сверкающий корабль осыпался сверкающим расплавом и человеческими жизнями, мы запретно-трагически наблюдали разрушение двух зданий Всемирного торгового центра. В этом всемирно-американском несчастье, случившемся накануне новой американской атаки на Иран, в этой гибели американской команды с американским летчиком на борту, при этом противостоянии Ирак — Израиль видится что-то тревожно-мистическое.
1 апреля, понедельник. Из воспоминаний еще воскресенья. Как-то совсем недавно подсчитали: если ехать из Обнинска домой по Киевскому шоссе, можно насчитать больше пятидесяти — только по одной стороне, правой, — памятных мест, где произошли аварии с человеческими жертвами. Но это лишь внешняя сторона дела, мы научились ритуалами окружать и смерть, и жизнь, но вот с самой ценностью жизни, как проявлением общего, дело обстоит совсем по-другому. Почти на подъезде к Пахре произошла дорожная авария. Человек, которого, видимо, сбила машина, лежит на асфальте, дорожники поставили оградительные тумбы, возник затор; и вот, несмотря на эту самую жертву, лежащую на земле, кто-то из автомобилистов пытается протиснуться через ограждение, без очереди, рядом с лежащим, мешая врачам и милиционерам, прут и прут. Это не моя жизнь, не моя смерть, я еще готов погоревать, если так положено, над своими близкими, но коли не мое, то вперед, вперед.
3 апреля, среда. В Думе все правые фракции объединились и лишили коммунистов всех традиционных комитетов. По сути дела — это государственный переворот. Два года назад именно в такой пропорции комитеты были разделены с согласия все тех же партий, и с тех же самых пор думский состав не изменился. Почему же тогда, встает вопрос, правые партии были согласны на такой раздел. Во-первых, это, конечно, и тогда и сейчас произошло с молчаливого одобрения и согласия президента и, во-вторых, потому, что нужно было пробивать бюджет, за который коммунисты проголосовали, пойдя на компромисс. Время для перестановки выбрано очень точно — цены на нефть повышаются и, следовательно, можно ожидать временной социальной стабильности. Буржуазия действовала нагло, решительно и без сантиментов. Диалектически это означает, что теперь правые партии взяли на себя ответственность за страну. Теперь народ остался один на один с буржуазией. Дойдет ли до него, что власть зависит от выбора. Но мы уже знаем, что без партии народ — это мягкая и податливая масса. Иллюзии относительно Путина исчезают. Есть мнение, что все это продолжение действий «семьи», выходцем из которой Путин и являлся. Ученик Собчака. Можно также предположить, что в процессе участвует и Борис Абрамович Березовский, который ведь поклялся убрать Путина. Он своего добьется.
Один из наших охранников рассказал следующее. Они, а это высшие офицеры в звании полковников, подполковников и майоров, уже два месяца участвуют в подготовке к параду. В этом году все каре будут сформированы из офицеров. В армии настолько низка строевая да и вообще подготовка, что начальство не рискует вывести обычные части. Три-пять тысяч высокооплачиваемых людей будут имитировать солдат! О, если бы об этом узнали все налогоплательщики.
4 апреля, четверг. Утром прочел выступление Игоря Петровича Золотусского на пленуме Союза кинематографистов. Это большое разгромное выступление против сегодняшней интеллигенции, вернее, против ее элиты. Он упрекает ее в забвении интересов народа и в любви к власти и материальным выгодам. Много в этом выступлении отведено понятию свободы. Поразила одна цитата, которая буквально обожгла меня своей близостью к тому, о чем постоянно думал, и уже давно, я сам. «Георгий Федотов еще в 20-е годы писал, что после падения коммунизма идеалом интеллигенции станет мещанский идеал». В своем выступлении Игорь Петрович вспомнил даже «Вехи». Хорошее, толковое выступление, но почему-то подумалось, что обо всем этом целый ряд писателей говорили еще 8–10 лет назад, предостерегали от этой всеобщей и излишней свободы, отмечали, что оголтелым «свободолюбием» отличались вполне определенные писатели, вполне определенные писатели раскачивали наш Союз писателей, и вполне определенные критики и режиссеры так же раскачивали Союз кинематографистов. А сейчас мы обо всем этом плачем, говорим о необходимости идти вслед за историей России, не пытаясь вычеркнуть из этой истории ни одной страницы. Но когда мы об этом же самом говорили в свое время, то мы были антисемитами, нас бранили «патриотами» и коммуняками.
Был у Сережи Кондратова — отвозил ему свою новую книжку. Говорили о многом: политике, о налогах, о 13 процентах. «Одно сейчас бесспорно, — говорил Сережа, — все перестали давать деньги в конвертах». По его мнению, это оживит экономику. Может быть, действительно всё не так плохо?
С невероятным тихим упорством израильтяне продолжают расправляться с Палестинской автономией. Спрятанные за броней тяжелых танков израильтяне «утюжат» арабские города. Арафат изолирован в бункере своей резиденции. С пленительным ощущением безнаказанности израильтяне перекрыли все щели для журналистов и телевидения. Вот, кстати, образец, как надо бы поступать и в Чечне. Россия отозвала своего специального представителя, которому израильтяне не позволили встретиться с Арафатом.
В Думе меняют таблички на кабинетах начальников. Самое интересное, что к председателям комитетов претензий никаких не возникало. Глазьев, Лукьянов, Маслюков — все это люди очень высокой квалификации. Но все это люди социально ориентированные. Возникла дилемма: правительство устраивает спикер Селезнев, человек широкий и взвешенный, в известной мере он является как бы символам политической широты, а его товарищи по компартии настаивают на его уходе. Я отчетливо сознаю, что уход Селезнева мог бы вызвать политический кризис. Жириновский, который знает все, говорит, что никуда Селезнев не уйдет, не сможет расстаться со своей дачей в Серебряном бору и с «мигалкой».
Сегодня «ушла» госпожа Нарусова. Фонд немецкой помощи людям, которые в войну работали на немцев, т. е. угнанным в Германию, сегодня передали в ведение Починка.
6 апреля, суббота. Вечером начал читать книжку Н. И. Дикушиной «Александр Фадеев. Письма и документы». Я очень рад, конечно, что эта книга вышла у нас в институте и что я помогал доставать на нее грант. Я не скажу, что Фадеев встает здесь для меня в новом свете, скорее наоборот, возникает большее ощущение его расплаты за собственную судьбу. Сами письма и документы, отобранные, разысканные и откомментированные Ниной Ивановной с педантичной любовью и воодушевлением, складываются в удивительную картину.
Особое место занимают письма к Ангелине Осиповне Степановой — это поразительная по непривычному накалу нежности и заботы лирика. Видно, что в момент их написания А. А. испытывал некую почти физиологическую и пристрастную нежность — это письма не литератора, а вечного мужа и вечного возлюбленного. Как он только успевал делать это среди своей работы, полной говорения, диктовок и письма! Нет ответных писем Степановой, которая ныне уже покойная, а есть письма многих и многих отдельных знаменитых и незнаменитых персонажей литературы. Правда, мы помним ее переписку с Эрдманом, который был влюблен в нее и в которого она была влюблена.
Второй слой писем — это «реабилитационные письма» последних лет, где А. А. с блеском и литературным талантом отбивал у власти реабилитированных коллег, друзей, старых знакомых. Только зная, как я, советскую догматическую систему изнутри, понимаешь это удивительное мастерство крупнейшего чиновника и писателя писать в поле привычных для советских чиновников образов и системы доказательств. Он талантливо сплетает свои запоздалые панегирики из старых подлинных воспоминаний, верности убеждений своих протеже, примеров из их биографий. Он будто боится кому-нибудь отказать. Он, властный чиновник, хочет быть первым и основным просителем за этих незаконно страждущих.
Но здесь же есть очень интересные письма, свидетельствующие о приоритете его знакомых и друзей или о разнообразии обращенных к нему просьб. Он, например, пишет: «Председателю Совета Министров СССР товарищу Булганину Н. А. Прошу Вас дать указание о прикреплении к первой поликлинике 4-го управления Министерства здравоохранения (так называемой „кремлевской“) писателя Маршака Самуила Яковлевича».
Самые поразительные — это письма Пастернака Б. Л. Они большие, написаны настоящим поэтом, здесь яркость стиля и энергия. Кажется, у Фадеева и Пастернака были не самые ровные отношения. В этих письмах Пастернака чувствуется, как мне кажется, отработанное и застарелое презрение, но тем не менее все они посвящены какой-то просьбе, даже комплексу просьб. Поэт расчетливо и прозорливо ведет свои материальные и издательские дела. Дружба льва и тигра. Кажется, о чем-то подобном писал в своих воспоминаниях Вася Ливанов.
На этом пока чтение прекращаю, впереди у меня раздел, посвященный переписке Фадеева и Твардовского.
7 апреля, воскресенье. В последней «Литгазете» напечатано открытое письмо Лимонова к министру культуры Швыдкому. Если уж кому-либо и завидовать из современных русских писателей — то Лимонову; какой талант, какая ярость, какая открытость и какая судьба. Письмо яростное и точное. Гениальность Эдуарда Вениаминовича выразилась уже и в том, что он своей мишенью выбрал Швыдкого. Для министра это очень неприятный текст. Он открывается обращением: «Уважаемый господин Министр культуры!» О сути, в чем его обвиняют, я не пишу, для меня новое — только одно: «попытка организации вооруженного формирования, чтобы потом вторгнуться в республику Казахстан». Глупость все это. Но вот потрясающие последние пассажи этого письма. «Я понимаю, — пишет Лимонов, — что идеалом писателя для российского государства образца 2002 года служит Жванецкий, а его украденный джип — потеря для культуры России, но я хочу, чтобы Министерство и Вы лично предприняли усилия для моего освобождения».
Стиль самодостаточного писателя — умение говорить с властителями мира на равных. По крайней мере, у писателя больше шансов остаться в энциклопедии и уж особенно в памяти народной, чем у телевизионного ведущего и послушного министра.
«Прошу Вас обратиться к президенту Путину, к господину Патрушеву и господину Устинову и как министр культуры объяснить им… Объясните Вашим товарищам министрам, господин Министр, что я не Жванецкий, что меня будут изучать в школе и университетах рядом с Хлебниковым и Достоевским». Браво! Господин министр теперь узнал, что его обязанность не просто тусоваться и заботиться о канале «Культура» — он, голубчик, отвечает не только за библиотеки и кинотеатры, но и за всю культуру.
8 апреля, понедельник. Вечером немного посидел над «Сказками» и читал переписку Фадеева. Мы, конечно, выпустили грандиозную книгу, здесь не только новый Фадеев, но и новая русская литература. Писатели, даже самого первого ряда, поразительно и грандиозно чего-то все время просят у своего принципала. Огромное впечатление на меня произвело письмо Пастернака:
«…Два года тому назад издательство „Искусство“ заключило со мной договор на выпуск собрания моих шекспировских переводов. Если это возможно, мне хотелось бы, чтобы они их все-таки издали, и 30 тыс(яч) недоплаченных, которые я бы получил при выходе собрания. Сейчас я для Детгиза перевел „Короля Лира“. Может быть, они включили бы его в собрание» (260,1).
Дальше — больше.
«По поводу того же автора в Гослитиздате. У них после ухода Чагина осталась неизданной хроника „Король Генрих Четвертый“. По-моему, это первый раз, что Фальстаф понятен и смешон — спроси Маршака, он однажды слышал отрывки в ВТО. Мне очень бы хотелось, чтобы они издали перевод. Он оплачен и пропадает у них в рукописи. Кроме того, если бы работа оказалась удовлетворительной, не приобрел ли бы Головенченко и не издал ли бы только что сделанного „Короля Лира“?» (260,2).
Я, конечно, очень люблю Пастернака. Но каким он умудряется быть разным! Завтра обязательно эти письма почитаю ребятам. В искусство писателя, видимо, входит и искусство просить.
«У меня нет никаких притязаний на вновь вводимые высшие тарифы. Я не Сельвинский, не Твардовский, не Лозинский и не Маршак. Но в пределе старых расценок, остающихся для большей части членов Союза, мне бы хотелось, выражаясь высоким слогом, видеть плоды своих трудов напечатанными и извлекать из них пользу. Все это, разумеется, если ты считаешь эти пожелания справедливыми и они не противоречат твоим убеждениям» (260,3).
К Пастернаку я еще, видимо, вернусь по мере пролистывания книжки.
Доблестные писатели самого первого ряда отчаянно славят «Молодую гвардию». Конечно, в этом есть некоторая магия времени, но большим писателям ясно, что не все главы там написаны одинаково равноценно. Масса и скучнятины, и вещей служебных. Ну, и опять Пастернак, Сталин уже умер. Но ничего не предвещает изменения в режиме и в положении Фадеева.
Впрочем, писатели — существа странные, это талантливейшие самопровокаторы. Они, как актеры, возбуждают к себе любовь, перед тем как выйти на сцену, чтобы провести сцену с Офелией.
«Дорогой Саша!
Когда я прочел в „Правде“ твою статью „О гуманизме Сталина“, мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.
Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа». (284,1).
Я приведу ребятам в качестве примера и письмо писателя М. Ильина от ноября 53 г.
Что на самом деле думает писатель? Но чтобы он ни думал, даже сравнивать, даже просить надо, не выходя из пространства культур и здравого смысла. Ильин читает «Молодую гвардию», но перед этим он, видите ли, прочитал «Пармскую обитель», в том числе прочитал и знаменитые первые главы о битве при Ватерлоо. Ну что же, главы действительно знамениты, и, возможно, что им мы обязаны поразительным батализмом Толстого. Об этом я еще писал в одной из своих курсовых работ. Может быть, поэтому хорошо знаю роман и его героев.
«И вот, читая Вашу книгу, я невольно сопоставил с Фабрицио дель Донго Сережу Тюленина, которого тоже не хотели принимать всерьез, которого тоже не хотели брать в солдаты и который все-таки сумел добыть стоящую винтовку и принять участие в настоящем бою.
У Стендаля реализм — обескрыленный, свалившаяся в грязь романтика.
У Вас — реализм, обретающий крылья в романтике героической борьбы. Две разные эпохи: эпоха падения у Стендаля, эпоха взлета у Вас. И в этом, вероятно, одна из причин того подъема, с которым написана Ваша книга» (287–288).
16 апреля, вторник. Наконец-то я понял, как извлекаются проценты роста российского товарооборота. Утром в 9.00 я ходил в ведомство Грефа по поводу реконструкции здания. В свою очередь, в этом огромном доме, занимающем целый квартал за кинотеатром «Москва», идет перестройка. До нужного мне отдела добирался через двор, на котором кипит стройка. В основном здесь турецкие рабочие. Это показательно: мы все время говорим о поддержке российского предпринимателя, а ведомство главного экономиста страны строят чужие рабочие. Так вот, во время длинного перехода через двор у меня мелькнула такая лукавая мысль: готовя очередную победную справку для президента, Греф выглядывает в окно и обозревает стройку во дворе: как там идут дела? И вот если он видит, что по двору ходят десять рабочих и два подъемных крана поднимают грузы, значит, 10 % прироста, а если рабочих семь или девять, а кран лишь один, то 8 %.
1 мая, среда. В шесть утра поставил градусник, температура 36,1, но слабость, и все плывет. Не вставая с постели, принялся читать конкурсные рукописи. Очень много девочек, и с первой же рукописи мне не повезло. Утром все время по телевизору ждал парад или демонстрацию, а потом вспомнил, что время поменялось, и сегодня празднуют праздник огородной необходимости. Парад состоится лишь девятого мая. Уже объявили, что не будет ни ветеранов, ни техники. Вместо парада по телевизору показали «Весну на Заречной улице» Хуциева. Вот тебе и соцреализм! С какой убедительностью фильм показывает ясность народной жизни, надежды, которые жили в обществе. Это все очень отчетливо видно. Сколько тонкости подмечено в характере рабочих парней и девушек, сколько русского. Производственная тема, но фильм этот еще и предупреждал о чем-то грядущем. О том, что впереди — царство вещей.
Весь день мерил температуру и сидел над словником к своему «Дневнику». Работа большая, около пятисот имен. Многое я уточнил по справочникам СП и Союза кинематографистов; когда дело дошло до телевидения, позвонил Саше Рудакову. Он, по своему обыкновению, рассказал мне украинский анекдот. Вот он. Сидят два украинских прапорщика и рассуждают о гибели под Сочи самолета, летевшего в Сибирь из Тель-Авива. Один жалуется другому: «До чего обнаглели москали! Недавно набили жидами полный самолет и возле Сочи сбили нашу боевую ракету!»
На Васильевском спуске коммунисты собрали около 200 тысяч участников первомайского митинга. Надо отдать должное нашим политикам, они своевременно застроили всю Манежную площадь.
2 мая, четверг. Вечером смотрел по телевизору фильм Сергея Бодрова «Сестры» — такая страшная жизнь, такое страшное время. Будто люди все еще играют в людей, а внутри это лишь говорящие животные; бессмертную душу им Бог выжег своей паяльной лампой. Это две сводные сестры 13 и 10 лет, а их мать — жена самого настоящего бандита. Девочку пытаются похитить, чтобы что-то выжать из отца. Бандитские нравы и их всепроникающая жестокость. На фоне этого фильма опять много думал о нашей власти, о нашем правительстве, о людях, которые пустили корабль кормой вперед.
4 мая, суббота. Вечером от начала и до конца смотрели концерт Николая Баскова. В нем смесь какого-то мальчишества, жеманства и бесовщины. В концерте принимают участие огромное количество звезд эстрады, все радуются, что появилась еще одна звезда, которая тем не менее своим высочайшим качеством не лишит их куска хлеба. По сути, он такой же. Ощущение сатанинства и ненастоящего, хотя не скрою, нравится. Концерт начался с того, что Г. Н. Селезнев вручил молодому артисту, к его 25-летию, удостоверение и грамоту заслуженного артиста. Что-то в этом было от Гойи.
После этого до часа ночи смотрел трансляцию Патриаршего богослужения. Душою был там. Я все время размышляю о Боге, о ритуале, в принципе, рождение Христа — 2000 лет назад — это так недавно!
5 мая, воскресенье. Утром позвонила В. С. Она чувствует себя, кажется, неплохо.
Вечером, уже дома, смотрел какую-то передачу из Дома актера, которую ведет Маргарита Эскина и, естественно, Александр Ширвиндт. Актеры развлекаются, забавляются, говорят неискренние слова. Я хорошо знаю многих из них, этим мне эта передача и интересна. Один из актеров (узнать я его не мог, надо спросить у Поюровского) вдруг решил показать, как ему думалось, занятный номер, а по мне так номер просто подлый. Он спел романс «Пара гнедых», перемежая его строчка за строчкой словами Гимна Советского Союза. Получалось так: «Пара гнедых, запряженных зарею, Союз нерушимых республик свободных…» и т. д. Многие актеры смеялись, но я заметил, что многие и не смеялись. К чести Бори Поюровского, он не смеялся тоже. После этой передачи я без угрызений совести говорю о морщинках вокруг рта у Юлии Борисовой, о неискреннем голосе Веры Васильевой и задаю себе вопрос: вот после смерти отца Маргариты Эскиной руководителем Дома актера стала она, а после нее станет какой ее родственник — сын, внук?
Умер великий русский дирижер Евгений Светланов, под Пасху. Великий русский композитор Георгий Свиридов умер под Рождество.
7 мая, вторник. Хоронил Светланова фонд его имени, который он недавно создал. Из правительства были В. И. Матвиенко и Н. Л. Дементьева. М. Е. Швыдкого, которого многие винят в смерти Светланова, на похоронах не было — «иначе бы его разорвали». Вот что «Труд» написал по этому поводу.
«Но в общем списке дружественных Светланову оркестров мы не найдем нынче очень важного и дорогого имени — Государственного академического симфонического оркестра России. Оркестра, которому, без преувеличения, отдано им полжизни. Светланов возглавил его в 1965-м и оставался бессменным руководителем до 2000 года.
Как могло случиться, что одного из величайших русских дирижеров не просто отставили от главного оркестра страны, но уволили за… систематические прогулы? Сегодня можно сказать, очень осторожно продолжает дальше Сергей Бирюков, Евгений Светланов пал жертвой того тяжелого кризиса, который постиг филармоническую музыку да и все серьезное искусство России в нынешнюю пору социальных подвижек. Старая система государственной поддержки рухнула. Новой не родилось…
Многие, в их числе вдова Евгения Федоровича Нина Светланова, винят в происходящем Министерство культуры и его руководителя Михаила Швыдкого».
8 мая, среда. Сегодня на Арбате открыли памятник Б. Окуджаве. Естественно, наш министр культуры, не сумевший найти в себе воли, чтобы пойти на похороны Светланова в Большой театр и там утереться от плевков вдовы, здесь-то уж отсутствовать никак не мог.
Вечером уехал в Обнинск.
9 мая, четверг. Утром мы еще ничего не знали… Показали парад, довольно пустынную Красную площадь без привычных толп людей со стороны ГУМа. Правительство во главе с В. В. Путиным стояло на трибуне возле Мавзолея. Принимал парад министр обороны Иванов. Но в это же самое время, оказывается, во время такого же парада прогремел взрыв в Каспийске и погибло более 35 человек. Для меня лично все это происходит на фоне бесконечных разговоров властей. Вечером по телевидению весь этот ад показали. Я связываю это еще и с последним визитом президента и его стремлением защитить рыбные богатства Каспия. Ответ. Показали и взволнованного Путина, который днем собрал силовиков и под оком телевизионных камер высказался. Он много последнее время говорит — и, как правило, говорит по подготовленным текстам. Конечно, все это Чечня и, конечно, бессилие власти — следствие воровства и дряблости демократии. Демократия в пользу преступников и воров.
По НТВ показали огромную демонстрацию в Москве, около 100 тысяч, которая шла под портретами Сталина. Как ни странно, это корреспондируется с сегодняшним положением в стране и сегодняшним недовольством правительством. Коли взялись управлять, то управляйте так, чтобы была жизнь, а не ярем.
Сегодня наши хоккеисты играли с финнами за выход в полуфинал первенства мира — и выиграли. В перерыве матча, в программе новостей, Татьяна Миткова оговорилась: «Счет 2:2 в пользу Финляндии». Если говорить об оговорках по Фрейду, то какое неверие в Россию, какое ощущение превосходства Запада, даже крошечной Финляндии!
10 мая, пятница. Вечером по телевидению был концерт жены и постоянной партнерши пародиста и сатирика Петросяна Елены Степаненко. Где-то очень верно сказал не очень любимый мною Бунин, что будущее принадлежит хаму и этот хам станет героем литературы. Я даже подумал, что на разных площадках Степаненко и Пугачева демонстрируют одно и то же: воинствующее мещанство. Самое поразительное, что в небольших дозах мне это нравится. В этот момент я ощущаю себя разведчиком в стане врага. Но сколько во всем этом пошлости; центростремительная сила всех этих номеров распространяется на пространство только ниже пояса. Все время показывают хохочущий зал. Я знаю по своему телевизионному опыту, как это снимают. Еще один на один с телевизором куда ни шло, но ведь, наверное, стыдно грохотать и улыбаться «над этим» рядом с соседями?
12 мая, воскресенье. Вечером, уже в Москве, начал смотреть фильм Спилберга «Спасти рядового Райана» с неподражаемым Томом Хенксом. Я смотрю этот фильм уже второй раз и опять убеждаюсь, что фильм насквозь идеологизирован. Какой там социалистический реализм, такой грубый идеологический нажим социалистическому реализму и не снился. Кино — это искусство воли и искусство конструкции. Наибольшее впечатление на меня произвели две сцены: это когда стенографистка обнаружила, что написала три похоронки, и идет докладывать об этом начальству, и как, увидев военную машину, мать Райанов садится на пол. Предчувствия уже долетели. Дома все пустынно.
В. С. рассказала о выступлении А. Ципко, который демонстрировал учебники по истории, он же сказал о том, что всем этим мы обязаны и нынешнему министру Филиппову. Суть его рассказа в том, что в наших учебниках по два абзаца о Сталинграде и Курске и по странице о танковой битве Роммеля под Аль-Аламейном. Как, однако, это корреспондируется с точкой зрения на телевидении! В дни, связанные с годовщиной Победы, показали огромный и дорогой фильм о той же войне, но с другой стороны. Подтекст: русские клали и клали своих солдат, совершенно не думая о горе одиноких матерей. Но может ли вообще искусство вмecтить в себя многообразие жизни?
16 мая, четверг. Удивительная вещь: Сталин никуда не ездил, никуда не посылал жен для «дипломатии улыбок», а держал в своих руках полмира.
23 мая, четверг. В 15 часов в Исполкоме на Поварской чествовали В. И. Гусева — ему 65 лет. Все было довольно традиционно: сначала легкая закуска — мясное ассорти, овощи, красная рыба с лавашом, а потом прекрасный люля-кебаб из телятины и чай. Это все из того же ресторана, находящегося внизу, в подвале. Но на этот раз за столом следил отлично вышколенный официант, ни разу не поднявший ни на кого глаз.
Весь этот ритуал имеет для всех нас метафизическое значение. Многие из нас недополучили от коррумпированной критики или от собственных завистливых коллег, мы и сами в нашем отчаянном быте не имеем времени сказать друг о друге доброе слово. Здесь представляется возможность и сформулировать, и сказать несколько слов о товарище. Наступает некий момент отчуждения, все начинает существовать в истинном свете. Гусев действительно крупный человек, невероятно много сделавший для нашего литературного процесса. Что русская литература не сдалась, не выстроилась во фрунт под влиянием наших западников — великое для нее благо. Это возможность для ее дальнейшего развития.
24 мая, пятница. В час дня у Арсения Ларионова в «Современном писателе» было вручение премии Шолохова. Я пошел туда потому, что и сам я лауреат, даже по этому поводу надел свою медаль, и потому, что состав награжденных был очень знаменателен. Здесь Слободан Милошевич, которому премия дается за противодействие Америке и нравственное сопротивление во время Гаагского суда, знаменитый белорусский художник Михаил Андреевич Савицкий, которому уже крепко за 80, здесь мой знакомый Ренат Мухамадиев, с которым я ездил в Китай, здесь же легендарный Валентин Иванович Варенников, знаменосец Победы. Вместо Слободана Милошевича был его старший брат, посол Борислав. Варенников получил премию за 7 томов своих воспоминаний, которые Арсений напечатал. Но книги эти, пока не выйдут все мемуары, не продаются. Прочесть это хочется страстно. Надо также обязательно посмотреть книгу Рената. Он много мне рассказывал об обороне Белого дома, когда мы ездили с ним в Китай. Будем сопоставлять два рассказа. В разговорах Ренат — человек бесхитростный и откровенный. Из речей особенно запомнилась речь Варенникова о Шолохове. Он говорил не только о колорите и объеме шолоховских произведений, но и о той правде, которую тот смог увидеть. «Долг перед своим народом — рассказать все, как было». Напомню себе, что Варенников единственный, кто отказался в свое время воспользоваться амнистией, он в суде доказал свою правду. «Эта награда и дальше укрепит дух Слободана Милошевича, — это речь его брата, — который разоблачил агрессию США против Югославии». Мысль: «В результате этой войны этническое пространство сербского народа сократилось». Ренат: «Мне откровенно предлагали министерские посты». «Мы живем в то время, когда от преступления до героизма один шаг».
26 мая, воскресенье.
Для «Труда»:
«Все разговоры о Буше скучны, путного, как утверждают политики, из этих переговоров ничего не получится. После канцлера Горчакова и Сталина мы вообще никогда путем дипломатических переговоров ничего не выигрывали, всегда что-то уступали во имя престижа первых лиц. Страна огромная, если понемножку отдавать, никто ничего и не заметит. Этот визит прошел на должном монархическом уровне: ужины, немножко переговоров, царские дворцы, байки про осетров, достойные младшего комсостава. Значительно в общегражданском смысле интереснее тот референдум против Закона о продаже земли, который затевают коммунисты. Так бы все это, может быть, прошло незамеченным, но опять именно об этом говорило телевидение. Но телевидение, как известно, сопрягается с жизнью. А если так, то позволю себе небольшую картиночку. Возле дачного участка, где я живу уже 20 лет, в излучине реки Протвы находится огромное поле. Всегда его распахивают так, что сам берег, пешеходная тропинка и лента зелени остаются свободными для прогулок, для туристов, для того, чтобы проезжали на своих машинах рыбаки. Постепенно в последнее время эта полоска дикой зелени сужается, а это значит, среди прочего, „потекут“, обрушиваясь в русло реки, и берега. Собственник ли это старается, или коллективный собственник, который уверен, что государству, кроме прямой выгоды, от земли ничего не надо, не знаю. В этом году поле распахали под урез, каждый сантиметр — в дело. Ощущение, что пахотная земля теперь принадлежит только хозяину. Но вот как на это ответили жители, привыкшие, что земля — общественное достояние. Старая присказка: „Когда Ева пряла, а Адам пахал, кто был господином?“ Вся прибрежная часть огромного поля, прямо по пахоте, расчерчена следами колес. Понятно? Теперь, как литератор, много раз читавший в книгах, как крестьян-потравщиков, скот которых заходил в помещичьи поля и леса, приводили на правёж к господину, и барин, попивая кофе, назначал полушки штрафа, я позволю себе пофантазировать. Теперь сюжет, видимо, изменится, народ, конечно, никогда не забудет, что земля — народное достояние, но теперь в хозяйский гараж рослые амбалы-охранники будут загонять старые, истертые ржавчиной „Жигули“ и „Ижи“, а новый хозяин, отхлебывая из стакана „Хеннеси“, будет назначать свои штрафы за потравы».
27 мая, понедельник. Новый вариант для «Труда». Это я пишу уже утром, хотя твердо уверен, что и утренний и вечерний варианты не пройдут.
«Телевидение ошибочно обозначило, что ночью оно показывает главный фильм-претендент Каннского фестиваля „Пианист“. Традиционно телевидение что-то перепутало и вместо фильма, действительно сегодня взявшего „Золотую пальмовую ветвь“, показало старый, но чрезвычайно заслуженный фильм не Романа Паланского, а Д. Кемпион „Пианино“. Надпись в программке была такая: „Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля“. К сожалению, наш, сокуровский, „Русский ковчег“, как говорится, пролетел. Все те же компетентные корреспонденты телевидения всю неделю твердили, что знаменитый „русский проект“ — так заменяют теперь слова „книга“ и „фильм“ наши „культурники“ — является фаворитом фестиваля. Это все напоминало обычную русскую любовь к закидыванию шапками, а потом получается „пшик“. Показывали кадры из сокуровского фильма с Эрмитажем, накопленной царями за века роскошью, бароном Кюстином (личность известная и очень недолюбливаемая Николаем I), другими полугероями и полустатистами. Но вот эта чертова ошибка в программке или лукавство программистов позволили сделать вывод. Вероятно, „Золотая пальмовая ветвь“ дается за страсть, за осмысление человеческой судьбы, за невероятные жизни на экране великих актеров, а не за технические, пусть и замечательные, новшества и экстравагантность проекта».
29 мая, среда. Утро началось с третьего варианта заметочки для «Труда». Вот после этого и говори, что не существует цензуры. Или, может быть, писатель плохо пишет? А чего же его так хотят затащить на газетную полосу? Почему бы не привлечь хорошо пишущих журналистов? На этот раз газету не устроило, вернее, обеспокоило то соображение, что путаницу, возможно, внесло не телевидение, а те, кто издает программы. А потом, мы вроде не видели этого фильма. Но ведь именно, не видя, то же телевидение его сначала взахлеб и целую неделю хвалило! Очень теперь хочется взглянуть на этот фильм, где главный герой — автор книги о России середины XIX века маркиз де Кюстин. А я помню оценку его книги Гоголем в «Избранных местах». Итак, на работу позвонил Анри Суренович: С.Н., не напишете ли третий вариант? Я ведь не гордый. Для меня это тоже спортивная игра. Встал утром в семь, заснув после чтения Лимонова во втором часу ночи, и написал.
«Название популярной передачи президента Академии телевидения Владимира Познера „Времена“ как бы подразумевает знание телезрителем известного древнеримского присловья: „О, времена, о, нравы!“. Актуальная, конечно, цитата. Познер и его гости довольно часто безжалостно говорят о времени. В последней передаче оппонировали друг другу два знаменитых экономиста: Герман Греф и Сергей Глазьев. Рассуждали об Америке. Было высказано много соображений о нашей с Америкой дружбе навеки, о коррупции и пр. Среди этих соображений у Глазьева было и такое: дескать, „новые русские“ смотрят на Америку очень специфически, еще и как на одну из стран, в которую они вывозят свои капиталы. А как такую страну не любить и не холить! Был подсчитан и размер этого вывоза — 360 млрд долларов, из них 280 отправились именно в Штаты. Рядом с этими суммами любые инвестиции в Россию, в том числе и американские, покажутся мелкими подачками. Какой же здесь начался спор! Какие приводились детали! Вот только сам тезис о вывозе денег из России и размер этого вывоза ни министром экономики, ни самим Познером, тоже любителем Америки, опровергнут не был. Мне показалось это знаменательным. О, времена!»
Второй день работаю над неким документом. В конце концов, мы государственное учреждение, и государство вправе давать нам поручения. Президент едет в Константиново 14 июня, и меня просили написать мои соображения по поводу Есенина — судьба поэта и проч. В свою очередь, я попросил написать об этом по две странички Федякина и Леонова, оба делают такие вещи аккуратно и старательно. На этот раз у них не вполне получилось то, что я хотел, и то, чего от меня ждали. Поэтому загружаю всё это в свое подсознание: прокручу, подумаю, а завтра продиктую текст Екатерине Яковлевне.
31 мая, пятница. Всегда перед любой поездкой нервничаешь. Это со стороны кажется, что все мы говоруны и, практически, говорим на любую тему. Это не совсем так. Здесь важно не только знать, но и внутренне настрадать то, что тебе предстоит сказать. В общем, я еду в Михайловское на Пушкинский праздник.
На вокзале в Пскове нас встретил хитрован Александр Александрович Бологов и тут же объяснил, что на мою долю сегодня — выступление в библиотеке, а потом — ведение вечера в театре. Все-таки он вызвонил меня после многих лет моих отказов. И время неудобное — экзамены, огород, и Пушкина я так не знаю, чтобы о нем говорить. Я любитель. Выяснилось и еще одно обстоятельство: Андрей Дмитриевич Дементьев, именно он должен был вести вечер в театре, сначала капризничал (это всё по словам Бологова), говорил, что не ездит без жены, а потом подвернулись в Москве какие-то выступления, и Дементьев решил Пушкинским праздником пренебречь. Я его понимаю, Пушкинский праздник, действительно, где-то на излете, по крайней мере — моды. О внутреннем значении этого события мне еще предстоит сказать, а Андрею Дмитриевичу сейчас, конечно, надо отсветиться в нескольких местах. Его жизнь в Израиле была равноценна некоторому угасанию его популярности. Приехав, он уже заручился звездой у концертного зала «Россия», провел вечер в КДС. Поэт-песенник он очень неплохой, но мода на эту манеру уже кончается. Кончается и якобы молодость, здесь хоть крась брови и височки, хоть не крась. А уже по Евтушенко я вижу, что народ хочет видеть кумира молодым, и народ ведь уже тоже помолодел. В общем, Дементьев, который всякие блистания, отсвечивания делает мастерски, не согласился ехать, и всё упало на меня. Сразу выяснилось, что здесь две группы писателей: первая, которую собирал «наш» Бологов, и другая, приехавшая по приглашению Г. Н. Василевича, директора заповедника, сменившего Гейченко и даже, кажется, получившего Государственную премию за реставрацию дома-музея и всего комплекса. Эта вторая группа более, так сказать, демократическая: Максим Омелин, Андрей Волос, Санжар Яшин, один из лауреатов липскеровского «Дебюта», Саша Костин. С другой, «патриотической», стороны — Коля Коняев из Ленинграда, с которым я ездил в Иркутск, москвичка Полина Рожнова, милая и доброжелательная женщина, окончившая в свое время наш институт, Оразбайкызы-Тсуной, казахская поэтесса, работающая сейчас у Арсения консультантом.
Опускаю выступление в библиотеке, это все привычно, я только обратил внимание на местную, не очень готовую публику — ведь Омелин, Санжар и Костин действовали не очень правильно: стихи их трудны для понимания, требуют работы ума, стихи как бы наполненные. Наше, патриотическое, звено всё попроще. Грубо и не совсем тактично выражаясь, это не всегда поэзия, хотя есть и смысл, и определенная стихотворная ловкость. Вообще трудно подняться до тех «ранних электричек» Пастернака, чтобы было и народное содержание, и трепещущая, живая, страдающая форма. Оразбайкызы на вечере пела песни, говорила о дружбе, о Советском Союзе, в общем, вызвала полный восторг. Мне кажется, я со своей задачей справился. В конце выступления подарил институтскую майку председателю оргкомитета и вице-губернатору Юрию Анатольевичу, майку эту я хорошо потряс перед телевизионными камерами, все всё запомнили и будут теперь иметь в виду.
Днем ездили на экскурсию по городу. Возможно, Псков — самый нетронутый из многих городов Европы — слишком толсты стены, слишком фортификации связаны с природой. Конечно, много реставрации, но все это передает дух первозданности. Если бы были деньги, можно было бы во Пскове, словно за границей, писать, живя в гостинице, а часа на два выходить на экскурсии.
1 июня, суббота. …Но хватит умничаний и так хорошо работающих на мой дневник цитат. По бокам автобуса такая немыслимая зелень, такая красота, это 120 км до Михайловского. Иногда в полях что-то белеет — это аисты, их довольно много. Их всегда было много, но, видимо, сейчас развелись лягушки, а это всё аистиная пища. Я стал приглядываться к зеленым плоскостям вдоль дороги — всё это бывшие поля. Сидевший рядом со мной телевизионщик рассказал, что это бывшие поля, которые уже много лет, с начала перестройки, не засевают. Значит, скоро всё зерно будем покупать за рубежом. Все мы знаем, что значит не засеять поле: еще два-три года, и оно так зарастет, что никакая техника его не возьмет. К нашему разговору каким-то образом присоединились Омелин и Волос, сидящие сзади. У них своя точка зрения: причина в 37-м годе и в войне. Конечно, любой парень уйдет из деревни, если в деревне ни одного трактора, если нет бензина, чтобы заправить мотоцикл, а техника из колхозов ушла, потому что социализм держал и определенные цены на технику, и определенные объемы. Я уже не говорю о том, что в стране, которая добывает столько нефти, раньше были самые низкие цены на бензин и солярку.
Какой-то удивительный трепет охватывает на подъезде к Святым Горам. Я здесь не был лет 25, а тогда проезжал на своем «Запорожце» из Эстонии через Псков, пушкинские места, дальше, к Москве. В центре поднялась гостиница и огромный исторически-культурный центр. В автобусе поговаривали, что всё это было рассчитано на другие потоки туристов и посетителей. Мне тоже показалось, что и завтрашний день не соберет столько народа, сколько здесь было два года назад, в 2000 году, — чуть ли не 200 тысяч. Вернее, 200 тысяч собиралось раньше, а в прошлом году знаменитая поляна, на которой происходит праздник, была полна. Но тогда всё подогревалось и круглой датой, и приездом правительства, и открытием отреставрированного заново центра. Деньги дали огромные, и, забегая вперед, скажу, что деньги просто впихивали в реставрацию и Дома Пушкина, и некоторых других объектов. Современная фурнитура в исторических комнатах, светлые полы; такие же полы я видел в Финляндии, лет 20 тому назад у своего друга Эйна, ныне умершего, он так отделал всю квартиру — и комнаты, и библиотеку — финский аскетический, но дорогой стиль. Будто всё стало как в театре — исчезли обои, шторы, всё расчистилось, нацелившись на поток. А потока нет. Я понимаю, что всё это — огромный миф, для того чтобы его передать дальше, его надо было как можно сильнее укрепить. Все-таки ощущение некоторого легкомысленного взгляда на эпоху есть, на тонкости той же самой деревенской жизни, описанной в «Онегине»…
Потом поехали в Петровское, там тоже восстановили усадьбу — несколько мемориальных предметов, стулья, портреты… Но духи не живут. Сбежал по лестнице купаться в Сороти дух молодого Пушкина, и ушел осматривать из Петровского свой французский сад двоюродный дед Александра Сергеевича. Ушли и не вернулись. Но вот природа, сады, эта круглая клумба, аллея, засаженная липами сыном Пушкина, эта дорожка в Петровском, «аллея Керн» в Михайловском — это всё волнует.
В Михайловском сорвал и положил в записную книжку лист липы. Над крышей бани, где жила няня поэта, лежит какая-то оцинковка, и соломой там уже не зашуршит, но вот ночью, на одной из аллей Михайловского, Анна Петровна Керн споткнулась о камень… Чему мы обязаны знаменитым стихотворением «Я помню чудное мгновенье», чему мы обязаны и едким строкам об Анне Керн, которые Пушкин написал своему другу. Это диалектика жизни, всё подлинное происходило, оказывается, здесь, в этих аллеях.
Прогуливаясь там, я всё время соображал — как бы организовать институтскую поездку в эти места, расспрашивал о ценах в гостевом домике, заманивал в Москву директора и проч. и проч.
Вечером в культурно-историческом центре был замечательный концерт. Как я понял, всё это были сотрудники заповедника, люди, в основном, не посторонние. Чудесный этот концерт был сделан немного манерно, под бал у Ганнибала, как бы старший родственник встречается с младшим. Блестяще читал совершенно неизвестный мне Михаил Морозов «Бориса Годунова», видимо, из моноспектакля. Надо также постараться привезти этого парня в Москву, показать студентам. Другой молодой парень, фамилию его не помню, еще уточню, читал из «Арапа Петра Великого» — здесь я особенно заслушался — какие тонкие ходы, как грандиозно Пушкин приостанавливает сюжет, как вплетает детали, и как отдельные куски возникают уже как куски сюжетно законченные. Уже для памяти, потому что передать это невероятно трудно, отмечаю выступление студентов какой-то Санкт-Петербургской театральной академии и вписываю имя ее руководителя, который грандиозно работает со своей студией — это профессор Черкасский. Читал еще Юрий Томашевский мелкую лирику Пушкина, скорее изысканную, чем глубокую, эдакая поэтическая и актерская филигрань. И после нее: невероятной красоты и внутренней чистоты шведский тенор, какой-то малый, высокий, скромный, чуть убыстряя, по сравнению с привычным темпом, спел «Куда, куда вы удалились…».
Пушкин очень сильно нагрешил в настоящей поэзии: он как бы научил всех писать очень просто, но унёс с собой тайну — писать просто глубоко, ткать таким образом, чтобы каждое словечко трепетало, подобно драгоценному камню в парче, только своим светом.
2 июня, воскресенье. Оказалось, ночью в Святых Горах была организована дискотека на стадионе. Говорят, собралось тысячи две молодежи, ребята приходили из деревень, селений, по крайней мере, я видел двух девочек, которые прошагали по 7 км в своих модных туфельках.
В половине 11-го состоялась удивительная церемония возложения цветов к могиле Пушкина в Святогорском монастыре и лития. До этого я сам поднялся в монастырь, еще раз удивился тому, как всё поразительно скомпоновано: природа и человек. Подумал о том, что место смерти, может быть, важнее для человека, чем место рождения, ведь здесь старт в жизнь вечную…
Рядом с памятником Пушкину — пирамидка с крестом, два простых камня, под которыми мать поэта, Сергей Львович, еще какая-то родня. Похоронив мать, Пушкин откупил у монастыря место и для своей могилы. Только у гения есть такое ощущение правильного и неминуемого хода жизни. Немного придавил тяжеловатый памятник самого Пушкина, но я представил себе боковую стену обрыва, возле которой находилась могила, стену, сейчас забранную гранитом, а когда-то разверстую от удара снаряда, и кусок гроба поэта, обнаженный, на солнце и свету…
Я нес корзину от Союза писателей. Все по ранжиру — по ступеням наверх, к храму, несли сначала корзину цветов от администрации, потом от губернской Думы, потом от Союза писателей. Мне казалось, что внимание, которое мне оказало начальство, немного мне не по чину. Раньше здесь были писатели другого калибра, в наше время писатели более, что ли, расчетливы. Скажем, Антокольский и Андронников, которые затевали первые пушкинские праздники, наверное, больше думали о Пушкине. Это вообще очень сложный вопрос: что мы чтим? Память поэта или 40–50 расхожих слов и выражений, которыми по его милости владеем? Но эти фразы составляют нашу духовную жизнь, мы как бы самостоятельно плаваем лишь между этими фразами, которые в нас насадила литература, между речениями Пушкина, Грибоедова, Горького, Толстого, Достоевского, Крылова.
Настоятель собора служил литию, служил истово и хорошо. Какой-то момент просветления наступил для всех присутствующих, наверное, это и называется благодатью и просветлением. Но тут опять мне шепнули, что в былые годы площадь возле монастыря сплошь была запружена народом. До богослужения я ходил вокруг. У одной из стен монастыря — маленькое кладбище советских солдат, ухоженное и чистое (видимо, за ним также следят монастырские насельники). И бесконечный ряд имен, высеченных на граните, а сколько имен потерялось!
Знаменитая поляна возле Михайловского была, практически, пустая или очень мало наполненная. Стояли ярмарочные лотки, продавали мороженое, жарился шашлык. За сто рублей можно было подняться на воздушном шаре и тут же опуститься. За 2000 рублей можно было полетать минут 20 и опуститься где-нибудь в Петровском или в Тригорском. Я, пока ребята читали, думал о том, действует ли поэзия на «простой» народ. На скамейках сидело человек сто людей разного возраста. Полагаю, сидели люди, которые хотели бы услышать срез поэзии, от элитарной до самой немудрящей, но искренней. Но голоса поэтов раздавались над всей поляной, кто-то ухватит одну фразу, кто-то во время разговора, в паузе, услышит другую. Мы ведь не знаем, как отзывается наше слово.
На обратном пути, два с половиной часа на автобусе до вокзала, Максим Амелин, Санжар и белорус из Витебска пели удивительные советские песни. Все они их помнят, все знают. Опять возник вопрос: а где песни сегодняшнего дня?
9 июня, воскресенье. Для «Труда»:
«В Пушкинский день, лишь совсем недавно обозначенный и отмеченный президентским указом, прошла передача, в которой выступал писатель Виктор Ерофеев. Он ничем не удивил, потому что Ерофеев есть Ерофеев. До этого он уже „справил поминки по советской литературе“, которая существует и читается до сих пор, и написал популярный роман „Русская красавица“, отличающийся нудистской и политической спрямленностью. Нудистско-политический роман! На этот раз он говорил об измене Натальи Николаевны, о „Гавриилиаде“, как о богоборческом и антихристианском произведении, называл Пушкина развратником, много посвятил времени оказиональной лексике, т. е. неприличным словам в текстах поэта, в общем, ничего особенного, самый юбилейный текст, поставивший на место „народное достояние“. Теперь Пушкин наконец-то как все, как любой современный писатель, как бы совсем рядом. Повторяю, ничего особенного здесь для Виктора Ерофеева нет, но, спрашивается, зачем же такой опытный и интеллигентный журналист, как обозреватель ТВ-6 Владимир Соловьев, ему поддакивал и так заискивал?»
Для «Труда». Второй вариант (после просмотра по телевидению футбольного матча Россия — Япония).
«Я бы сказал, что это соображение о матче не футбольного болельщика, а человека, в лучшем случае смотрящего футбольные матчи два раза в год. Конечно, жаль, конечно, лучше бы выиграть, но матч возбудил некоторые размышления над родной и кровной российской действительностью. Сложилось ощущение, что так же, как и в повседневной жизни, никто не хочет взять на себя ответственность и пробить. А вдруг не попаду по воротам, а вдруг не получится, а вдруг потом обвинят в ошибке? Или наверняка, или всем скопом, когда кто-нибудь прикажет: бей. Тень начальника витала над футболистами. Так мы проигрываем уже десять лет, так мы будем проигрывать и дальше. Не играем на победу, просто хотим не проиграть».
В дороге по радио услышали о непорядках, погромах и буйстве толпы в центре Москвы. Фанаты после трансляции футбольного матча. Московские власти установили несколько телевизионных экранов на Манежной и Пушкинской. Пришли к ним, конечно, не те, у кого дома «грюндики» и «фунаи» со стереозвуком. Добрались до дома, приехали к началу «Вестей». Увиденное на экране превзошло все, что со слов радио диктовало воображение. Изо всех сил, тщательно скрывая свою растерянность, на экране метался, пытаясь тем не менее сохранить невозмутимость, Евгений Ревенко. Вот уж действительно в этой ситуации оказался не гений… Сразу же все связал, определил и соединил эту пьяную орду не только недовольных футбольным матчем, но и социально неустроенных с законом об экстремизме. Какое падение лица, какое крушение популярного ведущего, какая любовь к власть имущим! О чем же писать мне новый сюжет? О том, что власти всегда к чему-то не готовы? Министр внутренних дел выехал из С.-Петербурга в Москву. Надо было заранее думать и оставаться в столице. Теперь министр едет восстанавливать витрины? Московский специалист по внутренним делам сказал, что милиция была задействована по распорядку воскресного дня. Ну, просто умница, ну, просто молодец.
«10 июня останется в памяти россиян не только как день разбитых футбольных надежд, но и как день крушения телевизионных авторитетов. Немедленно отреагировать на бушевание молодежной толпы в центре Москвы справедливо и объективно смогли далеко не все. Бывший народный любимец Ревенко сразу же, будто им руководил сам Глеб Павловский, соединил закон об экстремизме, внезапно и своевременно найденные у Киевского шоссе небольшие ракеты и там же установленный трагический щит с довольно гнусной надписью — со скинхедами, антисемитизмом, расовой нетерпимостью и чуть ли не с происками компартии. Несколько по-другому поступил Павел Лобков, корреспондент НТВ, столь недавно еще занимавшийся жизнью растений. У него другая точка зрения, т. е. он задал вопрос, популярный еще со времен римского права: „Кому все это выгодно накануне сначала парламентских, а потом следующих за ними президентских выборов?“ В том числе разъяснил, и в чем опасность только что принятого в первом чтении Думой с ничтожным перевесом закона об экстремизме. Уже сейчас его можно называть пресловутым. При этом удивительным образом точка зрения на этот предмет совпала у Павла Крашенинникова, самого Лобкова, не отличавшегося любовью к компартии, и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Это надо было видеть и смотреть. Что касается самих молодежно-футбольных волнений, то, кроме того, что наша власть всегда к чему-то не готова, следует отметить, что на Манежной площади собрались и гневались не те, у кого дома „грюндики“ и „фунаи“ со стереозвуком. Мысль ясна? Отсюда и осыпающиеся, как цветы, витрины дорогих центральных магазинов, и горящие иномарки, припаркованные возле гостиницы „Москва“ и Государственной думы. Решает, как известно, в первую очередь всё Дума».
10 июня, понедельник. К трем часам пошел пешком на президиум комиссии и совместил приятное — хожу мало — с познавательным. Шел по улице Горького через проезд Художественного театра, который снова стал Камергерским, и дальше.
События вчерашнего дня уже как бы подчищены. Но вместо витрин — большие синие маскировочные полотна. Вот работы стекольщикам!.. Заодно выяснил, что, как правило, большие витринные окна — это стеклопакет, т. е. два стекла сразу с воздушной прослойкой между ними. И, конечно, представляю, каких это деньжищ стоит! Вот так глупость и нераспорядительность властей — которые любят заигрывать с народом, и в частности с молодым, — приводят к жутким последствиям.
Побиты все окна и витрины МХАТа. В стоящем напротив МХАТа меховом ателье исчезли шубы из витрин… Но где все-таки та грань между протестной акцией и разгулом страстей? То, что акция протестная — у меня не вызывает никакого сомнения. Это на фоне того, что сегодня уже в Ульяновске волнения по поводу повышения цен на горячую воду. Ребята съехались из бедных, это я понял, семей; многие из Подмосковья, и, конечно, контрасты их провинциальной жизни и жизни центра — огромны. Надо отметить, что телевидение сделало всё, чтобы вооружить молодых людей знанием, что надо делать. Сколько раз были показаны как бы молчаливой камерой — не у нас, а у них — молодежные восстания. Народ, конечно, стал другой — вряд ли 15 лет назад кто-нибудь осмелился поджечь машину: все отлично понимали, что другой машины у владельца не будет.
13 июня, четверг. Сегодня последний раз во МХАТе им. Горького играют «Униженных и оскорбленных». Я обязательно хотел посмотреть спектакль именно в этом сезоне, имея в виду, конечно, статьи, которые появлялись в нашей прессе. Еще раз я поразился, насколько наша пресса бессовестна. Спектакль, который зал проглотил, не пошевелившись, редчайший случай единого дыхания, единой гаммы, напряженного и слаженного действия. Поразительна еще и современность происходящего на сцене. Если сделать поправку на моду и дизайн, то это всё — сегодня. Обман, тщеславие, униженные и оскорбленные, которых полстраны. Удивительный русский театр прямого и непосредственного переживания. Я понимаю, что такой театр кому-то не нравится, потому что так работать очень трудно, но ведь существует большое количество людей, которым нужен именно такой театр.
16 июня, воскресенье. Все утро дочитывал будущих своих студентов. Собирался, правда, каждый день делать некоторый табель и вставлять в дневник одну-две маленькие рецензии, но не получилось. Может быть, позже возьму опять работы абитуриентов из приемной комиссии и вставлю в дневник кусочки с моими рецензиями. Сейчас можно все подытожить. Талантливые люди в России не перевелись, абитуриентов в этом году даже больше, чем в прошлом, есть и среди молодых людей очень способные, почти гениальные. Много девочек, которые хотят стать писательницами, но большинство из них слишком юны, без опыта, чтобы оказаться прозаиками, и вдобавок ко всему они с ложным представлением, что их исключительный духовный мир для кого-то имеет значение. Они все, по крайней мере большинство, мало читали, отсюда повторы, поводы для искренности у этих маленьких шестнадцати-семнадцатилетних девушек одни и те же, приблизительно одинаково они выражают искренность. Довольно обыденный, скучный, компьютерный язык.
Девушки входят в мир с мыслью о своей исключительности, о которой им нашептали мама, бабушка, папа, учительница, а то и заезжий поэт, привыкший раздавать комплименты и снисходительно относиться к начинаниям молодых. Погибла когда-то бывшая почти знаменитой Ника Турбина. Она выбросилась из окна. Будто бы она приехала в Москву, ее устроили в институт, несмотря на то, что она была не очень хорошо готова, а студенты не приняли ее как «звезду». Я так моделирую ее трагическую смерть. Помню, как в Ялте со стихами этой девочки подходил ко мне ее дедушка, и я тогда сказал, что не очень верю в специфику детской одаренности. А открыл Нику, кажется, Е. А. Евтушенко.
Он сегодня опять на экране, теперь он болеет за футбол.
Для «Труда»:
«Ирина Зайцева, основной репортер по светской хронике и ВИП-персонам, показала нам приморского губернатора Дарькина. Прелестно. Выборы его прошли совсем недавно, а значит, мы его знаем, кто он и откуда, как баллотировался, что говорил перед выборами, мы все об этом догадываемся, каким образом он стал таким богатым. Но заметил ли телезритель, как строится у Ирины Зайцевой любой ее материал? Абсолютно по одной, апробированной еще в советские времена схеме. Герой в кабинете, герой дома, жена героя. Герой жарит шашлык, или он среди своих уток, гусей и другой домашней живности. Жена героя чуть ли не главный ингредиент телевизионного блюда. И всегда одна и та же упорная зайцевская мысль: ее герой — живой человек и ничто человеческое ему не чуждо. Это верно, все мы живые люди. Но вот вопрос, можно ли за эту живость все простить героям Зайцевой? Многие из ее клиентов хорошие люди, наверное, и губернатор Дарькин из их прекрасного числа, но сколько же среди них обманщиков, плутов, мздоимцев, надувших свой родной народ. Впрочем, для ВИП-персон надуть — это обычная устоявшаяся норма».
19 июня, среда. Появилось новое слово — «скинхеды». На них сейчас принято валить всё. Тут я перешел к погрому на Манежной площади, который меня по-настоящему взволновал. Это знаковое явление для России, так же как 11 сентября — знаковое явление для мира. Первым о скинхедах и о национализме заговорил насмерть перепуганный комментатор Евгений Ревенко. Никаких скинхедов на Манеже не было, а были просто обездоленные ребята, которых лишили высшего образования, нормальных знаний (хотя, может быть, и из-под палки), пионерлагерей, надежд. Им пока не нужно медицинское обслуживание и здравоохранение, но вот мамкам и бабушкам оно нужно, и молодые люди обнаружили, что у мамок его тоже нет. А дали им — дешевое пиво и возможность посмотреть большой телевизор. Если бы «панасоники» и «самсунги» у них были дома, они, может быть, и не поехали бы из своих Чертанова, Митина или Домодедова. На Манеже — явление социального протеста. Именно это и показывал наш телевизор. Теперь можно ждать всего чего угодно.
Пo телевизору передавали, что на заместителя московского мэра, на очень бедного Орджоникидзе, который курирует игорный бизнес и туризм и имеет в центре города особняк, опять «наехали», как и два года тому назад. Его спасли бронированные стекла БМВ. Богатый человек всегда едет на дорогой машине. Сочувствие у меня только к шоферу и охраннику, которые пострадали. Сам вице-мэр остался цел. Это ваши, ребятки, правила игры, кому вы и что обещали, чего не выполнили, где взяли и чего не отдали? Как скучна жизнь! Ради денег и ради того, чтобы в подвале особняка иметь биллиардный зал и бассейн, — ездить с бронированными стеклами?..
22 июня, пятница. В тот же день вечером — восьмидесятилетие Сергея Васильевича Викулова в Ленинке. Абсолютно честно собранный зал. Это люди пришли послушать именно Викулова и никого другого. Такому залу и такой судьбе можно позавидовать. «Наш современник» в сегодняшнем виде — это в первую очередь его работа. Жизнь и развитие послевоенной литературы подтолкнули, создали тенденцию, а Викулов стал ее воплотителем. Ведет вечер Станислав Куняев. В рассуждениях и самого именинника, и таких патриархов, как Мих. Алексеев, много привычных слов, символизирующих неприятие режима и курса. Но так уже не говорят, время пошло другое. Иногда мне кажется, что уже не следует так упорно говорить о цензуре и тех гонениях «от ЦК КПСС», которым вроде бы сейчас все работавшие в идеологии подвергались. И следует ли говорить о себе, что вот я впервые написал о голоде 1933 года. Это, наверное, правильно и справедливо, но у литературы другие престижи. Через какое-то количество лет история все равно, держит ее ЦК КПСС за хвост или нет, берет свое. В своем выступлении, а я говорил одним из первых, я отметил, что при всех своих недостатках ЦК КПСС хорошо знал свои кадры, сообразил и сумел вытащить еще молодого сорокалетнего Викулова из провинциальной Вологды в Москву и назначить главным редактором. Но я в основном говорил о Викулове как о человеке, создавшем направление. Много всего в наше время издавалось, но мои главные литературные впечатления связаны все же с текстами «Нашего современника» — «Красное вино победы», «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «В ту же землю», «Царь-рыба», работы Кожинова и самого Куняева. Это немало для журнала.
(Окончание следует)
Очерк и публицистика
Юлий Квицинский Внешняя политика СССР в годы перестройки
Перед началом перестройки Советский Союз был одной из двух супердержав, определявших обстановку и ход событий в мире. Такая международная роль СССР не может рассматриваться как некий случайный эпизод в развитии нашей страны. Она была итогом многолетних усилий советского народа, результатом его победы в Великой Отечественной войне, успешной индустриализации, культурной революции и беспрецедентного взлета развития науки и техники.
Закономерным следствием этого был авторитет Советского Союза на международной арене. За ним шло 30 % населения планеты — союзники, сочувствующие, попутчики. Мотивы ориентации на СССР были разные. Руководство одних стран верило в будущее социалистической модели общества, возникшей в нашей стране, готово было ее применить у себя на практике, а в случае необходимости и защищать вместе с нами с оружием в руках. Других привлекала возможность воспользоваться экономической, научно-технической и военной помощью СССР в борьбе за достижение целей своей национальной политики, которые вступали в противоречие с интересами США и их союзников. Третьи просто использовали разногласия между СССР и США, чтобы, прислоняясь то к одному, то к другому гиганту, проводить независимый курс.
В любом случае Советский Союз был одним из двух полюсов мира XX века. Это непреложный факт, а не некое недоразумение, как пытаются сейчас доказать наши и зарубежные противники советского строя. Мировой державой не становятся (и не перестают быть) по недоразумению. Для этого нужны соответствующие объективные предпосылки, вернее, комплекс их. Известный американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский называет в их числе силовую, экономическую, научно-техническую и культурно-информационную компоненты, должное сочетание которых и позволяет государству занять ведущее место в мире. С этим можно согласиться с оговоркой, что удельный вес каждой из вышеназванных компонент в политике государства индивидуален и зависит от многих обстоятельств, прежде всего исторического порядка. Очевидно, однако, что каждая из четырех компонент должна быть достаточно весомой и что наличие только одной из них великой державой никого не делает.
В этом плане известное высказывание бывшего канцлера ФРГ Г. Шмидта, будто Советский Союз был на самом деле «Буркина-Фасо, но только с ракетами», безусловно, является не более чем политическим вывертом. Буркина-Фасо и в гипотетическом случае обретения ею ракетно-ядерного оружия не могла бы обратиться в мировую державу. Точно так же, как ФРГ, по признанию немецких политиков того времени, являясь «экономическим гигантом, продолжала оставаться политическим карликом».
Положение, кстати, это не сильно изменилось и после воссоединения Германии и развала Советского Союза.
Рассмотрим, однако, международное положение Советского Союза накануне перестройки соответственно тем элементам, которые обуславливали его роль как великой державы.
Создание советского ядерного оружия обратило в миф американскую идею неуязвимости «крепости Америки». Весьма показательна в этом плане трансформация стратегического планирования США за послевоенные годы. Если в августе 1948 года Совет национальной безопасности США в директиве 20/1 «Цель в отношении России» ставил задачей «войну и свержение советской власти», превращение СССР в «лунный ландшафт» в результате атомных бомбардировок, то по мере развития и укрепления советского ракетно-ядерного потенциала тон наших заокеанских соперников быстро менялся. От намерения уничтожить Советский Союз они пришли к намерению «сдерживать и отбрасывать» его, затем выдвинули доктрину «гибкого реагирования», преследовавшую цель подставить под наш ответный удар своих союзников, потом придумали так называемую концепцию «обороны на передовых рубежах», а проще говоря, бились над решением неразрешимой задачи: найти такой способ применения оружия массового поражения против СССР, который не привел бы к ответному адекватному удару по территории США. Как показывают рассекреченные сейчас документы, США считали «неприемлемым для себя ущербом» взрыв даже единичных ядерных боезарядов на своей территории, не говоря уже о ведении полномасштабной ядерной войны с СССР со всеми вытекающими из этого последствиями для самой Америки. От угроз стереть с лица земли СССР и советскую власть Вашингтон в 70-е годы перешел к переговорам сначала об ограничении, а затем и о сокращении стратегических вооружений, в ходе которых был вынужден, хоть и с оговорками и многими хитростями, признать ядерный паритет и зафиксировать его в договорном плане.
Окружив в первые послевоенные годы Советский Союз сетью своих баз и срочно сколоченных союзов в Европе и Азии, американцы тем не менее не смогли создать перевеса сил на соответствующих театрах военных действий по обычным вооружениям. Это вынудило Вашингтон добиваться начала Венских переговоров с Советским Союзом, в ходе которых ставился вопрос уже о взаимном сбалансированном сокращении войск и вооружений в Европе.
Аналогичная картина наблюдалась почти по всем другим аспектам военного противостояния двух сверхдержав, будь то ядерные испытания, нераспространение ядерного оружия, запрещение химического и биологического оружия и т. д. Неоднократно предпринимавшиеся в ходе переговорного процесса со стороны США попытки нарушить сложившийся баланс сил, вырваться вперед, создать стратегически значимый перевес сил и продиктовать Советскому Союзу свою политическую волю заканчивались ничем. Советский Союз доказывал всякий раз, что в состоянии принять брошенный ему вызов и адекватно ответить на него. На это не было способно ни одно другое государство в мире XX века. Только Советский Союз в силовом плане мог говорить с другой супердержавой на равных. И делал это!
Помню, как А. А. Громыко на одном из совещаний в МИД СССР вскоре после прихода к власти Л. И. Брежнева сказал примерно следующее: сейчас в мире сложилось новое соотношение сил. Если раньше мы были вынуждены, прежде чем предпринять какую-либо крупную акцию, тщательно просчитывать возможную реакцию другой стороны, то теперь мы можем позволить себе сделать то, что сочтем нужным, а потом уже посмотреть, как на это прореагирует другая сторона. Помню также, как мой непосредственный шеф, заместитель министра иностранных дел В. С. Семенов, ведший первые переговоры с американцами по ограничению стратегических вооружений, поучал меня, отправляя на переговоры в Женеву: они (американцы) будут очень нажимать, хитрить, грозить, пугать. Но имей в виду, это все — давление на психику. В действительности они ничего не могут с нами сделать, даже пальцем тронуть нас. Вот какого положения мы в конце концов добились!
Теперь об экономике, в которой мы постоянно и существенно отставали от США и западного мира. Всем памятны периодически возникавшие трудности в снабжении населения, в первую очередь высококачественными предметами длительного пользования, но также и ширпотреба, а в последние годы существования СССР — и продовольствия. Собственно, наличие этих трудностей, раздражавших народ и являвшихся постоянным объектом пропагандистского давления на Советский Союз с Запада, и послужило главным побудительным мотивом для начала так называемой «перестройки», непродуманных реформ, разрушивших экономику страны.
Однако так ли было тяжело экономическое положение СССР накануне апрельского пленума 1985 года, который привел к власти М. С. Горбачева? Могла ли страна с «неработающей», как любят сейчас утверждать «новые русские», экономикой десятки лет выдерживать соревнование с ведущей державой мира — США в военной и военно-промышленной областях, являющихся средоточием наиболее передовых технологий и капиталоемких производств, требующих наиболее квалифицированных исполнителей — сверху донизу?
Нет, и в экономической области СССР был серьезным соперником США, если не сводить все дело к наличию в продаже модных товаров ширпотреба, бытовой электроники, предметов роскоши.
Темпы экономического роста СССР в 50–60-годы приближались к 10 %. Показатели девятой пятилетки 1971–75 гг. были едва ли не самыми высокими за всю историю развития СССР. Со второй половины 70-х годов начали накапливаться показатели замедления этого экономического развития, однако в начале 80-х годов мы имели ежегодный прирост валового общественного продукта порядка 3–4 %, производительности труда — около 2,6 %, реальных доходов населения — 3,3 %. Все это уместно сравнивать с картиной, которую мы получили после ельцинского путча в августе 1991 года, когда спад производства составлял по 15–20 % ежегодно.
В абсолютных цифрах в 1982 году СССР производил 3745 млн кВт. ч электроэнергии, 1678 тыс. тонн нефти, 1372 млн куб. м газа, 1967 тыс. т угля, 403 тыс. т стали, 1526 тыс. шт. тракторов, 14,9 тыс. т бумаги, 339 тыс. т цемента, 2012 тыс. пар обуви, 16 тыс. шт. холодильников.
Страна создавала мощный Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, строила БАМ, возводила миллионы жилых домов, тысячи промышленных и сельскохозяйственных объектов, отправляла все новые корабли в космос. Пусть сегодня Москва предъявит миру хоть сколько-нибудь сопоставимые цифры и показатели, которые она по-прежнему характеризует как «свидетельство застоя».
С 1970-го по 1980 гг. средняя зарплата в СССР выросла при относительно стабильных ценах на 40 %. В 1980 г. на среднемесячную зарплату можно было купить 70 кг колбасы, или 80 кг мяса, или почти полцентнера сливочного масла, в то время как в начале 1995 года прожиточный минимум в России был примерно в 1,5 раза выше средней зарплаты. И это все, не считая тех льгот и фондов общественного потребления, которыми пользовались советские граждане — низкая плата за жилье, телефон, бесплатная медицина, среднее и высшее образование, почти бесплатная индустрия отдыха и прочее.
Была ли такая экономика базой для осуществления активной внешнеэкономической политики по обеспечению интересов СССР вовне? Разумеется. Само существование СССР с его огромными экономическими возможностями существенно сковывало Запад в деле использования экономических рычагов воздействия на политику других стран. Бесспорным свидетельством эффективности советской внешнеэкономической политики была та яростная пропаганда, которая велась против нас США и их западноевропейскими союзниками. Обращение за экономической и финансовой поддержкой к СССР и странам СЭВ на протяжении многих лет оставалось для многих государств мира реальной альтернативой сотрудничеству с Западом. Материальным свидетельством эффективности этой поддержки являются такие объекты, как Асуанская плотина, многочисленные советские АЭС в странах Европы, индийские металлургические заводы, промышленные объекты в Китае, на Кубе и во Вьетнаме. Нынешняя российская внешнеэкономическая политика просто несопоставима с политикой великой державы СССР в этой области. В лучшем случае она сводится к попыткам оказать влияние на страны СНГ через поставки газа и нефти. Использовать экономические рычаги на международной арене Россия не может и не решается, так как ее собственное экономическое благополучие и стабильность всецело зависят от экспорта энергетических ресурсов.
Великая держава должна обладать также соответствующими возможностями и весом в области науки и техники. Советский Союз был такой державой. Его научно-техническими достижениями и наработками и до сих пор живет нынешняя Россия, стремительно отстающая от США и их союзников по этому жизненно важному для международного положения страны показателю.
Ярчайшим свидетельством высокого научно-технического потенциала СССР как мировой державы был его выход в космос, потрясший Америку и заставивший ее усомниться в возможности и далее уповать на «богом данное» превосходство США в этой области. Во многих областях советские фундаментальные исследования намного обгоняли американские, несмотря на отсутствие у СССР таких возможностей скупки «иностранных мозгов», которыми обладали его западные конкуренты, несмотря на изощренную систему затруднения доступа советских ученых к международным обменам в области научно-технической информации. Общеизвестно, что позднее одним из главных направлений западного мародерства на развалинах Советского Союза стало похищение его научных разработок и изобретений, сманивание ведущих специалистов для работы в США.
И, наконец, о культурно-информационной стороне дела. Великая держава утверждает свое место и роль среди других членов международного сообщества государств как носитель определенных общественных идеалов, исторических традиций, духовного потенциала и образа жизни, достойного уважения, подражания и интереса. Что касается культурного наследия, духовного потенциала и традиций, Советский Союз, безусловно, намного превосходил своего главного противника США — страну, главными культурными ценностями которой являются голливудские киноподелки и поп-музыка. Проигрывал СССР, однако, американцам на информационном поле, но в этом отношении положение постепенно и последовательно менялось в нашу пользу. СССР имел стойкий и заслуженный имидж в глазах международного сообщества как мировая культурная держава с собственным, отличным от американской массовой культуры лицом, качественно иным культурно-образовательным и духовным состоянием общества. Это делало СССР центром притяжения для сотен тысяч иностранных студентов, экскурсантов и участников культурных фестивалей и конкурсов. Регулярные выступления ведущих театров, оркестров и солистов за рубежом, музейные экспозиции пользовались неизменным успехом и поддерживали высокий авторитет советской державы. Ей не было равных в спортивных достижениях. Советское радио вещало на всех языках мира, советские фильмы все решительнее пробивались на экраны зарубежных стран, советские авторы становились лауреатами нобелевских и других международных премий. И здесь, как и в других областях, свидетельством серьезности культурно-информационного потенциала Советского Союза было настойчивое стремление наших противников мешать расширению наших позиций за рубежом, попытки провокаций против советских художественных коллективов, выставок, агитация против направления иностранных студентов на учебу в СССР, упорный отказ от признания дипломов советских учебных заведений, несмотря на то, что качество подготовки в них, особенно по естественным дисциплинам, было заведомо выше, чем на Западе.
Понадобилось, однако, всего несколько лет так называемой «перестройки», чтобы СССР сначала перестал быть великой державой, а затем и вовсе прекратил свое существование как субъект международного права. Этот удивительный феномен требует своего исследования и осмысления. Речь не идет о коллапсе некоего случайного, искусственного образования, а о трагедии тысячелетней России, существовавшей последние 70 лет под именем Советский Союз и достигшей при правлении КПСС наивысшего могущества и влияния в мире за всю историю нашего государства.
Как это могло произойти? Тому есть много объяснений. Самое первое и самое простое выдвинул последний советский президент СССР М. С. Горбачев, предложивший считать падение СССР целиком результатом его собственных, давно вынашивавшихся предательских замыслов. «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, — заявил он словацкой газете „Заря“ (№ 24 за 1999 год). — Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране. Для достижения этой цели я должен был сменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварднадзе, заслуги которых в нашем деле просто неоценимы».
Второе — и более вероятное — объяснение состоит в том, что, затеяв безо всякой подготовки и предварительного плана так называемую «перестройку», Горбачев вскоре выпустил из рук вожжи управления государством и партией, а сам с перепугу предпочел выброситься в кювет. В результате вверенная ему держава потерпела катастрофу. Он же продолжает и по сей день делать глубокомысленные заявления по поводу того, как случилось такое и как его угораздило залезть по тщеславию или недомыслию (хотя и, вполне вероятно, по совету и настоянию Раисы Максимовны и при поддержке дружков, бросивших его на заключительном этапе бесславной карьеры) в ту самую бричку, из которой он затем и вывалился.
Но и первое, и второе объяснение вряд ли будет исчерпывающим. Остается открытым вопрос, почему такие политические авантюристы, а впоследствии и изменники Родины, как Горбачев, а за ним и Ельцин, с их командами могли загубить великую страну, мировую державу — Советский Союз при практически массовом безразличии и непротивлении очевидному злу со стороны своего народа, предавшего себя и свое государство? Конечно, разрушители Советского Союза использовали издревле известный прием подкупа широких масс, чтобы привлечь их на сторону своего неправого дела. Французские короли уничтожали орден тамплиеров, разделяя его имущество между доносчиками. Французские якобинцы натравливали мещан и городской плебс на аристократов, обещая им их богатства и имения. Ленин снял русскую армию с германского фронта, посулив солдатам помещичьи земли. Горбачев и Ельцин разрушили страну, также призвав народ к разделу государственного имущества и самого государства. Истории еще предстоит ответить на вопрос, сможет ли нация, поддержавшая разрушение собственной государственности и предавшая всех своих союзников, вернуться на роль великой мировой державы.
Сформулировать, в чем заключалась программа перестройки применительно к внешней политике СССР, оглядываясь сейчас назад, довольно затруднительно. Скорее всего, такой тщательно взвешенной и продуманной программы не было, как не было ее и применительно к перестройке внутри страны. В реальной жизни была импровизация, набор рискованных и плохо взаимоувязанных внешнеполитических инициатив, погоня за международным «паблисити» ценой односторонних уступок, утраты стратегической и тактической инициативы во внешней политике, перешедших затем в беспорядочный откат с тех позиций, которыми обладал в результате войны и послевоенного развития Советский Союз на международной арене. Под конец своего существования СССР уже не контролировал развитие ситуации ни на своей собственной территории, ни вокруг себя. Он в лучшем случае лишь пытался реагировать на наступательные действия своих соперников и конкурентов, взявших открытый курс на ослабление и расчленение советской мировой державы и победу в «холодной войне».
Начало перестройки во внешней политике выглядело вполне традиционно и «канонически». В политическом докладе М. С. Горбачева XXVII съезду КПСС выдвигалась идея создания «всеобъемлющей системы международной безопасности» путем принятия мер масштабного характера в военной, политической, экономической и гуманитарной областях. Ядерные державы должны были отказаться от войны друг против друга или против «третьих» государств — как ядерной, так и обычной, не допускать гонки вооружений в космосе, прекратить все испытания ядерного оружия и полностью его ликвидировать, запретить и уничтожить химическое оружие, отказаться от создания других средств массового истребления, снизить уровни военных потенциалов государств до пределов разумной достаточности, распустить военные группировки, а пока не расширять их и не создавать новые, сократить военные бюджеты.
В политической области генсек ЦК КПСС призывал уважать право каждого народа избирать путь и формы своего развития, справедливо регулировать международные кризисы и региональные конфликты политическими средствами, разработать комплекс мер, нацеленных на укрепление доверия между государствами, создать действенные гарантии от нападения на них извне, неприкосновенности их границ, выработать эффективные методы предотвращения международного терроризма.
В экономический области — исключить из международной практики все формы дискриминации, отказаться от политики экономических блокад и санкций, совместно искать пути справедливого решения проблемы задолженности и установить новый мировой экономический порядок, гарантирующий равную экономическую безопасность всех государств, использовать часть средств, высвобождающихся от сокращения военных бюджетов, на нужды развивающихся стран, объединить усилия в мирном освоении космоса и решении глобальных проблем, от которых зависят судьбы цивилизации.
В гуманитарной области — сотрудничать в распространении идей мира, разоружения и международной безопасности, развивать контакты между народами, повышать уровень взаимной информированности, искоренить апартеид, геноцид, взаимодействовать в осуществлении политических, социальных и личных прав человека, решать в позитивном духе вопросы воссоединения семей, заключения браков, развивать контакты между людьми, общественными организациями, искать новые формы сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования и медицины.
Одним словом, «отец перестройки» предлагал сделать мирное сосуществование высшим, универсальным принципом межгосударственных отношений и выступал за прямой, систематический диалог на основе этой программы с руководителями стран мирового сообщества.
Это была впечатляющая, с точки зрения продолжения и развития советской внешнеполитической линии, программа — в чем-то достаточно традиционная, в чем-то свежая и новаторская. Ее главным недостатком была, однако, очевидная нереалистичность достижения великого множества ставившихся целей в той объективной обстановке, которая существовала в мире на момент ее выдвижения, традиционное увлечение идеями улучшения и исправления всего нашего грешного мира в ущерб конкретным мерам по укреплению позиций Советского Союза, продвижению его собственных национальных интересов и при явном преуменьшении тех опасностей, которые по-прежнему исходили от Запада и заметно усилились с приходом к власти в США Рейгана.
Стремление решать наши собственные проблемы через выдвижение всевозможных нереалистичных схем регионального или всемирного масштаба на протяжении десятилетий было ахиллесовой пятой советской внешней политики. Достаточно вспомнить, как из послереволюционных разрухи и голода Троцкий пытался выйти с помощью организации мировой революции, а не восстановления и развития экономики и торговли России. К чести Сталина, в его времена советская внешняя политика никаких химерических глобальных прожектов больше не выдвигала, зато быстро вывела страну на позиции мировой державы. Но после его смерти вредоносная тенденция вновь ожила, достигнув апогея в годы правления Горбачева. Для решения острых задач нашей внутренней политики нам почему-то опять понадобилось вернуться к идее переделки всей Европы, всей Азии, да и всего мира, — создавать всеобъемлющую систему международной безопасности, строить «общий европейский дом», добиваться всеобщего ядерного разоружения и заниматься еще бог весть чем, не имеющим отношения к решению насущных проблем нашего собственного существования и развития. Назойливые и наивные призывы Москвы в годы горбачевской перестройки к нашим западным партнерам переходить «к новому мышлению», создавать «новый всемирный экономический порядок», распускать военные союзы и т. д. вызывали у них искреннее непонимание и раздражение: «Это вам надо перестраиваться, у вас дела идут плохо, — отвечали нам. — Вот и перестраивайтесь, а у нас все и так в порядке».
Можно, однако, предположить, что программа, выдвинутая М. С. Горбачевым на XXVII съезде, замышлялась не более как способ сдержать усиливавшийся в те годы нажим на Советский Союз извне, перейти в наступление на внешнеполитическом фронте, «забросав» противника предложениями по наиболее актуальным вопросам международной жизни, и развязать себе руки для назревших реформ внутри страны. Одно дело — документы партийных союзов, другое — практическое ведение внешней политики страны.
С этой точки зрения стоит обратиться к совещанию актива МИД СССР, организованному 23–24 мая 1986 года, т. е. в самом начале перестройки. На нем выступил сам Горбачев, а также только что назначенный новый министр иностранных дел Шеварднадзе. Для советской дипломатической службы расставлялись новые вехи и ориентиры. Каковы же были они в начале пути, приведшего страну через шесть лет к сокрушительной катастрофе?
Мир, по оценке М. С. Горбачева, переживал трудный период. Могло случиться «непоправимое» (то есть ядерный конфликт), и никто, кроме Советского Союза, не был способен остановить роковой ход событий. Надо было избежать ядерной опасности, но вместе с тем обеспечить и оградить интересы СССР. В этом должна была состоять стратегия и тактика советской внешней политики.
Решить эту задачу предлагалось через «ускорение». Без него нам не удастся сохранить позиции социализма на международной арене. После 70-х годов СССР перестал догонять Америку, утратил динамизм. Это имело серьезные экономические и социальные последствия и сказалось на наших позициях за рубежом. Другая сторона сознательно принуждает нас к военно-экономическому противоборству, испытывает нашу устойчивость. Но ядерную войну она начать не решится, а будет стремиться не допустить рывка СССР вперед в развитии экономики. Ключ нашего успеха поэтому в крепости тыла и здоровой экономике. То, что происходило у нас в последние годы, стимулировало наглость противника, порождало у него надежду на классовый реванш. Тут мы и услышали, что социализм — ошибка истории, что это — заведомо отсталая экономика, что у советского общества нет перспективы. Поэтому нет задачи более актуальной, чем придать развитию нашей страны необходимый динамизм.
Речь не идет о том, отмечал Горбачев, чтобы перечеркивать все, что делалось ранее. Надо придать социализму новый, более привлекательный облик, перекрыть каналы взяточничества и самоуправства, перейти на хозрасчет и самоокупаемость, бороться с нетрудовыми доходами, поощрять полезный труд, вести сильную социальную политику. Мерилом всего должна стать эффективность. Это касается и внешней политики. Не надо ставить нереальных задач. Главное — создать благоприятные условия для ускорения развития советского общества. Для этого использовать выгоды международного разделения труда, снизить расходы на оборону и повернуть их на внутренние нужды. Милитаристы не пойдут на прекращение гонки вооружений, но понуждать их к этому можно и нужно, не позволяя «ястребам» столкнуть две мировые державы. Поэтому СССР будет вносить серьезные предложения по сокращению вооружений и военных затрат, но в то же время обеспечивать свою безопасность. «На военные нужды, — заявлял на том совещании Горбачев, — надо тратить сколько необходимо, но не больше». СССР не в состоянии превзойти всех своих потенциальных противников, вместе взятых. Но обеспечить себе оборонительную достаточность страна обязана. При этом не обязательно идти с противником «ухо в ухо». Надо использовать возможности размежевания в стане противника. Предлагалось активизировать работу на всех направлениях, прежде всего европейском, не зацикливаться на отношениях с одними США. Здесь усилия дипломатии могут «стоить целых армий и гор оружия».
Из рассуждений Горбачева вытекало, что он намерен добиваться уже в ближайшее время успехов на наиболее крупных переговорах, которые велись в то время. Если каждый будет соблюдать только свои интересы, — доказывал он, — то не будет сотрудничества. А переговоры — дело государственное, их надо вести знаючи, что хочется и что можно, а не создавать тупиков. Из них потом трудно вылезать. Нужно настроиться на компромисс и не думать, что другая сторона глупее нас. Тактика нужна, но не ради тактики. Настойчивость не должна перерастать в упрямство. Мы не мистеры «нет», — бросил Горбачев камень в огород Громыко. Надо перестраиваться и тем, кто ведет переговоры, и тем, кто ими руководит. Когда СССР уходит с переговоров, а потом возвращается, то аплодисментов не бывает. Было заявлено о намерении осуществлять «открытую» дипломатию, апеллировать к массам, не позволять использовать переговоры «как ширму».
Применительно к социалистическим странам Горбачев провозгласил наступление «нового этапа» в отношениях с ними. Эти государства давно прошли фазу своего формирования. Они стали зрелыми, обладают прочной экономической и социальной жизнью. Зачастую они живут лучше нас. Одним словом, их больше нельзя водить за руку.
В отношении Афганистана, Никарагуа, Ливии генсек ЦК КПСС был более откровенен. Было прямо заявлено, что наши войска в Афганистане долго оставаться не смогут. Но и отдавать эту страну американцам нельзя. Нужна стабилизация режима Наджибуллы, прекращение военного вмешательства и политическое урегулирование. А в Никарагуа и Ливии Советский Союз не может употребить всю свою мощь, не рискуя ввязаться в войну. Надо искать политический выход, так как здесь будут только компрометироваться и советское оружие, и престиж СССР.
Серьезные изменения в советской политике предвещал и раздел выступления Горбачева, посвященный правам человека. Ставилась задача перейти в наступление на этом направлении, сойти с наезженных путей, разоблачая нарушения прав человека в капиталистических странах, но не бояться признавать и собственные недостатки и предлагать Западу совместные действия по их устранению.
Выступление Горбачева на активе МИД СССР содержало ряд моментов, которые могли бы вызывать вопросы и сомнения — его намерения добиваться срочных успехов на основных международных переговорах ценой наших уступок и компромиссов, явная двусмысленность рассуждений о наступлении «новой эпохи» в отношениях с соцстранами, нереалистичность расчетов на то, чтобы не допустить прихода в Афганистан враждебных Советскому Союзу сил после вывода оттуда наших войск, непонимание последствий прекращения военной помощи Ливии и Никарагуа для отношений с государствами этих регионов, наивность подхода к весьма острому для СССР вопросу о гражданских правах человека и т. п. Однако в тот момент все это не могло привлечь внимания, учитывая высокий авторитет нового молодого и энергичного руководителя Советского Союза и те надежды, которые связывали с перестройкой.
Кроме того, к чему, собственно, призывал Горбачев по большому счету, если не копаться в деталях? К давно очевидным и назревшим переменам. К ускорению социалистического строительства, приданию социализму более привлекательного облика, внутренним реформам, повышающим эффективность народного хозяйства СССР, сильной социальной политике, то есть повышению благосостояния и защищенности граждан, сохранению надежной обороноспособности страны при некотором сокращении военных расходов и проведению такой внешней политики, которая обеспечивала бы благоприятные условия для решения всех этих первоочередных задач. «Когда наметится перелом к лучшему во внутренних делах, начнется перелом к лучшему и в делах внешних», — объявил он.
Такая расстановка приоритетов представлялась правильной. Внешняя политика СССР если и нуждалась в перестройке, то отнюдь не в первоочередном порядке и не в таких масштабах, как это затем имело место. Для обеспечения стабильных условий проведения внутренних реформ вполне достаточной была бы на первом этапе ее корректировка на отдельных направлениях и по отдельным проблемам. Беда нашей страны в том, что, заведя вскоре в тупик внутреннюю перестройку, горбачевское руководство СССР пыталось прикрыть свой политический провал мнимыми успехами и бессистемной активностью на международной арене, вылившимися, в конечном итоге, в сдачу завоевывавшихся Россией, а затем Советским Союзом веками и десятилетиями позиций в мире.
Как использовать внешнеполитические возможности страны для организации того «рывка» в развитии экономики СССР, который должен был быть, по первоначальному замыслу горбачевского руководства, стержнем всех перестроечных процессов? К сожалению, четких представлений на этот счет не было. Наше взаимодействие с развитыми в экономическом отношении странами капиталистического мира на протяжении всей истории России и Советского Союза носило ущербный для нас характер. Taким остается и сейчас — ущербность лишь многократно усилилась. Если упростить суть вопроса, то она в том, что мы вывозим наши невосполнимые богатства — сырье, лес и энергоносители, а также небольшое количество продуктов низкой степени переработки и используем вырученные за это средства для расширения экспорта тех же самых богатств, вращаясь в порочном кругу. Доля нашей высокотехнологичной продукции во внешних обменах незначительна. Это всегда очень устраивало наших западных партнеров. Известно, что в мире существуют ножницы цен на высокотехнологичную продукцию и сырьевые товары, которые позволяют развитым странам западного мира жить за счет других. Этими ножницами стригли и по сей день стригут Россию.
Важной стороной перестроечного рывка вперед, или «ускорения», должен был стать выход из этого порочного круга. Главным средством для решения задачи считалось развитие производственной кооперации с соответствующими западными и японскими фирмами, создание смешанных предприятий, реализация совместных проектов в «третьих» странах.
Дело, однако, шло из рук вон плохо. Ценой неимоверных усилий было создано лишь несколько таких предприятий (вроде совместного детища белорусской и западногерманской обувной промышленности — витебского завода «Белвест»), не имевших, однако, существенного значения для общего состояния советской экономики. Крупные западные концерны, не заинтересованные в создании мощной советской конкуренции, находили тысячу и одну причину уклоняться от советских предложений и инициатив на этот счет. В свою очередь на советской стороне руководители министерств и предприятий не хотели возиться с кооперационными проектами, означавшими для них повышенную ответственность за качество произведенной продукции, соблюдение сроков поставок и т. д. Соответственно волокитились как реализация самих этих проектов, так и создание соответствующей законодательной базы для такого сотрудничества.
Тем временем непродуманные перестроечные инициативы вели к последовательному ухудшению экономического положения в СССР и материального положения его населения, росту недовольства в стране. В этих условиях руководство СССР стало искать выход в иностранных кредитах. Горбачев любил говорить, что для такого гиганта, как СССР, с его богатствами и объемами производства, существовавший к началу перестройки уровень зарубежного долга в 35–40 млрд долларов — это сущие пустяки. Не надо бояться увеличивать внешнюю задолженность страны, если от этого зависит успех перестройки.
Кредитный рейтинг СССР в то время был очень высок. Кредиты не надо было выпрашивать — нам их охотно предлагали все, прежде всего западные немцы. Постепенно, однако, на Западе укреплялось понимание того, что перестройка в СССР буксует и, скорее всего, окончится катастрофой. Но и в этих условиях получение кредитов не представляло для Москвы особых сложностей, поскольку наши западные партнеры исходили из целесообразности сохранения Горбачева у власти и продолжения начатого им курса.
В самые последние годы существования СССР его экономические проблемы настолько обострились, что советское руководство вынуждено было перейти к поиску в основном так называемых несвязанных кредитов для латания все новых дыр в государственной казне. Об инвестициях в производство и его развитие речи уже не было, советская экономика рушилась на глазах.
В отношениях Советского Союза с другими социалистическими государствами на первых порах перестройки каких-либо заметных изменений видно не было. Продолжались регулярные встречи стран Варшавского договора на высшем уровне, совещания министров иностранных дел и министров обороны. Проводились сессии СЭВ. Вплоть до 1989 года продолжалось заключение политических договоров, а также многочисленных соглашений об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Проводились маневры вооруженных сил стран — участниц Варшавского договора. Если заглянуть в текст совместных заявлений и документов того периода, то в них можно без труда найти немало решительных слов о намерении использовать огромные возможности социализма для углубления и развития взаимных братских отношений и утверждения принципов мирного сосуществования, предупреждений на тот счет, что «империализм никогда не откажется от использования своей военной машины для грабежа народов», взаимных уверений в верности идеалам социализма и решимости анализировать складывавшуюся международную обстановку «с позиций рабочего класса». Европейские соцстраны исправно поддерживали многочисленные советские инициативы по вопросам разоружения, которые сыпались из Москвы как из рога изобилия, заявляли о поддержке перестройки в СССР и ее целей.
Что касается копирования советской перестройки, то здесь картина была весьма неоднородной. Для виду какие-то шаги, сходные с горбачевскими, предпринимались болгарским и чехословацким руководством. Чаушеску, как всегда, демонстрировал, что Советский Союз ему не указ. Стремительное нарастание внутриполитического кризиса в Польше заставляло «перестраиваться», сдавая позиции социализма, еще быстрее, чем это делала Москва. Откровенно сопротивлялся реформам Хонеккер, справедливо полагая, что действия Горбачева бессистемны, непродуманны и создают опасность для существования ГДР, сплоченности и дееспособности организации Варшавского договора.
Подобная ситуация вызывала растущие раздражения в ЦК КПСС. Она не только все более отравляла отношения Москвы с руководителями стран Варшавского договора, но и вела к быстрому расслоению внутри самого блока, интригам и подсиживанию друг друга. На внутренних совещаниях Горбачев начал выдвигать тезис, что в реальной жизни европейские социалистические страны «давно уже ушли от нас». Это, мол, свершившийся факт, который надлежит принять к сведению и сделать из него соответствующие выводы. Какие выводы, он, судя по всему, не очень себе представлял. Иногда речь шла о неизбежности прихода в этих странах к власти нового поколения управленцев, способных руководствоваться «новым мышлением» и готовых выступить подлинными союзниками и партнерами «обновленного» Советского Союза. Иногда просто говорилось, что соцстраны превратились для СССР в ненужный балласт, который важно вовремя сбросить, оговорив лишь недопустимость их включения в будущем во враждебные СССР блоки и союзы.
Москва спокойно и даже сочувственно отнеслась к крушению социалистического строя в Румынии, сведя все дело к «долгожданному освобождению румынского народа от диктатуры Чаушеску». Она не реагировала на сговор венгерского руководства с канцлером Колем об открытии австро-венгерской границы для массового ухода на Запад граждан ГДР, хотя последствия этого для дальнейшего существования ГДР были легко предсказуемы. Она установила и поддерживала контакты с чехословацкой оппозицией за спиной руководства КПЧ под предлогом необходимости поддержки там «перестроечных сил». Не было, по сути дела, предпринято также никаких мер по предотвращению краха ГДР. В конце 1989 года, к немалому удивлению руководства ФРГ и испугу французов и англичан, Восточная Германия была брошена на произвол судьбы и вскоре прекратила свое существование.
Закономерным итогом такой политики был роспуск в 1991 году Варшавского договора, ликвидация СЭВ, вывод советских войск из Центральной Европы. Разрушение многолетних торгово-экономических, научно-технических, культурных и иных связей со странами этого региона обострило течение экономического и политического кризиса в самом Советском Союзе и ускорило его крах. Не имела успеха и попытка обеспечить политико-стратегические интересы СССР в его «европейском предполье» путем заключения с выходящими из Варшавского договора государствами соглашений, гарантирующих их последующее неучастие во враждебных Советскому Союзу союзах и блоках, непредоставление ими территории и баз для использования третьими государствами. Результаты победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., итоги Ялты и Потсдама оказались в одночасье перечеркнутыми. Дорога для экспансии НАТО и ЕС на Восток была открыта.
Неудачей обернулось и намерение занять в отношениях со странами Запада наступательную позицию в вопросе о правах человека, чтобы вынудить противников Советского Союза перейти к обороне, а затем предложить им решать вопросы гуманитарного плана на взаимоприемлемой, компромиссной основе. В более широком плане речь шла о завоевании с помощью идей перестройки инициативы в идеологическом соревновании с Западом. Временные успехи Горбачева на этом направлении, когда его личная популярность за рубежом круто пошла вверх, а политические инициативы и проводимые меры по демократизации внутренней жизни страны и развитию гласности переместили СССР и его политику в фокус внимания международной общественности, вскоре обернулись серьезными издержками для стабильности существовавшего в стране строя, не принеся ожидаемых дивидендов с точки зрения улучшения и укрепления внешнеполитических позиций СССР. Ссылаясь на «недостаточность» принимаемых Москвой мер в плане развития демократии и обеспечения прав человека, западные партнеры продолжали дискриминацию Советского Союза в вопросах торговли (поправка Джексона — Вэника, квотирование советского экспорта, антидемпинговые процедуры и т. п.), сохраняли ограничения на трансферт современных технологий (натовский «Коком»), не реагировали на настойчивые призывы Москвы не считать друг друга врагами, осуществить одновременный роспуск ОВД и НАТО и т. п. Одновременно под предлогом сотрудничества с СССР в гуманитарной области разворачивалась работа по активизации диссидентских групп и созданию антисоциалистических организаций, готовилась почва к отстранению КПСС от власти и дезинтеграции Советского Союза.
За годы перестройки СССР стремительно утрачивал свои былые позиции в культурных, научных и спортивных связях с Западом. Внедрение коммерческих принципов в эти области при ослаблении регулирующей роли государства не замедлило сказаться на объемах и содержании советского присутствия в этих областях за рубежом. Одновременно лавинообразно нарастало проникновение Запада на информационно-культурное поле Советского Союза. Наши фильмы шаг за шагом вытеснялись из проката, материалы западного производства захватывали экраны советского телевидения и волны советских радиостанций, по стране, как грибы, росли разного рода неформальные организации и объединения, как правило, финансируемые из иностранных источников.
Ничего сравнимого на информационно-культурном поле США и союзных им стран НАТО советская сторона организовать не смогла. Первоначальная эйфория по поводу реформ в СССР, начавшаяся в Западной Европе и отчасти в США, по прошествии 3–4 лет начала выдыхаться, сменяясь недоумением по поводу непродуманности предпринимаемых действий и нежелания «прорабов перестройки» трезво оценить опасности того кризиса, в который все глубже вползала наша страна. Хотя перестройке по-прежнему сочувствовали, в ее благополучный исход верили все меньше.
Не внушали, правда, особого уважения и доверия и те оппозиционные КПСС и Горбачеву лица и группировки, которые все громче заявляли о своих претензиях на власть и предлагали себя в качестве альтернативы. Их общий чертой было отсутствие какой-либо ответственной государственной идеологии, продуманной программы действий.
Попытка сторонников пресловутой Межрегиональной группы выйти на широкую западную аудиторию с пропагандой своих взглядов посредством издания в ФРГ на немецком языке газеты «Московские новости» вскоре захлебнулась. Газета не нашла себе ни элитных, ни массовых читателей. «Политически она не представляет собой серьезной орган, а бульварных изданий у нас и своих хватает», — так прокомментировал прекращение выхода газеты один из тогдашних руководителей западногерманского МИД. Преобладало мнение, что агония Советского Союза будет длительной и постепенной и что лучшим гарантом ее продолжения в спокойном «бескризисном» варианте является Горбачев.
В подходе к начатой Горбачевым перестройке для США и их союзников наиболее важным элементом был, разумеется, расчет добиться сначала серьезных нарушений, а затем и разрушения всего баланса сил — ядерных и неядерных, — который сложился в послевоенные годы. В условиях примерного равенства сил двух сверхдержав война и угроза силой находили себе, к огорчению Запада, лишь ограниченное применение. Лишение же СССР его силового потенциала означало бы коренную перемену в международной обстановке, выход США вместе с их сателлитами на позиции доминирования во всем мире. Этой цели США настойчиво, но безуспешно добивались еще в годы, предшествовавшие перестройке. Лишь после 1985 года они почувствовали возможность реального продвижения к ней и бросили на решение этой задачи весь арсенал имевшихся в их распоряжении средств — политических, экономических, пропагандистских и разведывательно-агентурных. Речь шла о том, чтобы добиться победы в «холодной войне», не сделав ни одного выстрела, разоружить Советский Союз его собственными руками и к тому же заставить его оплатить огромные издержки, связанные с этой самоубийственной операцией.
Намерение Горбачева сдвинуть с мертвой точки процесс разоружения даже ценой определенных односторонних уступок секретом не являлось. Несомненно, имевшийся у Советского Союза запас прочности в военной области открывал определенные возможности в этом отношении, позволяя активизировать наши позиции на проходивших в то время переговорах с американцами в Женеве (космические вооружения, стратегические наступательные вооружения, ядерные средства средней дальности), а также с НАТО в Вене (сокращение обычных вооружений в Центральной Европе).
Вопрос, однако, заключался в допустимом объеме и характере таких уступок. Кроме того, золотым правилом ведения государственных дел, как известно, является необходимость особого внимания к поддержанию должной обороноспособности государства в моменты проведения внутренних реформ, неизбежно ослабляющих на какое-то время его дееспособность и возможности противостоять угрозам извне.
В годы перестройки советским руководством была совершена трагическая ошибка, когда едва начавшиеся и вскоре забуксовавшие реформы экономической и социальной жизни страны были осложнены программой одностороннего разоружения, сокращения армии и дилетантской конверсией ПВК. В защиту этих действий Горбачев, Шеварднадзе и Яковлев обычно приводили довод, будто высвобождающиеся средства будут использоваться в гражданском секторе экономики и помогать решению перестроечных задач. В действительности ничего подобного не происходило. Сокращения вооружений, о которых договаривался в те годы Советский Союз, ставили его перед непосильными расходами. «Конверсия» предприятий ВПК вызвала глубокий кризис в этой отрасли, усугубивший и без того тяжелое положение в советской экономике в целом. Вывод элитных армейских частей из Восточной Европы в чистое поле на советской территории, решение о срочном сокращении сотен тысяч военнослужащих создали дополнительную напряженность в обществе, привели к деморализации личного состава армии, снижению дисциплины, утрате боеспособности многими частями и формированиями, падению престижа армии и воинской службы вообще. Пропагандистский «навар», который достигался в результате «смелых разоруженческих инициатив», был несопоставим с тем ущербом, который наносился стране и целям перестройки.
«Мирное наступление» в рамках политики перестройки было начато в конце июня 1985 года, когда Горбачев заявил о прекращении Советским Союзом в одностороннем порядке любых ядерных взрывов до 1 января 1986 года и призвал правительство США поступить аналогичным образом, а также предложил возобновить прерванные американцами ранее переговоры о полном запрете ядерных испытаний. Заодно было предложено полностью запретить химическое оружие и ликвидировать его запасы.
США не замедлили сказать «нет». Как заявил президент Рейган, «лучшим интересам США отвечает продолжение, а не прекращение ядерных взрывов». В последующем Советский Союз неоднократно продлевал свой мораторий, не встречая взаимности с западной стороны. Из моратория оказалось значительно труднее выйти, чем объявить его. Экологические и правозащитные движения за рубежом и внутри страны требовали его сохранения вне зависимости от той позиции, которую занимали США. Те же воспользовались возникшей на советской стороне «паузой», чтобы попытаться с помощью активизации своей программы испытаний (18 взрывов в год) уйти в «отрыв» от Советского Союза в деле совершенствования ядерного оружия и создания новых типов боеприпасов. Попытки добиться включения в повестку советско-американских переговоров вопроса о полном запрете ядерных испытаний, организовывать коллективное давление на США через механизмы ООН, Женевскую конференцию по разоружению успеха не имели.
Лишь в сентябре 1987 года в ходе встречи Шеварднадзе с госсекретарем США Шульцем удалось договориться о начале переговоров по выработке полномасштабного договора об ограничении — и «в конечном счете» полном прекращении — ядерных испытаний, которые растянулись на годы. Учитывая увеличивающееся отставание от США и необходимость поддержания должной боеготовности советских ядерных сил, Горбачев был вынужден в декабре 1987 года заявить о прекращении действия моратория, однако указ о производстве ядерных взрывов на Новой Земле и Семипалатинском полигоне, встреченный в штыки в Верховных Советах СССР и РСФСР, подписал лишь 30 октября 1990 года.
Несмотря на последующее заключение договора о всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия (ДВЗЯИ), ставившаяся Советским Союзом цель остановить модернизацию ядерных средств, добиться их постепенного старения и отмирания достигнута не была. Отработав технологию производства так называемых субкритических испытательных взрывов, которые не запрещаются по договору ВЗЯИ, США продолжили совершенствование своих ядерных арсеналов, прежде всего «миниатюризацию» боезарядов. Возможности же Советского Союза в этом отношении непрерывно сужались вследствие кризиса ВПК, нехватки финансовых средств, закрытия Семипалатинского полигона и других факторов.
Как теперь очевидно, нереалистичной, не отвечающей объективной обстановке и характеру межгосударственных отношений была сама выдвигавшаяся в эти годы Советским Союзом цель — ограничить, радикально сократить, а затем и полностью ликвидировать ядерное оружие, «изгнать его из жизни людей» еще до окончания XX века.
Это был, безусловно, весьма популярный в мире, уставшем от ядерного противостояния, лозунг. На нем активно спекулировал Рейган, пытавшийся оправдать свою «стратегическую оборонную инициативу» (СОИ), направленную на слом договора по ПРО и создание нового класса вооружений — космических, — ссылками на то, что развитие широкомасштабной противоракетной обороны сделает ракетно-ядерное оружие «ненужным». Лозунг ликвидации ядерного оружия в американской политике был не более чем пропагандистской маскировкой очередной попытки сломать существовавший тогда ядерный паритет и добиться монопольного обладания ударными космическими вооружениями. Выдвижение советских инициатив на этом направлении, кроме попыток ослабить бремя гонки вооружений для нашей экономики и набрать пропагандистские очки в глазах мирового общественного мнения, каких-то сопоставимых выгод Советскому Союзу не давало. Повторяя пример недоброй памяти Л. Троцкого, горбачевское руководство как бы заявляло: «холодную войну» больше вести не хотим и не будем, а армию свою готовы распустить и разоружить. И пускай будет стыдно тем, кто не последует нашему примеру, а тем более вздумает обидеть нас. Ничем иным, кроме повторения «похабного» Брестского мира для нашей страны, это кончиться не могло.
Натолкнувшись на глухую стену в ходе проходивших тогда переговоров об ограничении ядерного оружия, Советский Союз предпринял ряд «обходных» шагов, пытаясь раскачать американскую позицию, воздействуя на союзников США в Европе и Азии. В марте 1986 года в ходе встречи Горбачева с президентом Алжира Бенджедидом в Москве было выдвинуто предложение о выводе из Средиземного моря кораблей — носителей ядерного оружия, отказе от его размещения на территории средиземноморских неядерных стран и принятие ядерными державами обязательства не применять такое оружие против любой средиземноморской страны, не допускающей у себя его размещения. 8 апреля страны ОВД выступили с обращением к европейским государствам, США и Канаде, в котором предложили освободить европейский континент от ядерного оружия и в качестве первого шага ликвидировать все ракеты средней дальности СССР и США в Европе. Выдвигалась вновь идея создания безъядерных зон в Европе, в том числе на европейском Севере и на Балканах.
Не прошло и десяти дней, как Горбачев на XI съезде СЕПГ в Берлине выдвинул предложение договориться о значительном сокращении всех компонентов сухопутных войск и тактической авиации европейских стран, а также соответствующих сил США и Канады, размещенных в Европе. Географической зоной сокращения должна была стать теперь уже не только Центральная Европа, а вся территория Европы от Атлантики до Урала. Одновременно с обычными вооружениями СССР предлагал сократить и ядерные средства оперативно-тактического назначения. Сокращаемые войсковые соединения и части надлежало расформировывать, а их вооружения уничтожить либо складировать на национальных территориях. 23 апреля последовало заявление Советского правительства об укреплении мира, добрососедства и доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где выражалась готовность к созданию безъядерных зон и сокращению деятельности военно-морских флотов в Тихом океане.
Результаты этих инициатив были скудными. Расслоения между твердокаменной позицией США и позициями их союзников не происходило. Американцы держали дисциплину в своем лагере. В ответ на предложение СССР по мерам военной разрядки в Европе министр обороны США Уайнбергер призвал страны НАТО «с большой осторожностью» относиться к любым планам русских относительно изменения структуры сил в Европе.
Серьезные уступки американской стороне начались со встречи Горбачев — Рейган в Рейкьявике, проходившей 10–13 декабря 1986 года. На своей первой встрече в Женеве 19–21 ноября 1985 года руководители СССР и США, как известно, ни о чем не договорились, кроме необходимости встретиться еще раз. В ответ на крайне неуступчивую и неконструктивную позицию Рейгана тогдашний руководитель СССР платил той же монетой, ни на йоту не отходя от советской официальной позиции на переговорах. В Рейкьявик Горбачев приехал, однако, уже с предложением поручить министрам иностранных дел подготовить взаимосвязанный комплекс из трех проектов соглашений, которые могли бы быть затем подписаны во время его визита в США. Конкретно предлагалось следующее:
1. Сократить наполовину каждую часть триады стратегических наступательных вооружений, т. е. стратегические ракеты наземного базирования, стратегические ракеты на подводных лодках и стратегические бомбардировщики. Эта была первая серьезная уступка. На переговорах в Женеве в соответствии с «историческим» заявлением Горбачева от 15 января 1986 года мы добивались пятидесятипроцентных сокращений всех вооружений, достигающих территорий обеих стран, т. е. и американских средств передового базирования, в том числе американских ракет средней дальности «Першинг-2», крылатых ракет, размещенных в Европе, поскольку они угрожали территории СССР. Теперь это требование снималось.
2. Полностью уничтожить все советские и американские ракеты средней дальности в Европе. При этом снималось требование учесть ядерный потенциал Англии и Франции — союзников США по НАТО. Еще одной крупной уступкой было предложение заморозить оперативно-тактические ядерные средства (с дальностью менее одной тысячи километров) и начать переговоры об их дальнейшей судьбе. Поскольку Рейган упорствовал в намерении сохранить в Европе часть американских средних ракет, советская сторона сделала еще одну уступку, согласившись ограничить (100 единиц) свои средние ракеты в Азии, соглашаясь на то, чтобы США сохранили столько же таких ракет на своей территории.
3. Принять взаимное обязательство в течение десяти лет не пользоваться правом выхода из договора ПРО, ограничив работы по программе СОИ только лабораторными исследованиями.
4. Незамедлительно договориться о разработке полномасштабного договора о полном и окончательном запрещении ядерных взрывов. И здесь советская сторона шла на уступки, заявив, что рассматривает запрещение испытаний как «процесс», растянутый во времени, готова обсуждать вопрос о «порогах» мощности ядерных испытаний и допустимых количествах ядерных взрывов в год.
Почувствовав слабину в советской позиции, явное стремление добиваться театральных успехов любой ценой, Рейган не принял предложений Горбачева. Будущее показало, что он правильно оценил своего противника, который только еще начинал свою игру в поддавки.
Уже 1 марта 1987 года Горбачев выступил с заявлением о готовности выделить проблему ракет средней и меньшей дальности в Европе из общего блока вопросов, обсуждаемых в Женеве, и заключить по ней отдельное соглашение, причем сделать это безотлагательно. От взаимной увязки вопросов недопущения гонки вооружений в космосе, сокращения стратегических вооружений и средств средней дальности было решено отказаться, а пакет от 15 января 1986 года раскассирован. Следующим логическим шагом, которого могли ожидать США, должно было стать согласие советской стороны пойти на сокращение стратегических вооружений без решения вопроса о сохранении договора по ПРО и в условиях продолжения американских работ по программе СОИ. Так оно вскоре и произошло.
Тихие похороны программы полной ликвидации ядерного оружия к 2000 году были прикрыты новым широковещательным заявлением (на сей раз от имени руководителей всех стран — участниц Варшавского договора), опубликованным после очередного совещания в Берлине 28–29 мая 1987 года. В нем формулировалась суть военной доктрины Варшавского договора и национальных военных доктрин входящих в него государств.
Говорилось, что в условиях, когда накоплены значительные количества смертоносных вооружений, человечество оказалось перед проблемой выживания. Мировая война, тем более ядерная, имела бы катастрофические последствия не только для участников конфликта, но и для самой жизни на Земле. Подтверждалось, что страны при таких обстоятельствах не начнут военных действий, если сами не станут объектом вооруженного нападения, никогда не применят первыми ядерного оружия. Они не относятся ни к одному государству, ни к одному народу как к своему врагу, готовы строить отношения со всеми на основе взаимного учета интересов безопасности и мирного сосуществования.
Эти прекраснодушные заявления делались, несмотря на то, что другая сторона никогда подобных политических и моральных обязательств на себя не брала, исходила из того, что в случае начала военного конфликта первой применит ядерное оружие, рассматривала Советский Союз как главного противника, продолжала гонку вооружений в расчете на обретение военного превосходства, открыто объявила нашу страну и ее общество «империей зла».
Особо было выделено предложение об одновременном роспуске НАТО и Варшавского договора, а в качестве первого шага — о ликвидации их военных организаций. В этой связи предлагалось начать консультации по устранению сложившихся дисбалансов и асимметрий по отдельным видам вооружений и вооруженных сил.
НАТО, как известно, никогда не помышляло о самороспуске. Оно не собиралось отказываться и от тех огромных преимуществ, которые имело перед СССР на море и в воздухе, добиваясь в то же время односторонней ликвидации преимуществ стран Варшавского договора в сухопутных силах. Призывы, принятые под советскую диктовку в Берлине, не имели под собой реалистической основы. Однако они играли разлагающую роль в рядах наших европейских союзников, демонстрируя небрежение Москвы Варшавским договором, который в 1985 году был продлен еще на 20 лет, готовность вывести свои войска из союзных стран и идти навстречу западным требованиям о глубоких асимметричных сокращениях сухопутных сил Варшавского договора. Все это также лило воду на мельницу быстро набиравшей силу оппозиции в европейских соцстранах, подготавливая почву для последующего их коллективного ухода из Варшавского договора, отказа от союзнических отношений с Москвой и переориентации на НАТО и ЕС.
Пренебрежение союзниками и союзническими обязательствами было наглядно продемонстрировано на примере Афганистана. Целесообразность вывода из этой страны советских войск при условии достижения соответствующего политического урегулирования, прекращения гражданской войны и международных гарантий безопасности Афганистана не вызывала сомнений. На практике имел, однако, место уход войск без достижения каких-либо реальных международных гарантий стабилизации положения в этой стране.
6–8 апреля 1988 года, находясь в Узбекской ССР, Горбачев не оставил президенту Афганистана Наджибулле иного выхода, как согласиться с выводом контингента советских войск начиная с 15 мая. Через неделю в Женеве были подписаны документы по политическому урегулированию положения в Афганистане: декларация о международных гарантиях, меморандум понимания. Было подписано также соглашение между Афганистаном, СССР и Пакистаном, предусматривающее вывод из Афганистана войск СССР в период с 15 мая 1988 года до 15 февраля 1989 года. При их подписании Шеварднадзе четко сознавал, что эти документы ни к чему западную сторону не обязывают и заведомо не будут выполняться. Решалась задача любой ценой уйти из Афганистана и предстать в образе мужественных политиков, покончивших с этой непопулярной войной, в которую неосторожно впуталось прежнее советское руководство во главе с Брежневым. Режим Наджибуллы сознательно обрекался на гибель, которая, к удивлению Кремля, затянулась на несколько лет. В конце концов Горбачев «добил» Наджибуллу, прекратив выполнение обязательств по поставке в Афганистан оружия, горючего и продовольствия. Через пару месяцев мы получили «талибский нарыв» в южном подбрюшье СССР.
Аналогичным образом советское руководство поступило и в отношении Монголии. 16 марта 1989 года было опубликовано сообщение о договоренности с правительством МНР о выводе советских воинских частей оттуда. Вывод этот был одной из перестроечных инициатив, предложенных МИД СССР еще в 1986 году, и должен был служить цели «успокоения» Китая, якобы озабоченного возможностью удара по Пекину с монгольской территории. Оглядываясь назад, надо признать, что реальную опасность для Китая небольшая советская группировка в Монголии вряд ли представляла. Смысл ее пребывания там скорее заключался в ограждении суверенитета МНР, демонстрации серьезности и незыблемости советско-монгольских союзнических отношений. В Китае вывод советских войск, безусловно, произвел благоприятное впечатление. Вместе с тем он означал серьезный шаг по пути утраты позиций, приобретенных нашей страной в Монголии после революции 20-х годов, огромных вложений, произведенных в ее экономику. Стратегически чрезвычайно важная для безопасности нашей Сибири и Дальнего Востока Монголия вскоре стала объектом активного проникновения других государств.
7–9 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась очередная встреча Горбачева с Рейганом при участии Шеварднадзе и Шульца. В ходе ее был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также документы, прилагаемые к договору в качестве его неотъемлемой части. Выдававшийся советским руководством за очередную «крупную победу» внешней политики СССР договор на самом деле явился стопроцентной капитуляцией Горбачева перед американскими требованиями о так называемом «нулевом решении» вопроса о ядерных ракетах средней дальности. После многолетних заявлений о полной неприемлемости для СССР американского «нуля», в которые поверила европейская общественность и такие влиятельные партии, как западногерманская СДПГ, советская сторона, не моргнув глазом, стала прославлять это решение, пошла на свертывание производства новой ракеты «Пионер», в разработку которой были вложены миллиарды рублей, на ликвидацию уже произведенных экземпляров, добавив к этому еще и сотни наших современных оперативно-тактических ракет.
Это была звонкая политическая и стратегическая победа Рейгана. Ядерному потенциалу СССР наносился существенный ущерб, в то время как соответствующие американские ракеты сокращались в меньшем числе, находились лишь в начальной фазе своего развертывания и, кроме того, большого значения для США не имели, поскольку все потенциальные объекты ядерных ударов на территориях СССР и стран ОВД были и без того многократно перекрыты уже существующими ядерными средствами. США с помощью этого договора снимали серьезную напряженность, возникшую из-за размещения новых ракет, в отношениях с их европейскими союзниками, наглядно демонстрировали продуктивность линии на ведение дел с Советским Союзом с позиции силы, раскрывали легковесность выдвигавшихся Горбачевым «исторических» инициатив и требований.
За договором по ракетам средней дальности должна была последовать договоренность и по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Это было неизбежно, как «аминь» в конце любой церковной службы. Но этот последний бастион наши военные и дипломаты защищали долго и упорно. Прошли встречи на высшем уровне в Москве (1988 г.), на Мальте (1989 г.), в Вашингтоне (1990 г.), а также встречи министров иностранных дел СССР и США в Вайоминге (1989 г.), в Москве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне — в 1990 г., в Берлине, Вашингтоне, Лондоне (1991 г.), прежде чем начали прорисовываться очертания договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-1).
Главные усилия США направлялись на то, чтобы разрушить сложившуюся в СССР структуру СНВ путем максимальных ограничений советской группировки — при сохранении своей «триады» СНВ. Американские переговорщики проявили чудеса изобретательности, предлагая вновь и вновь разные хитроумные методы подсчетов крылатых ракет воздушного и морского базирования, чтобы обмануть советскую сторону и добиться односторонних преимуществ. Горбачев и его люди в Политбюро нажимали на наших дипломатов и военных, требуя «гибкости» и взывая к партийной дисциплине. Тем не менее договор СНВ-1 в целом можно охарактеризовать как взвешенный и равноправный документ. СССР (Россия) должен был сократить 900 единиц (36 %) своих стратегических носителей и 4271 единицу (41,6 %) боезарядов. США сокращали 690 единиц (29 %) носителей и 4563 единицы (43,2 %) боезарядов.
Соединенные Штаты, однако, ни на минуту не оставляли цели добиться слома ядерного паритета. Договор СНВ-1 не позволил им решить эту стратегическую задачу. Поэтому их первым же шагом после развала СССР и прихода к власти Ельцина стала попытка серьезной корректировки СНВ-1. В ходе государственного визита первого президента России в США 15–17 июня 1992 года российская сторона в ответ на посулы предоставления кредита в размере 24 млрд долларов заявила, что «отказывается от идеологии паритета по СНВ в обмен на сотрудничество с Америкой — самой богатой страной планет».
Дж. Буш потребовал от Ельцина ликвидации всех баллистических ракет с разделяющимися головными частями и в первую очередь тяжелых ракет СС-18 («Сатана»), немедленного вывода всех российских войск из Прибалтики, согласия России на пересмотр договора по ПРО, прекращения экономической поддержки Кубы, солидарности с США в конфликте с Югославией, уменьшения объемов российской торговли оружием, роспуска КГБ, открытия всех секретных архивов, ускорения приватизации. В ходе визита было подписано много документов, в том числе и рамочная договоренность по СНВ, подготовившая последующий позорный договор СНВ-2.
Этот договор был подписан Б. Ельциным и Дж. Бушем 3 января 1993 года в Москве, но, к счастью, так никогда и не вступил в силу. Уровень боезарядов на стратегических носителях должен был снизиться с 6000 единиц (по СНВ-1) до 3000–3500 единиц. Все наземные баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками ликвидировались. Кроме того, 100 тяжелых бомбардировщиков, которые разрешалось «переориентировать для выполнения неядерных задач», в общие уровни вооружений сторон больше не засчитывались. Уничтожения платформ боеголовок и их замены на новые (в отличие от договора СНВ-1) больше не требовалось, что позволяло американцам в любой момент восстановить сокращенный потенциал. А вот шахтные пусковые установки наших СС-18 заливались бетоном, чтобы их нельзя было использовать для установки ракет другого типа. Вопросы запрещения крылатых ракет морского базирования и соблюдения договора по ПРО в новом договоре СНВ-2 отсутствовали.
Но главный недостаток договора состоял в том, что с его помощью, по сути дела, разрушались наши ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — главная мощь России. Чтобы выйти на предусмотренный договором уровень боезарядов, мы должны были уничтожить ракеты с разделяющимися боеголовками и затем дополнительно строить сотни мобильных баллистических ракет. И это в условиях глубочайшего экономического кризиса и резкого падения промышленного производства!
По сути дела, с помощью договора СНВ-2 США заставили Россию в структурном отношении «подстроиться» под свою стратегическую «триаду», чего они безуспешно добивались от Советского Союза на протяжении долгих лет. Навязывая нам тяжелейшие и в стратегическом смысле абсурдные сокращения СНВ, США добились для себя условий, не требовавших никакой перестройки структуры их стратегических вооружений. США могли в считанные часы восстановить прежнее число боеголовок. Их фактический ядерный потенциал составил бы в этом случае не 3500 боезарядов, как записано в договоре СНВ-2, а в 2,5–3 раза больше.
В последующие годы договор СНВ-2 не раз был предметом острой критики. При этом чаще всего его появление старались объяснить сильным нажимом с американской стороны и неподготовленностью нового российского руководства (Ельцин, Козырев, Грачев) к ведению переговоров такой сложности и ответственности. Неподготовленность и безответственность, конечно, имели место. Но дело не только в этом, поскольку в распоряжении Ельцина были специалисты высокого класса, понимавшие, что к чему, и, кроме того, не прошло еще и года после подписания договора СНВ-1, заключенного на 15 лет, до 2006 года.
Дело в другом. Новое российское руководство, пришедшее к власти в результате путча 1991 года, не только не собиралось корректировать по существу предательский, антигосударственный курс Горбачева последних лет, но, захватив Кремль, постаралось тут же «переплюнуть» нашего «лучшего немца» и кумира западных СМИ по всем статьям. Размах усилий в этом деле носил фантастический характер. Начав с рапортов Дж. Бушу о том, что Советский Союз перестал быть субъектом международного права, Ельцин и его подручные в ускоренном темпе довели до конца сдачу внешнеполитических позиций, которые завоевали Россия и СССР.
Холокост, учиненный ими в России, не имеет аналогов в нашей, да, наверное, и в мировой истории. Слово «холокост» означает «сгорело всё». Действительно потеряно все или почти все, что добывали Петр Первый, Екатерина Великая, Потемкин и Орлов, наши великие императоры, полководцы и флотоводцы, Ленин и Сталин. Поставлен крест на Ялте и Потсдаме, на результатах Великой Отечественной войны. Россия больше не великая держава. У России нет ни друзей, ни союзников. Над сплошным пожарищем «перестройки» и так называемых «демократических реформ» мрачно возвышается фигура ее первого президента, самодовольно и тупо твердящего: «В каждом документе — выгода для России …нет никакого ущемления наших интересов». Россия превратилась из субъекта международной политики в объект для чужих вожделений и домогательств.
Занавес истории опустился. Поднимется ли он когда-либо вновь?
Михаил Делягин[1] Возрождение России Основы идеологии
1. Созидание российской цивилизации
Россия участвует в жесточайшей внешней конкуренции, ведущейся не только за рынки сбыта и ресурсы развития, но и за само право на существование. Приобретая цивилизационный характер, эта конкуренция становится «войной на уничтожение», развязанной сильными против слабых.
Осознанное и целенаправленное уничтожение Югославии Западом, волны международного терроризма, поощрение афганской наркомафии после уничтожения режима талибов, агрессия США против Ирака и многие другие события при всей своей разнородности доказывают: единственное право, действующее в современном мире, — это право силы.
Это не только военно-политическая и экономическая, но и информационно-пропагандистская мощь, способная не просто навязать другим свои интересы, но и убедить их в том, что следование им является единственно разумным и возможным образом их действий.
Чтобы стать сильным, способным осознавать и реализовывать собственные интересы, а не интересы конкурентов, российское общество должно осознать свои особенности не как слабость, но как силу и научиться использовать их как ресурс в глобальной конкуренции.
Запад, даже если и захочет, не способен помочь России — и не только из-за эгоизма и стремления к наживе, лежащих в основе современной цивилизации. Это связано и с его цивилизационным упадком, скрываемым накопленными ресурсами и позитивной инерцией. Этот упадок проявляется в омертвлении общественных процессов, распространении апатии и скуки, во всеобщей формальной и неформальной регламентации, останавливающей прогресс. При всех трудностях и недостатках биение жизни в полной мере ощущается сегодня только в России.
Что бы ни утверждали наши корыстные конкуренты и их хорошо оплачиваемые подголоски, Россия — не ничтожный нефтяной придаток фешенебельных стран, обреченный как о несбыточном счастье грезить о судьбе Португалии. Россия — самоценный мир, самостоятельная, хотя еще далеко не полностью проявившаяся цивилизация, отнюдь не обязанная следовать чужим правилам. Ее самовыражение, выявление собственной идентичности, выпавшее на долю нынешнего поколения граждан России, — самый важный процесс мирового развития во всем обозримом будущем.
Важность этого процесса обусловлена еще не полностью осознаваемой нашим обществом трагичностью современного положения России. Обладая целой группой уникальных ресурсов (территория для евроазиатского транзита, природные кладовые Сибири и Дальнего Востока, навыки создания новых технологий), наша страна является объектом всех идущих сейчас цивилизационных экспансий: финансово-экономической — Запада, социально-религиозной — ислама (после поражения коммунизма он стал единственной глобальной силой, обещающей удовлетворение тяги к социальной справедливости), этнической — Китая.
Из-за слабости, дурного управления и незавершенности самоидентификации Россия в ближайшие годы не может остановить ни одну из этих экспансий. Именно на территории России конкуренция цивилизаций примет форму непосредственного столкновения. «Фронт» цивилизационного единоборства пройдет не по географическим рубежам, но внутри самого российского общества, сделав его одним из ключевых факторов развития человечества.
2. Реализация базовых ценностей российского общества
Оздоровление, модернизация и успешное развитие России требуют воплощения в жизнь базовых ценностей российского общества и их синтеза, объединения в единую, непротиворечивую, четко осознаваемую и ясно выражаемую идеологию.
2.1. Социальная справедливость
Сегодня всякое продвижение вперед в политическом плане означает для российского общества продвижение влево, к большей социальной справедливости.
Главная задача современного российского общества — обеспечение социальной справедливости на основе значительного повышения уровня жизни людей, в первую очередь мало- и среднеобеспеченных, гарантирующего им самим удовлетворение хотя бы основных физических и социальных потребностей, включая воспитание детей полноценными и адаптированными членами общества, а обществу — большую внутреннюю однородность и стабильность, преодоление демографического кризиса, возобновление массового технологического прогресса.
Достижение этих целей — неотъемлемое условие конкурентоспособности общества в современном мире.
Общество с высокой социальной дифференциацией генерирует внутреннюю напряженность, преодоление которой отвлекает его ресурсы от задач развития и ведет к отставанию от конкурентов.
Продолжение вымирания населения России свидетельствует о сохранении серьезных внутренних проблем, ограничивает масштаб и разнообразие человеческого потенциала страны, снижает ее конкурентные возможности и не позволяет защищать свои ресурсы.
Наконец, ключевым фактором конкуренции сегодня выступает технологический прогресс, а главным ресурсом — организованный и при этом раскрепощенный интеллект. Между тем в современной России интеллект если и сохраняется, то, во всяком случае, не воспроизводится.
2.2. Социальная ответственность
Демонстрируемое многими руководителями страны пренебрежение идеалами ответственности, длительное насаждение самого разрушительного эгоизма привели к столь страшным последствиям, что российское общество начало осознавать значимость ответственности как ключевой общественной ценности. Именно всеобщая ответственность друг перед другом и перед обществом за судьбу своей Родины соединяет отдельных людей в общество, отдельные фирмы — в бизнес, чиновников — в государство, а всех вместе — в Россию.
У нашей Родины нет надежно защищаемых границ, последовательно исполняемых законов и общих обычаев, общей идеологии и даже осознаваемых общих интересов. Россия сегодня — не столько территория, сколько сообщество отличающихся друг от друга людей, объединенных общими ценностями и взаимной ответственностью за свою судьбу. Даже когда мы решим нынешние проблемы, научимся защищать границы, вырабатывать разумные законы и выполнять их, когда определим свои общие интересы, Россия будет более широким понятием, чем территория, на которой платят рублями, смотрят федеральное телевидение и ругают начальство.
Возрождение России начнется, — а точнее, уже начинается — не с «удвоения ВВП в семь раз» или очередного сокращения инфляции, но с самоосознания и самоидентификации, то есть в первую очередь с достижения нами четкого понимания взаимной ответственности, которая сегодня лишь неявно ощущается, и превращения этого понимания в доминанту общественной жизни.
2.3. Избавление от лжи
Развитие нашего общества возможно только после того, как оно вырвется из пучины тотальной лжи и взаимного недоверия, в которое оно погружено 15 годами национального предательства, разврата и коррупции. Возрождение России начнется, когда в ней можно будет жить и зарабатывать на достойную жизнь честно и открыто, не боясь ни государственного, ни частного насилия.
Для превращения честности в норму жизни необходимо гарантирование прав собственности, исключающее возможность отчуждения имущества, кроме приобретенного за счет преступлений против личности, наркоторговли и контрабанды оружия.
За это бизнес обязан будет в разумный срок — ориентировочно в течение года — представить государству полную информацию о своей собственности в России и вне ее, включая находящуюся в непрямом владении и спрятанную через офшоры. Бизнесмен, сообщивший неверные данные, должен быть наказан за обман государства, а скрытые им имущество и активы — конфискованы.
Гарантия права собственности — при прозрачности ее структуры — позволит бизнесу отказаться от дорогостоящих схем, скрывающих незащищенное сейчас имущество, снизить связанные с этим значительные издержки, оптимизировать структуру компаний и повысить их капитализацию, упростить управление и повысить его качество.
Правящая бюрократия лишится главного источника взяток, что подорвет ее материальное положение и создаст предпосылки для оздоровления политической системы страны.
Общество получит оздоровление морального климата, резкое ускорение развития и неискаженное представление о действительной структуре экономики, необходимое для прогнозирования ее развития и планирования своих действий.
2.4. Патриотизм и позитивный реваншизм
В «холодной войне» СССР потерпел даже более сокрушительное поражение, чем Германия, Япония и Италия — во Второй мировой. Несмотря на огромные жертвы и разрушения, фашистские страны сохранили суверенитет (хотя в первое время он и был ограничен), основную часть территории и идентичность. Уже через 10 лет после поражения все они были эффективными, справедливыми и динамично развивающимися обществами, обеспечившими своим гражданам высокий уровень жизни и успешно восстанавливающими позиции на мировой арене.
Советский же Союз разрушился как территориально, так и внутренне: советский народ, действительно бывший «новой исторической общностью», перестал существовать. Все части бывшего СССР испытали чудовищную деградацию, падение уровня жизни, утрату современных технологий и архаизацию общественных институтов. Демографическая цена (численность преждевременно умерших и неродившихся) реформ только в России превышает 12 млн чел. — и составляет более 8 % населения.
За прошедшие годы Россия, объявившая себя наследницей СССР, утратила практически все унаследованное от него влияние за пределами своей территории (в том числе и в СНГ), что лишило ее многих рынков и необходимых ресурсов, ограничило возможности развития и, соответственно, способствовало деградации.
Более того: она стала объектом безудержного разграбления не только своей собственной компрадорской буржуазией, но и транснациональными корпорациями, в интересах, а порой и под прямым контролем которых эта буржуазия действовала.
Граждане России ощущают, что живут в не просто потерпевшей глобальное поражение, но и ограбленной, униженной и преданной собственными руководителями стране, сам факт существования которой по-прежнему вызывает у многих представителей наиболее влиятельных стран мира животную ненависть и раздражение.
Любая попытка расширения российского бизнеса даже не на глобальном, а лишь на постсоветском пространстве вызывает жесточайшее и откровенно враждебное противодействие. Простое присутствие российских компаний на рынках «третьих» стран возводится в ранг серьезной внешнеполитической проблемы. Дискриминация российского бизнеса стала нормой поведения развитых стран.
Это следствие не столько осознанной ненависти именно к России (которая также имеет место, так как не до конца изжитый ужас времен «холодной войны» заставляет победителей стремиться к окончательному подавлению побежденного), сколько общего ужесточения глобальной конкуренции, не оставляющей относительно слабым ее участникам возможностей выживания.
Российское общество отвечает на нарастающее национальное унижение ростом самосознания, пробуждением национальной гордости и укреплением внутренней солидарности.
Это проявляется не только в понимании того, что страны, отменившие крепостное право лишь на 13 лет раньше России (Германия, Австрия) или даже позже ее (США), а также признавшие избирательное право женщин лишь в 1928 году (Великобритания), просто не имеют права «учить нас демократии» — да еще и с видимыми корыстными целями. Даже бизнесмены, недавно занимавшие космополитичные позиции, осознают невозможность долгосрочной реализации своих коммерческих интересов без становления России как глобальной силы, способной защищать национальный бизнес и прокладывать ему дорогу для внешней экспансии.
Самые отъявленные либералы начинают признавать приоритет общих интересов перед интересами отдельной личности, так как интересы последней просто не могут реализоваться в ущербном и угнетенном обществе. Массовая готовность жертвовать личным ради общественного является практическим доказательством высокого уровня патриотизма российского общества.
Этот патриотизм должен быть переведен в плоскость практической повседневной политики и дополнен позитивным реваншизмом, направленным на «возвращение своего» — неотъемлемых рынков и ресурсов, необходимых для успешного и устойчивого развития российского общества.
После распада СССР большинство бывших советских граждан оказалось в положении разделенной нации. И точно так же, как немцы через 40 лет кропотливой работы обеспечили воссоединение своего народа, и так же, как обеспечат его корейцы, воссоединение наших народов в рамках единой многонациональной культуры, поверх границ и корыстных интересов развращенных национальных бюрократий обеспечим и мы — современные русские.
Трудности, которые предстоит преодолеть в ходе воссоединения, наглядно видны на примере Германии. Длительная жизнь порознь создает не просто взаимную неприязнь, но и глубокие фундаментальные различия, изживать которые придется поколениями. Но пример той же Германии показывает, что воссоединение разделенного народа высвобождает колоссальную позитивную энергию, придающую огромный импульс общему развитию и позволяющему постепенно изживать самые глубокие и болезненные разногласия.
Исторический, геополитический и экономический реванш — категорическое условие нормального развития России, категорический императив всей современной российской политики.
Непосредственная причина этого — объективная неспособность многих из оставленных без внимания территорий, в том числе и граничащих с Россией, к самостоятельному развитию. Большинство из них не нужно Западу и, соответственно, не будет им развиваться. В результате они превращаются в «генератор неблагополучия», а то и хаоса, который будет постоянно дестабилизировать наше общество. Возобновление развития этих территорий возможно только за счет экономической и политической экспансии России (в том числе при сохранении их политической независимости), что требует выработки ее четкой внешнеполитической стратегии.
Но главная причина необходимости восстановления глобального влияния России заключается в потребности обеспечить ее внутреннюю социально-политическую стабильность и устойчивое экономическое развитие.
Общий принцип гармонизации интересов бизнеса и населения заключается в том, что во внешнем мире государство должно реализовывать интересы бизнеса как наиболее активного и творческого элемента общества, поддерживая и частично направляя его экспансию, рассматривая ее как один из ключевых инструментов развития национальной экономики и повышения благосостояния. Внутри же общества государство должно поддерживать в первую очередь население с его стремлением к справедливости и более равномерному распределению ресурсов, ибо внутренне нестабильное, расколотое общество не может быть конкурентоспособным.
Поощрение государством внешней экспансии бизнеса в обмен на его согласие с приоритетностью интересов населения внутри страны — единственный эффективный способ гармонизации устремлений бизнеса и населения, единственный инструмент не просто поддержания долгосрочного социального мира, но и достижения общности интересов, цементирующих внутреннее единство общества.
К сожалению, подобное гармоничное развитие доступно лишь немногим странам. Ведь необходимую для него внешнюю экспансию могут осуществить только сильные государства. Страна, являющаяся объектом экспансии (классический пример — современная Россия), не только лишена возможности быстрой гармонизации интересов бизнеса и населения, но и сталкивается с качественно новыми проблемами, порождаемыми этой внешней экспансией. Доступный для нее выход из положения — объединение усилий бизнеса и населения в противостоянии внешней экспансии ради сохранения в стране большей доли производимых ресурсов и направления их на нужды собственного развития. То есть в развязывании своего рода «национально-освободительной» войны в области экономики.
2.5. Права личности
Наряду с обеспечением социальной справедливости, ответственностью и патриотизмом условием гармоничного, эффективного развития общества является соблюдение прав личности. Они должны, безусловно, соблюдаться в той мере, в которой они не противоречат интересам общества и правам других людей. Более того: современные технологии требуют массового творчества и раскрепощения человека, что делает неотъемлемым условием конкурентоспособности расширение реальных личных свобод.
Вместе с тем следует учитывать принципиальное отличие понятия «прав личности» от традиционного термина «права человека», являющегося результатом механического (и отчасти осознанно деструктивного) переноса западных стандартов демократии на отечественную почву. Эти стандарты были выработаны на основе предположения о безусловной способности большинства общества самостоятельно защищать свои права и жизненно важные интересы.
Соответственно, западное понимание «прав человека» и демократии исходит из необходимости защиты исключительно прав меньшинства, ограничиваемых большинством. В ситуации, когда интересы большинства защищаются автоматически, это соответствует интересам общества в целом.
Однако в России большинство в силу объективных причин не способно в полной мере защищать свои интересы. В этих условиях энергичная и эффективная защита прав меньшинства объективно превращается в ущемление и в конечном счете в отрицание прав большинства, — по сути дела, в антиобщественную, деструктивную деятельность (так как общество в целом — это в первую очередь его большинство, а не меньшинство).
Интересы большинства российского общества требуют защиты не разрушительных для него «прав человека», но жизненно необходимых для его нормального развития неотъемлемых прав личности — на жизнь, жилье, образование, здравоохранение, труд, доступ к информации, участие в управлении, самовыражение и т. д.
2.6. Справедливость в межнациональных и межконфессиональных отношениях
Представители различных народов, различных культур в силу различия национальной психологии по-разному реагируют на одни и те же воздействия. Игнорирование этого самоочевидного факта резко снижает эффективность государственного и корпоративного управления, подрывает конкурентоспособность общества.
Сказанное ни в коей мере не означает, что один народ, культура или религия «лучше» или «хуже» других. Расистское разделение народов является абсолютно неприемлемым, ибо порождает внутренний раскол в обществе, превращая в иррациональных, неспособных к долгосрочному компромиссу врагов огромные группы людей, которые при терпимом отношении и эффективном управлении были бы союзниками и работали бы на общее благо.
Отторгая от соответствующего общества потенциальных союзников (или нейтралов) в глобальной конкуренции, расистские и ксенофобские подходы подрывают его конкурентоспособность, кардинально сужая его человеческий и социальный потенциал.
По этой же причине объединение общества должно происходить на основе не этнических и религиозных признаков, которые отдельно взятый человек в большинстве не имеет возможности изменить, но на базе универсальных ценностей, наиболее полно выражаемых понятием «образа жизни».
Однако формирование общества на основе принципа открытости не только не отменяет, но и многократно повышает значимость национальной политики, полномасштабного и скрупулезного анализа особенностей национальных, культурных и религиозных групп и их полного учета в практике государственного управления.
Отсутствие внятной национальной политики в многонациональном государстве и стремление закрыть глаза на ее необходимость порождает все более болезненные проблемы межнациональных отношений и провоцирует наиболее варварские и разрушительные для общества способы их решения.
Здоровые политические силы России должны заставить государство учитывать в своей политике различия в восприятии одних и тех же управленческих сигналов представителями различных народов и культур. Это исключительно деликатная задача, и политические представители общества обязаны в полной мере сознавать свою ответственность за обеспечение межнационального мира в стране.
В то же время предъявление соответствующих требований к государству в недостаточно деликатной форме является неизмеримо меньшим злом, чем соучастие в замалчивании обостряющихся проблем межнациональных отношений.
Россия пережила подлинный геноцид невайнахского, прежде всего русского населения Чечни в 1991–1994 годах, переживает расцвет этнической преступности (в том числе связанной с распространением наркотиков) и многочисленные этнические погромы. Межнациональное и межконфессиональное сотрудничество — единственный способ гармонизации внутренней жизни России и единственный способ урегулирования гражданских конфликтов в некоторых национальных обществах.
Русская культура, вбирающая в себя достижения отдельных национальных культур и в свою очередь обогащающая их, — конституирующий, созидающий элемент российского общества и формирующейся российской цивилизации. В этом качестве она нуждается в особом внимании со стороны государства, в защите от опошления и размывания, в поддержке и развитии (но ни в коем случае не в музейной консервации) ее основополагающих элементов. Для этого могут быть использованы механизмы, применяемые во Франции и Германии (в последней даже введен специальный термин «Landkulture», означающий традиционно доминирующую, конституирующую общество немецкую культуру). Необходимо также жесткое структурирование по культурному признаку миграционной политики.
Наш идеал — конструктивная, позитивно ориентированная терпимость, уважение неантагонистических и не разрушительных для общества различий ценностей и образа жизни образующих его народов и культур, неутомимое и изобретательное использование этих различий для выработки и достижения общих целей.
3. Ключевые вопросы идеологии
3.1. Крупный бизнес — основа конкурентоспособности общества, олигархия — смертельная, но излечимая болезнь
Крупные корпорации — основа конкурентоспособности современного общества. Они технологически и коммерчески необходимы, их успех — категорическое, хотя и далеко не достаточное условие успешности общества.
Олигархия — круг бизнесменов, получающих значимую долю своих доходов за счет контроля за частью системы госуправления. Неотъемлемая составляющая олигархии — формально не являющиеся бизнесменами коррумпированные чиновники, рассматривающие свою службу в госаппарате как специфический бизнес, как способ личного обогащения. Олигархия — абсолютное зло.
Уничтожение олигархии возможно только политическим путем — устранением «теневых» механизмов сращивания государства и крупного бизнеса, перевода их взаимодействия в открытый и прозрачный режим, регулируемый на основе интересов общества.
Так как именно неэффективное и коррумпированное, антиобщественное по своему духу государство превращает бизнесменов в олигархов, искоренение олигархии требует оздоровления прежде всего органов государственного управления. Коррумпированная бюрократия должна быть «раскулачена», а присваиваемые ею потоки взяток перенаправлены в бюджет в качестве налогов.
Стратегическая задача государства — укрепление и развитие национального бизнеса, содействие его выводу на все новые уровни: с местного на региональный, с регионального — на общенациональный и далее на глобальный уровень, с тем чтобы он служил интересам общества наиболее эффективно. При этом государство должно решать сложнейшую задачу выработки отсутствующего сегодня механизма взаимодействия с частной корпорацией, вышедшей на глобальный уровень, обеспечивающего гармонизацию интересов общества и данной корпорации.
Государство не имеет права рассматривать бизнес как «дойную корову», но и не должно позволять ему определять общенациональную экономическую «повестку дня». В противном случае подчинение политики узким интересам бизнеса превращает государство в неадекватную и разрушительную силу.
Следует исходить из того, что «собственность обязывает», и бизнес должен брать на себя целый ряд обязательств, сознавая свою ответственность перед обществом и частично компенсируя недостаточность развития последнего. В случае отрицания бизнесом своей социальной ответственности государство должно принуждать его к ней.
Сотрудничество государства и бизнеса на благо общества должно предусматривать разработку крупномасштабных проектов общественного развития, участие в которых выгодно для бизнеса.
Сегодня нувориши, получившие лучшие советские предприятия в подарок от реформаторской бюрократии, не развивают их и отрицают неразрывно связанную с владением социальную ответственность. Тем самым они демонстрируют обществу, что сами не признают эти предприятия своей собственностью. Не только общество считает их собственность нелегитимной — они сами воспринимают ее так же!
Государство должно воспитывать бизнес, корректируя и направляя его деятельность при помощи введения соответствующих норм и механизмов регулирования. При наличии сопротивления оно может прибегать к более жестким воздействиям, среди которых могут быть:
— введение монополии внешней торговли на экспорт сырья и продукции первого передела;
— распространение государственной собственности на все добываемое в России сырье при переходе частных сырьевых корпораций на положение работающих с давальческим сырьем;
— национализация, в том числе безвозмездная, на основе рассмотрения с юридической точки зрения итогов приватизации.
Следует понимать, что указанные меры возлагают на государство значимые функции оперативного регулирования и, соответственно, требуют в качестве непременного предварительного шага кардинального повышения эффективности госуправления. До наведения порядка хотя бы в сфере управления госсобственностью (и особенно госкорпорациями, имуществом за рубежом и государственными унитарными предприятиями) и подчинения этого управления интересам общества, а не отдельных чиновников и их групп реализация вышеназванных мер опасна. Она может привести не к повышению, а к радикальному снижению эффективности общественного использования имеющихся ресурсов (так, эффективность государственного управления РАО «ЕЭС России», «Газпромом», «Роснефтью» и рядом других крупных государственных компаний ниже, чем эффективность управления крупными частными корпорациями).
3.2. Либеральный фундаментализм — чума XXI века
15 лет назад Россия вступила на рыночный путь со значительным опозданием. Развитые страны, пользуясь «правом первооткрывателя» и доминирующим политическим влиянием, длительное время направляли наше развитие. Как правило, они делали это в корыстных интересах, заботясь о сдерживании России в наиболее выгодном для себя «промежуточном» положении, в котором она еще не подошла к краху (его последствия могли бы оказаться разрушительными и для соседей), но уже не способна не только защищать, но даже осознавать свои неотъемлемые национальные интересы.
Для поддержания такого межеумочного положения широко использовалась идеология либерального фундаментализма. При этом она практиковалась как универсальная для всех времен и народов истина в последней инстанции.
Исходя из «презумпции избыточности государственного регулирования», либерализм требует минимизации роли государства в жизни общества, что чревато отказом бюрократии от выполнения неотъемлемых и исключительных функций государства.
Либерализм опирается на представления о самодостаточности каждого человека, что не имеет отношения к реалиям России, где большинство людей пока еще жестко привязано к масштабным системам жизнеобеспечения.
Либерализм не учитывает степени социальной деградации РФ. Действительно, в обществе, где бедных лишь 5 %, их бедность может восприниматься как их собственная проблема. Однако когда бедных более 60 % — это проблема всего общества, и для решения ее необходим мощный инструмент в лице государства.
Наконец, в условиях жесткой глобальной конкуренции проповедуемое либерализмом в качестве панацеи открытие национальных рынков является большой и разрушительной ложью. Практика (как постсоветского пространства, так и начавшей вымирать Африки) уже многократно подтвердила очевидное: слабая экономика, поставленная в равные условия с более сильными, без поддержки государства не выдерживает конкуренции с ними и погибает.
Все эти недостатки в полной мере проявились за последние 15 лет, в течение которых в нашей стране последовательно проводятся разрушительные либеральные преобразования. Их разрушительность многократно усугублена особенностями российских либеральных фундаменталистов, боровшихся с социализмом не столько в силу неприятия его недостатков, сколько в силу неприятия своей собственной Родины, своего собственного народа.
В начале 90-х они разрешили людям обманывать и обворовывать друг друга и государство, назвав это рынком и демократией. Стремясь к разрушению страны, они осознанно выступали против права как такового; так, американский советник Гайдара писал о необходимости «вытеснить из общественного сознания мотив права мотивом выгоды». Прошло более 10 лет, и в 2004 году идеологи российской олигархии открыто говорят о допустимости нарушения законов, так как без их нарушения невозможно, де, вытравить из общества «остатки коммунизма».
Именно эта последовательность разрушила в нашей стране важнейшее чувство, делающее население единым обществом, — доверие, причем даже не столько к государству, сколько друг к другу. Это ведет к опасному разрежению социальной ткани общества, к слабости сотрудничества, затрудненности, а то и полной невозможности даже необходимых совместных действий, — и, как следствие, к драматической дезорганизации и долговременному снижению конкурентоспособности общества.
В результате в сегодняшней России либерал — это человек, осуществляющий или, как минимум, поддерживающий пятнадцатилетний геноцид собственного народа и открыто гордящийся этим.
Несмотря на это, либерализм весьма популярен в слабых странах. Главная причина — то, что он является наиболее естественным образом действия бизнеса и энергичных, успешных людей в целом. (Разрушительность либерализма в слабых обществах усиливает то, что уровень конкуренции, приемлемый для их элиты и даже необходимый для ее нормального развития и поддержания ее «в тонусе», часто оказывается невыносимым для общества в целом. В результате, ориентируясь на собственные конкурентные способности, либеральная элита относительно слабых обществ разрушает их.)
Либерализм дает массу привлекательных образцов для подражания: раз его исповедуют успешные люди, простейший способ добиться успеха самому — подражать им и в этом.
Существенно, что либерализм — едва ли не единственная религия (за исключением разве что кальвинизма), полностью снимающая с сильных всякую ответственность за слабых.
Либерализм, исходящий из презумпции избыточности государственного регулирования, предоставляет чиновникам идеальное оправдание их лени и безграмотности: чем меньше они делают, тем лучше соответствуют его требованиям.
Наконец, популярности либерализма способствует пропаганда стратегических конкурентов, использующих его как инструмент взламывания национальных рынков. Россия беззащитна перед этой пропагандой и сегодня.
Принимая и развивая позитивные, созидательные элементы либерализма — права личности, необходимость защиты честно заработанной собственности, справедливую конкуренцию, нетерпимость к злоупотреблению монопольным положением и коррупции, — надо последовательно отвергать его разрушительные стороны, превращающие современный либерализм в оружие недобросовестной конкуренции со стороны глобальных монополий.
3.3. Становление демократии: от благосостояния масс — к расширению политических прав и свобод
За последние 15 лет российские демократы скомпрометировали понятие «демократия» в глазах российского общества, превратив его в синоним хаоса, произвола, насилия, торжества низменных инстинктов, безответственности и безграмотности.
Между тем демократия — не формальный набор норм и институтов, исторически сложившийся в развитых странах и теперь навязываемый ими остальному миру, но положение, при котором мнения и интересы членов общества учитываются его управляющей системой в наибольшей степени. Демократия нужна не потому, что она наиболее приятна для образованной и обеспеченной части общества, но потому, что она обеспечивает наиболее эффективное управление и, соответственно, наибольшую конкурентоспособность общества, а значит — и наибольшее благосостояние его членов.
На разных этапах развития общества такая жизненно необходимая, содержательная демократия достигается различными способами. Попытки «перепрыгнуть через ступеньки» общественного развития и внедрить в недостаточно зрелое общество формальные стандарты, соответствующие уровню современных развитых демократий (в том числе парламентскую республику, разделение властей, независимость СМИ от государства и т. д.), нарушают естественный ход его развития и порождают либо диктатуру, либо хаос.
Подобный выбор неприемлем. Необходимо постепенное, органичное развитие демократических институтов, при котором они повышают эффективность общественного управления и укрепляют конкурентоспособность страны.
При этом первичны экономические изменения, обеспечивающие рост благосостояния, а не политические эксперименты, какими бы побуждениями они ни вдохновлялись.
~
Исполняется 10 лет со дня начала первой чеченской войны. Тогда общество в целом относилось к ней с осуждением. Её называли кровавой, бездарной, бессмысленной. Многие (и отнюдь не только «демократы») публично сочувствовали «свободолюбивым» чеченцам. Не зная, а зачастую и не желая знать, как русским людям живется под Дудаевым.
Заметки русского инженера из Грозного Юрия Кондратьева отчасти заполняют этот пробел. Бесхитростные, лишённые литературного блеска, они тем не менее являются историческим свидетельством. Необходимым хотя бы для того, чтобы почтить память русских жертв независимой Ичкерии. И русских солдат, которые освобождали Грозный чуть ли не голыми руками, — преданных бездарными генералами, вороватыми интендантами и кремлёвской верхушкой с Ельциным во главе. Та война была кровавой, во многом бездарной, но бессмысленной ни в коем случае не была.
Юрий Кондратьев
Я попытался очень сжато описать хронику жизни в «мирном» Грозном до и во время «чеченской революции». Сразу приношу свои извинения за возможные хронологические неточности. Ведь за эти годы произошло слишком много событий в моей жизни, и я не могу точно восстановить их последовательность.
К сожалению, я не смог описать все, что происходило в то время, многое вспомнилось уже позже, когда очерк был закончен. Я решил не переписывать его. Надеюсь, даже то, что написано, дает представление читателю о жизни простых людей в те неспокойные годы.
Мои друзья, грозненцы, просят меня писать о Грозном еще — и более подробно. Вынужден огорчить их отказом.
Слишком тяжело вспоминать. Сейчас я сплю спокойно и не хочу возвращаться в эти кошмары. Извините меня.
Многие грозненцы рассеяны сейчас по России. Многие из них могут написать гораздо больше и лучше, чем я, ведь я не профессиональный литератор, обычный технарь. Тех из них, кто отозвался, я попросил тоже написать об этом, но… Как написал один из них — М., он боится за свою семью. Ведь чечены сейчас заполонили Россию, чувствуют себя безнаказанными и легко могут убить любого, кто отважится описать виденное. Написанное становится документом, осуждающим виновников случившегося, а написавший — свидетелем. Мне не раз поступали «отзывы» на этот очерк, помещённый в Интернете, с обещанием «оторвать бошку», «замочить», «прирезать» и т. д. Как видите, опасения моего знакомого оправданны, ведь он в России и его защищать некому.
Грозный
1990…
…Ну, всё! Работа закончена, теперь бегом в гараж. Недалек тот день, когда смогу наконец-то выехать на СВОЕЙ машине. Конечно, это не «мерс», даже не «жигуль», а всего-навсего «запор». Понимаю, что стыдно в 38 не иметь машины, если всегда хотелось, но тут уже ничего не попишешь. И сам вроде не безрукий, два шестых разряда и ВКР, не считая кучи смежных специальностей, да и работаю вроде non-stop сразу после армии, да вот не повезло. И жена преподаватель, что называется, от Бога, имеет приработок плюс к моим шабашкам, но вот на жизнь в достатке так и не наскребли. Как там по пословице: «от трудов праведных…»?! Нет, я, конечно, знаю, что про нас в России говорят, не раз слышал: «Вы там все богатые, на Кавказе деньги лопатой гребете!..» Ну и прочую чушь.
Не могу обижаться на людей, откуда им знать, кому на Кавказе жить хорошо. Никогда ведь не писали правду о том, что «старший брат» на то и старший, чтобы «младшему» дорогу уступать. Как за станком или в горячем цехе, так это — для «старшего», а «младшего» беречь надо, от грыжи и усталости. Вот и придумали такие должности, как завсклад, завмаг, прораб и прочие, где «младший» мог себя не сильно утруждать. Ну а если учесть, что у него еще тейп бесчисленный, то как только один пролез, так и потянулась цепочка всевозможных родственников на места, где и усушка, и утруска, и открытые махинации можно делать. Риска никакого, вокруг все свои, но если и «загремит» кто-то, так ненадолго. На Кавказе издревле барашка в бумажке почитали. Не взятка это, а подарок.
Конечно, не без того, что нацкадры и в колхозах работали, на промыслах, на фермах, но там, где можно что-то иметь, исключительно только они, с некоторым процентом других нерусских. Плюс к этому привычка сорить деньгами (а чего их беречь, если легко достаются!), особенно на курортах или в министерствах, вот и пошла слава о богатом Кавказе. Сильно укрепляли эту славу и различные комиссии и проверяющие из стольного града. Гостей на Кавказе почитают, правда, не всех, а начальствующих. Не только угощение царское, но и подарки невиданные. Именно после такого гостеприимства и возлюбил известный наш «правозащитник» Сергей Ковалев своих будущих подшефных.
Ну а так как ни к лику высокого начальства, ни к «младшему» брату мы не относились, то соответственно и жили на зарплату и на то, что удавалось подработать. Кстати сказать, зарплаты у нас были ку-у-да меньше, чем это из России представлялось, и уж совсем не такие, какие москвичи получали. Да и покупать нам приходилось на «толчке» то, что они запросто в магазинах брали, за госцену. Поэтому в отпуск не к морю ехали, а в Москву, чтобы хоть одежду и обувь купить, не переплачивая. Потому и жили от получки до аванса. Кому-то в жизни повезло больше, кому-то меньше, но, так или иначе, шла она своим чередом, и каждый знал свой путь наперед.
Помню, какое всеобщее ликование вызвал приход к власти Горбачева. Буквально массовый психоз. Все себя именинниками почувствовали. Если бы этим ликующим людям дано было хоть на пару лет вперед заглянуть! Круто он наворотил, такую кашу заварил, что долго еще расхлёбывать придётся.
Кое-кто, в том числе и я, начинали понимать, что надвигается гроза. Сказать, что она разразилась внезапно, нельзя. У нас в городе выходила на листке программа телевидения, и на обратной стороне печатались объявления о междугородном квартирном обмене. Вначале они занимали только четверть страницы, потом их становилось всё больше. Я внимательно анализировал количество и содержание.
Цифра уезжающих практически не увеличивалась, но число желающих приехать стало расти. Причем въехать стремились чечены. Вскоре объявления стали занимать всю вторую сторону и переползли на первую. Я понимал, что все это значит. Говорил на эту тему с друзьями, знакомыми и с родителями. От меня отмахивались — несерьезно, мол. Ну понятно, что чечены и ингуши хотят жить в своей республике, ведь сейчас все мечтают о независимости. Не раз и я хотел обменяться и разговаривал на эту тему с женой. Она была за, но… Все упиралось в родителей. Наше воспитание не позволяло нам сбежать и оставить родителей на произвол судьбы. Они уезжать не собирались. Смеялись над моими прогнозами. Говорили, что чечены перебесятся, получат свой суверенитет и все пойдет по-прежнему.
Да и подумай сам, разве они могут обойтись без наших рук, ведь техника не для них, везде русские руки нужны. Ну а нефтезаводы разве они потянут?
Если мои родители были не совсем ещё старые, им не требовался уход, то с родителями моей жены было гораздо труднее. Они были практически полными инвалидами. Если ее отец мог с палкой до Аракеловского минут за сорок дойти, хотя идти всего метров триста, то мать только по квартире передвигалась. Приходилось приносить им продукты, ходить в аптеку и каждый вечер помогать им по дому. Поэтому мы не могли уехать.
Обычно я возвращался из гаража после двенадцати ночи. К тому времени было уже более или менее спокойно. Все уже успевали нагуляться и вернуться восвояси. В этот раз я освободился пораньше. Запрыгнул в трамвай, сел на одно из передних сидений за водителем и погрузился в свои мысли. В вагоне было только несколько пожилых людей. На следующей остановке вошла кучка молодых чеченов и, как всегда, остановившись у заднего стекла, начала гоготать. Я понимал, что если они обратят на меня внимание, мне несдобровать, но мне нужно было проехать еще две остановки. Однако надеялся я зря. Голоса стали приближаться и становились все более злыми и визжащими, они «накручивали» себя.
Мгновенный расчет: по голосам — четверо. Надеяться на «джентльменскую» драку глупо. Недаром еще двести лет назад им присвоили прозвище — шакалы. Плюс к этому ножи. Если начну сопротивляться, все равно зарежут, но тогда под угрозой и моя жена, ведь они не успокоятся, пока не отомстят семье своей жертвы, которая посмела сопротивляться. Оставалось одно — скрипеть зубами и терпеть.
— Ну что, жид, здесь тебе не Москва…
Удар сбоку в лицо! Очки вдребезги, кровь залила глаз. Удары еще и еще… Перестал что-либо соображать, в ушах звон, только одна мысль: не двигаться и не упасть. Остановка, голоса стали удаляться.
Попробовал провести ревизию: осколок стекла над глазом — выдернул. Кто-то подал разбитые очки. Сказал спасибо и бросил их на пол. Встал, осмотрелся, один глаз еще видит. Те же самые пожилые люди, все смотрят вниз, в пол. Я их понимаю и не осуждаю. Только одна старушка, чеченка, недалеко от меня начала охать:
— Вах-вах! Что они с тобой сделали, хулиганы?!
Вот тут я не выдержал, ручьем потекли слезы. От бессилия, от необходимости сдерживать себя и не пытаться дать сдачи, от стыда и ненависти к себе…
— А что же ты раньше молчала? Ведь это же ТВОИ внуки! Они же ОБЯЗАНЫ тебя слушать. А теперь ты меня жалеешь? Запомни!!! Когда вас будут уничтожать как бешеных собак, будут убивать твоих детей, внуков, вспомни, как ты молчала!
Трамвай остановился, я вышел. Как дошел домой, не помню.
1991…
Жизнь с каждым днем становится все веселее. Безвластие. Нет, конечно, людей в милицейской форме на улицах в изобилии, но республика уже вышла из подчинения каким-либо законам. Кого эта милиция оберегает — неизвестно. На улицах полно вооруженных чеченов в штатском и в пятнистом. Зарплаты и пенсии задерживают на несколько месяцев или не выдают вовсе. Задержки становятся продолжительнее. Захвачено и разграблено новое высотное здание КГБ. Позже мне рассказал подробности наш знакомый, майор КГБ. В выходной день в здании находилось только двое дежурных. Когда толпа начала ломиться в запертые двери, один дежурный, русский, пошел к дверям, чтобы переговорить с толпой. Его напарник, чечен, несколько раз выстрелил ему в спину. После чего открыл двери и впустил всех желающих. Начался грабеж. Бандиты захватили тысячу комплектов обмундирования и вооружения для спецназа. Но грабили не только это. Тащили все, вплоть до авторучек и бумаги. Что не могли взять, крушили. В здании находилась уникальная телефонная аппаратура. Таких комплектов было выпущено всего 5 или 6 на весь Союз, стоили они колоссальных денег. Аппаратура была расстреляна или разбита.
Позже русские ребята, техники, были приглашены, чтобы восстановить работоспособность аппаратуры хотя бы частично. Они рассказали, что там увидели. Все здание было превращено в один огромный туалет. Ободранные, грязные стены, кучи кала в коридорах, лужи мочи и блевотины. На аппаратуру нельзя было смотреть без содрогания. Порубленные кабели, вырванные из панелей провода, там, где находились какие-то индикаторы или лампочки, разбросанные и раздавленные блоки и платы. Конечно, ни о каком восстановлении говорить не приходилось. Но даже если бы что-то и можно было сделать, ребята не согласились бы: они уже понимали, что это будет работа на врага.
Москва предпочла не заметить захвата чеченской твердыни, чечены убедились в своей безнаказанности. Даже у нас в городе об этом знали немногие, ведь мало кого интересуют подобные ведомства и их судьба. Гораздо больший резонанс в городе вызвало похищение ректора университета Канкалика.
Цель похищения была довольно проста, несмотря на все последующие официальные версии и объяснения. Чечены дали понять, кто в республике хозяин и что будет с теми, кто этого не понял. Ведь происходил процесс выдавливания «неверных» со всех руководящих должностей. Среди наших знакомых были люди разных слоев, в том числе и руководители различных предприятий. От них мы уже слышали, что чечены предлагают им уйти со своих должностей. Но до поры всерьез к таким требованиям не относились. После этого демонстративного похищения настроения переменились. Похищение происходило нагло и открыто. Среди рабочего дня, во время обычных занятий вооруженные чечены прошли в кабинет ректора, вывели его, запихнули в машину и уехали. Свидетели, которые там оказались, всё «забыли» и отказались что-либо говорить. Через несколько месяцев официальных поисков где-то якобы нашли сожженный труп, но настоящей правды мы, видимо, не узнаем никогда. Только в одном можно не сомневаться: смерть Канкалика была ужасной, ведь попасть в руки зверей в людском обличье страшно.
Каждый день ходим на работу, обсуждаем новости, и все время состояние какого-то сна. Нереальности происходящего. Вроде всё, как всегда, но что-то угрожающее висит над головой. Стали постреливать. Магазинные полки начинают пустеть. Продуктами можно запастись только на базаре. Цены растут, но денег практически нет. Взять из сберкассы свои кровные, те, что откладывались годами на «черный» день — невозможно. Вечером город пустеет. Где-то вспыхивают перестрелки. Кто с кем воюет, неизвестно. Те, у кого есть огороды или дачные участки, отваживаются на вылазки к ним только в дневное время, но часто безрезультатно. Урожай уже кем-то собран, а от сторожей ничего толком не добьешься. Да и что может сделать дедуля с двустволкой против бандитов, вооруженных современным оружием? Забиться в свою хибару и молиться о том, чтобы его не тронули.
Ко мне на работу позвонил отец.
— Ты был прав, срочно ищи, кому продать нашу квартиру, мы с матерью хотим уехать.
— Дозрели?
— По телефону говорить не хочу, приезжай.
Хрущевка моих родителей стояла в центре, на улице Партизанской, напротив Художественного фонда республики. С четвертого этажа они собственными глазами наблюдали картину, которая со временем стала обычной в разных местах города. Возле здания фонда проходили несколько русских парней. Мимо них проехала «Волга», потом остановилась. Из нее выскочили несколько вооруженных чеченов и буквально в упор изрешетили ребят из автоматов. Потом не спеша сели в машину и так же не спеша уехали. Ни о каких мафиозных разборках речи быть не могло, у нас такого никогда не водилось. После увиденного до родителей наконец дошло, что такое «независимая Ичкерия». Они оба прошли войну, воевали, но эта картина потрясла их своей бессмысленной жестокостью.
Знакомых среди чеченцев у нас было много, но выбрать из них наиболее подходящего покупателя, чтобы за эти же деньги не пришлось платить собственной жизнью, оказалось непросто. Но все-таки через неделю вопрос был решен. Один из наших приятелей, преподаватель университета, интеллигентный парень нашего возраста, с удовольствием воспользовался возможностью. У него возвращались из России родственники, и символическая стоимость квартиры (цены уже сильно упали из-за оттока населения) их только обрадовала. За несколько дней перед продажей квартиры отец попросил меня перегнать его машину — «пятерку» к родственникам в Прохладное. Сам он водителем был аховым и такого пути просто не осилил бы. Это путешествие было очень рискованным, ведь часто у нас убивали водителей даже за более старые машины. Но выхода не было. Отец с ней расставаться не хотел, это была его любимая игрушка, которую он смог купить, честно отработав всю свою жизнь.
Собирался я недолго. Положил в багажник две канистры бензина, так как перебои с бензином были уже довольно часты, для маскировки — старую сеть, еще какой-то рыбацкий хлам и две бутылки водки в бардачок. Эта «валюта» всегда была в ходу. Утром, пораньше, пришел в гараж, перекрестился, хоть и был еще некрещенным, и стартовал. Самое страшное и рискованное — пересечь нашу границу.
До поста, отделяющего Чечено-Ингушетию от Осетии, я доехал часов в десять утра. Старался специально не слишком рано, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания, а так, чтобы кaкое-то движение уже началось. Подъезжал тоже не очень быстро. Как назло, ни одной машины на дороге не было, да и кому охота шляться, чтобы на пулю нарваться. Не повезло. От костра, горевшего невдалеке, окруженного кучкой людей, встала фигура и, пошатываясь, пошла ко мне. Чуть не волоком, за ремень, он тащил автомат, а возле отдыхающих стоял крупнокалиберный пулемет, направленный вдоль дороги по направлению к Осетии. Конечно, если нажать на газ, то через несколько секунд я смогу оторваться на сотню-другую метров, и он вряд ли попадет, реакция у него не та, но пулемет установлен уж очень удачно, и дальность стрельбы у него куда больше. Пришлось тормозить и сделать лицо как можно радостнее. Вышел из машины. «Джигит» с опухшим, небритым лицом даже не смотрел на меня.
— Что в багажнике?
Увидел канистры.
— Вино?
— Да нет, бензин, на рыбалку еду, где там заправляться?! А водку, конечно, прихватил, какая же рыбалка без водки?
Только тут «джигит» поднял на меня глаза, правда, не знаю, видел он меня или нет, настолько его взгляд был бессмысленным.
— Водка — это хорошо, а то у нас кончилась.
Я мгновенно нырнул в бардачок и протянул ему обе бутылки. Он схватил их и, уже отворачиваясь от меня, сказал:
— Будешь ехать обратно, вина прихвати…
Стараясь не спешить, я сел в машину, завел и медленно тронулся с места. Стал плавно набирать скорость, все больше и больше. Вперед я практически не смотрел, дорога пустая, только в заднее зеркало, не встает ли кто от костра к пулемету, и все время наращивал и наращивал скорость. Несколько километров, разделяющих посты Чечни и Осетии, я пролетел мгновенно, как мне показалось, хотя это были и самые долгие секунды в моей жизни. Когда я оторвал взгляд от зеркала, то увидел впереди осетинский пост, бетонные блоки поперек дороги, на обочинах «ежи» и поперечные нашлепки на асфальте. Сразу начал тормозить, но скорость была огромной. Еще метров двадцать-тридцать я чувствовал себя как на гигантском вибростенде, с трудом удерживая руль. Наконец машина в последний раз подпрыгнула и заглохла. Приехал… От поста ко мне уже бежала цепочка людей в милицейской форме, на ходу передергивая затворы автоматов. Я поспешил выйти и сразу поднял руки. Старший из них, осетин, посмотрел на мои номера, потом на лицо и сказал:
— Русский? Из Чечни?
Мне оставалось только кивнуть головой. Автоматы опустились.
— Помощь нужна?
— Нет. Хочу только осмотреть машину, ей здорово досталось.
Осетин заулыбался.
— Штраф за превышение я тебе выписывать не собираюсь, хотя несся ты как на гонках. Страшно было?
Я неопределенно пожал плечами.
— Ничего, теперь не волнуйся, езжай спокойно. Все в порядке, ты не первый оттуда.
Помахал автоматчикам рукой, сел в машину. Прополз между блоками и постом и, уже не спеша, поехал дальше. Когда проезжал мимо следующего поста, меня даже не остановили, хотя внимательно смотрели. Видимо, им сообщили с того поста. В Прохладном поставил машину к родственникам в гараж, оставил им ключи и документы на машину и вечером сел на проходящий поезд в Грозный.
Через несколько дней погрузили вещи родителей в контейнер. Очень трудно было достать билеты, но пришлось напрячься, много переплатить. За продающими квартиры охотились. Только наивные люди могли оставаться в городе после продажи. И часто к таким приходили ночные гости. Родители попросили, чтобы я проводил их к родственникам в Рязань. Доехали без проблем. Когда в Рязани мы вышли на перрон, нас охватило какое-то странное чувство. Мы отвечали на вопросы, но чувство нереальности происходящего нас не покидало. И только когда мы сели за накрытый стол, наконец-то поняли, в чем дело. Ведь нигде мы не видели бесчисленных вооруженных людей — ни в штатском, ни в пятнистых комбинезонах, мы просто отвыкли от нормальной, мирной жизни. Конечно, в Грозном нe было войны, но город был фронтовым. Мать спросила меня:
— Может, ты останешься, не будешь возвращаться?
— Мама, там же Ирина!
— Да, я понимаю…
И вдруг у матери случилась истерика:
— Да за что же это? Ну ладно, мы воевали, но ведь это были фашисты! А вам-то за что? Вам за что умирать?
Ее с трудом успокоили…
Через день рано утром я уехал обратно. Я попросил, чтобы никто меня не провожал. Встал затемно, оделся и вышел. Вещей у меня не было, только билет и деньги.
Больше матери — живой — я не видел. Теперь я не могу даже посетить ее могилу…
1992…
…Утро довольно морозное. Сбрасываю снег с машины. В теплое время заводить ее еще ничего, но зимой… Вот и разматываю провод удлинителя до столба с розеткой. Хорошо, что отец, уезжая, оставил мне свой гараж и кучку разных железяк в придачу. Нет, он не был технарем, но любил покупать разные инструменты, наверное, ему нравилось считать себя мастером на все руки. Теперь все эти железки меня здорово выручают. Например, вот этот ящик под названием «Стартерно-зарядное устройство». Не представляю, что бы я сейчас без него делал. Накинуть «крокодилы» на клеммы — пять секунд, зато теперь самое веселое. Минут двадцать кручения, подсосов, и после одного-двух чихов наконец-то завелась! Теперь вытянуть ручной газ и спокойно заниматься физзарядкой, расчищая выезд для машины.
Теперь можно и выезжать. Для начала в молочный магазин на проспекте. Скоро привезут бочку. Часик ожидания — и вот она, долгожданная. В очереди уже человек 150–200. Купив молоко, надо отвезти его теще. Молоко, правда, привозят не каждый день, но спасибо, что вообще привозят. Хотя называть эту жидкость молоком можно с большой натяжкой. Если его вылить из банки, то мыть ее практически не надо, стекло светлое. Следующий рейс — отвезти жену в школу. Школа моя родная, № 41, я ее оканчивал. Наш выпуск был первым. Теперь там же работает моя жена. Конечно, она могла бы доехать и на автобусе, но на машине все же и быстрее, и мне спокойнее. Ну а после этого на основную работу — извоз! Понимаю, что «запор» не «жигуль», даже не «москвичок», но тем не менее тоже позволяет зарабатывать. Да и не каждый владелец «жигуля» или «москвича» захочет везти абы кого, эта поездка может оказаться последней, ведь сейчас оружия нет разве только у русских, а вот на «запоре» я все же меньше рискую. Конечно, опасно, а что делать? Зарплат нет. Всё деньги, что поступают в республику, идут прямым ходом к Дудаеву. Вот на зарплату для его гвардии они есть всегда. Ну и на оружие, недаром оно продается не только на базаре, а уже прямо напротив банка. Ассортимент обширный, можно купить всё — от ножа до миномета. Патроны, мины, гранаты. Слюнки текут, но не по зубам. Это только чеченам доступно. Для нас же даже стоимость одного автоматного патрона, 60 рублей, уже «кусается». Да и не положено русским иметь оружие. Это привилегия только для своих. Мы же чужие, на нас объявлена охота — в прямом и в переносном смысле.
После всенародного и «добровольного» волеизъявления, когда воцарился ставленник Кремля генерал Дудаев, после позорного вывода безоружной российской армии с российской же территории от нас все поспешили откреститься. Ельцин со свитой продал нас или подарил своему протеже. В результате мы стали чужие всем. Чеченам — как «захватчики» или «оккупанты», которых они всегда мечтали «резить», Кремлю — как «подданные» другой территории. Правда, до сих пор так и не ясно, в чем же мы так успели провиниться?! Может, в том, что всю жизнь честно работали на страну под названием СССР? Или, может, в том, что наши родители и предки обильно орошали эту землю своей кровью во всех войнах и своим потом, когда строили заводы и города?
Теперь уже наша кровь поливает эту землю. Вечерами, когда мы съезжаемся с «работы», обмениваемся новостями и слухами. Начинается, как всегда, невесело, впрочем, так же и заканчивается.
— Такого-то знаете? Там-то работал…
— Да, знаем.
— К нему ночью вломились… Его, жену, детей — всех под нож… А такого-то? Помните?
— Его тоже… На днях…
Когда просто убивали, это уже как-то не пугало, но часто резали живых на кусочки, насиловали маленьких детей и сбрасывали с балконов… Это было страшно. Кто-то отмахивался: «Да брехня всё это, вы же лично не видели?!» Но со временем такие перевелись. Впрочем, и спрашивать, что нового, тоже перестали, и так все ясно. Да и привыкли все. Смерть уже не казалась чем-то пугающим. Она просто была рядом с нами каждый день, каждую ночь, каждую секунду.
Но и жизнь шла, кушать хотелось, хоть это и вредная привычка. Каждый крутился как мог. Некоторые шли в дудаевскую гвардию и гордо ходили увешанные оружием, но, к счастью, таких иуд было очень мало. Мне с моими ребятами, которые занимались установкой и ремонтом охранно-пожарной сигнализации, официально предложили восстановление порушенной сигнализации в одном из захваченных военных городков. Оплату обещали из кассы гвардии по их же расценкам, до 50 тысяч в месяц. Должен сказать, что эти суммы для нас выглядели фантастическими. Я, конечно, твердо знал, что никогда не буду работать на врага, но ребятам сказал, что у них есть выбор. Они мне ответили очень «ласково» — сребреники их не прельстили.
Не могу сказать, что всегда везло, но иногда удавалось заработать на бензин, на 100 граммов колбасы и несколько яиц. Тогда у нас дома был праздник. Половину колбасы и все шкурки с нее честно получал Тедди, наш черный кот. В обычные же дни он ел только хлеб, иногда для вкуса слегка помазанный кабачковой икрой. Может, кто помнит такую, в пол-литровых банках, которую никто и никогда не покупал? Так это, оказывается, деликатес! Жаль, что мы в мирное время этого не понимали. Чаще всего мы ели просто картошку. Были дни, когда мы варили в день по одной картофелине и аккуратно разрезали ее на три части — на завтрак, обед и ужин. Шкурку — для Тедди. Это его доля. Сильно выручал хлеб. Нет, не те белые буханки, которые раньше лежали на прилавках. Это серо-землистые кирпичи, внутренность которых к вечеру превращалась в какую-то кислую, с противным запахом и вкусом жижу. Но когда ничего, кроме него, нет, он очень даже съедобный. Ешь, сколько хочешь. Правда, купить его было трудненько. Возле центральной булочной очередь собиралась задолго до привоза. Когда привозили, то в первую очередь отпускали чеченам, потом уже тем, кто посильнее и понаглее, ну а потом остальным, кому хватит. Не знаю, как штурмовали Зимний, но, наверно, не более яростно, чем нашу булочную.
На бензин тоже не всегда удавалось заработать, если даже и удавалось, то «заправка» была проблемой. Не на каждой «заправке» был бензин, и если он был, то очередь вытягивалась чуть ли не на километры. Конечно, и там «джигиты» норовили вперед проскочить, частенько и оружием размахивали. Но водители понимали: не заправишься — хана, завтра не сможешь выехать, нечего будет есть. Как-то раз один обозленный «джигит» отъехал на своем БМВ и, высунув в окошко автомат, дал очередь веером. Никого, к счастью, не зацепил и поспешил сбежать.
После уроков, когда жена заканчивала работу, ехал за ней. Категорически запретил ей выходить из школы, приказал ждать меня, на сколько бы ни задержался. Уже неоднократно запихивали русских девушек и женщин в машины, и они пропадали бесследно. Кстати, один такой случай произошел на ее глазах, с ее ученицей, спасибо, какой-то старик чеченец вступился и отстоял девочку. На другой день эта ученица в школу не пришла, и вместе с семьей они быстро уехали. Вообще количество учеников сильно поредело. Директор школы, Гельман, нанял двух боевиков для охраны школы, а заодно и своей машины, стоявшей возле нее. В основном оставались чеченские дети, которых доставляли и забирали из школы на машинах. К концу уроков территория школы напоминала приличный автопарк. Тут, кстати, проходимость «запора» очень даже пригодилась. Я занимал самую лучшую позицию — поближе к дверям. Владельцы «мерсов», «ауди» и БМВ даже не обижались на такую наглость, они знали, что на этой машине приезжают за учительницей. Терпели.
То, что моя жена была уникальным специалистом, преподавателем английского с огромным авторитетом, нас очень выручало в это голодное время. Ведь дети чеченской и ингушской элиты собирались учиться в вузах Англии.
Мясо на рынке отпускалось аналогично хлебу. А если покупатель чем-то не нравился продавцу, то вообще ничего не давал. Выручали нутрии. Может, знаете такое животное из породы водяных крыс? Прекрасная штука, я вам доложу. И очень даже вкусная!
В мае к нам пришло горе. Умер отец моей жены. В последнее время он был молчалив. Много переживал, но держался молодцом, настоящий казак. Переживать было из-за чего. Деньги, которые он собирал всю жизнь на обеспеченную старость, пропали в одно мгновение, сберкассы не отдавали ни рубля. Как серьезный и умный мужик, он прекрасно видел, что делается вокруг и что мы с женой все время рискуем, оставшись из-за них, но уговорить нашу тёщу уехать было выше его сил.
Похоронные хлопоты, наверное, самые трудные из всех, а тем более в такое время. Благодаря машине я сумел сделать в одиночку все, чем в нормальное время занимаются двое-трое. Досок не было, материи тоже. Магарычем удалось заинтересовать мужиков из похоронной конторы, и они нашли где-то сырую древесину. На материю пустили простыни. Могила, справки, не помню, что еще, но удалось успеть. Все удалось обставить по-людски, отдать последний долг хорошему человеку.
Нам пришлось переехать к теще, а свою однокомнатную квартиру продали маклеру за 40 тысяч вместе с мебелью. Это были настолько смешные деньги, что их с трудом хватило рассчитаться за похороны.
Жизнь, если так ее можно назвать, шла своим чередом. Ложась спать, не были уверены что проснемся завтра. На хорошие квартиры шла охота, ведь с гор спускались новые и новые «джигиты», каждый хотел жить в большом городе и в большой квартире. А квартира тещи была в доме старой постройки и считалась хорошей.
Перед сном я проверял обрез, сделанный моим товарищем из двустволки 28-го калибра, клал его под руку. Если на улице было тихо, то заснуть не удавалось, тишина пугала. Когда то тут, то там поднималась стрельба, то засыпали. Перед тем как заснуть, мы с женой спорили, из чего стреляли. Она настолько хорошо научилась отличать оружие по звуку, что частенько меня обставляла. Наверное, помогал фонетический слух.
Как-то днем среди табличек разных учреждений на стенках возле подъездов в нашем большом дворе заметил вывеску «Республиканское казачье общество». Мне стало интересно. Дело в том, что я уже давно стал осознавать, что не хочу быть бараном для заклания. Конечно, знал, что все под Богом ходим, но решил отдать свою жизнь, если уж придется, как можно дороже. Стал слегка вооружаться. По крайней мере, нож и обрез в самодельной кобуре имел всегда под курткой. Два патрона в стволах — это два чечена, в одиночку уходить скучно, с компанией завсегда веселее. Знакомые чечены как-то больше зауважали. «Джигит» — по натуре молодец против овец! На безоружных да с автоматом — он герой! А тут замечать начали, «мужчиной» называть стали. И что странно, я вообще никогда оружие не демонстрировал, глупо это и опасно, правда, ножны иногда из-под куртки высовывались, но, видимо, они нюхом чуяли. Стал своих надежных товарищей прощупывать, хоть и мало их уже осталось. Вывод печальный. Разучились русские сражаться. Недаром нас советская власть долгие годы воспитывала. Правда, один товарищ, тот, который мне с обрезом помог, тоже не промах оказался. Был «всегда готов».
В общем, вспомнил я, что от казаков происхожу, гордого и независимого народа, стыдно мне стало. Предки с голыми руками на штыки лезли, в окруженных казачьих селах никогда пленных не было, потому что сражались до последнего и старые и малые. А мы? Совсем измельчали. Враг по городу ходит, направо-налево людей режет, а мы всё в цивилизованных играем. Может, это трусостью называется?
Поднялся я на какой-то этаж. Большое пустынное помещение, ряды стульев. В углу стол, за которым мужчина бумаги не спеша перебирает. Поздоровался я, представился. Мужчина обрадовался, руку мне пожал, спросил, чем может помочь. Решил я не тянуть кота за хвост, а спросил прямо, не пора ли братьям казакам за оружие браться, или ждать будем, пока уже некому станет? Поскучнел мужчина и начал мне, как ребенку, объяснять, что не наше это дело, что для этого государство есть. А сейчас, мол, самое главное — к выборам атамана готовиться, вот это насущное, сегодняшнего дня дело! Понял я, что зря пришел. Не стал до конца дослушивать… Вышел на улицу, а там солнышко светит, погода — просто загляденье, живи да радуйся! Ну что ж, будем радоваться…
1993…
Можно считать, что устроился неплохо. Осенью прошлого года понял, что надо искать выход, оставаться в Грозном бессмысленно. Убьют все равно — рано или поздно. Подвернулся знакомый парень, порекомендовал попытаться устроиться в Подмосковье на одну из баз отдыха. Поехал на разведку, удалось. Директор понял свою выгоду и, несмотря на то, что я иногородний, взял электриком. Ну, правда, работал я и водителем, и кочегаром, и сторожем, и энергетиком, все за одну зарплату, но с директором договорился о привилегии. Каждый месяц, после получки, покупал билет туда и обратно, оставлял капельку на питание и на всю оставшуюся сумму закупал продукты в столовой. Выходило не ахти как много, но сумку набивал, для моих в Грозном это было огромным подспорьем. Я же питался минтаем в томате и хлебом, иногда подкармливали в столовой, да и в гости часто приглашали.
Мне страшно трудно было решиться уехать, оставив жену. Долго не мог этого сделать, но другого выхода не было. Конечно, знать, что ты в безопасности, а жена там… Этого и врагу не пожелаешь. Перед тем как уехать, обучил жену пользоваться обрезом. Когда я испытывал оружие на бой, пуля легко пробивала сороковку и наполовину заходила в следующую, заряд был усиленный. Поэтому я знал, что из квартиры можно легко пробить и дверь, и того, кто за нею. Также учитывал и психологию «джигитов»: если из квартиры стреляют, то полезть они вряд ли решатся. Кроме того, по моей просьбе один из знакомых чеченцев купил мне лимонку. Смешно, всю жизнь дарил женщинам только цветы, а собственной жене пришлось дарить оружие и учить ее убивать…
В общем, в том, что в квартире она будет защищена, я почти не сомневался, да и чечены-соседи знали, что там может быть сюрприз, разве что какие-то залетные могли попробовать. Но основная опасность была на улице. Ведь жена продолжала ходить на работу. Есть две профессии чокнутых, для которых служебный долг превыше здравого рассудка, — это врачи и учителя. Вот из-за этого я себе места не находил на работе и старался как можно чаще приезжать домой. Конечно, каждая поездка представляла собой рискованное предприятие. На участке от Москвы до Ростова всё было более или менее спокойно, от Ростова же начиналась неизвестность. Часты были и грабежи поездов, и просто убийства. Защиты никакой, милицию ничего не интересовало. Проводники предпочитали забиваться в свои купе и оттуда не высовываться, кроме как открыть и закрыть вагон на какой-то станции. Часто в окна летели камни и пули, поэтому рекомендовалось с наступлением темноты их зашторивать. В общем, приключений хватало, практически ни одной поездки без них не обходилось, но мне везло, даже стекло, рассыпавшееся на мелкие крошки от чьей-то пули, меня не сильно поцарапало.
Приезжая домой, опять садился за баранку, чтобы еще как-то подработать. С каждым разом это становилось все опаснее. Однажды, ожидая пассажира, заметил, что какой-то немолодой шакал в штатском нетвердой походкой направляется ко мне. Сразу понятно: ничего хорошего ожидать не приходится. Внимательно осмотрелся, вроде никто больше внимания на меня не обращает. Поставил обрез на взвод, положил между сиденьями, жду. Подходит.
— Эй, жид, отвези меня в шестой микрорайон.
Начинаю беседу, стараясь его не волновать.
— Понимаешь, друг, у меня нет бензина, рад бы, но не могу. Кстати, я не жид, а казак, если уж тебе интересно.
— Я тебе сказал, жид, ты сейчас меня отвезешь, или я кину тебе за сиденье гранату — и выскочить не успеешь.
Присмотрелся повнимательнее, может, и не врет, один карман у него оттопыривается, уж не знаю, граната там или яблоко, но на пистолет не похоже. Выскочить быстро из «запора» и вправду трудновато. Ставлю обрез стволом на дверку и направляю ему в живот.
— Ты вроде должен знать разницу между жидами и казаками. А теперь очень спокойно, медленно и молча, ты отходишь от машины, лицом ко мне, и не пытаешься дернуться или заорать, стреляю я хорошо.
Он сразу трезвеет и начинает бледнеть.
— Да, ты не жид, но я тебя еще поймаю…
Одной рукой завожу мотор, переключаю скорость и плавно трогаюсь. Еще метров двадцать-тридцать, высунув руку, держу его под прицелом… Смотрю в зеркала — он стоит неподвижно. Пронесло.
В марте поставил теще ультиматум: или продаем квартиру и уезжаем вместе, или я просто силком увожу жену.
Покупателя искать трудно, всё упирается в безопасность, но за месяц поисков вроде нашел из числа полузнакомых. Договорились, что деньги он отдаст в день нашего выезда в обмен на квартирные документы, так как квартиру мы приватизировали. Начали готовиться к отъезду. Основная трудность была с контейнером, а теща уперлась и без вещей уезжать не хотела. Используя знакомства и деньги, удалось раздобыть половинный, обошелся как золотой. Ну и с билетами на поезд пришлось потрудиться изрядно. В день отъезда, с утра, пришел наш покупатель и принес деньги. Половину того, о чем договаривались. Он стал плакаться, что сейчас у него все в бизнесе, наличных больше нет. Я понимал, что на этом можно поставить крест, так в итоге и вышло.
К вечеру приехала машина, и мы отбыли на вокзал. Наше купе оказалось занято, и мне пришлось изрядно посуетиться. В итоге погрузились, затащили тещу, закрылись изнутри и отбыли. На этом наша грозненская жизнь благополучно закончилась. Мы знали, что навсегда оставляем эту землю, на которой прошла большая часть нашей жизни, в которой остались могилы наших родных и друзей.
Когда приехали в Москву, в «Новостях» сообщили, что по Грозному пошли танки… За вырученные деньги мы не смогли купить даже маленькой однокомнатной квартиры. Спасибо, к тому времени мне выделили служебную, на территории нашей базы отдыха. И жизнь покатилась вперед.
Послесловие…
Что было дальше?
Судьба беженцев в родной стране, одна из миллионов. Скитание по Подмосковью, вынужденная эмиграция и прощальный «привет» ельцинского аппарата в виде лишения российского гражданства.
~
Московскому университету — 250
ВЫСОКОЕ СЛУЖЕНИЕ РОССИИ Беседа Станислава КУНЯЕВА, Геннадия ГУСЕВА и Александра КАЗИНЦЕВА с ректором МГУ, академиком Виктором САДОВНИЧИМ
Станислав КУНЯЕВ: Виктор Антонович! Четыре года назад у Вас брал интервью мой заместитель — Александр Казинцев. Материал имел большой резонанс. Сейчас мы пришли на встречу с Вами втроем — всей главной редакцией. Дело в том, что все мы — выпускники МГУ. Александр Иванович окончил журфак, Геннадий Михайлович Гусев — философский факультет, я — филологический. Согласитесь, это тоже свидетельство — одно из бесчисленного множества свидетельств — широчайшего влияния Московского университета. Думаю, не в последнюю очередь знания и духовная закалка, полученные нами в альма матер, позволили нам превратить «Наш современник» в наиболее читаемый (о чем свидетельствует подписка) литературный журнал России. Воспользовавшись случаем, отмечу — мы гордимся тем, что Вы относитесь к числу наших читателей.
Виктор САДОВНИЧИЙ: Ваш журнал сохранил дух высокого служения России. Безусловно, мы очень нуждаемся в патриотическом воспитании — некоем духовном стержне для нашего народа. Мы стали ощущать, что бездуховная жизнь, жизнь без идеалов не может продолжаться долго.
Я считаю, журнал выполняет свою роль в пробуждении общества. На его страницах публикуются замечательные авторы. И я особенно благодарен за то, что в нем появится материал, посвященный Московскому университету, потому что и наш Университет исповедует те же принципы в своей просветительской, образовательной работе.
Ст. К.: Спасибо, Виктор Антонович!
Александр КАЗИНЦЕВ: Виктор Антонович, история Московского университета — это драматичное чередование периодов расцвета и борьбы за существование. Причем из Ваших выступлений и содержательной книги «Россия. Московский университет. Высшая школа» я знаю, что Вы с особым чувством относитесь к тем ректорам, которые возглавляли университет в трудные годы, таким, как князь С. Н. Трубецкой. Да Вы и сами стали во главе МГУ в непростое время — в 1992 году. Тогда на волне реформ звучали предложения изменить стиль работы, чуть ли не приватизировать и даже расформировать МГУ. Возглавляя университет, Вы много сделали для укрепления его положения. Хотя бы вкратце расскажите об этой работе.
В. С.: Прежде чем вести разговор о дне сегодняшнем, необходимо сказать хотя бы несколько благодарных слов о тех, без кого немыслимо само существование Московского университета. Надо отдать должное отцам-основателям — Ломоносову и Шувалову. Если имя гениального холмогорца известно всем, то фигура Ивана Ивановича Шувалова долгое время оставалась в забвении. Царский сановник, фаворит Елизаветы Петровны, он не только понял важность идеи Ломоносова о создании университета, но и сумел убедить императрицу в приоритетности развития образования среди прочих государственных задач. Сегодня имя Шувалова заняло достойное место в летописи Московского университета. Символично, что памятник ему у нового здания библиотеки МГУ установлен напротив памятника Ломоносову у химического факультета.
А знакомо ли вам имя Николая Поповского?
А. К.: Стихотворец XVIII века?
В. С.: Да — и профессор красноречия Московского университета. Ученик Ломоносова, Поповский придавал исключительное значение превращению русского языка в язык науки. Ученые люди тогда писали на латыни. Николай Никитич в своей первой университетской лекции сказал: «Что же касается до изобилия русского языка, в том перед нами римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно».
Именно в Московском университете российская наука заговорила на родном языке, что, безусловно, стало мощным фактором ее развития.
Николай Поповский и Антон Барсов, автор «Обстоятельной российской грамматики», были первыми русскими профессорами Университета.
В XIX столетии одним из наиболее ярких руководителей Московского университета был Сергей Михайлович Соловьев — автор 29-томной «Истории России с древних времен».
На рубеже XIX–XХ веков высится жертвенная фигура выдающегося мыслителя князя С. Н. Трубецкого — первого ректора, не назначенного, а избранного на этот пост. Он умер, отстаивая независимость и достоинство Московского университета. Своеобразным завещанием стали его слова, обращенные к императору Николаю II: «В школе все будущее России, и никакие жертвы, необходимые для ее устроения и подъема, не должны останавливать правительство, которое хочет блага стране».
Разумеется, в этой беседе невозможно упомянуть имена всех выдающихся ученых, внесших вклад в становление Университета. За два с половиной столетия многие поколения наших предшественников создали колоссальный научный, интеллектуальный, духовный потенциал. Мы не имеем права распоряжаться им неосмотрительно. Наш долг приумножить это наследие. Именно с таким чувством я начинал работу на посту ректора МГУ.
Судите сами, что удалось сделать за последние годы. Мы создали одиннадцать новых факультетов: биоинженерии, биоинформатики, факультет наук о материалах. Вернули медицину, организовав факультет фундаментальной медицины. Недавно мы образовали принципиально новую структуру — институт проблем информационной безопасности МГУ.
Не могу не похвастаться, что сейчас мы полномасштабно осваиваем 130 гектаров дополнительных территорий, где главным зданием будет новая библиотека. Рядом — учебные корпуса, медицинский центр с высокими технологиями, спортивный комплекс, научные парки.
Сегодня МГУ — это целый город: 40 тысяч студентов, 10 тысяч кандидатов и докторов наук. В мире нет другого вуза, где бы работал подобный научный потенциал. На 29 факультетах Московского университета преподают более 300 академиков. Ровно треть членов Российской академии наук за всю ее историю составляют выпускники и профессора МГУ.
И, наверное, самое главное — Московский университет не опустил планку образования. Хотя у нас немало проблем… В эти трудные годы на Университет сработали два обстоятельства. Первое — очень высокий интеллектуальный потенциал, благодаря чему мы раньше других сформулировали оптимальную стратегию. Второе — гражданская позиция, которую занял МГУ, сказав категорические «нет» попыткам разрушения образования — приватизации, расчленению, наступлению на автономию. Общество нас поддержало, а эта поддержка много значит.
А. К.: Для нас, писателей, особенно значимо открытие новой библиотеки МГУ. Признаюсь, в период учебы большую часть времени я проводил не на лекциях, а в читальном зале научной библиотеки имени Горького на Моховой. Там в открытом доступе были книги русских писателей первой трети XX века (в том числе эмигрантов), русских философов той же эпохи, полуторасоттомное собрание сочинений Святых Отцов. В Ленинке все это богатство держали в спецхране, а студенты МГУ могли читать свободно. Где будут храниться фонды старой университетской библиотеки? Какие принципы положены в основу нового собрания?
В. С.: От истории мы не уйдем. Знаменитая Горьковка сохранит свое значение. Однако в ней просто нет площадей для хранения 6 миллионов книг. Поэтому основную часть собрания мы переводим в новую фундаментальную библиотеку на Воробьевых горах. Ее здание занимает площадь 55 тысяч квадратных метров. Она сможет обслуживать до полутора тысяч читателей одновременно.
Мы назвали новую библиотеку Интеллектуальным центром. Здесь будут специализированные залы — наук физико-математических, наук о земле, о жизни, гуманитарных дисциплин. Кроме того, предусмотрены помещения для встреч с читателями — для вас, писателей, это, я думаю, особенно интересно. Новинка — трансформируемые залы — их площадь можно расширять или уменьшать. Для посетителей предельно упрощен выход в Интернет. Словом, новая университетская библиотека будет самой современной в России.
И в то же время она станет главным хранилищем нашей истории. Сюда переедет коллекция редких изданий. Этим раритетам нет цены, многие остались в одном-единственном экземпляре. В новом хранилище им наконец-то будет обеспечена должная сохранность. В библиотеке разместится и Музей истории Московского университета.
Ст. К.: Полвека назад, окончив десятилетку, я приехал из Калуги в Москву и сразу безо всяких репетиторов поступил в МГУ. В те времена у нас были прекрасные бесплатные общежития на Стромынке и на Ленинских горах, хорошая стипендия, гарантированная работа по распределению после окончания Университета, подъемные — чтобы доехать до места работы и начать обживаться… А какова сейчас забота государства о студентах по сравнению с советской эпохой, что мы потеряли и что приобрели? Знаю, что и сегодня Московский университет остается самым демократичным высшим учебным заведением страны. Каким образом в нашу рыночную эпоху это обеспечивается?
В. С.: Согласен с вопросом — сейчас встала проблема доступности образования. В результате событий 90-х годов произошла вынужденная самоизоляция регионов. Были годы, когда билет в Москву стоил столько, что средней семье он был не по карману. А ведь надо было поехать п о- п р о б о в а т ь поступить — а если не повезет… Поэтому старались поступать куда ближе. Кроме того, в ряде крупных городов сложилась опасная обстановка, родители боялись отправлять детей далеко…
Я считаю, что такое положение недопустимо. Страна только тогда страна, когда человек — по таланту — может поступить в любой ее вуз. Независимо от того, как далеко он живет. И насколько богата его семья. Поэтому я борюсь за олимпиады, чтобы на месте искать таланты. Мы проводим их во многих регионах России. Наша цель — выявить талантливых ребят и привезти их в Москву. Я борюсь за то, чтобы поумерить широкий шаг платного образования. Оно сейчас наступает — и это тоже одна из опасностей.
Есть трудности и с обеспечением современного студента. Раньше обычная стипендия была 28 рублей, 35 — повышенная. На это можно было жить. На 30 рублей мы покупали талоны. На талон можно было набрать еды в университетских столовых — утром на 30 копеек, днем — копеек на 35 и вечером. И еще оставалось 2–3 рубля на одеколон…
Хотя, конечно, и тогда жилось несладко. Мы подрабатывали разгрузкой на цементном заводе неподалеку от Главного здания, на мясокомбинате: раз в неделю зарабатывали пятерку, чтобы чувствовать себя посвободней. Студент никогда не жил безбедно. Но, конечно, стипендия не должна быть на о д и н обед или на два обеда…
Сегодня студенту непросто. Хотя существует и такой подход: он должен активно себя вести и думать о хлебе насущном. Но тут есть грань: думать-то он должен, но это не должно быть безнадежно.
Большинство студентов живет сейчас на помощь семьи. Какая-то часть скажет: а мы работаем! Да, многие работают. Но согласитесь, что работу в фирме, банке можно найти в крупных городах. В остальных такой «элитной» работы просто нет. Поэтому я выступаю за повышение стипендий.
Надо обязательно сохранить бесплатные общежития. К сожалению, далеко не все вузы могут поддерживать общежития в должном виде. Мы в МГУ много сделали в этом плане. У нac 15 тысяч мест в общежитиях — целый город. Но это очень дорогое удовольствие! А есть много вузов, где мест не хватает.
Безопасность общежитий — очень современный и очень серьезный вопрос. Он требует внимания. Я убежден: мы — и государство, и сами вузы — обязаны сделать все, чтобы студенты жили достойно.
Что касается прошлых лет, то тогда забот у студентов было действительно меньше. Да и у ректора меньше: ему не приходилось думать о ремонте…
Геннадий ГУСЕВ: И все-таки от рынка не уйти. Говорят, в Министерстве образования даже проводят «бизнес-педсовет» — работодатели дают заказы вузам. Как Вы относитесь к подобной практике, подчиняющей образование рынку?
В. С.: Тут как бы два вопроса. С одной стороны, мы вошли в рыночную экономику. Соответственно, студентов надо готовить к тому, чтобы они в этом обществе жили. А с другой стороны, здесь есть опасность: бизнес-структуры заказывают специалистов, которые им нужны с е г о д н я. А завтра? а послезавтра? через несколько лет? Понимаете, Университет — в этом его особенность и преимущество — видит дальше. Он готовит специалистов, которые будут востребованы и через пять, и через десять лет. Которые в состоянии самостоятельно пополнять знания, а в случае необходимости и переучиваться — мы обеспечиваем б а з у для этого.
Связь Университета и работодателя, безусловно, должна быть. Мы не можем готовить мыслителей «в никуда». Такие люди в Университете будут, но ставить себе задачу выпускать только таких Университет, естественно, не может. Связь с рынком важна. Но Университет должен иметь право на академическую автономию. Он должен сам определять учебные планы, курсы, их последовательность. Наша задача — дать человеку фундаментальное образование, позволяющее ему ориентироваться в любой ситуации.
Ст. К.: В 1999 году в Болонье европейские страны подписали Декларацию о сближении национальных систем образования. В 2003 году к ним присоединилась Россия. Как известно, элитные вузы Европы не в восторге от болонского процесса. Какова позиция МГУ?
В. С.: Об этом сейчас говорят почти на каждой конференции: «Болонский, Болонский». На мой взгляд, ошибка, если мы считаем, что должны впрыгнуть в поезд с неизвестной конечной остановкой и с неизвестными условиями в вагоне. Если брать главную идею Болонского процесса — интеграцию европейского пространства, — то это нормальная мысль. Наука едина, образовательное пространство, в известной мере, тоже. Интеграция необходима. Но интеграция не означает выстраивания в одну шеренгу. Университеты всегда будут разными. И национальные системы образования всегда будут иметь свою специфику. Интеграция должна предполагать, что каждый о б о г а щ а е т другого: мы научились тому, у нас научились этому.
На прошлой неделе я вернулся из Польши, где собирались 300 ректоров из Польши, России, Украины и Белоруссии и где обсуждался как раз Болонский процесс. То, что я говорю, — общая точка зрения всех ректоров. Мы за интегрцию, мы поддерживаем идею объединения — по целям. Но, безусловно, мы не должны и не будем отказываться от традиций, которым в Московском университете уже 250 лет.
Ст. К.: Виктор Антонович, писатели благодарны Вам за то, что на парламентских слушаниях 2002 года, посвященных проблемам образования, математики выступили в защиту углубленного изучения не только своего предмета, но и литературы. Чем грозит средней школе введение новых стандартов, в которых часы на изучение основных предметов существенно урезаны? Каким должно быть в новых условиях традиционное для русской системы образования соотношение фундаментальности и гуманитарности?
В. С.: Чем отличается Университет? Тем, что готовит у н и в е р с а л ь- н ы х специалистов. Людей, которые имеют такие глубокие знания, что понимают не только свою, но и смежные науки. Это первый признак Университета — глубокие фундаментальные знания, второй — он неотделим от первого — широкая культура. Выпускник Университета должен быть не узким специалистом, но человеком, знающим историю страны, ее культуру, мировую культуру. Он должен быть мыслителем! Университет — самое подходящее место для формирования такого человека. У нас стык обучения естественного и гуманитарного. Мы уделяем этому особое внимание — новые факультеты мы создаем на грани естественных и гуманитарных дисциплин.
Ну, а что касается языка и литературы — это особый разговор. Я считаю, что мы должны безо всяких оглядок защищать свой язык и литературу. Это наше государственное богатство. Защищая язык, мы защищаем себя. Теряя язык — его чистоту, его пластичность, — себя теряем. Без главенствующей — абсолютно! — роли русского языка немыслимо образование в России. Убежден — Университет призван на первый план выдвигать поддержку родного языка и литературы.
Я предложил, чтобы на всех факультетах русский язык изучался каким-то образом. И ряд факультетов на этот призыв откликнулся. Все абитуриенты МГУ должны сдавать экзамен по русскому языку и литературе. Это очень важный экзамен! Случалось, поступавшие получали все пятерки, но, срезавшись на русском и литературе, вынуждены были уезжать домой.
Пользуясь случаем, я хотел бы выразить тревогу в связи с резким падением уровня языковой подготовки в школе. Когда абитуриенты спрашивают меня, что нужно делать, чтобы поступить в МГУ, я неизменно советую им: читайте Толстого, Достоевского, Чехова. Не пересказы на 17 страницах — они продаются у метро «Университет», — а оригиналы. И тогда вы поступите.
Г. Г.: Отдельный вопрос — материальное положение профессоров, преподавателей, студентов. Почему чиновник — государственный служащий, а профессор университета, учитель — бюджетники?
В. С. Вопрос есть. Я считаю, профессор недостаточно поддерживается. Вот у меня таблица на столе — сколько получает профессор. Если у него даже 17-й разряд (один из высших!), оклад — 1890. Рублей! Надбавка за ученую степень — 500. Надбавка за должность — 1134. Надбавка за литературу (есть и такая, столь же, впрочем, мизерная) — 339 рублей. Итого — 3863 рубля. Другое дело, что в Московском университете нам удается доплачивать своим преподавателям.
Ст. К.: Драма нашего вузовского обучения, что государство обучает студентов, но зачастую самые талантливые из них сразу же уезжают за границу. Доколе мы будем донорами других государств? Какой выход из положения? Вспомним, что спортивный клуб, воспитав талантливого футболиста или хоккеиста, может продать его, получить средства для своего развития. А нельзя ли эту систему в каком-то виде внедрить и в образование? Принимать в МГУ с условием, что если студент уезжает в другую страну, то фирма или заведение, которые его принимают, оплачивают университету стоимость его обучения. Это было бы справедливо.
В. С.: Меры по предотвращению «утечки мозгов» принимать необходимо. Среди них и те, о которых мы уже говорили. Необходимо повысить уровень оплаты труда. Обеспечить молодых сотрудников жильем. Дать им возможность работать на современном оборудовании.
В Московском университете есть программы поддержки молодежи.
Программе «100 плюс 100» уже 10 лет. Каждый год 100 молодых кандидатов наук становятся доцентами без очереди на кафедре. 100 молодых докторов наук становятся профессорами. По этой программе за 10 лет прошло около тысячи молодых людей, которые быстро повысили свой статус. Это задержало отток молодых специалистов.
Есть и другая программа, по которой ста молодым преподавателям, научным сотрудникам или аспирантам мы ежегодно присуждаем стипендию по конкурсам. 5 тысяч рублей ежемесячно — не очень большая сумма. Но эту стипендию (плюс зарплата!) молодые люди получают в течение года или двух. Тем самым мы закрепляем их на кафедрах.
Однако только наших усилий недостаточно. Чтобы поддержать талантливую молодежь, конечно, требуется государственная программа. Кстати, правительство к юбилею выделило нам деньги на приобретение научного оборудования. Это позволит закупать самую современную научную аппаратуру, которая поставит нас по оснащению в один ряд с крупнейшими научными центрами мира.
А. К.: Виктор Антонович, позвольте задать непраздничный, но очень важный, на мой взгляд, вопрос. Мне запомнилась фраза видного политолога Глеба Павловского о том, что американские университеты «убили» СССР. Действительно, в интеллектуальных центрах, созданных при ведущих университетах Соединенных Штатов, разрабатывались программы, ускорившие падение Советского Союза. Почему советские университеты не смогли найти ответа на этот вызов? Более того, разве не в университетах (разумеется, не только в Московском) обучались те, кто, по Вашему точному определению, «без конца обливает грязью и унижает» «честь и достоинство народа», кто уже 15 лет вещает с телеэкранов, страниц газет и журналов, что «народ одурел», что «русский народ — тупая толпа».
В. С.: Я бы внес небольшую поправку в высказывание Глеба. После падения Советского Союза я беседовал со многими западными политологами (тогда их называли советологами). Так вот — они в один голос говорили, что не ожидали такого быстрого разрушения СССР. Естественно, они работали на развал, но такого краха не ожидали. Все-таки распад был в значительной степени обусловлен нашими внутренними процессами.
Что касается работы «против». Я не знаю выпускников университетов в других странах, которые бы «поливали» свой народ… Почему так? — надо думать. Лично я считаю недопустимым, когда пинают свою страну или народ. Народ — это носитель истины. И если выпускники Университета не понимают этого, то либо у них короткая память и они позабыли, чему их учили, либо их учили не тому и не так…
Г. Г.: Когда я учился в Университете, мне посчастливилось стать участником празднования 200-летия МГУ. Незабываемые впечатления! Виктор Антонович, приоткройте секрет, каким будет празднование 250-летнего юбилея.
В. С.: Программа большая и осуществляется она давно. Мы провели десятки конференций, съездов, симпозиумов, связанных с юбилеем.
Написан гимн МГУ. Теперь каждое торжественное собрание будет начинаться с его исполнения.
В преддверии юбилея пройдет Общее собрание Российской академии наук и МГУ, а также съезд выпускников Университета разных лет. В январе будут Ломоносовские чтения. В их рамках состоится встреча ректоров зарубежных и российских университетов. И наконец, в день своего рождения, 25 января, в Государственном Кремлевском дворце мы проведем торжественное заседание, в котором будут участвовать главы многих государств, 50 нобелевских лауреатов и около тысячи гостей из-за рубежа.
Ну а что касается красочного оформления юбилея, пусть это останется секретом. Праздник всегда предполагает сюрпризы.
Критика
Михаил Филин 1831 ГОД
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды <чистый> лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел…
Фрейлина А. Ф. Тютчева как-то заметила: «От царствования Александра I ведет начало эта странная и унизительная политика, приносящая в жертву интересы своей страны ради интересов Европы, отказывающаяся от всего нашего ради того, чтобы успокоить мнительность Европы по отношению к нам. Мы бы хотели совсем не иметь тела, чтобы не смущать Европу даже тенью, от него падающей». Конечно, эта мысль дочери поэта излишне резка, но нельзя отказать ей в известной точности. Действительно, русские люди пушкинского времени отличались необычайной толерантностью по отношению к Западу — и зачастую приносили ей в жертву едва ли не всё.
Разумеется, и Пушкин, в значительной степени воспитанный на образцах европейской культуры, прекрасно знакомый с яркими страницами европейского прошлого, учившийся у европейцев и восхищавшийся многими деятелями Старого Света, искренне преклонялся перед Европой (даже возводил её в ранг второй, после Руси, матери). Однако в отличие от бескрайнего чувства «русских европейцев» его пиетет имел меру, строго означенные пределы.
Мера пушкинской толерантности по отношению к Европе и её порождению — европеизму разнилась на протяжении жизни поэта, но всегда определялась и жестко ограничивалась его русскостью.
«Он при самом начале своём уже был национален», — отметил Н. В. Гоголь и в том же очерке «Несколько слов о Пушкине» пояснил: «В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Самая его жизнь совершенно русская…» и т. д. Глубокие соображения по этому поводу есть у Достоевского, Ильина и других мыслителей. Должное внимание уделено и пушкинским занятиям отечественной историей и генеалогией, фольклором и, конечно же, наиважнейшей проблеме «Пушкин как православный христианин». Тема изучена вплоть до трогательного отношения поэта к няне — однако в этой теме и поныне есть не до конца проясненные лакуны.
Одна из них — «письменный стол» Пушкина.
Русская тема — во многих её проявлениях — всегда присутствовала в творчестве Пушкина. Присутствовала и во времена радикальной юности, когда поэт, следуя моде, отдал дань настроениям антигосударственным и в определенном смысле антирусским. (В. В. Розанов заметил: «Надо особенно указать, что сказки, его предисловие к „Руслану“ и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что неверно изображать дело так, что вот „с годами он одумался и стал русачком“».) В более зрелый период жизни количество «русских» текстов заметно возросло, а в тридцатые годы их стало ещё больше. Казалось бы, благотворная тенденция налицо, но не тут-то было.
Ибо выясняется, что существовала латентная русскость в творчестве Пушкина — его вынужденный стратегический компромисс со временем.
Дело в том, что весьма значительный корпус «русских» текстов Пушкина так и не был предан гласности при его жизни. Такая участь постигла, к примеру, стихотворения: «Боже! Царя храни!..»*, «На тихих берегах Москвы…», «Вечерня отошла давно…», «Песни о Стеньке Разине», «Подруга дней моих суровых…», «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»), «Моя родословная», «Два чувства дивно близки нам…», «Чудный сон мне Бог послал…», «Отцы пустынники и жены непорочны…» и многие другие. Не были опубликованы и такие публицистические и критические опыты Пушкина, как «Некоторые исторические замечания», «О народности в литературе», «О народном воспитании», «Письмо к издателю „Московского вестника“», «О втором томе „Истории русского народа“ Полевого», «Путешествие из Москвы в Петербург», «О ничтожестве литературы русской», «Александр Радищев» и прочие. Указанные произведения были написаны в несхожие периоды жизни Пушкина, при разных императорах и неодинаковых конкретно-исторических условиях. Иными словами, контекст как будто претерпевал изменения, подчас даже кардинальные, — латентная же русскость поэта как была, так и оставалась неизменной составляющей его духовной биографии.
Причин тому видится несколько. На первое место надо, естественно, поставить волю самого автора («Ты сам свой высший суд»), обусловленную соображениями как собственно творческими, так и прочими — этическими, политическими и т. д. Помимо автоцензуры, немалую (а подчас и значительную) роль сыграли цензура обычная, представляющая (в её понимании) интересы государства, и сами цари, особенно Николай I, объявивший себя цензором поэта. Наконец, должно помнить и о пресловутом «общественном мнении», которого в строго научном смысле не было в тогдашней России, но которое существовало в форме полугласного мнения родовой и культурной элиты, создавало (или, напротив, разрушало) репутации и оказывало мощное влияние на литературное поведение авторов.
Силу воздействия на Пушкина этой триединой цензуры, регулировавшей, в числе прочего, и масштабы допустимой русскости, правомерно трактовать как объективный показатель уровня европеизации российской элиты. Цензура вкупе с автоцензурой, осознанно или неосознанно, напрямую и косвенно демонстрировали, сколь далеко элита продвинулась по европейской дороге, проникаясь духом «цивилизации», усвоила и сделала своими общечеловеческие ценности. Даже резкая корректировка государственного курса при Николае I смогла только притормозить данный процесс, но не пустить его вспять. К месту будет заметить, что в царствование этого императора, много и плодотворно потрудившегося на русской ниве, уже далеко не все вспышки национального чувства безоговорочно одобрялись верховной властью (вспомним, допустим, о жесткой реакции царя на отдельные акции славянофилов).
Таким образом, русскость хранила Пушкина от всецелого поглощения европеизмом — но и наступающий широковещательный европеизм, в свою очередь, дозировал публичные формы бытования пушкинской русскости, налагая вето на часть творческих ее плодов и не пуская их далее «письменного стола». Этот паритет поддерживался даже на уровне светского общения, в гостиных, где «сильное русофильство» поэта уравновешивалось острыми и не всегда беззлобными шутками его приятелей.
Теоретически подобное равновесие могло сохраняться очень долго — вплоть до самого конца. Многие большие поэты так, балансируя и постепенно уступая, и прожили жизнь — и прожили вполне достойно. Но поэты, возведенные из больших в национальные, шли на компромисс со временем только до того часа, в который их толерантность к чужому грозила (в их понимании) обернуться изменой родному. В тот критический час выбора им было уже не до равновесия — и они бескомпромиссно выбирали русскость.
Жизнь Пушкина сопровождалась «странными сближениями». Поражает, к примеру, синхронизм событий сентября 1826 года: взошедший на престол император принимает в первопрестольной решение вызволить поэта из ссылки, отдает приближённым соответствующие распоряжения — а в те же сроки, чуть ли не в те же часы, в далёком и ни о чём не подозревающем Михайловском ложатся на бумагу знаменующие начало новой жизни стихи «Пророка»*. Не менее многозначителен эпизод с «Гавриилиадой», которая тяжким бременем лежала на совести Пушкина и год за годом изматывала его ожиданием суровой кары. Наступает год 1828-й — и тут, словно из-под земли, возникает неведомый монах, читает у дворовых людей богохульную поэму и пишет за них, неграмотных, прошение в консисторию. На вопрос об имени он отвечает: «На что вам знать моё имя; я сделал христианское дело». С тем таинственный монах и исчезает, бесследно растворяется в истории. Монах исчезает — начинается унизительное для Пушкина расследование, совпавшее по времени с тяжелейшим душевным кризисом поэта. Однако спустя несколько месяцев приходит конец отвратительным допросным мукам и кризису, причём дело, сулившее поэту каторгу, завершается даже без публичного ущерба для пушкинской чести: царь прощает поэта тайно, не оглашая пушкинского признания в авторстве. Поэт так никогда и не узнал о страннике, который поспособствовал развязке истории с «Гавриилиадой».
1831 год был отмечен новым «сближением». В ту пору Пушкин превратился в полноценного русского дворянина — он стал мужем, обзавелся семьей и домом, с почётом вернулся на государственную службу. Буквально за несколько месяцев поэт обрел всё, чего ранее не дала или недодала ему жизнь — и что русскому служилому человеку от рождения положено, не щадя живота своего, оборонять. И почти тотчас же, ещё до приведения к присяге, Пушкину довелось выступить на защиту русскости.
В ноябре 1830 года грянул польский мятеж…
Едва получив первые сообщения, прилетевшие из взявшейся за оружие Варшавы, Пушкин оценил их чрезвычайную важность и в дальнейшем только укреплялся во мнении, что в Отечество пришел не просто бунт, даже не очередная война наподобие только что завершившейся турецкой, — но что для России наступил момент истины. «Какой год! Какие события! Известие о польском восстании меня совершенно потрясло», — восклицал поэт 9 декабря 1830 года в письме к Е. М. Хитрово. По свидетельству П. В. Нащокина, он даже «выразил желание ехать в Польшу, чтобы там принять участие в войне». Пушкин негодовал по поводу оголтелой антирусской кампании, развернутой в Европе, и восторгался статьей М. П. Погодина «Исторические размышления об отношениях Польши к России»: «Никто ныне, — сказал он историку, — не тревожит души моей, кроме вас». «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, — убеждал поэт П. А. Вяземского 1 июня 1831 года. — Мы не можем судить её по впечатлениям европейским, каков бы ни был в прочем наш образ мыслей». В другом письме он напомнил о польском участии в наполеоновском нашествии на Россию: «Совершенно излишне возбуждать русских против Польши. Наше мнение вполне определилось 18 лет тому назад». Встреченному же на петербургской улице знакомому поэт с жаром доказывал, что «теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году».
В определённом смысле ситуация 1831 года была даже катастрофичнее времён грандиозного бородинского жертвоприношения и полыхающей Москвы. Тогда Россия на какое-то время лишилась будущего (вернее, в будущем, казалось, могла реализоваться смердяковщина: «…Хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»). Теперь же ставилось под сомнение не только будущее, но и прошлое России. Ведь поражение от поляков обессмысливало саму русскую историю, превращало изгнание шляхты из Кремля в глупую импровизацию; русскую кровь, обильно пролитую в Праге и прочих городах и весях, — в высохшее и испарившееся ничто; многовековое сопротивление агрессивному латинству — в дремучее упрямство и т. д. Такое Отечество — без прошлого и без будущего — сразу делалось фикцией, дымом.
Должно, однако, признать, что и у поляков были свои претензии к русским, была своя собственная история и своя «правда», равновеликая русской. Но две непримиримых «правды» не могут сосуществовать вместе, на одной территории, бесконечно долго: рано или поздно им, обречённым на извечное несогласие, становится тесно и одна из соперниц навязывает другой свою волю. История человечества знает немало подобных трагических коллизий. «Наследственная распря» двух народов — русского и польского — как раз и имела все признаки того рокового противоречия, разрешением которого, по Пушкину, могла быть только гибель проигравшего.
Сходно с Пушкиным мыслил и император Николай I. «Если один из двух народов и двух престолов должен погибнуть, могу ли я колебаться хоть мгновение? Вы сами разве не поступили бы так? Моё положение тяжкое, моя ответственность ужасна, но моя совесть ни в чём не упрекает меня в отношении поляков, и я могу утверждать, что она ни в чём не будет упрекать меня, я исполню в отношении их все свои обязанности, до последней возможности; я не напрасно принес присягу, и я не отрешился от нее; пусть же вина за ужасные последствия этого события, если их нельзя будет избегнуть, всецело падет на тех, которые повинны в нем! Аминь», — писал царь 8 декабря 1830 года брату, великому князю Константину Павловичу. Пушкин отмечал «чистосердечие» тогдашних заявлений и действий императора.
Иначе думало и вело себя российское общество, пресловутая светская «чернь». Оно было «довольно гадко». В черновиках пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург» читаем: «Польша восстает противу России. Европа завистливо принимает её сторону, не имеющая понятия ни о России, ни о Польше. Ныне нет в Москве мнения народного, ныне бедствия или слава отечества не отзывается в эт<ом> сердце [России]. Грустно было слышать толки м<осковского> общества во время после<днего> польск<ого> возму<щения>. Гадко было видеть бездушного читателя фр<анцузских> газет, улыбающегося при вести о наших неудачах». Для «черни» подобное поведение давно уже вошло в привычку. В «Рославлеве», созданном в том же 1831 году, Пушкин саркастично писал о кануне наполеоновского нашествия на Россию: «Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и том<у> подоб<ным>. Молодые люди говорили обо всём русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации». Показательно, что в обоих пушкинских произведениях речь шла о Москве, которая исстари и по праву считалась средоточием русского патриотизма; в петербургских же салонах — у Анны Павловны Шерер и её приятельниц и наследниц — случались и более откровенные беседы.
Всё это, действительно, «довольно гадко» и заслуживает всяческого порицания. Желательно, однако, понимать, что в приведенных отрывках Пушкин ведёт речь преимущественно о болезни, передаваемой по наследству верхами российского общества, — о фронде, то есть о манерном светском словоблудии без намека на подлинную, теоретически выверенную оппозиционность. Принадлежать к элите и притом не фрондировать — нонсенс, дурной тон при любой форме правления в России.
На фоне таких бесед и шуток в Польше шли военные действия. Был там выказан и массовый героизм, были и умные манёвры полководцев, и непременная наша безалаберность вперемежку с чванливостью. Российские полки наступали — и сами лишали себя плодов и побед; и снова, хороня вдоль дорог бесчисленное воинство, продвигались вперёд, навстречу воплям европейских парламентариев, которые призывали проучить Россию и её царя — «душителя свободы». Так и велась эта тяжелейшая, судьбоносная для империи кампания — с мерзкими шутками в тылу и оскорбительными демаршами в виду русских аванпостов.
Потом пробил час — и Варшава пала…
Нет, велик русский Бог, и отечественная история всё-таки не была бессмыслицей: в конце концов Россия восторжествовала. Теперь пришло время ликований, наград, бокалов и торжественных од. Оды творились на заказ, и за оды издавна полагались перстни, деревни, камергерские ключи… Так было заведено на Руси — но в 1831 году прозвучали бескорыстные оды, написанные из самого сердца лучшими поэтами.
В те удивительные дни В. А. Жуковский, посылая свой поэтический отклик на историческое событие, писал А. И. Тургеневу: «Честь России опять сияет по-старому. Какое великолепное военное дело. Наша армия чудо! <…> Скоро пришлю свои стихи, эти же, напечатанные вместе с стихами Пушкина, чудесными. Нас разом прорвало, и есть от чего». Почти тотчас же, 10 сентября 1831 года, был выдан цензорский билет, и спустя день-два вышла в свет брошюра «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». Она была напечатана в Военной типографии и состояла из «Старой песни на новый лад» В. А. Жуковского и пушкинских произведений — «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Новинка («неожиданная поэзия», по определению Д. Ф. Фикельмон) мгновенно стала сенсацией и оставалась ею в течение долгого времени.
Сбылось — и в день Бородина Вновь наши вторглись знамена В проломы падшей вновь Варшавы; И Польша, как бегущий полк, Во прах бросает стяг кровавый — И бунт раздавленный умолк…Исторические процессы долги и сложны, многие их фазы проходят за кулисами, где они зреют долго, неслышно и как будто неспешно, однако неумолимо, а потом наступает момент, когда подспудно созревшее ощущает в себе некую «критическую массу» и силу, властно взывающую о высвобождении, — и тогда оно вырывается наружу, производя взрыв — событие. Так мы обретаем знаменательные и точные даты истории.
Такой датой, подготовленной всей логикой предыдущего развития России, ориентированного на «прогресс», стал и сентябрь 1831 года. Тогда авторитетные представители культурной элиты страны, кажется, впервые открыто заявили, что традиционной великосветской фронды им уже недостаточно; что они могут быть вполне толерантны не только к чужим народам, но и к своему собственному; что, наконец, отныне они, исходя из ряда мировоззренческих выкладок, считают для себя возможным находиться в оппозиции не только «к правительству, а и к Отечеству». (Стоит сразу подчеркнуть, что речь идет о кружке лиц, которых правомочно рассматривать как репрезентативных выразителей интересов определенной социальной группы.) Как известно, в эпоху мятежа польская элита во главе с Адамом Мицкевичем грудью встала на защиту родины; российские же «властители дум» по существу отреклись от русскости как высшей, непреложной ценности. Тем самым они фактически провозгласили начало нового периода отечественной истории — периода неуклонного прощания с русскостью. Даже декабристы, которые намеревались бороться и с режимом, и с самым государственным строем империи, не доходили до таких программных заявлений и субъективно были (по крайней мере, в большинстве своём) вполне русскими, патриотически настроенными людьми (что они доказали не только «завтраками» с водкой и квашеной капустой у Рылеева).
Отсюда, из сентября 1831 года, уже явственно просматривается прямая, постепенно переходящая в столбовую, дорога «прогрессистов», которая ведёт в наши скорбные дни — дни, когда всерьёз обсуждается вопрос об утрате нами национальной идентичности, а слова «русский» и «фашист» сплошь и рядом употребляются в качестве синонимов.
Итак, Пушкина и Жуковского «разом прорвало» стихами на взятие Варшавы — и в ответ тут же «прорвало» их оппонентов. Но прежде чем перейти к анализу полемических текстов, отметим еще одно важное обстоятельство. Отчетливо обозначившееся с середины 1820-х годов направление духовного развития Пушкина не являлось тайной для современников: они были хорошо знакомы с «Пророком» и иными пушкинскими произведениями, созданными и напечатанными после возвращения поэта из ссылки. Эти тенденции, видимо, не восторгали кого-то, но они и не раздражали публику сверх меры, вызывая разве что язвительные «вольтерианские» комментарии типа: «Он был задран стихами его преосвященства…»* и т. п. Зато антипольские идеологические стихи сразу же вызвали бурю отрицательных эмоций. На ком-то шапка горит: пушкинские критики непреднамеренно продемонстрировали мировоззренческий потолок тогдашнего российского либерализма, для которого «заоблачная келья» поэта попросту находилась вне сферы приоритетных интересов и, следовательно, не требовала серьёзного разбора.
Чем же столь жестоко провинились авторы брошюры «На взятие Варшавы» перед просвещёнными либералами, с которыми их связывало давнее приятельство? Смеем утверждать, что в нижеследующем обозрении прегрешений и контраргументов все цитаты из текстов соответствуют контекстам, а в используемых контаминациях фрагментов нет нарочитых смысловых искажений.
Сразу бросается в глаза, что претензий к Жуковскому почти не высказывалось — и объяснялось странное великодушие атакующих довольно обидным, если не оскорбительным, для автора «Светланы» образом. Чуть позже А. И. Тургенев поведал в письме к брату Николаю, что его, Жуковского, «не должно трогать с сей стороны», ибо тот «криво видит вещи, потому что во многом не просвещён», он «ошибается исторически и умом», но «душа его точно святая». Бедный Жуковский — знал бы он, сколь высоко ценят его таланты друзья!**
Внимание критиков целиком сосредоточилось на Пушкине. А главными идеологами и координаторами кампании выступили ближайшие к поэту люди — князь П. А. Вяземский и братья Тургеневы***. Они-то и предъявили важнейшие иски автору послания «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Прочие полемисты семенили по их стопам и преимущественно твердили зады, иногда, впрочем, вставляя собственное слово. Таким словом, были, к примеру, обвинения Пушкина в «честолюбии и златолюбии», выдвинутые Н. А. Мельгуновым в письме к С. П. Шевыреву от 21 декабря 1831 года; при этом автор добавил, что поэт «огадился ему как человек». Словно вторя ему, Г. А. Римский-Корсаков заявил, что после обнародования стихотворения «Клеветникам России» он отказывается «приобретать произведения Русского Парнаса».
Серьёзные же возражения Пушкину шли, как могло показаться, по трём основным направлениям.
Первое можно назвать поэтическим или эстетическим. Характерно, что даже благожелательно отнесшийся к пушкинским стихам С. П. Шевырев («А славные стишки Ал<ександр> Сер<геевич> навалял!») недоумевал в письме к С. А. Соболевскому от 16(28) октября 1831 года: «Первый голос политики у нас выражается стихами. Это странно. В России каких чудес не совершается». Но если московский профессор, пребывавший тогда в Риме, просто мимоходом пожал плечами, то Вяземский и его сторонники предложили развёрнутые соображения. Их можно суммировать примерно в таком виде.
Пушкин написал «шинельные стихи» (слово «шинельные» подчеркнуто Вяземским и пояснено так: «Стихотворцы, которые в Москве ходят в шинеле по домам с поздравительными одами»). То, что он сделал, не входит в компетенцию поэзии («Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете»). «Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать». В русских действиях в Польше «ничего нет поэтического», и автор изменил себе, стал «поэтом событий, а не соображений», как подобало бы истинному поэту. И вообще, «Поэзия — святое дело», она «человечество защищает и превозносит», «не в наши дни (запомним это: „не в наши дни“. — М. Ф.) идти искать благородных вдохновений в Поэзии штыков и пушек», однако Пушкин в своих стихах забывает об этом. Поэтому-то в них «нет ни на грош поэзии» и т. д.
Эти мысли — там, где они не переходят на личности — глубокие, правильные. Цель поэзии, действительно, поэзия, что не раз убежденно подчёркивалось и самим Пушкиным, и поэтами его круга. Но и правильные мысли в чуждом контексте могут становиться абстрактными и лукавыми. Ведь есть, как говорится, поэзия и поэзия. С древности — вспомним хотя бы о «Слове о полку Игореве» — существовала военная поэзия, особый и замечательный раздел нашей словесности, воспевавший и наши большие и малые победы, и внешне совсем не поэтический ратный труд. Значило ли вышеизложенное, что оппоненты Пушкина отрицали существование такой поэзии — от «Слова» и до Державина, Дениса Давыдова и тех же Жуковского с Пушкиным, которые и прежде не раз бывали «во стане русских воинов»? Конечно, нет, тем более что и сам Вяземский во время битв с Наполеоном многажды настраивал лиру на военный лад и перелагал в рифмы неугодные ему теперь «события». Это означало только то, что критики слукавили, причем даже дважды. Сперва законы поэзии они умышленно применили «не по назначению», а затем манипулировали этими законами крайне вольно. Так, заявление о том, что в рассматриваемых стихах «нет ни на грош поэзии», зиждется вовсе не на теории, а на вкусе. Другие, не менее авторитетные судьи придерживались прямо противоположного мнения. Например, Е. А. Боратынский сообщил И. В. Киреевскому в октябре 1831 года, что послание «Клеветникам России» ему «нравится», а стих «Стальной щетиною сверкая…» «силен и живописен». Другой поэт, В. И. Туманский, находил в пушкинских стихах «превосходный лиризм». Из всего сказанного напрашивается вывод, что неубедительной эстетической критике была отведена заведомо вспомогательная роль: она лишь прикрывала более важные мысли «русских европейцев».
Инкриминировались Пушкину и этические промахи. Мол, должно ему стыдиться, что русские «бились десять против одного», «что льву удалось наконец наложить лапу на мышь». Да и аморально поэту воспевать «геройство кровопролития», а потом «подражать дикарям, с песнями пляшущим вокруг костров, на которые положены их пленники». И уж совсем кощунственно — прямо-таки «святотатственно» — «сближать эпохи и события», «сочетать Бородино с Варшавою». Тут следовало эпическое: «Россия вопиет против этого беззакония». (Россия Россией, но на всякий случай Вяземский, формируя антипушкинскую коалицию, постарался заручиться поддержкой и отдельных нужных россиян — например, Е. М. Хитрово, дочери Кутузова, которая крайне болезненно следила за тем, чтобы никто не посягнул на лавры отца. Обратился князь и к внучке полководца, Д. Ф. Фикельмон, и встретил у Долли полное единодушие: «Все, что вы говорите, я думала с первого мгновения, как я прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом случае, что благодаря одному этому я вижу, что между нами непременно есть сочувствие», — отвечала она 13 октября 1831 года.) Столь же некстати было Пушкину тревожить прах Суворова, так как «война наша с Польшею <…> вовсе не Суворовская». «Нравственную» же «победу» в 1831 году одержали поляки — следовательно, Пушкин славит нравственное поражение русского оружия. После такого ему ничего не стоит воспевать и правительственные расправы в новгородских военных поселениях, и проч.
И здесь позиции критиков уязвимы, не говоря уж о том, что обвинения в «безнравственности» допустимо выслушивать единственно от благородных людей, гнушающихся подтасовок (а дикарские «песни и пляски вокруг костров» — подтасовка явная, достойная картеля; не случайно Вяземский, написав такое, спешно предупредил Е. М. Хитрово: «Все это должно быть сказано между нами…»). Едва ли этичны и декларации от имени «всей России». Прибегая к арифметике, несложно доказать, что соотношение сил «десять против одного» в пользу русских, воевавших на враждебной территории, — тоже ложь; вдобавок поляков в 1830–1831 годах поддерживал (в том числе и материально) весь Запад во главе с могучим Римом, мало похожим на «мышь». Да и с Суворовым выходит «двойной стандарт»: критики упрекают Пушкина за упоминание о генералиссимусе, настаивают, что русские под водительством И. Ф. Паскевича воевали бездарно, «без воли, без мысли и без отчета», «не по-суворовски», — однако умалчивают о том, что легендарный полководец при подавлении опять-таки польского бунта в 1794 году разил неприятеля беспощадно, так, что «кровь текла потоками», и при штурме Варшавы уложил под стенами города до 12 000 поляков.
Заметно, что исторические экскурсы и аллюзии Пушкина вызвали нескрываемое раздражение инакомыслящих. И дело тут, видимо, вовсе не в Бородинском сражении или Суворове, а в принципе. Для Пушкина было чрезвычайно важно — и это сразу смекнули умные критики — не просто выступить с отповедью встрепенувшимся «клеветникам России» или поэтически увековечить факт — штурм и падение Варшавы, но дать — сквозь призму указанных современных происшествий — исторический очерк русского бытия в его узловых моментах. Тому подтверждение — дорогие для национальной памяти топонимы, имена и прочие символы былого, присутствующие в стихах: «пращур русских городов» Киев, Кремль, Прага (варшавское предместье), «пылающая Москва», «тяготеющий над царствами кумир» (Наполеон), «измаильский штык», те же Бородино и Суворов, Богдан (Хмельницкий)… Причем вехи русской истории не просто перечислялись, как в скупом хронографе, но и осмысливались во всём их неразрывном единстве и взаимообусловленности, фактически являя собой на выходе цельную историософию. Недаром П. Я. Чаадаев утверждал, что в пушкинских стихах «больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране». По Пушкину, в рамках такой историософии только и мог быть верно понят «старый спор славян между собою», получивший разрешение в настоящем.
Уже давно между собою Враждуют эти племена; Не раз клонилась под грозою То их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре: Кичливый лях, иль верный росс? Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос…Однако если для Пушкина «связь времён» не только существовала, но и являлась необходимым условием отечественного бытия, он гордился русским прошлым и категорически не желал «иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал», то его оппоненты стояли на диаметрально противоположных позициях. Русская история, вдобавок интегрированная Пушкиным в современность, им была не нужна; попросту говоря, идея преемственности им мешала. Для того чтобы утвердить новые воззрения, характерные для развившейся российской элиты, им надо было вычленить польские события из многовековой русской истории, разорвать опостылевшие путы минувшего; надо было перевернуть пожелтевшую страницу и начать с чистой, а значит — заклеймить пушкинский историзм как никчемный атавизм (помните: «не в наши дни…» и т. д.?) Что и попытались сделать критики с помощью неискренних придирок и неуклюжих фраз вроде «Россия вопиет против этого беззакония» и т. п.
Многих записывали в «птенцы гнезда Петрова» бездумно, ради красного словца. Но «русские европейцы», обрушившиеся на Пушкина, вне сомнения, родом оттуда. Теперь пришло их время — и они встали на крыло и воспарили, подхваченные сильным западным ветром. За эстетическими и этическими ширмами, расставленными критиками, скрывалось главное — их идеологические декларации. «Бородинская годовщина» и послание «Клеветникам России» стали своеобразными детонаторами, спровоцировавшими их появление на свет. Хотя ясно, что и без пушкинских стихов они бы уже недолго скрывались под спудом.
Суть идеологических возражений Пушкину сводилась к следующему.
Надо понимать (а кое-кто, «сбившийся с пахвей в своем патриотическом восторге», никак не уразумеет), что наступили новые времена, и «род восторга», которому предался Пушкин, есть отныне откровенный «анахронизм». Напрасно он думает, «что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом», — теперь очень даже можно. Пушкин вроде бы «всё постиг», но никак не дойдёт до него, что «просвещение европейское — великое, важнейшее дело». А его стихи — «совсем не европейского свойства», к тому же в них — полное «безмыслие». Ведь в сегодняшней Европе всецело властвуют передовые идеи, Европа на глазах возрождается — а где и что мы? (Заметим в скобках, что резоннее было бы сказать «вы»). «Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней». Продолжение ещё откровеннее: «Народные витии, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим». (Понимал ли Вяземский, что он, говоря от имени европейских парламентариев и говоря так, фактически берёт их сторону? — думается, что князь прекрасно понимал всё.)
Вот ещё несколько цитат о России, русских и Пушкине из той знаменательной коллективной декларации. «Физическая Россия — Федора, а нравственная — дура». «Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст» (такова, по-видимому, на Руси дистанция между «европейцами»). Этой «дуре» (или, на выбор, «Федоре») «с Европою воевать была бы смерть», так как даже локальные польские дела обнажили все «немощи больного, измученного колосса». К тому же русский полководец (не кто-то конкретный, а русский вообще) не считается с любыми жертвами и думает единственно о том, «чтобы навязать на жену свою Екатерининскую ленту». Россия не вносит ни «гроша в казну общего просвещения». А пушкинские мнения — это всего лишь «нелепости», «фанфаронады», «квасной патриотизм»*, и в нём, в Пушкине, «есть ещё варварство», и он «не хочет выходить из своего варварства», что «стихи его „Клеветникам России“ доказывают». Он «варвар по отношению к Польше», да и не только он, и не только в этом отношении. «Пушкин и все русские, конечно, „варвары“, вообще „варвары“. Наша же цель — „быть европейцами“».
Вспоминается пушкинское: «Боже, как грустна наша Россия!», сказанное после авторского чтения первых глав «Мертвых душ». Сколько было в этих словах боли и любви, и вообще непоказной «душевной правды», так поразившей Гоголя, — и какая пропасть лежит между этим восклицанием поэта и отчуждёнными, презрительными речами его критиков. Ведь для последних «быть европейцами» значило, как явствует из источников, отказаться от любви к своей земле ради ценности высшей — «просвещения европейского»; мерить всё по европейской мерке и только её держать за эталон; значило предавать забвению собственную историю; а еще лгать, наушничать и применять «двойные стандарты», идеализируя предметы поклонения; оскорблять свою страну, её народ, её воинов и неугодных по духу поэтов; исторические победы своей страны посредством сомнительных софизмов представлять ее поражениями и т. д. Резюмируя и называя вещи своими именами, «быть европейцами» — значило быть варварами по отношению к России.
На такое Пушкин не мог не ответить — и поэт ответил, да еще как. А. И. Тургенев писал брату 20 сентября 1832 года, что были в те дни «споры», «Пушк<ин> начал обвинять Вяземского, оправдывая себя». Более того, он высказывался на сей счет и вне пределов кружка «литературной аристократии», в более широких аудиториях. Например, Н. А. Муханов зафиксировал в дневнике 5 июля 1832 года: «Пришел Александр Пушкин. <…> О Вяземском. Он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит России, потому что она ему не по вкусу». Но наиболее сильным, разящим ответом Пушкина своим критикам был ответ поэтический.
Эти стихи не были напечатаны при его жизни, и можно только предполагать, отделал ли их поэт окончательно и огласил ли в каком-нибудь собрании. Черновой вариант латентного стихотворения был опубликован (под заглавием «Полонофил») лишь в 1903 году, и то в маловразумительном виде. В течение десятилетий текст, по существу, замалчивался и печатался разве что на задворках «академических» изданий. А затем на него обратил внимание выдающийся текстолог С. М. Бонди и реконструировал стихотворение, причём считал проделанную работу, как вспоминают его ученики, «почти бесспорной». Вместе с тем — что показательно — С. М. Бонди наотрез отказался публиковать реконструкцию, и она увидела свет только после кончины пушкиниста, в 1987 году.
Вот этот полный уверенности в собственной правоте пушкинский ответ, бичующий внутренних клеветников России (в ломаных скобках помещены слова, реконструированные С. М. Бонди):
Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды <чистый> лик увидел, И нежно чуждые народы возлюбил, И мудро свой возненавидел. Когда безмолвная Варшава поднялась, <И ярым> бунтом <опьянела>, И смертная борьба <меж нами> началась При клике «Польска не згинела!» — Ты руки потирал от наших неудач, С лукавым смехом слушал вести, Когда <разбитые полки> бежали вскачь И гибло знамя нашей чести. <Когда ж> Варшавы бунт <раздавленный лежал> <Во прахе, пламени и>в дыме, Поникнул ты главой и горько возрыдал, Как жид о Иерусалиме*.Стихи более чем убедительно доказывают, что массированная критика «русских европейцев» не то что не сломила Пушкина, но даже не заставила его хоть в чем-то усомниться (что, похоже, произошло в ту пору с Жуковским). Она только укрепила поэта в стремлении отстаивать исконные русские ценности и интересы, самую русскость. Вместе с тем предельная жесткость ответа показывала, что примирение русскости с просвещением в ущерб русскости (на чём настаивали критики) было для Пушкина невозможно.
Дороги поэта и «русских европейцев» отныне расходились.
Было бы заблуждением думать, что Пушкина в ходе полемики по польскому (а точнее, русскому) вопросу не поддержал никто. Напротив, большая часть России приняла в 1831 году его сторону (ср.: «Россия вопиет против этого беззакония»). Сам царь и члены августейшей семьи, правительственные чиновники, литераторы средней руки, офицеры, обыватели и представители иных сословий и профессиональных групп восторгались пушкинскими стихами. Это, безусловно, важно, однако много важнее то, что интеллектуальная элита, «коноводы» общественного мнения и культуры, люди, от которых в значительной мере зависело будущее страны, демонстративно подвергли Пушкина остракизму.
В этом сообществе Пушкин оказался в почти полной изоляции.
Ярким исключением стал, пожалуй, только Чаадаев, написавший поэту в непростую для того минуту поистине вещие слова: «Мой друг, никогда ещё вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, своё призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. <…> Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране. <…> Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдём вперёд; когда угадал… малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь её… наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант…».
«Но пусть их говорят, а мы пойдём вперед…» Так они и встали рядом, русский поэт и русский мыслитель, и пошли против толпы — за свою Россию — до конца, каждый к своей Черной речке. Один вскоре принял пулю, другому выпало едва ли меньшее: унижения от тупой силы, которую не призовёшь к барьеру, суд хамелеонов*, глупцов и невежд, мнящих себя «патриотами», и наконец, самое страшное — посмертное оболгание: зачисление в идеологи крайних западников и русофобов…
Пустились в путь и их идейные противники, кооптируя на всяком шагу в свои ряды разношерстную публику и постепенно становясь «интеллигенцией»**. «Новые люди» придерживались столь радикальных взглядов, что на их фоне зажившийся князь Вяземский, некогда обвинявший Пушкина в отсталости, стал в некоторых вопросах казаться консерватором («либеральным консерватором», по его собственному определению). За ними, а не за Пушкиным, бодро отмахиваясь от прошлого, устремилась к «просвещению» и почти вся остальная Россия. На несколько десятилетий она даже забыла о Пушкине, избрав себе иных кумиров. (Позднее, правда, одумалась и приспособила более или менее подходящую часть пушкинского наследия для своих «прогрессивных» нужд. Этот «мнимый Пушкин» бессовестно эксплуатируется до сих пор.) Но отдельные писатели и поэты (опять же — люди высочайшей европейской образованности!) хранили пушкинские традиции и в решительный час беззаветно обороняли уходящую русскость. Так поступил, в частности, Ф. И. Тютчев, который в 1863 году воздал должное новому усмирителю Польши графу М. Н. Муравьеву — тому,
…Кто отстоял и спас России целость, Всем жертвуя народу своему — Кто всю ответственность, весь труд и бремя Взял на себя в отчаянной борьбе — И бедное, замученное племя, Воздвигнув к жизни, вынес на себе — Кто, избранный для всех крамол мишенью, Стал и стоит, спокоен, невредим — Назло врагам, их лжи и озлобленью, Назло, увы, и пошлостям родным…*«Целость России», а значит, святость русской истории, эту целость принесшей, — вот что защищали воины и поэты и в 1831-м и в 1863-м. Неприкосновенность родных рубежей, заболотившихся от крови, и «отеческие гробы» проливших эту кровь, а не территориальные приращения волновали их:
Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали…Куда уж, кажется, яснее: оставьте нас, мы сами по себе и нам не до вас. Мы терпимы к вам, многое от вас с благодарностью переняли, мы даже готовы выручать вас из беды и искупать «нашей кровью Европы вольность, честь и мир» — так будьте же, наконец, и вы толерантны к нам, согласитесь на такое «европейское равновесие». Не желаете — что ж, живите по Лафайету или Пальмерстону, и в этом случае наши орды не ринутся на цивилизацию, а останутся на засечной черте. Но помните: рубежи целостной России для настоящих русских священны, и за ними, на попранной нашей земле, уже — mille pаrdons! — не витийствуйте о толерантности:
Так высылайте ж нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов.Только отпетые пошляки и клеветники смели назвать такую позицию агрессивным «варварством», «людоедством», «подавлением свободы» и т. п.
Горестно вспоминать, как постепенно деградировала Русская партия, уходила из нашей жизни пушкинская русскость и сколько российских знаменитостей так или иначе причастны к её проводам. Кто-то не раз писал, сколь «великий русский поэт Пушкин национален», и к этому добавлял: «Грустно сознаться, но патриотизм Пушкина был узким. <…> Грубая сила государства льстила его патриотическому инстинкту, вот почему он разделял варварское желание отвечать на возражения ядрами. Россия — отчасти раба и потому, что она находит поэзию в материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пугалом народов». Другой, боевой офицер и писатель, прославленный на весь мир, признавался, что «держит в узде» свой патриотизм (потом он ещё повторил английское изречение про «последнее прибежище негодяя», которое демагоги перенацелили в отечественных националистов, — а те долго не знали, чем возразить). Припоминается и милый человек в пенсне, болевший «за Японию, чудесную страну, которую, конечно, разобьёт и всей своей тяжестью раздавит Россия»**. (Напрасно он переживал: не раздавила, уже не та была, и спустя несколько месяцев микадо принимал телеграфические поздравления с победой от российских писателей и общественных деятелей.) Всплывают в памяти и многие другие, выдающиеся и рангом пониже: им тоже довелось угореть от русских ценностей — и они замечтали о целебном «прогрессе»…
Сильна ли Русь? Война, и мор, И бунт, и внешних бурь напор Ее, беснуясь, потрясали — Смотрите ж: всё стоит она!1831-й год… Давно это было — и совсем недавно. Теперь мечта поколений сбылась, и мы стоим в лакейской «общеевропейского дома».
Зато есть повод выпятить груди: так лихо спустить всё могли одни только русские.
Михаил Еськов На Полную с ночевой (к 80-летию Евгения Носова)
В рыбацких маршрутах Евгения Ивановича всегдашней любовью пользовались курские реки, и среди них особое место принадлежало речке Полной, что невдалеке от станции Полевой. Сами эти имена — Полевая, Полная — без постороннего инородного подмесу, исконно наши, одним лишь звучанием своим вожделенны и благостны русской душе. Рыбацкая обитель, о которой идет речь, без каких-либо претензий на значительность, не впечатляет ни быстротой течения, ни разгульной неоглядностью водного простора — на противоположном берегу без труда можно разглядеть самую малую пичужку. Однако ж название какое — Полная! Сразу ясно, что не мелкая, что положенное по природе отдано ей вдосталь, в край.
В тот поход на Полную, о котором я собираюсь рассказать, не ладилось с погодой: сентябрь, а захолодало не по времени люто. Палатку пришлось ставить в кустах, в затишке. Лова никакого не было, мы собирали сушняк для костра впрок, чтобы на всякий случай запастись дровами, если холод выгонит из палатки наружу, к огню. До темноты занимались костром, поддерживали тонкое расчетливое пламя.
Потом заморосил дождь, мы забрались в палатку, подвесили электрический фонарик, осветили наше жилье и стали обживаться. Под парусиной чувствовался по-домашнему перинный, спасительный слой соломы. И мы вслух радовались, что заблаговременно запаслись добротной по погоде сухой подстилкой. Коротать долгую ночь придется не на охолодавшей земле.
Разговор о том о сём мелкими ручейками петлял в текущих событиях, пока по обоюдной сердечной указке мы не набрели на детские воспоминания. Довелось впервые услышать от Евгения Ивановича, как в лютые тридцатые годы в наших местах объявились толпы истощенных нищих из самарских краев, как и сам такой же изможденный голодом помирал от сыпного тифа. Признаков жизни почти уже не было, когда за ним на живодерной колымаге приехали санитары забирать в тифозный изолятор. Изолятор, или, по-уличному, тифозный барак — место, откуда была лишь одна, известная всем, дорога. В последующем голод 1932 года будет воспроизведен в повести «Греческий хлеб». После прочтения остаешься потрясенным, будто заглянул на какое-то нереальное моровое кладбище, где, как ни странно, существует жизнь, хотя по всем законам естества в подобных условиях быть ее и не должно.
Меня судьба тоже не миловала. Те же тифы знаю не понаслышке. А голод чего стоил, питались, считай, солнцем да травой. Да и смерть совсем близко подходила не раз. Я даже собирался об этом написать. Подражая горьковским «университетам», свое произведение хотел назвать «Мои смерти».
В разговоре, который нам обоим был близок и интересен, мы забыли о времени и о том, где находимся. А между тем продолжался дождь, с монотонным шипением мелко сёк по брезенту. Палатка закоженела, выровняла все свои провисы, угрожающе набрякла. Теперь не дай Бог притронуться, капель из того места потом не остановишь. Так что надо быть аккуратным, иначе холодная баня будет обеспечена.
На реке возникли посторонние звуки, там кто-то плескался: то ли рыба гуляла, то ли зверь какой полоскался. Прислушавшись, Евгений Иванович заулыбался:
— Беспяткин рыбачит.
— Ночью? В такой дождь?
— Сетями когда же еще?
Мы вылезли из палатки. Ни неба, ни земли, ни ближайших кустов — всё едино темень. И обжигающе-холодный дождь.
— Жень, ты?
Выбираясь наружу, мы приподнимали полог. Свет фонарика обозначал проем палатки, скорее всего, тем и обнаружили себя.
— Я, я, — подтвердил Евгений Иванович.
— А я тут хотел снасти ставить. Да уж ладно, лови. Хотя погода… Клёва не будет… Утром, может, рыбки для ушицы завезти, а то без ушицы как же?
— Не надо, — отказался Евгений Иванович.
— Ну, как знаешь.
— Милиции не боишься?
— А чего ее бояться? Милиционеры рыбку тоже любят.
Подмокшие и остылые, в палатку мы вернулись, как в долгожданный дом. Какие-никакие стены, а создавали ощущение уюта, защищали от невзгоды.
— Откуда ты знаешь этого Беспяткина? — спросил я у Евгения Ивановича.
— Он на реке, и я на реке, ну и разговорились. В этом лесочке, куда мы приткнули сейчас палатку, было его подворье. Там еще растут его яблони. Не захотел жить со всеми по ту сторону речки, тут бирюком обосновался. Мельница у него была. Раскулачили, подворье спалили. Когда вернулся из лагерей, построился уже в деревне. Но памятью остался здесь. Ему-то и браконьерство это не для наживы. Коренной мужик, без дела не привык. А сети — занятие на целую ночь. И главное, все родное — рядом. Для того он здесь и лодку держит.
— Так он в годах, старичок уже?
— Видел бы ты этого старичка. Иду как-то по лугу, смотрю, копна впереди, пригляделся — движется. Да не вязанка, а именно копна сена на плечах — троим не поднять. Поздоровался, стал рассказывать о событиях в деревне, — сколько стоял, копну на землю не опустил. Не тяжело, говорит.
Посидеть у костра на берегу реки, перекинуться редким словом, помолчать, забывшись, глядеть и глядеть на живой таинственный огонь, — может, в жизни слаще времени и не бывает. Но в тот раз из-за непогоды сумерничать у костра не довелось. Ну, ладно, уха не случилась, так и от чая отказались. Под хлестким дождем если с трудом и разведешь огонь, то пока котелок вскипятишь, сам промокнешь. А впереди ночь в палатке, не на горячей печи.
Так что ужинать пришлось без горячего, домашними запасами. И снова детство заманило нас в свои необъятные просторы. Пожалуй, ни одна крестьянская работа не окружена такой трепетной, воистину богомольной атмосферой, как путь-дорожка от муки до готовой, пахнущей на всю округу, настоящей, ничем не подсуропленной ковриги.
Бабушка Евгения Ивановича и моя мама, будто вживе явившиеся к нам в палатку, делились опытом хлебопечения в русской печи. Каждая по-своему, но непременно с радением и любовью они приобщали нас к таинству рождения самой необходимой национальной еды. Вначале следовало подготовить под постав дубовую дежу, выпарить ее крутым кипятком. Требовалось умело запустить опару, чтобы и не перекисла, и не была слишком молодой, а подходила бы пышно, как на крыльях. На этой опаре ставилось потом тесто, несколько раз нужно было вымесить его, добавляя муку по чутью, по опыту, иначе тесто может оказаться прохоным. И выпечка даст осадку, верхняя же корка отстанет. А перебавишь муки, крутое тесто тщательно не вымешаешь, никаких сил не хватит, так и останутся непроработанными сухие белые комки. Затем в ход идет деревянная лопата для ссаживания сформированных полушарий теста на раскаленные подовые кирпичи. Будущую первую ковригу перед отправкой в жар и бабушка Евгения Ивановича, и моя мама сопровождали обязательной молитвой и крестным освящением. Запах и вкус тех хлебов оживал в палатке до стеклянного хруста зажаренных хлебных корок на зубах и сладкой младенческой слюны во рту.
— Вот предмет русской литературы, — заметил Евгений Иванович. — Русский писатель пишет всегда о жизни. А сочинять высосанное из пальца — это пусть другие упражняются.
Тогда я искал свою дорожку в литературе. Тыркался туда-сюда. Писал не как есть, а как должно быть, как того требовал социалистический реализм. Уж он-то, этот самый передовой метод искусства, должен был меня выручить.
Евгений Иванович, как всегда, полагался на собственные правила:
— Возьми лопату, копни землю, да не на огороде, там земля неестественная. А ты копни нетронутое земледелием: на лугу, в лесу. Сколько в той земле: и корни, и черви, норки всяких размеров, ржавое железо со следами человека. Возможно, и кости попадутся — там всё вместе — и смерть, и жизнь. Тут и сочинять ничего не нужно, макай перо и пиши.
А та памятная ночь на Полной незаметно для нас прошла без сна, в душевном разговоре. Поутру обнаружилось, что всё окрест расквашено дождем, болотной топью прогибалась даже досель плотная травянистая дернина. Мне нужно было уходить к электричке. Евгений Иванович, однако, оставался еще на одну ночеву, хотя ясно было, что рыбалка окажется пустой.
Хочется верить, что ту ночь помнил Евгений Иванович. Быть может, туда был обращен его внутренний взор, когда он писал рассказ «Гори, гори ясно…» с незабываемым волшебным фонариком. От его немеркнущего света не так темно и на нашей нынешней дороге.
Николай Переяслов Почти дневник (Из записных книжек литературного критика)
2001 год
* * *
…Одной из главных причин поражения советского строя явилась, на мой взгляд, расплывчатость его базовых формулировок. Думаю, соцреализм подвергся бы гораздо меньшему поруганию, если бы было четко сказано, что это — «творческий метод, главной отличительной чертой которого является то, что его герои действуют ВО ИМЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА».
* * *
Был сегодня в Институте мировой литературы на прощании с Вадимом Кожиновым. Народу масса — С. Ю. Куняев, И. Р. Шафаревич, В. Н. Ганичев, Ф. Ф. Кузнецов, Л. И. Бородин, Ю. П. Кузнецов, С. Н. Есин, С. А. Небольсин, В. А. Костров, известные наши писатели, сотрудники ИМЛИ, учёные… Все говорят о том, что XX век забирает с собой свои символы. А Кожинов — это ведь действительно СИМВОЛ, знаковая величина в культуре конца ушедшего века, олицетворявшая собой русскую идею и патриотизм в нашей литературе. Что интересно, при его имени вспоминаются даже не его собственные работы, а в первую очередь стихи открытых и поддержанных им поэтов — Юрия Кузнецова, Николая Рубцова, Светланы Сырневой, Бориса Сиротина… При мысли о Кожинове перед глазами возникают не корешки написанных им книг, а фигуры Гоголя, Тютчева и всей той громоздящейся за их спинами тёмным горбом, напоминающим собой здания Лубянки, так до конца нами и не разгаданной пока ещё истории России.
Нет, Кожинов — это не просто литературовед. Да и вообще, не просто писатель. Потому что он — СИМВОЛ РУССКОСТИ, пароль для движения патриотической мысли…
……………………………………………………………………………
На крыльце встретил Анатолия Афанасьева, Юру Полякова, Сашу Сегеня, Сергея Котькало, Сергея Перевезенцева…
Вот кого я здесь не увидел, так это — нашего Президента с траурной повязкой на рукаве, хотя, казалось бы, он должен был появиться тут первым, ведь Кожинов был виднейшим идеологом ушедшего века.
* * *
…Около полуночи выключил компьютер и включил телевизор. По одной из программ шёл концерт, посвященный памяти Юрия Визбора. Люди в зале — как будто откуда-то из другого мира, отрешенные, нездешние. Балдеют, подпевая все эти «Милая моя, солнышко лесное…». Такое впечатление, будто они прожили все эти годы, не заметив ничего, что произошло вокруг них, — ни потери СССР, ни расстрела здания Верховного Совета, ни реставрации капитализма в России. Да они не замечают даже того, что поют! Вот промелькнули строчки: «Ты прости меня, прости меня, пожалуйста — / Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу?..» Я смотрю на плывущие, словно в нирване, лица и вижу, что никто даже не задумывается о том, что автор здесь ведет себя под стать мелочному торгашу, требующему предоплату за то, чего он еще не сделал, а только, возможно, когда-нибудь случайно совершит в будущем. «Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу?» — делает он предположение и, еще не простив, уже пугается того, что это его гипотетическое действие может остаться неоплаченным.
Но это — все-таки Юрий Визбор, самый романтический и чистый из наших отечественных бардов, творивший еще без злобы и лицемерия…
Переключив на другую программу, попал на выступление знаменитого рок-исполнителя Шуры: на экране металось что-то разнузданно-извращенное, в зебровидном женском пиджаке и с физиономией героя какого-то фильма ужасов (рот — без верхних зубов, торчащий ежик редких бледных волос, выпученные глаза и т. д.). И я откровенно пожалел, что сегодня у нас нет Сталина. Нация нуждается в срочном очищении от всей той нечисти и погани, которую выпустила на Божий свет горбачёвско-ельцинская перестройка.
* * *
…Сегодняшние газеты наполнены информацией об убийстве начальника Управления юстиции Московской области Юрия Власова, которое, как теперь выяснилось, совершил его юный любовник — 18-летний учащийся педагогического колледжа Женя Карпов. Главный юрист Подмосковья любил мальчиков, но, пользуясь услугами Жени, не отдавал ему обещанных денег, так что тот, в конце концов, решил взять у него «заработанное» сам. А не обнаружив денег, убил своего партнёра, выместив на нём издевательствами все свои обиды на жизнь…
Такие вот «голубые» скандалы ярчайшим образом показывают, какие именно люди стоят у нас сегодня в руководстве всеми сферами жизни. Трудно поверить, но это факт — педерасты, развратники, растлители, извращенцы, мошенники, казнокрады, мздоимцы, предатели национальных интересов, воры и убийцы отвечают сегодня в России за нравственность, воспитание молодежи, соблюдение законности и порядка, государственные тайны и финансы, безопасность и процветание державы и другие стороны нашей жизни. На них опирается верховная власть. Они ее устраивают. А мы всё ждём, что в стране каким-то образом повысится уровень нравственности и законности…
* * *
…cовсем по-другому воспринимается мною творчество Полякова, который умудряется вызывать своими произведениями самые разноречивые мнения и споры. Так было, когда он опубликовал «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба». Так случилось и с последним на данный момент романом — «Замыслил я побег». В упрёк писателю поставили и умение приспосабливаться к требованиям рынка, и потакание вкусам массового читателя, и сужение собственного кругозора до размеров двуспальной кровати… А между тем этим своим романом он показал очередную трагедию лишнего человека с поправкой на уже наше с вами время. Разница между героем поляковского романа Олегом Трудовичем Башмаковым и лермонтовским Печориным заключается только в том, что, чувствуя свою невостребованность в эпохе, герой повести Лермонтова ещё пытается провоцировать её на какие-то ответные действия своими откровенно дерзкими поступками, как бы дразнит её от отчаяния, а герой романа Полякова уже не способен даже и на это, а потому он от своего времени просто убегает.
Что же касается вышедшей на передней план постельной темы, то до размеров постели сузился, на мой взгляд, вовсе не кругозор писателя, а сам современный мир, из которого для большинства людей ушли почти все другие человеческие ценности.
Несмотря же на свою кажущуюся статичность (а главный герой романа весь роман собирает вещи, чтобы уйти от жены к любовнице, да вспоминает при этом свою жизнь), новая книга Полякова читается с неослабным интересом, в ней имеется бездна сатирических эпизодов, а главное, столько узнаваемых деталей, что кажется, она вычитана автором из жизни каждого из нас. Казалось бы, писатель всего-то только и сделал, что собрал на страницах своей книги анекдотические ситуации из российской действительности последних полутора десятилетий (в чём его тоже упрекают недоброжелатели), а из этого с катастрофической обнажённостью становится видно, как мы профукали свою державу…
* * *
…С утра дочитал привезенный недавно Женей Шишкиным журнал «Нижний Новгород». Некоторые вещи в нём мне уже знакомы — рассказ Ивана Евсеенко «Седьмая картина» (эдакий парафраз на тему гоголевского «Портрета») я читал раньше в «Подъеме», роман Миши Попова «Мальчик и девочка» (очень интригующее фантастическое повествование с обесценивающим всё финалом) — в журнале «Московский вестник». Впервые прочитал здесь рассказ Алеся Кожедуба «Туфли из крокодиловой кожи» (хотя, по-моему, и он мне где-то раньше попадался), в котором изображается очередной крах очередного русского человека, пытающегося вписаться в систему новых рыночных отношений. Несмотря на то, что, как и всё у Кожедуба, эта вещь написана талантливо и ярко, после ее прочтения в душе остается какой-то неприятный осадок. Такое ощущение, что она просто заведомо топит читателя, не оставляя ему никакой надежды на будущее. Тебе, мол, не выжить, говорит она. Ты всегда будешь проигрывать, за что бы ни взялся, потому что сейчас НЕ ТВОЁ время.
Думаю, что пора уже прекратить утверждать в читателе стереотип русского человека как «кармического» неудачника и начать создавать образ не просто положительного героя, но героя, ПОБЕЖДАЮЩЕГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, героя, УМЕЮЩЕГО НАЙТИ и, главное — ПОКАЗАТЬ ДРУГИМ ВЫХОД ИЗ БЕЗДНЫ. А иначе зачем нужна литература, если она не наполняет своего читателя силой и верой?..
В разделе поэзии запомнились стихи поэтессы из города Сарова Ирины Егоровой, хотя они, на мой взгляд, несколько чрезмерно переполнены одиночеством и неверием в счастье.
А вообще Саров обращает на себя внимание тем, что в нем очень много сильных поэтов. То ли так действует разлитая там благодать батюшки Серафима Саровского, то ли поэзия — это единственное средство как-то раздвинуть границы закрытого города, каким до сих пор остается этот город, имеющий второе имя «Арзамас-16».
* * *
…По дороге на снятую нами недавно дачу прочитал в электричке роман Стивена Кинга «Библиотечная полиция». Надо, не кривя душой, признать, что читал я его с большим интересом — интрига, и вправду, так прочно привязывает к себе внимание читающего, что оторваться от сюжетной линии просто невозможно. Но в итоге испытываешь чувство откровенного разочарования. Не потому, что это сделано плохо, и не потому даже, что — жестоко, а потому, что проблема мистического характера решается исключительно на материальном уровне. То есть — с инфернальной нечистью и дьявольщиной герои борются практически теми же методами, что и с рядовыми бандитами — путем их физического устранения. А то, что против них существует такое мощное оружие, как молитва, пост и церковное покаяние, им, похоже, даже и невдомёк. А поэтому и одержанная ими победа кажется неубедительной: вампиры, бесы, ведьмы и прочие дьявольские отродья — это не та категория, которая исчезает с умерщвлением её плоти…
* * *
Вечером по телевизору передавали интервью с Александром Солженицыным, в котором он, в частности, сказал, что Запад не испытал в своей истории того, что испытали мы, а потому не может быть для нас судьёй и учителем, а также что Ельцин и Чубайс произвели над Россией чудовищный эксперимент, создав из нее государство, основанное на ограблении большинства меньшинством. Увы, всё абсолютно правильно, да только кто сегодня к его словам прислушивается? Это ведь почти то же самое, если бы Иуда Искариот после казни Христа взялся разоблачать иерусалимских первосвященников.
* * *
…Планировал сегодня поехать на XIV ММКЯ, где на стенде издательства «Крафт+» выставлена моя книга «Нерасшифрованные послания», и меня приглашали раздавать там автографы, но на сегодня же было назначено торжественное открытие восстановленной в облике 1900-х годов железнодорожной станции Козлова Засека, в четырёх верстах от которой находится музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», и пришлось ехать туда. Специально к этому дню МПС пустило из Москвы до Козловой Засеки скоростную электричку, первыми в которой предоставили возможность проехать писателям России.
…Через два с половиной часа мы вышли на Козловой Засеке, где я встретил приехавших туда день назад на ежегодные толстовские чтения Валентина Курбатова, Бориса Евсеева, Михаила Петрова и Владимира Личутина. Тут же был и Слава Дёгтев, который успел надрать в пристанционном садике яблок и угощал ими всех встречных, уверяя, что в них содержатся атомы Льва Толстого. «Он же тут столько раз бывал, ожидал поезда, что же он — ни под одну яблоню ни разу не поссал? Так что его атомы наверняка присутствуют в этих деревьях, а значит, и в этих яблоках», — с деловым видом объяснял он свою гипотезу. Чуть в стороне мелькнули Анатолий Ким и Владимир Бондаренко, но у меня, к сожалению, почти не было времени на общение…
Надо отдать должное начальнику Московской железной дороги Геннадию Михайловичу Фадееву и его людям — музейный комплекс на станции они восстановили в самом что ни на есть лучшем виде, прекрасно содержится также и имение в Ясной Поляне, хотя мы и успели там только бегло осмотреть дом Льва Николаевича да чуть ли не бегом поглядеть на его могилку, и уже было нужно спешить назад в нашу электричку. Но я все же успел отметить тот факт, что в отличие от большинства биографов Толстого, обвиняющих его жену в жадности к деньгам и нежелании разделять филантропические идеи мужа, здешние экскурсоводы говорят о Софье Андреевне чуть ли не с упоением. Мол, попав восемнадцатилетней девушкой в дом писателя, она вынуждена была взвалить на свои плечи и ведение хозяйства, и воспитание множества детей, а главное — переписывание, редактирование и издание рукописей мужа. Да при этом ещё должна была оставаться женщиной…
* * *
…Продолжая думать об ушедшем недавно от нас Петре Проскурине, я полез в первый номер журнала «Слово» за этот год и перечитал опубликованный там его рассказ «Мужчины белых ночей», в котором главный герой мучительно размышляет над тем, что произошло за последние годы с Россией и что можно в этой ситуации сделать для её спасения. «Я больше ничему не верю, — говорит он, ведя мысленный разговор со своим погибшим другом, — ни в народ, ни в совесть, ни в Бога. Русский человек оскотинился до маразма. Слепой кутёнок, тычется из стороны в сторону, и ни шага вперёд. Сам себе выбирает палачей, сам подставляет горло… души, режь, володей телом, я — тварь бессловесная, плесень на земле. Появилась и бесследно исчезла…»
К сожалению, нечто похожее на эти рассуждения все чаще и чаще забредает и в мою голову, я и в «Литгазету» примерно об этом же написал — что не исчез ли русский народ как таковой вообще? Ведь те люди, которые сегодня населяют Россию — это уже совсем не тот русский народ, каким он нам известен по своей истории! Примерно о том же, кстати, говорит в своих «Мгновениях» в этом же номере «Слова» и Юрий Васильевич Бондарев, у которого я встретил следующие слова: «…После того, что все мы возжелали сделать с Россией, мне стали совсем неинтересны мои соотечественники. Я уже не чувствовал к ним близкого родства, которое долго теплилось в моей жизни, особенно начиная с Великой войны. И позывало на тошноту от одной мысли, что Россия поругана и опозорена родными детьми…»
Я много думаю над тем, что же можно противопоставить нашествию цинизма и безнравственности, чем остановить разгул криминала и беззакония. Я понимаю, что причиной всего этого, и вправду, является наше собственное бездействие, однако, когда я перечитал в рассказе Проскурина то место, где его герой взрывает лесной дом отдыха вместе с «оттягивающимся» там губернатором и громадным числом обслуги в виде поваров, слуг и девочек для сауны, то я почувствовал в душе определённое сопротивление. Да, мне хочется, чтобы русский народ наконец-то очнулся от духовной спячки и сказал «нет» торжеству беззакония, но только не таким способом. Ведь на эту тему уже написано множество романов Анатолием Афанасьевым, но когда его герои начинают бороться с бандитами ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ, которыми те терроризируют облюбованные ими городки, то они фактически тут же превращаются в ИХ ЖЕ ПОДОБИЯ. Иными словами — ни в коем случае нельзя уподобляться тому, против кого ты воюешь, ведь бес как раз и любит менять всех местами и запутывать. Не случайно же в финальной сцене рассказа появляются интонации, очень сильно напоминающие интонации булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — в том месте, где Воланд допрашивает Бегемота и Коровьева о причинах пожара в Доме Грибоедова.
Думаю, что всё это не может не подтолкнуть нас к мысли о том, что за обеими этими сценами стоит одна и та же сила — помните? — «что хочет зла, но вечно совершает благо». И в этом — таится ключ к пониманию заблуждений обоих авторов. Я говорю «заблуждений», потому что не может сила, жаждущая творить ЗЛО, принести людям хотя бы какое-нибудь минимальное ДОБРО. А потому и путь, указанный Петром Проскуриным в рассказе «Мужчины белых ночей», не в состоянии принести с собой ничего, кроме новой крови и горя, тогда как Россию сегодня если что и спасет, то только — любовь и молитва.
* * *
В сегодняшнем «Дне литературы» опять опубликован большой рассказ Вячеслава Дёгтева. Это очень талантливый автор, но вместо того, чтобы осмысливать действительность, он гонится только за оригинальными сюжетами, а потому как-то всё время рубит сплеча, не замечая, как его проза, словно топор мясника, четвертует еще живую реальность. Вот и в своем новом рассказе («До седла!») он идет по этому же пути — популяризирует в художественной форме псевдонаучные идеи академика Фоменко о том, что вся наша история выдумана древнерусскими летописцами да позднейшими историками. «На самом же деле, — утверждает он (а Дёгтев эту ересь — для усиления своего рассказа — обильно цитирует), — Невской битвы, по всей видимости, не было, а уж тем более — Ледового побоища… Александр Невский, по всей видимости, — чистой воды миф. Прототип Невского — Царь Золотой Орды, непобедимый предок наш батька-Батый, при одном упоминании имени которого трепетала вся Европа. А монголо-татары — это мы с вами, русские и казаки…»
Вот такая, как видим, «научно-академическая» гипотеза. Главным доказательством в которой выступает постоянно употребляемое выражение — «по всей видимости». Так не потому ли именно, что он прекрасно осознает шаткость и самой этой гипотезы, и опирающегося на нее рассказа, Вячеслав Дегтев прилепил в конце своего повествования угрозу-запугивание для тех, кто посмеет высказать о нем свое критическое мнение? «…А которые станут хулить написанное или подвергать сомнению — тех да постигнет суровая кара Михаила-Архистратига и Георгия-Победоносца, предстоятелей казацкого воинства, и да поразится всяк хулящий огненным копием во имя сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да святится во веки Имя Его, аминь».
Не думаю, что Господь и Его архистратиги могут выступать в качестве защитников фальсификаторов истории, карая при этом тех, кто вступится своим словом за правду. Тем более, что если принять за основу хронологический метод периодизации истории академика Фоменко, то окажется, что и Сам наш Спаситель, и все Его Святые — это тоже, «по всей видимости», только «чистой воды мифы», тогда как на самом деле их прототипами, мол, были какой-нибудь папа римский или кто-нибудь еще. Так что это еще вопрос, кого поразит огненное копие…
* * *
…Приехав в правление СП, узнал, что минувшей ночью в Красноярске скончался писатель Виктор Астафьев. Наши все страшно суетились, отсылали какие-то телеграммы, куда-то звонили. Тут же был и Владимир Крупин, собирающийся лететь к нему в Овсянку на похороны.
Гена Иванов попросил меня написать некролог на его смерть, но я отказался. Может, это и не по-христиански, но я не могу забыть его последних произведений («Прокляты и убиты», «Обертон», а также высказываний в различных интервью), в которых он, перечеркнув подвиг нашей Армии-Победительницы, низвел весь ратный труд солдат Великой Отечественной войны единственно до уровня проблем набивания брюха и поиска места для испражнения. При этом немцы у него выглядят эдакими невинными цивилизованными овечками, а русские солдаты кровожадными монстрами-убийцами. Я писал о нём жесткие критические статьи, и если мне теперь браться за написание некролога, то надо или кривить душой и сочинять трагический монолог о «тяжёлой утрате, которую понесла Русская литература в связи со смертью великого писателя», либо же честно говорить о заблуждениях покойного, для чего, наверное, данный случай не является самым подходящим. А то, что Виктор Петрович был последнее время не во всём прав, он признавал и сам, открыто заявив об этом, когда мы встречались году в 1996-м в Самаре во время его проезда из Тархан в Красноярск. «Последнее время я чувствую, что впал в какое-то сильное озлобление, от которого никак не могу избавиться. Я, может, и в Самару-то к вам специально за тем и завернул, чтобы ваша волжская ширь помогла мне освободиться от этой злобы…» — сказал он тогда во время импровизированного обеда.
Напуганная его непонятной репутацией (то ли он демократ, то ли патриот, то ли еще кто) администрация Самарской области не рискнула тогда принимать Астафьева у себя и перепихнула его на руки писательской организации. Денег у нас было в те дни не густо (как, впрочем, и всегда), мы купили варёной колбасы да водки, жёны наши принесли из дому огурцов, сварили пельменей и картошки, тем мы великого писателя и угощали…
* * *
…Интересный момент сообщил нам Феликс Феодосьевич Кузнецов. По его словам, сын Шолохова — Михаил Михайлович — однажды рассказывал ему, что, будучи уже тяжело больным, лежавший в постели писатель вдруг спросил у него: «Мишка, скажи мне, когда там, по вашим учебникам, заканчивается гражданская война в России?» — на что он ответил: «В 1920 году, а что?» — «А то, — ответил Михаил Александрович, — что она не закончилась ещё и до сегодняшнего момента. Ты знай это…»
2002 год
Сегодня Ганичев два раза собирал у себя всех секретарей. Первый раз мы обсуждали открытое письмо Путину с требованием выделить один канал ТВ под русские духовно-культурные программы (чуть позже мы узнали, что практически тем же сегодня было озабочено и руководство Русской Православной Церкви, подавшее от имени своего издательского отдела заявку на получение 6 канала), а второй раз — говорили о необходимости обращения к народу и Президенту России по поводу царящего в стране разгула преступности. «Дерево узнаете по плодам его», — сказал нам Господь. Вот мы и видим сегодня плоды отмены смертной казни, приведшие к полной разнузданности криминала, торжеству насилия, неслыханному распутству, наркоторговле, попранию всех нравственных устоев, законов и норм морали…
* * *
Прочитал в девятом номере журнала «Дружба народов» фрагменты из книги Эмиля Мишеля Чорана «Разлад», в частности такое из его высказываний: «Свобода, — говорит он, — это самоопустошение, свобода истощает, тогда как гнет заставляет копить силы, не даёт расплескивать энергию», — и мне это показалось очень близким к раскрытию ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ сути нашей недавней ЦЕНЗУРЫ, которая заставляла писателей искать пути для её обхождения, не позволяла никому расслабляться и придавала нашей литературе элемент некой полуконспиративной игры. Даже демократические критики сегодня отмечают, что с отменой цензуры русская литература стала скучной, неинтересной и как бы ОПУСТОШЁННОЙ.
«Под крепостным ярмом, — пишет далее Чоран, — народ возводил храмы; освободившись, он громоздит одни ужасы», — и это опять-таки один в один соответствует тому, что произошло с нами в результате перестройки. В эпоху социализма (даже во времена сталинской диктатуры и ГУЛАГа!) у нас в массовых количествах возводились ДК и институты, строились каналы и плотины, создавались новые виды космических кораблей и стратегического вооружения, расцветали наука, культура и искусства, росли надои, урожаи и всевозможные нормы выработки, а также повышались здоровье, интеллект, чувство патриотизма и уровень благосостояния всей нации; однако стоило только «освободиться» от гнёта КПСС и КГБ, как в стране начали плодиться одни только головорезы да насильники, и по всей территории бывшего СССР поползла неостановимая эпидемия межэтнических войн и заказных убийств…
* * *
После работы ходили с Мариной в Центральный Дом литераторов на подведение итогов открытого литературного конкурса «Российский сюжет», который был учреждён весной этого года новым издательством современной сюжетной прозы «Пальмира». Это была стопроцентно демократическая тусовка с такими обычными для неё участниками, как Андрей Василевский, Сергей Чупринин, Александр Вознесенский, Александр Гаврилов, Михаил Бутов, Алла Латынина и др. Лауреатами премии в трех номинациях (10 тыс. баксов каждая + издание книги) стали Светлана Борминская (за роман «Охота на старушку»), Николай Шадрин (за роман «Без царя»), а также разделившие на двоих одну из номинаций Виктор Строгальщиков (за эпопею «Слой») и Юрий Коротков (за повесть «Мёртвый»). При этом, характеризуя критерии отбора произведений на премию, нацеленную на поиски РОССИЙСКОГО сюжета, член жюри Александр Кабаков сказал, что их очень порадовало то, что наши умеют закручивать сюжеты ничуть НЕ ХУЖЕ АМЕРИКАНЦЕВ, а что касается книги Строгальщикова «Слой», то эта вещь, по его мнению, сделана уже вообще не то что НЕ ХУЖЕ, а, можно сказать, абсолютно ПО-АМЕРИКАНСКИ. И всё это они назвали — поисками русского народного романа…
* * *
Побывали с Мариной на моей «малой» родине — в небольшом донбасском городке Родинское, где я окончил в 1971 году среднюю школу, проработал несколько лет на шахте, ходил в литературную студию, начал публиковаться в местных газетах и пр.
Увы, городок мой представляет себой сегодня ужасно печальное зрелище. На улицах грязь, посёлок по ночам абсолютно не освещается (нет буквально НИ ОДНОЙ горящей лампочки!), всё погружено в темноту. Октябрьские праздники отменены (поскольку, мол, это не украинское, а сугубо «москальское» торжество), люди ходят злые и скучные. А самое страшное — там нет абсолютно никаких перспектив для жизни: шахты одна за другой закрываются, работы нет, жизнь городков замирает… Во всем видны беспросветная тоска и безысходность; процветают воровство, пьянство и наркомания. Воруют любую мелочь — дрова, картошку, брошенный во дворе алюминиевый тазик (на цветмет), кур из сарая, выгруженный из машины возле ворот уголь (если не успеешь его перетаскать до темноты во двор), телефонный и высоковольтный кабели (в них тоже имеется цветмет — алюминий, медь, свинец), вывешенное на верёвке после стирки белье и так далее.
Местные газеты полны всевозможных нападок на Россию и смакования сплетен о наших рок-звездах — Пугачёвой, Киркорове и прочих. Магазины в своём большинстве закрыты и темнеют пустыми витринами, основная торговая жизнь идет на местных базарах.
На всех столбах и заборах висят бумажки объявлений: «Продаются гарбузы и буряки», «Продаётся 2-комнатная квартира», «Продаётся дом». Но какой толк в этих продажах, если за квартиру дают почти столько же, как за буряки и гарбузы? К примеру, 2-комнатную квартиру в соседнем с нами городе Белицкое (где закрылись уже почти все шахты) больше, чем за 200 долларов, не продать.
Оправданием жизни там может служить сегодня только одна цель — совершение революции. Ничто другое не имеет смысла…
2003 год
…Уходя из правления, захватил газету «Время» (№ 2 от 16 января 2003 г.) и, пока ехал домой в метро, прочитал статью Якова Ушакова «Тайна черного квадрата», посвященную картине Казимира Малевича «Черный квадрат». Удивляясь тому, что «рыночная стоимость этого квадрата, признанного „памятником государственного значения“ (?!), может по оценкам экспертов доходить до двадцати миллионов долларов», автор статьи ставит перед собой задачу понять, в чем же таится загадка такого почти религиозного трепета перед этим, с позволения сказать, несколько необычным с точки зрения искусства «произведением». И находит весьма убедительный в логическом плане ответ на это в еврейском трактате «Кицур Шулхан Арух», в 121-й главе которого даются, в частности, следующие инструкции:
«1. После разрушения Второго Храма мудрецы Торы постановили, что даже в самые радостные минуты своей жизни еврей обязан каким-либо образом выразить, что ничто не может заставить нас забыть об этой страшной катастрофе…
2. По установлению мудрецов, следует оставить на стене напротив входной двери неоштукатуренный квадрат размером локоть на локоть (т. е. те же 48 х 48 см, что и у картины Малевича) — чтобы всякий раз, увидев его, вспоминать о разрушенном Храме…»
Так что, пишет Я. Ушаков, «темный квадрат на светлом фоне не такая уж и бессмыслица. Оказывается, подлинная задача была выставить на всеобщее обозрение ритуальный еврейский символ. Теперь понятно, почему весь мир так благоговейно относится к этому шедевру?..»
* * *
…К 12 часам дня поехал в Государственную Думу на встречу с председателем Комитета по культуре Н. Н. Губенко.
День выдался теплый, но снежный, Москва была заштрихована густым диагональным снегопадом, но и сквозь него я разглядел стоящих напротив думских окон возле гостиницы «Москва» женщин. Их было не более десятка — они стояли там, воткнув в снег хоругви, транспаранты и плакаты, которые взывали то ли к депутатам, то ли ко всем, кто проходил в этот час мимо них: «Очнись, народ! Дети гибнут на наших глазах!»; «Проснись, русская душа: дай отпор антихристу!»; «За Русь Святую! За будущее детей!»; «Россия — дом пресвятой Богородицы» и др. Две или три из них держали в руках молитвословы и читали акафисты, и я подумал: и это — ВСЕ, кому дорого будущее нашего Отечества? Эти десять женщин на снегу — ЕДИНСТВЕННАЯ защита России?! Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй…
* * *
В очередном номере «Дня литературы» напечатаны моя информационная полоса и обзор последних литературных журналов. К сожалению, обзор оказался немного подсокращённым, и при этом не вошла и та часть, где я говорю о ганичевском «Роман-журнале, XXI век» и напечатанном на его страницах рассказе Валентина Распутина «В непогоду». Хотя я-то как раз больше всего и хотел высказаться именно по поводу этого рассказа! И вовсе не потому даже, что Распутина нельзя обойти молчанием по причине его известности, а потому, что этот небольшой рассказец просто-таки требует, чтобы о нём было прилюдно поговорено. Ибо Распутина (и я особенно отчетливо понял это после прочтения его повести «Пожар», в которой оказалось до деталей предсказано все то, что происходило потом на Чернобыльской АЭС, а несколько позже и по всей России) нельзя читать, как ЛЮБОГО ДРУГОГО автора, — он уже давно, сам того, может быть, даже и не ведая, пишет не рассказы, а главы некоего Русского Откровения, в своеобразной притчевой форме показывающие, ЧТО нас ожидает в нашем шествии сквозь Историю. Поэтому и рассказ «В непогоду» нельзя воспринимать как очередное описание увиденного писателем бурана (да мало ли мы читали подобных описаний, чтоб нас еще можно было этим удивить?), поскольку в нем описана не столько МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ, сколько, я бы сказал, АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ картина, показывающая, ЧТО происходит с нашим Отечеством сегодня и ЧТО его ожидает в его футурологическом завтра. Да, сегодня на нашу Родину обрушилась страшная мировоззренческая буря: она с треском ломает дубы нашей традиционной культуры и духовности, расшатывает наши хлипкие идеологические и экономические жилища и, как говорит одна из героинь распутинского рассказа, «так и норовит тебя сдуть с земли», но пройдет еще какое-то время, и однажды утром…
«Утром, когда я очнулся и выглянул в окно, весь мир был укутан в снег и тишину. Всё было погребено под удивительно белым и чистым, в застывших волнах, снегом. Как будто ничего и не было, как приблазнилось от болезненных дум…»
Белое и чистое — это краски Святой Руси, которая, слава Богу, никуда не исчезла, а просто пока что не видна нам за заслонившим всю жизненную перспективу ураганом. Верить в нее и стремиться дожить до нее, не осквернив свою душу унынием и забвением дарованных нам ранее свыше символов прекрасного, — этому-то как раз и учит своего читателя таким простым с виду рассказом, как «В непогоду», Валентин Распутин.
* * *
…Вечером я прочитал дома ксерокопию речи И. В. Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 3–5 марта 1937 года, в которой он сформулировал платформу современного ему троцкизма, и ужаснулся — это один к одному то, что сделали в наше время Горбачев, Ельцин, Путин и другие демократы! Пожалуйста: «Реставрация капитализма, ликвидация колхозов и совхозов, восстановление системы эксплуатации, союз с фашистскими силами <иностранных государств> для приближения войны с Советским Союзом, территориальное расчленение СССР с отдачей Украины и Приморья, подготовка военного поражения Советского Союза в случае нападения на него враждебных государств», — это именно те самые пункты, на которые опиралась платформа Пятакова, Радека, Сокольникова и других последователей Л. Д. Троцкого 30-х годов. Но они же — и то, что сделали в последние полтора десятилетия и наши перестройщики. А именно: внедрили капитализм, восстановили частную собственность на средства производства, а с ней и эксплуатацию, заигрывают с НАТО, отрезали от тела страны Украину, Прибалтику и кучу других республик, разоружили и сократили армию до состояния уже никому не страшной кучки оборванцев.
Так что получается, что все наши сегодняшние политики — никакие не демократы, а самые настоящие закоренелые троцкисты…
* * *
…Жить в столице Российской Федерации становится так же опасно, как на минном поле. Бойся шахидок, бойся растяжек, бойся оставленных кем-то в автобусе вещей, которые могут оказаться бомбой… Власть откровенно отдала нас на заклание террористам, сегодняшняя Москва — стопроцентно фронтовой город, а правительство не принимает абсолютно никаких мер по защите своего населения от диверсантов. Руководство МВД говорит: мы держим на контроле всех криминальных авторитетов и отслеживаем их дела. Генералы армии говорят: мы бы давно могли «замочить» и Масхадова, и Басаева, и всех полевых командиров, но нам это не разрешает делать Москва… Никто, оказывается, не способен на совершение самостоятельного поступка, все, блин, ожидают РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОДВИГ, просят у чиновников САНКЦИЮ НА СПАСЕНИЕ РОССИИ… Кто ее должен им выдать? Касьянов? Кириенко? Кох?..
* * *
Сегодня в три часа дня у нас в правлении началось обсуждение новой повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», опубликованной в 11-м номере журнала «Наш современник». Патриотические литературные и читательские круги давно ждали слово Валентина Григорьевича, выступавшего в последнее время и редко, и какими-то небольшими произведениями — публицистическими статьями или рассказиками. И вот — полновесная художественная повесть.
Первое, чего нельзя не заметить в новом произведении Распутина, — это откровенная сюжетная перекличка с нашумевшим не так давно фильмом Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», в котором трое отморозков насилуют чистую и невинную школьницу, а затем преспокойно откупаются от суда и продолжают на глазах у всего городка свои циничные пиршества. Видя бездействие и бессилие нашего правосудия, дед оскорбленной девушки покупает на черном рынке винтовку и сам выносит приговор подонкам…
Примерно то же происходит и в повести Валентина Распутина, только здесь за поруганную честь дочери мстит мать, которая изготавливает из ружья обрез и, видя, как суд собирается отпустить насильника на свободу, осуществляет над ним заслуженную кару. Однако, как это всегда и бывает у Распутина, повесть его растекается гораздо шире обозначенного сюжета и заставляет думать не только о сути произошедшего с героиней, но и о том, что происходит со всем русским народом. Ведь если в фильме Говорухина все четко поделено на «черное» и «белое», то в повести Распутина все уже далеко не так просто и однозначно. Да, его Светка подверглась грубому насилию со стороны азербайджанского торговца, но ведь незадолго до этого она сама бросила школу и, окончив какие-то курсы, пыталась устроиться работать на рынок. Она ведь и со своим насильником поехала с той целью, чтобы он ее устроил на работу к своему брату. И что — она или ее мать не понимали, что рано или поздно ей придется лечь под кого-нибудь из кавказцев, как это делают практически все работающие на наших рынках женщины, боящиеся потерять свое место на лотке или в палатке? Ведь практически все российские рынки уже давно и прочно принадлежат «лицам кавказской национальности», которые осознают себя на нашей земле ХОЗЯЕВАМИ, однако до тех пор, пока беда не коснется кого-нибудь из нас ЛИЧНО, никто их не стреляет… В том-то и заключается принципиальная разница между фильмом Говорухина и повестью Распутина, что насилие в «Ворошиловском стрелке» носит, так сказать, РАЗОВЫЙ характер — обладание девушкой необходимо пьяным подонкам только сейчас, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, и после удовлетворения своих животных потребностей она им становится абсолютно без надобности, тогда как изнасиловавший Светку азер в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» и не думает ее утром отпускать, требуя, чтобы она родила ему сына, и вообще, относясь к ней уже как к СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ. Это и есть та самая характерная черта, которую подметил в сегодняшних «хозяевах жизни» В. Г. Распутин: всё, к чему прикасается грязная лапа торгаша, превращается в его СОБСТВЕННОСТЬ — рынок, женщина, власть, Россия…
Надо заметить, что в повести Валентина Григорьевича вообще очень много символики. Символично уже само ее название — «Дочь Ивана, мать Ивана», восходящее к тому же принципу, который мы видим и в приводимом евангелистом Матфеем родословии Иисуса Христа: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его» — и так далее. Стремление вписать героев своего повествования в хронологию БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ — черта, характерная как для авторов Библии, так и для древнерусских летописцев, и, давая своей повести название «Дочь Ивана, мать Ивана», Валентин Распутин как раз и пытается показать этим неразрывную цепь продолжения человеческого рода, беспрерывный процесс бытия и одновременно с этим — роль своей героини в этом процессе.
Затем: необычайно жаркий весенний день в повести Распутина не может не напомнить нам собой другой необычайно жаркий весенний день, описанный в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», — и эта перекличка, подчеркивание этой НЕОБЫКНОВЕННОЙ жары, ее акцентирование писателями кажется отнюдь не случайностью, так как ЖАР — это не что иное, как символ АДА, и авторы как бы сразу настраивают нас на то, что нас впереди ожидает встреча с представителями этого инфернального места. И действительно — то, что случается далее, ничем иным, как бесовщиной, назвать нельзя, причем это касается не только событий романа Булгакова, но и того, что совершается в повести Распутина. Разве надругательство над ЧИСТОТОЙ — это не есть дело рук беса?..
Самое страшное в повести Валентина Распутина то, что мы должны быть чуть ли не благодарны насильнику Светланы, так как только прямое надругательство над девочкой оказалось способным разбудить в ее матери (да и в нас самих) чувство протеста против засилья чужеземцев в России и попрания ими всех основ нашей жизни. Если бы этого не случилось, все так бы и продолжали спать, терпя воцарение кавказцев…
Жаль только, что повесть Валентина Григорьевича написана несколько длинновато и, несмотря на обжигающую актуальность, как-то скучновато, — из-за этого она заметно проигрывает фильму Говорухина, да и вообще, на мой взгляд, немного выпадает из того, что называется современной литературой.
* * *
В конце декабря мы с Игорем Ивановичем Ляпиным побывали в Харькове, куда ездили на творческий вечер харьковского поэта Александра Романовского.
В поезде говорили с ним о месте писателей в жизни общества, я неожиданно сделал для себя один важный вывод, касающийся того, что писатели нужны власти только тогда, когда у этой власти появляется общенациональная идея, которую необходимо озвучить и внедрить в сознание масс. Именно так было после Октябрьской революции 1917 года, когда писатели были востребованы молодым советским государством и узнали неслыханный дотоле взлёт популярности. Такого отношения к пишущим людям не было никогда раньше и вряд ли когда ещё повторится. Чтобы Слово было поставлено на службу государственной власти, у этой власти должна быть за душой всеобъемлющая ИДЕЯ, а сегодняшняя власть России абсолютно ПУСТА…
* * *
2004 год
По пути в правление СП купил «Независимую газету», взывающую к читателям с передовицы заголовком статьи: «Что такое путинизм? Чем он угрожает путинскому большинству», в которой Президента РФ обвиняют в создании авторитарной власти в стране. Увы, это так, но это далеко не самое страшное из тех обвинений, которые можно против него сегодня выдвинуть, потому что авторитарная власть САМА ПО СЕБЕ — это только МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ и не более, а значение имеет то, ВО ИМЯ ЧЕГО этот метод используется. Беда Путина (а вернее — наша) состоит в том, что от его авторитаризма нет ни малейшей пользы ни стране, ни народу — он использует его только для сохранения своей собственной власти, а страна при этом приходит во всё больший и больший упадок, теряя и свой международный авторитет, и свою внутреннюю социально-экономическую и политическую стабильность, и свое культурное значение в мире.
* * *
Последние дни мы с Мариной чуть ли не каждое утро натыкаемся на какие-нибудь маленькие забавные эпизодики, касающиеся нетрадиционного (или же как раз — традиционного?) русского словоупотребления. Так, например, доходя позавчера до станции метро «Братиславская», мы встретили хорошо одетого молодого человека, разговаривающего с кем-то по мобильному телефону о делах своей фирмы или банка. Высыпав на собеседника набор каких-то бухгалтерско-экономических терминов и названий иностранных компаний, он в завершение инструктажа громко добавил: «Ты только проследи там за этим лично, а то они привыкли всё через ж… делать». А вчера, выйдя из своего подъезда, увидели бригаду дворников нашего ЖЭУ, очищающих освободившиеся от снега газоны от обнажившегося на них мусора. «Ну, прямо как будто не люди тут живут, а какие-то засери!» — с неудовольствием подбирая с земли и складывая в мешок пластиковые бутылки и грязные полиэтиленовые пакеты, громко (чтобы слышали все находящиеся в этот момент во дворе жильцы дома) проговорила одна из дворничих.
* * *
Сегодня небольшая группа представителей нашего Союза писателей присутствовала в Свято-Троицкой Сергиевой лавре на церемонии поднятия Царь-колокола, сброшенного большевиками в 1930 году, а нынешней зимой отлитого в Санкт-Петербурге и доставленного в лавру.
После литургии все вышли на улицу, и там, у подножия колокольни, состоялся водосвятный молебен, после которого колокол подняли краном на колокольню. Эта процедура длилась очень долго, день выдался довольно холодный, всё время пытался начаться дождь, и мы все страшно замёрзли, так что весьма своевременной оказалась последовавшая затем трапеза с горячими щами и красным вином, которые помогли немного согреться. Перед трапезой всем гостям лавры вручили памятные медали и подарки…
Оглядываясь на прошедший день, можно сказать, что ничего особо выдающегося сегодня и не случилось — ну, подумаешь, мол, поучаствовали в роли зрителей-статистов в церковной церемонии!.. Но, перебирая в памяти отдельные моменты дня, я вижу, что во всём этом определённо имелся некий высший смысл. Во-первых, нельзя не видеть некой исторической переклички (или того, что я называю «рифмами бытия»), выражающейся в присутствии писателей как при гибели лаврских колоколов в 1930 году, так и при их воскрешении в наше время, — тогда всё это видел и описал в своих дневниках проживавший в Сергиевом Посаде Михаил Пришвин, а сегодня смотрели (и надеюсь, запечатлеем в своих произведениях) мы. Во-вторых, в течение этого необычного дня нам с Мариной было даровано свыше несколько маленьких, но отчетливо осознаваемых сердцем чудес, свидетельствующих о неслучайности всего происходящего в нашей жизни.
1. Так, выходя из Трапезного храма, где совершалась Божественная литургия, мы вдруг увидели стоящего на алтаре игумена отца Тихона, с которым мы вместе участвовали в Крестном ходе по Волге, описанном в моём очерке. Увидев, что он нас с Мариной тоже узнал, мы подошли к нему, расцеловались, и, вспомнив о лежащем в сумке экземпляре «Русского эха», я подарил ему журнал со своей публикацией, где была также и наша общая фотография у Серафимовского источника близ Дивеева, на которой запечатлены я, отец Тихон и еще двое батюшек. «Это что же получается? — удивилась потом Марина. — Что ты вёз сюда этот журнал специально для него! Но мы ведь пять лет с ним не виделись и даже не предполагали, что можем его здесь встретить!..» «Это мы не предполагали, — ответил я, — а Господь, Он заранее знает, кто, где, когда и с кем встретится, поэтому и подсказывает, что надо взять с собой…»
2. Потом была долгожданная трапеза, всех гостей запустили в два больших зала, а для нашей писательской группы почему-то ни в одном из них не нашлось места, и чуть погодя нас посадили в небольшом отдельном кабинете. И, как показало дальнейшее, это было сделано тоже неспроста… Расставили тарелки, начали наливать щи, а молитву никто не читает. Я оглянулся и увидел единственного среди нас молодого священника, сидящего за одним из столов за моей спиной, и попросил его начать молитву. Так установился наш с ним контакт, переросший затем в разговор, из которого выяснилось, что батюшка служит в храме села Красное Старицкого района — то есть в тех самых местах, где я не просто когда-то бывал, но работал журналистом районной газеты и одновременно служил чтецом-псаломщиком в Старицком Свято-Ильинском храме! Я и сейчас довольно часто езжу в эти места — не далее как позапрошлым летом мы провели там всей семьёй почти весь свой отпуск, купаясь в Волге. Но вот за те два года, что не ездили, там произошли довольно значительные перемены, в числе которых и открытие храма в селе Красном, где теперь служит отец Дмитрий Каспаров (именно так, оказалось, его зовут). Знакомый мне иеромонах Вениамин (которого я помню ещё как просто Володю) переведён из Старицы на самостоятельный приход в Берновский храм, а вот игумен отец Гермоген служит теперь не в Свято-Ильинской церкви, а в самом Успенском монастыре (правда, так до сих пор и оставаясь его единственным насельником).
Так я получил неожиданную весточку из близких моей душе мест и обрёл в лице отца Дмитрия неожиданного друга. (Помимо всего прочего, оказалось ещё, что во время транспортировки Царь-колокола из Петербурга в Сергиев Посад он курировал прохождение автопоезда по Старицкому району.) Но если бы нас посадили в одном из тех двух огромных трапезных залов, где обедали все остальные, то не состоялось бы ни нашего с ним знакомства, ни интересного разговора, ни воспоминаний о Старице…
Вспомнив о захваченной мною из Союза писателей книге своих стихов, я вынул её из сумки и, сделав памятную надпись, подарил красновскому батюшке. Так что и она оказалась взята мною сюда для вполне конкретной цели.
3. Ну и, наконец, после обеда мы решили ещё успеть приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского и пошли к его раке. В притворе храма я увидел столик с бумагой для записок и тоже написал записочку за здравие своих близких, но когда начал искать, куда её здесь подать, то узнал, что для этого надо идти в другой — Успенский — собор, и очень огорчился, так как основная наша группа уже сидела в автобусе и времени на хождения и стояния в очередях у меня совсем не оставалось (да и ноги после долгого стояния на холоде во время подъёма колокола были как деревянные). Сунув записку в карман, я отправился к раке преподобного, приложился к его святым мощам, а когда выпрямился, то увидел, что к его изголовью подходит один из иеромонахов и начинает служить молебен, одновременно раскладывая для зачитывания поданные людьми записочки. Я тут же вынул из кармана свою записку и десять рублей и, отходя от раки Сергия, положил их в стопку тех, которые принёс с собой священник. Так что Господь буквально окружает нас Своими маленькими милостями, надо только уметь их замечать…
* * *
По телевизору весь день передают видеоматериалы об инаугурации Президента Российской Федерации В. В. Путина, который в очередной раз пообещал «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», но при этом, правда, не преминул подчеркнуть, что «успех и процветание России не могут зависеть от одного человека или одной партии». «Мы, — заключил он, — должны иметь широкую поддержку». Хотя при этом и не стал расшифровывать, широкую поддержку чего именно они (кто?..) хотели бы иметь от народа — поддержку перехода наших общенациональных богатств в руки нескольких приближенных к властным структурам циников?.. Или широкую поддержку уничтожения нашей оборонной мощи?.. Или широкую поддержку почти тотального обнищания народа, лишенного за годы перестройки всех своих материальных, идейных и нравственных ценностей?.. Или же широкую поддержку бесконечного и бесстыдного заискивания и угодничества российской власти перед США и Западом, приведших практически к полной потере нашего авторитета на международной арене?.. Или широкую поддержку криминализации российского общества, превращения нашего народа в киллеров и проституток, поддержку массового распространения СПИДа, наркомании, гомосексуализма и прочей пропагандируемой с телеэкранов мерзости?..
К сожалению, всё, что говорил Путин при вступлении в должность главы государства, похоже, не более чем дежурные слова, а на деле…
А на деле — одновременно с проходившей в Кремле инаугурацией одна женщина в Москве облила себя горючей жидкостью и подожгла, превратившись в живой факел. Причина — невозможность жить в нищете…
* * *
При советской власти опасность могла угрожать человеку только со стороны самой власти — его могло коснуться то, что называли у нас «перегибами» и «необоснованными репрессиями». Сегодня же человеку угрожают и криминальные силы, и террористы, и вооруженные бандформирования (если он служит в армии), и распоясавшиеся сотрудники правоохранительных органов, которые могут безнаказанно сделать с любым из нас что угодно, и рэкетиры, и многочисленные маньяки-садисты, и торгаши, обирающие народ на рынках при помощи непомерно высоких цен, и отраслевые олигархи типа Чубайса или руководителей ЖКХ, загоняющие людей в нищету своими бесконечно растущими тарифами, ну и, конечно же, — это власть, которая по-прежнему не любит бунтарей и правдолюбцев и готова упрятать любого из них за колючую проволоку.
Так когда же, спрашивается, было лучше — при социализме или теперь?..
Примечание
1
Руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук.
(обратно)
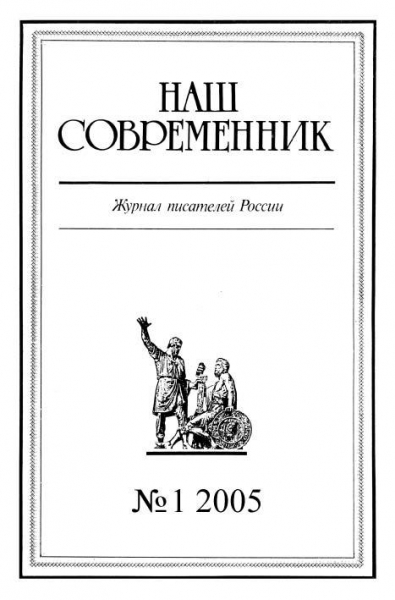



Комментарии к книге «Наш Современник, 2005 № 01», Юрий Михайлович Кондратьев
Всего 0 комментариев