Злая земля. Историко-приключенческий роман М. Зуева-Ордынца.
ЧАСТЬ I НЕЗНАЕМАЯ СТРАНА
— Далеки вы, земли Арапские!
Всев. Иванов.… Я кинул отчий кров.
И пусть засыплет иней
Следы моих шагов!
П. Орешин.I. Тайна охотничьего зимовья.
— Стой!
Крик этот властно, как удар бича, рассек тишину морозной ночи. Собаки, из последних сил тащившие тяжело нагруженные нарты, дружно остановились. Это были желтобурые юконские лайки-малемуты, потомки черного полярного волка. Запавшие бока их судорожно трепетали, пересохшие языки красными суконными лоскутьями свешивались из раскрытой пасти. Горячее дыхание животных, поднимавшееся кверху густой молочно-белой струей, опадало тончайшими ледяными кристалликами.
Коренастый человек в высокой волчьей шапке, закутанный в оленью доху, со вздохом облегчения бросил на нары длинноствольный французский шаспо и тотчас же принялся ожесточенно растирать рукавицей побелевшие щеки.
— Ну и мороз! — поворчал он в бороду. — Градусник упал наверное до пятидесяти ниже нуля. Только опустишь руки, лицо немеет. А попробуешь высморкаться — рукавица к носу примерзает. Веселого мало, не правда ли, Хрипун?
Последние слова относились к вожаку запряжки, огромному сибирскому волкодаву. Густая длинная шерсть делала его похожим на лохматый шар. Острая тонкая морда, стоячие нервные уши и влажные золотистые глаза придавали ему особенную, осмысленную красоту. Он один из всей упряжки не улегся, а поджимая по очереди мерзнущие лапы, выжидательно глядел на хозяина.
— Слушай, старый бродяга, — продолжал человек, — куда же это загнал нас трехдневный буран? В России мы еще или уже в Канаде? Ты не знаешь, а?
Говоря это, он пытливо оглядывался по сторонам. При скупом свете зари он увидел, что нарты его, счастливо обойдя глубокий овраг, сползли в тихую, защищенную от ветров и поросшую уродливым кустарником долину. В нескольких шагах от нарт темнело трапперское зимовье — небольшая хижина, сложенная из сосновых кругляков и проконопаченная оленьим мхом.
— Кто строил ее? — пробормотал человек. Как все люди, прожившие долгие годы в одиночестве, он привык разговарить сам с собой. — Эта хибарка наверное современница Витуса Беринга[1], — продолжал он. — Ветха уж очень. А впрочем не все ли равно, была бы крыша над головой.
И он удовлетворенно забасил:
Ой у мене був коняка, Був коняка-разбежака!..— Ну-ка, мой коняка-разбежака, — засмеялся он, выпрягая Хрипуна из постромок, — пойдем осматривать наши апартаменты!
Отбив топором примерзшую дверь, он шагнул через порог хижины. Пахнуло, как из старого погреба, затхлой холодной плесенью.
Хрипун вдруг вздыбил шерсть и с рычаньем попятился назад. А когда увидел, что хозяин продолжает продвигаться в глубь хижины, тявкнул отрывисто, словно предостерегая.
— Ты никак трусишь, Хрипун? Это тебе не к лицу, варнак сибирский. А-а, да тут кто-то есть! Эй, приятель, спишь, что ли? А где же твои собаки?
Ответом было лишь злобное рычание Хрипуна. Человек сделал еще шаг и тотчас же испуганно попятился назад. На широкой лавке, под маленьким закопченным образком лежал скелет, завернутый в обрывки меха. Череп с прилипшими к скулам клочьями кожи скалил зубы в жуткой улыбке.
«Чей это скелет, — снимая шапку, подумал человек, — индейского воина, траппера, купца — скупщика мехов или миссионера? Впрочем кого же кроме нашего брата-траппера занесет в эту глушь? Ошибся дорогой, проглядел в лесу или в горах примету, оставленную другим звероловом, неосторожно расстрелял попусту заряды — и вот конец».
Он отошел к дверям и задумчиво облокотился о притолоку.
«А может быть, это жертва борьбы двух могущественных врагов, двух компаний, не поделивших богатства дальнего севера, — Российско-Американской и Компании Гудзонова залива. Ни для кого ведь в Аляске не тайна, что два непримиримых врага — Петербург и Лондон — последнее время заняты мыслью вредить один другому, Возбуждать войны между подвластными им племенами индейцев, отнимать друг у друга фактории, завладевать дорогами и волоками. Эта глухая борьба не раз уже переходила в открытые враждебные действия».
— Ведь предупреждали же меня приказчики нашей компании, — пробормотал он, — чтобы я не доверял трапперам Гудзонова залива. Подстрелят из-за угла! Неужели же, — траппер скривил губы в горькой улыбке, — в наш просвещенный девятнадцатый век вернулись куперовские времена, когда короли французские платили гуронам пятьдесят франков за скальп англичанина, а короли английские давали ирокезам вдвое дороже за шевелюру француза?..
Траппер оттолкнулся от притолоки и, не обращая внимания на вой голодных собак, двинулся опять вглубь хижины. Осторожно откинув полуистлевшие меха, пошарил руками.
— Ничего! Ни ружья, ни револьвера, ни даже кинжала. Ясно: убит и ограблен!
Но тут взгляд его упал на продолговатый предмет, торчавший в пазу между бревнами. Дернул его с силой к себе и покачнулся, не встретив сопротивления. Это был деревянный черенок ножа. Лезвие, изъеденное ржавчиной, сломалось от одного прикосновения к ручке и осталось в пазу. Наклонился, чтобы достать его, и увидел какие-то знаки, вырезанные на бревне. Это был четырехконечный крест и цифра:
1816
— Пятьдесят лет, — воскликнул он, — лежит здесь этот мертвец! И пятьдесят лет здесь никто не был. В какую же дыру я попал!.. Да ведь здесь пропадешь, как… швед под Полтавой. Впрочем, что за малодушие! У этого бедняги не было оружия кроме ножа, а у меня дальнобойный шаспо с двумястами патронами, собаки, нарты. Вот только буссоль, буссоль! И где я ее мог потерять?
Он снова склонился над скелетом:
— Но кто же сделал эту короткую и в то же время многоговорящую надпись? Сам ли он, чувствуя уже холод вечности, вырезал для себя эту скромную эпитафию, или же был с ним товарищ? А может тайный враг? Что это, несчастье или преступление?..
Траппер вышел из хижины, забыв закрыть дверь. Но у порога остановился, ошеломленный. Зимнее негреющее солнце красным распаленным шаром поднялось над горизонтом. И при свете его заснеженная земля, белая, сверкающая, казалась девственной, незапятнанной еще пороками и преступлениями людей, такой, какой выбросило ее море на заре времен. Вершины гор, обступивших долину, словно сочились кровью. Особенно одна из них, величественно вскинувшая вершину, похожую на пирамиду, пылала пожаром.
Он стоял, опустив голову. Оттого ли, что зимними утрами мир кажется особенно пустынным и в сердце просыпается темный ужас одиночества, или оттого, что за спиной его улыбался мертвой улыбкой череп, но лицо траппера было печально. Он смотрел не отрываясь на пламеневшую пирамиду далекой горы, а губы его шептали:
— Всегда один! Стоять одному перед несравненным по своей дикой красоте пейзажем — не страшнее ли это одиночной камеры царского равелина? В одиночестве жить, в одиночестве умереть…
II. Гризли с гор.
После суточного бессонного перехода слушать, как потрескивают в костре сосновые шишки, бездумно созерцать, как дымятся промерзшие мокассины — удовольствие громадное. Это удовольствие утраивается, если желудок набит, хотя бы и аладьями из ржаной муки. Но разве можно как следует просмаковать эту полярную сиесту[2], если на руку ложится сначала тяжелая серая лапа, а потом крепкие когти начинают нетерпеливо царапать мех мокассин?
Череп скалил зубы в жуткой улыбке…
— Отстань, Хрипун! Я сам хорошо знаю, что пора ехать. Но я не тронусь отсюда, не похоронив беднягу, что лежит там в хижине. Он пятьдесят лет ждал этого, и грешно было бы ему отказать. Вот оттает под костром земля, зароем его кости, и тогда в путь. Да отвяжись же! Чего вертишься, как бес перед заутреней!
Но Хрипун не успокаивался. Он настораживал то правое, то левое ухо, то оба вместе. Подняв морду, пес тревожно втягивал воздух, собирая черный лакированный нос в тысячи мельчайших складок. Беспокойство вожака передалось всей стае. Малемуты выбрались из снежных нор и, подняв уши, выжидательно уставились в одну точку.
— Эй, зверье! — крикнул траппер. — Какая муха вас укусила?
В этот миг сука Стрелка, нервная и злая, первая ринулась от костра, а за ней и остальные собаки.
— Назад! Стрелка! Казбек! Царь! Назад! — бесновался траппер.
Но какой-то могучий инстинкт, более сильный, чем страх перед человеком, увлекал вперед стаю. Тогда вмешался в дело Хрипун. С хриплым простуженным лаем он метнулся вперед и в два прыжка обогнал свору. Затем — удар грудью, лязг клыков, и стая, поджав хвосты, вернулась к костру.
— Спасибо, приятель! Чорт знает, что я стал бы делать без тебя с этой арестантской ротой. Ну, а теперь мы вдвоем посмотрим, что там такое случилось. Идем!
Человек и собака отошли с полкилометра от костра и остановились под уродливой карликовой сосной. Так как траппер оказался против солнца, то вначале кроме блеска снега ничего не видел. Лишь приставив руку козырьком ко лбу, разглядел громадного светлобурого зверя, выскочившего из ближайшей поросли. Человек ясно видел и его бочонкообразное туловище, и шаткие лапы, и маленькую лобастую голову. Зверь передвигался длинными прыжками, похожими на галоп лошади. В зубах он тащил что-то мохнатое, повидимому детеныша.
— Вот так штука! Гризли!.. — воскликнул траппер. — Медведица, да еще с детенышем. Какой дурак поднял ее не во-время из берлоги? Она теперь зла как ведьма.
Хрипун не выдержал и с заливистым полулаем-полувоем выбросился вперед. Медведица круто остановилась, осев сразбега на задние лапы. Положила на снег детеныша и скорее удивленно чем злобно поглядела на неизвестно откуда появившегося пса. Затем оскалила пасть и двинулась в наступление. Но Хрипун сам уже напал на нее. Серой молнией метался он вокруг зверя, нападая с боков и с тылу. Медведица едва успевала изгибать шею, стараясь уследить за проворным врагом. Наконец, убедившись, что одними зубами от собаки не отбиться, она встала на дыбы, намереваясь пустить в ход главное свое оружие — когти. Этого только и ждал человек.
— Хрипун, назад! — крикнул он.
Медведица, заметив нового врага, стоявшего в полусотне шагов, минуту в нерешительности топталась на месте, затем со злобным пыхтением заковыляла к человеку. Сбросив рукавицу, траппер приложился и спустил курок. Звук выстрела прокатился от глетчера до глетчера. С веток сосны упал снег и долго стоял в воздухе сияющей изумрудной пылью. Медведица с глухим воплем рухнула на передние лапы, затем повалилась набок. Но падая, она одним конвульсивным взмахом лапы успела вырвать бок у Стрелки, выскочившей из кустов. А затем вся стая малемутов, ждавшая где-то за кустом исхода боя, накинулась на побежденного врага. Траппер бросился в свалку. Его кнут из оленьих ремней опоясывал туловища собак.
— Вот тебе, Казбек! Это тебе, Бомба! А тебе, Царь, два удара, потому что ты подлее и трусливее всех!
Когда стая, скуля, разбежалась, траппер подошел к убитой медведице.
— Смотри, Хрипун, это гризли, близкий родственник нашего костромского косолапого «мишки». Но это горный гризли, — видишь, передние лапы у него вдвое короче задних. Это он-то и прокладывает нам тропинки в горных лесах. Я сам видел в Скалистых горах Британской Колумбии, как голодными зимами они, не залезая в берлоги, целыми полчищами спускались в долины подкормиться. А взгляни-ка на эти штучки, — он приподнял лапу зверя с распустившимся веером сильно изогнутых когтей. — Ведь это настоящие кинжалы! Каждый из них длиной в мой палец. Да ты не смотришь. Эй, старик, что это ты делаешь? Никак в приемные отцы набиваешься?
Хрипун, растопырившись над медвежонком, старательно облизывал ему морду. Траппер подошел ближе и вдруг, испуганно вцепившись Хрипуну в загривок, оттащил его в сторону.
— Стой, дружище! Этак, войдя во вкус, ты и нос ему откусишь.
То, что он издали принял за медвежонка, вблизи оказалось индейским ребенком, заботливо запеленатым в меха. Бронзовое личико с карими изумленными глазками чуть-чуть выглядывало из-за оборки мехов. Лицо малыша для предохранения от мороза было намазано жиром. Его-то и слизывал с таким аппетитом Хрипун.
Человек бросился в свалку…
Подняв ребенка, траппер положил его на сгиб левой руки, а правой почесал под шапкой затылок:
— Хрипун, мы с тобой вляпались в грязную историю. Видимо придется нам превратиться в передвижной воспитательный дом… Хотя нет. Слышишь? Будь я проклят, если это не приближаются родители, ищущие свое чадо.
Где-то близко, за снежными холмами раздался лай сначала одной собаки, потом другой, третьей…
III. Встреча с «Бешеными».
Траппер не без тревоги подсчитывал маленькие черные точки, сползавшие с дальнего бугра. Вскоре можно было разглядеть с десяток индейцев, бежавших на лыжах мелкой рысцой. Такой бережливой рысцой краснокожие проходят без привалов расстояния, удивляющие белых. Вслед за передовыми охотниками с холма спустились нарты, запряженные по-индейски: сначала вожак, потом веером все остальные собаки. Вот уже слышны и гортанные крики погонщиков:
— Эгай-гайя!..
— Смотри, Хрипун, какие у них длинные меховые рукавицы. Выше локтя. Честное слово, это очень похоже на митенки моей тетушки, которые она надевала, отправляясь на бал в Благородное собрание. Но шутки в сторону, что же это за племя?..
За километр до одинокого траппера индейцы переменили рысь на медленный важный шаг. Белый внимательно их разглядывал. Приближавшихся воинов нельзя было назвать краснокожими в полном смысле этого слова. У них была желтооливковая кожа, угловатой формы лицо, крепкие челюсти, выпуклые дуги бровей и орлиный нос.
— Это не аляскинские поморы и не алеуты. Те плосколицые, — пробормотал траппер. — А коли так, тем хуже для меня. Повидимому, это «независимые».
Индейцы были уже на расстоянии нескольких метров. Теперь белый разглядел, что лица их были раскрашены, а краска покрыта толстым слоем жира, испещренного блестками слюды.
— Тэнанкучины! — вскрикнул с тревогой траппер. — Бешеные тэнанкучины!
Приближавшиеся индейцы были действительно тэнанкучины, что значит «люди с реки Тэнана»[3]. Это было могучее, воинственное и действительно независимое племя, не испытавшее еще на себе «русской ласки». Они не были приведены к присяге на верность далекому, таинственному «белому царю». Поэтому все попытки собрать с них «ясак» (дань) соболями оканчивались неудачей. Они уходили в дикие, недоступные еще дебри родного Юкона, а когда служащие Российско-Американской компании находили их и там, тэнанкучины угощали ретивых компанейщиков пулями и стрелами. Тэнанкучины упорно не хотели иметь дела с русскими. Их ни разу еще не видели на компанейских постах и факториях. Были слухи, что они меняли свои драгоценные меха на плохие русские ситцы, но только через другие племена.
— Стой! — крикнул траппер, когда индейцы подошли на несколько шагов. И он поднял ружье прикладом кверху. Это для всех аляскинских племен было общепринятым знаком мира.
Индейцы остановились. Белый увидел в их блестящих карих глазах лишь дружелюбие и радость. Из толпы воинов выдвинулся один, высокий и стройный, в красной лисьей шапке. Пояс его был украшен когтями гризли. Это был вождь племени, или «князек», как величали их в казенных русских бумагах. Его ружье — старинная, заряжающаяся с дула кремневка — было также повернуто прикладом кверху. Белый перестал себя чувствовать котенком в своре собак; он понял, что у тэнанкучинов пока нет враждебных намерений.
Князек заговорил первый на том полиглотском[4] наречии, на котором говорило все аляскинское юго-западное побережье.
— Привет тебе, о белый человек! Пусть благость солнца согревает твою голову и тепло его дойдет до твоего сердца. Я рад встрече с великим русским охотником.
Белый ответил князьку в духе той же торжественной индейской риторики:
— Привет и тебе, вождь. Пусть Клуш, великий властитель горных вершин, покровитель охоты и рыбной ловли, будет милостив к тебе. Но разве вождь знает меня? Почему он назвал меня русским охотником?
— Ты русский, — твердо ответил князек. — Ты охотник и скупщик мехов, которого мы давно уже прозвали Черные Ноги.
Первые годы своего пребывания в Аляске траппер носил высокие яловочные сапоги, за которые и получил от туземцев это прозвище. Потом он сменил сапоги на более удобные мокассины, но прозвище так и осталось за ним.
— Я рад, что вождь знает меня, — ответил русский. — Но я еще не знаю его и не знаю, с какими намерениями он приблизился к моей стоянке.
— Я Красное Облако, — гордо ответил князек, — повелитель всей земли Тэнана и вождь тэнанкучинов, которых вы, русские, называете Бешеными. А ищу я своего сына.
Взглянув на русского, стоявшего с перевернутой винтовкой в одной руке и со спасенным ребенком на другой, он добавил чуть дрогнувшим голосом:
— И я вижу, что ты спас его.
Русский молча протянул ему ребенка. Князек уже спокойно и равнодушно, словно это был не родной его сын, а какая-нибудь вещь, передал малютку стоявшему рядом индейцу. Затем, вытащив из-за пазухи затейливо выточенную из какого-то мягкого и удивительно легкого камня трубку, протянул ее белому. Тот набил трубку русским черным мохнатым табаком, сделал несколько затяжек и передал ее вождю. Это была пресловутая «трубка мира».
Когда было покончено и с этой церемонией, князек сказал:
— Мы ненавидим русских. Вид их неприятен нашим глазам. Поэтому мы не приходим в их крепости и не пускаем их в наши стойбища. Но тебя мы знаем давно, уважаем и любим. Ты никогда не обижал индейцев, никогда не обманывал их при расчетах, опоив «русской водой».
Траппер неопределенно гмыкнул. Практика научила его быть осторожным с «независимыми» индейцами. Они умели усыплять бдительность врагов не хуже европейских дипломатов. И чтобы переменить тему разговора, он спросил:
— Скажи мне, вождь, каким образом гризли утащил твоего сына?
— Позавчера, — отвечал Красное Облако, — мы убили медвежонка, что отбился от матери. В шкуру его я завернул моего сына. А вчера, когда мы готовили себе стоянку, наши собаки вдруг залаяли, вырвались из упряжи и бросились на гризли; зверь словно из-под земли вырос. Но медведица успела все-таки схватить шкуру своего детеныша, а в нее был завернут мой сын. Мы сейчас же встали на лыжи и кинулись в погоню за зверем. Стемнело, и мы сбились со следа, и если бы не ты, я бы не нашел своего сына. Что ты хочешь от меня в награду, Черные Ноги?
Русский оживился:
— Я буду благодарен тебе, вождь, если ты скажешь, где я нахожусь. Я шел из Миссии[5], но буран сбил меня с пути.
— Ты стоишь на берегу Читтинии, — ответил князек.
— На берегу Читтинии? — удивился траппер. — Я не знаю такой реки.
Красное Облако напряженно сдвинул брови, видимо что-то припоминая.
— Вспомнил! — радостно сказал он. — Люди из Нувуки[6] называют еще эту реку Купер-ривер.
— Медная река! — вскрикнул русский. В его голосе слышались одновременно и радость и испуг. — Так значит я в стране медновцев?
— Да, — ответил князек. — Это страна трусливых псов атна-танов.
Атна-таны, или медновцы, как называли их русские, жили по реке Медной вплоть до Воскресенского залива. Племя это пользовалось дурной славой. Присягнувшие на верность царю, часто посещаемые русскими и поэтому развратившиеся, медновцы с ястребиной жадностью бросались на любую добычу. Подстрелить белого из-за дырявого одеяла было для них пустяковым делом. Поэтому и радовался русский, что случай уберег его от встречи с этими мародерами Аляски.
Указывая на далекую величественную гору с ледяной пирамидальной вершиной, траппер спросил:
— А это гора св. Ильи?
— Да, или Большая гора, как зовем ее мы, индейцы, — ответил вождь.
— Так значит я еще на русской территории. Ведь Большая гора — гигантский природный пограничный столб между Аляской и Канадой. А это что за горы? — Он указал на изборожденные глетчерами хребты, примкнувшие предгорьями к вершине св. Ильи.
— Чугач! — лаконично ответил Красное Облако.
— Чугачские Альпы! — радостно воскликнул русский, вспоминая, что вулканическая цепь Чугача амфитеатром опоясывает залив Короля Вильяма. — Спасибо тебе, вождь. Теперь я знаю, где нахожусь, и легко найду отсюда дорогу к русским факториям.
Красное Облако покачал головой:
— Нет, о Черные Ноги. Я хочу отблагодарить тебя. Поэтому подвяжи покрепче мокассины, надень лыжи и направь твоих собак по следу моих. В наших угодьях много зверя. Мы будем вместе охотиться. А потом я продам тебе всю пушнину, заготовленную охотниками моего племени.
Русский колебался лишь мгновение. Не только отказ, но даже длительное раздумье могло бы оскорбить гордых индейцев. Кроме того заговорило и самолюбие: проникнуть в недосягаемые места, завязать торговлю с независимыми тэнанкучинами, — да ведь об этом будут говорить на всех постах и факториях Компании!
— Хорошо, вождь, — ответил русский. — Мои собаки пойдут по следу твоих. Но не раньше, чем мы похороним человека, который лежит вон там, в трапперском зимовье.
Лицо князька, до сих пор бесстрастное, вдруг изменилось; на нем отразился испуг и злоба зверя, попавшегося в капкан.
— Человек в той хижине? — хрипло выкрикнул он, надвигаясь на русского. — Кто он? Охотник, купец, белый, индеец? Как он умер? Кто его убил?..
— Ты, вождь, словно женщина спрашиваешь сразу о нескольких вещах, — невольно пятясь назад, ответил русский. — Так не разговаривают мужчины и воины. Но я не могу ответить ни на один из твоих вопросов, потому что после смерти этого человека прошло пятьдесять ледоходов.
«Привет тебе, о белый человек!..»
Красное Облако сразу успокоился.
— Спеши, о Черные Ноги, — бесстрастно сказал он отходя. — Мои воины помогут тебе поднять землю для мертвеца.
* * *
Когда на месте недавнего костра вырос могильный холм, солнце, едва поднявшееся над ближними хребтами, снова начало опускаться. Словно стыдясь своего бессилия, оно стремительно скатилось за горизонт, и на землю камнем упала полярная ночь.
Русский опустился перед могилой на колени.
На небе трепетала зеленоватая пелена сполоха (северное сияние). Она медленно гасла, таяла, а ниже ее начала вырисовываться яркая дуга, запылавшая вдруг зеленым, желтым, красным огнями. Дуга начала выбрасывать световые столбы. Вспышки эти полосовали небосклон от горизонта до зенита.
Индейцы громко бормотали заклинания в честь Киольи — духа северного сияния. А русскому казалось, что они молятся за безвестного мертвеца.
Пламя сияния металось по небу в неистовом разгуле. Теперь оно походило на хаотический костер, лижущий огненными языками дно гигантского небесного котла. И вдруг сразу, как свеча, на которую дунули, сияние погасло.
Русский встал с колен и подошел к своей упряжке. Хрипун ткнулся ему в ноги. Обхватив его голову, траппер шепнул собаке на ухо:
— Дружище, а ведь я так и не понял, гости мы или пленники…
Затем, подняв кнут, щелкнул громко, словно выстрелил. Собаки легли в постромки, выгорбив спины и глубоко врезаясь когтями в твердый снег. Дружно рванули и потащили, подвывая, взлаивая на бегу от усердия…
IV. На Трубочной скале.
— Чье лицо высечено на желтом кружке? — спросил Красное Облако.
Князек тэнанкучинов и русский траппер Черные Ноги сидели на вершине Трубочной скалы, называвшейся так потому, что из нее выламывали камни для изготовления «трубок мира». Долина верхней Тэнаны уходила в даль волнистой равниной, покрытой ковром зелени. В нескольких верстах от Трубочной скалы свернул на восток Юкон, мрачный, черно-желтый, с унылыми берегами, поросшими ивняком, березой и дремучим сосновым бором. Он шел в берегах тяжело и плавно, как поток густого масла.
Близ устья Тэнаны, где Юкон разлился на добрых две версты, виднелось летнее стойбище тэнанкучинов — сотня бревенчатых хижин и вигвамов. Чуть дальше на берегу Юкона острый глаз траппера различал решетки для сушки рыбы и челноки, укрепленные на высоких шестах.
Арктическая полночь затопила долину солнечными лучами. Круглые сутки стояло солнце в небе, словно его привинтили к небосводу. Русскому нравились эти бесконечные июльские дни. Он любил и вольный крик гусей в полдень, и бодрящий холодок ясного утра, когда все предметы выступают четко и рельефно, как в стереоскопе.
Вождь, не получив ответа на свой вопрос, удивленно посмотрел на русского и улыбнулся понимающе. Черные Ноги, упершись подбородком в ладони, смотрел отсутствующим взглядом на блестящий простор великой северной реки. Но он не видел черной глади Юкона. Он смотрел в прошлое, перебирая четки воспоминаний.
Вот уже скоро полгода, как он живет среди тэнанкучинов. Не пора ли вернуться к русским? Пожалуй, Компания уже вычеркнула его из списков своих служащих. Все эти шесть месяцев почти целиком прошли в охоте, плечом к плечу с Красным Облаком. Сезон был на удивление удачный. В хижине русского грудами были свалены меха — аляскинское «пушистое золото».
Красное Облако и Черные Ноги с десятком храбрейших охотников племени пробирались даже за деревню Анвик на Нижнем Юконе, которая служит расовой границей между индейцами и эскимосами Аляски: и та и другая сторона в незапамятные времена торжественно поклялись не переходить во время охоты этой межи. А однажды, увлекшись погоней за стадом карибу (оленей), они поднялись вверх по Койокуку (приток Юкона) и проникли в суровую арктическую страну. Но выдержав побоище с койокуками, злейшими врагами тэнанкучинов, они вынуждены были снова спуститься к Юкону.
Большею же частью они охотились в среднем течении Юкона, на безлюдных снежных равнинах. Пять лет назад племя юкон-кучинов, жившее здесь, почти целиком вымерло от эпидемии скарлатины, занесенной к ним русским миссионером.
Трапперу вспомнилась ночевка в мертвой деревне Нулато. Здесь, спасаясь от страшной болезни, укрылись человек двадцать последних юкон-кучинов. Ночью на них напали воины враждебного племени и передушили юкон-кучинов в их хижинах дымом. Так исчез с лица земли целый народец.
Благодаря этим охотничьим походам Черные Ноги познакомился с центром Аляски, известным лишь в общих чертах по рассказам (в большинстве лживым) скупщиков пушнины и охотников Компании, никогда не бывавших здесь. Обширные земли эти также принадлежали «белому царю», но, к счастью, племена, их населявшие, не видели еще ни одного царского чиновника. Даже на правительственных картах этот район изображался белым пятном.
Тэнанкучины ревниво охраняли свои границы, и почти все попытки русских проникнуть на среднее течение Юкона оканчивались неудачей.
Черные Ноги с гордостью думал, что он один из первых русских, посетивших эти места. С удивлением и любопытством наблюдал он жизнь тэнанкучинов, записывая для памяти все достойное внимания.
Оставшиеся в стороне от торговых сношений с русскими и канадцами, тэнанкучины, или Бешеные, как прозвали их за исступленные религиозные пляски, сохранили первобытный образ жизни и обычаи. Они татуировали лица, а волосы украшали перьями в виде высокой короны. Над этой сложной прической возвышался пучок волос, обычно вымазанных глиной. В носовой хрящ они продевали костяную или каменную палочку. Кожаный летом и меховой зимой костюм их украшался по шву бахромой и стеклянными бусами, вымененными через посредников-индейцев на постах Российско-Американской компании.
Черные Ноги вскоре пришел к убеждению, что тэнанкучины почти единственное племя Аляски, сохранившееся в том первобытном виде, в каком краснокожие явились русским в эпоху открытия и завоевания Аляскинского материка.
У тэнанкучинов например сохранился еще древний обычай, напоминающий самосожжение индусских вдов. В конце зимы Черные Ноги был свидетелем одной такой сцены. Умер вождь рода тэнан-кучинов-Лягушек, Железная Жаба. Тело вождя положили на большой костер из смолистого хвороста. Когда хворост разгорелся, жена умершего, молодая сквау, спокойно взошла на костер и обняла труп мужа. На ее голове вспыхнули распущенные густые волосы. Черные Ноги вскрикнул и невольно бросился на помощь женщине. Но воины, окружавшие костер, грубо отбросили его назад. Русский с ужасом увидел, как женщина протянула руку в бушующее пламя и дотронулась ладонью до груди мужа. Только после этого, под восторженные крики всего племени, она сошла с костра. Женщины, подбежав к ней, сорвали клочья пылающей одежды и, набросив ей на голову оленью шкуру, потушили тлеющие волосы.
Русскому нравился образ правления тэнанкучинов. Черные Ноги поразился, увидев, как много общего было между социальным строем дикарей Аляски и древней республикой — Великим Новгородом. Здесь также собиралось своеобразное вече, а вождь играл роль посадника и зачастую даже не передавал сыну свою власть. Вождь избирался всем племенем, но племя же и могло сместить его в любое время. Власть вождя во время войны или охоты была неограниченной, но объявить войну без согласия совета старейших он не мог. Во всех своих поступках вождь должен был считаться с волей народа.
— Кто высечен на этом кружке? — упрямо повторил свой вопрос Красное Облако.
Русский поднял голову. На пергаментной ладони князька лежал золотой русский империал. Усатая физиономия Николая Первого и вызвала вопрос вождя.
— Это, — сказал русский, — человек, которого вы называете «великий белый вождь».
— О-о!.. — в удивлении протянул Красное Облако. — Так значит это и есть тот вождь из Пити-бури, для которого люди со светлыми пуговицами хотели собрать с моих предков дань.
— Да, это он. Я уже рассказывал тебе о нем.
— Ты говорил, что он твой враг, — задумчиво сказал князек. — Почему он твой враг?
Русскому не хотелось разговаривать. Лежать бы вот так, недвижно, отдавшись лениво сладостному чувству. Но такой вопрос заслуживал ответа.
— Видишь ли, вождь, — начал траппер, — это долго и трудно объяснять, но я все-таки попробую. Вот твой народ — тэнанкучины делится на роды: Лягушек, Гусей, Сов, Акул и Медведей. У каждого рода есть свой вождь. Но ты, повелитель всей земли Тэнана, любому из этих вождей, если они взбунтуются, можешь сделать конец.
Русский красноречиво провел ребром ладони себе по горлу.
— Так? Значит, твоя власть велика. Но ты знаешь, что в Ситхе[7] живет большой русский вождь, который и над тобой вождь и который и тебе, если захочет, может сделать конец.
Мрачное выражение губ Красного Облака показало без слов, что такое желание вождя из Ситхи будет стоить ему не дешево.
— А вождь из Пити-бури, — продолжал русский, — если захочет, то очень легко может сделать конец и вождю из Ситхи. Теперь ты понимаешь, как велика власть вождя из Пити-бури? Ну, так знай, что я и мои друзья мы хотели сделать и ему конец. Нам очень хотелось отправить его на охоту в вечные поля.
Черные Ноги бросился на помощь женщине…
Видно было, что вождь до крайности поражен. Он долго не находил слов, а затем пробормотал почти с благоговением:
— Поистине ты великий воин! Но как звали твоих друзей, и за что вы хотели сделать конец вождю из Пити-бури?
— Они носили разные имена, но все мы вообще назывались по имени нашего главного начальника петрашевцами[8].
Красное Облако беспомощно пошевелил губами, силясь повторить мудреное русское слово.
— За что конец? — продолжал траппер. — За то, что он плохо управлял своим племенем. Скажи, вождь, когда ты возвращаешься с охоты со своими воинами и когда каждый из них приносит домой, положим, по три шкурки бобра, разве ты берешь в свою пользу из них две шкурки, оставляя им по одной?
Видно было, что князек не сразу понял такой нелепый вопрос. Лишь обдумав его, он ответил;
— Конечно, нет! Я владею только той добычей, которую сам настрелял.
— Ну, вот видишь! — воскликнул русский. — А вожди из Пити-бури грабят свой народ, забирают две трети добычи для себя и для своих близких.
— А он жив и сейчас, этот злой вождь? — указал на монету князек.
— Нет, он умер, — ответил траппер. — Но сейчас вождем в Пити-бури сидит его сын. И потому-то, боясь мести сына за отца, я не могу вернуться на родину. Теперешний вождь русских уже стар, но свиреп и зол.
— Мы убиваем своих стариков, — деловито сказал Красное Облако, — для того чтобы уничтожить лишние рты. Они сами просят об этом. Им дают выпить отвар чилибухи[9], затем перерезают горло и бросают труп собакам. А собак потом съедаем мы сами. Видишь, как хорошо? Все довольны: и старики, и собаки, и мы.
Снова замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Индеец внимательно рассматривал изображение «злого вождя». А русский, зачарованный тишиной долины, спокойным величием реки, снова далеко унесся мыслями.
V. Огненные люди.
— Скажи, Черные ноги, — снова заговорил князек, — почему вы, русские, и все другие белые так любите эти желтые тяжелые кружочки? — и он указал на монету.
Траппер удивленно поднял голову. Его поразили мрачные интонации в голосе вождя. Лицо Красного Облака было угрюмо. Он почти враждебно смотрел на русского.
— Да потому, — отвечал траппер, — что у нас тот, кто имеет таких штучек больше чем другие, считается самым могущественным. На моей родине тебе дадут за нее больше, чем здесь за лисью шкуру.
По лицу индейца видно было, что он не может понять, как это такая маленькая плоская кругляшка может стоить дороже целой лисы.
— Белые люди — странные люди, — задумчиво сказал князек. — У вас плохие порядки, злые вожди, а вы, вместо того чтобы бросить злых вождей собакам, бежите к нам, в наши земли. И что вы спрашиваете в первую очередь? — Да вот этот желтый камень, который вы называете золотом. Так было и тогда, когда русские первый раз пришли к нам. Хочешь, я расскажу тебе, как это было? Я слышал это от наших стариков.
— Очень давно это было, не сосчитать, сколько раз с того времени уносил Юкон лед в Туманное озеро[10]. Но говорят, что перед тем как притти русским, он три лета не сбрасывал лед. Поэтому лососи не могли подниматься вверх по реке на свои нересталища, и люди голодали. Были и другие худые знамения. Белые медведи спустились почти до Юкона, а этого не помнили самые древние старики всех племен. Стада карибу с перепуга ушли в горы, и племена остались совсем без пищи. Собаки исхудали и выли все ночи напролет, выли до тех пор, пока их не съели. Тогда люди стали есть «хлеб карибу», или ягель, как зовете его вы, а также лишай-кругоноску. Дети плакали, в грудях женщин не было молока, даже воины валились с ног.
— И вот, когда наши предки совсем обессилели от голода, пришли люди с белой кожей, русские. Они приплыли на больших лодках откуда-то из неведомых далей Туманного озера. Теперь-то мы знаем, что они приплыли из Сибири. Люди красной кожи прозвали их Огненными людьми, потому что они умели с огнем и громом стрелять из длинных трубок.
Траппер понял, что вождь рассказывает о сибирских казаках-конквистадорах (завоевателях), которых приманила «мягкая рухлядь» — аляскинская пушнина, сулившая легкое и быстрое обогащение.
— Огненные люди сперва были ласковы с краснокожими, — продолжал вождь. — Первые повстречались с русскими малемуты Нижнего Юкона. Огненные люди осыпали подарками малемутов, а те, — о глупцы! — даже помогли им строить острог. Но лишь только выросли стены острога, — ты знаешь его, это русский Микель[11], — малемуты на своей шкуре почувствовали, как тяжела русская ласка. Огненные люди начали нападать на соседние стойбища, грабили все, что им попадалось на глаза. Они отнимали у мужей жен, у отцов дочерей, а сыновей заставляли работать на себя. Они забирали сани, собак, собольи меха, даже запасы еды из амбаров. А тех, кого захватывали с оружием в руках, русские избивали палками и плетками. Мало того — некоторых раздели донага, обмазали вонючей рыбой и бросили живьем на съедение собакам. Скажи мне, Черные Ноги, почему так злы и беспощадны были твои предки?
Траппер пожал плечами. Как объяснить индейцу, что особенность подонков белой расы — нечеловеческая жестокость и постоянная готовность притеснять слабейших? Ведь первые русские неофициальные экспедиции на американский материк в большинстве состояли из бродяг с очень темным прошлым. Это понятно: как раз такие люди и бывают более всего пригодны для подобного рода сомнительных предприятий. В первой половине XVIII века из Охотска ежегодно отплывали десятки судов; то сибирские звероловы-промышленники, купцы и просто беглые каторжане («утеклецы») направлялись «на Аляскинскую землю, называемую Американской, а также на знаемые и незнаемые острова».
Славные имена русских путешественников («землепроходцев») — сержанта Нижнекамчатской команды Емельяна Власова, штурмана Наводчикова, русского метиса Колмакова, промышленников Трапезникова, Глотова, Толстых не запятнаны бесчестными поступками. Этих «охотников за новыми землями», людей с несгибающейся волей, толкала в неведомую даль жажда открытий, бескорыстная любознательность исследователя, а может быть, и вечная мужицкая тоска по «вольной земле». Но команды их судов были набраны по большей части с борка да с сосенки из сибирского мелкого купечества, казаков, а зачастую из отбывших наказание преступников. И если упомянутые выше следопыты, открывшие в конце концов весь северо-западный берег Америки, ставили себе задачею «производство пушного промысла и всяких поисков и заведение добровольного торга с туземцами», то налетевшая вместе с ним саранча преследовала одну цель — грабеж беззащитных «язычников».
Чувствуя, что щеки его горят от стыда, русский ответил:
— То, вождь, были плохие люди, с сердцем черным от алчности. Плохие люди есть всюду, и среди белых и среди краснокожих.
— Неправда! — строго сказал князек. — Нас грабили и грабят люди с блестящими пуговицами, на которых изображен орел. А ведь эти люди — ваши начальники и слуги вашего вождя из Пити-бури.
Удар был меткий. Действительно, первые казенные экспедиции, направившиеся в Аляску «утверждать власть ее величества[12] во всех вновь открытых пунктах», начали это утверждение с грабежей и убийств. Так, экспедиция капитана Креницына и Левашова устроила избиение кротких алеутов. А Шелохов за такие «бои» с непокорными «язычниками», вооруженными лишь стрелами да дубинами, получает от царицы оружие «за храбрость» и золотую медаль. Люди со «светлыми пуговицами» оставили плохую память среди туземцев Аляски. Но Черные Ноги и не хотел их защищать. Поэтому он ответил коротко:
— Я же говорил тебе, Красное Облако, что вождь из Пити-бури и его слуги плохие люди.
— И ты знаешь, — продолжал князек, — чего больше всего искали Огненные люди? — Вот это самое золото. А за что они избивали робких малемутов? За то, что те будто бы скрывали от них места, где растет золото. Но малемуты трусливы, как… вон те снежные вьюрки.
Князек указал на стаи аляскинских воробьев, облепивших «бабьи головы», деревянистые растения с растрепанной верхушкой.
— Малемуты лишь выли по-собачьи, — продолжал он, — когда их стегал кнут русских. Не так делали настоящие воины. Как-то раз зимой три воина нашего племени, среди которых был и мой дед, приехали в русский острог. Русский начальник, что ходил со светлыми пуговицами и длинным ножом на боку, избил собачьим кнутом моего деда за то, что тот не уступил ему дороги. Русских было много, у них были огненные трубки, поэтому наши воины молча уехали. А ночью большой русский острог запылал ярким пламенем и сгорел дотла.
Красное Облако помолчал, видимо, сдерживая закипавшее волнение. Черные Ноги чувствовал, что вождю не легко вспоминать прошлое.
— Тогда же наши старики, — снова заговорил вождь, — решили на совете не иметь никаких дел с Огненными людьми. Но русские сами пришли к нам. Первым приехал белый человек, торговец молитвами, с волосами длинными, как у наших женщин. Он уговаривал наших людей принять своего бога, мертвого человека, прибитого к двум перекрещенным палкам, и обещал за это наградить племя разноцветными русскими тканями. Но когда наши воины узнали от него, что если они примут веру русских, то после смерти уйдут на небо, куда отправляются и умершие Огненные люди, все племя поголовно отказалось уверовать в мертвого человека. Тэнанкучины хотели отправиться вместо неба под землю, к своим предкам. А на небе разве они ужились бы с русскими? Огненные люди и там стали бы их бить собачьими кнутами! А потом длинноволосый русский захотел сжечь наши тотемы — он думал, что это наши боги. Тогда мы прогнали его. Он уехал, злобно ругаясь.
Черные Ноги невольно улыбнулся, вообразив бешенство неудачливого миссионера.
На опушке небольшой сосновой рощицы чернел «лес тотэмов»…
— После длинноволосого, — продолжал Красное Облако, — приехали к нам русские купцы. Они хотели под видом торговли оплести нас своими сетями. Но наши старики быстро разгадали ловушку русских. Купцы требовали две собольих шкурки за один русский нож, а если кто во-время не отдаст долга, тот должен отдать уже вдвое больше. Так что два соболя превращались под конец в десять, двенадцать и больше соболей, и нашим охотникам пришлось бы всю жизнь расплачиваться за один русский нож. Тогда мои предки прогнали и купцов и пригрозили, что если их упряжки снова покажутся около стойбищ тэнанкучинов, то их встретит дождь стрел. Купцы уехали, тоже бранясь и угрожая. А сейчас же после них пришли к нам и сборщики дани. Их было только четверо: вождь с ясными пуговицами и длинным ножом на боку и три воина с огненными трубками. И все-таки они не побоялись выступить перед всем нашим племенем и так дерзко потребовали дань, что мы сразу поняли: они принадлежат к очень могущественному народу. Они говорили, что посланы великим белым вождем, которому принадлежит и та земля, на которой мы живем, а потому мы и должны платить ему ясак соболями или золотом. Тэнанкучины не поверили, что они живут на чужой земле, а потому отказались платить дань. Русские уехали, бранились и грозили, что вернутся с большим войском и силою заставят тэнанкучинов платить дань «белому царю». Наши воины только смеялись в ответ…
Красное Облако вдруг резко оборвал свой рассказ.
VI. Огнем и мечом.
— То, что я сейчас расскажу тебе, — не скрывая своего волнения, снова заговорил вождь, — я слышал от своего отца. Он в то время впервые надел на голову перья воина и раскрасил лицо боевыми красками. Вы, русские, называете нашу страну Аляской, а мы зовем ее Ала-еш, но и то и другое означает «большая земля». Тэнанкучины думали, что в нашей стране хватит места и нам и Огненным людям и мы будем жить без ссор и войн. Но разве знали мы тогда, что русских больше, чем икры в речке весной и что они непоседливы, воинственны и злопамятны? Правда долгое время они не трогали тэнанкучинов, хотя со всех сторон и приходили к нам черные вести о новых и новых их победах. Им покорились уже кенайцы, якутаты, живущие по берегам залива Якутат, ингалиты, или «непонятные», «косоглазые» Среднего Юкона, коча-кучины, или «люди низовья», гун-кучины, или «люди лесов», воры атна-таны и даже свирепые колоши. Лишь одни тэнанкучины не признавали власти русских. Все остальные племена поклялись в верности «белому царю», согласились платить ясак и подчинились новым правилам и обычаям белых пришельцев. Так, для того чтобы удушить старика по его же собственному желанию, надо было спрашивать позволения у русских. И зачем это русские вмешиваются в наши древние обычаи?
— Но это было еще не все. Русские отравляли индейцев «огненной водой», выманивали или попросту отнимали меха и били, били без конца, когда они отказывались показать, где растет золото. Но люди с красной кожей и вправду этого не знали.
— Кругом лилась кровь и слезы краснокожих, а мы, тэнанкучины, радовались, думая, что белая гроза миновала нас. Мы не знали, — горько улыбнулся князек, — что русские уже стягивали вокруг нашего племени петлю, окружая нас, как волчья стая окружает загнанного оленя. И вдруг в одну зимнюю ночь к вождю племени прибежал страшный вестник. На соседнее стойбище тэнанкучинов напали русские, сожгли хижины, перебили всех воинов, не пощадили даже мальчиков, разграбили запасы пищи, мехов, забрали собак. К утру можно было ждать их и в нашем стойбище. Не успел вестник все это сказать, как свалился мертвым. На нем нашли несколько ран от огненных трубок. Старики собрались на совет. Некоторые (нашлись и среди тэнанкучинов трусы!) предлагали покориться русским. «Что мы можем сделать с нашим жалким оружием против огненных трубок русских?» — говорили они.
— Ты ведь знаешь наше оружие? — обратился вождь к русскому. — Наши луки с короткими стрелами, медные ножи, костяные копья и деревянные дубины для ручного боя — что они перед оружием русских? Правда, наконечники стрел мы отравляем порошком из сушеного корня железняка, но русские прижигают раны раскаленным железом, смазывают их каким-то лекарством, и яд для них уже не опасен.
— Долго ломали голову старики. Как защититься от страшного врага? Не сложить же оружие и ясак к ногам русских! Тогда мой отец встал и сказал: «В открытом бою Огненные люди перебьют нас, как мы бьем весной москитов. Надо пойти на хитрость». И он рассказал совету, что он придумал. Совет решил сделать так, как говорил отец.
— Рано утром, когда луна еще не ушла с неба в подземный мир, прибыли к стойбищу незванные гости. Еще издалека услышали тэнанкучины лай их собак и скрип снега под их нартами, словно шум метели. Русских воинов было очень много. Они называли себя казаками. Все они были вооружены длинными ножами и огненными трубками. А еще одну очень большую огненную трубку везли на санях собаки. Эту трубку казаки положили на деревянную подставку и выстрелили по нашему стойбищу. Что-то со страшным шумом пронеслось над хижинами и с грохотом упало на землю. Поднялся кверху столб огня, дыма, полетели комья снега. Тогда наши воины вышли навстречу Огненным людям. В руках они держали луки с порванными в знак мира тетивами. Русские перестали стрелять и вошли в стойбище. Вожди племени покорно сложили к ногам казаков свое почетное оружие и груды мехов. Но главный русский вождь, что носил под шубой на плечах золотые дощечки, сказал нашим вождям, что только тогда простит тэнанкучинов, когда они уплатят «белому царю» ясак золотом. Вожди обещали дать золото, много золота, груды этого проклятого золота и пригласили казаков на пир.
— Женщины наварили и нажарили разных кушаний для гостей. На торжественный пир в кашгу, хижину совета, собрались все казаки, все воины племени и даже женщины и дети. Русские сперва заставили тэнанкучинов попробовать кушанья, боялись, как бы мы их не отравили, а потом, как голодные волки, бросились на горячую еду. И вот, когда казаки опьянели от сытной еды и «огненной воды», женщины и дети начали потихоньку уходить из кашги. А потом воины набросились на Огненных людей. Но недаром прозвали мы их «белой грозой». Они защищались с яростью огня, а их длинные ножи сверкали молниями и перерубали наши копья словно стебли травы. Вожди казаков стреляли из коротких огненных трубок, с которыми они не расстаются даже когда ложатся спать. Стоны, крики, стук оружия наполняли кашгу. Когда вождь нашего племени увидал, что казаки за каждого своего убитого кладут на землю четырех тэнанкучинов, он подал условленный знак. Воины быстро выбежали из кашги, закрыли двери, набросали в хижину горящие головни, закрыли дымоходы… Казаки сгорели живьем.
Князек замолчал, усилием воли гася недобрый огонек, загоревшийся в его темных глазах. А русский воображал жуткую расправу краснокожих с белыми завоевателями. Рассказанное Красным Облаком не было для него новостью. Он уже много раз слышал о тех жестокостях, какие творили обе враждующие стороны. Озлобление достигло наивысшей степени во время недавно потушенного всеобщего восстания индейских племен Аляски против русских. В дни этой войны был случай, когда индейцы пожертвовали собственными женами и детьми, чтобы отомстить русским. Заманив казаков в кашгу на пир, краснокожие, чтобы не возбудить подозрения русских, сожгли их вместе со своими семьями.
— После расправы с казаками, — снова заговорил князек, — мы откочевали сюда, в верховья Тэнаны, потому что боялись мести русских. Эти земли, — Красное Облако обвел широким жестом цветущую равнину, — недавно стали нашими. А древние наши угодья — те места, где мы с тобой встретились. Помнишь старое зимовье, вершину Большой горы? Теперь там охотятся атна-таны. Отрядам казаков не добраться до нас. При мне только один русский пересек землю тэнанкучинов. Но это не был ни торговец, ни разведчик. Его мы пропустили с миром, даже продали ему несколько собак. Это было четыре ледохода назад.
Черные Ноги понял, что князек говорит о русском путешественнике Иване Лукине, который в 1863 году первый поднялся по Юкону до канадской границы.
— А задолго до этого мирного белого приходили еще двое русских. Они пришли искать золото! — внезапно зазвеневшим голосом воскликнул вождь. — Одного из них собственноручно убил мой отец и набил ему рот золотом, тем проклятым золотом, ради которого они убивают, режут, стреляют людей с красной кожей!..
— Что ты говоришь, вождь? — удивленно воскликнул русский. — Золото? Так значит у вас есть золото?
— У нас много золота! — твердо ответил князек, глядя на трапера странным взглядом, и горящим и холодным одновременно. Так холодно сверкает на солнце лед. — У нас очень много золота, хотя и не такого, — указал он на золотой империал, — не круглого и без лица. Но наше золото такое же желтое, тяжелое и блестящее. Мы находим его в виде муки или песка или в виде речной гальки. Вот смотри!
Вождь вытащил из-за пояса аптекарский пузырек, попавший к нему из какой-нибудь русской фактории, опрокинул его содержимое в руку и протянул ее трапперу.
На коричневой ладони лежала кучка золотого песка, вернее, золотого порошка.
Русский ошалело мотнул головой. Какое-то странное подсознательное чутье давно уже говорило ему, что в недрах Большой Земли дремлет самое страшное взрывчатое вещество — золото. Он был уверен, что Аляска, известная теперь лишь своими мехами да рыбосушильнями, прогремит когда-нибудь как «золотое дно». Но он не думал, что и наивный примитивный житель центральной Аляски знает уже цену этого металла.
…Иногда приходилось карабкаться вверх по скалам.
— Но где же ты нашел это золото, о вождь? — спросил после долгого тяжелого молчания траппер. Мимолетная тень какой-то давней заботы проскользнула по лицу князька. Он медленно встал:
— Я скажу тебе, Черные Ноги, где мы находим золото. Ни одному белому я не доверил бы эту тайну. А тебе скажу, я верю тебе! Я расскажу тебе еще много другого. Ты узнаешь тайны, от которых твои глаза цвета неба раскроются широко-широко. Но имей терпение. На все свое время. А сейчас уже поздно, пора спать.
На склоне Трубочной скалы они расстались. Черные Ноги один спустился в долину. Мокассины его тонули в розоватом мху. Глубоко задумавшись, он незаметно добрался до стойбища тэнанкучинов. Треугольные фасады просторных хижин были украшены затейливыми резными фигурками. Посвященный в тайны индейцев мог бы по этим фигуркам узнать всю историю проживающей в хижине семьи. Почти перед каждой хижиной стояло по два деревянных столба, высотою до пятнадцати метров, также украшенных тончайшим кружевом деревянной резьбы. Тут были и животные, и люди, и целые охотничьи сцены, и гирлянды оружия, и даже предметы домашнего обихода. Черные ноги знал уже, что эти столбы — тотэмы — своеобразные гербы, подобные геральдическим знакам европейских аристократов. Один из столбов представлял отцовскую, другой — материнскую родословную. Чуть дальше, за стойбищем, на опушке небольшой сосновой рощицы чернел «лес тотэмов» — более сотни генеалогических[13] столбов. То были тотэмы умерших тэнанкучинов, чем либо прославившихся при жизни. «Лес тотэмов» — это гордость племени, это славная легенда о подвигах предков, это «Песнь о Гайавате»[14], вырубленная на дереве. Этот-то священный «лес тотэмов» и хотели сжечь русские миссионеры, приняв его за «требище язычников».
Русский прошел мимо кашги — обширной хижины из переплетенных ветвей, покрытых толстым слоем глины. Единственной мебелью этого «муниципального дворца» были длинные скамьи, расположенные высоким амфитеатром. Кашга служит местом для мирских сходов и примитивных театральных представлений в дни праздников.
Не доходя нескольких шагов до своей хижины, Черные Ноги вдруг быстро прыгнул в сторону и спрятался за угол соседнего строения. Из дверей его хижины выскользнула молоденькая девушка. Одежда из красной кожи плотно стягивала ее здоровое крепкое тело. Уходя, она запела:
Ветер — кого хочет обвеет, Русский — кого хочет полюбит. Нет у зимней ночи солнца, Нет у русского любви к краснокожей.Русский мягко улыбнулся, слушая эту песню, звучавшую горькой жалобой. Так, с позабытой на лице улыбкой вошел в свою хижину.
На грубом неоструганном столе нежно белел букет крупных аляскинских фиалок.
— Айвика, Летящая Красношейка, сестра Красного Облака, это она принесла мне букет, — прошептал русский. — Милая дикарка!
Траппер бережно поставил букет в фляжку, наполненную водой. Затем устало бросился на соломенные цыновки, устилавшие пол хижины, и заснул крепким, хотя и неспокойным сном.
VII. Злая земля.
Зима началась рано. Еще в середине сентября принеслись с севера, с Ледовитого моря, холодные режущие ветры. А однажды утром русский услышал, как ветер словно могучим тараном бьет в стены его хижины. Это пришла осенняя буря. Но он не успел насладиться ее диким разгулом и мощью. Открылась дверь, и траппер увидел стойбища, запорошенные первым снегом, таким чистым, наивным, примиряющим с холодом зимы. Через порог хижины шагнул Красное Облако.
— Собирайся, русский, едем! — сказал он.
— Куда?
— Я покажу тебе золото тэнанкучинов.
Русский до крайности был удивлен. После разговора на Трубочной скале ни слова не было сказано об этом таинственном золоте. Но траппер почувствовал, что расспросы будут неприятны вождю тэнанкучинов, а потому начал молча собираться в дорогу.
Ехать на нартах еще было нельзя. Мало выпало снега. Холмистая тундра, окружавшая стойбище, местами белела, а местами и зеленела травой. Но оленьи шкуры равно легко скользят и по снегу и по мерзлой земле. Поэтому индейцы зашили в шкуры небольшими тюками все необходимое для похода и заморозили эти тюки, придав им определенную форму. Собаки, запряженные по одной на каждый тюк, взяли с места дружно.
В поход выступил небольшой отряд: кроме русского и вождя шел еще его брат Громовая Стрела, десяток воинов и Айвика, которая долго упрашивала князька взять и ее в эту экспедицию.
Сначала отряд шел знакомою русскому дорогой, вверх по Тэнане. Холмистая притэнанская тундра сменилась на третий день пути отрогами вулканических гор, тянущихся до канадской границы. Здесь отряд повстречался с Медной рекой, или Читтинией. Медная с глухим урчанием, скачками, как лошадь на галопе, неслась от порога к порогу. Она вывела отряд на огромное, усыпанное валунами плато. Вдали, на холме показался небольшой форт, или редут, как называли их русские, — пяток строений, обнесенных палисадом из громадных, в обхват, бревен с заостренными верхушками. В палисаде были прорублены бойницы для стрелков и амбразура, в которую хмурое выглядывало жерло орудия. На длинном флагштоке полоскался по ветру трехцветный флаг. В такие редуты обычно сажался небольшой гарнизон из десятка солдат или казаков, о которых начальство вскоре забывало: живи как знаешь и покоряй народы!
Индейцы шарахнулись от редута, как волки от ружейного выстрела, круто свернув на восток. Потянулись отвесные стены базальтовых, черных с металлическим отливом скал, поросших оранжевым мхом. Прошли огнедышащую гору, хотя и покрытую снегом и льдом, но выбрасывавшую столбы пара.
Теперь русский не мог уже понять, находятся ли они еще во владениях «белого царя» Александра Николаевича или уже вступили на землю королевы Виктории. В этих местах граница была чисто условная. Лишь ближе к Юкону она была определена точнее. Отряд с трудом пробирался узкими, часто пропадавшими тропами. Следуя извилинам страшных ущелий, они нередко попадали в тупики и тогда приходилось карабкаться вверх по скалам…
Когда вдали засверкала трехгранным алмазом вершина св. Ильи, Красное Облако приказал воинам остановиться и разбить лагерь на берегу хрустально чистого горного озера. Дальше князька и русского сопровождали лишь Громовая Стрела, Айвика и Хрипун, все время находившийся в беспокойном состоянии. Видимо, и на него действовал мрачный вид гор.
Перевалив через невысокий хребет, путники спустились в жуткое ущелье, которое вождь тэнанкучинов называл Злой Землей.
«„Злая Земля!“ — додумал Черные Ноги. — А пожалуй, лучшего названия и не придумаешь для этой мрачной дыры».
Русский еще раз внимательным, запоминающим взглядом окинул извилистую расщелину, в некоторых местах имевшую около десяти метров ширины. При крутых поворотах эта горная щель разветвлялась буквально на трещины, в которых легко можно было заблудиться. Но Красное Облако шел уверенно и быстро, не глядя по сторонам.
Базальтовые отвесные скалы, сжавшие ущелье, были лишены растительности; лишь изредка попадались одинокие приземистые деревца, чудом прицепившиеся к обнаженным камням. Кристальные карнизы ледников нависли над глубокими пропастями и широкими ледопадами сползали в Медную.
Внезапно река пропала, свернув в какую-то боковую дыру. А когда вдали замолк ее беспокойный грохот, русского поразила царившая в ущелье тишина. Казалось, все кругом заснуло непробудным каменным сном смерти.
— Мы уже кончаем путь, — глухо сказал Красное Облако, — у Горы Духов последний поворот.
Вскоре показалась невысокая, окутанная паром Гора Духов. Когда проходили мимо нее, откуда-то из глубины горы послышался глухой гул, предвестник готовящегося извержения. Это и был голос «духов», пугавший суеверных индейцев. Тут они снова повстречались с Медной. Река, обогнув Гору Духов, ушла на восток, разделившись на несколько рукавов. Вождь спустился с обрывистого берега к одному из рукавов Медной и остановился.
— Мы пришли, — сказал он спокойным тоном, за которым таилась буря сложных чувств.
(Продолжение в следующем номере)
Осада маяка. Рассказ В. Ветова[15].
I. Идиллия на маяке.
Был девятнадцатый год. Тот самый год, когда весь мир, затаив дыхание, следил за чудовищной борьбой между белыми и красными, когда великая страна, занимающая шестую часть света, была охвачена гражданской войной.
Особенно мучительна и жестока была борьба на окраинах страны, где власть часто переходила из рук в руки. Такие перемены сопровождались кровопролитием и новым разорением. Там же, где новая власть еще не успевала окрепнуть, обыкновенно появлялись банды, образовавшиеся из людей жадных до наживы. Люди эти не признавали никакой власти и открыто начинали грабить и разорять села и целые города.
Так было и на восточном побережье Каспия. В степях появились разбойничьи банды киргизских всадников, которые дотла разорили много аулов туркмен-рыбаков. Разбойники угнали туркменский скот в далекие степи. Туркмены гибли от голода и массами устремились к югу, ближе к персидской границе. Сразу же обезлюдел берег Каспия, и там, где еще совсем недавно стояли мирные аулы и паслись стада сытых овец, теперь бродили стаи одичалых тощих собак, брошенных разоренными хозяевами.
В то время белые укоренились на восточном берегу моря. В небольшом городке, расположенном возле тихой глубокой бухты, защищенной от бурь песчаной косой, находился штаб белых. Ни разу еще красные не заходили сюда. Начальство белых тщательно скрывало от жителей городка свои военные неудачи, стараясь укрепить в них веру в несокрушимость своей власти. Тем не менее слухи постоянно проникали в город, и трудно было сказать, кто являлся их распространителем. Словно подслушанные и подхваченные степным ветром, неслись вести от кочевника к кочевнику за десятки и сотни километров, залетая в аулы и в самый город, где обыватели передавали их друг другу на ушко.
Тяжело приходилось обывателям городка. Не было дома, в котором не стояли бы солдаты. В этой безлесной стране зимою солдаты бесцеремонно разбирали на топливо целые постройки; шли на топливо также и лодки рыбаков. Нехватало хлеба и прочего продовольствия, а власть, чтобы прокормить войско, прибегала к реквизициям. Запуганное население жило тайной надеждой на скорое избавление от лишений, и в каждом доме только и было разговоров и споров, что о гражданской войне…
В двадцати с лишним километрах от города, против входа в бухту, на высоком скалистом мысу стоял старый маяк. Пустынно и безлюдно было в степи кругом маяка. Между ним и городом не было ни единого жилья. Много раз над башней проносились свирепые бури; часто у подножья маяка яростно клокотало море, старавшееся подточить серые скалы, но ничего не делалось старому маяку.
На маяке жили люди. Невозмутимо спокойно протекала их жизнь за крепкими высокими стенами двора. Маячный двор был так хорошо защищен от непогоды, что обитатели маяка иной раз и не знали о разбушевавшейся вокруг них стихии. Не знали люди на маяке и о той новой, еще небывалой буре, которая охватила теперь всю страну. На маяке только урывками слыхали о борьбе красных и белых. Буря революционной борьбы проносилась мимо маяка. Здесь не знали лишений, потому что на маяке было много всяких запасов, а белая власть за все время своего существования так и не вспомнила о них.
* * *
Было безоблачное весеннее утро. С моря тянул ровный теплый ветерок, чуть взъерошивший кружевные волны, которые тихо плескались под обрывом. Высоко над морем, на маленьком дворе маяка все было как и всегда. На нижней ступеньке каменной лестницы, ведущей на башню, дремала, растянувшись в блаженной позе, рыжая кошка Мурыська. Под стеной бродили цесарки и белые куры, хлопотливо разрывая лапками песок, а смотрительский поросенок Васька, тихонько похрюкивая, с глубокомысленным видом чесался боком об угол сарая.
Смотритель, маленький толстенький человек лет сорока пяти, только что облекся в поношенный китель и в ожидании утреннего чая вышел на крыльцо. Лениво потянувшись и сощурив от солнца заплывшие глазки, он принялся с тупым равнодушием рассматривать свое хозяйство.
Некоторое время глаза смотрителя не выражали ничего кроме скуки; но вдруг по его лицу пробежала тень неудовольствия. Сколько раз приказывал он сторожу Магометке, чтобы калитка, ведущая к обрыву, запиралась на ночь! Все знали, что около обрыва жила лисица, которая недавно утащила со двора двух цесарок, а между тем сегодня калитка опять была настежь открыта.
— Магометка! — раздраженно крикнул смотритель, но тотчас же вспомнил, что сторож-киргиз еще с вечера выехал в город с почтой.
Толстяк нахмурился и пошел закрывать дверцу. Он взялся уже за ржавое кольцо, но тут же выпустил его. В растворенную калитку смотритель увидел нечто, что заинтересовало его: к берегу подходила крошечная бударка с большим парусом. В бударке сидел только один человек. Он правил прямо на маяк.
II. Секретный приказ.
Появление всякого постороннего человека всегда было событием на одиноком маяке, куда и рыбаки-то никогда не заглядывали. Впрочем смотритель сразу заметил по платью человека, сидевшего в бударке, что он не был рыбаком, хотя и управлял суденышком с тем искусством и спокойной уверенностью, которые присущи лишь профессионалам. Но что всего более удивило смотрителя, так это сама бударка. Таких лодок не было в здешнем краю. Смотритель вспомнил, что подобные бударки он встречал лишь на противоположном берегу моря.
«А это вы видели?» — спросил незнакомец…
Суденышко сделало лихой поворот, и через минуту неизвестный человек вытянул его на камни ловким движением сильных рук. Пока недоумевающий смотритель строил всяческие предположения относительно цели этого неожиданного визита, высокий худощавый человек со смуглым обветренным лицом быстро взбирался на обрыв по извилистой каменной тропе. На нем была серая куртка и потертая флотская фуражка.
— Можно видеть смотрителя Иванчука? — спросил он, подходя к толстяку.
— Я Иванчук… Прошу, — и смотритель посторонился, чтобы пропустить незнакомца в калитку.
Войдя во двор, человек внимательно огляделся по сторонам.
— Что вам угодно от меня? — спросил Иванчук, с любопытством разглядывая посетителя.
Тот как бы медлил с ответом и уставился на смотрителя таким пристальным, недоверчивым и холодным взглядом, что Иванчуку сделалось как-то не по себе.
— Прочтите вот это… — сказал наконец посетитель, вынимая из бокового кармана сложенную бумагу и протягивая ее смотрителю.
Никогда еще не видал Иванчук такого необыкновенного официального бланка. Первое, что бросилось ему в глаза, было слово: «С е к р е т н о». Оно было два раза подчеркнуто и напечатано жирным шрифтом в правом верхнем углу бумаги. Посредине было отпечатано на машинке:
Приказываю под вашу личную ответственность с сего числа поддерживать ночное освещение маяка.
Начальник штаба... армии......Далее следовала неразборчивая подпись.
— Поняли? — спросил незнакомец. — Распишитесь внизу: прочел такой-то, и поставьте сегодняшнее число.
С этими словами он сунул в руку смотрителя отточенный химический карандаш, которым Иванчук тотчас же расписался внизу бумаги.
— Странная вещь! — сказал он, отдавая незнакомцу бумагу и карандаш. — У нас на маяке и без того каждую ночь аккуратно поддерживается огонь. Еще недели две назад я получил насчет этого точно такое же распоряжение. Не понимаю, отчего мне теперь приказывают то же самое!
— А от кого вы тогда получили приказание освещать маяк? — спросил незнакомец, чуть заметно улыбаясь.
— Известно от кого — от штаба.
— Какого штаба?
— Как, какого штаба? Штаб один, в городе. Приказ был за подписью полковника.
— А это вы видели? — вдруг спросил незнакомец, тыча пальцем в штамп на левом верхнем углу бумаги.
Смотритель взглянул на бланк и замер от удивления. Только теперь разглядел он, что в левом углу было изображение серпа и молота, под которыми стояло: «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ»…
— Поняли теперь, товарищ? — спросил незнакомец.
Никогда еще Иванчука так не называли.
— Позвольте… позвольте… — в волнении пролепетал он. — Стало быть вы большевик?!.. Как же это так?.. Ведь в городе белые?.. Что же это я теперь подписал?..
— Помните, бумага секретная, — строго сказал человек в серой куртке, отчеканивая слова. — Вы поставили здесь свою подпись. Так знайте же, что вы строго ответите, если белые узнают о моем посещении маяка, равно как и об этом секретном приказании… До свидания, товарищ!
Незнакомец круто повернулся и, выйдя в калитку, начал быстро спускаться по тропинке.
— Эй, послушайте! — крикнул ему вслед Иванчук. — Чья же теперь в городе власть?
Сторож Магометка, молодой и черный от загара, въезжал во двор на двуколке…
Незнакомец не отвечал. Махнув рукой смотрителю, он спихнул с камня бударку, ловко впрыгнул в нее, а через минуту маленькая лодочка, кренясь набок, ходко понеслась прочь от маяка.
III. Красные и белые.
Иванчук никогда не имел тайн от своей супруги, с которой не разлучался в течение целых двадцати лет. И когда таинственная бударка отвалила от маяка, смотритель устремился домой.
Смотрительша Марья Ивановна, такая же круглая и седеющая как и сам смотритель, сидела против своей дочери за столом и сосредоточенно отхлебывала с блюдца горячий чай, когда ее муж бомбой влетел в комнату:
— Ну, Маша, история!
— Что такое?.. Опять лиса?
— Нет, хуже!.. Большевики пришли!..
Смотритель грузно опустился на стул, а Марья Ивановна чуть не выронила блюдца из рук. Сбиваясь и путаясь, рассказал толстяк о полученном секретном приказании и о том, как он расписался на бумаге, не зная, что она исходила из штаба большевиков.
— Постой, Коля, — перебила мужа смотрительша. — Белые-то из города ушли или нет?
— Не должно быть. Еще недавно слух был, что большевики где-то далеко под Астраханью. А потом, если бы под городом было сражение, то мы бы услыхали пальбу из пушек.
— Что же ты, старый дурень, наделал?!. В городе белая власть, а он расписывается на приказах красных!.. Да знаешь ли ты, как с тобой теперь поступят! А обо мне и Лидочке ты не подумал?!.
Иванчук виновато опустил голову.
— Не волнуйся, Маша. Сейчас должен вернуться Магометка, и от него мы узнаем, в чьей власти город и маяк. Пока что я преступления не совершал: ведь на наше счастье обе власти, и белая и красная, приказывают мне одно и то же.
— Нет, Коля, как хочешь, а двум хозяевам сразу не служат, и ежели в городе белые, то тебе надо предупредить полковника насчет большевистского приказа.
— А ежели придут красные?..
— Надо слушаться тех, кто у власти.
В комнате наступило молчание. Отец, мать и дочь сидели друг против друга, сосредоточенно думая об ожидавшей их участи. Супруги Иванчук слишком свыклись со своим мирным маячным житьем и никогда серьезно не задумывались над тем, что может наступить минута, когда и им придется встать лицом к лицу перед революцией и сказать свое слово — да или нет… И вот теперь, когда эта жуткая минута приблизилась, они чувствовали себя растерянными, грубо выбитыми из колеи.
Крепко задумалась восемнадцатилетняя Лида. Она не видела озабоченных лиц родителей, потому что вообще ничего не видела. Вечная ночь была в глазах этой красивой бледной девушки. После страшной болезни, которую Лида перенесла в детстве, она однажды вдруг оказалась слепою.
Красные… белые… Как странно и сказочно звучали эти слова для слепой девушки! Родители ее редко говорили про войну, и Лиде было не ясно, на чью сторону склонялись их симпатии. Нерешительность и растерянность отца были неприятны девушке, точно так же как и слова матери о том, что нужно слушаться тех, кто у власти. Либо за красных, либо за белых — раз и навсегда — вот как по мнению Лиды должен был поступать ее отец.
Со слов сторожа Магометки Лида знала, что красные сражаются за то, чтобы не было ни богатых ни бедных, чтобы сильные не угнетали слабых, чтобы все люди были счастливы и равны повсюду на земле. Киргиз однажды рассказал Лиде, как солдаты белых на его глазах отняли в степи у кочевника последних овец и как плакала жена кочевника, которой больше нечем было кормить маленьких детей. Вот то немногое, что знала Лида про красных и белых, но и этого было достаточно для того, чтобы симпатии девушки незаметно для нее самой склонились на сторону тех, кого так странно называли «красными».
Громкий стук колес, внезапно раздавшийся во дворе, разом вывел смотрителя из задумчивости. Тучные фигуры супругов Иванчук одновременно высунулись из окна. Сторож Магометка, молодой, статный и черный от загара, въезжал во двор на двуколке, запряженной маленькой серой лошадкой.
В мгновенье ока смотрительша встала на защиту своих любимцев…
— Магометка! Какие в городе новости?
Киргиз видимо не понял вопроса.
— Новостя? В степи… в степи новостя!
— Что такое?
— Собака!.. У-у-у, много, много в степи собака!.. Штук сто собака видал! Киргиз из степи туркмена прогнал и овец туркмена увел. Весь туркмен убежал, а собака остался. Страшные собака… кушать хотят!
— Чорт с ними, с твоими собаками! — с досадой сказал Иванчук. — Говори скорее, чья власть сейчас в городе? Красные пришли?
— Красный?.. Нету красный. В городе, как был белый солдат, казак, так и остался белый. Красный солдат там… далеко… — Магометка махнул рукой в сторону моря.
— Я так и думал! — воскликнул смотритель. — Ну ладно, Магометка, ступай, выпрягай Серого, а потом принеси на маяк керосину. Аппарат небось пустой стоит.
Магометка радостно улыбнулся:
— Больше керосина не надо! Совсем больше не надо огонь!
— Это что еще за новости?!. Кто сказал?
— На почте сказали. Тебе бумага от штаба. На, получай!
Сняв шапку, Магометка достал из нее смятый конверт и подал смотрителю в окно.
Иванчук быстро распечатал пакет.
— «Смотрителю Тюякского маяка», — прочел он несколько дрожавшим голосом.
В виду появления у восточных берегов флота противника, усилившегося за последнее время прибывшими по реке Волге балтийскими миноносцами, приказываю под строжайшую вашу ответственность с сего числа прекратить ночное освещение вверенного вам маяка.
Начальник штаба полковник Ефименко. Адъютант капитан Иваницкий.Супруги Иванчук переглянулись.
— Ну и каша!.. Ну и каша!.. — бормотал смотритель, комкая в руке бумагу.
— Чего испугался? — строго спросила Марья Ивановна. — Смотри, Коля, ты у меня не дури! Попробуй только, зажги сегодня огонь на маяке!.. Знаешь, как за такую вещь с тобой расправится полковник?
— Знаю, — тихо ответил Иванчук. — А знаешь, как с нами расправятся красные, ежели я сегодня не буду зажигать огня?
— Да где они, твои красные-то?
— Красный? — сказал Магометка, принимая таинственный вид. — Хабар[16] есть, красный нынче ночью по воде придет. Шибко будет ночью красный гнать белый из города.
— Врешь ты все, Магометка!
— Ой, не вру! Мне в городе Котибор сказал. Котибор — хитрый киргиз. Он все знает.
С этими словами киргиз отошел от окна и направился к двуколке выпрягать лошадь.
Только что полученный приказ белых, расходившийся с секретным приказом красных, и слух об ожидавшемся ночью нападении красного флота окончательно сбили смотрителя с толку.
— Что делать?!.. Что теперь делать?!.. — вздыхал смотритель.
— Не теряй время по пустому, — прервала Марья Ивановна вздохи мужа. — Садись на Серого и живо скачи в город. Расскажи в штабе про своего большевика и про слухи Магометки — может быть там об этом еще не знают — предупредить надо. Греха особого нет, раз ты только по нечаянности расписался на приказании красных. Попроси в штабе, чтобы тебя предупредили, если белые будут уходить из города. Тогда и мы вместе с ними уйдем. Поезжай же, Коленька! До вечера ты еще успеешь обернуться.
Смотритель колебался, однако влияние на него Марьи Ивановны было безгранично. В конце концов то, что советовала жена, не лишено было здравого смысла. Главное же это было каким-то выходом из мучительного неопределенного положения.
— Магометка! — крикнул он в окно после минутного раздумья. — Погоди распрягать Серого. Я сам еду в город.
Через пять минут Иванчук уже мчался по степи на тряской двуколке.
IV. Собачья орда.
Еще и получаса не прошло с того момента, как взволнованный смотритель выехал со двора, а на маяке все уже вошло в обычную колею. Такова уж была натура смотрительши: несмотря ни на какие переживания не могла она ни на шаг отступить от раз заведенного порядка.
Накормив кур и поросенка, Марья Ивановна занялась в кухне приготовлением обеда, а слепая Лида, убрав со стола заученными движениями посуду, уселась у открытого окна и принялась за вязание чулка.
Не клеилась работа у Лиды. Разговор родителей сильно взволновал ее. Девушка не сомневалась в правдивости слухов, привезенных Магометкой из города, и ей было ясно, для чего красные приказывали ее отцу зажечь сегодня ночью огонь на маяке. В представлении Лиды красные были какими-то сказочными героями. Сегодня ночью они должны были притти на своих кораблях и напасть на город, чтобы освободить его от власти белых, и она хорошо знала, что если огонь на маяке не будет гореть, то ни одно судно не сможет войти в бухту. О, если бы Лида была на месте отца, она бы ни на минуту не колебалась, как ей поступить!..
Громкое испуганное кудахтанье кур, Внезапно донесшееся со двора, прервало ход ее мыслей.
Марья Ивановна подбежала к окну.
— Собака!.. Чья-то собака во дворе гоняется за курами! — воскликнула она, всплеснув руками. — А-ай, мерзавка!., поймала!..
В мгновенье ока смотрительша очутилась на дворе с кочергою в руках и встала на защиту своих любимцев. По двору металась тощая облезлая собачонка, держа в зубах задушенную белую курицу.
— У… у!.. я тебя, гадина! — не своим голосом взвизгнула смотрительша, решительно устремляясь за собачонкой, которая тем временем опрометью выбежала за ворота.
Марья Ивановна обрушилась на Магометку:
— И все ты, дурень, виноват! Чистое наказанье с тобой! Почему ворота отперты? Сам ведь рассказывал, что по степи собаки бродят!
— Много, много голодная собака по степи бегает… — подтвердил сконфуженный Магометка.
В сопровождении киргиза смотрительша направилась к воротам. Однако не успела она сделать нескольких шагов, как в отворенных воротах показалась целая стая собак.
Увидав людей, животные на мгновение остановились. Смотрительша громко вскрикнула, и тотчас же громадный рыжий хорт особенно свирепого вида ощетинил косматую шерсть и, вызывающе подняв хвост, с глухим рычанием ринулся во двор. За ним словно по команде устремились и остальные, в бешеной скачке опрокидывая все на пути, не обращая внимания на вопли смотрительши и Магометки.
С душераздирающим кудахтаньем разом тяжело взлетели на воздух перепуганные куры и цесарки, а обезумевшие от голода псы с остервенением уже гонялись за ними, схватывая их на лету. Мгновение — и во все стороны полетели белые перышки. В несколько секунд мирный двор маяка превратился в ад. Сотня тощих безобразных изголодавшихся псов в дикой свалке отнимали друг у друга пойманных птиц. Двор наполнился визгом, хрипом, рычанием, лаем. Отчаянно заорал поросенок Васька и упал на песок с перекушенным горлом.
Хозяйство смотрительши гибло у нее на глазах. Она вопила как полоумная.
Тем временем Магометка выхватил из рук смотрительши кочергу и решительно устремился на собак, терзавших окровавленную тушу поросенка. Неистово размахивая кочергой, киргиз уже нанес два страшных удара. Две тощих собаки упали к его ногам с раздробленным черепом, но в этот момент подоспел рыжий хорт с налитыми кровью сверкающими глазами. Зло огрызнулся он на киргиза и, щелкнув острыми клыками, мертвой хваткой впился в деревянную рукоятку кочерги. Пока Магометка пытался выдернуть кочергу из крепко зажатой пасти хорта, несколько собак, захлебываясь от злости, наскочили на киргиза и вцепились ему в ноги. Магометка взвизгнул от боли и выпустил из рук кочергу. Теперь он был безоружен. Собаки прыгали вокруг него, стараясь вцепиться в горло, куснуть в лицо. Отчаянно отбиваясь от наседавших собак, Магометка пятился назад. Руки и ноги его были искусаны.
Неожиданно для себя он очутился возле лестницы, ведущей в башню. На ступеньках уже стояла Марья Ивановна. Она пронзительно кричала, отбиваясь от двух псов, которые рвали ее фартук и платье. Одним прыжком очутился киргиз на лестнице, втолкнул в дверь башни смотрительшу и сам последовал за нею, быстро захлопнув за собою тяжелую дверь. Задыхаясь и еле переводя дух, смотрительша и сторож мигом очутились наверху башни, на высоком балкончике.
«Лида..! Назад!.. Скорее, скорее!..»
Двор был полон собак. Большие, малые, черные, белые, рыжие, пестрые — все они были до того худы, что походили на скелеты, обтянутые кожей. Шерсть клочьями свисала с них. Несколько псов царапались лапами в дверь башни и громко скулили. Другие дрались возле мусорного ящика, отбивая друг у друга кухонные отбросы и кости. Десятка два сидели под стеною и облизываясь не спускали жадных глаз с Мурыськи, которой удалось спастись, вскарабкавшись на стену. Кошка дрожала всем телом и, горбя спину, испуганно глядела на своих преследователей.
Посреди двора ощетинившись сидел рыжий xopт. Он завладел головой поросенка и с глухим рычанием обгладывал ее на глазах у своих собратьев, которые видимо не решались к нему подойти.
Широко раскрытыми глазами оглядывала Марья Ивановна двор маяка. Все случилось так быстро и неожиданно, что она только теперь начинала приходить в себя, еще не веря глазам. Она чувствовала острую боль в ноге ниже колена; чулок, мокрый и теплый, прилипал к ноге.
«Лида!.. — вдруг пронеслось в голове Марьи Ивановны. — Где Лида?..»
Смотрительша оглянулась. Рядом с ней сидел Магометка. Лицо его сморщено от боли. Он стонал. В окровавленных пальцах киргиз держал грязный лоскут, которым пытался перевязать страшную рваную рану на ноге. Лиды не было рядом. Смотрительша провела рукой по лбу и тут только вспомнила, что слепая осталась в доме. Чтобы попасть из башни в домик смотрителя, нужно было пройти с полсотни шагов через двор, полный свирепых собак. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять все безумие такой попытки.
Марья Ивановна содрогнулась, перевела взгляд на домик и в то же мгновение увидела дочь, которая вдруг появилась за наружной стеклянной дверью домика. Мгновение — и стеклянная дверь распахнулась. Слепая остановилась на пороге.
— Лида!.. Назад!.. Скорее, скорее!.. — пронзительно закричала Марья Ивановна, в ужасе хватаясь руками за голову.
V. Пленники собак
Когда смотрительша покинула Лиду, чтобы прогнать забежавшую во двор собачонку, девушка осталась одна сидеть у окна. Она слышала, как ее мать бранила Магометку, и тотчас же вслед за этим началось что-то ужасное, чего Лида не понимала. Слепая услышала отчаянный гам, разом наполнивший весь двор.
Сильно забилось сердце у Лиды. Она вскочила. Сперва ей показалось, будто во двор ворвались разбойники. Но нет. Люди не могли так рычать, хрипеть и визжать. То были какие-то неведомые ужасные существа. До слуха Лиды донесся пронзительный душераздирающий вопль ее матери. Кровь застыла в жилах слепой девушки — такой вопль мог вырваться только из груди умирающего.
«Неужели… Неужели убита?!..»
Бледная, трясущаяся, стояла Лида перед раскрытым окном, схватившись рукой за сердце. По звукам, доносившимся со двора, она постепенно угадывала, что за существа напали на маяк. Лиде живо вспомнился рассказ Магометки о виденных им в степи собаках.
— Магометка! — крикнула Лида в окно.
Никто не ответил ей. Лишь чьи-то когти царапались под окном. «Неужели и Магомет погиб, загрызенный собаками?..»
Возня во дворе стала стихать. Только в той стороне, где находился мусорный яецик, Лида слышала теперь грызню.
«Жива ли мама?.. Жив ли Магометка?.. Почему они не идут ко мне? Быть может, они еще живы, но изранены…»
— Мама! — снова позвала Лида, и снова вместо ответа чьи-то когти бешено зацарапали стену под самым окном.
Холодный пот выступил на лбу девушки. «Уйти, бежать подальше в степь от этого страшного места!..»
Ощупью пробралась Лида до стеклянной двери и порывисто распахнула ее.
— Лида! Назад! — услышала она пронзительный крик матери.
Слепая сразу поняла по направлению звуков, что ее мать была на балконе башни.
— Скорее назад!.. Двор полон собак! Они увидели тебя! Скорее! — кричала смотрительша.
— Назад, назад!.. — донесся с балкона и голос Магометки.
В то же мгновение Лида услышала звуки чьих-то легких торопливых скачков, которые быстро приближались к ней. Слепая сразу поняла все и, быстро отступив, с шумом захлопнула дверь перед самой мордой громадной мохнатой собаки.
Девушка вздохнула с облегчением. Мать и Магометка были живы. Теперь она отдавала себе ясный отчет во всем случившемся и поняла, что она будет отрезана от матери и Магометки до тех пор, пока собак не прогонят со двора, или же они сами не покинут маяк. Она повернула назад и направилась обратно в столовую.
Пройдя несколько шагов по коридору, Лида вздрогнула и остановилась как вкопанная. Громкий звон разбитой посуды раздался в кухне, и вслед за этим там поднялось что-то невообразимое. С грохотом полетели на пол кастрюли, сковородки, горшки, раздалось хриплое злобное рычание и неистовый визг дерущихся собак. Привлеченные запахом жареной баранины, псы ворвались в кухню с заднего крыльца. Лида слышала, как они скреблись лапами в чулан, где висел окорок.
Слепая быстро подбежала к двери в столовую. Собаки хозяйничали уже и там, добравшись до ковриги хлеба, из-за которой у них теперь шла жестокая драка. С грохотом летели на пол стулья и посуда. Девушка порывисто захлопнула дверь в столовую. Весь дом был во власти собак. В распоряжении Лиды оставался только небольшой коридорчик, сени да чердак, куда можно было проникнуть по узенькой лесенке из сеней.
Уже более месяца бродили собаки по степи. За это время они лишь изредка находили себе скудное пропитание, и многие из них погибли от истощения. Некогда ручные, эти животные под влиянием продолжительного голода превратились в жестоких хищников, готовых растерзать все живое, лишь бы утолить голод. Смутно просыпался в собаках инстинкт их диких предков. Он как бы подсказывал им, что, собравшись в большую стаю, они легче добудут себе пропитание. В стае они становились бесстрашными.
Несколько кур, цесарок и поросенок, которых пожрали собаки, не могли утолить их бешеного голода. Собаки чуяли, что на дворе маяка для них есть еще чем поживиться. В домике смотрителя из-под двери чулана исходил острый дразнящий запах ветчины. На дворе возле погреба пахло свежей бараниной. Наконец на карнизе стены сидела дрожащая от страха кошка. При виде ее каждая собака приходила в волнение, надеясь и предвкушая, что кошка достанется именно ей… И вот проходил час за часом, собаки рыскали по всем уголкам в поисках съестного и не думали уходить со двора.
Солнце спускалось к горизонту, а смотрительша и Магометка попрежнему находились на балкончике башни. Марья Ивановна видела, что собаки проникли в домик, и чрезвычайно беспокоилась за дочь, которую больше не видела с тех пор, как та скрылась за стеклянной дверью. Помимо дочери смотрительшу сильно волновала судьба ее мужа. Он должен был вернуться вечером. Смотритель был безоружен, а собаки не уходили со двора, некоторые из них рыскали в степи неподалеку от ворот. Не было сомнения в том, что они набросятся на него, лишь только он покажется во дворе…
Тем временем Магометка кое-как перевязал при помощи Марьи Ивановны свои раны. Киргиз не мог примириться с мыслью, что он находится во власти собак. К тому же он чувствовал себя кругом виноватым во всем происшедшем, так как не запер во-время ворот.
— Эх, винтовка… винтовка надо! — говорил он. — Я стреляй, я убей и прогони собак со двора!..
— Будет зря болтать! — с горечью отвечала смотрительша. — Сам знаешь, что винтовка находится на квартире в сенях. Попробуй, достань ее теперь.
Долго колебался Магометка, наконец решился действовать. Вооружившись тяжелым разводным ключом, случайно оказавшимся возле фонаря, Магометка спустился вниз и осторожно открыл наружную дверь. Но лишь только он ступил на первую ступеньку лестницы, как со всех сторон к нему ринулись тощие страшные псы с налитыми кровью глазами. Они до того злобно рычали, что киргиз невольно отступил.
Захлопнув дверь, Магометка, грустный и сконфуженный, вернулся на балкон.
План маяка: 1—город; 2—сарайчик, на который упала девушка; 3—песчаная коса; 4—склад керосина; 5—крыльцо; 6—дом смотрителя; 7—калитка; 8—баня; 9—конюшня; 10—ворота.
Положение казалось безвыходным. Смотрительша и Магометка уже начинали чувствовать первые приступы голода и жажды, а между тем у них не было никакой уверенности в том, что собаки скоро покинут маяк. Вполне могло случиться, что собаки пробудут здесь два-три дня, быть может неделю… И в воображении смотрительша уже вставали страшные картины. Одно из двух — либо голодная смерть на балкончике маяка, либо… и она содрогалась, глядя на тощих отвратительных псов, хозяйничавших во дворе…
VI. Кошка надоумила.
Лида попрежнему находилась в узеньком коридоре. Ей казалось, что она провела здесь целую вечность. Девушка чувствовала себя разбитой и усталой. Ей хотелось есть. Она не видела конца своему плену и испытывала те же тревожные сомнения, что и ее мать. Лида думала и о тех разноречивых приказах, которые сегодня утром были получены на маяке. Девушка знала, что где-то поблизости были люди с ружьями и пушками. Она представляла себе красных, этих сказочных героев. Вот они подходят к маяку. Они видят, что двор полон страшными голодными чудовищами, смело врываются в ворота, стреляют из ружей, убивают целую кучу собак и освобождают ее, Лиду, из плена…
Слепая встала и в возбуждении принялась ходить вперед и назад по коридору. Случайно она снова очутилась в сенях. Ее плечо вдруг задело за какой-то длинный тяжелый предмет, который висел на стене. Лида остановилась и ощупала его пальцами. Она узнала винтовку отца, из которой он так любил стрелять в орлов-могильников.
Лида задумалась. Она держала в руках то самое, что могло бы избавить маяк от власти псов, а между тем она была так беспомощна!..
— Ведь вот, — тихонько прошептала девушка, — если бы эта винтовка была сейчас в руках Магометки, он сразу же прогнал бы всех собак со двора…
Жалобное мяуканье кошки, вдруг раздавшееся где-то на чердаке, вывело Лиду из задумчивости.
— Мурыська!.. кс-кс-кс!.. поди сюда! — позвала девушка.
Мяуканье повторилось, и на этот раз Лида услышала, что кошка скребется лапками в закрытый люк, находившийся на потолке в сенях. Кошка просилась вниз.
«Странно… — думала Лида. — Как могла Мурыська очутиться на запертом чердаке?..»
Кошка никогда не бывала там. Люк был закрыт, и ясно было, что Мурыська могла попасть на чердак не иначе как по крыше, через слуховое окно.
Лида взлезла по лесенке и приподняла люк. Мурыська тотчас же спрыгнула на плечо девушки и ласково прижалась к ее щеке. Кошка дрожала всем телом.
— Мурыська, милая, как ты попала сюда? — говорила девушка, лаская кошку.
Лида вдруг припомнила, что еще до того, как она оказалась пленницей, она слышала в раскрытое окно столовой, как Мурыська фыркала на собак с высокой стены, окружавшей двор. Теперь было ясно, что кошка добралась до крыши домика по стене.
Внезапная мысль осенила девушку. Стена, окружавшая двор, соединялась и с домиком и с башней. Кошка совершила путь по стене, где собаки не могли ее достать. А что если Лида и сама направится таким путем к башне и доставит туда винтовку с патронами? Правда, Лида знала, что балкон башни был значительно выше стены, однако если бы ей только удалось доползти по гребню стены до башни, то винтовку было бы уже не так трудно переправить наверх хотя бы по веревке.
Часто забилось сердце в груди слепой. Лида прижала к себе кошку и, поцеловав ее в мягкую пушистую шерсть, воскликнула:
— Умница ты моя — ведь ты научила меня!.. Я спасу их!..
День догорал. Огненный шар солнца медленно исчезал за морем. Зарделись легкие перистые облака на западе; багровым сделалось море. Запоздалая стая черных бакланов торопливо пролетела над маяком. Тихонько плескались под обрывом кружевные волны. В степи легли мягкие лиловые тени.
Марья Ивановна сидела на балконе башни, подперев голову ладонями. Ее глаза, устремленные куда-то в даль, казалось, ничего не видели. Надежда давно покинула ее. Магометка сидел рядом с нею. Прислонившись к стене и закрыв глаза, киргиз казалось дремал. Только сдержанные стоны, вырывавшиеся порой из его груди, доказывали, что Магометка не спит. Распухшая от укусов нога ныла и разбаливалась все сильнее.
С наступлением сумерек собаки несколько угомонились. Большинство из них лежали в разных углах двора, и лишь некоторые, сидя на задних лапах и задрав кверху морды, оглашали воздух унылым заливчатым брехом и воем, от которого у людей еще пуще щемило сердце.
Но вот среди однообразного бреха послышался хриплый захлебывающийся лай. Марья Ивановна и Магометка оглянулись. Более сотни собак точно по команде вскочили на ноги и, насторожив уши, разом умолкли. На мгновение воцарилась жуткая тишина… и вдруг вся масса собак разом кинулась в одну сторону. Двор наполнился адским ревом. Марья Ивановна почувствовала, что кровь стынет у нее в жилах. Она поглядела в ту сторону, куда ринулись собаки, дико вскрикнула и закрыла глаза руками.
На узком гребне стены, четко выделяясь на багровом фоне неба, показался темный силуэт девушки. Она стояла во весь рост на стене, вытянув вперед руки и покачиваясь, словно стараясь удержать равновесие. А там, внизу, сотни поджарых псов бешено прыгали на стену. Сбивая друг друга с ног, они стремились достать зубами до тоненьких дрожащих ног в белых чулках.
Бесшумно, словно рождаясь из мглы, выползал узкий к длинный миноносец…
Не слышала Лида отчаянного крика матери. Не слышала она и радостных подбадриваний, которые посылал ей с балкона Магометка, увидевший у нее за спиной винтовку. Она слышала лишь дикий рев собак у своих ног и делала страшные усилия над собой, чтобы побороть прилив робости. В висках у нее стучало, сердце готово было разорваться на части. Она опустилась на колени и ощупала реками гребень стены. Он был не шире полуметра. Лида поняла, что стоит ей сделать одно неосторожное движение, и она сорвется вниз.
Лида медленно поползла вперед, стиснув зубы от острой боли, которую причиняли ее коленям шероховатые кирпичи. Прошло не менее десяти минут, а она проползла всего каких-нибудь двадцать шагов. Теперь она очутилась у самого угла стены, которая в этом месте делала крутой поворот. До башни было далеко, а Лида только теперь, достигнув угла стены, поняла, насколько
трудно было ей повернуться на узком гребне. Она никак не могла решиться сделать это рискованное движение и вместе с тем с ужасом сознавала, что повернуться назад невозможно. Девушка остановилась в нерешительности, переводя дух. Теперь она слышала разъяренный лай и с наружной стороны маячной стены и поняла, что собаки стерегут ее с двух сторон.
Лида не видела, что громадный рыжий хорт, самый сильный, злобный и ловкий из всей стаи, обежал кругом стены и присел на переднее лапы, готовясь к страшному прыжку. Как раз в этом месте под стеною находился небольшой холмик, на котором теперь и стоял рыжий хорт. В то самое мгновение, когда Лида невероятным усилием воли заставила себя наконец повернуться и крепко вцепилась пальцами в шершавый угол стены, она вдруг услышала, как чьи-то когти совсем близко царапнули стену, и одновременно холодная влажная морда на мгновение прикоснулась к ее пальцам.
Лида вскрикнула и отдернула руку. В тот же миг она почувствовала, что теряет равновесие. Она сильно качнулась и, судорожно хватая воздух руками, осознала, что валится внутрь двора…
VII. Маяк не зажжен!
С каждой минутой все более сгущался мрак над степью и морем. Одна за другой зажглись на небе звезды. Медленно выплыла однобокая луна и тускло глянула сверху на угрюмый насупившийся мыс. Прохладный бриз тянул с берега навстречу спокойной волне.
Бесшумно, словно рождаясь из мглы, выползал узкий длинный двухтрубный миноносец, ощетинившийся пушками и пулеметами. Тихо подкрадывался он к высокому мысу, рассекая черную воду острым как нож форштевнем. Тускло освещенный луною, темный миноносец почти сливался с окружавшим его мраком, и лишь на командирском мостике чуть поблескивала начищенная медь компасной тумбы.
Несколько человек, стоявших на мостике возле рубки, не отрывая глаз от биноклей, вглядывались в неясные очертания берега.
— Чорт возьми, товарищи, готов поручиться чем угодно, что мы сейчас проходам траверз Тюякского маяка! — сказал стоявший возле телеграфа коренастый человек в форменном бушлате.
— Уверены ли вы в этом? — спросил комиссар, на мгновение опуская бинокль. — Неужели маяк потушен?
— Более чем уверен. Мы только что проверили отчет по лагу… и потом очертания этого мыса знакомы мне. Ручаюсь, что мы где-то возле входа в бухту.
— Можете ли вы точно указать наше место на карте?
— Маяк не горит, а потому я этого определить не могу.
— Проверьте еще раз глубину лотом.
Командир отдал распоряжение, и через минуту с бака донесся голос матроса:
— Пять метров!
— Так и есть, — сказал командир. — Глубина пять метров, а только что было четыре. Чортовский фарватер! Без береговых огней тут нельзя ничего поделать.
— Попробуйте продвигаться дальше тихим ходом.
— Немыслимо, товарищ комиссар! Взгляните на карту, и вы поймете, что с минуты на минуту мы можем напороться на камни. Я с самого начала говорил, что нельзя доверяться смотрителю маяка,
— Станем на якорь и обдумаем положение, — сказал комиссар, пожав плечами.
Командир решительно повернул рукоятку телеграфа на «стоп».
«Дзинь-дзинь» — четко звякнуло в ответ в машинном отделении. С мостика раздалась команда, несколько темных фигур торопливо пробежали по стальной палубе. Затрещал брашпиль, и загромыхала вытравляемая из клюза тяжелая цепь, отдавая якорь. Люди на мостике вполголоса совещались между собой.
— Что делать дальше? — в волнении говорил комиссар. — Ведь это срыв всей операции! За нами идут главные силы, которые скоро должны подойти.
— Придется отменить десант и атаку.
— Невозможно!.. Противник усиливается с каждым днем. В штабе поручены сведения, что белые в срочном порядке приступили к сооружению сильных береговых батарей. Не сегодня-завтра к ним должны прибыть мины заграждения, и тогда сам чорт не подступится к ним!.. Неужели нет выхода?
— Пока маяк потушен, выхода нет, — отвечал командир, — Нам остается только одно: уведомить по радио главные силы и задержать их в море. Нельзя рисковать нашими большими судами, которые неминуемо разобьются о камни…
Комиссар нервно шагал по мостику.
— Предатель, дождешься ты у меня! — сквозь зубы прошептал он, грозя кулаком по направлению мыса, где должен был находиться маяк.
С минуту он напряженно обдумывал создавшееся положение и наконец решительно сказал:
— Вы правы, товарищ командир. На сегодня выхода нет. Как ни тяжело, но приходится отменить операцию…
Круто повернувшись, комиссар направился в рубку составлять радиограмму главным силам.
VIII. Двойной предатель.
Полковник любезно принял Иванчука, который благополучно прибыл в штаб, и внимательно выслушал его сообщения.
— Вы прекрасно поступили, что тотчас же предупредили меня, — сказал он. — Сегодня же вечером я отправлю вместе с вами на катере воинскую команду с пулеметами. Они будут охранять вас и вверенный вам маяк. Мы завтра же свяжемся с вашим маяком посредством полевого телефона. Что же касается нападения красного флота, то за сегодняшнюю ночь я спокоен. Раз маяк будет потушен, то следовательно и всякая возможность ночной атаки города неприятельским флотом отпадает. С часа на час я жду прибытия двух гаубичных батарей и партии мин заграждения, которые нам должны доставить сюда на верблюдах. Лишь только мы установим мины против входа в бухту, вы попрежнему будете освещать ваш маяк. Ведь тогда свет на маяке послужит прекрасной приманкой для большевиков. Пусть они тогда приходят сюда… что ж, милости просим!
Полковник улыбнулся и, дружески пожав руку смотрителю, отпустил его до вечера в город.
Разговор с полковником несколько успокоил Иванчука. Однако, слоняясь по городу, он никак не мог отделаться от какого-то смутного неприятного чувства.
— Правильно ли я поступил, послушавшись жену? — спрашивал себя Иванчук. До сих пор ему не приходилось как следует разбираться в вопросах политики. И сейчас, в первый раз в жизни, Иванчук с тревогой думал о том, на чьей стороне настоящая правда? Почему красные должны быть хуже белых?.. Ведь вот теперь Иванчук обманул красных. Почему он это сделал? Неужели потому, что он сочувствует идее белых?.. А какие у них идеи?.. — и толстяк пожимал плечами. — Нет, конечно, он обманул красных не в силу какой-либо идеи, а просто потому, что так велела ему жена…
С заходом солнца Иванчук пришел на пристань, где стоял тот самый штабной катер, который должен был отвезти его домой вместе с двадцатью пятью солдатами и офицером. На пристани смотритель узнал, что отправка катера задерживается еще на два часа вследствие поломки мотора, над которым теперь возились два машиниста в засаленных куртках.
Чтобы как-нибудь скоротать время до отъезда, смотритель снова завернул в штаб, находившийся рядом.
— Могу вам сообщить приятные новости, — обратился к нему молоденький адъютант, одетый в щеголеватый френч. — Мины наконец прибыли, и полковник приказал приступить на рассвете к минированию всего фарватера у входа в бухту.
Иванчук разговорился с адъютантом. За интересной беседой время пролетело незаметно, и когда Иванчук взглянул на часы, на дворе было уже совсем темно.
Смотритель встал и собрался было проститься с адъютантом, как вдруг в комнату поспешно вошел тот самый офицер, который был назначен к нему на маяк. Покосившись на Иванчука, он подошел к адъютанту и прошептал ему на ухо несколько слов, которых смотритель не мог расслышать.
Улыбка мгновенно сбежала с лица адъютанта. Он оглянулся на Иванчука и нахмурился.
— Прошу вас, обождите минутку, — сказал он изменившимся голосом и направился в кабинет начальника штаба.
Иванчук и офицер, назначенный на маяк, остались в комнате одни.
— Ну, как, мотор на катере починили? — спросил Иванчук.
Офицер молчал.
— Скажите, случилась какая-нибудь неприятность? — снова спросил толстяк.
Офицер холодно поглядел на Иванчука и ничего ему не ответил.
«Однако, малый не из разговорчивых», — подумал смотритель.
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился адъютант. Он был, видимо, смущен.
— Итак, позвольте откланяться и пожелать всего доброго, — сказал смотритель, протягивая руку адъютанту. — Нам пора ехать. Я думаю, катер уже готов.
— Вы никуда не уедете, — сказал адъютант, слегка потупившись.
— Как?.. Почему?..
— Вы арестованы.
— Я арестован?!..
Смотритель так и застыл на месте с прогнутой рукой и широко раскрытыми глазами.
— За что?.. За что?.. — недоумевающе спросил он.
— Арестованы как предатель! — раздался вдруг взбешенный голос полковника, показавшегося в дверях.
— Как предатель?!.. Я — предатель?!. Но позвольте, позвольте спросить…
— Молчать! — прошипел полковник. — С вами разговор будет короток. Уведите его отсюда! — обратился он к адъютанту и снова исчез в кабинете, захлопнув за собой дверь.
Схватившись за голову, шатаясь, вышел Иванчук на улицу в сопровождении адъютанта. Мысли путались у него в голове: «Предатель… Арестован… Куда меня ведут?.. Быть может, на казнь?..»
Толстяк решительно остановился. Цепляясь за руку адъютанта, он закричал прерывающимся голосом:
— Кого же я предал?.. Когда?.. Скажите мне наконец!.. Скажите немедленно!..
— Вы спрашиваете, кого вы предали? — переспросил адъютант. — А это что?.. Взгляните на это! — он указал в сторону моря.
Яркий сноп белого света вырывался с верхушки далекого мыса. Громадный фонарь на башне маяка был зажжен.
— Маяк… маяк… — лепетал побелевшими губами смотритель. — Но ведь это же не я… не я зажег свет… Я не приказывал этого, клянусь вам!
«Стой! Ни с места!». — Но Иванчук ничего не слыхал…
Вся фигура толстяка выражала протест. В голосе его звучало неподдельное отчаяние.
— Готов поверить вам, но… не в силах ничего сделать, — сказал адъютант. — Мне приказано, и я должен заключить вас под стражу.
— Но что со мною теперь будет?!. У меня жена… дочка…
Адъютант пожал плечами и отвернулся.
— Меня казнят?..
Адъютант молчал. Он хорошо знал суровый неумолимый нрав своего начальника и почти не сомневался в том, что минуты толстяка сочтены.
— Скажите по крайней мере, будет суд надо мной? — продолжал допытываться Иванчук.
— Не думаю… — и глубоко вздохнув, офицер решительно взял смотрителя под-руку. — Идемте!
В тягостном молчании прошли они несколько шагов вдоль улицы. Внезапно что-то прошипело над их головой. Дрогнул воздух. Офицер остановился, и почти одновременно неподалеку от них ярко блеснул желтый огонь. Раздался громкий сухой удар. Зазвенели разбитые стекла.
— Что это?.. — крикнул Иванчук.
Офицер не успел ответить, как один за другим прогудели в темноте невидимые снаряды, и два оглушительных взрыва раздались возле пристани. Не говоря ни слова, адъютант крепко схватил за руку своего пленника и пустился бегом обратно к штабу.
Со всех сторон бежали растерянные люди. Где-то со стороны песчаной косы вдруг раздалась трескотня пулеметов. С моря раскатисто ухали пушки, и один за другим разрывались снаряды над городом.
Едва адъютант и смотритель успели добежать до белого здания штаба, как увидали офицера, поспешно выбегавшего оттуда.
— Красные высаживаются на косе!.. — крикнул он адъютанту. — Сейчас сообщили по телефону… Красный флот входит в бухту. Приказано немедленно отходить.
— Куда… куда отходить?..
— А, чорт!.. Куда хотите!.. Все кончено!..
Блеснула яркая молния. С треском разорвался снаряд, угодивший в крышу здания штаба. С грохотом полетели на землю кровельные листы.
Адъютант невольно пригнулся и выпустил руку своего пленника.
— Стой!.. Ни с места! — тотчас же крикнул он ему.
Но Иванчук ничего не слыхал. Он бежал, бежал, как полоумный. Адъютант схватился было за револьверный кобур, но тут же с отчаянием махнул рукой и поспешно вошел в штаб, из чердака которого уже вырывались огненные языки…
IX. Иванчук решается.
Иванчук задыхался. Сердце бешено прыгало в груди. Ноги отказывались служить, дыхание стало хриплым и прерывистым, в глазах мелькали мутные круги, а он все бежал, не смея остановиться. Он слышал позади себя трескотню ружей, слышал, как рвались снаряды, и ему казалось, что сотни людей преследуют его, чтобы совершить над ним кровавую расправу.
Смотритель уже миновал последние дома. Теперь перед ним высился темный каменистый холм, за которым начиналась беспредельная степь. Собрав последние силы, Иванчук с отчаянной решимостью устремился прямо на холм, цепляясь руками за камни. Он сделал несколько шагов. С грохотом покатились из-под ног круглые камни. Иванчук споткнулся и сразмаху грузно растянулся на откосе. Силы окончательно изменили ему. Он зажмурился.
— Ну!.. Ну же!.. Берите меня! Убивайте! Убивайте же скорее…
Прошло несколько секунд. Никто не подошел, никто не набросился на Иванчука. Он открыл глаза и, осторожно приподняв голову, оглянулся кругом. Луна освещала пустынный холм. Иванчук был один. В городе смолкала ружейная трескотня. Длинный тонкий луч прожектора, светившего с бухты, медленно скользил по белым домикам.
— Неужели… неужели спасен?!. — спрашивал себя Иванчук. Он неподвижно лежал на камнях, глядя в темное звездное небо. С каждой минутой его дыхание и пульс становились ровнее; мысль начинала работать.
Прошло более получаса. Пушечная пальба смолкла. Лишь редкие ружейные выстрелы раздавались теперь в степи к югу от города, и Иванчук понял, что город взят красными, которые теперь преследуют белых, бежавших в степь.
«Маяк! — вдруг вспомнил смотритель. — Кто зажег свет на маяке? Этого никак не могла сделать жена… Магометка?.. Не может быть!.. Красные?.. Неужели они овладели маяком?.. Но если это так, то я не могу теперь показаться на маяке. Ведь я не зажег света, и красные должны относиться ко мне как к предателю. Теперь не белые, а красные схватят меня и казнят!..»
Смотритель крепко задумался. Белые считали его предателем. Красные — тоже. Уж не скрыться ли ему в степи? Но разве это не верная голодная смерть? А жена?.. А дочь?.. Как поступят с ними красные?
Нет, он должен вернуться на свой маяк. Если он сделал ошибку, то он один должен отвечать за свою вину. Ни жена, ни дочь не должны пострадать из-за него. Да, это единственный выход— добровольно явиться к красным, отдаться в их руки и чистосердечно сознаться в своем заблуждении. Неужели не поймут его, не простят?..
Иванчук решительно поднялся на ноги и, отыскав тропинку, медленно взобрался на холм. Вдали, как и всегда, приветливо горел огонь его маяка. Низко опустив голову, с тревогой в сердце, смотритель побрел по степи прямо на далекий огонь.
Когда усталый смотритель подходил к своему маяку, из-за степи уже выглядывало утреннее солнце, и его косые оранжевые лучи радостно сверкали на верхушке башни. Иванчук еще издали видел, как потух свет в громадном фонаре. Преодолевая усталость, толстяк прибавил шагу и через четверть часа ходьбы очутился наконец перед воротами. Они были заперты, и ни единый звук не доносился со двора.
Иванчук остановился в нерешительности. Он, видимо, боролся с самим собой. Теперь, когда он достиг маяка, ему вдруг сделалось страшно. Что ожидало его там, по ту сторону запертых ворот? Как встретят его красные моряки?..
Минуты две он раздумывал, наконец решился и робко постучал в ворота. Никто не ответил ему. Иванчук подождал немного, прислушиваясь к тишине, и снова постучал, но уже громче и решительнее.
Странная тишина царила во дворе. Казалось маяк был охвачен крепким сном. Не было слышно даже обычного кудахтанья кур.
— Эй, отворите! — громко крикнул он и решительно забарабанил кулаками в ворота.
Однако, как ни стучал Иванчук, как ни кричал — во дворе маяка попрежнему не было слышно ни одного шороха.
— Странно… очень странно! — бормотал про себя смотритель. — А что если красных нет на месте?.. Но кто же в конце концов вчера вечером зажег свет на башне? Кто потушил его всего час назад? Неужели Магометка? Ну да, конечно, это он, и теперь, сделав свое дело, спит как убитый.
Смотритель обошел кругом стены и очутился у обрыва. Здесь в стене была небольшая калитка. Он подошел к ней. Дверца оказалась незапертой изнутри. Иванчук решительно распахнул дверцу и вошел во двор.
Какой-то пестрый незнакомый ему предмет, валявшийся посредине двора, сразу привлек его внимание. Иванчук подошел к нему и остановился в изумлении. Перед смотрителем в луже запекшейся крови лежала большая мертвая собака. Он оглянулся по сторонам и с ужасом заметил еще несколько трупов собак, которые валялись в разных концах двора.
Иванчук вздрогнул. Жуткое тягостное чувство охватило его. Он бегом бросился к домику и дрожащей рукой ухватился за ручку стеклянной двери. Она была заперта!
Иванчук стал стучать кулаком в дверь.
И вдруг… где-то внутри дома тихо хлопнула дверь. Раздались легкие шаги. Ближе, ближе… и за стеклянной дверыо показалась дочь смотрителя.
— Кто здесь? — тревожно спросила она.
— Лидочка! — вскрикнул дрожавший от волнения Иванчук.
Слепая поспешно повернула в замке ключ и впустила в сени отца.
— Папа!.. Папочка!.. — бессвязно лепетала она, обнимая отца и прижимаясь к нему. Слезы показались на ее глазах.
— Красные здесь? — спросил Иванчук, озираясь кругом.
— Нет. Они сюда не приходили.
— А собаки? Что значат эти мертвые собаки во дворе? Лидочка, да что у вас тут случилось?
Девушка плакала. Она не могла вымолвить больше ни слова. Отец молча смотрел на нее и гладил дочь по курчавой голове.
— Коля!.. — раздался пронзительный крик Марьи Ивановны, показавшейся в дверях.
Мгновение — и смотрительша уже сжимала в объятиях мужа.
X. Слепая героиня.
Утренняя прохлада сменилась дневным зноем. Давно уже над маяком и степью парили чернокрылые орлы, а смотритель, Марья Ивановна и Лида все еще сидели в столовой и никак не могли наговориться.
— Я все-таки не понимаю, — говорил Иванчук, обращаясь к дочери. — Как же ты могла уцелеть? Ведь ты говоришь, что сорвалась со стены и упала… Расскажи же мне теперь толком, как это все случилось.
— Да, папа, я сорвалась… и если б я упала не доходя этого места или же перейдя его, я конечно погибла бы, но это произошло как раз у самого угла стены. Знаешь, там, где стоит сарайчик. И к счастью я свалилась как раз на самый край его крыши. Я так волновалась, что совсем забыла про этот сарайчик. Кажется в ту минуту я лишилась чувств.
— О, это было ужасно! — прервала дочь Марья Ивановна. — Ты не можешь представить, в какое неистовство пришли собаки во дворе, когда Лида упала на крышу! Что только они ни проделывали, чтобы достать до нее!.. Было уже темно, и я не могла как следует рассмотреть того, что делалось на крыше. Я видела только, что Лида не двигается. Я подумала, что все кончено, и чуть не бросилась во двор к Лиде, но Магометка силой удержал меня…
— И хорошо сделал! — сказала Лида.
— Ну, а дальше… дальше! — нетерпеливо перебил Иванчук.
— Я пришла в себя, — продолжала девушка, — и поняла, что лежу на крыше сарайчика. Собаки так и не тронули меня, и я немного успокоилась. Я подобрала на крыше винтовку и патронташ, снова влезла на стену и благополучно добралась по ней до башни. Тут мама разорвала свой фартук, связала его обрывки и спустила с балкона ко мне на стену длинный жгут. Я привязала к этому жгуту винтовку и патронташ. Магометка поднял. Потом втянул меня на балкон.
— Ну, я не знал, что ты у меня такая отчаянная! — с гордостью сказал смотритель, ласково глядя на дочь.
Лида вспыхнула и улыбнулась счастливой улыбкой.
«Я привязала, к этому жгуту винтовку и патронташ…»
— Но до чего озверел Магометка, когда он взял в руки винтовку! — сказала Марья Ивановна. — Он спустился вниз, открыл дверь и давай палить! Уж и палил он! Уж и ругался на собак! А собаки — они сперва точно не понимали, что происходит, но когда две-три раненых с визгом завертелись по двору, остальные бросились за ворота. Магометка выскочил за ними в степь и там еще стрелял им вслед. Потом вернулся и стал избивать прикладом уже подстреленных собак… Когда все было кончено, я промыла Магометке раны и хорошенько перевязала их.
— Но почему же Магометка зажег фонарь? — спросил Иванчук,
— Папа… папочка, не брани его за это!.. Это я ему приказала… — тихонько сказала Лида, опуская голову.
— Ты?!. Это ты приказала?!. Но ведь ты же знала…
— Да, папочка, я все знала… и приказала… Когда собак прогнали и мама ушла в дом, мы с Магометкой остались одни во дворе, и я сказала ему: «Зажги свет на башне».
— А он?.. Что он тебе ответил на это?
— Он сказал, что этого сделать нельзя, потому что есть приказание от белых, чтобы свет не зажигать. Тогда я ему объявила, что есть другое приказание… от красных и что на этом приказании ты расписался.
— Ну и что же Магометка?..
— Он сказал, что ты будешь сердиться и бранить его, а тогда я спросила, приказывал ли ты, уезжая с маяка, чтобы огня не зажигали. Магометка ответил, что уезжая ты вообще ничего не приказал. Тогда я сказала: «Раз папа тебе ничего не приказал, то я приказываю тебе зажечь фонарь»…
— Зачем ты это сделала?
— Мне казалось… мне казалось, что так будет лучше…
— Почему?
— Потому что… — девушка запнулась. — Потому что мне не хотелось, чтобы ты обманывал… И потом… потом…
Ну что потом? Говори!
Лида потупилась. Иванчук вопросительно взглянул на жену. Он собирался еще что-то спросить, но в это время со двора раздался громкий стук в запертые ворота.
Смотритель и Марья Ивановна высунулись в окно. Они увидели, как Магометка подбежал к воротам, и слышали, как он окликнул кого-то. Вслед за этим киргиз распахнул ворота, и во двор вошли несколько матросов с винтовками за плечами. Иванчук сразу же узнал среди пришедших вчерашнего посетителя, вручившего ему секретное предписание красных.
Через минуту человек в серой куртке уже стоял перед Иванчуком.
— Сегодня ночью город взят красными войсками, — говорил он. — Белые повсюду сломлены и сломлены окончательно. Начальник штаба просил меня передать вам благодарность… — При этих словах Иванчук опустил голову. — Я привел сюда несколько товарищей, — продолжал моряк, — они временно должны быть расквартированы на вашем маяке, покуда в округе не установится полное спокойствие.
Он улыбнулся и, помолчав немного, продолжал:
— Скажите, однако, товарищ, что у вас такое произошло? Почему вчера вечером вы так поздно зажгли свет? Белые что ли помешали вам сделать это во-время? Мы было уже не на шутку стали беспокоиться и признаться подумали, что вы обманули нас… Впрочем, наши сомнения рассеялись, лишь только вы зажгли огонь.
— Я не зажигал света! — твердо ответил смотритель. — Вот кто распорядился вчера вместо меня.
Он указал на свою дочь. Марья Ивановна бросила на мужа тревожный взгляд.
— Да, — продолжал Иванчук, — если вчера вы одержали победу, то только благодаря моей дочери. Я же тут ни при чем!
Спокойно глядя в глаза незнакомцу, Иванчук рассказал все без утайки и о вчерашних событиях и о своих сомнениях.
Иванчук говорил просто и необыкновенно искренно. Человек в серой куртке серьезно и внимательно выслушал его. Потом он начал расспрашивать Иванчука о его уединенной жизни вдали от людей и событий. Видимо он старался понять смотрителя…
XI. Снова свет.
Был 1928 год. Я путешествовал по Каспию, командированный туда редакцией «Следопыта». Большой пароход старинной конструкции, с желтой трубой, нелепо примостившейся где-то на корме, отвозил меня к восточным азиатским берегам. Был солнечный день. Я стоял на палубе и беседовал с капитаном — старым морским волком с седеющими усами. Мимо нас по палубе лениво прогуливались скучающие пассажиры.
— Скажите, — спросил я капитана, — кто эта красивая молодая женщина в скромном белом платье?
— Которая?
— Вон та, с биноклем, что держит за руку бойкого мальчугана в шапочке с надписью «Марат». Я сегодня утром видел, что вы разговаривали с ней и с ее мужем.
— О, это весьма интересная женщина! — ответил капитан. — Лидия Николаевна Карина — исключительная личность. Мы все глубоко уважаем ее… Этой женщине мы обязаны многим.
— Вы заинтересовали меня, капитан. Расскажите мне про нее.
Не заставляя себя упрашивать, капитан в общих чертах рассказал мне историю о слепой девушке на маяке, способствовавшей победе Красного флота в гражданскую войну.
В тот же вечер капитан познакомил меня с Лидией Николаевной и ее мужем.+
Это был мужчина лет тридцати пяти с умным энергичным лицом и живыми выразительными глазами. По моей просьбе Лидия Николаевна сама еще раз рассказала мне в мельчайших подробностях свою историю.
«Магометка спустился вниз, открыл дверь — и давай палить…»
— Вот и все, — просто сказала Карина, рассказав о том, как ее отец встретил красных победителей у себя на маяке.
— Нет, Лидия Николаевна, это еще не все, — сказал я. — Вы не рассказали мне о том, каким образом и когда вы прозрели.
— О, это уже не интересно… После всего, что тогда случилось, в городе и даже среди кочевников в степи пошли всякие слухи, сильно преувеличивавшие мои заслуги. Комиссар флота, которому сообщили о моем поступке, заявил, что считает долгом что-нибудь сделать для меня. Он велел военному врачу как следует осмотреть мои глаза. Врач сказал, что есть надежда на возвращение зрения, и посоветовал отвезти меня в Москву для регулярного лечения. Тогда комиссар устроил нам бесплатный проезд, и отец отвез меня в Москву и поместил у родственников. Я лечилась у окулиста втечение полугода. Мне была сделана операция, и вот… я вижу.
Вижу так же хорошо, как и тогда, когда была совсем маленькой.
— А ваш отец? Где он теперь?
— Он уже больше не смотритель и сейчас живет в Красноводске. Муж получил отпуск из клиники, и мы едем к родителям. Мне хочется показать им их маленького внука… Я забыла сказать, что вышла замуж за того самого окулиста, который меня вылечил.
И Лидия Николаевна со счастливой улыбкой взглянула на мужа.
В снегах Лапландии. Очерки В. Белоусова, участника экспедиции «Следопыта» на оленях (окончание).
XVII
На север! — Шестое чувство. — Путь по долине. — Мы скоблим сани. — Вечная рыба. — Кувакса. — Медведь, страдающий бессонницей. — Ловкая лиса. — Избушка маленького человека. — Лапландский тореадор.
Восемь суток мы шли на север. С каждым часом все глубже и глубже уходили в лапландскую тайгу, и все охотней открывал нам свои тайны полярный лес. Каждый день был наполнен таким количеством самых неожиданных и сильных переживаний и впечатлений, что лишь немногие из них успевали как следует перевариться в сознании, большинство же скользило мимо, слегка обжигая и оставляя необъяснимое чувство полноты жизни. Нельзя описывать отдельно все эти дни: в описании они будут походить один на другой.
Невозможно словами передать все нюансы, всю тончайшую игру красок и звуков, которые слагают то, что я назову феерией северного леса. Здесь у человека рождается шестое чувство, а может быть и много других чувств. То, что человек здесь видит, он не только видит, он еще и чует всем существом. Это нарождающееся чутье позволяет как-то внутренне понять жизнь леса, камней, спящих под сугробами снега, скал, что виснут коричневыми кручами. Больше: оно позволяет человеку хоть частично жить жизнью леса, его горестями и радостями. Кто хочет научиться этому шестому чувству, должен бросить проторенные тропы и проникнуть туда, где его лыжи будут проторять первый след. В этом есть риск, но удача щедро вознаграждает.
Копыто оленя со льдяной култышкой.
Наш путь лежал по широкой долине, протянувшейся от водораздела до самой Туломы. Эту долину когда-то процарапал в горах ледник. По краям ее круто поднимаются вараки и белоголовые тундры. Здесь есть Ягодная тундра, Салма-тундра, Медвежья тундра, Аннис-тундра, Черная варака. Все они протянулись с севера на юг. Лопарские названия этих гор очень хорошо звучат: Мырь-уайвинч, Чалмынч-кван, Побонч-уайвинч, Чап-варь.
Тая и отступая на юг, ледник оставил в долине немало озер. Многие из них заросли и превратились в болота. Пробиваясь сквозь моренные валы из озера в озеро, сбегают ручейки, иногда небольшие речки, часто незамерзающие. Над ними стоит густое облако морозного пара, а все деревья кругом кажутся выточенными из какого-то странного белого материала — так много инея оседает на них.
Порядок нашего движения каждый день был один и тот же. Кондратий с утра впрягался в переднюю упряжку и тянул оленей за ремни. Этот медлительный лопарь был очень вынослив. По бокам шагали мы, кричали на разные голоса, пинками заставляли двигаться выбивавшихся из сил оленей. А на частых остановках Горлов повторял комбинацию с карандашом, альбомом и хореем.
В. Белоусов (по возвращений из экспедиции).
Попадались места, когда лишь большое упрямство двигало нас вперед. Снег достигал двух метров, и олени буквально плыли в нем. Вид храпящих и задыхающихся оленей, вскидывающихся на дыбы, прыгающих словно из последних сил из сугроба в сугроб, а потом падающих в снег с выкаченными глазами и высунутым языком, нас пугал. Каждую минуту мы ждали, что какой-нибудь из передовых оленей не выдержит и сдохнет. Но нам нужно было итти на север, и мы не могли щадить оленей. Кое-где приходилось пробираться под низко наклоненными деревьями, и при всех изощрениях олени не могли уберечь рога от ударов. А в других местах нужно было перетаскивать сани через кучи валежника. Это был трудный путь, и мы делали не больше десяти километров в сутки.
На озерах Кондратий обычно объявлял, что олени могут «брести», мы снимали лыжи, садились на сани и ехали. Но для оленей озера были не легче лесов. Несмотря на то, что термометр всю дорогу упрямо показывал -50°, под свежим снегом на озерах была вода. Олени проваливались в нее до самых ляжек, с трудом вытягивали копыта, и вода сейчас же замерзала у них на ногах. Бррр!.. Это было неприятное купанье! Копыта оленей, покрываясь все новыми и новыми слоями льда, превращались в какие-то нелепые култышки, животные спотыкались и не могли бежать. Приходилось пускать в ход ножи, чтобы счистить лед с их копыт.
Мокрый снег чудовищно намерзал на полозьях саней. И выехав за озером на тайболу, Кондратий останавливался и решительно говорил:
— Занадобилось саней поскоблить.
Мы перевертывали наши экипажи вверх дном и с топорами в руках работали над полозьями минут тридцать-сорок.
Д. Горлов (по возвращении аз экспедиции).
По нашему пути Кондратий проезжал только один раз, лет тридцать назад, еще «подросточком», но запомнил дорогу так, как только может помнить лесной житель, и без всяких карт и компаса прекрасно ориентировался в лесу. Впрочем, у лопарей компас есть: днем — ветки на деревьях, ночью — звезды, в особенности созвездие Кассиопеи, которое здесь называют «лопарскими часами». Но удивительнее всего то, что Кондратий знает не только общее направление, но и самые мелкие повороты пути. Не может быть, чтобы он помнил все это тридцать лет. Скорее всего здесь играло роль особое чутье опытного охотника.
Мы перевертывали «экипажи» вверх дном и с топорами в руках обколачивали лед полозьев саней…
У Кондратия хорошее представление и о расстоянии. Он, например, очень точно рассчитывал место нашего ночлега, хотя не мог выразить точно словами. Но на вопрос, много ли нам осталось итти до такого-то озера, отвечал всегда одной и той же фразой:
— А есть еще.
Или говорил:
— Не близко.
Потом подумает и добавит:
— И не далеко.
Когда настроение у него бывало хорошее, репертуар его менялся. Он говорил тогда:
— Много места есть еще за тайболой.
На ночлег мы останавливались где-нибудь на высоком месте, где легко было найти и хороший ягель и топливо. Кондратий очень долго возился с оленями, а мы лазали за дровами по грудь в снегу, с треском валили толстые крепкие сушины, разводили костер и готовили немудрый ужин. Главным поваром был Горлов.
Он очень гордился своим поварским искусством, с большой стойкостью отстаивал это свое звание и очень злорадствовал, когда раз я заместил его и каша подгорела.
Кондратий ухитрялся растянуть свою единственную рыбу на весь путь. За день она смерзалась так, что ею можно было бы забивать гвозди. Вечером же наш проводник оттаивал рыбу у костра. Из нее текла какая-то густая слизь, которую лопарь собирал на хлеб и с удовольствием ел. Он чувствовал себя сытым.
Кондратий первый ложился спать, нахлобучив на голову малицу. Потом устраивались мы. По ночам ни разу не мерзли, но все более мучительным становилось чувство отека, с которым просыпались по утрам. Пробовали делать завязки более свободными — не помогало, уменьшить же количество одежд не решались, потому что с пятьюдесятью градусами шутить все же опасно.
Обычно спали прямо под открытым небом, постелив на снегу побольше хвои. Но раз вечером шел снег, и, чтобы защититься от него, поставили «куваксу». Кондратий срубил семь тонких длинных жердей, составил их верхушками, а сверху мы их закрыли тремя «препонами» — большими брезентами. Получился шатер, похожий на вигвам, открытый спереди. Здесь мы развели костер. От снега кувакса защищала хорошо, но зато дым не давал покоя, осаждал нас, заставлял плакать, кашлять и искать спасения в бегстве.
Когда лопарь хочет устроить себе в лесу более постоянное жилище, он ставит куваксу, закрытую со всех сторон, и костер тогда разводится внутри ее; дым сначала наполняет весь курный шатер, а потом выходит в отверстие наверху. Бывают куваксы, покрытые сшитыми кусками березовой коры. В березовой куваксе отверстие для дыма обтягивают изнутри толстым сукном, чтобы искры от костра не подожгли кору.
Первые дни мы покидали бивак по утрам поздно, не раньше десяти часов. А в два часа уже надо было искать место для ночлега. Чтобы добиться более раннего отправления, мы пробовали сначала вставать в пять часов, потом в четыре. Напрасно. Кондратий раньше восьми не вставал и, поднявшись, аккуратно проделывал церемонию с курением и папиросной бумагой.
* * *
На Селис-озера наш путь пересекали глубокие следы. Мы остановились. Следы были медвежьи. Какая неприятность заставила медведя подняться в эту пору из берлоги? Или это старый ипохондрик, страдающий бессонницей и всю зиму слоняющийся по лесу? Неприятно было бы с ним встретиться с глазу на глаз! Следы шли сначала через озеро, потом вдоль берега. Они были огромны. Как будто здесь прошел человек в больших валенках. Но если всунуть в след пальцы, то можно было нащупать пять ямочек, оставленных когтями. Летом, когда следы на мхе отпечатываются неясно, — это обычный прием охотников: если пальцы нащупывают углубления и удобно размещаются в них — значит прошел медведь.
Без сомнения, наш медведь собирался скоро снова лечь в берлогу. Пройдя по его следу с полкилометра, мы нашли следы «пороя». Медведь разгребал на берегу снег и искал слабительных кореньев, чтобы счистить кишечник. Потом он стал ломиться через самый отчаянный бурелом и валежник. Этим он хотел запутать свои следы.
Мы лазила за дровами, по грудь в снегу…
Идя дальше, мы наверное видели бы, какими хитроумным и петлями шел медведь по лесу, как, не боясь холода, он сделал несколько сот шагов по течению порожистого ручейка, а потом, придя к берлоге, ободрал кору молодых деревьев себе на подстилку. Если медведь заснул крепко, наверное его берлогу можно найти по следам белки или лесной мыши, которые бесстрашно спускаются в логово и, пользуясь глубоким сном медведя, во многих местах выщипывают его шерсть. Из нее выходят такие мягкие теплые гнезда!
Интересный след попался нам на другом озере. Сначала мы ничего не могли в нем понять. Кондратий тем временем уехал вперед, и спросить его не удалось, но все-таки догадались: это хитрая лиса прошла по следам зайца. Она так аккуратно ставила лапы в ямочки, оставленные проскакавшим русаком, что сильно затруднила бы каждого преследователя.
В лесу ей оказалось не по пути с косым, и она проложила свою собственную тропу. Но все же она боялась преследования и часто крутила, сдваивая и страивая следы. На полянке она разрыла мышиную норку. Маленький грызун выскочил из-под самого носа рыжего хищника и бросится улепетывать. Если бы он успел спрятаться в куче валежника, то был бы спасен. Но крошечные следы испуганной мыши прерывались в нескольких метрах от убежища. Тремя огромными прыжками лисица нагнала свою добычу. Мышь кинулась в сторону и как раз угодила на завтрак лисе.
— Раз вечером шел снег, и, чтобы защититься от него, поставили куваксу…
А на следующей поляне — другое блюдо: куропатки. Лисе очень хотелось есть, но она знала, что здесь нужна осторожность, и много метров проползла на брюхе, прячась в сугробах. Ее ждала неудача. Куропатки во-время заметили врага, поднялись и скрылись с насмешливым криком. На полянке они оставили лишь отпечатки крыльев, словно кто-то хлопнул по снегу веером.
* * *
На восьмой день на берегу большого Улито-озера мы увидели избушку. Было только двенадцать часов, но мы так обрадовались человеческому жилью, что решили остановиться здесь на отдых. Избушка была пуста. Она принадлежала Луке Глухих, который иногда жил на Улите летом. Про Луку Кондратий говорил:
— Маленький такой человек есть. Еще меньше меня.
Несмотря на свой маленький рост, Лука построил хорошую избу. Мы еще не видели здесь таких просторных изб. И потолок в ней высокий и плоский, а не двускатный, как обычно. Мы могли ходить в избе спокойно, не рискуя наставить шишек на лбу. Камелек был полон снегу. Но разве это беда? Ведь над нами была крыша, стены защищали от мороза, мы могли спать без малиц и не возиться с костром, который дымит и «уходит». Дров оказалось сколько угодно. Недавно Лука строил заново амбар, и крутом под снегом кучами лежали старые бревна и доски.
В этот вечер мороз перевалил за пятьдесят, и когда мы растопили камелек, промерзшие бревна избы стали лопаться с сильным треском. Мы с тревогой посматривали на стены: не рухнут ли они, чего доброго?
В избушке можно было умыться. В этом почувствовалась настоятельная потребность, потому что наши ежедневные умывания снегом были мало действительны. Можно было, наконец, раздеться и хоть полчаса посидеть перед огнем без фуфаек, ватной куртки и пимов. Пальцы, державшие карандаш, не коченели, и мы с наслаждением работали весь вечер.
Следы медведя.
Кондратий, вернувшись из леса, сказал, что быки опять дерутся и их невозможно разнять. Кстати он вспомнил, как раз на него напал большой гирвас. Кондратий ловил важенку. Гирвасу это не понравилось: он подошел сзади и пырнул Кондратия рогами. Лопарь хотел отогнать его веревкой, но олень рассвирепел, подхватил своего хозяина на рога и потащил к камню, чтобы ударить о него. К счастью камень нависал над ямой. В нее-то и попал Кондратий. Там он был в безопасности от оленьих рогов. Но вылез он из-под камня только тогда, когда ему удалось, изловчившись, схватить гирваса за передние ноги, повалить на землю и связать.
Дикие гирвасы часто дерутся между собой досмерти.
Весь вечер Кондратий сидел перед камельком и поворачивался к огню то одним, то другим боком, словно поджаривался на вертеле. А Горлов перед сном выгрузил на стол все наши запасы и разделил их на дневные пайки. Оказалось, что мы должны сократить потребление сахара до трех кусков в день на человека.
XVIII
Завороженная ночь. — Дорога, которую видно сквозь снег. — Лапландский следопыт. — Несуразное четвероногое. — Не мы ли «следопыты»? — Шумит падун. — Работа бурлаков. — Распыленное солнце. — Выставка трофеев.
Ночью в избе было отчаянно холодно. Я оделся и вышел наружу. Мороз еще прибавился, но погода стояла изумительная. Было так тихо, что казалось, упади снежинка — ее было бы слышно. Высоко над лесом, над широким белым озером, над дальними тундрами плыла луна. Она была на ущербе, ее жизни оставалось всего с неделю, но светила она так ярко, что видны были следы от саней на озере и занесенная снегом лодка, оставленная кем-то на берегу.
Лес стоял застывший, белый, мохнатый, словно поседевший от старости. Чуть заметный дымок шел из трубы и поднимался прямо вверх. В такую ночь видны не столько сами предметы, сколько их тени. И все они кажутся неестественно большими…
* * *
Осенью, по первому снегу Лука покинул свою избу. Уехал он отсюда на санях, как раз по тому пути, по которому предстояло ехать и нам. С тех пор были оттепели, метели, неделями шел снег, казалось бы ничего не должно было остаться от следов проехавшее го человека. Но это только для непосвященных пришельцев. По каким-то непонятным приметам Кондратий обнаружил их «дорогу». Он очень обрадовался ей, потому что мы могли остаток пути ехать в санях. Лопарь спрятал лыжи под шкуры и накрепко привязал их.
Дорога действительно была. Не важно, что на ней лежал метровый пласт снега. Лопарь и его олени «видели» дорогу сквозь снег. Кондратий сразу определил, что Лука ехал на трех оленях: для четверной упряжки дорога была слишком узка. Наш проводник распряг одного из быков.
Медведь в берлоге.
Сначала олени сами нащупывали дорогу. Как только крайний правый сбивался с нее и проваливался на брюхо в снег, он сейчас же начинал толкать всю упряжку влево и скоро опять выкарабкивался на дорогу. Но дальше, на больших болотах дорога стала очень извилистой, и олени, потеряв ее и завязнув в снегу, часто не знали, в какой стороне она осталась.
Тогда приходил на помощь Кондратий. Он слезал с саней и, увязая по пояс, отправлялся искать потерянный путь. Обходил все болото и наконец ногами нащупывал дорогу. Желая удостовериться, он еще раскапывал руками снег, точно под ним могли сохраниться колеи и следы оленьих копыт.
Будь здесь настоящая, хорошо объезженная дорога, догадливость Кондратия не была бы удивительна. Но для того, чтобы найти дорогу, проложенную только одной упряжкой, раз проехавшей по этому месту, нужно было большое искусство. Вслед за Кондратием я пытался бродить вокруг саней и ощупывать снег ногами, но всегда потом оказывалось, что я несколько раз пересек дорогу, не заметив ее.
Так мы ехали день.
А на другой день, проезжая по краю высокого обрыва, увидели сквозь деревья под собой сначала дым, потом крышу большого дома, а вслед за ней и человека, который колол дрова. Это была лесозаготовительная контора — Улита, как ее сокращенно называют по имени реки, на берегу которой она стоит.
Мы не стали останавливаться у конторы. Отсюда до самой Туломы шла прекрасная крепкая дорога — по ней возили бревна. Олени, выбравшись на нее, забыли все свои горести и стремительной рысью понеслись вперед. Повеселели сразу и мы. Горлов оперся с удобством о мою спину и запел:
Ехали на тройке с бубенцами, А вдали мелькали огоньки…Он даже перестал сердиться, когда я, не расслышав что-нибудь из-под капюшона, переспрашивал. Нечего и говорить, что главной причиной такого подъема нашего самочувствия было предвкушение сытного обеда, который через несколько часов нам приготовят финны на Туломе.
Следы лисы и мыши на снегу.
Не разделял нашей радости только Кондратий. Дорога, по которой мы так приятно и быстро ехали, была проложена лошадьми. Это расстраивало лопаря. То-и-дело он останавливал упряжку и лез в сугробы, чтобы найти там какую-то специальную оленью дорогу. Напрасно мы уверяли его, что лучше этой «конки» ничего не найти. Он с удовольствием погнал бы оленей снова в снег, лишь бы не ехать там, где ездят на таких несуразных животных, как лошадь.
Кстати с лошадью мы встретились чуть подальше. И здесь произошел большой курьез. В то время как олени не обратили ни малейшего внимания на это странное четвероногое и спокойно стали обходить по краю дороги воз с бревнами, встречные возчики, завидев нас, страшно взволновались. Они соскочили с саней, один из них держал лошадь под уздцы, а другой зажимал ей глаза руками. Очевидно лошадь, попавшая за Полярный круг, стыдится своей дерзости перед законным обитателем этих мест — оленем. После такого длинного «оленьего» путешествия чудно было видеть лошадь. Такая обычная у нас, — здесь, в полярном крае, она казалась шуткой природы, почти уродством.
Длинный спор с Кондратием, который уверяет, что «занадобилось ночевать», кончается нашей победой. Мы едем ночью, чтобы возможно скорей добраться до Туломы.
Эта ночь — самая лучшая во всем нашем путешествии. Луна ярко освещает белые лапы елок, дорогу, ныряющую в дрожащую темноту, и что-то очень заманчивое, скрытое позади далеких варак. Из-за них поднимается по небу легкий, как дым, и неуверенный, как вся эта лунная ночь, голубой свет.
В эту ночь мы не смотрим на термометр, но чувствуем, что мороз еще усилился. От него не только мерзнут ноги, закутанные в ровы, и руки, спрятанные на груди под малицией: воздух обжигает легкие, и трудно дышать.
Впереди слышен шум. Мы уже знаем, что это такое. Это шумит Туломский падун — один из самых больших водопадов Лапландии. Сначала как будто шумит ветер в лесу, потом ветер переходит в бурю, а дальше — в глухой нутряной грохот, который может принадлежать только мощному потоку воды, катящемуся через камни.
В темноте олени галопом сносят нас по крутому склону на лед широкой реки. Мы цепляемся за сани, чтобы не вывалиться. Все кругом искрится под луной. Инеем покрыты избушки на берегу, толстой щетинистой изморозью убраны деревья, и сам воздух, кажется, смерзся, превратившись в мельчайшие ледяные кристаллики. Над грохочущим падуном висит белое облако.
Мы увидели под собой дым, а потом крышу большого дома…
Мы останавливаемся у большой избы. Когда мы входим в нее, все ее население — человек двадцать широкоплечих финнов-дровосеков — сидит на полу, хотя лавок и табуреток в комнате достаточно. Оказывается, сегодня суббота, Все они усердно парились в бане и теперь отдыхают — на полу холодней. Только один молодой человек сидит на скамейке. Он поднимается нам навстречу и рекомендуется:
— Лыжник-почтарь.
Из Колы он носит почту вверх по Туломе, и его еженедельный «рейс» — 150 километров. Почтарь осторожно спрашивает нас:
— Не вы ли «следопыты»?
И на наш ответ: «Они самые», весь сияя, протягивает нам пачку писем…
* * *
Сейчас Туломский падун заключен в тяжелые оковы. Мороз слепил изо льда много причудливых статуй и расставил их на камнях поперек течения реки, стеснив ее головокружительный бег. Одетый в крепкие латы, водопад глухо гудит, точно сердится на кого-то, и лишь небольшой поток вырывается из-под льда и, разбиваясь о камни, со злостью плюется белой, точно мыльной пеной.
Возчики возят деревья на берег…
Совсем по-другому бывает здесь весной. Тогда вода косматым ревущим зверем наскакивает на скалы и рушится с каменного уступа с такой силищей и грохотом, что далеко вокруг дрожит лес.
Тогда по реке идет сплав. Плоты и отдельные бревна, спущенные в воду где-нибудь в верховьях Лоты или Нотты (реки, из которых рождается Тулома), плывут вниз и, дойдя до падуна, застревают в камнях, громоздятся на них как спички высокими «заломами». Чтобы спустить залом дальше, нужна большая и трудная работа бурлаков. С багром в руках сквозь пену, брызги и рев воды карабкаются они на скользкие бревна и спихивают их одно за другим в падун. Бурлакам приходится работать, стоя в потоке по колено. Вода норовит сбросить смельчаков под уступ — в мохнатую пену, на камни, смерть. Но бурлаки привыкли к своей работе. И если им нужно бывает спуститься по наклонному бревну с одного камня на другой, они делают это, соскальзывая на мокрых подошвах сапог, стоя во весь рост и балансируя багром. С берега на скалы, торчащие в падуне, бурлаки кладут мостик шириной в десять сантиметров, гнущийся под тяжестью человека, и бегают по нему над водопадом с ловкостью акробатов.
Иногда опытный взгляд сплавщика обнаруживает, что весь залом держится, уперевшись в одно «виновное» бревно. Тогда самый смелый бурлак лезет на залом, зачаливает виновное бревно большим крюком, и на берегу начинают накручивать на ворот веревку, привязанную к крюку, вытягивая бревно. Бурлак остается на заломе до тех пор, пока бревна, потеряв опору, не рухнут все сразу в падун, громоздясь друг на друга, вставая на дыбы и выскакивая из потока.
Ухватившись за выступ скалы, бурлак ждет, пока пронесутся мимо него готовые сокрушить все на своем пути бревна. И горе ему, если он не успеет во-время отскочить и будет захвачен ими. Гибель тогда почти неизбежна. Лишь благодаря счастливой случайности бурлак, сорвавшийся в падун последней весной, остался жив: ему удалось проскочить порог, ухватившись за бревно. Но два сломанных ребра, вывихнутая рука и перешибленная нога были результатом падения. Оставаться же на заломе бурлак должен на тот случай, если лопнет веревка, вытягивающая виновное бревно, или не удержится крюк в сырой древесине.
А как только залом пущен и бревна, только что бесновавшиеся в падуне, спокойно, словно отдыхая, поплывут по широкому омуту, наверху открывают «ширму» в «запане», устроенной поперек реки из связанных цепями бревен, и через несколько минут новый залом так же дико и жутко громоздится на камнях падуна. И опять начинается трудная работа бурлаков.
Если нельзя с берега добраться до бревен, застрявших посреди реки, перекидывают через падун канат и подвешивают к нему «люльку» — узкую перекладину на блоке. Бурлак садится на этот непрочный аппарат и отправляется на нем наводить порядок в озорливом водопаде.
Замерзший порт Архангельск.
Зимой главная работа происходит в лесу. Дровосеки валят деревья, возчики вывозят их на берег реки и складывают штабелями, чтобы, как только пройдет лед, можно было спустить их в воду. Дровосеками работают здесь главным образом финны, из русских только северяне: архангельцы или местные мурманские колонисты.
Мы провели день среди туломских дровосеков. Они жили в большой избе одной артелью — человек двадцать мужчин и две женщины. Никогда не приходилось нам видеть такого дружного коллектива, как у этих жизнерадостных северян.
* * *
В этот день в первый раз взошло солнышко. Оно поднялось за щетинистым лесом и продержалось над горизонтом несколько минут. Это было странное солнце. Оно было превращено в яркую золотистую пыль, словно выброшенную из-за леса гигантским пульверизатором; тонкая ее струя поднималась до самой вершины неба, рассыпаясь дождем над лесами, Бараками и рекой.
Все люди ходили, подняв лицо к небу, все были очень радостны, забыв даже про мороз, от которого трескались деревья в лесу. Стал другим и лес. На засыпанных снегом ветках вдруг вспыхнули красные, зеленые, голубые, желтые огоньки, забегали, перескакивая с ветки на ветку, как тысячи светлячков, и лес сразу потерял всю свою суровость и фантастичность… Он стал праздничным и добродушным как детская игрушка.
Теперь с каждым днем все дольше и дольше будет оставаться солнце на небе. Все ярче будет блестеть снег на деревьях и на реке, а когда случайно набежавшая туча сбросит на землю пригоршню мелких снежинок, они будут казаться быстрыми мухами с блестящими крылышками.
А через месяц люди наденут темные очки-консервы, потому что блеск снега станет нестерпим для глаз.
Постепенно завоевывая небо, солнце очистит от снега леса, скинет с речек их тяжелую одежду, обнажит мшистые морщинистые скалы, и лапландская тайга заживет новыми красками, запахами и звуками.
А еще позднее солнце будет чертить по небу полный круг, не скрываясь ни на минуту, и деление суток на ночь и день перестанет существовать. В полночь солнце будет светить и греть немногим слабее, чем в полдень. Словно пытаясь наверстать упущенное время, с необыкновенной быстротой распустятся северные цветы, ковер высоких разноцветных мхов ляжет под потемневшими елями, и побегут по лесу суетливые ручейки. Вода в них будет мягко изумрудного цвета, точно в ней спряталось до поры до времени зимнее небо.
Нигде так не отличается лето от зимы, как за Полярным кругом. И кто захочет увидеть здесь летом остатки зимы, должен будет подняться на вершину высокой тундры, и на дне глубоких ущелий он найдет спрятавшийся от солнца затвердевший снег.
* * *
В одну ночь проезжаем мы на оленях те сто километров, которые отделяют нас от Мурманска. Там нас ждет новость: от сильных морозов замерз порт, и от судна к судну люди ходят по льду.
В последний день полярного путешествия в номере гостиницы мы устраиваем выразительный «натюр-морт»[17] из трофеев экспедиции. В нем фигурируют: артистически разодранная рубашка, «кандалакши», похожие на больших гнусных медуз, растерзанные рукавицы и много других предметов, на состоянии которых наше путешествие отозвалось катастрофически.
Остров гориллоидов. Научно-фантастический роман В. Турова (окончание).
XXX. Снова в воздухе.
Утром Дюпон, кряхтя и ругаясь, попробовал пройти несколько шагов и, убедившись в безнадежности этой попытки, определил положение следующим образом:
— Ногу хоть выбрось. Сейчас в ней меньше толку, чем если бы ее вовсе не было. Голова в порядке. Следовательно, беру ответственность в воздухе не только за себя, но и за вас обоих, дорогие товарищи.
У Ильина только слегка болела голова. Повязок трогать не стали и, опорожнив на троих две жестянки консервов, принялись общими силами водружать механика на аппарат. Задача оказалась довольно трудной, потому что простреленная нога затекла и потеряла способность двигаться; зато железные плечи механика приняли деятельное участие в «погрузке», и в конце концов он был помещен в сиденье пилота. Через несколько минут, оправившись от перенесенной встряски, Дюпон оглянулся на уже сидевших позади спутников, включил самопуск, и аппарат после короткого разбегу стремительно рванулся вверх.
Несколькими громадными кругами Дюпон забрал высоту, затем направился в сторону Ниамбы.
Прозрачная завеса светло серого дыма еще покрывала остров. Черная точка медленно переплывала реку. Аэроплан круто скользнул вниз, и шевелящееся пятнышко ясно вырисовалось на том берегу реки.
Ильин наклонился к летчику и, стараясь покрыть рев мотора, крикнул ему в ухо:
— Есть! Уже переплыли!
Дюпон утвердительно кивнул и снова направил аппарат круто вверх.
Широко развернулась чаша горизонта и тоненькой блестящей ниточкой казалась потонувшая в лесной чаще река. Не доходя до резко выделявшихся угловатых пятен зданий института, аэроплан повернул вправо и на далеком расстоянии обошел их громадной дугой. Затем мотор был выключен, и аппарат красиво спланировал на большую поляну у берега реки.
Когда аппарат остановился, Дюпон обернулся к Ильину.
— Вот что, дружище. Итти, конечно, придется тебе, и это очень скверно, потому что я бы легко обладил там наше дело, а тебе устроить все как следует будет трудно.
— Ну, я хорошо знаю все здания и окрестности института.
— Да. Но ты не знаком с рабочими. Это во-первых, — Дюпон критически осмотрел измазанную кровью физиономию и одежду товарища. — А во-вторых — если бы только ты мог сейчас посмотреть на себя в зеркало! Сомневаюсь, чтобы твой вид мог внушить доверие честному человеку. — Он рассмеялся. — В таком виде, конечно, нечего и думать итти. Прежде всего спустись к реке, вымой физиономию и выполощи насколько удастся рубашку.
— Я это ему сделаю, — вмешалась Мадлэн.
— Отлично! Значит, умойся и возвращайся скорей, нужно еще обдумать как следует план дальнейших действий.
Когда через несколько минут Ильин с мокрым, но уже чистым лицом подошел к аппарату, Дюпон сидел глубоко задумавшись.
— Чем больше я думаю, — сказал он, — тем труднее кажется задача. Во-первых, надо предупредить и снять всех рабочих, а это мудреное дело. Во-вторых, — как ты думаешь, погладят ли их — да и нас также — по головке, если рабочие придут в порт, бросив в беде свое начальство?..
— А если, — сказал Ильин, — без всяких хитростей: просто предупредить всех в институте, а самим махнуть по воздуху в порт. Там нас, как спасшихся от катастрофы, несомненно встретят с распростертыми объятиями.
Лицо механика загорелось непримиримой ненавистью.
— Ну, нет! Все, что угодно, только не это! Значит — спасти своими руками гнездо гадов, которые готовили здесь это чудовищное дело? Свести все только к бою, где через несколько дней мобилизованные негры и гориллоиды будут избивать друг друга? Нет, этого мало, Андрей! Расправа должна быть такой, чтобы там, в Европе, вздрогнули от ужаса, чтобы раз навсегда отбить охоту заниматься таким делом. Всю чашу развлечений, которую они готовили для рабочих кварталов, — пусть эту чашу они сами выпьют до дна! Они сотворили дьявола, так пусть до конца дьявол сделает дело! Пойми, что это нужно не из мести (хотя и она была бы естественна), а для надежности действия лекарства.
Широко развернулась чаша горизонта…
Несколько секунд Ильин стоял молча, опираясь локтем на крыло аппарата, потом поднял голову:
— Ты прав. Пусть будет так.
— И если даже мы погибнем, — добавил Дюпон, — и если подвергнутся преследованиям наши здешние товарищи, это не будет дорогой ценой за окончательную ликвидацию дьявольского плана. Теперь вот что. Итти советую берегом, чтобы не заблудиться в лесу. К счастью, рабочий поселок построен отдельно и далеко от ограды парка, притом как раз с этой стороны. Я для того сюда и опустился. Зайди к шоферу. Его домик — крайний слева. Передай его жене эту записку. Она ничего женщина, но все-таки лучше много ей не говори. Я пишу, чтобы он и еще один товарищ сговорились с тобой, как провести это дело. Путь туда займет не больше часа, и времени до прихода отряда Луи хватит за глаза, тем более, что ребят — во избежание подозрений на них — надо будет снять, если можно, в самый последний момент.
Когда через минуту Ильин надел принесенную Мадлэн мокрую, но уже более или менее чистую рубашку, Дюпон снял с головы фуражку.
— Повязку на голове, — сказал он, — надо закрыть. Теперь ты будешь иметь менее сенсационный вид. И возьми револьвер: кто знает, может быть он тебе пригодится.
XXXI. Не все делается по плану.
На опушке леса Ильин обнял молодую женщину.
— Дальше, дорогая, итти нельзя. Ты будешь мне мешать и поставишь меня в опасное положение. Возвращайся к аппарату, жди меня и будь умной. Не беспокойся, я скоро вернусь, и завтра мы вероятно будем уже вне всякой опасности.
Некоторое время Мадлэн провожала его глазами, затем зеленая завеса скрыла мелькавшую между деревьями фигуру…
* * *
Вдоль берега шла тропинка, местами углублявшаяся в чащу, затем снова сворачивавшая к реке. Кругом было тихо, встречных не было, и, напряженно прислушиваясь к каждому звуку, Ильин быстро шел к поселку. Через час впереди, сразу в нескольких местах, мелькнули просветы, и, еще увеличив осторожность, Ильин выбрался на опушку.
Домики для квалифицированных рабочих были расположены группой на холме близ края поляны. Ниже и ближе к реке виднелись многочисленные хижины негров. Осторожно обогнув по опушке край поляны и скрываясь за густым кустарником, Ильин оказался наконец против крайнего домика. Кругом было пусто, и, быстро пройдя по открытому месту, он постучался в дверь.
Открыла молодая, но болезненная на вид женщина. При виде незнакомого бледного лица и повязки, предательски выглянувшей из-под фуражки, она испуганно отшатнулась.
Ильин протянул ей записку.
— Эту бумажку Дюпон просил передать вашему мужу.
— Дюпон!.. — молодая женщина еще откровеннее попятилась. — Кто вы такой? Дюпона давно отправили в Европу.
Ильин улыбнулся.
— Дорогая хозяйка, Дюпон не в Европе, а здесь, недалеко отсюда. И не пугайтесь моего немного странного вида. Произошли события, которые ставят в опасное положение вашего мужа и вас, и я пришел для того, чтобы сообщить ему крайне важные для него вещи.
Молодая женщина растерянно засуетилась.
— Ну, конечно, я так и знала. Я всегда этого боялась. Я всегда ему говорила, чтобы он не путался с этим Дюпоном и не ввязывался в политику. Вот теперь и вышло. Его, значит, хотят арестовать?
Ильин снова улыбнулся.
— Вовсе нет. Дело не в том. И мой вам совет, если вы хотите избежать очень большой опасности для него и себя, то как можно скорее передайте ему эту записку. Кроме того, постарайтесь не иметь взволнованного вида и никому, понимаете, никому ни слова об этой записке и моем приходе.
Молодая женщина несколько секунд испуганно на него смотрела, затем снова бесцельно засуетилась, схватила записку, выскочила за дверь, снова вернулась и уставилась на странного гостя.
Как ни серьезно было положение, Ильин от души расхохотался.
— Я вижу, вы боитесь оставлять меня одного в квартире. Заприте ее, а я посижу в саду; и поверьте, я пришел вовсе не затем, чтобы забрать ваши горшки.
Смех Ильина почему-то успокаивающе подействовал на молодую женщину, и голос ее сразу стал приветливым:
— Посидите здесь, товарищ, — сказала она. — Я вовсе этого не думала, только я так боюсь за мужа и так измучилась последнее время, особенно когда исчез Дюпон… — И приотворив дверь, она быстрыми шагами направилась к видневшейся за деревьями высокой крыше лаборатории.
* * *
Высокий чернобородый хозяин квартиры был поражен встречей и не сразу получил дар слова.
— Я ничего не понимаю, мсье, — пробормотал он в конце концов. Вы ведь находились в Ниамбе?
Ильин улыбнулся.
— Да, я был в Ниамбе, товарищ, и я только что прибыл оттуда на аэроплане после разразившейся там страшной катастрофы. Вы слышали, что в Ниамбе скрещивали людей с обезьянами?
Шофер заволновался.
— Какая чушь! До нас доходили слухи, но этой сказке, конечно, никто не верил.
— Это было, — возразил Ильин, — и в больших размерах. Десять тысяч женщин должны были в ближайшее время прибыть для этого в Ниамбу. Затем то же самое было решено широко развернуть по материку. Пользуясь тем, что эти чудовища к восьми годам делаются взрослыми, военное министерство предполагало создать из них свирепую армию для подавления революционных выступлений рабочих.
Шофер медленно попятился назад и, делая жене знаки глазами, занял позицию у двери.
Мадлэн провожала его глазами…
Легкая усмешка, мелькнувшая на его губах, объяснила молодому ученому, какой эффект произвели его слова, и он сделал усилие, чтобы остаться спокойным.
— Я вижу, что вы считаете меня душевнобольным. Не торопитесь, товарищ, с заключением и выслушайте меня внимательно. Вчера среди этих чудовищ разразился пьяный бунт, после того, как они овладели складом спирта. В результате Ниамба разрушена до основания и почти все жители перебиты. Я — один из троих, уцелевших от погрома.
Шофер еще раз провел глазами по бледному лицу и истрепанному костюму молодого ученого, затем, составив себе уже окончательное заключение, внезапно захлопнул дверь и щелкнул засовом.
Ильин потерял у двери несколько драгоценных мгновений и, когда бросился наконец к окну, сквозь стекло мелькнуло как тень лицо хозяина и раздался стук запираемой ставни. Несколько секунд он безпомощно метался во мраке, затем зацепился, очевидно, за столик, с грохотом опрокинул его и растянулся на полу. Поднявшись, он заставил себя сесть на подвернувшийся диван, чтобы возможно спокойнее обсудить положение.
XXXII. «В тюрьму или в сумасшедший дом?»
История была настолько дурацкой, что ничего хуже при всем желании нельзя было бы придумать! Ясно, что за ним вскоре явятся. Совершенно ясно также и то, что администрация института уж никак не признает его сумасшедшим. Значит через час он будет сидеть за решоткой, а затем придут гориллоиды…
Свежие воспоминания вчерашнего дня вспыхнули с такой остротой, что Ильин невольно вздрогнул. Слепая, нерассуждающая ярость ударила в голову, и, схватив подвернувшийся под руки табурет, он изо всех сил принялся бить по оконной раме. Дождем посыпались стекла, рама затрещала, но ставня упорно не поддавалась. Потом с треском разлетелся на куски табурет, и он сразу опомнился.
«Теперь кончено! Теперь ни у кого не останется ни малейших сомнений в моем безумии!»
Через минуту за стеной раздались шаги и истерический озлобленный крик хозяйки:
— Это ты, несчастный идиот, сошел с ума. А?! Запер сумасшедшего у себя в комнате! Да ты мог же, дурак, сообразить, что он там все переломает. Что здесь без тебя было! Ведь там во всей комнате не осталось ни одной целой вещи.
Несмотря на трагизм положения, Ильин не мог удержаться от смеха.
— Чорт бы его взял. Он вовсе не произвел на меня впечатление буйно помешанного, — ответил голос хозяина.
Второй, низкий, медью отливающийся голос вмешался в разговор:
— Я одного не понимаю, Жан: ведь у него была записка Дюпона.
— А почему ты думаешь, что это записка Дюпона?
— Но ведь ты смотрел на его почерк? — продолжал тот же голос.
— Почерк, как почерк. У всех людей почерк более или менее одинаковый. Нужно быть экспертом в суде, чтобы отличить их друг от друга.
— Но разве у тебя не было какого-нибудь письма Дюпона для сравнения?
— Если бы оно и было, я давно бы его уничтожил, и ты сам понимаешь почему. Но ты напрасно сомневаешься. Как только жена показала мне бумажку, я уже заподозрил, в чем дело. Ведь все мы отлично знаем, что Дюпон отправлен в Европу. Когда я взглянул на его лицо и блуждающие глаза и выслушал этот дикий бред, так всякие сомнения исчезли. Как-то я в Льеже долго болтался без работы и дошел до такой крайности, что поступил сторожем в сумасшедший дом и проработал там месяца два. Так что отличить такого больного я всегда сумею. Могу тебя уверить, что большинство тамошних квартирантов казались вполне здоровыми по сравнению с этим несчастным… Но жена права. Я поступил как круглый идиот, заперев его в комнате. Он там должно быть переломал всю мебель.
Ильин, который до этого момента тихо слушал, чтобы уяснить окончательно положение, теперь постучал в стену.
— Товарищи, послушайте минутку толком, что я вам говорю. Я вовсе не сумасшедший, и письмо действительно от Дюпона, и я могу сейчас проводить вас к нему. Наш аэроплан стоит километрах в шести или семи отсюда, за лесом. Дюпон находится там, но он ранен и не мог сам прийти. Не будьте идиотами. Пройдемте туда вместе, и вы убедитесь в правильности моих слов. Но раньше оповестите всех рабочих — собраться сюда и готовиться к бегству. Большой отряд помесей человека с гориллой идет из Ниамбы, которую они разрушили до основания. Это громадные, ростом в два метра, волосатые и свирепые животные, и горе тому, кто попадет им в руки. Они вооружены винтовками, замечательно метко стреляют, великолепно обучены воинскому строю самим Ленуаром, и здешним солдатам не задержать их и пяти минут.
— Слышишь, Менье, — голос хозяина звучал торжеством. — А ты еще сомневался. Беги предупредить администрацию, а я покараулю здесь снаружи. И, чорт бы их взял! Если они пораспустили здесь по лесу сумасшедших профессоров, я заставлю их заплатить мне за поломанную мебель!
Ильин в полном отчаянии схватился за голову и заметался по комнате, натыкаясь в темноте на разбросанные и поваленные вещи.
Со всех точек зрения положение было безнадежным. И самое скверное, что невозможно придумать разумного выхода!.. Под ноги снова попался тот же диван. Охваченный внезапно наступившей апатией, Ильин вытянулся на нем, бессмысленно уставившись глазами в узкую как ниточка полоску света, проникавшую между ставнями.
Время тянулось медленно, снаружи было тихо, и утомленное сознание уже стало заволакиваться туманом, когда послышались шаги идущих к дому людей.
План института о прилегающей местностью.
Дверь отворилась, поток яркого света залил комнату, и в тот момент, когда сначала ослепленные глаза Ильина вернули способность видеть, от двери раздался громкий и оскорбительно наглый смех.
Впереди вошедших стоял знакомый по давнишней встрече в столовой хлыщеватый лейтенант в белоснежном кителе и шлеме, с моноклем в глазу. Похлопывая хлыстиком по щегольским коричневым крагам, лейтенант внимательно осмотрел оборванное платье Ильина, затем только одной головой повернулся немного влево.
— Нельзя сказать, чтобы этот ученый… — он по особенному протянул последнее слово, — имел слишком элегантный вид. Вы знаете, я не люблю русских главным образом за то, что с ними никогда не знаешь, надо ли их сажать в тюрьму или в сумасшедший дом. — И лейтенант снова рассмеялся.
Ильин никогда впоследствии не мог сообразить, как это случилось, что, взяв на прицел монокль, он нажал гашетку парабеллюма.
Стоявшие в дверях с ужасом шарахнулись в стороны, и, перешагнув через упавшее поперек коридора тело лейтенанта, Ильин сразмаху ударил дулом револьвера в рыжий затылок оказавшегося перед ним начальника местной полиции и одним прыжком выскочил наружу.
Перед домом толпой стояли, с любопытством вытягивая шеи, рабочие. С этой стороны забор палисадника загораживал путь, и Ильин метнулся между кустами влево.
Сзади раздался выстрел, потом другой, у самого уха свистнула пуля… какая-то фигура бросилась навстречу с распростертыми, как для объятий, руками — и сразу замерла, увидев револьвер в руках беглеца. Ильин нырнул в калитку, выскочил на улицу и кинулся бежать, сам не зная куда.
ХХХIII. Гибель Тропического института.
Ослабленное потерей крови сердце колотилось, разрывая грудную клетку, и дыхания уже не хватало когда, спотыкаясь от усталости, он подбежал к крайнему домику поселка. Впереди был кусок открытого поля. За ним ограда института. Бежать туда было незачем, да он бы и не смог бежать дальше.
Шум толпы раздался совсем рядом, какая-то женщина с визгом выскочила из дверей дома и метнулась в сторону. Тогда почти машинально, уже не зная, зачем он это делает, Ильин из последних сил вбежал во двор, вскорабкался по приставленной к стене лестнице на крышу и спрятался за трубой, под густо сплетавшимися ветвями стоявшего рядом с домом дерева.
Ильин из последних сил вскорабкался по лестнице на крышу…
Через несколько секунд двор наполнился шумящей и кричащей толпой.
— Ты, я вижу, очень умный! Лезь, коли хочешь, сам на крышу. Видел, как он смазал прямо в глаз лейтенанта?
— Приставляй лестницу правей, ребята?
— Какую там лестницу, здесь надо с чердака проломать дыру на крышу.
Потом, покрывая отдельные выкрики, раздался уже знакомый Ильину медный голос рабочего, который давеча разговаривал с шофером.
— Стой, ребята, не валяй дурака. Это вам не кролик. И вовсе незачем нам подставлять лоб под пули.
— А с чего это он взбесился, дядюшка Менье?
— Чорт его знает с чего! Ну, расходись, пускай администрация достает его как знает. Нам ведь не положат прибавки к жалованью за лишнюю дырку в шкуре.
Шум на дворе начал стихать, и толпа, прекратив наступательные действия, рассеялась по краям двора, не желая упускать зрелище.
Ильин, весь залитый потом, лежал под ветвями без мыслей в голове, наслаждаясь, как усталое животное, покоем отдыхавших мускулов и прислушиваясь, как сердце все медленнее, тише и ровнее билось в груди.
Через несколько минут он поднял голову. Группа черных солдат с офицером во главе быстрым шагом направлялась сюда от ворот института. Рядом с офицером, твердо ступая негнущимися от подагры ногами, шел высокий старик с длинной бородой, в котором Ильин узнал директора института, молчаливого и сурового профессора Делярош. Подойдя к дому, часть солдат развернулась со стороны улицы, часть вошла во двор и оцепила само здание.
Ильин долго и жадно оглядел бездонное синее небо и темную полоску опушки леса, глубоко вздохнул и вложил в револьвер новую обойму. Страх, и беспокойство исчезли. На этот раз через несколько минут все будет кончено. Он твердо знал одно, что живым его не возьмут.
Слабо шумевшая до сих пор толпа замолкла. Справа за углом слышался звук неторопливого разговора: очевидно, там обсуждался план действий^ Ильин еще раз глубоко вздохнул, медленно повел взором по четко вырисовавшимся на фоне неба вершинам пальм парка — и внезапно расширившимися глазами впился в дальнюю опушку леса.
На поляне, развернувшись фронтом к реке, молчаливо и быстро двигалась длинная черная цепь.
Несколько секунд Ильин смотрел, еще не веря своим глазам. Да, это были они, в этом не было ни малейшего сомнения. Громадные даже на таком расстоянии фигуры, волосатые, неуклюжие и стремительные. Сутулые плечи и длинные, ниже колен, руки, со взятыми наперевес винтовками… И все же это было нечто совсем другое, чем вчера. Как тогда, на памятном ученье в Ниамбе, цепь шла неуловимо правильным шахматным порядком — каждое заднее звено в промежутке двух передних, — и мощь несокрушимого натиска чувствовалась в стройном и стремительном движении чудовищ.
В эту минуту справа, по ту сторону институтских зданий, раздался короткий отрывистый залп, затем другой, и разом, закипела сильная ружейная перестрелка. Внизу на дворе началась суматоха, но Ильин уже ни о чем более не думал, весь отдавшись наблюдению развертывавшегося перед ним небывалого боя.
Характер происходившего был ясен. Очевидно, часть гориллоидов повела наступление в лоб вдоль реки и, судя по выстрелам, уже ворвалась в институтские здания; другая часть шла в охват, в промежуток между институтом и рабочим поселком.
Во дворе паника усиливалась. Солдаты, не видя снизу происходящего, но слыша в стороне института разгорающийся ружейный огонь, выскакивали на улицу и быстро выстраивались, повинуясь резкой отрывистой команде. Затем отряд бегом двинулся обратно, к воротам института. Позади них, неторопливо шагая своими длинными негнущимися ногами, одиноко шел по полю старик-директор. Обходящая цепь гориллоидов, видная Ильину с крыши как на ладони, была для находящихся внизу еще скрыта складкой местности.
Когда солдаты подошли к ограде парка, ворота открылись, и оттуда вырвался поток людей, в дикой панике бежавших по направлению к рабочему поселку. Затем выскочили десятка три солдат, кативших за собой два пулемета, но в тот же момент на гребне холма уже совсем близко показалась цепь гориллоидов.
Вопль ужаса огласил равнину, и толпа беглецов в полном беспорядке рассеялась — назад к институту, в сторону реки и вперед к поселку. Густо и дробно застучали выстрелы пулеметов, и струи пуль облили шеренги нападавших.
Ильин, забыв обо всем — о своей безопасности, о задании Дюпона и даже об оставшихся за лесом товарищах, — поднявшись во весь рост на крыше, впился глазами в картину начинавшегося перед ним на равнине необычайного боя.
Как только первый пулемет хлестнул по рядам гориллоидов, их шеренги, словно придавленные лопатой, пали на землю, и сейчас же короткими, но непрерывными перебежками снова рванулись вперед. Те звенья, на которые лился поток пуль, лежали, словно вросшие в землю, или лежа стреляли, и в то же время другие звенья стремительными скачками бежали вперед.
Перебежки как искры непрерывно вспыхивали и гасли по фронту наступавших цепей, и, почти не веря глазам, Ильин видел, что, несмотря на кажущуюся сумятицу падавших и вскакивавших фигур, обе шеренги сохраняют известное равнение, а каждое звено по-прежнему остается в промежутке позади или впереди двух соседних. И несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, позади цепей почти невидно было павших.
Да, Ленуар знал, что делал! Горе человечеству, если бы это оружие уцелело в его руках…
Сопротивление было коротким. Через две — три минуты солдаты, бросив пулеметы, кинулись туда, где, собственно, не могло быть спасения, то-есть к реке, — и гориллоиды с победным ревом рассыпались по всей равнине, осыпая пулями и преследуя бегущих. Небольшая часть беглецов, сохранивших остатки хладнокровия и удержавшихся от панического бегства к реке, все же прорвалась к поселку. За ней гнались отдельные гориллоиды.
Оставаться далее на месте — грозило гибелью.
Спускаясь с крыши, Ильин увидел в хвосте бегущих задыхающегося и еле передвигающего ноги барона Делярош, тащившего за руку свою молоденькую дочь.
Последнее, что врезалось в память из этой картины, был штык в волосатой руке, поднятый над спиной барона, тонкая в голубом шелковом платье фигура, перекинутая через плечо чудовища и пронзительный, полный нечеловеческого ужаса вопль…
Лавируя между деревьями и перескакивая через клумбы, Ильин уже бежал к противоположному концу поселка. Население его имело достаточно времени для бегства, и дома были уже пусты. Местами на земле валялся разный домашний хлам, наспех захваченный хозяевами и затем брошенный, когда пули гориллоидов засвистали вдоль улицы.
За полем, там где большая дорога в порт углублялась в лес, белели фигуры последних беглецов.
Так как дорога эта, срезая широкую извилину реки, далеко отходила от нее в сторону, Ильин направился полем к черневшей невдалеке лесной опушке. Преследования не было, и он не торопясь шел, изредка оглядываясь назад.
XXXIV. Тянуть на последних каплях.
До леса оставалось не более тридцати — сорока шагов, когда у правого уха зычно взвизгнула пуля и Ильин, сломя голову, бросился к спасительной опушке. Вторая пуля взбила пыль в двух шагах впереди, третья щелкнула в землю где-то у самых ног сзади. До ближайшего куста оставалось не больше двух метров. Еще секунда и он выйдет из-под прицела.
Небольшой толчок в бок, как от удара веткой — но Ильин уже несся в лесном сумраке, лавируя между деревьями. Там, где бок зацепило веткой, немного саднило. Он машинально провел по этому месту рукой и, вытирая пот со лба, увидел, что ладонь в крови.
«Что за чорт! Неужели это была пуля?» — подумал Ильин.
Выстрелов больше не было, он остановился и поднял рубашку. Весь правый бок был залит кровью, обильно вытекавшей из дырочки в мышце под плечом. Короткий осмотр показал, что рана была пустяшная, но допускать вторичную потерю крови нельзя было никоим образом.
Вряд ли следовало опасаться преследования одинокого беглеца. Поэтому, обернувшись на всякий случай лицом к опушке, он разорвал пополам рубаху, связал концы вместе и, как мог, туго стянул себе этим жгутом под мышками грудь. Кровотечение уменьшилось, но не прекратилось. Тем не менее больше ничего уже нельзя было сделать своими силами, и Ильин повернул влево, чтобы поскорее выйти на знакомую тропинку. Последняя оказалась в двух шагах, и он поспешно зашагал в направлении, обратном пройденному утром пути.
…Часто впоследствии, как закрепленная на фотографии, вставала перед его глазами картина этой узенькой тропинки, извивавшейся в лесном сумраке между громадными деревьями. Стройные стволы гигантских пальм, высоко в небе сплетавших в густую крышу свои кроны, светлые круглые блики света на зеленом мху — и светлая, какая-то детская радость. Такой легкой была голова, так легко переливались одна в другую мысли. Такими пустяковыми представлялись все опасности предшествовавшего дня, и легким, невесомым и порхающим казался он себе в сравнении с этими тяжелыми и беспомощно медлительными чудовищами. Временами, как от шампанскаго, светло кружилась голова и только геометрическими телами представлялись деревья и даже товарищи — там впереди, на поляне.
Ильин не знал, какое расстояние он прошел, когда головокружение и слабость постепенно стали тягостны и неприятны. Светлая радость потухла, и через внезапные прорывы в холодном сознании скользко пролез и расползся страх. Кровотечение, хотя и слабое, продолжалось. Сколько он потерял крови, и хватит ли остатка, чтобы дотащиться до поляны?
Перебежки как искры непрерывно вспыхивали и гасли по фронту наступавших цепей…
А если он свалится на тропинке? Потом наступит ночь и придут обыскивать лес гориллоиды?.. Нет, он не сдастся! Воли у него хватит. Выжав последнее из слабеющего тела, до аэроплана он все-таки дойдет…
Когда между деревьями показались просветы, голова закружилась с такой силой, что удержаться на ногах Ильин не смог. Через минуту, сжав зубы, он вспышкой воли снова поднял свое тело и, хватаясь поминутно за деревья, пошел вперед. Когда он был уже в несколькких шагах от опушки, земля как карусель завертелась под ним, он упал и, вероятно, лежал долго, потому что, поднявшись с первым проблеском сознания на ноги, заметил и запомнил большое пятно крови на смятом зеленом лопухе.
Затем — огненный блеск солнца на поляне и донесшийся издали крик ужаса и радости.
На этот раз он не потерял сознания и довольно ясно увидел склонившееся над ним лицо Мадлэн, потом ощутил острый и противный вкус коньяка, затем рокот машины, которую Дюпон по земле подвел к нему, и, наконец, звучавший несомненным уважением голос товарища:
— Однако, дружище, ты видно был в новой переделке. Как они тебя разделали!
Каким образом он попал внутрь аэроплана, этого Ильин не помнил. Как рассказывала впоследствии Мадлэн, он влез туда сам.
Ильин бежал к противоположному концу поселка…
Но совсем непонятным было то обстоятельство, что в правой руке у него оказался парабеллюм, поставленный на предохранитель, с шестью пулями в обойме. Судя по тому, что ни кобуры, ни пояса, ни даже карманов в брюках не было, он после перевязки все время нес револьвер в руке. Ничего подобного он не помнил.
Новая перевязка сразу остановила кровотечение, и через несколько минут, откинувшись с закрытыми глазами на спинку сиденья, Ильин уже вполне сознательно расслышал слова Дюпона:
— Он молодец, ваш Андрей. Что он там натворил, это мы узнаем после, сейчас не до того. Но во всяком случае он до места дошел, сам стрелял, что видно по закопченному стволу, в него стреляли, что видно по новой дырке, и во всяком случае он сумел выбраться из заварившейся там каши. А вы знаете, когда там разгорелся бой и его долго не было, я вам ничего, конечно, не говорил, но думал, что вряд ли увижу нашего товарища… И потом — знаете, если бы вы… были летчиком, то знали бы, что не особенно легко на последние капли бензина дотянуть аппарат до места. А он дотянул себя на последних каплях крови.
После паузы Дюпон опять заговорил:
— Теперь о деле. Наши задачи здесь кончены, и мы можем подумать о себе. Я рассчитал запас бензина, — хорошо, что мы запаслись тогда в ангаре, — горючего вполне хватит до Капштадта. Переночевать придется на второй трети пути, и завтра к вечеру в нашем распоряжении будут постели, доктора и прочее. Я решил по прибытии направиться прямо к товарищам, и мне кажется, что наиболее умным будет отдохнуть там денек-другой. Идет?..
Очевидно Мадлэн жестом выразила согласие, потому что Дюпон включил самоспуск, и гулкое эхо ответило со стороны леса на рев мотора.
XXXV. Отклики в прессе.
Первая весть о катастрофе в Ниамбе была сообщена европейским читателям короткой телеграммой агентства Гавас:
«10/ХII 19.... г. В Тропическом исследовательском институте в Гвинее вырвалась из закрытых помещений группа диких животных. Несчастье сопровождалось человеческими жертвами».
Однако вслед за этим известия стали более тревожными. Вот что можно было прочесть в эти дни в телеграммах и газетных статьях:
«Journal de Paris» 12/XII 19.... г.
«В министерстве просвещения получено сообщение о тяжелом несчастьи в нашем Тропическом институте на реке Габун в Нижней Гвинее. Гориллы, над которыми велась в институте научная работа, вырвались по недосмотру из клеток и напали на обслуживающий персонал института. Повидимому число человеческих жертв довольно значительно».
«Matin» 13/XII 19.... г.
Загадка Ниамбы.
«Последние сведения о несчастье в Тропическом институте были настолько странны, что наш талантливый репортер Клод Борегар получил специальное задание собрать по этому поводу исчерпывающие данные, и мы надеемся быстро снять покров тайны с этого дела».
Дальнейшие строки принадлежат перу К. Борегара (в той же газете):
«Поскольку первые сведения о катастрофе в Ниамбе исходили от министерства просвещения, мы направились прежде всего туда и были приняты заведующим отделом научных учреждений мсье Дориньи. Последний казался чрезвычайно потрясенным.
— Я счастлив дать сведения вашей уважаемой газете, — сказал он, — но я должен предупредить вас, мсье Борегар, что эти сведения очень тяжелы. Несомненно, наша прекрасная Франция лишилась нескольких выдающихся ученых, и наш Тропический институт значительно пострадал. Какое несчастье, дорогой мой, какое несчастье!
«После короткой паузы профессор продолжал:
— Я должен информировать вас, что в институте велась работа громадного научного значения над выяснением столь интересующего широкую публику вопроса о происхождении человека. Нашим талантливым ученым профессором Крозом, отсутствие сведений о котором вызывает сильнейшее беспокойство, были получены интереснейшие помеси человекообразных обезьян друг с другом и с неграми…
«При этом необычайном сообщении у меня невольно вырвался возглас изумления. Профессор развел руками.
— Конечно, Кроз не торопился с опубликованием своих открытий ранее конца начатого широкого исследования… Животные отличались колоссальным ростом и силой, и немногочисленная стража не смогла их удержать. Кроме того, они были вооружены. Надо сказать, что в этих опытах было несколько заинтересовано военное министерство, но это уже выходит из сферы моей компетенции…
«Откланявшись и выразив мсье Дориньи соболезнование от имени нашей газеты, я приказал шоферу развить максимальную скорость, и через несколько минут был у подъезда военного министерства.
«Начальник отдела колониальных войск отказался нас принять. Тем не менее после часа ожидания мне удалось захватить его в коридоре. Генерал де-Монвер был чрезвычайно раздражен и не пожелал что-либо сообщить.
— Я совершенно не понимаю, мсье, — сказал он, — чего вам от меня нужно?
— Но катастрофа в Тропическом институте…
— Такового по военному министерству не числится.
— Но мсье Дориньи сказал…
— Не знаю никакого Дориньи, — и генерал захлопнул передо мною дверь своего кабинета.
«Несомненно, что за всеми этими загадочными событиями и, повидимому, под нежеланием генерала де-Монвер дать нам какие-либо сведения — нечто скрывается! Наши читатели знают, что для „Матэн“ нет тайн и что в самое ближайшее время они узнают все! Все!
К. Борегар».Огненный блеск солнца на поляне и донесшийся издали крик ужаса и радости…
«Humanite» 13/XII 19.... г.
Кровь и грязь.
«Катастрофа в Ниамбе вскрыла новую чудовищную затею капитала (и его агентов), целью которой было прибавить лишнее звено к цепям, сковывающим трудящиеся массы. Повидимому бесспорно, что „научная работа“ пресловутого Тропического института была лишь ширмой для каких-то невероятных по ужасу опытов военного министерства.
«Совершенно бесспорно, что там ставились — и широко ставились — опыты скрещивания человека с обезьяной. Наконец, бесспорно, что созданных чудовищ планомерно обучали обращению с оружием и военному строю.
«Для чего это делалось? На этот вопрос, конечно, нетрудно ответить.
«Рукоять меча уже выпадает из рук мирового капитала. Уже опасным становится доверить оружие народным массам. И вот была сделана попытка сотворить рабов, бессловесных и свирепых, которых можно было бы в любой момент направить против трудящихся.
Но они просчитались. Оружие обратилось против них самих. Жертвы ужасны. Пусть же они послужат уроком для прочих!»
Агентство Гавас сообщало:
«14/ХII 19…. г. Войска, посланные против чудовищ, разрушивших Тропический институт, вчера были атакованы по пути в густом лесу. Потери чрезвычайно тяжелы. Остатки отряда прибыли к устью Габуна. Спешно принимаются меры обороны».
Правительственное сообщение от 15/XII 19.... г.
«События, имевшие место в результате неудачных опытов в Тропическом институте, вызвали необходимость серьезных мероприятий. Наши войска вследствие тяжелых условий боя в густом лесу понесли значительные потери. Необходимые меры обороны приняты. Два транспорта завтра высаживают войска на побережье, Посланы военные суда. Мирное население опасного района эвакуируется.
Правительством назначена следственная комиссия, которая произведет всестороннее и беспристрастное расследование причин происшедших событий».
«Action Française» 15/XII 19.... г.
«Опубликованное сегодня правительственное сообщение говорит само за себя. Сгнивший и разлагающий страну парламентаризм несомненно постарается сейчас же переложить ответственность на предыдущее министерство и на тех, которые понимали, что для борьбы с надвигающейся и растущей красной опасностью нужны совершенно особые меры.
Преклонимся перед памятью молодого героя, который всю жизнь свою отдал делу молодого фашизма и теперь погиб в силу какой-то нелепой случайности. Все те, которые знали высоко талантливого капитана Ленуара, согласны, что мы потеряли в его лице нашего будущего вождя, доблестного и энергичного. Крепче сомкнем ряды — и пусть живые будут достойны погибших!..»
Агентство Рейтер сообщало из Капштадта:
«15/ХII 19.... г. 10 декабря сюда прибыли спасшиеся на аэроплане из Ниамбы русский ученый Ильин, жена погибшего коменданта Ниамбы капитана Ленуара и механик Дюпон. Ильин и Дюпон, вследствие полученных ими ран, посетили больницу. По словам Дюпона, из населения Ниамбы спаслись только они трое».
Агентство Гавас сообщало в двух телеграммах:
«16/ХII 19.... г. После тяжелого и упорного боя на равнине в 15 километрах от порта Либревилль наши только что высаженные войска принуждены были отойти. Гориллоиды сражались в правильном боевом порядке, и атака их была настолько стремительна, что части правого фланга, слишком долго задержавшиеся на позиции, не смогли отступить и повидимому погибли. Часть населения успела погрузиться на пароходы. Остальные под прикрытием войск отходят к северу».
«17/ХII 19.... г. Негры, бежавшие из института, показывают, что отрядами гориллоидов командует индивидуум исключительного даже для этих существ роста и обладающий в отличие от них человеческим разумом. В Ниамбе его звали Луи. Есть сведения, что в его отряд входят кроме гориллоидов небольшие группы негров».
«Journal de Paris» 18/XII 19…. г.
«Фирмы Гагенбека и Руэ, торгующие дикими животными, обратились в военное министерство с предложением закупить всех пленных, которые будут взяты во время предстоящих военных операций. Предложение это министерством обсуждается».
«Matin» 21/XII 19.... г.
«ТАЙНА НИАМБЫ РАСКРЫТА!!!
ПОТРЯСАЮЩИЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
КОРОЛЯ РЕПОРТЕРОВ
КЛОДА БОРЕГАРА.
Мрачная тайна, окутывавшая ужасные события, так глубоко потрясшие нашу страну, как известно, до сих пор оставалась нераскрытой. Но читатели „Матэн“ должны знать истину, и потому мы отправили на место событий человека, для проникновенного гения которого, как это хорошо знают читатели „Матэн“, не существует преград и препятствий.
Наш талантливый репортер вылетел из Парижа пять дней назад на специальном трансокеанском аэроплане. За это время он собирал сведения по побережью среди бродящих там несчастных беженцев, посетил развалины Ниамбы, проследил до Капштадта конец найденной им в предыдущих поисках нити, и мы можем сообщить читателям „Матэн“, что тайна Ниамбы перестала быть тайной. Послезавтра статья Борегара будет помещена в „Матэн“.
И конечно, 23 декабря (запомните это число) каждый грамотный человек во Франции купит номер „Матэн“».
* * *
Статья Борегара в номере «Matin» от 23/ХII, набранная громадными буквами, занимала первых две и часть третьей страницы газеты.
Еще с ночи толпы ожидающих стояли перед типографией. Первые партии номеров расхватывались и разрывались в клочья. Мальчики-газетчики в течение дня сбились с ног, но зато получили крупный заработок. Все ротационные машины работали круглые сутки до самой ночи, и тираж достиг десятикратных размеров.
По выдержкам из обширной и потрясающей своими разоблачениями статьи «талантливейшего из репортеров Франции» можно судить о всей статье Борегара и легко проследить наиболее интересные моменты финала трагедии в Ниамбе.
XXXVI. Их точка зрения.
(Статья Борегара).
«Дважды два только четыре, а не двадцать пять и не стеариновая свечка», — так начиналась статья Борегара. — «Много запутанных и кошмарных преступлений были бы легко раскрыты, если бы следователи и прокуроры наших трибуналов не забывали этой простой, но великой истины. Истина всегда проста, но почему-то простота особенно трудно постигается человеческим мозгом. Однако переходим к фактам.
Ключ тайны был несомненно в Ниамбе. От этого простого факта я исходил в своих поисках. Из населения Ниамбы в живых осталось только трое, не считая, конечно, негров и чудовищ, разрушающих сейчас прекраснейшую часть нашей цветущей и доходной колонии. Значит, только по пути движения троих спасшихся от катастрофы можно было найти и раскрыть тайну.
Первый след беглецов зафиксирован в памятный день 8 декабря в рабочем поселке института, в домике шофера Жана Лаланда.
В результате напряженных поисков среди толп беженцев на морском побережье мне удалось найти ряд очевидцев событий, в том числе (что особенно важно) жену Лаланда. Сам шофер погиб. Жена покойного, убитая горем, тем не менее дала нам, как увидят далее читатели „Матэн“, ряд ценнейших справок и сведений.
Восстановим основные факты.
Русский ученый Ильин в момент появления в поселке находился в состоянии острого помешательства.
Этот факт, подтверждаемый всеми очевидцами, находится, повидимому, вне сомнений. Достаточно указать на совершенное им убийство лейтенанта виконта де-Керюзель и на его бегство по крышам, чтобы все сомнения в этом отношении отпали. Вот первый факт, на который я обращаю внимание читателей.
Однако это помешательство имело направление, я бы сказал, социалистическое (прошу извинения за этот термин у уважаемых депутатов входящей в правительственный блок объединенной социалистической партии).
Это видно, во-первых, из того, что он систематически (заметьте!) обращался к шоферу, его жене и некоторым другим из присутствовавших, именуя их товарищами; во-вторых — из того, что он пустил пулю в голову лейтенанту, а не стоявшим рядом и также загораживавшим ему выход рабочим; наконец, из того, что, как сообщает вдова шофера, Ильин просил предупредить об опасности только рабочих. На этот второй факт также обращаю внимание наших читателей.
Перейдем далее. Рабочий Дюпон несомненно был на аэроплане с Ильиным. Это видно из того простого обстоятельства, что они затем вместе прилетели в Капштадт. Констатирую это как третий факт.
Рабочий Дюпон несомненно принадлежал к местной коммунистической организации, был за это арестован и предназначен к отправке в Европу, но вместо этого переведен в Ниамбу. Вот четвертый факт высочайшей важности.
Еще с ночи толпы ожидающих стояли перед типографией…
На выяснение обстоятельств перевода Дюпона в Ниамбу я потратил наибольшие усилия. Департамент полиции, который я запросил по радио, сообщил, что он получил сообщение об аресте Дюпона и о нахождении у него уличающей коммунистической литературы. Других сведений департамент не имеет.
Я понял, что многое мог бы сообщить начальник полиции на территории института, раненый, как известно, Ильиным и находившийся в госпитале на борту парохода. К счастью, к моему приезду лихорадка оставила бедного малого, и он передал мне следующее: Дюпон действительно подлежал после ареста отправке в Европу, но был переведен в Ниамбу по предложению капитана Ленуара. Отмечаю этот пятый факт.
Третьей из спасшихся была вдова капитана. Вопрос, почему именно жена известнейшего и убежденнейшего фашиста была спасена убийцей бедного де-Керюзеля Ильиным и коммунистом Дюпоном, привлек мое внимание.
Должен сознаться, что сначала я предположил здесь романическую подкладку, но тщательное изучение дела показало, что о последнем не могло быть речи. Спасшаяся, к счастью, одна из горничных института показала, что Ильин отличался нелюдимым характером и совершенно не интересовался женщинами, хотя и был, по словам той же горничной, весьма недурен собой.
Мои очаровательные читательницы конечно согласятся с невозможностью допустить, что красивая и элегантная дама из общества могла бы увлечься нелюдимым, угрюмым и неряшливым русскими ученым. Кроме того, известно, что русские не отличаются темпераментом.
Таким образом гипотеза о романической подкладке отпадает, и на этом факте я также останавливаю внимание читателей.
Увидеть лично Ильина, Дюпона и мадам Ленуар я не мог, так как на другой же день по прибытии их в Капштадт они улетели на аэроплане в Европу. Лечивший Ильина врач расхохотался, когда я сообщил ему, что его пациент душевнобольной. В следующий момент он пришел в ужас, узнав, что он лечил убийцу лейтенанта де-Керюзель.
„Во всяком случае, мсье Борегар, — сказал он мне, — я могу категорически заявить вам одно: что бы ни представлял собою этот таинственный русский ученый, он не более нас с вами является душевнобольным“.
Чтобы покончить с вопросом о душевной болезни Ильина, остается указать на недавно полученную из Харькова и всем уже известную телеграмму, сообщающую, что известный ученый Андрей Ильин сделал двухчасовой доклад о ниамбских событиях в железнодорожном клубе, переполненном многочисленной аудиторией местных рабочих. После доклада была единогласно принята резолюция, утверждающая, что „только мировой социальный переворот может предупредить повторение подобных чудовищных экспериментов“.
Наконец, остается указать, что, по справке конторы воздушного транспорта, билеты на Ильина, Дюпона и мадам Ленуар были взяты via Капштадт — Харьков (через Каир и Константинополь).
Вывод? Я думаю, что для того, чтобы его сделать, не нужно быть первым репортером газеты „Матэн“. Сама цепь приведенных мною фактов с железной необходимостью приводит к заключениям, которые может сделать любой ребенок.
1. Был ли Ильин сумасшедший?
Конечно нет! Его поведение 8 декабря было просто симуляцией — для того чтобы избежать ответственности на случай ареста.
2. Если Ильин бежал на аэроплане именно с Дюпоном, а нискем другим, если он убил де-Керюзеля и ранил начальника полиции, если Дюпон бесспорно был коммунистом, если все трое получают возможность спешно отправиться по воздуху в СССР — то что это значит?
Нужно быть круглым идиотом, чтобы найти два возможных решения. Совершенно ясно, что они делали одно дело, и конечно не случайность, что катастрофа произошла через какие-нибудь два-три месяца по прибытии Ильина в Ниамбу.
3. Ильин и Дюпон спасают именно жену своего злейшего политического врага Ленуара, при чем, повторяю, не может быть и речи о какой-нибудь романической подкладке; Ленуар добивается освобождения арестованного коммуниста Дюпона и устраивает его на службу у себя; любимый солдат и сподвижник Ленуара чудовищно свирепый и бесспорно талантливый гориллоид Луи принимает после смерти капитана командование обученными им чудовищами, избивает без пощады население целого ряда местностей и опустошает значительную территорию одной из лучших колоний нашего дорогого отечества. Что все это значит?
Если дважды два четыре, а не двадцать пять, если две величины, равные порознь третьей, равны между собой, — то ответ может быть только один.
Капитан Ленуар никогда не был фашистом. Это был один из самых хитрых и опасных агентов Коминтерна, разбросанных, как известно, по всему миру для подготовки мировой революции.
Он погиб, погиб по какой-то неизвестной для нас случайности, но созданный им ужас и бедствия растут и ширятся. Избиваются в войне с чудовищами офицеры и солдаты наших доблестных войск, гибнут вложенные в колонию капиталы.
К ответу виновных! Пусть самыми решительными мерами будет в корне пресечена возможность проникновения агентов врага в сердце национальной обороны: пусть строжайшее следствие обнаружит соучастников Ленуара среди высших чинов военного министерства!».
КОНЕЦ.
-
Как это было: Пятнадцать лет назад. Эпизоды из империалистической войны: «Победа» Ролана Доржелес; «Двадцать пять», «Концерт» Ж. Дюамеля.
Победа
Эпизод из империалистической войны Р. Доржелес[18]
По всем подступам от тыла к окопам сплошными массами двигались на позиции наступающие полки.
— Вперед, передавайте дальше.
— Вперед… — с ругательствами передавали дальше сердитые голоса.
И расчлененная колонна снова продвигалась тяжелым шагом, позвякивая котелками и снаряжением. Рассвет застал нас в узких проходах, по которым наша рота, шедшая одной из последних, шагала с двух часов утра, беспрестанно наталкиваясь на санитаров с носилками и задерживаясь из-за сменяющихся частей. Германская артиллерия начала обстрел.
Снаряды гнались за нами, как будто у них были глаза. Мы шли вперед, загибали в сторону, уходили назад, но погоня не отставала от нас, мы были оглушены ревом и задыхались от терпкого дыма.
При каждой вспышке мы бросались друг к другу, головы и ноги наши переплетались, мы прижимались к краям прохода, стараясь втиснуться в каждую выемку земли. Снаряды взрывались низко, засыпая иногда наш путь осколками, и из кучи прижавшихся тел раздавались режущие ухо крики:
— Ох, я ранен!
Растерянные, отупевшие, мы шагали через тела; толкаясь, продвигались на двадцать шагов, потом снова становились на четвереньки, согнув спину, и лица наши нервно дергались от оглушительного треска.
Наконец мы внезапно вышли из полосы обстрела. Сразу воцарилось спокойствие, и мы заметили, что солнце уже встало. Вышли на дорогу, на обоих склонах которой зеленели густые кусты. Сюльфар тотчас бросился обшаривать ветки.
— Эй, ребята… здесь есть спелые…
* * *
— Не трогайте меня, не трогайте меня… — повторял раненый с посиневшим лицом, медленно идя нам навстречу.
Руки его были раздроблены и висели, как две кровавые тряпки. Дойдя до нас, он сказал безжизненным голосом, в котором не чувствовалось даже страдания.
— Я хочу сесть, поддержите меня за шинель.
И, придерживая за воротник, его усадили на выступ стрельбища; он сидел вытянувшись, и руки, превратившиеся в кровавую массу, едва держались в разодранных рукавах. Нос у него был тонкий, вытянувшийся, как будто смерть уже готовилась задушить его.
— Ты поторопился бы на перевязочный пункт, — сказал ему Лемуан, видя, как с рукавов стекает кровь.
— Да, я иду туда… Зажгите мне папиросу… Вложите ее мне в рот…
Его приподняли, и он пошел, поблагодарив кивком головы, машинально шагая; впереди шел товарищ, отстраняя столпившихся солдат.
— Пропустите… раненый…
Вся рота собралась здесь, перед четырьмя грубо сколоченными лестницами, — она была похожа на огромный живой щит из сдвинутых касок.
По правую сторону от нас рота одного из полков последнего призыва только что взяла ружья наперевес; они должны были выйти вместе с нами в первую очередь. Все проходы, все окопы были переполнены, и, стиснутый между сотнями, тысячами людей, каждый, в каком бы настроении ни находился, чувствовал себя только крупицей среди этой человеческой массы.
Одни — с раскрасневшимися щеками, с блестящими глазами — оживленно разговаривали, охваченные какой-то лихорадкой. Другие молчали, очень бледные, со слегка дрожащим подбородком.
Поверх мешков с землей мы смотрели на германские позиции, окутанные облаками дыма, в котором слышался треск выстрелов; за ними, среди полей, казалось, пылали три деревни, а наша артиллерия все стреляла, и среди непрерывного грома нельзя было ничего разобрать. Поля сотрясались под этим яростным натиском, и я чувствовал, как под локтем дрожит и колеблется бруствер.
— Внимание, время приближается, — предупредил офицер справа от нас.
Ближе раздалась команда Крюше:
— Ружья наперевес… Гренадеры вперед!
Стальной трепет пробежал по всему окопу.
Тела раскачивались, готовые ринуться вперед, напирая на бруствер подобно морскому приливу.
Резко просвистели 75-миллиметровые снаряды, и тотчас рев тяжелых орудий, казалось, стих или отдалился.
— Готовы?.. — спросил Крюше более громким голосом.
Разом дрогнули все сердца у этой вооруженной толпы.
— У тебя есть мой адрес… — успел сказать Сюльфар Жильберу срывающимся от волнения голосом…
О, какой резкий, зловонный запах у пороха… Слева послышались не то крики, не то песня: «Зуавы вышли». Грянул залп из 105-миллиметровых орудий, — пять ударов в литавры…
— Третья рота, вперед! — крикнул капитан.
— Вперед…
Крики, толкотня, кто-то с проклятием падает, винтовки задевают одна за другую… У всех стучит в висках, все взбираются на бруствер, затем выпрямляются, чувствуя, как дрожат ноги. Всматриваются в огромную голую равнину… «Вперед».
Вышли, бегут…
Затрещал пулемет, один только пулемет. Затем, встрепенувшись, обезумев, германская артиллерия начала обстреливать всю местность.
* * *
Разрушенные стены, зияющие брешами фасады, кучи щебня, целиком сорванные крыши, окоченевшие ноги, торчащие из-под развалин… Деревня была взята.
Гром пушек стал слабее, но пулеметы через отдушины косили по деревне. Люди падали, согнувшись вдвое, как будто тяжесть головы пригибала их к земле. Некоторые кружились, скрестив руки, и падали на спину, согнув колени. Бежавшие едва обращали внимание на них; неслись вперед, не зная направления, один за другим и стреляли перед собой…
Несколько немцев пробежало с поднятыми вверх руками по направлению к нашим позициям. Один, стоя у входа в погреб, вытирал кровь со лба и левой рукой делал нам приветственный знак.
Среди пыли и обваливающейся штукатурки мы слились с общим фоном этого кладбища вещей. Ничто не уцелело, не сохранило своей формы; кучи обломков, склад вещей, над которым разразилась катастрофа, где все перемешалось: трупы, торчащие из-под развалин, треснувшие камни, клочки материй, обломки мебели, солдатские сумки, — все это слилось, все подверглось уничтожению, и трупы были столь же трагичны, как обломки и камни. Мы выбились из сил, задыхались… Развалины пересекала улица, и невидимый пулемет обстреливал ее, поднимая облако пыли низко над землей.
— Все в канаву! — крикнул фельдфебель.
Не глядя, прыгнули мы туда. Когда я коснулся мягкого дна, ужас охватил меня, и сверхчеловеческое отвращение заставило отпрянуть назад. Там было гнусное скопище трупов, чудовищная раскрытая могила, где одни убитые баварцы с восковыми лицами лежали на других, уже почерневших, с оскаленными ртами, из которых шло смрадное зловоние, целая куча разложившихся тел, как бы расчлененные трупы с совершенно вывернутыми ногами и коленями, и всех их сторожил мертвец, оставшийся стоять на ногах, прислонившийся к краю канавы — чудовище без головы. Первый из нашей группы не решался ступить на эти трупы, давить ногами эти человеческие лица. Однако, подгоняемые пулеметом, все прыгнули туда, и общая могила, казалось, наполнилась до краев.
— Вперед, чорт возьми!
Мы все еще не решались топтать эту груду тел, которая оседала под нашими ногами, но, подталкиваемые другими, мы, не глядя, двинулись вперед, шлепая и увязая в мертвых телах… По какому-то дьявольскому капризу смерть пощадила только вещи: на протяжении десяти метров были разложены в небольших нишах остроконечные каски с натянутыми на них покрышками, — они совершенно уцелели. Их забрали наши.
«Все в канаву!» — крикнул фельдфебель…
При выходе из канавы сержант, присевший на корточки, кричал: «Налево, по одному налево». И мы снова побежали гуськом по узкой дорожке, вдоль которой шла другая канава. Дальше в полях видна была только сеть проволочных заграждений, полуприкрытая разросшейся травой… И ни одного окопа, ни одного немца, ни одного выстрела.
Так как стрельба прекратилась, то мы умерили шаг и сгруппировались. Но грянул залп шрапнелей, взрывая вдоль всей дороги целый ряд клубящихся столбов, и когда мы взглянули — дорога была пуста. Все зарылись в канаву или укрылись за остатками стены. Мы кучкой набились в узкий ров, вырытый у подножья глиняной стены. Нервно придвигали ближе к затылку ремешок скатанного одеяла и ждали… Снаряды зачастили и проносились так низко, на таком близком расстоянии, что нам казалось удивительным, почему трава не падает скошенной, и мы закрывали лицо руками. Затем стрельба рассеялась по всей деревне, нащупывая то тут, то там. Солдаты вдоль всей дороги приподнялись, но не выходили из-за прикрытий.
Вдруг дуновение обожгло нас… Я приподнялся, сжавшись в комок, уткнув голову в колени, стиснув зубы. С перекошенным лицом, с прищуренными, полузакрытыми глазами я ждал… Снаряды следовали один за другим, но их не было слышно, — они падали слишком близко, слишком оглушительно. При каждом ударе сердце срывается и подскакивает, голова, внутренности — все трясется, хочется стать маленьким, все меньше и меньше, каждая часть своего тела пугает, члены судорожно сжимаются, голова, где пустота и шум, старается укрыться куда-нибудь, чувствуешь, наконец, страх, ужасный страх… Под этими смертельными раскатами грома превращаешься в дрожащий комок, остаются только прислушивающиеся уши и сердце, исполненное страха.
Залпы следовали один за другим с промежутками в десять секунд, десять секунд жизни, десять бесконечных секунд счастья, и я смотрел на Фуйяра, который уже не шевелился. Он лежал на боку с багровым лицом, и огромная рана зияла у него в горле, как у зарезанного животного.
Зловонный дым заволакивал дорогу; ни на что не хотелось смотреть; я в ужасе прислушивался. Взрываясь вокруг, снаряды забрасывали нас осколками камней, а мы лежали в нашей яме — двое живых и один мертвый.
Внезапно огонь прекратился. Это мгновенное затишье, эта короткая передышка показалась нам чем-то диковинным. Я обернулся и у подножья откоса увидел, как Бертье склонился над чьим-то распростертым телом. Кто это?
Вдоль дороги вставала товарищи.
— Гренадеры! — звал чей-то голос.
Затем справа стали передавать из ямы в яму приказ:
— Полковник спрашивает, кто командует на левом фланге… Передавайте дальше…
— Передавайте дальше… Полковник спрашивает, кто командует на левом фланге…
Я увидел, как Бертье потихоньку опустил на траву голову убитого. Он встал, бледный, и крикнул:
— Подпрапорщик Бертье, третьей роты… Передавайте дальше.
* * *
Жильбер, волоча труп за шинель, дотащил его до края широкой воронки, где мы укрылись. Давно уже он не боялся мертвецов. Однако не решился взять его за руку, за его жалкую, скрюченную, желтую и грязную руку, и старался не смотреть в его потухшие белесоватые глаза.
— Нам нужно было бы еще три, четыре таких трупа, — заметил Лемуан. — Мы сложили бы из них хороший бруствер, особенно если посыпать немного землей сверху.
Несколько солдат лежало у края воронки, внимательно наблюдая сквозь траву; другие беседовали, сгрудившись на дне.
— Ты думаешь, что придется итти дальше, брать их третью линию?
— Очень может быть. Если только не начнем рыть окопы здесь.
— Но ведь не с этими же остатками итти в наступление?
— Наплевать. Осталось у тебя что-нибудь во фляжке?
— Нет… Посмотри, сколько легло товарищей после того, как мы взяли деревню.
Повсюду были убитые: зацепившиеся за острые железные проволочные заграждения, упавшие в траве, зарывшиеся в воронках. Там голубые шинели, здесь — серые. Были трупы ужасные, с раздутыми лицами, как бы прикрытыми сплошной маской серого фетра. Были почерневшие, с пустыми орбитами глаз, лежавшие со времени первых наступлений. На них смотрели без волнения, без отвращения, и когда на воротнике шинели прочитывали незнакомый номер, то говорили только: «А я и не знал, что их полк тоже участвовал…»
Снова проснулась германская артиллерия. Несколько снарядов взорвалось перед нашей воронкой, и густое облако, пахнущее порохом, наполнило нашу яму. Свернувшись в комок, мы придвинулись друг к другу, стараясь спрятаться под чужие сплетенные ноги. Жильбер инстинктивно закрыл лицо согнутой рукой, как испуганный ребенок. Нас обдало столбом земли… Уже второй залп снарядов рассыпался направо и налево, взрывая землю вокруг нас. Затем внезапно произошло что-то непостижимо ужасное, как будто взорвалось что-то в нас самих…
Снаряд, вероятно, взорвался на краю воронки. Двое людей скатились на дно ямы и замерли неподвижно. Раненые, обезумев, убегали с окровавленными лицами, с красными от крови руками. Оставшиеся едва смотрели на них, зарывшись в землю, втянув голову в плечи, ожидая последнего удара. Но вдруг неприятель изменил прицел, и снаряды стали падать правее. Все приподняли головы. О, несравненная минута счастья, когда смерть уходит дальше!
Жильбер взглянул на равнину. Боши не выходят из окопов? Нет… Ничего не видно. Затем только он посмотрел на двух убитых товарищей с раскрытыми ртами.
— Нельзя их оставлять здесь и ходить по ним, — предложил Лемуан: — Положим их на край воронки.
Двое товарищей схватили первый труп и подняли его на край воронки; свернувшаяся кровь прилипла к их рукам. Жильбер повернул его лицом к неприятелю, чтобы не видеть его. Другой труп был тяжелее, и ему пришлось помочь им поддержать болтающуюся голову мертвеца.
— Вот так… — удовлетворенно заметил Лемуан. — У нас получился уже хороший бруствер… Бедняги, могли ли они только что представить себе это… Это как раз земляк, у меня есть его адрес… Берегись!
Снова началось, снова ложились мы, уткнувшись лицом в сухую землю. Снаряды долетали теперь до нас так быстро, что выстрел и взрыв раздавались одновременно. По полю бежали раненые, осколки сшибали некоторых с ног, и они падали на месте. Но по ту сторону проволочных заграждений ничего не было видно, ничего. Это было сражение без неприятеля, смерть без боя. С самого утра, с начала сражения, мы видели только человек двадцать немцев.
Мертвецы, одни только мертвецы. Немцы стреляют, стреляют… Чувствуешь, как слабеют ноги, холодеют руки, горит лоб. Это и есть страх? Канонада, подобно грозе, затихла, и из всех воронок высунулись встревоженные лица. Начнут ли они наступать? За холмом показался офицер.
— Держитесь, ребята, — крикнул он, — держитесь!..
В ту же минуту чей-то голос предостерегающе крикнул:
— Берегитесь, вот они!
Они выскочили из рощицы в двухстах метрах от нас, человек сто. Тотчас показалась другая группа, появившаяся неизвестно откуда, затем третья, которая понеслась с криками, и развернулись цепи стрелков.
— Боши. Стреляйте, стреляйте… Цельтесь ниже…
Все кричали, команды слышались из всех воронок, и по всему гребню затрещали выстрелы. Вдруг все скрылось. Легли ли они? Уложили ли мы их?
Минуту спустя бомбардировка возобновилась с новой силой, и между залпами видно было, как убегают раненые. Они бежали или ползли, стараясь добраться до маленького поросшего листвой откоса, окаймлявшего большую дорогу.
Наша артиллерия отвечала, и залпы следовали за залпами, взрывы происходили одновременно, дым не успевал рассеиваться, и осколки проносились массами. Внезапно желтое красное пламя ослепило нас. Мы разом прижались друг к другу, оглушенные, с бьющимся сердцем.
Жильбер упал, почувствовав только сильный удар по голове, ощущая на лице адское дуновение, ничего не слыша, ничего не понимая.
Когда он пришел в себя, голова у него была тяжелая, он боязливо пошевелил ногами. Ноги повиновались, они двигались… Нет, ноги в целости. Он провел рукой по лицу… А, оно в крови. Попало в лоб у виска. Я наклонился над ним и сказал:
— Это ничего… Просто порез.
Он мне не ответил, еще оглушенный; потом огляделся, вынул свой санитарный пакет и перевязал лоб. Он вытер платком со щеки кровь, которая текла теплой струей, затем, чтобы охладить горящую голову, прижал ее к холодному дулу винтовки. Во время короткого затишья он услышал справа стрельбу и взрывы гранат. Смутная мысль мелькнула у него: они опять будут наступать. Но у него не хватило мужества приподнять голову, чтобы взглянуть на равнину.
Раздался яростный залп, затем шрапнель разорвалась как раз над нашей воронкой, Жильбер на минуту замер, сердце его остановилось. Вслед за этим одним прыжком он приподнялся, вскочил на край воронки и побежал. Он хотел укрыться в другой яме, где угодно, лишь бы не оставаться больше в этой канаве, в этой зияющей могиле. Раздался еще залп, он лег и вытянулся. Потом привскочил и, обезумев, кинулся направо, налево, спотыкаясь о тела. Все воронки были заняты, везде изувеченные трупы, растерянные раненые, насторожившиеся солдаты.
— Нет ли у тебя места?
— Нет… Со мной раненый товарищ.
Он минуту повертелся, потом лег ничком за пригорком. Сердце его сильно билось, как животное, которое он придавил бы своим телом. Задыхаясь, он прислушивался к пушке без единой мысли в лихорадочном мозгу. Вдруг он подумал:
«Но ведь я убежал…»
Он повторил это себе несколько раз, не поняв сначала как следует. Но, приподняв голову, он увидал, что ему делает знак Лемуан. Тогда он бегом, одним духом, помчался к воронке.
Эта трагическая яма со взрытыми краями походила на давильню, и чтобы не топтать тел товарищей, наполнявших этот чан, надо было держаться края канавы, цепляясь пальцами за обваливающуюся землю. Жильберу показалось, что он лишается чувств. Он не ощущал ни страдания, ни волнения, а скорее усталость.
День приходит к концу, и туман спускается на равнину. Слева еще слышна стрельба, но она похожа на огонь, который вот-вот погаснет.
Что произошло с полудня? Мы стреляли, солнце жгло нас, голова у нас отяжелела, горло пересохло. Наконец, прошел дождь, и эта гроза освежила нас, дождь залил сжигавшую нас всех лихорадку. Артиллерия все сметала с равнины, охваченная яростью на то, что там еще остаются живые люди. Затем нам показалось, что боши наступают на нас. И мы стреляли, стреляли… Совсем близко видны согнутые тела немцев, запутавшихся в своих собственных проволочных заграждениях.
«Не смена ли идет?» — Подходят люди и, согнувшись, перебегают от воронки к воронке.
— Эй, ребята, кончено? Мы сменяемся?
Нет, это солдаты службы связи.
— Ну, что же? Нас сменяют?
— Нет… Вы должны остаться здесь еще на ночь. Подкрепление придет с кирками, с лопатами. Придется укрепиться здесь.
Из всех ям вылезали люди и подползали на четвереньках.
— Что? Оставаться здесь? Что за шутки… От роты осталось всего человек тридцать.
— Мне наплевать, я ранен, я уйду…
— Такой приказ, — повторяют солдаты службы связи. — Надо держаться. Нас сменят завтра.
Жильбер чувствует себя слабым, в голове у него пустота. Он хотел бы не шевелиться и спать, спать. Белье его прилипло к спине. Дождь? Пот?
Жильбер вскочил на край воронки и побежал…
Артиллерия смолкла, обессиленная, надорвав глотку. Теперь слышнее стали жалобы и стоны…
Подождите, дорогие мои, подождите, не кричите, скоро придут санитары.
Приближается ночь…
И молчаливый ветер тихо ткет свою туманную ткань, — один большой саван из серого покрова для стольких мертвецов, которые лишены его.
Рассказы врача
Из книги Ж. Дюамеля
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Двадцать пять! Двадцать пять несчастных фигур, грязных и жалких на вид! Когда я говорю «двадцать пять», это не значит, мой друг, что все они были буйно помешанные! Нет! Когда двадцать пять человек становятся полоумными, каждый из них делает это на свой собственный лад, у каждого появляется свой собственный пунктик, и надо же в конце концов признать, что с момента, как человек не в своем уме, он волен быть таким, каким ему заблагорассудится.
Итак, двадцать пять. Они были собраны в нашем секторе за неделю. В то время наш пункт принимал умалишенных, а также симулянтов-членовредителей. Когда-нибудь я наберусь мужества и расскажу тебе, мой друг, печальную повесть о симулянтах.
Но вернемся к моим двадцати пяти. Я втискиваю их в барак, считаю, пересчитываю, группирую, размещаю, затем отбираю у них документы. Назначаю двух санитаров для тихих и трех для буйных. Назначаю одних силачей, мускулистых, потому что, когда имеешь дело, с помешанными…
Подходит Паризель и спрашивает меня:
— Все ли бумаги в порядке?
Я отвечаю:
— Да! Их двадцать пять. Я протелефонирую, чтобы прислали автомобили для эвакуации.
Я ждал приезда автомобилей к двум часам. Они прибыли в половине пятого, то-есть с наступлением вечера.
Я вхожу в барак, чтобы ускорить эвакуацию. Автомобили выстроились в ряд, трясясь, сопя, пыхтя, воняя. Я приказал положить моих помешанных на носилки. Из них пять или шесть были крепко связаны, некоторые спали, другие кричали. Среди них был один, говоривший быстро и складно, точно адвокат, и все повторявший: «Молчите, не доверяйте им. Их поймают, если в это дело вмешается белая звезда».
Но довольно об этом! Это не имеет ничего общего с тем, что я хочу рассказать тебе.
Итак, я приказываю поставить носилки между кроватями и считаю их по пальцам и глазами, прежде чем открыть двери.
И вот тут-то я вдруг чувствую, что у меня волосы становятся дыбом: моих парней уж не двадцать пять, а двадцать шесть…
Ты смеешься? Однакоже, уверяю тебя, что это было совсем не смешно. Уверяю тебя, что это было совсем скверно.
Опять хватаюсь за документы, проверяю, пересчитываю свои листки: там сказано двадцать пять. Пересчитываю моих сумасшедших: их опять двадцать шесть… Ничего не понимаю!
Тут приходит Блотэн; он видит, как я перебираю бумаги, и тотчас же громким голосом говорит:
— Бьюсь об заклад, что здесь путаница!
Я ответил:
— Ну конечно! Двадцать пять умалишенных, а сейчас в бараке двадцать шесть. Значит, один из них не умалишенный.
Блотэн подергивает плечами, зажигает папироску и с видом человека, для которого вообще все ясно, кричит:
— Эй! Слушайте! Кто там из вас не сумасшедший?
О, Блотэн! Я бы не хотел невежливо отзываться о нем, ко ведь надо быть непроходимо глупым, надо быть чурбаном, чтобы делать такие вещи. Помешанные принимаются кричать, а Блотэн — орать еще сильнее. К счастью, подоспевает Паризель.
— Поразительно! — говорит Блотэн. — Чорт знает, что такое! Их было двадцать пять, а теперь стало двадцать шесть. И тот, который не помешанный, не хочет сознаться. О! Если я его найду, я ему покажу, я его под суд!..
— Да не волнуйтесь, — тихо говорит ему Паризель.
— Да! Не волнуйтесь! — отвечает тот. — Все эти парни быть может не более помешаны, чем любой из нас. Все они бездельники, переливают из пустого в порожнее, толкут воду в ступе. А, впрочем, мне что волноваться? Автомобили ждут. Но, по-моему, отправим всех двадцать шесть гуртом; тот, который не помешан, в конце концов, будет найден.
— Что вы, что вы! — отвечает Паризель своим добрым голосом.
И вот он идет от носилок к носилкам, медленно, заботливо. У него в руке фонарь; слегка приподымая его всякий раз, он внимательно разглядывает лица. Я следую за ним в молчании. Блотэн, взволнованный, то и дело спрашивает: «Ну, кто тут не помешан, сознавайся!» Два или три мрачных голоса одновременно отвечают: «Я, я!» Паризель все продолжает итти; он останавливается время от времени, поглаживает свой подбородок, затем со вздохом шепчет: «Нет! Нет!» Помешанные смотрят, как он проходит, и в их широко открытых глазах фонарь зажигает прыгающие огоньки! Они отвечают обрывками фраз на задаваемые иной раз вопросы; они говорят: «Здоров, вполне здоров». Паризель внимательно рассматривает их и продолжает свои поиски.
Но вот он вдруг останавливается перед одним парнем, у которого взволнованное лицо, шипящее дыхание и пристальный взгляд. Некоторое время Паризель стоит, разглядывая его, всматриваясь ему прямо в глаза, затем говорит мне:
— Вот этот.
И прибавляет, обращаясь к парню:
— Как тебя зовут?
Тот сильно и долго кашляет, а затем отвечает испуганным голосом:
— Не знаю.
— Вот и не попали, — кричит Блотэн. — Этот более «того-с», чем остальные,
— Да замолчите, пожалуйста, — говорит Паризель, весь поглощенный своей мыслью.
Он опять всматривается в больного, прикасается к его щеке, щупает пульс и говорит, взглянув на маленькую металлическую бляху, привешенную к руке больного.
— Тюбеф? Ну, слушай, Тюбеф, у тебя воспаление легких?
— Да, — отвечает тот.
У Паризеля в руке фонарь; слегка приподнимая его всякий раз, он внимательно разглядывает лица…
Паризель сдергивает одеяло, проводит рукой по груди бедняка и достает маленький кусочек картона:
«Тюбеф. 201-й пехотный. Воспаление в правом легком».
— Нате, — говорит он, показывая нам картон, — вот ваш двадцать шестой.
Затем, обращаясь к больному:
— Зачем же ты ни слова не говоришь, Тюбеф? Ты видишь, что мы столько мучимся, чтобы найти того, который не помешан?
Тогда Тюбеф начинает дрожать с головы до ног и отвечает с блуждающим видом и полными слез глазами:
— Я… я… Я уж и сам не знал, сумасшедший я, или нет.
— Ну, хорошо, голубчик, — говорит Паризель. — Успокойся, голубчик, и знай, что ты не сумасшедший. Тебя положат в постель. Успокойся.
Паризель и Блотэн ушли, беседуя. Когда они проходили по двору вдоль барака, я услышал, как Блотэн орал:
— Вы поразительны! Вы потеряли целых три четверти часа! Надо было попросту отправить всех двадцать шесть.
КОНЦЕРТ
Нет, мой друг, мы с тобой не принадлежим к числу скромных, сдержанных людей. У нас, конечно, есть другие достоинства, но этих-то, во всяком случае, нет.
Мы только и думаем, как бы разгласить на весь мир наши мелкие дела и, если нам случится обрезать себе кончик пальца, мы рассчитываем на то, что потомство оценит те три капли крови, которыми мы выпачкали свой платок.
Вот Баруэн — другое дело! Это сама скромность! Он преподал мне урок, который я не скоро забуду, не потому, чтобы я мог извлечь из него какую-нибудь пользу, нет, ведь известно, что в лучшем случае, понимают значение хороших примеров, но никто никогда не следует им. И затем я должен тебе сказать, что надеюсь никогда не очутиться в том положении, в каком я застал этого несчастного Баруэна 14 июля 1915 года.
Баруэн в то время собирался умирать в том жалком бараке, где был и я… Впрочем, не будем говорить обо мне. Дело идет о Баруэне, и этого достаточно.
Итак, Баруэн, говорю тебе, доживал последние минуты. Он был ранен на стоянке, исполняя обязанности повара. Премерзкие раны: левая рука оторвана, часть правой — также, один глаз выколот, другой совершенно придавлен посиневшей опухолью и еще разные, мелкие штуки, каждой из которых было бы вполне достаточно, чтобы искалечить человека.
Те, которые раньше знавали Баруэна невредимым, смотрели на него, раненого, с тяжелым вздохом и говорили: «Нет, вы не можете себе представить, что это был за парень!»
Должно быть он был действительно молодчина! Ведь даже обломки Баруэна были чем-то замечательным, изумительным! Он доказал это вечером 14 июля. В этот день устроено было настоящее пиршество: все раненые получили по куску ветчины, кружок колбасы и бокал шампанского, который нам прополоскал глотку.
Баруэн не проглотил ничего из этих роскошных яств; он был совсем плох. С самого утра он был осажден мухами, которые пристрастились к его коже. Он скоро истощил свои силы, отгоняя их обрубком своей руки, и, когда наступило послеобеденное время, он совершенно перестал защищаться.
Я закурил сигару — подарок нашей части от правительства, — взял старую газету и, покуривая, стал тихонько обмахивать ею Баруэна.
Было нестерпимо жарко. Крупные капли пота выступили на его щеках; губы его приняли какой-то грифельный оттенок. Он ничего не говорил; у него был очень озабоченный вид. Я понял, что наступал его конец.
Только успел я сделать это грустное открытие, как объявили о приходе музыкантов. Сержант организовал маленькую вечеринку. Две мандолины, одна скрипка, гитара, несколько, с позволения сказать, певцов — все это легко найти на военных квартирах.
Те раненые, которые вышли было из барака, поспешно возвращались. Те же, которые оставались прикованными к постели, просили подпереть себя под плечи подушками. Слышалось радостное оживление, как в театре перед поднятием занавеса. Артисты сгруппировались посреди комнаты и настраивали свои инструменты.
Я знаком подозвал сержанта и указал ему на Баруэна. Он очень смутился.
— Спроси его, — сказал он, — спроси-ка, не побеспокоит ли это его?
Спрашивать было смешно… но я все-таки наклонился к Баруэну и прошептал:
— Скажи-ка, братец, хотят устроить концерт для ребят. Тебе не будет мешать?
Баруэн пробормотал: «А? Что?», как будто он только что проснулся. Затем он повторил: «Концерт… для ребят… Нет! Можно, можно…»
Мы переглянулись, сержант и я. У меня было впечатление, что Баруэн вот-вот умрет, в тот же миг. Он был холоден, уже холоден. Поражало даже, что он мог еще говорить.
Он, казалось, понял наше колебание и повторил:
— Ну, да! Можете начинать. Это… это мне доставит удовольствие.
И его опухший подбородок стал слегка дрожать.
Сержант сделал знак, и концерт начался. Он длился час. Пели о любви, ревности, клятвах и изменах. Какой-то чудак рассказывал, заикаясь, разные истории из быта казарм — старые рассказы, которые все еще занимали этих одичалых и разбитых людей.
Все мелочи милой былой жизни трепетали под пальцами мандолинистов, и сто сердец в изгнании, сто томящихся сердец отвечали вздохом на каждый припев. Иной раз мощный хохот, подобно сильному приступу кашля, потрясал эту маленькую толпу несчастных и, казалось, должен был разнести весь барак.
Я смотрел на Баруэна. Я мог смотреть только на него одного. Он крепко стиснул губы. Часть лица его, которую можно было разглядеть, приняла выражение решимости и гордости. Раза три-четыре я тихо спрашивал его:
— Ты не устал?
Он не отвечал, но делал головою знак, который означал: Нет!
Спустя час концерт окончился. Последний взрыв хохота потряс барак, и все те, которые могли выйти, пошли покурить свою трубку на воздухе.
Баруэн открыл рот и спросил:
— Кончено?
Я ответил ему:
— Да, кончено.
Баруэн не сказал больше ни слова. Он сделал несколько сильных зевков, поворочался немного, очень немного, потом скоро и ворочаться перестал.
Через десять минут Баруэна не стало.
Я, видевший все это, утверждаю, что в иных случаях человек может отсрочить на час свою смерть, если в нем есть настоящее мужество и большое сердце.
Галлерея колониальных народов мира: Негры Западной Африки. Очерки к таблицам на 4-й странице обложки.
К таблицам на 4-й стр. обложка
НЕГРЫ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ
Западная Африка — место наиболее высоких негрских культур. Здесь, в области от Сенегала до Конго, открытой к Атлантическому океану, мы встречаемся с наиболее густым населением, с многомиллионными народами, с могущественными в прошлом негрскими государствами, как Ашанти, Бенин, Дагомея. Многие из них, как например государства Фулобе и Гаусса, игравшие в XVIII и начале XIX века не малую политическую роль в жизни негрской Африки, были созданы пришельцами с востока и севера — народами хамитического происхождения. Эти пришельцы и образовали господствующий слой в государстве, в то время как основную массу населения составляли туземные негрские племена.
Население Западной Африки принадлежит по типу к суданским неграм. Наиболее многочисленную группу составляют народности мандинго, распространяющиеся по южной Сенегамбии и до Сиерра-Леоне: племена сонинке у устья Сенегала, бамбара по верхнему Сенегалу и Нигеру, балантэ в Португальской Гвинее. Далее идут племена вей и кру в негритянской республике Либерии, народности фан во французском Конго и ашанти в государстве Ашанти, племена эве в Того и Дагомее, иоруба по Золотому Берегу и Невольничьему Берегу и другие.
Западная Африка издавна является областью оседлых культур. Как для Восточной и Южной Африки типична культура пастушеских народов, так для Западной Африки характерно мотыжное земледелие. В северных областях основными продуктами земледелия являются маис, ячмень, пшеница, особый сорт риса; на юге, в областях тропического леса, разводят маниоку, бананы, ямс. На ряду с земледелием распространено и скотоводство, а на севере мы встречаем и племена чисто скотоводческие.
Раньше Западная Африка являлась областью интенсивной работорговли; в настоящее время основными продуктами вывоза являются какао, каучук, пальмовое масло, слоновая кость, золото, ценные породы дерева. По добыче какао Золотой Берег занимает первое место в мире.
Ремесла в Западной Африке очень развиты. Ткацкий промысел, обработка кожи, гончарные и кузнечные работы являются старым достоянием негрской культуры. Здесь известна и выплавка железа в специальных высоких глиняных печах. Произведения кузнецов и литейщиков Западной Африки заставляют удивляться тому, какого высокого искусства достигают мастера своими примитивными орудиями. Роль кузнечных мехов здесь выполняют глиняные горшки с обтяжкой из кожи.
Карта расселения негрских племен в Западной Африке.
Тип селений в Западной Африке — крупные поселки, своеобразные негрские «деревни-города», которые являются центрами торговли и ремесел. На периодических и регулярных базарах этих африканских «городов» вас поражает пестрота и разнообразие типов и одеяний. Здесь можно встретить и экзотические, почти нагие фигуры, и негра в невероятном европейском костюме, и белые бурнусы арабов, и европейцев — колониальных чиновников и торговцев.
Весьма интересна архитектура некоторых западно-африканских негров. Обычным типом являются глиняные цилиндрические хижины с конической крышей, часто соединенные друг с другом стеной, образующей замкнутую ограду.
Своеобразный тип таких селений-крепостей мы встречаем в Того, где каждое жилище состоит из двух этажей: нижнего, служащего амбаром, и верхнего — жилого. Эти жилища соединены друг с другом, образуя сложный лабиринт, обнесенный стеной, придающей этим селениям вид внушительного средневекового замка с башнями.
Крупные негрские государства с деспотической властью короля, его министров и наместников, с рабовладельческим хозяйством, сменявшие друг друга на протяжении веков, по мере колонизации европейцами Западной Африки, сошли со сцены. Теперешние негрские князьки английских протекторатов и французских колоний — только марионетки в руках колониальных чиновников.
Огромная территория Западной Африки поделена между Англией и Францией.
Британская Западная Африка включает следующие области: протекторат-колония Гамбия (200 000 жителей), протекторат Сиерра-Леоне (1 549 000 жит.), Золотой Берег (2 000 000 жит.), к которому присоединена часть бывших германских владений Того (500 000 жит.), крупнейшая в Западной Африке английская колония Нигерия (18 500 000 жит.). К Нигерии при-
(…)[19]ть бывшей германской колонии (…)селением в 1 250 000 жителей.
(…)ринадлежит территория с населе-(…)00 000 жителей (среди них францу-(…)олее 9 000 человек): Сенегал, Французская Гвинея, Слоновый Берег, Дагомея, Французский Судан, Верхняя Вольта, колония (…)ер.
Положение негров в колониях, где фактически и государство, и его приказчики являются рабовладельцами, потрясающе тяжелое, и совсем недавние восстания в Западной Африке не впервые напоминают миру о бедствиях десятков миллионов цветных людей.
НЕГРИЛЛИ
При обзоре африканских народностей нельзя не указать на чрезвычайно своеобразную группу африканских пигмеев, карликовых народностей, так называемых негриллей.
Пигмеи живут в Центральной Африке, в тропических лесах: племена Багиэлли в Камеруне, Акка, Тики-Тики, Батва в верховьях р. Уэлле, Итури и др.
Негрилли чрезвычайно низкого роста (140–145 см.) и в сравнении с высокорослыми неграми кажутся совсем легендарными гномами. В Африке мы встречались уже с низкорослой народностью — бушменами; от последних пигмеи отличаются чрезвычайно темной кожей, широко открытыми глазами, отсутствием стеатопигии (отложение жира на ягодицах) и многими другими признаками.
Более всего негрилли напоминают другую, очень отдаленную группу низкорослых племен юго-востока Азии, азиатских пигмеев-негритосов (племя семанг на полуострове Малакка, аэта на Филиппинских островах, минкопи на Андаманских островах), что дало многим ученым основание считать эти отделенные пространством друг от друга группы родственными и искать исторические и географические пути их расселения в Азию и Африку из общего очага. Негрилли находятся на очень низкой стадии культуры. Это охотники и собиратели. Они не знают ни земледелия, ни даже домашних животных. Их пища — плоды дико растущих деревьев и мясо убиваемых животных. Жилище — ветровой заслон из ветвей. Оружие — лук.
Свои маленькие стрелы негрилли отравляют очень сильным ядом, и высокорослые негры очень боятся столкновений с этими лесными карликами, которые, впрочем, мало воинственны. Основным предметом охоты являются слоны, клыки которых пигмеи сбывают в негрские деревни в обмен на произведения соседних негрских племен. Этот симбиоз на почве товарообмена негриллей с неграми и благоприятствует сохранению среди рослых народностей островков пигмейских племен.
М. Л.
Следопыт среди книг. Программа великих работ.
ПРОГРАММА ВЕЛИКИХ РАБОТ
Среди бешеного разгула милитаризма, в гибельном пути империалистических стран к новым войнам единственной страной, не на словах, а на деле ведущей политику мира, является СССР.
Эта политика мира, по разъяснению XV съезда ВКП(б), есть не что иное, как «политика борьбы с опасностью империалистических войн» и вместе с тем — «основное условие для дальнейшего роста социализма в СССР».
В условиях капиталистического окружения, в обстановке растущих противоречий между империалистическими державами, среди широкого развития национальных движений в колониях и революционных восстаний рабочего класса неизбежно обостряются отношения капиталистических стран к Советскому Союзу.
Подводя итоги международной обстановки, XV съезд ВКП(б) отметил: «Капиталистическое развитие в целом обнаружило тенденцию сократить исторические сроки маркой „передышки“, приблизить новую полосу больших империалистических войн и ускорить революционную развязку мировых конфликтов. Для СССР это означает прежде всего нарастающую напряженность отношений с буржуазными государствами…»
Согласно директивам съезда ЦК продолжает вести работу «на основе дальнейшего систематического развития связей с капиталистическими странами при обеспечении роста хозяйственной самодеятельности Советского Союза», «на основе непрерывного укрепления обороноспособности страны, мощи и боеспособности Рабоче-крестьянской красной армии, воздушного и морского флотов», «на основе накопления хозяйственных резервов (хлебных, товарных, валютных, специальных резервов обороны)» и т. д.
После мировой и гражданской войн бесспорным стало утверждение, что «современная оборона опирается на силы всей страны. Подготовка такой обороны является обязанностью всего государственного аппарата».
Организация вооруженных сил, военная техника и народное хозяйство, только представляя собой единое увязанное целое, могут быть использованы для надежной обороны.
Из опыта мировой войны, как в теории военного дела, так и в практической работе по подготовке новых войн, сделаны существенные выводы. Во всех буржуазных государствах ведется тщательная и продуманная подготовка всего народного хозяйства, и в первую очередь промышленности, для работы в условиях войны.
Во Франции руководство подготовкой всей страны к войне, — «национальной мобилизацией» — осуществляется посредством «Высшего совета национальной обороны», главная задача которого — «исследование всех сил и средств нации для использования иx в целях национальной обороны», «руководство подготовкой к войне страны в целом», «изучение средств и сил возможных союзников и противников Франции».
Подобно Франции и все другие капиталистические державы, напр.: Польша, Румыния, Чехо-Словакия, даже Италия и Япония, в построении своих аппаратов и всей организации экономической подготовки к войне в значительной мере копируют французский опыт.
Мировая война радикально разрушила существовавшие взгляды на современную военную систему. Наблюдающий и бездействующий тыл времен Наполеона или русско-японской войны отошел в область истории.
Страна, готовящая свою оборону, должна организовать не только вооруженную силу, снабженную современной техникой, но и мощный хорошо подготовленный хозяйственный тыл, понимающий свои задачи.
Но современная война невозможна без участия многих миллионов трудящихся. Идея «вооруженной нации», проблема подготовки тыла, роль рабочей силы, как одного из решающих экономических факторов современной военной мощи, является губительным для судеб современного империализма.
Революционные восстания и открытые выступления рабочего класса делают невозможным повторение новых, еще более тяжелых для широких масс трудящихся, войн.
«Человечеству предстоит либо перейти к социализму, — говорит Ленин, — либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу „великих держав“ за искусственное сохранение капитализма посредством колоний, монополий, привилегий и национальных угнетений всякого рода».
На фоне всей этой лихорадочной работы капиталистических держав ясно вырисовывается великое значение пятилетки социалистического строительства нашего Союза, которая становится «пятилеткой обороны».
«Пятилетний план народного хозяйства, — говорил т. Ворошилов на XV съезде партии, — должен исходить из неизбежности вооруженного нападения на СССР и, следовательно, из необходимости, в меру материальных ресурсов, организации такой обороны Советского Союза, которая обеспечила бы победоносный отпор объединенным силам наших (…)противников».
Взятый партией темп индустриализации страны осуществим только путем полной технической реконструкции всей (…) народного хозяйства. Машинная (…) промышленного и сельского хозяйства (…) основа пятилетнего плана. На этой же машиной базе строится и фундамент обороны СССР. Кроме того условием, необходимым для выполнения пятилетнего плана развития народного хозяйства, является «всемерное вовлечение миллионных масс рабочего класса в социалистическое строительство и в управление хозяйством» (постановление XVI партконференции).
Вышеприведенные заметки основаны на двух брошюрах[20], посвященных значению пятилетки и связи ее с обороной страны. Мы рекомендуем нашим читателям близко ознакомиться с ними, чтобы иметь ясное представление о программе тех великих работ, в которых участвует весь СССР и к осуществлению которых мы должны приложить все наши силы.
В. Ян.
НОВЫЕ КНИГИ
Пятилетний план народно-хозяйствен. строительства СССР. Доклад и заключит. слово Г. М. Кржижановского на V Съезде Советов СССР. С картой СССР. «Планов. Хоз.» 1929. Стр. 126. Ц. 40 к.
Пятилетний план промышленности РСФСР. Доклад С. Лобова на XIV Всерос. Съезде Советов. ГИЗ. 1929. Стр. 76. Ц. 15 к.
О пятилетием плане развития народного хозяйства РСФСР. Доклад А. Лежавы на XIV Всерос. Съезде Советов. ГИЗ. 1929. Стр. 48. Ц. 8 к.
Перспективы развития социал. переустройства сель. хозяйства РСФСР. Состав. Н. Кубяк. ГИЗ. 1929. Стр. 128. Ц. 20 к.
Кооперация в пятилетке. Состав. Н. Козьяков. (Серия «Наше хозяйство через 5 лет» под ред. Г. Ф. Гринько). ГИЗ. 1929. Стр. 48. Ц. 10 к.
Вопросы культурного строительства РСФСР. Доклады А. Луначарского и А. Xалатова на XIV Всероссийском Съезде Советов. ГИЗ. 1929. Стр. 143. Ц. 20 к.
Советская книга за десять лет. Доклад А. Халатова на XIV Всерос. Съезде Советов. С диаграмм. ГИЗ. 1929. Стр. 48. Ц. 10 к.
Примечания
1
Витус Беринг, датский моряк, приглашенный на службу Петром I, известный исследователь полярных стран, в честь которого названы Беринговы море и пролив.
(обратно)2
Сиеста — так называются часы полуденного (обеденного) отдыха.
(обратно)3
Тэнана — приток Юкона.
(обратно)4
Полиглот — человек, владеющий многими языками.
(обратно)5
Иногмутская Миссия на реке Юконе, центр тогдашней националистически-православной пропаганды в Аляске.
(обратно)6
Нувуки — Нью-Йорк.
(обратно)7
Ситха, или Новоархангельск — город на острове Баранова, бывшая столица русской Аляски.
(обратно)8
Петрашевцы — группа либерально настроенных интеллигентов, замышлявших во второй половине сороковых годов XIX века проведение в России политических реформ. В числе их был Ф. М. Достоевский. Петрашевцы были арестованы и подверглись ссылке.
(обратно)9
Чилибуха — ядовитое растение.
(обратно)10
Берингово море.
(обратно)11
Форт св. Михаила, или Михайловский, на берегу залива Нортон; в те годы — главный пункт меновой торговли русских с индейцами.
(обратно)12
Екатерины II.
(обратно)13
Генеалогия — наука о происхождении.
(обратно)14
«Песнь о Гайавате» — поэма американского поэта Лонгфелло, воспевающая подвиги мифического героя индейцев — Гайаваты. Является переработкой индейского эпоса.
(обратно)15
Настоящий рассказ является результатом поездки на Мангишлак, совершенной автором летом 1928 г. по заданию редакции «Всем. Следопыта».
(обратно)16
Хабар — слух.
(обратно)17
Натюр-морт (буквально: мертвая натура) — неодушевленные предметы, изображаемые на картине.
(обратно)18
По роману «Кресты» того же автора.
(обратно)19
Здесь и далее — невозможно восстановить текст — повреждение листа оригинала. — Гриня
(обратно)20
«Оборона СССР и пятилетка». Составил Мих. Кокорин. (Из серии «Рабочим и крестьянам о пятилетке» под ред. Н. Елизарова и К. Розенталя.) «Моск. Рабочий». 1929. Стр. 48. Ц. 15 к.
«Народное хозяйство и оборона СССР». (По решениям XV съезда ВКП(б).) Сост. С. Венцов. (Библ. журнала «Спутник агитатора», органа агитпропа ЦК и МК ВКП(б).) «Моск. Рабочий.» 1929. Стр. 136. Ц. 80 к.
(обратно)




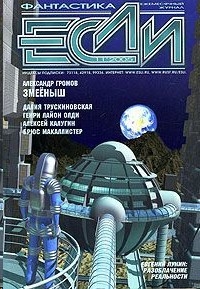


Комментарии к книге «Всемирный следопыт, 1929 № 08», Владимир Сергеевич Трубецкой
Всего 0 комментариев