СВЕРХНОВАЯ американская фантастика № 11-12
Приветствую читателей «Сверхновой» и всех своих читателей из своей личной ячейки в координатах чудес. Земля отсюда смотрится маленькой такой и довольно смешной. Надо бы наведаться. Будьте счастливы. Кто-то ведь должен.
Роберт Шекли Портленд, штат Орегон 12 июля 1995 г.КОЛОНКА РЕДАКТОРА ПОЧЕМУ КИБЕРПАНК?
Такой вопрос задают почти все, прежде не встречавшиеся с этим термином, даже прочитав кое-что из произведений авторов-киберпанков. Действительно, что общего у стриженых «ирокезом» разноцветноволосых ребят с кольцами в носу и прочих выступающих частях тела и умной, подчас даже заумной литературой о мире, схваченном корпорациями, которые пытаются с помощью суперкомпьютеров распространить свой контроль на всё и вся?
Однако, в принципе, общее найти можно. Это — дух отрицания наиболее прочных устоев миропорядка, каким он сложился на сегодняшний день. Дух бунтарства поддерживает отчаянную борьбу хакеров — этаких компьютерных ковбоев — против всесильных корпораций. Человеческая изобретательность демонстрируется ими в самых критических, предельных, а то и запредельных ситуациях. И обнаруживаются пути преодоления самых хитроумных кодов и замков, тайное становится явным. Или, менее глобально, читатель становится свидетелем все новых попыток обжить киберпространство, незримо прирастающее вокруг нас.
«Сверхновая» уже знакомила вас с некоторыми вещами киберпанков: «Виртуальной любовью» Морин Макхью, «Затерявшимися в торговых рядах» Алана Стила и «Фабуляриумом» Рэя Олдриджа в № 2 за 1994 год и с рассказом Пэт Кэдиган «Двое» в № 3 за 1995 год. Даже по этим четырем рассказам можно было заметить, насколько разнолики авторы. Но объединяет всех, даже больше чем тематическое соотнесение со сверхтехнизованным окружением, особое отношение к слову. Будто каждое слово вопрошается, тестируется на соответствие тому, что происходит или намечается вокруг, и только после этого используется. Результатом становится предельно насыщенный текст, весьма непростой для перевода, но то, что американцы называют «challenging» — взывающий к глубинному человеческому самолюбию: хочется стать достойным материала и сделать его доступным «человеку из мяса и костей». Это одна из излюбленных формулировок погруженных в киберпространство навигаторов виртуальной реальности, повторяемая ими как бы в противовес новым возможностям, что даёт электронное существование. Австрийская исследовательница фантастики Элизабет Краус подробнее говорит об обещаниях киберпанка в статье, которую мы публикуем в этом номере. Что же до людей «из мяса и костей», коими большинство из нас продолжает оставаться, мы можем удовлетвориться пока сознанием, что большинству киборгов придется, подобно Железному Дровосеку и Страшиле из известной русско-американской сказки, лишь страстно желать обрести то, чего им так отчаянно не хватает. Хотя каждый раз проверка на человечность даёт довольно парадоксальные результаты.
Нельзя сказать, что романная форма киберпанка неведома читающим по-русски. Прошедшие по нашим прилавкам «Витки» Р. Желязны и Ф. Саберхагена, «Нажмите ввод» Джона Варли проникнуты общей мрачноватой атмосферой, а тематически — вполне в струю. Но знакомство с Гибсоном, Стерлингом, Брином, Кэдиган, какими их знают любители фантастики во всем мире, состоится, видимо, еще не очень скоро. Помимо «Почтальона», публикация «Дошколят доктора Пака» в том номере, что вы держите теперь в руках, — собственно, весь Дэвид Брин в России. А отставание в том, что связано с компьютерами, становится заметно невооруженному взгляду уже лет через пять-шесть. Летом 1995 года наше телевидение показало «Военные игры» по «Недетским играм» Дэвида Бишоффа — фильм, снятый десять лет назад. Роман Бишоффа очень оперативно был издан «Миром» и воспринят синхронно, да и содержание его перекрывает некую современную стадию развития вычислительной техники, а вот фильм, поневоле зависящий от видеоряда, стал жертвой научно-технического прогресса. ВВЦ НОР АД смотрится безнадежно устаревшим и по графическим возможностям тамошнего суперкомпьютера, и по его умственным способностям. Причем тут реакция российских любителей фантастики и американских, которые по своему ТВ имели возможность вновь посмотреть «Военные игры» в июне 1995 года, полностью совпала. У киберпанков все, несомненно, гораздо изощреннее. Хотя, в принципе, никакой прогресс фантастике не помеха. Помнится, полет русского Спутника послужил Айзеку Азимову поводом сочинить песенку, где автор трилогии (тогда еще) об Основании угрожал подать на «чертовы спутники» в суд за кражу лучшего фантастического сюжета. Однако кончается эта песенка весьма мудро: мысль всегда полетит впереди наиновейшего корабля, пространство безгранично. И киберпространство тоже. Там есть место и шутке, как в «Возвращении электрозоидов» Уэйна Уайтмена, и лирике, как в «Человеке по факсу» Дина Уитлока. А передний край сегодняшних возможностей компьютера можно представить по статье Стерлинга «Искусственная жизнь» в рубрике «Теперь вы знаете…».
Помимо «темы номера», читателей ждет продолжение публикации книги Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» в рубрике «Инвариант». Во время поездки в Америку в июле этого года мне довелось стать свидетелем бурных обсуждений этого, казалось бы, литературного памятника, причем повсеместно — от Юга до Северо-Запада — во всех университетах читаются курсы по этой книге и проводятся диспуты. Писатели-фантасты не остаются в стороне от дискуссий, поэтому желающих получше разобраться в круге проблем, освещаемых Токвилем, отсылаем к началу публикации в № 4–6 за 1994 год и № 1–4 за этот.
Результаты конкурса «Сверхновой» на лучшее произведение в жанре фэнтези на русском материале и рассказы-победители будут опубликованы в следующем номере, который также выйдет толстым, сдвоенным.
Лариса МихайловаМайк Коннер ТРИЛОГИЯ О ДЖИ-ДИ:
Перевела Мария Галина
Вы часто в своих письмах просили публиковать произведения лауреатов литературно-фантастических премий последних лет. Повесть Майка Коннера «Собака-поводырь», напечатанная в мае 1991 года, была удостоена премии «Небьюла». Вдохновленный таким успехом, Майк Коннер впоследствии опубликовал в «F&SF» еще две повести о дальнейших приключениях своего героя Джи-Ди (CD, по-английски «Guide Dog» — Собака-поводырь), не вполне равноценные первой, о чем вы теперь сможете судить по публикации трилогии о Джи-Ди целиком с послесловием переводчицы.
СОБАКА-ПОВОДЫРЬ
© Mike Conner. Guide Dog.
F&SF, May 1991.
Когда мне исполнилось четырнадцать, родители меня продали. Я их за это не виню. За меня они отхватили неплохие деньги. Мама с папой заправляли небольшой компанией по импорту и, будучи не в силах состязаться с крупными фирмами, все время балансировали на грани краха. И у них был еще один сын, о котором приходилось заботиться, и который был слишком юн, чтобы продавать и его. Так что с этой сделкой им просто повезло.
Ночью, когда я уезжал, папа заплакал и сказал, что когда мне исполнится двадцать пять, я смогу вернуться домой, отработав свой срок, и тогда он возвратит мне все до последнего цента. Я сказал ему, что это ни к чему. Я был как раз в том возрасте, когда тянет уехать из дому. Так что, ранним декабрьским утром папа повез меня в поселение на своем стареньком грузовичке. Глаза у него все были красными, но он больше не плакал. Он велел мне беречь себя в городе, слушать, что говорят учителя, и мыть перед едой фрукты и овощи. Я думал, он знает толк в овощах, потому что торгует ими, так что я поблагодарил его и сказал, что мы увидимся лет через десять. Он подарил мне крохотный перочинный ножик с пилочкой для ногтей и ножницами. Этот нож продержался у меня до той последней ночи. Он был таким крохотным, что им не верилось, что его можно использовать как оружие. Это было последним, что я получил от папы, и я все еще вертел ножик в одной руке, а другой — махал отцу на прощание.
Поначалу я скучал. Каждый, у кого есть хоть какое-то сердце, тоскует по семье, даже если в ней приходилось несладко. Но в Академии было разработано множество способов заставить вас забыть об этом. Они загружали вас всей этой учебой, да и общественной жизнью — тоже. Они подбирали напарников по общежитию и одноклассников — тех, с кем, по их мнению, вам легче было поладить, и старались, чтобы вы поскорее влюбились в кого-нибудь. Не важно, в кого. Вот вы мучаетесь от одиночества, и они подселяют к вам в комнату парня, который тоже мучается от одиночества, и придумывают для вас разные занятия — ну как тут устоишь? А потом, чуть только вы начинаете чувствовать себя получше, они переводят одного из вас в другую комнату, или в другой класс, и вам опять приходится маяться одиночеством, и все начинается сначала. Иногда на это можно угрохать годы.
Однако, наконец, вы сдавали экзамены и получали возможность узнать, для чего вы тут. Как и везде, тут были свои победы и поражения (хотя потратив на всех года по три, они могли предсказать, кто сдаст, а кто провалится). Все это происходило так: с утра пораньше вас отвозили на Дерево, высаживали на верхушке, и нужно было добраться оттуда до ворот Академии. Никаких ограничений во времени. Никаких «любой ценой». Если что-то шло не так, вы могли выйти на связь, вас подбирали, и вы вольны были предпринять столько новых попыток, сколько хотели. Но каждый понимал: добраться до ворот — означало выбраться из школы. А после трех лет, за которые вас выматывали, вертели вами как хотели и давали вам образование всяческими иными способами, покинуть школу не отказался бы никто.
И я тоже. Я проводил часы, сидя за записями и картами. Надевал наушники, чтобы привыкнуть к шуму, который они издают. Знал, куда и Жак удобнее пройти пешком, как спросить дорогу и разобрать ответ на их языке танцев. У меня был сверток с едой и перечень районов Дерева, где нашему люду разрешали работать или жить. Так что, когда за мной пришли, я не сомневался в успехе. Меня подхватили и высадили прямехонько на вершине Дерева.
Ничего себе! Насесты на верхушке все узкие и отполированные ветрами, круглые, точно ветки, и даже мои снабженные крючьями ботинки и все тренировки на гимнастическом бревне не спасли от головокружения, когда я увидел их всех — тысячи и тысячи проносятся мимо, крылья жужжат, а уж что говорить об их манере поворачивать голову и сверлить тебя глазами; казалось, они желали мне свалиться, а потом, что еще хуже, я понял, что на самом деле им даже не важно, свалюсь я или нет, потому что ты для них — ничто, пустое место, а они друг для друга — все. Очень трудно вынести все это, да еще и продолжать спуск, как было велено. Несмотря на все перила и платформы, там было полно мест, с которых можно сорваться и, проламываясь сквозь ветки и ударяясь о них, точно мячик, так и пролететь до самой земли.
В первые пять минут пребывания там, наверху, я поскользнулся и повис, потому что ноги сорвались со скользкого насеста. Я боролся с охватившим меня отчаянием, которое вытягивало из рук всю силу, заставляя разжать пальцы и сдаться. Тогда я сказал себе — нет, вот для чего ты тут, наверху, — чтобы вынести это испытание, и оно — единственный путь к окончанию контракта. Вот для чего тебя и натаскивали все это время! Так что я подтянулся, и встал, и раскинул руки, чтобы не наткнуться на тех, что кружили вокруг, и они тут же начали облетать меня, поскольку их радары сказали им, что я обрел устойчивость. И так, с ветки на ветку, я начал спускаться, пока не добрался до фонтана, который видел на пленках, сориентировался и вернулся к воротам школы. Весь путь занял шесть с половиной часов. Позже они сказали, что, вроде, это рекорд. Не знаю… Мне-то казалось, что спуск длился целую вечность.
На следующий день меня вызвали и выдали направление в гнездо.
Два года поводырь живет в гнезде. Он продолжает обучение, но, самое главное, старается узнать побольше о том, как они живут. Предполагается, что за два года успеваешь привыкнуть к их образу жизни. Мое гнездо было в двадцати милях от Дерева, у реки. Место зеленое, славное, полно цветов и тропинок, по которым можно было гулять, воображая, что ты дома, пока над головой не пролетал один из них.
Именно в семейном гнезде впервые надеваешь сбрую. Поводыри всегда ее носят. Она служит для переговоров с клиентом. К слову «клиент» нужно привыкнуть — забыть то, что ты под этим словом понимал раньше, и постараться по-настоящему проникнуться идеей своей службы. Твое предназначение как поводыря состоит в том, чтобы помочь клиенту жить по возможности нормальной жизнью. В гнезде учишься не стыдиться, а испытывать гордость за себя и свою работу. А это помогало воспринимать и признание, которым они платили. Я знаю, снести это признание не так уж легко. Но без него, если работаешь поводырем, не выжить. Словно ты — растение, которое учится быть признательным за свет, без которого оно не может ни расти, ни цвести.
У меня было хорошее гнездо. Они много лет сотрудничали с Академией, работали с поводырями-практикантами и знали, как нас нужно тренировать. Это было старшее гнездо, и многие детишки уже почти выросли. В гнезде с тобой возятся в основном дети. Они смеются над тобой, когда впервые чувствуешь, что в основание шеи впиваются тысячи крохотных иголок от закрепленного на сбруе транслятора. Эта штука превращает их жужжание в сигналы, а те уж воспринимаются тобой как слова. Они показывают тебе язык тела. И первые свои движения в сбруе тоже делаешь с детьми. Они хватаются за дужку и прижимают колени к креплениям на твоих бедрах. Иногда, если они достаточно сильны, им удается полетать с тобой, или, хотя бы, попробовать взлететь. Иногда удается даже перемахнуть через комнату. Иногда вы падаете, и тогда получается куча мала, в которой все пихаются, пытаясь освободиться, как любые другие дети.
А самое важное, чему нас учили, — эмоциям, тому, как справляться со своими собственными чувствами и воспринимать чужие. В школе нам говорили, что они, возможно, продукт химической реакции. Может, так оно и есть, но каждый, кто испытал это, знает, что химия тут ни при чем. Это поток любви и благодарности, который настигает тебя так внезапно, что, кажется, пронизывает насквозь. Все обретает такую ясность… И за это можно отдать все, что угодно, не важно — что.
Помню, когда я впервые почувствовал это. Я играл с одним из подростков в игру, где надо ловить мячик чем-то вроде длинной ложки. Я ухитрился поймать один сложный мяч из-за спины и бросил его обратно напарнику, а тот просто стоял, таращась на меня, и глаза его светились, точно фарфоровые блюдца. И так меня прихватило — я думал, разорвусь, до того это чувство меня переполнило.
Конечно, если хоть раз почувствуешь нечто подобное, тебе опять хочется испытать это. Вот потому в Академии и учили направлять свои чувства. Такое ощущение сопричастности составляет основу их жизни. Оно связует их и поддерживает здоровье. Однако в школе нам говорили, что человеку нельзя погружаться в это чувство полностью, можно лишь попробовать его, чуть-чуть коснуться. В тот, первый раз, когда я играл с тем юнцом, я получил сполна и расплатился сполна, потому что за пределами этого сверкающего ощущения причастности лежала унылая черная пустыня, и это, второе ощущение, тоже поражало, и еще сильней. Я чуть не слетел с катушек навсегда. Я был так подавлен, что три дня провел, пытаясь сообразить, как покончить с собой при помощи того крохотного перочинного ножика, что подарил мне папа. Наконец, я все же выкарабкался и с тех пор был по-настоящему осторожен. Старался лишь осторожно попробовать, а не хлебать досыта.
В конце концов нащупываешь свой предел, и я подобрался прямо к нему, но уцелел. Однако находились и те, кто жаждал большего. Они брали сразу все, и постепенно у них развивалось привыкание. О последствиях они не думали. Они были отступниками, перебежчиками. Потом мне выпало столкнуться кое с кем из них.
На второй год жизни в гнезде я совсем освоился. Я так привык к своей сбруе, что больше не ощущал ее, и покалывание в спине с легкостью превращалось у меня в голове в слова и образы. Я привязался к своему гнезду. Их отец иногда брал меня полетать, и мы отлично ладили. Конечно, он мог видеть, и радар у него был в порядке, так что поводырь ему был не нужен.
Но он помогал мне разобраться с их системой дорожного движения и как уступать дорогу. Их отец сказал мне, что я — лучшая собака, когда-либо прошедшая через его гнездо. Собака. Вот как переводил транслятор то название, которое у них для нас имелось. Он дал и эмоциональную реакцию, сопровождая свои слова. Я почувствовал, как она поднимается, собрался, как следует, и лишь чуть-чуть дотронулся до нее. Я знал, что и ему было нелегко привязываться к поводырю, а потом отпускать его. Для меня это тоже было тяжко. Но что делать — так уж сложилось.
Через пару дней после того, как их отец так похвалил меня, Директор попросил меня забежать к нему в контору. Когда я вошел, он сидел за столом. Он носил большие очки — хорошо, потому что я отвык от маленьких глаз.
— Ты был выдающимся, выдающимся учеником, — начал Директор.
— Спасибо, сэр.
— Никто не может требовать от человека большего, чем делал ты.
Он говорил эмоционально. Меня всегда поражало — как это нам удается так явно выражать свои чувства внешне — глаза туманятся, голос дрожит — и так плохо транслировать их при этом.
Директор начал протирать очки.
— Нас посетил представитель очень, очень выдающегося клиента. Очень, очень важная особа в этом мире. У нас никогда не было возможности обслуживать кого-то в этом роде. Однако теперь, я полагаю, мы готовы к этому испытанию. Полагаю, ты готов к работе поводыря. Полагаю, ты здесь — единственный, кто может обслуживать такого клиента. — Он положил руки мне на плечи и пристально взглянул в глаза. — Что ты скажешь?
— Что ж, я попробую, — ответил я.
Я называл его Генри. Генри был художником. Лепил, рисовал, одним словом. Он был самым знаменитым художником за всю историю их мира. Отчасти потому, что он был очень стар. Он протянул дольше всех своих прямых родственников и теперь жил один. И это была вторая причина его огромной славы. Потому что они просто не могли себе представить — как это можно избрать одиночество добровольно. Они всегда спрашивали его об этом, а он отвечал, что живет не один, но со всеми, кто хоть когда-либо видел его работы. Но на самом-то деле он жил один, и для них уже это выглядело чудом.
А третья причина заключалась в том, что он был чертовски хорошим художником. Пусть он летал себе туда-сюда, и разговаривал жужжанием и этими их фигурами танца, и жевал края больших листьев, но уж накладывать краску на холст он умел здорово. Его полотна представляли собой куски шелковой ткани, натянутой на рамы геометрической формы, — попадались и прямоугольные; и сколько его все помнили, он покрывал эти ткани чудными картинами.
Генри был великим мастером и считался бы им в любом мире. К несчастью, старость добралась до него. Он ослеп. Его огромные глаза напоминали мутные диски, он мог лишь приблизительно различать очертания и отличать свет от тьмы. Он терял зрение уже давно, но все продолжал рисовать. И радар его сдавал тоже. Его головные перья вытерлись и скрутились, и Генри остался в темноте и теперь уж, действительно, один. Но он был все еще крепок и не собирался оседать в гнезде для престарелых в ожидании смерти. Ему столько еще нужно было сделать! Так что он обратился в Академию, и Академия послала меня к нему.
Дом его я назвал Студией, потому что так оно и было на самом деле. Он стоял на высоком обрыве и из него открывался изумительный вид на Дерево, чьи ветки сверкали, точно грани ледяного кристалла. Потолки в доме были необычайно высокими, а окна — просто огромными. Там были четыре или пять жилых комнат и три — рабочие. И в каждом углу — скульптуры или картины.
Генри как-то подсчитал, что он нарисовал четверть миллиона картин, не считая набросков, этюдов, ранних работ, которые он потом записал, — не говоря уж о статуях, эстампах, гипсах и набросках пером, что валялись повсюду. Генри был не слишком аккуратен. И это тоже было необычно, потому что в общем все они ужасные чистюли. А Генри — нет. Щитки на его теле были покрыты краской, иногда — очень старой краской, точно сотни раз перекрашенные перила в старенькой гостинице. Он никогда не давал себе труда отчистить краску. Это был символ его профессии. Как-то он рассказал мне, что в молодости, когда он лишь вылетел из гнезда, неряшество принесло ему много неприятностей. Он с трудом находил работу и ни на одной не мог удержаться. Это старая история. Те, кто не вписывается в общество, на самом деле просто стремятся к большему — иначе жизнь для них теряет смысл. Именно поэтому появляются картины и книги, и пьесы, и песни, и все остальное помимо еды и работы. Если ты не можешь приспособиться к миру, вот тогда ты начинаешь стараться приспособить его к себе.
Когда меня привезли в Студию, Директор уже был там. Он все протирал очки и сморкался из-за приступа аллергии. Тут же был и Министр Образования (ну да, у них все это есть — правительства, конторы, религия, университеты — все, как у нас. Оно иначе организовано и не обязательно заключено в монументальные здания, но тем не менее все это было, как я потом выяснил). Там были и репортеры — их и наши. Наши люди фотографировали меня и спрашивали, каково это — принять на себя такую трудную миссию, а Директор все сморкался и глядел мне в глаза, и я старался быть мягким и вежливым, хоть в глубине души мне весь этот шум уже начал надоедать. Наконец, они завели меня в дом, там и стоял Генри посреди первой большой комнаты своей Студии, вытянув вперед длинные руки и слегка наклонив голову, потому что он плохо понимал, что происходит. Один из них подошел к нему — позже я узнал, что это был Управляющий делами Генри, — и что-то ему прожужжал. Генри кивнул, выступил вперед и подошел ко мне.
— Выше голову! — обратился он ко мне вслух.
Должно быть, он долго тренировался. Они с трудом произносят звуки, которыми мы пользуемся, когда говорим между собой, но Генри просто нравилось это выражение. Как-то он сказал мне, что оно соответствует его жизненной философии гораздо лучше, чем все, что можно было высказать на его родном языке. Понимаете, вообще-то для них «выше» все равно что «правее» или «левее». Но Генри сообразил, что для нас это нечто большее, что в этом есть что-то от стремления и упорства, и поражения, и новых попыток… Кроме того, ему просто нравилось, что он может выговаривать эти звуки. Так или иначе, именно тогда я почувствовал, как от него приходит первая эмоциональная волна. Именно с того мига я полюбил Генри и все, что с ним связано.
Я просто не мог дождаться, когда мы начнем работать. Наконец, через пару часов, когда они отсняли свои фото и собрались в Студии, чтобы показать все своему народу, и все необходимые формальности были выполнены Директором и Управляющим Делами, они оставили нас одних. Я помог Генри взяться за держалку.
— Вот она, — сказал я, и транслятор перевел это. Слышал он все еще хорошо. — Вы как?
— В порядке, — ответил он. Я почувствовал, как иглы укололи меня в основание шеи.
— Вы меня понимаете?
— Полагаю, да.
— Отлично, — сказал я. — Давайте приступим.
Генри они тоже неплохо натренировали, как я выяснил. Он изучал «Физиологию собаки», и «Психологию собаки», и «Историю собаки». Вокруг валялись тонны свитков о том, как следует со мной обращаться, а Управляющий нанял подрядчика, чтобы сделать одну из комнат удобной для меня. Они и вправду очень старались. Но результат слегка напоминал то, что случилось, когда несколько слепцов пытались описать, на что похож слон. Как раз посреди комнаты, например, они поставили стульчак таких размеров, что туда можно было нырять. А кровать была вделана в стену. Я спал в этой комнате лишь пару ночей. Потом я перетащил постель в мастерскую, где Генри резал по дереву. Последнее время он там не очень-то много работал, но мастерская до сих пор пахла сосновой стружкой. Она была маленькой, и мне нравился запах, и то, как под ногой у меня шуршат стружки и опилки…
Генри никогда не спрашивал, почему я перебрался туда. У него была потрясающая способность не лезть в чужие дела. И опять же, для них это было очень нетипично, поскольку они так тесно общались между собой, что не знали ничего даже отдаленно похожего на нашу вежливость. Когда я был с гнездом, детишки всегда желали знать, что я делаю, и почему и зачем.
Наконец, я уставал от вопросов и просил их заткнуться. И даже тогда они спрашивали — почему? С Генри ничего подобного не было. Я понимал, что он знает, — если он захочет получить какие-нибудь сведения обо мне, я расскажу сам, и ему даже не придется просить об этом.
Генри ослеп примерно десять наших лет назад. Поначалу он принял свое новое состояние неплохо и занялся скульптурой в глине и гипсе. Я видел кое-какие его работы того периода — грациозные, округлые формы. Он был хорош как всегда, но ему нужно было больше. Он хотел вернуть былую свободу, а для этого он хотел летать. Понимаете, полет, это то единственное, что они делают в одиночку. Однако, летая, они становятся частью Дерева и всего их мира. В этом смысле Генри не был исключением. Без полетов он был одинок.
Мы с Генри тут же начали тренироваться в большой комнате Студии. Эта комната была хранилищем работ Генри — холстов всех форм и размеров, написанных им в Голубой и Оранжевый периоды. Он сказал мне, что на самом деле эти периоды не были большими отрезками времени. Просто, когда на него накатывала грусть, он писал в определенных тонах и в определенном стиле, а искусствоведы и критики относили работу к «голубому периоду».
В этой комнате мы проводили целые часы, и я даже заходил туда, когда Генри отдыхал или выходил куда-то со своим Управляющим, — просто поглядеть на картины. Там их были сотни, в том числе самые знаменитые его работы, такие как «Водопад ночью» или «Лущильщики», которые знал каждый, кто любил живопись. Именно тут мы и начали работать со сбруей. Это было все равно, что играть в гандбол в Лувре, в зале Медичи.
В этой комнате были насесты, расставленные довольно близко друг к другу, поэтому мы могли начать с небольших прыжков. Генри взялся за поручень, чуть подогнул колени, а я оглянулся на него через плечо.
— Куда полетим? — спросил я.
— Решай сам.
— Ты уверен? Я не хочу, чтобы ты упал.
— А кто же хочет? — удивился Генри.
Я сделал первый прыжок. Они очень ловкие и такие сильные, и быстрые, что он без труда схватывал направление или расстояние, ощущая сжатыми коленями, как меняется наклон моего тела. Он не боялся. Он полагался на то, что я не ошибусь. А иногда, когда мы действительно падали, Генри каким-то образом ухитрялся вовремя распахнуть крылья. Я сразу понял, что мы сыграемся. И уже скоро он начал пользоваться крыльями не только как парашютом. Генри летал, оседлав меня, а я менял наклон своего тела, чтобы он понял, когда ему повернуть и насколько, или когда нужно собраться в полете перед тем, как опуститься на землю. Мы долетали до самых верхних насестов в Студии. Упади я оттуда на пол — разбился бы насмерть, но с Генри я чувствовал себя в безопасности. Мы опустились на насест, и я стоял там, глядя на залитое утренним светом Дерево и слушая, как ударяются друг о друга грудные пластинки Генри, поднимаясь и опадая. Он все еще не вошел в форму, уставал во время полетов и дышал тяжело. Но он был счастлив.
Однажды мы вылетели наружу. Было раннее утро, солнце только-только успело разогнать туман, и народу в воздухе было полно. Дерево бурлило, и по краям его словно разлетались мелкие брызги — столько их было там, летающих туда-сюда. Генри долго ждал, пока я соберусь. Он и сам нервничал. Наконец, я услышал, как он подошел, устроился за моей спиной и почувствовал, как он взялся за поручень.
— Выше голову, — сказал он.
Я оглянулся на него. Он слегка наклонил набок голову, а его затянутые дымной пленкой глаза походили на перламутровые кружки. Я гадал, так уж ли «выше». Не уверен, что я, ослеп-нув, доверил бы кому бы то ни было провести меня даже через комнату, не говоря уже о полетах.
— Я готов, — ответил я.
Генри охватил меня согнутыми коленями, и я услышал сухой скрежет его спинных пластинок, когда он высвобождал крылья. Все их радары работали, и в воздухе покалывало так, что волосы на затылке поднимались дыбом. Но нужно было забыть об этом и задействовать глаза и уши и интуицию. Это было все равно, что влететь в пчелиный рой, с той только разницей, что пчелы тут весили по триста фунтов. Я нырял, и крутился, и облетал, прокладывая дорогу, как меня учили и как не учили никогда, и все это время Генри нес меня прямо по проспектам, в гущу движения, в самое напряженное время дня. Никто не летал так, как мы в тот день. Мы пятьдесят раз чуть не промахнулись, и раз десять чуть не столкнулись, и я все ждал, что их блюстители порядка нас оштрафуют. А потом я заметил, что все расступаются перед нами, и дают нам дорогу, и смотрят, куда мы направляемся. Поначалу я думал, мы попали в дырку, но потом сообразил — весть уже распространилась. Они знали, что Генри вернулся. Он пережил самое худшее из всего, что могло приключиться по их меркам, и им хотелось поглядеть, как он справляется с этим.
Мы летали все утро. Потом Генри спросил меня, как мы сориентированы по отношению к некоторым разметкам на Дереве, и начал вести меня. Мы оставили Дерево и какое-то время следовали вдоль глубокого каньона, на дне которого протекала река. Стены ущелья были из выкрошенного сланца, а в расселинах, там, где было за что зацепиться, росли купы скрюченных деревьев. Каньон становился все глубже, все уже, его накрывал балдахин зелени так, что свет превратился в зеленоватые сумерки. К этому времени можно было уже расслышать шум водопада. Неожиданно Генри откинулся назад в своих помочах и мы полетели прямо вверх, пробив листву, и оказались на широком затененном карнизе, нависшем над каньоном. Я слышал оживленное жужжание. Мы приземлились на карнизе, и Генри перевел дыхание.
— Что это за место? — спросил я.
— Ну, я думаю, ты назвал бы это «кафе», — сказал он через транслятор и уже вслух повторил: —«Кааф».
Я заколебался. Это было одно из их укромных мест. У них есть свои клубы и все такое, но нас туда никогда не пускали.
— Думаешь, мне стоит появляться там? Я хочу сказать, я могу тебя подождать и здесь. — А сам подумал: «Ну точно, как послушная собака».
— Не глупи. Я — один из владельцев. А может быть, и единственный владелец, остальные, должно быть, уже умерли.
Он слегка подергал меня за сбрую, и я завел его внутрь. Там были столы и длинные каменные скамьи, народу — полно. Увидев меня, они разом прекратили все разговоры. «Они не любят нас, — подумал я, — мы для них ничто». И затем, когда они поняли, что это Генри, все вокруг прямо-таки взорвалось. Все кинулись к нему. Он позволял дотрагиваться до себя, приглаживать перья, заглядывать в глаза и прикасаться к покрытым перьями выростам на голове; а потом, прижимая сбрую так, чтобы я мог понять, он сказал им всем, что долетел сюда с моей помощью. Я почувствовал прилив эмоций, но не слишком боялся его. Все-таки мы были в кафе.
Нас усадили и принесли Генри и мне по тарелке, до краев наполненной листьями, и по чаше желтого меда, настоянного на цветочном нектаре. Генри гут же занялся своей едой, но потом заметил, что я не ем. Тогда он поднялся, и я уловил через сбрую, что он требовал еду для своего друга. Кто-то вышел и вернулся с тарелкой фруктов и ягод, так что и я мог поесть вместе со всеми. Я оголодал после всех этих полетов и ел не заботясь, годится мне это или нет. Я так полагал, что если Генри доверил мне вести его в полете, то я могу доверять ему в том, что он меня не отравит. Как выяснилось, эти фрукты содержали в небольшой концентрации какой-то алкалоид, поэтому вскоре я уже распевал со всеми песни и отплясывал на столах, и Генри таскал меня повсюду и позволил каким-то своим друзьям по очереди надевать сбрую. Генри научил их, как говорить «собака», и они тут же сложили по этому поводу песню. Потом Генри показал мне свои картины, развешанные по стенам. Многие были по-настоящему старыми и нарисованы дешевой краской на досках, которые уже начали трескаться. Генри описывал каждую. Оказывается, они ничего не убрали и не перевесили с тех пор, как он был тут в последний раз.
На картинах, в основном, были пейзажи или натюрморты. А одна картина мне здорово понравилась. Там были нарисованы двое — взрослый и ребенок. Взрослый стоял у ребенка за спиной и, склонив голову, на него смотрел. А ребенок запрокинул голову и поднял глаза. Они как-то так глядели друг на друга, что это напомнило мне моего папу, и я заплакал. Это вызвало сенсацию. До сих пор до меня никогда не доходило, что они могли ощущать наши эмоции. Они все в один миг сгрудились вокруг, дотрагивались до меня и пытались собрать хоть капельку моих слез. Я должен был бы наплакать реку, чтобы удовлетворить их всех. А от них шла такая мощная волна чувств, что я чуть не вырубился. Тогда Генри все это прекратил. Он твердо велел им всем отстать от меня. Он заставил их успокоиться и дал мне время, чтобы придти в себя.
— Выше голову! — сказал он, когда я успокоился.
— Это все из-за картины. Почему-то из-за нее я почувствовал себя ужасно грустно — но в то же время, и хорошо.
— В самом деле?
— Да. Это ужасно хорошая картина.
— Хочешь ее забрать?
— Ох, я не могу. Она же тут висит все время.
— А мы принесем им другую. Тебе она понравилась? Мне будет приятно подарить ее тебе.
— Ладно, — сказал я.
Он велел им снять ее со стены, и мы, когда уходили, забрали ее с собой.
Я повесил картину над кроватью в мастерской. Мне нравилось на нее смотреть. Хорошо, когда на стене висит картина, на которую ты можешь ненароком взглянуть, когда входишь или по утрам встаешь с постели. Именно так и нужно глядеть на живопись. В музее, когда ты специально приходишь и таращишься на картину вместе с толпой других людей, это все равно, что разглядывать в зоопарке животных. И при этом чувствуешь себя неловко, потому что дикие животные не позволили бы себя вот так разглядывать. Картины рисуют ради денег или ради удовольствия, но вовсе не для того, чтобы выставлять их рядом с множеством других картин. Во всяком случае, так я полагал. И однажды вечером я рассказал об этом Генри.
— Это твоя теория искусства? — спросил он.
Я ответил, что это нельзя назвать теорией. Скорее, что-нибудь вроде мнения. Он наклонил голову, потому что слову «мнение» не было точного эквивалента в его языке. Потом немного подумал и спросил:
— Хочешь сказать, это твоя идея?
— Ну да, что-то в этом роде.
— Собака-поводырь и я думаем одинаково, — сказал он. — Интересно, видим мы тоже одинаково?
Мне всегда нравилось хвастаться перед ним своей сообразительностью, так что я начал объяснять, что у меня в глазу только один хрусталик, а у него — двести пятьдесят шесть. Но он остановил меня.
— Смотри, — сказал он, постукивая по пластинке на макушке. — Внутрь себя. Ты заглядываешь через дверь в большую комнату. Скажи мне, что ты видишь.
— Край той скамьи.
— Почему?
— Не знаю. Может, потому, что древесина раскололась. Интересно, почему она так раскололась?
— Цвет?
— Ну, это по-разному, Генри. Я могу видеть ее с кровати, понимаешь ли. Иногда, рано поутру, или если идет дождь, например, дерево серое и коричневое, и чуть голубое. Я бы сказал, цвета простора.
— Простора?
— Ну, так выглядит свет внутри большой церкви, когда солнечные лучи не падают в окно. Вот что я имею в виду.
— Простора, — повторил Генри.
Он больше ничего не сказал, вышел и оставил меня одного. Я немножко почитал книгу, а потом написал письмо родным, где велел им не слишком гордиться моим назначением. Полагаю, у них были основания гордиться, но я не хотел, чтобы они хвастались этим повсюду. Я писал, что мне повезло, что я попал именно к Генри, но не считая этого, я отрабатывал мой контракт точно так же, как остальные. Я пытался писать не слишком грубо. Но иногда не мешает напомнить кое-кому о том, что они с вами сделали. И есть множество способов сказать это мягко, обиняком. И, написав уже дюжину писем домой, я все равно каждый раз находил новый способ сказать им это.
Закончив письмо, я отослал его по линии связи и начал бродить по Студии в поисках Генри. Я нашел его на задней террасе дома. Он сидел в своем гамаке и грыз палочку. Перед ним лежал целый поднос таких палочек, и я понял, что он жует их на кисти. Вокруг дома Генри рос кустарник, который выбрасывал прямые зеленые побеги, сплошь состоящие из шелковистых волокон. Если немного над ними поработать, получалась неплохая щетина. В зависимости от толщины стебелька можно было нажевать себе любую кисточку, от самой тоненькой до малярной. Перед Генри лежала уже дюжина новеньких кисточек.
— Хорошо, — сказал Генри, дотронувшись до сбруи. — Я как раз собирался позвать тебя.
Он прижал новую кисточку к тыльной стороне руки, потом пожевал ее еще немного и положил на поднос к остальным.
— Не возьмешь ли его?
Я поднял поднос, а он ухватился за держалку и направил меня в большую комнату. Там стояли его табуретка и еще один стул, и плоский холст на мольберте посреди комнаты.
— Положи поднос и садись, — сказал он.
Я сел. Сердце у меня начало колотиться быстрее. Генри сел слева от меня, чуть позади. Он взял палитру и выдавил краску из тюбиков. Они были похожи на тюбики, что используют наши художники. Генри знал, какой цвет ему нужен. Когда он стал слепнуть, он выучился класть все, в чем нуждался, в определенном порядке.
— Сегодня облачно? — спросил он.
— Да.
— Будем рисовать скамью, — она далеко?
Я сказал ему.
— Где?
Я не совсем его понял.
— Если ты станешь напротив холста, где?
— От центра чуть вправо.
Тогда он взял карандаш, выдвинулся вперед и сделал набросок. Чтобы обрисовать очертания скамьи, ему хватило минуты. Перспектива, угол, даже тень — все оказалось великолепно. Это было потрясающее зрелище.
— Как ты это делаешь?
— По памяти. Я уже столько лет живу тут, что отлично все помню. Но если что-нибудь новое… — он покачал головой, — мне нужен мой поводырь.
— Ты хочешь попробовать писать?
— Не попробовать. Я хочу писать. С твоей помощью.
— Но я не умею рисовать. Мне даже прямую линию не провести.
— Верно. И летать ты тоже не умеешь, — сказал он.
Когда я подумал об этом, то улыбнулся. В определенном смысле это была даже большая ответственность, чем направлять его в полете. Генри был одним из величайших когда-либо живших на свете художников.
— Я был бы очень счастлив, — сказал он, и я почувствовал прямо поток эмоций, который чуть не скинул меня с табуретки.
— Ладно, — сказал я, — я попытаюсь.
— Хорошо, — ответил Генри.
— Но как мы это будем делать?
— Будем учиться. Как полетам. Первый урок — цвет. Возьми эту кисточку. Я хочу, чтобы ты смешал для меня этот цвет на палитре.
— Какой цвет?
— Погляди на скамью. Передай темноту и немного света внутри. Смешай мне тот цвет, который ты назвал «просторным».
Первая картина заняла у нас часа два. Генри был не из тех художников, что выписывают один фрагмент целую вечность. Ему нравилось работать быстро, и по первому разу мне пришлось его даже притормозить, потому что мы еще не выработали системы. Генри послушался меня. Он перестал метаться и начал спрашивать, как выглядит то, что он нарисовал, и показал мне, где цвета нужно чуть изменить и как я должен смешивать их по-разному в зависимости от времени дня. Я никогда не думал, что можно научить такой сложной вещи, как живопись, но Генри ухитрялся делать вещи понятными, объясняя на всяких посторонних примерах. А иногда он выпускал мою руку и говорил, что я могу делать все, что хочу. Я отказывался, но Генри сказал, что эти работы будут не только его, и, что если я хочу по-настоящему помочь ему, я должен вложить туда и себя. Так что я старался, как только мог. И пока мы работали, мне приходилось говорить ему обо всем: каких размеров предметы и как они располагались на холсте. Наконец, мы разработали способ, при котором на холст накладывалась сетка, а по ней измерялись все пропорции. Так Генри мог восстановить композицию и знать, на каком участке он работает; и сказать мне, куда продвигаться дальше. Мы также разработали цветовую шкалу с основными цветами и промежуточными оттенками, точно музыкальные ноты. Огласовка цвета — назвал ее Генри.
Таким образом, мы выработали систему общения, при которой можно было выразить все, что хочешь, используя для этого минимум слов. На это ушло какое-то время, но в результате все начало получаться, в точности как и с полетами. Я был его поводырем. Генри сказал, что когда мы работаем вместе, он чувствует такое удовольствие, исходящее от меня, что ему все равно, видит ли он сам картину, или нет. Он может чувствовать, на что она похожа, и представлять ее себе.
Мы принесли ту, первую картину, изображающую скамью, в клуб Генри, в обмен на ту, что мы унесли оттуда. Все были просто поражены и говорили, что это одна из лучших его работ. Генри сказал, что это моя заслуга. Что это его первая картина «просторного» периода. Отныне мы будем писать просторные работы, используя просторные цвета. В результате мы действительно сделали целую серию картин того же песочно-зеленого оттенка. Я был почти так же заляпан краской, как и сам Генри. И я начал понимать, почему он никогда не хочет ее отмывать.
Ну вот, до сих пор я рассказывал, в основном, про Генри. Это естественно. Когда я впервые попал в Студию, я думал только о Генри. Но не считайте, что я хоть на миг забывал о том, кто я такой или откуда прибыл, или сколько дней остается до конца контракта. Генри знал, что я чувствую. Он подождал, пока слава о наших работа не разошлась повсюду. Потом устроил визит в Академию.
Мне было приятно вернуться туда. Я был гордостью школы. У них там висели наши с Генри фотографии и старые фотографии тоже, где я — худющий, длинноволосый, примерял тренировочную сбрую. Они устроили большой сбор, и Генри сказал речь, которую я перевел, и затем я выступил со своей собственной речью. Я сказал о том, что, невзирая на внешние различия, мы все одинаковы и что это особенно понятно тому, кто видит глазами другого. И добавил, что когда у вас есть, о ком заботиться, вы автоматически начинаете заботиться и о себе. Я действительно говорил с вдохновением. И Генри им тоже выдал. В верхнем ряду амфитеатра я увидел маму и папу — они так душили друг друга в объятиях, что даже покраснели.
После этого в библиотеке был прием, на котором я стоял и с вежливым видом отвечал на вопросы. Я сказал, что собаки-поводыри — очень важная вещь и что это может помочь колонии обустроиться здесь получше. А поскольку все мы по сути своей — одно, может, мы можем служить поводырями и для других рас. Может, у нас к этому особый талант, хотя для того, чтобы работать с таким замечательным клиентом, как Генри, особого таланта не нужно. Я совсем расчувствовался, и тут Генри отвел меня чуть в сторону.
— Устал?
— Все в порядке.
— Последний ответ был уж слишком.
— Ты меня слышал?
— Я почувствовал, что ты волнуешься, — сказал он.
— Ну, — ответил я, — погрейся и ты у моего огня.
— Почему ты не пойдешь, не повидаешься со своими друзьями?
— Но я же нужен тебе здесь.
— Да, но они вовсе не собираются отпускать меня отсюда. И мой Управляющий со мной, он будет для меня переводить. Так что пойди, погуляй. — И он вытолкал меня своими большими руками.
Мы с приятелями отправились в кафетерий на территории Академии. Оттуда можно было видеть светящееся вдали Дерево. Мы все сели в кружок и поначалу чувствовали себя довольно скованно. Многих из ребят тоже тренировали на поводырей. Я все еще был в своей сбруе и чувствовал, что некоторым было неловко глядеть на меня, но наконец нам принесли кофе и мы развеселились, и никогда раньше мне не было так хорошо. Одна из девушек, с которой я был неплохо знаком, захотела, чтобы я сел поближе, и все время пыталась поцеловать меня. Я не возражал. Вот как раз этого мне все время не хватало — стоило только дать себе подумать о девчонках.
Все задавали мне вопросы. Они ничем не отличались от тех, на которые я отвечал до этого, пока один малый по имени Скотт не спросил, на что в действительности похож Генри.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я.
От этого Скотта я никогда не был в восторге. Он был из тех парней, которые готовы все наизнанку вывернуть, лишь бы поглядеть на худую сторону. Он был младше меня на класс и вечно соперничал со всеми. Я никогда не воспринимал его как соперника, и именно это, я думаю, приводило его в бешенство.
Скотт сказал:
— Я имею в виду, когда он расслабляется. На что он похож?
— Он не расслабляется, — сказал я, чувствуя, что сам напрягаюсь.
— Верно. Он их единственный предмет гордости. Все они свихнулись на нем. Небось, поднимают такой шум, когда вы пролетаете мимо?
— Наверное, да.
— Наверное, да! Должно быть, ты получаешь неплохую дозу каждый раз, как вы вылетаете. Не говоря уже о том, что ты поимел сегодня.
Скотт сказал это с презрительной гримасой, и вот что интересно — я пришел в ярость. Он говорил про эмоции, а это была как раз та, которую я уже давно не испытывал.
— К чему ты клонишь?
— К тому, что ты пристрастился. Ты ничем не лучше этих отступников, которые живут у них на Дереве.
Мне нужно было просто не обращать на него внимания, но я не мог. Чего я никогда не делал, так это не принимал от них больше эмоций, чем это было допустимо для меня. Если честно, я даже старался принимать их поменьше. Так что я встал, ухватил его за воротник и приподнял над землей.
— Это сильно действует, — сказал я. — Очень сильно, и ты сам это узнаешь, когда выйдешь отсюда. Но поддаваться я не собираюсь, потому что если я это сделаю, то рехнусь. Я просто стану наркоманом. Мне придется жить в Дереве, и тогда я не смогу помогать Генри. Я и себе помочь не смогу.
— Уж такой ты великий да могучий, — фыркнул Скотт. — Но меня ты не одурачишь. Может, ты и сам не признаешься…
Я толкнул его назад в кресло. Он задел стол рукой, кофе пролился, и все вокруг повскакивали с мест. Вдруг стало очень тихо. Я сказал, что, пожалуй, пойду.
— Наркоман! — прокричал мне вслед Скотт.
Понятно, Скотт был придурком, но и придурок может достать как следует, и, в любом случае, тут была и доля правды. Быть собакой-поводырем, значит — забыть о себе. А когда находишься в полете, кажется, что каждая клеточка мозга занята тем, как бы удержаться и не врезаться куда-нибудь. Это изматывает до предела, все время ожидаешь каких-то бед. Это и есть ответственность, и степень ее неизмерима. Именно поэтому поводыри всегда такие мрачные и, когда ты встречаешься с ними в воздухе, избегают твоего взгляда. Именно поэтому поводыри так часто теряют хватку. Конечно, при этом кажется, что ты и вправду заслужил всю ту любовь и благодарность.
Я много думал о всяком-разном, когда мы тем вечером покинули школу. Думаю, Генри понял, что что-то неладно. Мы ехали в машине вместе с Управляющим. Генри уважал мои чувства и не сказал ничего, пока Управляющий не высадил нас около Студии.
— Обычный прием, — сказал Генри, — как сотни других.
— Так уж много ты их видел? — резко спросил я.
Он как раз достал несколько листьев из холодильника и теперь жевал их, но тут он остановился и повернул ко мне голову.
— У нас тоже бывают приемы. Точно такие же. И точно с той же целью.
— Рад за вас, — сказал я.
— Да что с тобой? — спросил Генри. — Выше голову! Клянусь, он даже ухитрился заставить это свое шипение звучать сочувственно. Но в тот миг я ненавидел его даже за это.
— Ничего!
— Что-то случилось, пока ты был с друзьями?
— Они — не мои друзья. У меня нет друзей.
Он мягко кашлянул.
— Не думаю, что это и в самом деле так.
— Не начинай, Генри. Я — не твой друг. Я — твоя собака. А ты знаешь, что такое собака? Мы тут не держим их, потому что не можем себе этого позволить, но ты знаешь, кто это? Они — домашние животные. Мы любим их, потому что они соображают достаточно, чтобы нас помнить, и достаточно глупы, чтобы любить нас, несмотря ни на что. Так что мы тоже любим их. Но мы не уважаем их, Генри. Потому что считаем себя лучше их. Самый глупый, самый недоразвитый из нас лучше, чем самая лучшая собака, Генри. А ведь именно так ты зовешь меня. Собака.
Он не прерывал меня какое-то время, давая мне выговориться. До этого он никогда не чувствовал, чтобы я сердился, и, думаю, он хотел понаблюдать. Наконец, он сказал:
— Собака — это просто слово. У нас нет собак. Собака — это ваше слово. Это то, что вы слышите у себя в голове, когда мы о вас говорим. Я бы никогда не назвал тебя собакой, в том смысле, который ты имеешь в виду.
— А как бы ты назвал меня?
— Глаза, — сказал он. — Руки. Друг.
Он был прав. Я был для него всем этим. Я устыдился, что сорвался на него, и извинился, а себе пообещал никогда не давать волю своим худшим порывам. Я сказал себе — это до добра не доведет. А теперь, когда я не дам себе больше воли, все опять будет в порядке. И какое-то время так оно и шло. Мы нарисовали еще несколько натюрмортов и пейзажей с цветами и деревьями на плато вокруг Студии. Иногда Генри прикладывал к ним руку, стараясь уловить текстуру и общие контуры, но в последнее время он часто давал мне одному компоновать картину, а сам лишь накладывал мазок-другой. Я не возражал. После того приема я почувствовал, что начал по-иному воспринимать все вокруг.
Через несколько дней Генри сказал, что мы засиделись и что нам пора прогуляться. Тогда мы выбрались полетать. Надвигалась зима, моросило, а иногда и здорово поддувало. Но Генри было все равно. Он брался за дугу-держалку, и мы выходили наружу.
К этому времени я уже привык летать и стал больше внимания обращать на то, куда мы направляемся и что происходит вокруг. Я гордился тем, что набрался опыта; и делаю свое дело машинально, не думая. На самом деле я перестал думать и о Генри. Он тоже это знал. Но ни разу не пожаловался. Он просто позволял мне идти своей дорогой и ждал, что будет дальше.
Один раз мы залетели глубоко в Дерево. Было темно, шел дождь, молнии, казалось, били отовсюду — зеленые, холодные, отбрасывающие длинные четкие тени. Мы направлялись в магазинчик, владелец которого просил Генри подписать кое-какие книги по искусству. Это был один из наших магазинчиков, и, думаю, Генри согласился на это, чтобы я чуть-чуть лучше себя почувствовал.
Мы не слишком-то разговаривали по дороге. Я притворился, что занят, потому что движение и в самом деле было большое. Я все еще злился на Генри. Я думал, что это чувство мое серьезно и продлится вечно. На самом-то деле, это один из циклов, через которые проходит дружба. Сначала нас захватывает эйфория и энтузиазм, а потом наступает реакция. И, пугаясь этого чувства, стараешься избавиться от него и переносишь на своего напарника. Однако если не обращать внимания, оно быстро проходит. Оно бы и с Генри прошло, если бы я дал тому хоть какую-то возможность.
Внутри Дерева было по-настоящему темно. Мы находились в самой старой части города, и повсюду стенки летных тоннелей были за века отполированы до блеска перьями на концах крыльев. Несколько огоньков, похожих скорее на искры, горели по верху тоннелей и там же были укреплены такие маленькие громкоговорители, которые жужжали, транслируя шум с поверхности, и помогали радарам найти направление. Мы немного потолкались, а потом вылетели к перекрестку. Там был широкий проспект, ведущий наружу, и еще три прохода, все непроглядно черные, падающие отвесно вниз. Я описал Генри, где мы находимся, и он сказал, что нам нужен средний проход, который проведет нас как раз в квартал, где располагался книжный магазинчик.
— Ох, Генри, я не знаю, — сказал я.
— Да что с тобой? Выше голову! Все хорошо. Ты справляешься.
Это ему было хорошо. Он чувствовал себя отлично. Да почему бы и нет? Он помнил весь путь наизусть. Его предки провели пару тысяч лет, вгрызаясь внутрь древесины.
— Тут слишком темно. А у меня нет фонаря. Ты должен предупредить меня.
— Мы пойдем медленно. Я знаю эти улицы как свой собственный дом.
Голос его звучал слегка нетерпеливо, и я почувствовал это и почувствовал, что хочу доставить ему удовольствие. Я в этот момент ненавидел его. А больше всего ненавидел себя. Я действительно пристрастился. Необходимо признаться себе в этом. Неважно, что я беру очень мало, я все же жил ради его одобрения.
— Ладно, Генри. Ты — босс. Попробуем. — Он взялся за держалку, сжал колени, поднял крылья, и мы полетели.
Мы падали все ниже и ниже. Я не мог ничего разглядеть. Я слышал, как Генри удивленно хмыкнул пару раз, когда мы ударились о стенку, и порадовался этому. Я стал для него неудобной ношей, как плохой всадник — неудобная ноша для лошадиной спины. Казалось, на то, чтобы добраться до конца тоннеля, у нас уйдет вечность, но, наконец, мы вынеслись на большую площадь — или то, что в нашем городе назвали бы площадью. Там безработные могли сидеть и убивать время, пока остальные торопились по делам. Только на этот раз люди, сидящие здесь, были отступниками. Их было шестеро, они сидели, прислонившись к стенам, вид у них был вялый и скучающий, пока мы не появились на площади. Тут словно кто-то врубил выключатель. Они повскакивали, усмехаясь и подталкивая друг друга локтями. Вид их не обещал ничего хорошего. Я тихонько чертыхнулся. Никогда не видел, чтобы в одном месте собралось столько мерзких типов.
— Что случилось? — спросил Генри.
— Отступники, — сказал я. — Земные собаки.
— Правда? — удивился он. — На что они похожи?
— Они похожи на подонков, Генри, ясно? — Те окружали нас. — Я думаю, если мы дадим задний ход, это будет хорошая мысль.
— К сожалению, не думаю, что это мне сейчас удастся. Мне нужно отдохнуть.
— А просто бежать ты сможешь?
— Думаю, да.
— Там отверстие, прямо напротив, на другом конце площади. Давай к нему!
Он поднял крылья, и мы рванули, но мы двигались медленно, а я был измотан. Все же мы могли бы пробиться сквозь них, потому что они долгое время сидели, а Генри с распахнутыми крыльями выглядел внушительно. Но тут один из них встретился со мной взглядом.
— Эй, ты, — окликнул он меня, — славный песик!
И я спустил ноги и притормозил.
— Что ты сказал?
— Я сказал — песик. Это как раз про тебя. Ты хуже собаки. У той хоть нет выбора.
Я не должен был обращать на него внимания. Кто он был такой, чтобы вообще разговаривать со мной? Он был просто опустившимся типом, который, может, когда-то сам был поводырем. Но он так смотрел на меня, и так держался, что я не мог спустить ему.
— Выбирайся из сбруи, Генри, — сказал я.
— Я думаю, не стоит.
— Если ты меня не отпустишь, значит, это правда, и я просто твоя собака, — сказал я. — Пусти!
И я дернулся. Никогда не думал, что его можно чем-то испугать. Но он же был старым. Он стоял там, слепой и одинокий. А меня беспокоила лишь собственная обида. Я ворвался в толпу этих дурней, добрался до того, который обозвал меня, и врезал ему. В тот же миг все они навалились на меня. Они были слабыми и двигались медленно, а я — быстрым и сильным, но их было слишком много, и долго бы я не продержался. Генри разобрался быстрей меня. Они могут как-то издавать своими крыльями сигнал тревоги и по звуку различать, кто попал в беду, — и все они знали, что это был Генри, и сотни их прилетели, вылетали из тоннелей, заполняя площадь. Это был целый рой. Как раз то, что нужно этому отребью. Они все отвалились, не успев забить меня до смерти, и легли на спины, раскинув руки и зажмурив глаза, впитывая все эмоции и широко, довольно улыбаясь.
На следующее утро Директор школы вызвал меня. Я чувствовал себя паршиво. Ребра ноют, один глаз заплыл. Директор не обратил на это внимания. Он хотел выложить мне все про то, как я завалил дело. Поначалу я почти не отвечал. Я подумал, пускай выпустит пар. Если бы я знал, что он задумал, я попытался бы сказать хоть что-нибудь в свою защиту.
— Поводырь не делает ничего, что могло бы угрожать безопасности клиента, — начал Директор. — Именно этому мы тебя учили. Это — суть всего, что мы тут делаем. А ты, именно ты! Разве не внушали мы тебе, день за днем, чувство огромной ответственности, которую ты на себя принимаешь? Он — самая важная персона в этом мире! И наша репутация укрепится либо рухнет в зависимости от того, как ты управишься с заданием.
Тут мне пришлось кое-что сказать.
— Может, как раз в этом и проблема, — сказал я. — Почему если мы и нанимаемся к ним, то слугами? Так они нас никогда не будут уважать.
— Потому что это — то, что мы есть. Мы можем преуспеть только в том, что мы есть. Потом у нас появится больше возможностей.
— Вы что, полагаете, что они устроят нам продвижение по службе? — Я расхохотался прямо ему в лицо. — Вроде, если мы получим хорошие оценки, нас переведут в другой класс?
Теперь он покраснел. Ему это здорово не понравилось.
— Они никогда не продвинут нас, — продолжал я. — Да и зачем бы? Я настолько близок к одной из самых важных их персон, как вы выражаетесь, как не удавалось до сих пор больше никому, — и что с этого толку? Генри не отказался от моих услуг. Он никогда не говорил, что мы равны. Ему известно, кем он является, но что такое мы, ему неведомо. Именно потому, что мы сами себе этого не представляем! Так откуда знать ему? К чему болтовня об ответственности? А кто несет ответственность за то, что мы так бездумно стремились сюда? Мы не имели ни малейшего представления, что будем делать в этом мире. Абсолютно никакого! Вот мы и живем тут как аутсайдеры и строим всякие планы, чтобы выглядеть полезными. Просто замечательно! А вы сидите тут и надеетесь, что нас повысят, и мы станем не просто полезными, но необходимыми!
— Я рассчитывал, что ты выкажешь признаки раскаяния, — сказал Директор. — Но теперь понимаю, что ожидал от тебя слишком многого.
— Это вы верно ухватили. Я могу идти?
На столе перед ним лежала открытая папка.
— Идти? И куда ты, по-твоему, пойдешь?
— Домой, — сказал я. — Я нужен Генри.
Директор слегка улыбнулся. Это он приберег напоследок.
— С чего ты взял, что ты туда вернешься?
Я выпрямился.
— Что вы имеете в виду?
— Ты оставил клиента одного, ввязавшись в драку. И послужил причиной беспорядков, — сказал он. — А все отношения между поводырем и клиентом строятся на доверии. А ты подорвал это доверие. Следовательно, твои взаимоотношения с клиентом окончены.
— Меня уволили?
— О, контракт на тебя все еще распространяется. И ты показал, что можешь быть отличным гидом — в определенных пределах. Поэтому мы даем тебе второй шанс. У нас есть соглашение с одним клиентом-инвалидом, на этот раз обычным гражданином. Одним из тех, чья жизнь не является объектом столь пристального внимания…
— Они никого не упускают из внимания!
— Тем не менее…
— А Генри вы спрашивали? Он сам этого хочет?
— Новый поводырь уже направлен к Генри, как ты его называешь.
— Кто?
— Это — конфиденциальная информация.
— Кто? — Я вскочил, и он отпрыгнул назад, весь в испарине. Легко принимать решения, сидя в конторе. Я схватил со стола папку.
— Скотт? Вы посылаете Скотта?
— Но он самый тренированный…
— Он — мерзавец. Они никогда не сработаются. Генри не потерпит его в своем доме.
— Я могу позвать охрану, — сказал Директор. — Я могу объявить твой контракт недействительным, и уже завтра твою семью отправят на работу на ферму. Ты именно этого хочешь?
Я так и стоял там с папкой в руке. Я за последнее время уже научился обуздывать свой характер. Может, именно поэтому я потихоньку овладел собой. Чуть постоял, потом закрыл папку и вернул ее Директору.
— Вы делаете большую ошибку, — сказал я.
— Не думаю.
— Мы с Генри понимаем друг друга. Мы сработались. Я помог ему начать рисовать… Это разобьет его сердце…
— Клиент осознаёт ситуацию, — сказал Директор.
— Вы хотите сказать, что он знает?
— Я сам с ним встречался, — самодовольно ответил Директор.
Это меня и добило. Если Генри все равно, то почему я должен беспокоиться? Я почувствовал, что остатки боевого запала покидают меня. Но осталась еще одна слабая надежда.
— Я должен забрать оттуда свои вещи.
— Их уже доставили, — сказал Директор.
Они выделили мне в школе комнату, и я жил там, а вещи мои так и стояли нераспакованные. На занятия я не ходил, но никто мной не интересовался. Я винил себя и жалел, что нельзя вернуть прошлого — я бы все переиграл. Но дела шли своим чередом, и в конце недели меня перевели в квартиру в пригородах Дерева, к моему новому клиенту. Этого я называл Лестер.
Лестер был химиком, который ослеп после несчастного случая на работе. Он только что закончил курс реабилитации, и страховая компания оплатила ему поводыря. К сожалению, Лестер абсолютно не нуждался в поводыре. Он переживал посттравматическую депрессию и настоял на том, чтобы жить отдельно от своего гнезда. Все, чего он хотел — никуда не выходить и оставаться слепым. А поскольку и я чувствовал себя примерно так же, мы составили отличную пару. Но Лестеру нужен был кто-нибудь, кто гонял бы его, помогая сбросить брюшко. А я был не в том состоянии, чтобы выступать в роли массовика-затейника. Так что, учитывая, что Лестер никакой помощи не хотел, а я и не пытался ему эту помощь предложить, сами понимаете, как у нас шли дела.
Это не значит, что я не пытался вытаскивать его наружу. На самом деле мы немного работали со сбруей, а один раз даже полетали по окрестностям. Однако выяснилось, что его депрессия только усиливалась после полетов. А это означало, что у меня полно свободного времени.
Квартира Лестера была маленькой и это тоже вгоняло в тоску. Ни воздуха, ни окон. Я не мог сидеть сам по себе в четырех стенах, а поскольку на меня ему было наплевать, я начал потихоньку выходить в Дерево. Нет, отступником я не стал. Носил свою сбрую и имел при себе удостоверение личности, и если меня останавливал кто-то из них, или из людей, я объяснял, что вышел по поручению клиента. Я просто бродил без всякой цели. Если лезешь к верхушке, приходится как следует потрудиться, потому что между насестами тут большое расстояние, и я начал приходить в отличную форму. И пристегивал фонарь к сбруе, и погружался в тоннели как можно службе. Я и в самом деле надеялся натолкнуться на тех подонков, которые разлучили меня с Генри. Пару раз я возвращался на ту площадь и однажды просидел там целый день, прячась и ожидая. Но они мне ни разу не попались. Может, оно и к лучшему. Должен признать, что я слабо представлял себе, что я буду делать, если натолкнусь на них.
Потом однажды я увидел Генри. Я не мог ошибиться, заметив эту большую голову и затуманенные молочно-белые глаза. Я был наверху, в кроне Дерева, и смотрел, как облака громоздятся друг на друга, как всегда в это время дня и пору года. И он прошел, с расправленными крыльями, медленно поводя головой из стороны в сторону, словно его радар все еще был в порядке. Но, разумеется, никакого радара у него не было. А был у него новый поводырь. Я присмотрелся, и, точно, в сбруе — Скотт, который дергался в полете, отчего казалось, что они вот-вот куда-нибудь врежутся. Жужжание стало громче, как всегда, когда мимо пролетал Генри. Где бы он не проходил, поднимался шум, точно вокруг оброненной в воду таблетки шипучки. Наконец, они подлетели настолько, что я смог различить лицо ублюдка Скотта.
Это Генри вел его. Он ощущал, что вызывает у Скотта затруднения, и направлял его туда, где тот меньше нервничал, — так они и передвигались. Они летели по широкой спирали, тренируясь вместе, я имел возможность понаблюдать за ними. Я был почти отмщен, глядя, как Скотт потеет и мучается. Но под конец горечь взяла верх. Я чувствовал себя одиноким и одураченным и в первый раз пожалел о том, что утратил. Я наблюдал за ними, пока они не скрылись из виду. А потом решил, что сегодня вечером пойду и повидаю Генри.
С Лестером не нужны были никакие хитрости. Я просто сказал ему, что хочу выйти. Ему было все равно. Я даже не уверен, что он меня слышал. А даже если и слышал, и ему было не все равно, я знал, что он не даст себе труда никому обо мне доложить. Он был рад, что я ухожу.
И я вышел. По Дереву были проложены маршруты воздушного транспорта, и я дожидался идущего в направлении Студии. Наконец, подошел грузовичок с трейлером, чей верх был затянут брезентом, я подпрыгнул и уцепился за него. Здорово ушиб руку, ударившись о борт грузовичка, и чуть не сорвался. Но я был исполнен решимости. Мысль, что я могу убиться, вообще не пришла мне в голову. Это и хорошо, потому что грузовик, как только оказался за пределами города, так погнал, что мне приходилось цепляться изо всех сил, чтобы не сдуло. Потом, как раз, когда я начал беспокоиться о том, как же я слезу, грузовик замедлил ход, попав в дорожную толчею. Повезло. Я просто соскочил с него и пошел себе. Отсюда я уже видел Студию, она расположилась на утесе и издали светилась в сумерках.
Это был ясный, свежий вечер и, как обычно бывает после дождя, веяло сыроватой прохладой. В кустах по бокам тропинки сидели светляки, а над моей головой медленно катился шум дорожного движения. Земля же вся принадлежала мне. Я был рад, что тренировался неделями перед тем, как отправиться сюда, к Генри. Несколько раз я оказывался под скальными выступами, взобраться на которые у меня не хватало сноровки, и приходилось возвращаться и начинать все сначала. Однако наконец я добрался до террасы и заглянул в большую комнату.
В комнате все было как всегда. Меня это тронуло, но потом я посмеялся над собой. Чего ради им делать тут перестановку? Я решил подождать. Хотел разбудить Генри, но так, чтобы Скотт не услышал этого. Я ждал и наблюдал, и спустя какое-то время понял, что в доме никого нет. Тогда вошел и направился в кухню, чтобы посмотреть, чем они тут кормят собаку-поводыря. И нашел немного апельсинового шербета на сухом льду. Это меня разозлило больше всего, из-за того, что Генри такой славный, а Скотт такая дрянь. Я отплатил за это мороженое тем, что попытался поесть то, что обычно ел Генри.
И поскольку я уже все равно разозлился на Скотта, то решил зайти в мою прежнюю комнату. Скотт там все вычистил. Все деревянные скульптуры были по размеру расставлены на полке под верстаком, а все инструменты стояли на козлах. Пол чисто выметен, похоже, Скотт даже стены вымыл. Это было отвратительно. Людям абсолютно незачем быть такими чистюлями. А уж если они такие чистюли, это просто значит, что они выдрючиваются перед остальными.
На столе Скотт тоже навел порядок. Он отполировал доску и выставил аккуратный рядок справочников, втиснутых между позолоченными перегородками. Ящики стола заперты. Это было так оскорбительно для Генри. Словно он пытался лазить Скотту в стол! Я, правда, попытался. Нашел длинную, узкую отвертку на стойке для инструментов, и когда мне удалось подцепить один ящик, остальные выдвинулись тоже. Внутри ящиков такой же порядок, как и повсюду. Я обнаружил стальную коробочку, в которой он прятал деньги, школьные папки с записями, книгу расходов, гроссбух, дневник, календарь и записную книжку с ручками и другими канцелярскими принадлежностями. Еще там валялся жеваный бейсбольный мяч, которому, казалось, была по меньшей мере тысяча лет. Ну что ж, каждый хранит хоть одну вещь, которая выпадает из общего ряда.
Я все это отложил и, пересмотрев, решил, что лучше всего начать с дневника. Я сел на постели и начал читать. Продирался я медленно. Скотт записывал, что он ел каждый день и сколько он потратил денег, и сколько он учил тот или иной предмет, и сколько он спал, и что видел во сне. Не было никакого проку прятать такой дневник — любой, кто взял бы его в руки, тотчас уснул бы. Я начал пролистывать страницы, торопясь добраться до конца, но вдруг наткнулся на нечто, заставившее меня вскрикнуть. «Он и Г. завтра отправляются в книжный магазин», прочел я, «я устроил им сюрприз по дороге. Посмотрим, что он сделает, когда повстречает ребят».
Все его расходы были датированы, и я торопливо открыл расходную книгу и посмотрел: и, точно, тут было шесть выплат в сотню долларов золотом и счет, приколотый к страничке «на личные услуги». И все подписи, каждый из них подписался дрожащей рукой. Чего же еще ожидать от наркоманов?
Ну вот, этого мне хватило. Говорят, если вы роетесь в чужих вещах без разрешения и при этом натыкаетесь на что-то, что вам не по нраву, вы не имеете права злиться на того, в чьих вещах вы роетесь, — но я-то имел на это право.
Скотт нанял это отребье, чтобы они дождались там нас с Генри! Он знал, что может достать меня больше всего, и он устроил это. Все сработало, а он получил, чего желал. Ох, как мне хотелось убить его!
Но поскольку его не было поблизости, и я какое-то время бродил вокруг, то постепенно остыл и начал думать о том, что мне делать дальше. Такие вещи лучше решать на холодную голову. Я так и оставил стол взломанным, разбросал его книги и перевернул стойку для инструментов. Все это я устроил ему в отместку. Затем я вышел и выбрал удобный насест в зарослях на обрыве над Студией, примостился там и стал ждать.
К тому времени, как они выбрались из машины Управляющего, уже стемнело. Скотт вышел первым. Волосы у него были растрепаны, а сбруя перекручена на спине. Он сразу вошел в дом и поднялся в свою комнату, в то время как Управляющий ввел Генри. Затем зажегся свет, и я увидел, как Скотт уставился на свой стол, развернулся и кинулся вниз, за Управляющим. Однако Управляющий не был слишком потрясен этим разорением. Возможно, при мне комната выглядела для него точно так же. Но Скотт заставил его притащить Генри, и они все трое осматривали комнату. Скотт заставил Генри надеть сбрую и что-то тараторил ему. Генри немного послушал, и я увидел, как он обратился к Управляющему. Тем временем Скотт начал прибираться. Он просто не мог перенести, когда что-то было не на месте.
Чуть позже они оставили его одного, и Скотт отправился спать. Генри и Управляющий пили свой мед в большой комнате. Потом Управляющий расправил крылья и пожелал доброй ночи. Генри-то не слишком много спал, но остальным нужно примерно восемь часов сна, как и нам. Управляющий уехал, и я подождал еще немного. Теперь настала глубокая ночь, и звезды были рассыпаны по черному небу точно капельки сверкающей краски. Я еще немножко подождал. Потом зашел и увидел Генри, работающего над картиной.
Это зрелище могло разбить сердце. Он ощупывал все левой рукой и накладывал краску правой, а потом опять нащупывал влажную краску, но промахивался, и цвета были не те, потому что некому было помочь расположить их на палитре. Он, должно быть, понимал это, потому что вид у него был расстроенный, но он все равно, продолжал работать. Я думаю, он делал это потому, что ему нравилось, как кисточка, пропитанная краской, касается холста. Я долго наблюдал за ним, пока не сообразил, что он пишет, и не понял, что это портрет. Складывалось лицо. Мое лицо.
Я подошел сзади и дотронулся до его плеча. Он вздрогнул. Тогда я положил его руки на держалку и сказал:
— Выше голову, Генри!
Ну и получил же я! Никогда я не ощущал еще с такой силой и чистотой. Словно в меня сквозь макушку полилась горячая жидкость. Сердце колотилось, а колени подгибались. К счастью, Генри знал, что со мной происходит, и поддержал меня. Когда я пришел в себя, он гладил меня по голове и все повторял мое имя, не через сбрую, а на своем шепелявом английском.
— Ох-хх, ты бы поосторожней, Генри. — Я знал, что после такой дозы выйду из строя на неделю. Он помог мне встать. Я был ужасно рад видеть его — вот и все. Остальное меня не беспокоило.
— Что ты тут делаешь?
— Мне нужно было убедиться, что с тобой все в порядке.
Он с минуту молчал. Тогда я сказал:
— Так как там работает твоя новая собака?
— Он — не ты.
— И верно. Таких, как я, не так уж много.
Он засмеялся.
— Я видел, ты пытался писать, — сказал я, — сейчас, я имею в виду. Я тут немного подождал тебя.
Он наклонил голову.
— У тебя разве нет нового клиента?
— Он не любит выходить. По правде, я не думаю, что он в восторге от того, что я с ним.
— Поэтому ты убежал.
— Нет. Я спросил, могу ли я уйти.
— Однако ты не сказал ему, что идешь сюда.
— Ему все равно.
Я почувствовал, что он на меня смотрит.
— Нет. Не сказал.
— У тебя опять будут неприятности, — сказал Генри. Голос его звучал устало и обеспокоено. Хуже того, по-старчески. Я знал, что это моя вина. Я знал, что он скучал по мне, и знал, что ему плохо из-за меня. Если бы я делал все, как положено, я бы все еще был с ним, а Скотт был бы с Лестером, или еще с кем-нибудь.
— Это ты был в комнате Скотта, так ведь? — сурово спросил Генри.
— Да. Я страшно разозлился. Хотел с ним поквитаться.
— Поквитаться? Почему? К тому, что произошло, он не имеет никакого отношения.
Я прикусил язык. Я хотел рассказать ему, что именно сделал Скотт, но не мог. Я должен был понести ответственность за то, что сделал я. Я сам подал Скотту этот мяч. Его план не сработал бы, умей я держать себя в руках. Если бы я рассказал Генри все, что знал, я бы его еще больше разочаровал.
— Скотт был очень расстроен.
— Я знаю.
— Ты должен поправить это, — сказал Генри — Ты должен подняться к нему и предложить убрать комнату.
Правда распирала меня изнутри так, что голова трещала, но я не мог сказать ни слова. Потому что все, что говорил мне он, тоже было правдой — и более важной.
— Ладно. Но сейчас он спит, Генри, и…
— Да?
— Генри, я просто хотел полетать с тобой напоследок. Один раз, ладно?
Он тихо засмеялся. Смех его звучал почти по-матерински.
— Пожалуйста, Генри! Нам так и не дали во всем разобраться самим. Они просто приехали и забрали меня. Разве тебя спросили, что ты чувствуешь или что, по твоему мнению, им нужно делать? Я знаю, тут уже ничего не поправишь, но, по крайней мере, мы можем полетать один, последний раз. Может, потом и тебе станет легче. Может, и я примирюсь с тем, что случилось. И не буду все время думать об этом. Пожалуйста, Генри.
— Ладно, — сказал он. — Один раз, ради тебя и ради меня.
Я вывел его на террасу. Звезд было так много, что можно было под их светом читать книгу. Генри схватился за держалку, закрепил колени и поднял крылья, и мы снялись с места. Я никогда до этого не знал, что он такой сильный. Звук, который издавали его крылья, стал на тон выше, и он уверенно поворачивался в воздухе и поднимался с такой легкостью, что я думал, мы будем лететь вверх, пока не выйдем за пределы атмосферы. Мы все поднимались и поднимались над Деревом, пока весь город не превратился в размытый шарик света. Генри почти не разговаривал. Он просто продолжал подниматься, а затем, неожиданно, резко нырнул вниз. Я падал вместе с ним, не думая об опасности. Мы пронеслись прямо сквозь окраины Дерева, прямо сквозь поток движения, в самую сердцевину. Я отклонялся, руководствуясь лишь инстинктом и догадкой, но каждый раз удачно. Мы погружались все глубже в тоннели улиц, вновь выныривали, вычерчивая спираль вокруг ствола, и, наконец, он собрал остатки сил, сбереженных во время пологого спуска и по скользящей дуге вынес нас к Студии. Это было захватывающе. Словно в этот полет он вложил всю свою жизнь. Он тоже так полагал и сообщил об этом. В холодной ночи, почти беззвучно скользя над Студией, я услышал, как они жужжат. Может, они знали, что он собирается делать. Я-то ничего не знал. Я просто был благодарен за то, что смог полетать еще раз.
Мы подлетели ближе, я включил освещение на своей сбруе и там, на террасе, я увидел Скотта и Управляющего. Скотт показывал на нас, и я подумал — он, возможно, позвонил Директору, и это так разозлило меня, что я забыл о своих добрых намерениях. Я собирался добраться до него, как только мы опустимся на землю, и к черту все прочее. Когда мы спустились, Генри расправил крылья, чтобы притормозить, я напряг ноги, но тут Генри слегка дернулся; не сильно, но однако ему удалось отстегнуть страховочный замок на сбруе и уронить меня. Я приземлился на террасе и смотрел, как он набирает высоту, все круче и круче, вслепую.
Момент движения — странная штука. Генри в этот момент уносился в небо, меня же кинул прямо на Скотта, и мы шлепнулись под ноги к Управляющему. Я вскочил на ноги и одним рывком поднял Скотта, готовый свернуть ему шею. Потом я сообразил, что Генри улетел без сбруи. Я поглядел вверх. Он все поднимался по расширяющейся спирали, и его силуэт был хорошо виден в свете звезд, которые сияли, точно алмазный песок на черном мраморном полу. Он сделал широкий разворот вправо и бил крыльями, чтобы набрать скорость. Затем мне показалось, что гора внезапно выросла и встала на его пути. Генри врезался прямо в нее.
Камни покатились по крутому склону, замерли. И наступила тишина.
У них была своя законность и правосудие, их общее собрание судило меня. Я был первым человеком, попавшим под их юрисдикцию. Обычно из-за нас не стоило беспокоиться, но потому, что Генри был таким знаменитым, они провозгласили меня гражданином и выдвинули против меня обвинение.
Я отправился на судебный процесс, думая, что буду защищать себя. Но через пару дней понял, что их интересовала лишь реконструкция обстоятельств преступления. Полагаю, их нельзя винить за это. Поскольку они просто не могут лгать друг другу, не было необходимости ни защищаться, ни доказывать чью-то вину. Оставалось лишь официально оформить показания. И никакого кодекса у них тоже не было. После того как они восстанавливали картину преступления, выносили такой обвинительный приговор, чтобы он соответствовал нанесенному ущербу. Никто не сомневался в его правомерности. У них даже не было письменного свода законов. Законы прививались с рождения.
Согласно обычаю, помещение мог выбирать обвиняемый, и я выбрал аудиторию в школе. У меня был защитник, а у них — обвинители, и свидетели выходили, и давали показания, и отвечали на вопросы. Они вызвали Директора, который сказал, что меня освободили от обязанностей, потому что я покинул свой пост и начал драку с подонками, из-за чего подверг опасности жизнь своего хозяина. Он и вправду сказал «хозяина». Мой адвокат попытался повернуть дело так, что я только пытался спасти Генри от отребья, но они притащили этих ублюдков, и те поклялись, что не хотели сделать Генри ничего плохого, а всего-навсего немножко посмеялись надо мной. Я ждал, что мой адвокат предпримет что-нибудь, но он молчал, и я вмешался:
— Слушайте, парни, разве вы не знали, что мы собираемся в тот книжный магазин?
— Откуда?
— От него! — сказал я, драматически показывая на Скотта, который каждый день приходил в суд.
— Причем тут он?
— Он разве не платил вам за то, чтобы вы на нас наехали?
— Не-а, — сказал этот мерзавец, — чего ради?
— Потому что вы — мусор, отребье, — сказал я. — А отребье всегда продается, если цена подходящая.
Он улыбнулся мне.
— Может и так, — сказал он. — Сколько тебе платят за то, что ты таскаешь этот ошейник?
Думаю, я просто не мог удержаться — потому и кинулся на него. Двое схватили меня, пытаясь сдержать, пока я кричал, что все это ложь, что я нашел счет в комнате Скотта и что он уплатил им за все, и что нужно вызвать Скотта и спросить об этом, что мы с Генри любили друг друга и что под конец он выпустил меня специально, потому что хотел лететь один, и что никто не может жить вечно, даже Генри, и что если они действительно хотят оказать ему честь, они не должны оскорблять память о нем, предполагая, что он позволил бы кому-то убить себя. Ух, до чего я лихо говорил, пока они держали меня, а я отбивался и дрыгал ногами, Наконец, им пришлось привязать меня к креслу, и они вызвали еще несколько свидетелей. Вышел Лестер и сказал, что я сбежал. Вышел Скотт — и все время поглядывая на веревки, которыми я был привязан, чтобы убедиться, что я не вырвусь, — показал, что я обыскал его комнату и даже уничтожил картину, которую они с Генри вместе рисовали. Он просто вышел вот так и солгал. Полагаю, это даже не имело значения. Они знали, что мы можем лгать. А поскольку у нас была такая способность, а у них — нет, они заключили, что мы все — лжецы.
Через пару дней они прекратили опрос свидетелей и устроили голосование. Каждый, кто наблюдал за процессом или читал судебные отчеты, мог участвовать в принятии решения. И они приняли участие — миллионы их, — и вынесли единогласный приговор. Я был виновен в убийстве по небрежению. Приговор гласил, что меня должны отправить на Скалу, где я останусь до конца.
Они отпустили меня на один вечер в школу, перед тем как привести приговор в исполнение. Я оставался в своей старой комнате, пока охранник дежурил за дверью, и разговаривал с несколькими посетителями. Что они могли мне сказать? Кончилось тем, что это я утешал их и вел беседу. Я не возражал — пускай, если им так будет легче. Кто-то же должен взять это на себя.
Но мне пришлось нелегко, когда под конец вечера ко мне зашел папа. Маме было слишком тяжело видеть меня, я думаю. Папа специально для нее сфотографировал меня. Мы немного поболтали о новом доме, который они строили, и о том, что мой брат хорошо успевает в морском торговом училище. Потом накатило чувство ожидания, когда понимаешь, что твой собеседник от тебя чего-то хочет, и ты чувствуешь это, но не знаешь, чего именно. Я-то хотел, чтобы он хотя бы поблагодарил меня за то, что я был хорошим сыном и старался отработать свой контракт. Однако он не сказал ничего подобного. А когда наконец решился, то сказал, что я не должен бояться, когда наступит конец.
— Ты хочешь сказать, когда я умру?
— Когда ты поймешь, что все кончится.
— Это примерно одно и то же, — ответил я.
— Не думай об этом сейчас. Просто помни — ты должен быть храбрым. Когда настанет время.
«А он-то сам сможет вести себя храбро?» — подумал я.
— Сынок, — сказал он.
— Да, пап.
— Помнишь тот день, когда я привел тебя сюда? Я дал тебе кое-что. Маленький ножичек. Помнишь?
— Да, папа, я помню.
— Он все еще у тебя?
Я поглядел на него.
— Они хотят, чтобы я его у тебя забрал.
— О, Господи, пап!
— Даже если бы не они, я все равно попросил бы его. Он бы для меня много значил.
— И в самом деле, папа?
— Да.
Так что я отдал ему ножик. Папа был таким жалким, что я даже не мог на него всерьез сердиться.
Они закатили мне отличный обед. Всякая домашняя еда вроде омаров и целой тарелки редиски. Я съел, сколько смог. Я хотел продержаться там, на Скале, как можно дольше. Возможно, они ведут записи о том, кто сколько там протянул. Чтобы там ни было, я хотел попытаться побить их рекорды. К обеду было пиво, а на десерт — немного бренди, и под конец меня начало клонить в сон. Я лег на кровать и закрыл глаза рукой. Спустя какое-то время я услышал, что дверь отворилась. Я поднял взгляд. Это был один из них; на фоне дверного проема он казался огромным. Я сел и увидел, что кто-то уже унес посуду.
— Ох, да убирайтесь же вы отсюда, ладно? — сказал я. Потом я понял, что это Управляющий. Он держал мою сбрую. И не двигался. Просто смотрел на меня, пытаясь понять, как я себя чувствую. Когда я потянулся за сбруей, он отдал ее мне, и я надел ее. Она потеряла упругость, но, когда я подключил питание, начала прогреваться, и иглы тесно прижались к основанию шеи.
— Ну как ты? — спросил он.
— О, просто прекрасно. Лучше не бывает.
Думаю, он знал, что такое сарказм, потому что ничего не ответил. Наконец, я спросил его, что он тут делает.
— Я пришел принести тебе твою сбрую. Ты должен быть в ней завтра.
— Это еще зачем?
— Ты же поводырь, — сказал он. Он все смотрел на меня, и внезапно я почувствовал себя паршиво. Он всегда пытался помочь Генри, и я знал, что Генри к нему привязан.
— Мне жаль, что так все получилось, — сказал я.
— Тебе не за что извиняться.
— Вы — единственный, кто так думает.
— Нет, не единственный, — сказал Управляющий.
— Никто в этом не признался.
— У нас так не принято.
— Да. Наверное.
Он повернулся, собираясь уйти.
— Погодите. Могу я спросить вас кое о чем?
Тогда он оглянулся. Его глаза блестели, точно черное стекло.
— Как вы думаете, что происходит? Когда умираешь?
— Зачем спрашивать меня? А ты сам что думаешь?
— Не знаю. Меняешься. Но я думаю, остаешься где-то поблизости, в другом обличьи.
— Ты думаешь, у нас это по-другому?
— Нет. Не думаю.
— Мы верим, что ты можешь остаться. И видеть и действовать через других. Если ты хочешь этого и если ты достаточно силен.
— Генри был сильным, не правда ли?
— Надень завтра сбрую, — сказал он.
Они действительно высадили меня на Скале. Это такой гладкий базальтовый купол в центре большой вулканической воронки. Он очень высокий и отполирован ветром до блеска. Держаться там не за что. Все дно воронки усеяно оболочками тех, кто был тут до меня. Если вы — один из них, вам просто подрезают крылья и оставляют тут, в одиночестве, которое вместе с унижением расправляется с вами. И вы сдаетесь, а ветер сталкивает вас вниз. Все дно воронки усыпано телами мертвых преступников.
Я сидел на Скале и думал о том, чтобы прыгнуть вниз.
Небо было зеленовато-песочного цвета, который Генри звал цветом простора. И тут, глядя в сторону Дерева, я увидел, как от облаков отделилась крохотная точка. Она становилась все больше. Это был один из них, он летел ко мне. Я так хотел, чтобы это был Генри, чтобы он вернулся забрать меня домой, в Студию, но, конечно, это был не он.
Ко мне летел Управляющий. А я не забыл надеть сбрую, как и обещал.
ЗАГАДОЧНОЕ МЕСТО
© Mike Conner. Mysterious Spot.
F&SF, January 1992.
Спустя год после смерти Генри я работал на туристском аттракционе, который называется Загадочное место, поблизости от курортного городка Гавань. Пока все было в порядке, работать мне приходилось не много.
Всего-то автобусная стоянка, сувенирная лавка и хижина, в которой жили Ирен и Горди, — пожилая пара, владельцы аттракциона.
Гавань располагалась на побережье, а мы — в горах над ней. У нас всегда полно туристов. Каждый, кто посещал Гавань, хотел поглядеть и на это место. Оно пользовалось особой популярностью еще и потому, что летуны — а этот мир на самом деле принадлежал им — избегали его. Вообще-то, за все эти годы Ирен и Горди видели только двоих. Одним из них был Генри, при котором я и работал поводырем. Другой — Управляющий делами Генри, который притащил меня сюда. И этот управляющий вместе с Генри был тут прежде, очень давно, во время работы на натуре.
Он, должно быть, и рассудил, что тут его народ никогда до меня не доберется. И он был прав — никто из них никогда не залетал сюда.
Может, было в этом Месте что-то такое, что держало их на расстоянии. Или, может, они обо мне позабыли. Понимаете ли, мы ведь для них немного значим. Теперь тут живут несколько тысяч людей — в их мире, и у нас наши собственные города, и дома, и предприятия, и все такое, но они вряд ли вспоминают о нашем существовании. Правда, иногда они обращают на нас внимание. Например, когда они осудили меня за убийство их любимого художника, Генри, который был моим клиентом и моим лучшим другом.
Обычно на этих холмах каждую ночь идет дождь. Утром он прекращается, около восьми я выхожу из своей крохотной хижины и поднимаюсь наверх, к аттракциону. Это очень близко к самому Месту. Не слышно пения птиц, насекомых тоже нет. Большая часть животных также избегает появляться здесь.
Уже в пути я услышал грузовичок Дуэйна. У него был АТВ с турбомотором, завывавший на своих шести массивных колесах, точно зверь. Обычно у Дуэйна к койке привязаны доска для серфинга и мотоцикл-вездеход. Дуэйн был настоящим пропеченным курортником, который всю жизнь прожил в Гавани, и загар въелся ему в кожу. Как раз этим утром грузовичок Дуэйна задом въехал на стоянку. Он, рыча, надвигался из тени прямо на меня. Но я стоял неподвижно. Дуэйн успел расправиться с тормозом раньше, чем со мной, и грузовичок въехал в пространство меж нарисованными линиями.
— Ну и ленив же ты, Пижон, — сказал Дуэйн, соскакивая на землю и держа свой пакет с завтраков.
— Привет, Дуэйн, — отозвался я, — доброе утро.
— Так сейчас утро? — Он зевнул и потянулся. Руки чертовски занемели. — Нелегкая была ночка.
Он ткнул меня кулаком, но я уклонился. Дуэйн неодобрительно покачал головой.
— Дуг, я не встречал больше таких ленивцев. Ну и ленив же ты, парень!
Мы зашли в сувенирную лавочку. В ней можно купить агатовые серьги, брелки для ключей и майки с эмблемой Загадочного места. Еще в ней продаются репродукции картины, которую нарисовал Генри, когда был здесь тридцать лет назад. Она называется «Колодец одиночества». Оригинал висит у Горди и Ирен в гостиной.
Ирен как раз сварила кофе, а Горди растапливал печь. Холодное выдалось утро. Они и оделись соответственно.
— Привет, мальчики, — сказала Ирен. — Как дела?
— У меня занемело все, — ответил Дуэйн. Он взял с прилавка газету, присел в кресле около очага и развернул ее. — Поесть что-нибудь дадут?
— Дадут. У меня есть печенье. Но тебе придется его заработать.
Я налил себе немного кофе. Кофе был настоящим.
— Ммм-мм, — сказал я.
— Нравится, золотко? Это со «Стеллы». Они привезли наш заказ.
— У-гу, — сказал Дуэйн.
— Умолкните! На этот раз мы получили отличные настоящие продукты. — Ирен заглянула в газету поверх плеча Дуэйна. — Ты что, читаешь рекламу мотоциклов?
— Да я хочу купить мотоцикл.
— Ты вернул свою лицензию?
— Вернул, вернул, Рен. — Дуэйн отложил газету и закрыл ее. Ирен поглядела на первую страницу.
— Вы только поглядите. Пеннибэйкеры тут, на «Стелле».
Дуэйн поднял взгляд.
— Те самые Пеннибэйкеры?
— Они хотят провести церемонию Возрождения прямо здесь, в Гавани. Не пойти ли мне?
— О Боже! — Дуэйн упал на колени перед ней и сложил ладони. — Господи, помоги мне!
Ирен рассмеялась и хлопнула его газетой по голове.
— Порази меня снова, Господи. Я хочу ходить! Я хочу летать!
— Не кощунствуй, Дуэйн. Ты и сам не знаешь, что может с тобой случиться.
— Например, ты можешь упасть замертво, — заметил Горди. — Никто не знает своего часа.
— Все что я знаю, так это то, что вас смешно слушать.
Ирен снова хлопнула его газетой. Затем она зашла за стойку и вернулась с круглой металлической банкой.
— Вот настоящее шоколадное печенье. Горди испек его вчера вечером. Если вы, двое, будете вести себя хорошо, мы, может быть, устроим сегодня вечеринку. А теперь, убирайтесь отсюда вы, оба, и — за работу. У нас сегодня будет полно хлопот из-за туристов со «Стеллы».
Мы с Дуэйном наполнили ведра мыльной водой с дезинфекантом, взяли щетки и вымыли комнату отдыха. Потом сгребли с тропы листья и хвою. Мы вычистили всю дорогу от подножия холма до Места. Внизу Ирен поливала распылителем грядки и клумбы.
К тому времени, как мы закончили и раскрыли ворота, уже показалось солнце. Несколько минут все вокруг излучало мир и тепло. Дуэйн стащил свою рубашку и лег на спину на тропе, среди солнечных пятен. Я пошел в билетную кассу. Горди надел наушники и слушал с земли музыку. Он отпустил меня, и я пошел в крохотную раздевалку натянуть свое обмундирование для представления.
От моей работы поводырем у меня остались перчатки, наколенники и седло — не было силового рюкзака, дуги-держалки и транслятора. Я натянул сбрую и проложил ее изнутри пенопластом, чтобы защитить почки. Дуэйн привез мне из города, из магазина, где продавали оборудование для серфинга, шлем и забрало.
Я оделся, закрепил застежки и пробежал для разминки по тропе до павильона. Первый автобус уже въезжал на стоянку. Дверь открылась, и туристы высыпали наружу, оглядываясь по сторонам и рассматривая кроны деревьев.
— Приехали, Горди, — сказал я. Он раскладывал открытки пачками по десять штук, чтобы раздавать группам. Каждую пачку он перетягивал резинкой. — Хочешь, чтобы я отвел их наверх?
— Должен подойти еще один автобус, — сказал Горди. — Погоди, пусть немножко побродят по магазину.
— Ладно, Горд. — Я отошел ждать к турникету. Дуэйн опять читал газету.
— Как тебе понравятся эти «Кави» с двойной передачей, Дуг? Всего семь грандов.
— Где ты возьмешь эти семь грандов, Дуэйн?
— Половину я уже собрал. Да и кто знает? Может, остаток денежек сейчас как раз выходит из автобуса. Я хочу сказать, погляди на этих ребят! Да они просто купаются в деньгах! — Он зажал соломинку в уголке рта.
— Да и ублюдки, к тому же, — сказал он. Я поглядел на него, а он, в ответ, уставился на меня. Шлем у Дуэйна был оранжевым, с черными тигровыми полосками по бокам. Мой — ядовито-зеленым, со спиралью на верхушке. И у него, и у меня — золотистые забрала. Мы оба захохотали одновременно.
— Черт, все мы такие, — сказал Дуэйн.
Прибыл еще один автобус, и туристы вышли из него. Всего набралось около сорока человек. Местных можно было сразу узнать. Крепыши такие. Одежда у них застиранная, и они так старались не глядеть на иноземцев с завистью, что это было даже заметно.
Да и как можно этому помочь? С тех пор, как мои родители осели здесь, вся наша жизнь здорово изменилась. Там, на Земле, настала эпоха процветания, и теперь у посетителей с иных миров полно денег. Они были здесь на отдыхе. Их не выставляли из корабля силой, они не пытались выжить на бесплодных скалах.
Наверняка они испытывали по этому поводу нечто вроде тайного злорадства. Понимаете — туристы-то всячески показывали, что это они оказались умниками. Они перетерпели тяжелые времена. Смотрите-ка, что бы вы могли иметь, если бы так не торопились покинуть дом…
Дуэйн и я работали с группами вдвоем. Разговаривал, в основном, он. Болтать он всегда умел, а когда хотел, мог быть просто очаровательным. Сегодня, однако, он очаровательным не был. Сегодня он демонстрировал то презрение, которое испытывает по отношению к туристам обслуга курортных городков. Так что Дуэйн гнал их, как стадо по тропе, до маленькой смотровой площадки под навес, укрывающий Место. Когда он всех туда загнал, то опустил забрало и встал, уперев руки в бедра.
— Добро пожаловать на Загадочное место, на Место, где законам природы тесно. Меня зовут Дуэйн Нельсон. Это мой партнер, Джи-Ди. — Дуэйн заученно начал рассказывать о лесорубах, которых сбросила с холма сила этого места, и о летунах, которые этого места боятся, и о том, какими изогнутыми да перекрученными вырастают тут деревья и вообще все растения. Затем он вытащил из кармана штанов строительный уровень. Перед смотровой площадкой лежала параллельно пара гранитных плит. Дуэйн положил уровень поперек.
— Ну вот, теперь вы видите, пузырек абсолютно отцентрован. У меня тут есть и доска. Я положу ее поперек и… — Он склонился и положил доску рядом, за уровнем. Я вынул из кармана шарик и положил его на доску. Шарик не двинулся с места.
— Теперь, если эти плиты хоть чуть-чуть лежат на разной высоте, шарик скатился бы с доски, — сказал Дуэйн.
— Не обязательно.
— Что?
Вперед выступил молодой человек.
— Я сказал, не обязательно. Откуда мы знаем, что это за шарик? Может, у него внутри металлическое ядро. А в доску вы вделали магнит.
— Мы не настолько хитроумны, поверь мне, парень. Хочешь поглядеть на всякие трюки, сходи погляди завтра вечером Пеннибэйкеров.
Пара человек засмеялась. Глаза молодого парня сузились.
— В самом деле?
— Ага. — Дуэйн огляделся. — Эй, вы все можете осмотреть шарик. Разрежьте его пополам, если хотите. Дело не в шарике. Дело в том… послушай, вон там, это твоя подружка?
— Это моя сестра.
— Ладно. Ты и твоя сестра — идите сюда и станьте на эти плиты.
Они подошли, и Дуэйн поставил их лицом друг к другу.
— Ты выше, чем она. Ее глаза примерно на уровне твоего носа. Все видят?
Все согласно закивали.
— Ладно. Теперь поменяйтесь местами.
Шепот перешел в удивленный смех.
— Похоже, сейчас она сантиметров на десять выше тебя.
— По мне, так она ничуть не изменилась, — сказал молодой человек.
— Ну, что за парень! Ребята, она выше или нет?
— Выше!
— Ну, а мне этого не видно.
— Ладно. Эй, Джи-Ди. Стань сюда. — Дуэйн схватил меня за руку, и я оказался лицом к лицу с девушкой.
До этого я ее не замечал. Она была просто одной из туристок из очередного автобуса. Но теперь она улыбалась мне, и я почувствовал, как лицо мне заливает теплая волна. У нее были каштановые волосы и зеленые глаза.
— Простите, — сказала она.
— Что?
— Мне кажется, ваш друг хочет, чтобы мы поменялись местами.
— О!
Это вызвало смех. Я метнулся, чтобы поменяться с ней местами, и люди вновь затаили дыхание, потому что наш рост, казалось, опять изменился. Однако глаза девушки все равно оставались на уровне моих.
— А я все же считаю, что это трюк, — настаивал молодой человек. — Оптическая иллюзия. Что-то связанное с наклоном холма.
Дуэйн не отреагировал на эти слова.
— Пошли, все поднимемся на само Место. Джи-Ди и я покажем вам кое-что — этого нельзя объяснить. Пожалуйста, помните, что на некоторых тут нападает головокружение. Так что ступайте осторожно и держитесь за поручни.
Девушка улыбнулась мне, сошла с возвышения и присоединилась к брату.
— Ну и ненавижу я таких как этот малый, — сказал Дуэйн. — Скептики! Они просто не дают себе получить удовольствие.
— Похоже, его сестра поверила тебе, — сказал я.
— Тебе она понравилась?
— Этого я не сказал. Но она чертовски привлекательна.
Дуэйн одарил меня изумленной усмешкой.
— Дуг, я первый раз слышу, чтобы ты назвал хоть кого-нибудь привлекательным.
— Ох, оставь это, — ответил я, но он был прав.
Загадочное Место было накрыто бревенчатым строением, которое вдавалось прямо в склон холма. Оно было поставлено перпендикулярно склону, но, когда вы заходили внутрь и пытались встать прямо, то обнаруживали, что вас явно отклоняло назад. С нижней стороны строения были закреплены длинные поручни с мягкой обивкой. Дуэйн и я выстроили нашу группу лицом к поручням. Затем я занял свое место на одном конце прохода, а Дуэйн — на другом.
— Теперь вы все чувствуете, что тут что-то не так, верно? — сказал Дуэйн. — Но если вы подбросите что-нибудь, вы еще и увидите это своими глазами. — Он кинул мне теннисный мячик. Тот подлетел под потолок, и мне пришлось подпрыгнуть, чтобы поймать его. Я бросил его назад, низом. Он нырнул, а потом, по дуге, вдруг опять пошел вверх.
Мы принялись кидать его взад и вперед. Дуэйн бросил его вбок и кверху. Мячик крутился и поворачивал в воздухе и, наконец, пролетев меж ног Дуэйна, нарисовал в воздухе петлю, обогнув меня.
— Так вот, тут летают не только мячи, — сказал Дуэйн.
Теперь наступила моя очередь. Стоило зажмуриться — вас охватывало паническое чувство словно при сильном ветре на краю утеса. Но если перебороть этот страх и расслабиться, можно было одним прыжком перемахнуть через все помещение. Мы с Дуэйном отталкивались и летали взад-вперед, попав в ритм. Для этого нужно собраться; и мяч мы кидали, чтобы нащупать верный ритм. Дуэйн всегда делал последний бросок, и в игру входил я: ловил последний бросок, ронял мяч и отталкивался от поверхности.
Я делал это много раз, не задумываясь, но сегодня я случайно поглядел в сторону перил — там стояла та самая девушка и смотрела на меня. И совершенно неожиданно я подумал о ней, находясь в воздухе. Я скользнул в сторону, врезался прямо в Дуэйна, и мы вдвоем вмазались в настил.
— У-хх, — Дуэйн дернулся и попытался сесть. Думаю, со стороны это выглядело похуже, чем на самом деле, потому что несколько человек оторвались от перил, пытаясь подойти и помочь нам. И внезапно они начали носиться, ударяясь о стены. Через несколько секунд пространство под навесом стало напоминать автомат для жарки поп-корна.
Дуэйн перевел дух и поднялся. Вокруг, визжа, летали люди.
— Держитесь! — заорал он. — Хватит! — Иногда у Дуэйна появляется командный голос. Все быстренько опустились на землю.
— Ладно. Сейчас мы Подведем вас назад к перилам. Ты в порядке, Дуг?
— Ага.
— И все же я думаю, что это какой-то трюк, — прошептал молодой человек своей сестре.
— Ох, Роб, хватит.
— Ага, Роб, — сказал Дуэйн. — Заткнись.
В конце дня, когда ушел последний автобус, а солнце скрылось за гребнем холма, светились только огоньки в окнах сувенирной лавки. Горди закрыл ворота и унес кассу в магазинчик, чтобы Ирен могла подсчитать дневную выручку. Мы тоже зашли.
— Дуг сегодня облажался там, — сказал Дуэйн, стягивая перчатки. — Врезался в меня, Горди. Я говорил тебе?
— Три раза.
— Так вот, я думаю, у меня ребро треснуло, — сказал Дуэйн.
— Очень плохо, — ответила Ирен, поднимая взгляд от кассы, — значит, ты не пойдешь на вечеринку?
— О! Ваша вечеринка!
— Горди готовит еду, верно, золотко?
— Ага. Из настоящих земных продуктов. Мексиканская кухня.
— Что такое мексиканская кухня?
— Ах, ну не знаю. Бобы. Тортилья.
— Тор-ти-йя, — повторил Дуэйн. — Ладно. Когда?
— В девять.
— Можно я кое-кого приведу?
— А как твои ребра?
— И ребра не забуду, — сказал Дуэйн.
Около девяти я добрался до Горди и Ирен. Запах еды доносился уже с полдороги. Потом начался шум. Горди всегда запускал свою музыку на всю катушку. У него на вершине холмов были расставлены параболические антенны, и он ловил всякие земные штуки. Годы и годы оттуда неслись сигналы — сигналы, которые лишь теперь настигли нас. Больше всего Горди любил какой-то «рок».
Когда я вошел, Горди приплясывал на плетеном коврике. Он улыбался во весь рот. Хижина была набита людьми, а музыка гремела так, что дребезжали все безделушки и фарфоровые статуэтки, которые Ирен везде понаставила.
— Привет, золотко! — завопила Ирен через всю комнату, завидев меня.
— Чего? — проорал я в ответ. Из-за музыки трудно было расслышать.
— «Дикая штучка, ты с ума меня свела, — пел Горди.
Ба-ди- Да-думмм…
Но я так хотел бы…
Ба-ди- Да- думмм…
Давай, прижмись покрепче!
Ба — ди- Да-думмм…
Я лю-ююбл-юю тебя-а», — проорал Горди, и Ирен разразилась смехом.
Все танцевали.
— До этого у меня была примерно половина этой песни, — перекрыл шум Горди. — «Дикая штучка». Класс!
Ирен помахала мне, подзывая к себе. Но там было слишком много народу. Я странно себя чувствовал весь день, а до того как я пришел сюда, я лежал в темноте, пытаясь не думать о Генри; и картина, которую он написал здесь, теперь висела на стене за спиной у Ирен. Зря я пришел сюда. Я попытался улыбнуться хозяйке, но она тут же умчалась. Я подумал, ладно, может мне смыться отсюда, повернулся и наткнулся на Дуэйна.
Он был в темном костюме — мешковатые штаны, белая рубашка, белые теннисные туфли.
— Джи-Ди, — сказал он, — попробуй земного пива. — И сунул мне в руку бутылку.
— Где ты это раздобыл?
— Я якшался с богатеями. Слушай-ка! Что за унылое лицо? Все не так уж плохо, Джи-Ди! Погляди, кого я привел!
Он развернул меня за плечи и показал на девушку из группы.
— Выследил ее для тебя. Оказывается, Одри со «Стеллы». И братец ее — тоже.
— Он тоже тут? А я думал, он тебе не нравится.
— Он и не нравится. Но они всегда ходят парой. Постой-ка. — Дуэйн отправился к девушке и привел ее.
— Одри, я хочу познакомить тебя со своим напарником, Джи-Ди. Джи-Ди, это Одри. Ну ладно, развлекайтесь сами. — Он оставил нас, и я опять почувствовал, что краснею.
— Правда, он милый? — спросила она.
— Конечно. — Мне пришлось взглянуть на нее. Те же самые глаза, все верно.
— Этот дом — ваш?
— Нет.
— О! — Она кивнула и огляделась. — А чей он?
— Горди и Ирен. Они наверху, в кухне.
— Так что все эти фарфоровые собачки не ваши?
— Нет, не мои, — ответил я мрачно.
До этого она улыбалась. Теперь покраснела.
— Что-то не так? — спросила она.
— Нет, — ответил я. — Извините. — И вышел.
Снаружи начинался ветер. Он принес острый электрический запах. Небо тоже приобретало странный оттенок. Хорошо, что я смылся с вечеринки, подумал я. Однако возвращаться домой мне не хотелось. Я засунул руки в карманы, перемахнул через изгородь и отправился на Загадочное место — успокоиться и разобраться во всем.
Я долго сидел внутри и слушал, как буря набирает силу. Спустя какое-то время ветер начал протискиваться сквозь щели в стене, фонарь закачался на шнуре, и я ощутил головокружение и покалывание, словно у меня в волосах трещали разряды статического электричества.
Я чувствовал себя погано. И не мог понять, почему. Я имею в виду, с тех пор, как Генри разбился на склоне холма, прошел целый год. И я грустил из-за этого, уж точно, но никогда — так сильно. Так почему же — сейчас? Почему я чувствую себя так, словно все это случилось только вчера?
Может, из-за бури, подумал я. В ту ночь, когда Управляющий притащил меня сюда, тоже была буря. Помню, какой перепуганной выглядела Ирен, когда вышла отпереть дверь. Горди позже сказал мне, что она с детства до смерти боялась летунов. Но Ирен лишь взглянула на меня и разрешила мне остаться. После этого Управляющий сказал, что мне тут будет хорошо, и улетел. И мне было хорошо: я начал работать прямо здесь, на этом Месте, подружился с Горди и Ирен. Мне здесь действительно нравилось.
Так почему же сейчас? Словно Генри воскрес из мертвых и чего-то ожидал от меня. Только не говорил, чего именно.
Вспыхнула зеленая молния, деревья возникли из тьмы и вновь исчезли. Я подумал, что хорошо бы мне добраться до дому прежде, чем буря разыграется как следует. Тут я услышал музыку и разговоры, выглянул в окно и увидел, что по тропе первым поднимается Дуэйн. Он притащил с собой всех гостей. Я чертыхнулся и попробовал ускользнуть через задний ход, но оттуда тоже подходили люди. Они все влезли внутрь и болтались вокруг. Дуэйн встал у стены. Потом он увидел меня.
— Эй, напарник, — заорал он. — Джи-Ди! Ты где был?
Я не мог бы ответить, даже если хотел. Вспыхнула молния, и сразу раздался чудовищный громовой раскат. Дуэйн как раз говорил что-то Робу. Затем он засунул мизинцы в уголки рта и свистнул.
— Слушайте, все! Робби говорит, что он все еще не верит в то, что это место — Загадочное.
— Нет! — заорали люди.
— Он не верит, что все обходят это место. Даже молнии! Ладно, Роб, держу пари, что я влезу на это дерево и со мной ничего не случится.
— Подумаешь, великое дело.
— Великое дело говоришь? Ладно, пошли со мной, Робби, малыш.
— С чего бы… — начал Роб, но голос утонул в очередном ударе грома. Наконец, на его лице проступила медленная улыбка. — Ладно, — сказал он, — на сколько спорим?
— На три пятьсот.
— Договорились. Но ты должен пробыть там десять минут.
— Заметано.
Дуэйн оттолкнулся от стены и вышел. Ветер закручивал деревья на фоне ярких, стремительных облаков. Я перехватил его.
— Да ладно, парень, оставь это, — сказал я.
— Ты что, смеешься? Еще три пятьсот, и мне хватит на мотоцикл. Пожелай мне удачи.
— Угу.
— Ладно. — Он ткнул в кого-то пальцем. — Эй, вы! Подсадите меня.
Двое гостей сцепили руки и помогли ему влезть.
Дуэйн начал карабкаться. Уже через несколько секунд его можно было разглядеть лишь при вспышках молний. Поначалу он лез быстро, затем остановился. Там, высоко на перекрученном древесном стволе, он выглядел усталым и растерянным, и я подумал, если с ним что-нибудь случится, Ирен этого не переживет. Тогда, обхватив ствол, который сейчас был скользким из-за дождя, я полез за ним. Такое лазанье входило в мою подготовку на поводыря, и мне оно удавалось. Я быстро добрался до него. Ухватился за верхнюю ветку, подтянулся, а потом подтащил Дуэйна к развилке — передохнуть.
— Парень, — пропыхтел он, — спасибо. Я и забыл, до чего чертовски трудно лазать по деревьям.
Дерево согнулось под порывом ветра и резко выпрямилось. Опять сверкнула молния, так близко, что внутри моих глазных яблок вспыхнула огненная полоса.
— Хватит. Мы слезаем.
— Ни за что! — Он опять полез наверх.
— Дуэйн!
Но он не остановился. Ближе к верхушке было больше веток, и теперь ему было легче. Я полез за ним. Через пару минут мы оба угнездились в одной из развилок на верхушке, удерживаясь под порывами ветра, швыряющего нас взад и вперед, а молнии так и носились вокруг.
— Вот это да! — проорал Дуэйн. — Ничего себе!
— Кто сказал тебе, что молния никогда не ударяет в Место?
Дуэйн поглядел на меня. Ветер бил ему прямо в мокрое от дождя лицо.
— Никто, — ответил он и расплылся в улыбке.
Утром, когда буря утихла, я натянул дождевик и отправился на работу, чувствуя себя усталым, разбитым и медлительным. Когда я добрался, ворота были закрыты. Ирен ждала меня на крыльце.
— Что происходит? — спросил я.
— Буря снесла часть моста на Рэйндж-Лайн. Похоже, пару дней у нас каникулы.
— Хочешь сказать, мы закрываемся?
— Никто не сможет сюда добраться, золотко. По крайней мере, автобусом. Уж наверняка никто не припрется сюда пешком за пять миль, чтобы еще и пять долларов заплатить.
— Думаю, нет.
— Сегодня тебе получше?
— Ага, — сказал я. — Все нормально добрались? — Я имел в виду Дуэйна. Я так злился на него, что с тех пор, как мы слезли с дерева, не сказал ему ни слова и с тем и ушел.
— Ага, Дуэйн уже заглядывал. Так мы и узнали про мост. Хочешь позавтракать?
— Нет, спасибо.
— Чем собираешься заняться?
— Думаю, вернусь к себе и почитаю, или еще что-нибудь, — сказал я. — Разве что, у вас есть для меня работа.
— Ничего на сегодня. Послушай, золотко, мне не по себе от мысли, что ты будешь сидеть там один, в этой развалюхе. Почему бы тебе не поехать с нами в город?
— А как насчет моста? — спросил я.
— Мы проедем до того места, где он размыт. Дуэйн встретит нас на той стороне.
Я подумал. Вообще-то, ехать мне не хотелось.
— Говорят, позже будет солнечно, — настаивала Ирен. — Давай, порадуй старушку.
— Ладно, — сказал я.
Поток, который буря прогнала по руслу реки, смыл с моста деревянный настил. Ремонтники перекинули временные мостки и закрепили их. Мы с Горди и Ирен осторожно перешли на другую сторону, где нас в своем грузовичке поджидал Дуэйн.
— Не искупались по дороге? — сказал Дуэйн. — Как вы?
— Отлично, — жизнерадостно ответила Ирен.
— Влезайте. Хотите, в кабину, хотите — назад.
— Мы поедем сзади, — сказал Горди.
Я сел в кабину к Дуэйну. Он вел грузовик медленно, объезжая упавшие на дорогу ветки.
— Вчера был сущий ад, — сказал Дуэйн. — Я думал, мне голову сорвет, на этом дереве.
— Зачем ты это сделал? — спросил я.
— Из-за денег, парень. Тридцать пять сотен баксов!
— Ну, и получил ты их?
— Не совсем. Вот зачем мы туда едем. Нужно нанести визит этому маленькому скептику.
Я откинулся на сиденье. Если Дуэйн что-нибудь вбивал себе в голову, справиться с ним было невозможно.
Он свернул с Рэндж-Лайн направо, на Коаст-Роуд, широкое, современное шоссе, соединявшее железнодорожную ветку в Ореме с Гаванью. Движения тут почти не было, и Дуэйн прибавил скорость.
— Итак, ты здорово разочаровал кое-кого прошлым вечером, — сказал он.
— Мне не хочется плясать под ее дудку, — ответил я.
— Под ее дудку! — Дуэйн удивленно и с презрением поглядел на меня.
Мы перевалили через холм. Отсюда можно было увидеть Гавань, вытянувшуюся вдоль побережья. Она была покрыта солнечными пятнами, а на набережной крутились карусели. В заливе, в гавани, подобно огромному тусклому серебряному чайнику, лежала «Стелла». Потом, по мере того как грузовичок Дуэйна рыча съезжал вниз, обзор постепенно сходил на нет и только далеко в море выдавались глыбы волнолома.
Прямо за чертой города бригада рабочих натягивала палатку, которую снесла буря. Это была очень большая палатка — навес, способный вместить несколько сот человек. Вдоль шоссе ярко-голубые светящиеся буквы кричали о Возрождении Пенни-бэйкера. «Услышьте послание!» — гласила надпись. «Причаститесь Чуду!» Затем неожиданно материализовался сам преподобный Джим Пеннибэйкер. С ним были девушка в белом и юноша. Они были в сорок футов высотой и оглядывали Гавань добрым, вдохновенным взглядом.
— Это же Роб! — сказал я. — И Одри!
— Что с того? — спросил Дуэйн.
— Ты что, пытался познакомить меня с Одри Пеннибэйкер?
— А какая разница?
— Ты должен был сказать мне!
— Тогда ты был бы паинькой, а? — Дуэйн обернулся и опустил заднее стекло.
— Как тебе, Ирен? Твой Пеннибэйкер тут достаточно велик?
— Ты бы заткнулся, Дуэйн!
— Ха! — проорал тот в ответ и, внезапно съехав с шоссе, помчал по полю. Он объехал шатер, оставляя за собой грязную колею. Затем нацелился прямо на надпись.
— Держись, Джимми, малыш!
Он смял кустарник, вывернул руль и нажал на газ. Грузовичок дал задний ход, два раза крутанулся вокруг надписи и снова вылетел на шоссе, оставив позади колотящиеся друг о друга фигуры Пеннибэйкеров.
— Погляди на них, Рен! Они целуу-ются!
Я оглянулся. Горди хохотал так, что чуть не проглотил свою трубку. Ирен побелела от возмущения.
— Дуэйн Нельсон, — процедила она.
— Причаститесь Чуду! — завопил Дуэйн, и мы помчались к городу.
Мы высадили Горди и Ирен в центре, пройтись по магазинам, и поставили грузовичок на стоянке под домом, где жил Дуэйн. В Гавани, чем вы ближе к берегу, тем ниже квартирная плата, и тем запущенней выглядят дома. Я думаю, это из-за старой традиции, по которой люди с низким доходом селятся поближе к воде. Во всяком случае, день выдался влажным, а солнце начало пригревать.
— Пойдем, прогуляемся в Гавань, — сказал он.
— Что там, в Гавани?
— Мои денежки, Дуг. Не упирайся.
У людей, которые основали Гавань, должно быть, был какой-то сдвиг на истории. Все улицы, ведущие к воде, носили названия веков. Мы начали с улицы Двадцатого века, а на углу улицы Девятнадцатого века детишки играли в грязи. Все они знали Дуэйна и начали бросать в нас камни. Мы погнались за ними, но они пролезли в щели забора — слишком узкие, чтобы мы могли туда протиснуться.
— Да тебя тут обожают, — сказал я.
— И правда, — ответил Дуэйн довольно. — Это потому, что я — один из них. Я и сам швырял тут камни не так давно. — Он остановился, подобрал камешек и запустил в меня. Я отклонился, и камень просвистел мимо моей головы.
— Парень, ну и ленив же ты!
— Но ведь не попал?
— Ясное дело.
Мы пошли дальше.
— Почему ты никогда не приходишь со мной порезвиться в волнах, Дуг?
— Может, я не люблю воду, — сказал я.
— Речь не о воде, парень! Речь об ощущении.
— Ощущение, — сказал я.
— Вот именно. Что с ним не так?
— Все в порядке, если это все, что тебе нужно.
— А ты знаешь, что тебе нужно?
— Я просто знаю людей, которые только и делали, что гнались за ощущениями.
— Что, там на твоем Дереве? Кому это нужно, парень? Это уже история.
— Все равно толку нет, — настаивал я.
— У-ух, — сказал Дуэйн.
Теперь мы стояли в Гавани. На краю мола был охраняемый проход, а у конца причала пришвартована громада «Стеллы». В Гавани было неспокойно — уходящий шторм оставил волны, но «Стелла» была такой массивной, что даже не шевелилась. Она напоминала остров.
Дуэйн повел меня мимо магазина рыболовных принадлежностей, потом протащил в узкую щель между лавочкой и соседним строением, затем шагнул вбок, в игру теней, отбрасываемых волнами, которые бились о старые, потемневшие сваи. Когда внезапно он исчез, я полез за ним. Он висел над водой, на брусьях, под настилом. Перебирая руками, он добрался до края причала. Я последовал за ним, и мы забрались наверх. Мы ухитрились миновать охрану.
— А теперь что?
— Теперь добро пожаловать на борт, приятель.
Звездный лайнер был больше самого большого здания в гавани.
Мы прошли дальше. Пирс был длинным. Несколько человек рыбачили у перил. Когда мы подошли, один из рыбаков подцепил что-то на крючок, потянул и с трудом вытащил на настил плоскую оранжевую рыбу.
— Парень, ну и чудище! — сказал Дуэйн.
Мы продолжали свой путь. «Стелла» все росла и росла. Она была больше палатки Пеннибэйкера. Даже больше самого большого здания в Гавани. Я никогда раньше не подходил к звездному лайнеру так близко и не представлял, насколько он огромен.
Путь к сходням был открыт. Над ними висело объявление о том, что посетители должны расписаться, и за переборкой находился закоулок с деревянным настилом и бухтой якорного троса. Мы расписались, оставили отпечатки пальцев и взошли на борт. Никто нас не остановил. Никто на нас даже не взглянул. Мы пересекли холл, из которого вели две сходящиеся пологие лестницы, поднялись по ним и вошли в лифт.
— Палуба восемь, — сказал Дуэйн.
Кабина двинулась — сначала вбок, потом вверх. Дверь открылась. Теперь повсюду были ковры и мягкое фиолетовое скрытое освещение. Дуэйн знал, куда идти. Он стал перед дверью и, оглянувшись на меня, нажал на кнопку. Потом еще раз.
— Кто там? — раздался сонный голос.
— Казначей.
— Убирайся. Я сплю.
— Боюсь, дело не может ждать, сэр. Мне доложили о краже кое-каких денег. Всплыло ваше имя.
Мы услышали, как внутри что-то шуршит.
— Ладно, — сказал Дуэйн мягко. — Как только он откроет, берем его.
— Дуэйн…
— Ты поможешь мне или нет?
— О, привет!
Мы с Дуэйном оглянулись. Это была Одри. Дверь отворилась. Роб увидел Дуэйна и попытался затворить дверь, но Дуэйн успел просунуть внутрь ногу.
— Убирайтесь отсюда! — завопил Роб.
— В чем дело? — спросила Одри.
— Всего-навсего хотим нанести короткий визит твоему братцу, — сказал Дуэйн сквозь зубы. Он пытался помешать двери закрыться совсем.
— Давай, Дуг!
Я глупо улыбнулся Одри, ухватился за дверь вместе с Дуэйном и потянул. Она резко отворилась, и мы ввалились внутрь. Роб стоял, сжимая в руке телефон. Дуэйн отнял его.
— Доброе утро, Роб, — вежливо сказал Дуэйн. — Мы пришли немного поговорить о том пари, что мы заключили.
Роб сел на постель.
— Я был пьян, — сказал он.
— Верно. И я тоже. Но все же, мы заключили пари.
Одри наблюдала за нами из коридора.
— Робин? Это правда? Ты ему должен какие-нибудь деньги?
— Это было глупо. Да он всего лишь залез на дерево.
— Во время грозы, — сурово сказала Одри. — Лучше заплати.
— Заплатить? Ты что, свихнулась?
— Заплати, или я скажу папе, что ты опять пил.
Робин покорно откинулся на подушки.
— Там, на столе, чеки для путешественников, — сказал он.
Дуэйн взял бумажник с чеками. Он вытащил ручку из кармана штанов и протянул ее Робу.
— Твой папа — преподобный Пеннибэйкер, верно? — спросил я Одри.
— Ага, — сказала она. Потом брату. — Подпиши, Роб!
— Ладно, ладно, ладно, — ответил Роб.
— Чудненько, — сказал Дуэйн, когда они закончили. Он помахал чеками, чтобы чернила высохли. — Пока, Робин. — Мы оставили его сидеть на постели и вышли.
— Насколько я знаю моего брата, я бы советовала вам прямо сейчас обратить их в наличные, — сказала Одри.
— Сестричка, да ты мысли мои читаешь, — сказал Дуэйн. — Пошли, Дуг.
— Я лучше выйду с вами. На случай, если он решит вызвать охрану.
Мы покинули пирс и спустились в центр, в банк Америкен Экспресс. Пока Дуэйн ожидал своей очереди, мы зашли в кафе напротив и заказали кофе.
— Я ужасно рада снова видеть тебя, — сказала Одри. — Это дает мне возможность извиниться за вчерашнее.
— Тебе не за что извиняться.
— Ох, нет, есть за что. Я должна была остановить Роба. Иногда он ведет себя просто ужасно, но меня слушается.
— Тогда почему же ты этого не сделала?
Она улыбнулась и поглядела в окно на улицу.
— Думаю, я немного обиделась на тебя.
— Что?
— Ну, обычно, когда я… Ох, это звучит так глупо.
— Что?
— Ну, когда я хочу, чтобы кто-нибудь обратил на меня внимание, так оно и бывает.
Я не знал, что ответить, поэтому уткнулся в свой кофе.
— Могу я спросить тебя кое о чем, Джи-Ди?
— Конечно.
— Почему ты ушел с вечеринки? Из-за меня, да?
— Я просто хотел подумать немножко, — ответил я.
— Ты всегда идешь думать туда, наверх?
— Нет, но… — я улыбнулся. — Это довольно трудно объяснить.
— Ты не обязан.
— Нет. Все в порядке. У меня был друг, он умер примерно год назад. Я думал, что вроде примирился с этим, но вчера, в первый раз за все время, я почувствовал его. Там, на Месте, во время экскурсии. Наверное, поэтому я и грохнулся.
Одри улыбнулась.
— А я думала, из-за меня.
— И из-за тебя… Понимаешь… я же говорил тебе, это трудно объяснить. Во всяком случае, я чувствовал, будто мой друг ждет, чтобы я что-то сделал для него. Вот я и пытался поговорить с ним, я думаю.
— Что-то вроде молитвы, — сказала она.
— Не знаю. До этого я никогда не молился.
— О, но ты обязательно должен попробовать. Когда ты молишься, ты можешь и вправду поговорить. С кем-то настоящим.
— Мой друг — настоящий, — сказал я твердо.
Она вспыхнула.
— Я не имела в виду…
— Забудь об этом, — сказал я.
— Может, ты сегодня сможешь прийти на Возрождение. Ты и Дуэйн.
— Насчет Дуэйна, не знаю. Он, похоже, думает, что твой отец какой-то чудак.
— Ив самом деле, — холодно ответила она.
— Теперь моя очередь говорить не то.
Миг спустя Одри улыбнулась.
— Ах, да все в порядке. Многие, кто не знает папы, так думают. Но ты придешь? Я лишь хочу, чтобы ты понял, что есть кто-то, с кем можно поговорить. Будешь моим гостем?
— Ладно, — сказал я. — Почему бы нет.
— Отлично. Послушай, я лучше пойду. У меня репетиция. Но ты приходи туда около восьми. Просто назовись при входе, и они тебя пропустят. Ладно?
— Ладно.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Отлично, — довольно сказала она и ушла.
Я смотрел, как она выходит из кафе. Затем она свернула за угол и я понял, что меня охватывает все то же странное чувство. Я был словно комната, про которую не знаешь, что она пуста, пока кто-нибудь не включит свет. Как раз это и сделала Одри. Она включила внутри меня свет.
Я сидел и попивал свой кофе. Чуть погодя подошел Дуэйн. В руках у него был толстый конверт.
— Получил! Тридцать пять здоровых! — Потом, — Эй! А где Одри?
— Ей нужно было на репетицию.
— Ты что, ее снова прогнал?
— Нет. На этот раз ей действительно нужно было идти.
— Ладно. Пошли, разыщем ребят. Сегодня я угощаю!
Мы пошли в тот ресторанчик, где была терраса, откуда был виден весь город. Я заказал жареного цыпленка и салат, и мы разглядывали безделушки, которые купила Ирен, — целый набор, составляющий миниатюрный скотный двор.
— Это еще что за штука, черт подери? — спросил Дуэйн, разглядывая пятнистое четвероногое животное с рогами.
— Корова, золотко. И не чертыхайся.
— Для чего она?
— Молоко. Сливки. Сыр. Гамбургер.
— А как выходит молоко?
— Тянешь за эти рычаги на голове, — сказал Горди.
— Горд, — сказал Дуэйн, — ты мне врешь.
— Эй. — Горди указал в сторону холмов мундштуком своей трубки. — Как вы думаете, что это?
На фоне голубого неба можно было разглядеть нечто, напоминавшее темный завиток дыма. Он смерчем крутился в воздухе. Облачко миновало вершину холма и затем неожиданно рассыпалось на отдельные точки, которые опустились вниз, на землю около палатки Пеннибэйкера.
— Летуны, — сказал я.
— Летуны? Какого черта они тут делают? Они ведь никогда не бывают в Гавани.
— Из-за Возрождения, Дуэйн, — сказала Ирен.
— Чего?
— Я слышала, некоторые из них верят в Иисуса. Ручаюсь, они принесли своих больных для излечения. Этим и знаменит Джим Пеннибэйкер. Властью исцелять больных.
— Они не имеют никакого права появляться здесь, — сказал Дуэйн. — Это наш город.
Ирен дотронулась до моей руки.
— Золотко, — обеспокоенно сказала она, — я думаю, нам лучше отвезти тебя домой.
— Зачем это ему домой? Мы собирались поглядеть мотоциклы, верно, Дуг?
— Послушай, Дуэйн, если один из этих жуков увидит Джи-Ди, они вновь потащат его на ту Скалу. По их закону, он осужден. А что знает один из них, знают все. Так что запускай свой грузовик и вези нас прямо сейчас. Ясно?
Когда Ирен говорила серьезно, было у нее в голосе что-то такое, что заставляло Дуэйна соглашаться — да, мадам. Он подогнал грузовик, и мы поехали по склону назад. Проезжая мимо палатки Возрождения, мы увидели, что там сидели в ожидании несколько сот летунов, нахохлившись и сложив крылья, точно вороны на вспаханном поле.
Увидев их там, я ощутил острую боль утраты. Когда-то они и их город составляли всю мою жизнь. Меня учили уважать их и служить им. Может, Дуэйн и ненавидел их, а Ирен — боялась, но я любил их. Мне нравилось как они выглядят, как звучит их язык и то, как они летали. Я был одним из них — по-своему — из-за Генри.
И как каждый из них, я едва мог переносить одиночество, оторванность от остальных.
Когда мы возвратились на Место, там было спокойно. Заросли лежали в тени, темно-зеленые, с просвечивающими полосками ярко-голубого неба. Я провел остаток дня, помогая Горди убираться и распиливать упавшие ветки. Затем я вернулся к себе в хижину. Я привел себя в порядок, проскользнул мимо Ирен и Горди и отмахал четыре мили до размытого моста. На Рэйндж-Лайн я остановил фургон, на котором и проехал до Площадки Возрождения. Незадолго до восьми я уже был там. Затем я встал в длинную очередь: и подойдя к парочке хорошо отмытых ребятишек в голубых блейзерах, которые проверяли билеты, назвал свое имя.
— Мисс Пеннибэйкер говорила, что оставит для меня пропуск, — сказал я им.
Один из них отошел и вернулся с распорядителем, который дал мне программку и проводил в палатку. Там были открытые трибуны с трех сторон, и сиденья на полу, и широкий проход между ними, ведущий к помосту. На сцене стояли рояль, скамьи для хора и оркестровые инструменты. Заднюю стену образовывали свисающие с потолка широкие шелковые полотнища всех цветов радуги. Распорядитель открыл дверь в ложу сбоку от сцены и напротив хора; и я занял место.
Летуны были повсюду. Они, точно летучие мыши, висели на тросах, на которых была натянута крыша палатки. Еще больше стояло на верхних трибунах. Старомодная бравурная музыка лилась из громкоговорителей. Люди беспокойно озирались. Отовсюду струился желтый свет, пахло поп-корном, влажным брезентом, опилками, обстановка была наэлектризована. Мне было интересно. До этого я никогда не посещал ни одной религиозной службы. Я все гадал — а что думают по поводу всего этого висящие на тросах летуны.
Наконец, не осталось ни одного свободного места и огни начали гаснуть, кроме тех, что освещали шелковые панели. Музыка стихла. Сбоку от сцены кто-то ударил в тамбурин. Затем вышла девушка в ослепительно-белом одеянии и села за рояль. Она поглядела прямо на меня и улыбнулась. Это была Одри.
Тут вступил и оркестр. Роб был среди музыкантов — он играл на бас-гитаре. Одри кивнула ему и ударила по клавишам: огни засияли ярче, вступил хор, ударные и бас-гитара сотрясали воздух так, что голова кружилась. Одри откинулась назад и в лучах прожекторов, мечущихся по потолку, можно было разглядеть шуршащих крыльями летунов, и вы чувствовали, как их эмоции переполняют помещение так, что начинало перехватывать дыхание. Одним словом, я так и сидел, с открытым ртом. Никогда не видел ничего подобного!
Внезапно музыка прекратилась. Кто-то провозгласил:
— Братья и сестры, пред вами преподобный Джим Пеннибэйкер!
И преподобный взошел по ступеням на кафедру.
Роскошней волос, чем у Джима Пеннибэйкера я никогда не видел. Глянув на Одри и Роба, он слегка подмигнул им. Потом начал говорить.
О, он умел воодушевить толпу! Он орал что-то про грех, про то, что вы не можете избежать возмездия, как далеко бы не скрылись, потому что галактики все равно, что зернышки риса меж пальцев Всевышнего. Он так грохотал, что делалось муторно. Очень скоро люди в проходах начали падать в обморок, но организация Пеннибэйкера была готова ко всему: распорядители в небесно-голубых блейзерах и теннисных туфлях выбегали с каким-то подкрепляющим средством. Весь этот разговор вместе с музыкой и пением занял целых полтора часа. Наконец, голос Джима Пеннибэйкера смягчился, а огни чуть пригасли и опустились.
— Братья и сестры, в этот вечер среди нас новые друзья.
— Хвала Иисусу! — закричали люди.
— Друзья, которые, может, и непохожи на нас, но их сердца и наши сердца — одно.
— Аминь!
— Они обеспокоены, они хотят мира! Они устали и хотят сложить ношу. Они страждут от неуверенности и хотят укрепиться.
— Хвала! Слава Ему! Да святится имя Его!
— Вы должны помочь им, Братья мои. Да, Сестры мои, вы должны взять их за руки и повести по сияющей тропе в Царство Божие. Богу не важно, откуда вы. Ему все равно, как вы выглядите или каковы дела ваши. Он только хочет от вас Любви. Он жаждет простить вам грехи и омыть вас в сладких водах своей любви. Так что ведите их, Братья и Сестры! Покажите им на златую тропу, в царствие Его вступить можно всегда, стоит лишь сделать первый шаг.
Его наручные часы сверкали в лучах прожекторов. Затем, внезапно, послышалось хлопанье крыльев и летуны начали спускаться, скользя над головами сидящих на трибунах людей. Они, приземлившись, заполнили проходы. А впереди были летуны с высохшими ногами, сломанными крыльями, ослабевшие, поблекшие. Им помогали товарищи и распорядители.
Один из них был слепым. Глаза его затянула молочная дымка, перья на крупной голове росли неровно, точно как у Генри. Он даже наклонял набок голову тем же манером, что и Генри.
Господи, как мне захотелось спуститься и помочь ему. Именно этому меня и учили — быть поводырем, осваивать профессию, летать — выполнять свое истинное предназначение. И я тосковал именно из-за этого, именно этого мне недоставало — даже больше, чем Генри. Это было чертовски несправедливо!
Мне было одновременно и хорошо и грустно. Потом я кое-что заметил. По другую сторону помоста Роб наклонился к одному из натянутых полотнищ. Он с кем-то разговаривал. Полотнище чуть-чуть шевельнулось, там, в тени, стоял летун, которого я узнал по золотому медальону. Это был генеральный консул представительства летунов в Гавани! Роб указал на меня. Консул вновь отступил в тень. Затем он прошел вдоль полотняной стены, и я увидел, что он направляется в мою сторону. Может, это ничего и не значило, но все равно, нужно было убираться отсюда. Я выскользнул из ложи и спустился по боковому проходу, где стояли несколько летунов, ожидая исцеления. Тот, слепдй, был среди них. И как раз, когда я проходил мимо него, он споткнулся.
Я не мог удержаться. Я сделал именно то, чему меня учили, и схватил его за руку, удержал от падения. Думаю, я ожидал ощутить тепло благодарности. Но было лишь одно холодное узнавание: «ТЫ!» и шум, который подняли остальные летуны в палатке.
Внезапно вся атмосфера Возрождения испарилась. Резкий свет высветил помятый, пятнистый брезент палатки и потные, растерянные лица людей на переполненных трибунах. Джим Пеннибэйкер не понимал, что случилось.
— Братья… и Сестры… пожалуйста, — пытался выговорить он.
Слепой убрал руку и отступил, словно боялся, что я ударю его. И все застыло на секунду, точно на картине. Затем разразился ад. Летуны начали возбужденно жужжать, сбиваясь в группы, подпрыгивая и хлопая крыльями. Поднялся шум, и это ощущение разъяренного пчелиного роя, которое они испускали, захватило и людей в палатке. Большинство не слишком часто сталкивались с летунами и не представляли, что летуны могут генерировать такие мощные эмоции. Тревога нарастала почти зримо. Все должно было вот-вот взорваться, я использовал этот миг, и, выбежав наружу, кинулся по раскисшему полю на шоссе. Там я встал поперек дороги и замахал рукой грузовику, который выехал на меня из темноты.
— Какого черта! Что ты делаешь? — остановив машину, проорал водитель.
— Мистер, подбросьте меня.
— Откуда я знаю, что ты никого не убил?
— Ниоткуда. Пожалуйста, мистер, только на холм, до Рэйндж-Лайн. Прошу вас!
Водитель оглядел меня, каким-то образом понял, что я говорю правду и нахожусь в полном отчаяньи, и открыл пассажирскую дверцу. Я взобрался в машину как раз, когда палатка Пеннибэйкера взорвалась изнутри, точно бумажный пакет, и все они, одним роем, вылетели на мои поиски.
Грузовик довез меня прямо до размытого моста. На другой стороне стоял автомобиль Горди и Ирен. Я знал, что запасной ключ они хранят в маленькой магнитной коробочке под крылом автомобиля, нашел его и поехал к Месту.
Я добрался до навеса немногим раньше, чем они. Можно было услышать, как они жужжат в облаках. Я выглянул в одно из поставленных под безумным углом окон, но ничего не увидел. Судя по шуму, к тем, кто присутствовал на церемонии Возрождения прибавились и другие. Ладно, подумал я. Посмотрим, правду ли говорят насчет Загадки этого Места. Может, тут они меня не достанут. Но даже если так, все равно дела шли чертовски паршиво.
Всю ночь шум нарастал. Я лежал на полу и пытался уснуть, но мог думать лишь о том, что мне придется вернуться на Скалу. Затем, чуть позже, ко мне поднялась Ирен.
— Джи-Ди! — закричала она, подбежала и обняла так крепко, что я закашлялся. — Мы тебя весь день искали! С тобой все в порядке?
— Конечно, — ответил я.
— Они не пытались прорваться внутрь?
— Еще нет, — ответил я.
— Я только что из консульства. Мне пришлось надеть ту штуку, которую ты раньше носил, так что я смогла поговорить с их генеральным консулом. Горди не мог этого сделать, ты ведь знаешь, у него стимулятор сердца. Но этот вел себя так… Ну, словно я была преступницей, вот! Сказал, меня тоже нужно судить. Я сказала, пускай, и что ты хороший, достойный мальчик. Он как раз начал толковать про то, что такое коллективная мудрость и как она много значит, а я просто, одиночка и ни грана из нее не пойму! А я сказала, что отлично поняла, какая он задница!
Я рассмеялся.
— Здорово, Ирен.
— Но, Джи-Ди, он требовал, чтобы я тебя выдала им. И он что-то со мной сделал… довел меня до того, что я чуть было не сказала — ладно. О, зачем ты вот так попался им на глаза?
— Поверь мне, это была не моя идея, — сказал я.
— Я знаю. Ну, и как ты, Джи-Ди? Ты в порядке? Хочешь что-нибудь поесть?
— Нет, но… Могу я тебя попросить об одолжении?
— Все что угодно, золотко.
— Картина Генри. Не принесешь ее сюда, Ирен?
— Что? Эти каракули! Точно курица лапой царапала!
— Пожалуйста, Ирен. Я должен знать, что мне делать дальше. А Генри и в самом деле здорово соображал. Может, если у меня будет что-то его, я смогу как следует все обдумать. Пожалуйста.
— Ладно, золотко, — обеспокоенно сказала она и удалилась.
Жужжание в облаках делалось все громче и громче. Ирен вернулась, вошла через перекошенную дверь — картина в одной руке, бумажный пакетик в другой.
— И все-таки, я собрала тебе кое-что поесть, — сказала она.
— Спасибо, Ирен.
Я видел, что ей хочется побыть со мной, но я хотел остаться один. Я сказал ей об этом очень мягко. Она ответила, что забежит поглядеть, как я тут, через пару часов.
Я прислонил картину Генри к стене. Потом сел на красную отметку на полу и начал разглядывать картину. За все время, что я работал у Ирен и Горди, я никогда не смотрел на нее как следует. Я думал, мне будет слишком больно. Ирен была права — нацарапано, точно курица лапой — черные и красные полоски на сером фоне. Я подумал: да как же Генри мог потратить на это целых шесть недель? Я потрогал краску. Она не была вдавлена в холст и не выступала наружу. Мазки были наложены один раз — вот и все.
Курица царапала лапой, в основном, по направлению к центру холста, и там серый фон чуть сгущался. Может, даже, он чуть отдавал красным. Это, действительно, была композиция, но в ней не было никакого смысла.
Затем я подумал, что Генри вообще не особенно гнался за логикой. Его картины заставляли зрителя почувствовать скрытый смысл. Но я-то, глядя на это, ничего не чувствовал! С другой стороны, я никогда и не пытался разрешить головоломки, которые писал Генри.
«Колодец одиночества». Вот как он это назвал. Но разве вы заглядываете в колодец сбоку? Я встал, отодвинул картину от стены и положил ее на пол. Затем подпрыгнул, ухватился за брус и оседлал балку так, что оказался прямо над картиной.
Картина изменилась. Она перестала быть плоской поверхностью. Вместо этого я увидел краешек чего-то глубокого, бесконечного, что тащило вглубь все эти черточки, точно падающие вилки, когда со стола сдергивают скатерть. Перспектива изменилась так стремительно, что я потерял равновесие и упал.
Я приземлился на четвереньки, не отрывая взгляда от картины. Там, внутри, что-то двигалось! Вспышки цвета по спирали спускались в пропасть, и, казалось, вы вот-вот последуете за ними. Все, что требовалось — это расслабиться.
Клянусь, в тот миг я чувствовал присутствие Генри. Я был уверен, что он пленник там, внутри Колодца Одиночества. Может, именно поэтому все они избегают этого места, подумал я. Может оно для них — вроде входа в чистилище, в бездну, которая не выпустит, раз поймав. Как я хотел попытаться спасти его! Все что нужно — это позволить себе упасть туда…
Но я овладел собой. Так я не мог помочь Генри. Я бы всего лишь сдался, а он никогда бы этого не захотел. Я имею в виду — что толку уйти вот так, если я все равно не знаю, что мне делать со своей жизнью? Я слишком долго был занят тем, что прятался от прошлого. А если жить так, то разве это не бесконечное падение в Колодец Одиночества? Верно?
Я опять прислонил картину Генри к стене, лег и закрыл глаза. Я был так измотан, что сразу заснул.
Когда я проснулся, жужжание, которое они подняли, было ужасно громким, даже на Дереве я не слышал такого. Я высунул голову в окно и взглянул. Облака разорвались, и тысячи летунов медленно кружили над крышей, нависая над ней гигантским живым цилиндром. Он затягивал внутрь себя, будто я смотрел со дна колодца Генри.
Я сел и съел сандвичи, которые сделала для меня Ирен. Потом я услышал, что сквозь кустарник проламывается грузовик Дуэйна. Должно быть, мост уже починили. Хлопнула дверь машины, и я услышал, как Дуэйн поднимается по тропе.
— Сукин сын, — сказал он, заходя под навес, — что происходит?
— Они меня нашли, — ответил я.
— Ха! — ухнул Дуэйн. — То-то Ирен психует!
Я вздохнул. Об этом я совсем позабыл. Ирен, должно быть, перепугана насмерть. Дуэйн высунулся за дверь и помахал руками.
— Кыш, эй вы, ублюдки!
— Не делай этого, Дуэйн…
— Не делать чего? — резко спросил он. — Парень, они тебя обработали.
— Что ж, я ничего не могу с собой поделать.
— Да нет же, можешь. — Он вынул из кармана штанов конверт и протянул мне.
— Что это?
— Билет отсюда. «Стелла» улетает сегодня утром примерно… — он поглядел на часы, — через сорок минут.
— Где ты это раздобыл?
— Купил.
— Ты же откладывал на мотоцикл!
— Ну и ненавижу я этих ублюдков. Я еще накоплю. В городе полно дурней.
— Дуэйн, я не знаю. Это мой дом.
— Поправка, Дуг. Это их дом. И они будут кружить и кружить тут, пока кто-нибудь не свихнется. Я даже чувствую их там, наверху. И у меня от этого мурашки по коже бегают. Они и всю Гавань с ума сведут. Раньше или позже тебе придется выйти.
— Ладно, — сказал я. — Но если бы я и хотел уехать, не представляю, как это можно сделать. Они обложили меня.
— Ага, — усмехнулся Дуэйн. — То-то забавно будет.
Дуэйн отправил Горди и Ирен наверх, проводить меня, пока он заводил свой грузовичок. Глаза у Ирен были заплаканы. Она хотела уложить мне хоть какие-то вещи, но я сказал, нет, лучше путешествовать налегке.
— И все же, ты хочешь кое-что взять с собой, — сказал Горди. Он вытащил свой перочинный нож и вырезал из рамы картину Генри.
— Горди, нет…
— Уже сделано, — сказал он, скатывая холст. Я расстегнул комбинезон и засунул картину за пазуху. Горди обнял Ирен за плечи.
— Ты нам напишешь после отлета «Стеллы».
Я пожал ему руку и поцеловал Ирен. Затем я вышел из-под навеса через заднюю дверь. Тут был густой кустарник, и я ухитрился проскользнуть по склону холма до задней стены хижины. Дуэйн ожидал в машине у входной двери. Я помахал ему, и он открыл боковую дверцу. Я нырнул туда, и он ее захлопнул. Мы сквозь заросли помчались к Рэйндж-Лайн.
— Как ты думаешь, они меня видели?
— Это ты скажи мне, — ответил Дуэйн. Он поднял защитный козырек, но все, что можно было разглядеть — это размытые пятнышки синевы между ветками деревьев. Дуэйн врубил музыку. Я потянулся и выключил ее.
— Эй, что ты делаешь?
— Мне нужно подумать, Дуэйн. Нужно подготовиться.
— Расслабься, Дуг! Я тебя доставлю прямо на палубу «Стеллы»!
Они все же узнали, что я ускользнул. Когда Дуэйн пересек восстановленную часть моста, глянув вверх, я увидел рассыпавшийся по небу рой. Они могли летать быстро, но не быстрей грузовика. Беда была в том, что для того, чтобы проехать к Гавани, на побережье, нам нужно было сначала держать на юг, а потом свернуть на восток. Пока я смотрел на них, рой распался на две части и большая полетела к Гавани.
— Парень, у них больше мозгов, чем я думал.
— Один мозг, — сказал я. — Когда случается что-то вроде этого, они — одно целое.
Мы выбрались на шоссе, которое шло вдоль побережья. Дуэйн помчался по нему, лавируя меж машин. Небо вроде было чистым. Наконец, мы дошли до предела — Дуэйн нажал на тормоза, и машина встала.
— Ты только погляди на них! — сказал он.
Их были тысячи. Они налетали с запада, точно туман, а часть опустилась на город. Они облепили каждую крышу, каждое дерево, каждый столб. Они заполнили все автомобильные стоянки и толпились на улицах. Их было так много, что улицы города выглядели, словно их покрыл зеленый снег. Дуэйн тоже слегка позеленел.
— Послушай, — сказал я. — Они не знали, что я тут, до прошлой ночи, верно? И они наверняка прилетели сюда с Дерева. Это их ближайший большой город. Остальные летуны всю ночь кружили над Местом.
— Так что с того?
— Они уже устают. Погляди на них. Они не слишком-то активны. И не летают больше. Они отдыхают.
— Они и это делают?
— Да, Дуэйн, они делают все то же, что и мы. Даже задают глупые вопросы.
— Ладно, ладно. Так что же нам делать?
— Поезжай прямо на них. Осторожно и медленно, без лишнего шума. Постарайся их не встревожить.
— Ладно, — сказал он и запустил мотор. Он съехал на обочину, чтобы обойти вставший транспорт, и мы поехали вниз по склону.
Вначале, у самой дороги, их было немного. Потом мы достигли площадки Возрождения. От нее остались лишь перевернутые трибуны и обрывки брезента. Тут летунов было больше. Один, стоя у нас на дороге, заглянул прямо к нам в кабину и не спускал глаз, пока мы не миновали его.
— Парень, — сказал Дуэйн, — мы прямо в гуще их переговоров. Они на тебя и давят. Все будет в порядке.
Теперь они стояли на нашем пути группами. Некоторые жевали пучки листьев. Непохоже, чтобы они намеревались, однако, блокировать нам дорогу. Они просто опустились на землю и стояли тут. Дуэйн медленно ехал между ними. Они, чувствуя прикосновение бампера, отскакивали в сторону, хлопая крыльями. Один раз кто-то из них снялся с места, поднялось жужжание, но так же быстро и утихло. Но за пару минут мы проехали едва четверть мили. Дуэйн поглядел на часы.
— Ты можешь опоздать на корабль, Дуг, — сказал он сурово. — Мы должны что-нибудь сделать. — И прежде чем я успел сказать хоть слово, он нажал на сигнал. Это спугнуло летунов, стоявших перед нами, и они снялись с места.
— Вот так, — заорал Дуэйн, проехал вперед и вновь просигналил. Еще некоторые из них поднялись. Волосы у меня на затылке — тоже.
— Дуэйн, полегче, — сказал я.
Именно тогда один из них ударился о грузовичок. Мы резко дернулись влево, стекло разбилось, Дуэйн чертыхнулся и опять нажал на гудок. Еще несколько ударов. Потом ветровое стекло раскололось и просыпалось дождем мелких осколков и я почувствовал, как кто-то схватил мои плечи и шею, и тянет, вытаскивая наружу.
Тот, кто держал меня, сомкнул свои срединные ноги вокруг моей талии и поднялся вверх. Я услышал крик Дуэйна, глянул вниз и увидел его — мы парили бок о бок. Дуэйн изо всех сил отбивался, пытаясь освободиться. Я нет. Я опять летел!
Я позволил себе какой-то миг насладиться этим. Но на этот раз все было по-другому. Это был не Генри. Тот, кто нес меня, мог видеть. И я не был его поводырем. Мы медленно набирали высоту, разворачиваясь над водой, чтобы лететь дальше — в горы. Он нес меня с трудом, и я видел, что тот, кто держал Дуэйна, тоже устает. Я окликнул его.
— Дуэйн! Дуэйн, послушай меня! Расслабься!
— Как это — расслабиться? — проорал он в ответ.
— Я хочу, чтобы ты повернулся ко мне, когда я скажу. Постарайся повернуться!
— Зачем?
— Делай, что говорят!
Нам удалось повернуть летунов на запад. Внизу лежали набережная и гавань, где на ярком утреннем солнце сияла «Стелла». Тот, который держал Дуэйна, чуть приблизился ко мне…
— Сейчас! Поворачивайся!
Я тоже повернулся к Дуэйну и держался так, чувствуя, что летун усилил хватку, пытаясь удержать меня. Но для того, чтобы лететь прямо, он должен был сохранить равновесие, а нести груз он не привык. Он приблизился к тому, другому, и я ухватил Дуэйна за руку. Они попытались растащить нас. Я встретил взгляд Дуэйна — он был напуган.
— Тяни, Дуэйн! Избавься от него! — И Дуэйн завопил и дернул как следует. Тот, кто нес Дуэйна, вынужден был его выпустить. Мой же летун отчаянно хлопал крыльями, пытаясь не потерять высоты, однако не преуспел. Мы зависли, потом начали снижаться.
— Ох, парень, — сказал Дуэйн, — я вот-вот упаду.
— Хватайся за мой пояс!
— Я не могу…
Мы все еще парили на двухсотфутовой высоте. Как раз над аттракционами. Дуэйн вытянул руку, дотянулся до моего ремня, но промахнулся.
— Дуэйн же! Ты что, хочешь, чтобы они выиграли? Ты хочешь, чтобы они взяли верх?
— Нет! — завопил он. Я почувствовал, как его пальцы ухватили меня за пояс и сжались.
— Порядок?
— Ага.
— Теперь давай направим его к «Стелле».
— Как?
— Расставь ноги. Направь их под тем углом, куда ты его хочешь повернуть.
Дуэйн сделал, как я сказал. Летун начал поворачивать, и Дуэйн рассмеялся.
— Ему это чертовски не нравится.
— Им всем не нравится. Погляди.
Они кружили вокруг и жужжали, как безумные, но было ясно, что они не знают, что предпринять. Они скользили у самых ног Дуэйна, но оттащить его не могли. И схватить его тоже не могли. Ноги у них расположены под крыльями, и они не могут летать вниз головой. Мы продолжали падать и уже были почти над пирсом, на высоте тридцати футов.
— Дуэйн! — проорал я. — Готовься. Мы отцепляемся.
— Ладно.
Двадцать футов. Мы уже были за линией портовых магазинчиков. Шел отлив. Между водой и сваями причала виднелась полоска песка.
— Давай! — проорал я, дернулся и освободился.
Мы упали, ударились о песок и кувыркнулись. Я перекатился и сориентировался в пространстве. Дуэйн тоже успел подняться, и мы нырнули под сваи. Там, внизу, было темно и холодно. Они все жужжали вверху, над нами. Мы поднырнули под сваи, проплыли, взобрались наверх и перевели дух.
— Ты как?
— Все в порядке. Мужик. Дуг. И ты так мог? Вот так латать?
— Ясное дело.
— Парень, беру назад все, что я про тебя говорил.
— Давай убираться отсюда, Дуэйн. Отдохни немного.
— Сам отдыхай.
Он соскользнул обратно в воду и поплыл к скалам. Там, у уреза воды, в песчанике полно пещер, и Дуэйн жил там раньше, когда у него были неприятности или не хватало денег на квартиру. Я сказал себе, что с ним будет все в порядке, и начал пробираться к концу пирса.
По мере того, как я приближался к «Стелле», жужжание, идущее сверху, заглушалось мощной пульсацией, исходившей от корпуса корабля. Волн под сваями не было, но вода выглядела так, как будто кто-то проворачивал в ней гигантскую вилку. Я взобрался наверх и огляделся. Летуны парили над набережной и над проходом к «Стелле», но люк был открыт, и я поднялся на борт. Немедленно меня остановили контролер и два вооруженных охранника.
— Как вы пробрались сюда? — спросил контролер.
— У меня билет. — Ия показал его. Контролер снял с пояса сканнер и провел им по билету. Лишь только сканнер загудел, отношение контролера ко мне полностью изменилось.
— О! Мистер Хаунд, — сказал он.
— Мистер Хаунд?
— Вы же мистер Хаунд, не правда ли?
— О, да, — ответил я.
— Мы боялись, вы опоздали.
— Меня задержали, — объяснил я.
— Разумеется, — ответил он. — У вас есть багаж?
— Зачем? Это ведь развлекательный круиз.
Контролер понимающе улыбнулся. Меньше заботы.
— Ступайте в калибровочную кабину, мистер Хаунд. Мы стартуем, как только определим вашу массу.
Я зашел. Фиолетовая вспышка озарила меня.
— Очень хорошо, сэр. Коридорный покажет вам вашу каюту.
Я вышел из кабины и замер. По лестнице спускались Джим Пеннибэйкер вместе с летуном. Это был генеральный консул. Я попытался отступить в кабину, но генеральный консул уже заметил меня. У Джима Пеннибэйкера на пояснице был закреплен транслятор. Генеральный консул со стуком свел челюсти. Он был крупнее Генри и совсем не стар. Он мог бы перекусить мою шею, точно прутик. Джим Пеннибэйкер кивнул и подошел ко мне.
— Это вы — тот юноша, который вызвал всеобщее волнение?
— Не-а, — сказал я.
— Он говорит, что хочет, чтобы вы пошли с ним.
— Скажите ему, что я сначала хочу с ним поговорить.
Джим Пеннибэйкер нахмурился.
— Я пытаюсь установить тут постоянную миссию, сынок. Они уже почти согласились…
— Пожалуйста, скажите, — сказал я.
— Он хочет сначала поговорить, — сказал преподобный. Миг спустя генеральный консул прожужжал что-то в ответ, и Джим Пеннибэйкер кивнул.
— Он сказал, что после того, как вы согласитесь сдаться, вы можете сделать заявление.
— Заявление? — переспросил я.
— Да. Он так сказал.
— Ладно. Дайте мне пояс.
Преподобный Пеннибэйкер снял пояс. Я подогнал его по себе, включил и почувствовал как к спине прижимаются теплые иглы. Генеральный консул холодно на меня посмотрел.
— Вы мудро поступили, что сдались, — сказал он. Я ощущал его голос как покалывание в спине, а оно уже превращалось в голове в слова. — Вы вызвали слишком много беспокойства. Теперь дело будет закрыто.
— Поглядите на меня, сэр, — сказал я.
— Я и так смотрю на вас.
— Я имею в виду — в самом деле поглядите. Вы знаете, что я не убивал его.
— Это обсуждать бессмысленно. Вам вынесли обвинительный приговор.
— Если бы Генри умер в постели, — спросил я, — что бы случилось со мной?
— Ничего, разумеется.
— Но в постели это была бы жалкая смерть. А он умер счастливым! Счастливым потому, что был свободен. Вы же знаете, что это правда. Все вы это чувствовали, когда он отпустил меня и ринулся на скалу.
Генеральный консул не ответил. Я мягко спросил:
— Вы действительно думали, что иначе он прожил бы вечно?
— Может и так, — после недолгого молчания ответил консул. — Но это ничего не меняет.
— Отпустите меня, — сказал я.
— Невозможно.
— Послушайте, — сказал я, — у меня есть кое-что из его работ, чего я не могу понять. Это картина, она называется «Колодец одиночества». Он нарисовал ее в том месте, в холмах, куда ваш народ не летает. Отпустите меня, и я передам ее вам.
— Невозможно, — повторил консул. — Вы пойдете со мной.
Я расстегнул комбинезон. Рулон был прижат к моей груди. Я развернул картину, надеясь, что краска не потрескается, и на вытянутых руках показал генеральному консулу.
Очень трудно точно описать, что случилось потом. Все что я помню — это исходящая от генерального консула мощная волна эмоций; ничего подобного я до этого не ощущал даже с Генри. Я вырубился. Не знаю, насколько. Затем все вокруг чуть прояснилось и я увидел, что около Джима Пеннибэйкера стоит контролер и поддерживает его.
— Боже! — прошептал преподобный.
Наконец генеральный консул пошевелился. Он забрал у меня картину, свернул ее и, не сказав больше ни слова, покинул «Стеллу».
Пять минут спустя мы уже были в пути. Я лежал на своей койке, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я думал — кто знает, что там, за стенами этого корабля? Вы не можете стоять на палубе, наблюдая, как мир становится все меньше, как он исчезает за горизонтом, вроде того, как описывается в старых морских книгах. Но все равно это похоже. На этот раз я был и в самом деле один, и навсегда.
Кто-то тихо постучал в дверь. Я сел.
— Джи-Ди?
— Да?
— Ты в порядке?
— Я думаю, да. Просто не знаю, как отворяются эти двери.
— Ты должен сказать ей, — ответила она. Я это сделал, и дверной проем осветился. В нем стояла Одри.
— Привет, — сказала она застенчиво.
— Привет.
— Папа сказал мне, что ты на борту.
— О!
— У тебя очень грустный вид, Джи-Ди. Можно, я зайду?
— Конечно.
— Не закрывайся, — сказала она двери. В стену был вделан маленький письменный столик, а под ним стоял стул. Одри выдвинула стул и села.
— Папа рассказал мне, что случилось.
— А он знает? Потому что я и сам-то не уверен.
— Он сказал, ты отдал им нечто воистину чудесное.
К этому немного можно было добавить.
— Джи-Ди, я хочу, чтобы ты кое-что знал. Они не могут отнять у тебя все.
— Пока что им это удавалось, — ответил я.
— Помнишь, что я сказала тебе раньше? Есть кто-то, с кем можно поговорить.
— Да не верю я в это, Одри, — ответил я.
— Почему нет? Есть же много вещей, в которые ты веришь. Я поглядел в ее теплые карие глаза и подумал — ну что ж, может это и правда. Так что, я сказал, ладно, я попробую. Она взяла меня за руку, и мы вместе опустились на колени.
И первое, о чем я попросил — может, мне когда-нибудь и с Генри доведется поговорить.
К ВОСТОКУ ОТ ЛУНЫ
© Mike Conner. East of the Moon.
F&SF, September 1993.
1
Ну вот, я пытался молиться, а вы сами знаете, как оно выходит, если не веришь по-настоящему. Я чувствовал себя так, как, наверное, чувствовал себя Джек из той сказки, где его матушка выкинула волшебные бобы в окно, — раздраженным. Обиженным. Хорошо хоть вся эта затея с молитвой принадлежала не мне. Одри Пеннибэйкер — девушка, стоявшая на коленях со мной рядом, была из тех, что всегда пытаются кого-нибудь обратить. Мы, закрыв глаза, стояли на коленях и изо всех сил старались молиться. Наконец, оба мы одновременно их открыли. Ее глаза мне нравились — миндалевидные, светло-зеленые, с короткими густыми ресницами.
— Ты ничего не чувствуешь, так ведь, Джи-Ди? — спросила она.
— Я пытаюсь, Одри. Честно.
Она мягко улыбнулась.
— Давай лучше пойдем погуляем.
— Я могу еще раз попробовать, — сказал я.
— Позже. А теперь сделаем небольшой перерыв.
Одри хорошо знала, что и как тут на «Стелле» и показала мне торговый ряд, где были магазины, рестораны, почта, цветочный магазин, комнаты для игр и гимнастический зал. Мы спустились вниз, миновав палубы D, Е, и F и, наконец, вышли на Прогулочную палубу. А там, пройдя через стеклянные матовые двери, мы оказались в самом сердце корабля.
Это был высокий зал, залитый удивительным зелено-голубым светом, казалось, струящимся отовсюду. Огромные деревья возносились до кольцевидных перекрытий верхних палуб и встречались там, наверху, с густым плющом и лианами, свисающими с поперечных балок. Птицы, перекликаясь, порхали среди ветвей и исчезали в сплетении лоз. Был там и водопад — он разбрасывал веер брызг, окрашивая перила этой палубы во все цвета радуги. И на самом верху, над скалистым карнизом, навис молочно-голубой купол.
— Ну разве тут не великолепно? — воскликнула Одри.
— На корабле? Да, роскошно.
— Лучший корабль, который я когда-либо видела.
— Ты много летала?
— Ну конечно же, глупыш! Я путешествую с папой лет с трех, с тех пор, как могла удержать тамбурин в руках.
Мы подошли к ограждению, на котором была надпись, предупреждающая пассажиров с электронными медицинскими устройствами, что они находятся в опасной близости от поля корабля. Одри прошла прямо за ограждение.
— Разве это не опасно? — спросил я, все еще не решаясь идти следом.
— Что не опасно?
— Поле.
Отвечая, Одри обернулась ко мне.
— Ммммм, — сказала она, прикрыв глаза, — я думаю, оно такое ласкающее.
Глядя на то, как она откидывает голову, я и сам захотел, чтобы меня приласкали. Но как только я последовал за ней, то почувствовал покалывание у основания шеи. А потом услышал громкое жужжание. То самое жужжание. Я черпал его полной мерой, словно опять был дома, на Дереве, рядом с Сетью. И почувствовал взрыв узнавания, изменение в характере сигналов, которое означало, что ты теперь один из них. И удивление я почувствовал тоже. Затем, сразу, все прекратилось. Так, словно кто-то захлопнул двери.
— В чем дело? — спросила Одри.
— Я поймал Сеть. — ответил я.
— Сеть?
— Летунов.
— Но разве это возможно? Мы ведь в нескольких световых годах от Дерева.
— А тут, на борту, летуны есть?
Она пожала плечами.
— Не думаю.
— Почему бы нет?
— Они не могут лететь на Танзис. Пока не могут, во всяком случае. Именно поэтому Возрождение и дошло только до Гавани. Папа помогал организовать встречу между летунами и танзианским послом. А теперь он отправляется назад, домой, с предложением начать переговоры о мире.
В Академии я немного узнал о той войне. Я знал, что между Сетью и Танзисом тридцать лет назад было столкновение и что споры между ними до сих пор не улажены, а мирный договор так и не подписали. Я не мог вспомнить ни причины войны, ни какие-нибудь подробности сражений.
— Ты и в самом деле думаешь, что это Сеть?
Что за вопрос. Я почти всю свою жизнь прожил на Дереве, и знал, на что это похоже — чувствовать Сеть. А Сеть знала меня, потому что я был поводырем у Генри. Он отпустил меня и погиб в слепом полете, а меня обвинили в его смерти — приговорили в их суде. Так что уж я-то хорошо знал, на что это похоже.
— Что бы это ни было, оно уже исчезло, — сказал я. — Пойдем дальше.
Мне и вправду нравилось гулять с ней. Мне нравилась ее манера идти, развернув плечи, так, что во время ходьбы они почти не двигались — только бедра. Мне нравилось, как звякали ее сережки, и то, как ей иногда приходилось сбиваться с шага, чтобы подладиться под мою походку. Дойдя до Торгового ряда мы остановились на террасе, разглядывая кафе на противоположной стороне карниза, опоясывающего центральный зал. Там было темно, горели лишь красные и голубые настольные лампы. Все столики были заняты, в сумерках можно было видеть снующих взад-вперед официантов.
Подошел стюард.
— Простите, мисс Пеннибэйкер, — сказал он, — у меня для вас цилиндр. — И он протянул небольшой поднос, на котором лежал тускло-серый продолговатый пластмассовый предмет.
— Спасибо, — ответила она и взяла его.
— Что это?
— Летающий цилиндр. Их используют, чтобы посылать сообщения на борту корабля. Их помещают прямо в поле, поэтому на самом деле они прибывают еще до того, как их отправили. Так что ты можешь, скажем, посылать самому себе записки о том, что ты собираешься делать. Это ужасно забавно.
Она открутила крышку на торце цилиндра. Внутри были плоская округлая пуговица, сияющая золотом, и свернутая записка, которую Одри осторожно развернула.
— Это так странно… — сказала она. — Стюард? У вас есть копия списка пассажиров?
— Да, мисс Пеннибэйкер. — И он протянул ей буклет в голубой обложке. Одри попросила меня подержать цилиндрик и записку, и начала пролистывать буклет. А я тем временем читал записку. «Вот экземпляр «К востоку от Луны», — гласила она. — Вам будет приятно прочесть его, поскольку автор на борту».
— Вот он! — воскликнула Одри.
— Кто?
— Джордж Джонсон. — Она указала на строчку в списке пассажиров. — Джонсон, Джордж, журналист-писатель. Ох, папу удар хватит!
— Почему?
— В первую очередь, потому, что эта пуговица — микрокнига под названием «К востоку от Луны», а папа полжизни потратил на то, чтобы ее запретили. Повсюду, где бы мы ни были, он проповедовал против этой книги. Да он меня запрет и ключ выбросит, если узнает, что я хоть пальцем до нее дотронулась.
— Это что, плохая книга? — спросил я.
— Грязная выдумка! Интеллектуальное изнасилование — вот как папа ее называет. Она западает к тебе в голову и все там извращает.
— Значит, ты ее читала?
Она была испугана.
— Я не смогла бы. Да и зачем? Я все о ней знаю от папы. Она выворачивает наизнанку все твои представления о дурном и хорошем, хоть и притворяется, что имела в виду совсем обратное. Герой — просто чудовище, а подделывается под достойного человека, которого вы бы почли за честь пригласить в дом.
— Это твой папа так говорит, — сказал я.
— Так ты одобряешь порнографию?
— Сначала я бы хотел поглядеть, что это такое.
— Ну так возьми ее, — сказала она и сунула пуговицу мне в руку. — Читай хоть всю, если хочешь. Надолго тебя не хватит. От нее тебе тошно сделается.
— Ну-ну, перестань ворчать.
Она на миг прикрыла глаза, потом коснулась моей руки.
— Ох, прости меня. Я просто потрясена, вот и все. Не знаю, кто, да и зачем мог послать мне такую вещь.
— Почему ты не спросила стюарда, откуда она взялась?
— Даже и знать не хочу. И не хотела бы я оказаться поблизости, когда папа узнает, что Джордж Джонсон на борту.
— Может, они не натолкнутся друг на друга, — предположил я.
— Джи-Ди, — терпеливо сказала Одри. — Нам придется быть на борту еще несколько дней. И здесь всего пятьсот пассажиров. А папа мой не из затворников, да и, насколько я знаю, Джордж Джонсон тоже. Ничего себе! А я-то думала, что папа тут сможет отдохнуть и расслабиться, но, наверное, зря я строила всякие планы насчет этого Марди Гра[1] и всего остального.
— Марди Гра?
Одри загадочно улыбнулась.
— Мы еще тебе об этом не рассказывали. Что ты делаешь сегодня вечером? Ты с кем-нибудь ужинаешь?
— Они тут еще и ужином кормят?
— Глупыш! А ты что думал? Приходи в столовую первого класса в восемь сегодня вечером и спроси меня. Тебе есть во что переодеться к ужину? Нет, разумеется нет. Придется мне попросить стюарда позаботиться о тебе. — Она двинулась вперед, но внезапно остановилась и обернулась ко мне. — Джи-Ди?
— Да?
— Послушайся моего совета и выкинь эту книжку.
Я ответил, что подумаю, но знал, что не сделаю этого. Уж слишком она меня заинтересовала. Да и вообще, сказал я себе, что такого может сделать с человеком книга?
2
После того, как Одри ушла, я почувствовал себя неприкаянно и еще немного побродил по кораблю. Наконец, я прилепился к группе туристов, которая как раз собиралась уходить с Прогулочной палубы. Командор Мур, большой добродушный человек с лицом голубоватого, почти металлического оттенка, повел нас наверх по скату, останавливаясь в разных местах, чтобы объяснить, как устроен корабль. Я узнал, что «Стелла» может вместить 700 пассажиров и 100 человек команды, хотя на этот раз не все пассажирские места были заняты, что на ней шесть палуб, кольцом опоясывающих изнутри полый в сердцевине, точно бублик, корпус, что она уже совершила 737 рейсов и перевезла более чем 340 000 пассажиров без единой аварии, и что после остановки на Танзисе ей предстоит пройти проверку и возобновить запас топлива в доках Портсмута на Земле.
— Может, вы заметили, — говорил командор Мур, — снаружи корабль кажется гораздо большим, чем изнутри — с палуб. Это потому, что большая часть «Стеллы» — пустое пространство. Мы находимся в центре, в сердцевине бублика, если угодно. А нас окружает съедобная часть бублика. Именно там, как раз в самой середке, находится генератор поля, который и заставляет корабль двигаться. Силовые линии поля проходят сквозь сердцевину и наружу, обтекая поверхность корпуса. Звездному лайнеру нужна большая поверхность корпуса. Чем больше поверхность, тем сильнее поле, и тем больше пассажиров и груза может нести корабль. Корпус может быть и цилиндрическим, и даже квадратным, но тор — самая эффективная форма. Пойдемте, нам сюда.
Мур подвел нас по скату к служебной двери.
— Через эту дверь можно проникнуть к наружной оболочке. Обычно во время рейсов дверь запечатана, поскольку там, за ней, почти нет ничего такого, что требовало бы надзора. Но мы Можем заглянуть. Однако хочу вас предупредить, что переход между оболочками трудноват, да и воздух застоялся. Это тот самый воздух, который накачали еще в Портсмуте, когда вывели «Стеллу» из ангара семь лет назад. Да и тогда он был паршивый. Не станут же они расходовать хороший воздух на то, чтобы накачивать его между обшивками.
Командор Мур дотронулся идентификационной карточкой до двери, которая отворилась с тихим шипением, и мы вошли в тамбур. Внизу, под нами, в пространстве между оболочкой и внутренним корпусом корабля, зигзагом изгибалась лестница. Можно было различить огоньки аварийного освещения на каждой площадке, они мерцали, точно протянутая сквозь тьму нитка жемчуга. Впереди голубовато светился узкий мостик, перекинутый к еще одному открытому люку.
— Эй, кто-нибудь хочет пройти по нему? — спросил командор Мур с широкой улыбкой на голубом лице. И зубы у него тоже были голубыми. Я сказал, что попытаюсь.
— Еще кто-нибудь?
Отозвались еще трое. Командор Мур дал мне фонарик и велел посветить, чтобы иметь представление о размерах наружной оболочки. Пересечь мостик было не так уж трудно. Он был узким, с неудобными низкими перилами, но вполне устойчивым. Мы прошли по скату на полукруглую площадку. Мур был прав. Воздух действительно вонял. Я уперся лучом фонарика в темноту. Луч расплылся и смутно осветил внутрений покров оболочки, очертив пересекающие ее тени кольцевых креплений и балок, которые распирали оболочку корабля, когда тот не находился в космосе. От креплений тросы вант тянулись вниз до карнизов, позволяющих пробраться к алому, пульсирующему генератору поля, который был подвешен прямо в центре наружной оболочки. Когда я навел туда луч, то заметил, что на верхних кольцах рядами висели похожие на коконы предметы. Пока я пытался различить, что это такое, мы почувствовали, что платформа дрогнула. Можно было увидеть, как вибрируют тени вант на стенках.
— Это нормально? — нервно спросила моя спутница.
— Возможно, корабль всегда себя так ведет, — ответил я. — Но внутренняя оболочка гасит вибрацию, поэтому мы ничего не чувствуем.
— Не знаю… — сказала она, — может, нам следует доложить об этом.
— Вы действительно хотите ему рассказать? — спросил 0. — Муру понравится, если мы вернемся напуганными до смерти.
— И все же что-то тут не так.
— Что ж, может быть. Но если с кораблем и вправду что-то неладно, команда и без нас об этом узнает. Вы же слышали — они сделали уже семьсот рейсов. Они знают, что к чему.
— Эй, ребята, вы там в порядке? — жизнерадостно окликнул с мостика Мур. — Мне не нужно идти и забирать вас оттуда, а?
— Ну что, все еще хотите сказать ему? — спросил я даму.
— Нет. Думаю, вы правы.
Мы выбрались и присоединились к остальным, а командор Мур повел нас в рубку.
— Ну вот, капитана Признера в данную минуту тут нет. В его обязанности входит и общение с пассажирами, так что сегодня он должен присутствовать на завтраке за несколькими столиками. Однако беспокоиться не о чем. Раз уж мы идем по маршруту и еще не достигли Перелома, «Стелла» и сама может управиться.
Около приборов возились три члена команды. Они двигались спокойно и неторопливо, и я обменялся взглядом с женщиной, которая совершала вместе со мной вылазку к наружной оболочке. Мур продолжал рассказывать о назначении разных панелей и сравнивал обычный перелет с ездой на велосипеде к вершине крутого холма, когда вы должны добраться до вершины — переломного пункта, — а потом спуститься. Он ответил на несколько вопросов, затем раздал значки-сувениры со «Стеллы», талончики, за которые в кафе на Террасе можно было взять кофе или «любой другой товар той же стоимости», и купоны с пятнадцатипроцентной скидкой на костюмы, и всякие причиндалы для Марди Гра, которые можно было выкупить в Магазинчике Ужасов в Торговом ряду.
— Надеюсь, вас примет хорошая Гильдия, — сказал Мур. — Желаю удачи. Увидимся на Большом балу в ночь Переломного момента!
Экскурсия меня утомила и я заскочил к себе в каюту Вздремнуть. Спустя какое-то время в дверь осторожно постучали. Это был стюард.
— Простите, что беспокою вас, сэр, — сказал он. — Но я видел вас в списке ужинающих за капитанским столиком сегодня. Капитан посылает вам подходящий к случаю костюм со своими наилучшими пожеланиями.
И он выложил белый пиджак, полосатые брюки дудочкой и золотистую сорочку.
— Может быть, придется подогнать что-нибудь, позвольте мне снять с вас мерки.
— Что я должен делать?
— Просто встаньте прямо, сэр, и вытяните руки, вот так. — Я сделал, как он велел, и он слегка поправил мне руки. — Вот так, сэр. Одну минутку. — И сфотографировал меня крошечной камерой. На каждом предмете гардероба была своя бирка, и он по очереди закладывал их в устройство на задней стенке своей камеры, считывая показатели.
— Я тотчас же верну все, сэр, — сказал он, собрав все снова.
— Спасибо. А тут и в самом деле будет Марди Гра?
— О, да, сэр.
— А что он из себя представляет?
— Это такая традиция, сэр. Понимаете ли, в этом рейсе мы пересекаем галактический меридиан. В давние времена похожие церемонии и праздники устраивали на земных парусниках, когда пересекали экватор.
— И мы все должны одеться в карнавальные костюмы?
— Если желаете, сэр. А если вас наймет какая-нибудь Гильдия, тогда определенно. И если позволите, я скажу, что поскольку вы нечто вроде достопримечательности нашего путешествия, вы наверняка получите несколько заявок от старшин Гильдий.
— Кто они такие?
Стюард загадочно улыбнулся.
— Секрет, сэр. Гильдии — тайные общества. Они есть на каждом корабле — постоянно или на один рейс и всегда сами по себе. Некоторые из таких обществ существуют по триста лет и более.
— А какие тут есть костюмы?
— Какие угодно, сэр. Если желаете, то, раз уж вы согласитесь принять заявку, я буду счастлив помочь вам выбрать подходящий.
— Ладно. Уговорились. Спасибо.
Он еще раз сказал мне, что вернется со всей одеждой до шести и вышел.
3
К восьми часам я поднялся в главную столовую на палубе А. Она была большая. Должно быть, целая сотня столиков, окружавших молочно-белую линзу, похожую на ту, что я видел на нижней террасе в центре корабля. Выпуклость линзы поднималась примерно до уровня столешницы, поверх ее можно было разглядеть дальний конец зала. Над ней находился плоский прозрачный диск, видимо показывающий пространство вне корабля. Можно было видеть, как звезды бежали по стеклу, точно капли воды, фиолетовые в начале и постепенно краснеющие. Я назвался метрдотелю, который сверился со списком и проводил меня к столу рядом с линзой. За столом сидела Одри.
— О, Джи-Ди, ты выглядишь замечательно — сказала она, поднявшись мне навстречу. Вообще-то замечательно выглядела как раз она. Одри была в ярко-синей открытой тунике, выгодно подчеркивающей фигуру. Внезапно я почувствовал себя неловко. Одри заметила это и встревожилась.
— Что стряслось?
— Ничего, — запинаясь, сказал я, — просто… мы с тобой… так одеты. И я никогда…
Одри расхохоталась.
— Ну, может, тебя успокоит то, что все мужчины в этом зале чувствуют себя точно так же. Эти костюмы специально шьют так, что в них просто невозможно чувствовать себя удобно. А поскольку вам неуютно, вы превращаетесь в легкую добычу.
— Все мужчины? — это прозвучало так старомодно и — ну, хищно, что ли, что я растерялся. Одри быстро коснулась Моей руки.
— Джи-Ди, я же шучу.
— Знаю, — ответил я, но в глубине души понимал, что я и вправду легкая добыча.
— Пошли за стол. Все хотят с тобой познакомиться.
Она потянула меня за руку, и я вскоре понял, что такое «Капитанский столик». Капитан Признер, высокий, худой человек с молодящей его улыбкой, которого я признал по фотографиям из буклета «Стеллы» у меня в каюте, поднялся и пожал мне руку.
— Рад с вами познакомиться, — сказал он. — Одри и ее отец как раз рассказывали мне, какое представление вы устроили во время церемонии Возрождения.
— Это было не совсем представление, — ответил я.
— Папа, ты же помнишь Джи-Ди?
— Рад тебя снова видеть, сынок.
Преподобный Пеннибэйкер был еще выше капитана. Над бледным лицом горела, точно пламя факела, копна рыжих волос. Пожимая мне руку, он так и сверлил меня глазами. Это был не враждебный взгляд, но и дружелюбным я его не назвал бы.
— Разрешите мне представить графа Лэттри, — сказала Одри. — Танзианского посла к Сети.
Граф был маленьким человечком, мрачно попыхивавшим странно пахнущей сигаретой. Он вздохнул, разгладил спереди свою тогу, положил сигарету в пепельницу и поднялся так же плавно и быстро, что и струйка дыма. Он поклонился мне. Я поклонился в ответ. Затем он сел и вернулся к своей сигарете.
— Помнишь, я говорила тебе о переговорах, Джи-Ди? — спросила Одри. — Война между Деревом и Танзисом наконец закончилась.
— Не хотел бы спорить с вами, мадам, — сказал граф, — однако пока что мы всего лишь сошлись на попытке устроить мирную конференцию.
— Ну ладно, садись, Джи-Ди. Ты голоден?
— А как же, — сказал я, но трудновато было думать о еде, когда Одри сидела рядом со мной и выглядела такой красивой.
— Немного вина? — спросил капитан. — Оно с юга Франции, я полагаю. Были когда-нибудь во Франции?
— Я слышал о ней.
— Так вы никогда не были дома?
— Нет.
— Вы когда-нибудь покидали Дерево?
— Вообще-то Генри — он был моим клиентом — часто говорил, что нам нужно бы отправиться вместе попутешествовать Но мы так и не выбрались.
— Дак что эдо для вас первый перелет? — спросил граф Дэттри.
— Да, — ответил я, все больше приходя в себя.
— Догда я бы ходел пригласить вас присоединиться к Гильдии Протея!
— Очень жаль, граф, но он уже ангажирован королем Нептуном, — сказала Одри, сжав мне руку.
— Заявка! — сказал, поднимая бокал, капитан Признер.
Похоже было, что это какой-то тост, поскольку все остальные тоже подняли бокалы и выпили.
— О! — рассмеялась Одри. — Мы совсем сбили его с толку!
Капитан Признер объяснил:
— У нас на звездных лайнерах есть такая традиция, Джи-Ди. Мы должны выпить, если кто-нибудь принимает заявку Гильдии.
— Ты же принимаешь ее, не правда ли, сынок? — спросил преподобный Пеннибэйкер.
— Ну… Я хочу спросить, что я должен буду делать? Если соглашусь.
— Просто скажи «да», а потом сам увидишь, — ответила Одри.
— Не возражаете, если я присоединюсь к вам?
Все замолчали. Человек, задавший этот вопрос, стоял за спиной Одри. Он был в белой рубашке с короткими рукавами и распахнутым воротом, с густой седой бородой и длинными редеющими волосами, тоже седыми, которые он зачесал назад. Глаза — водянистые, бледно-голубые, а румяное лицо и мускулистые руки, казалось, были выкрашены ягодным соком.
— Что ж, привет, Джордж, — сказал капитан Признер. — Не думаю, что тебе тут будет интересно.
Я почувствовал, что кто-то толкнул меня под локоть и поглядел на Одри. Она ошеломленно распахнула глаза.
— Это Джордж Джонсон, — прошептала она мне на ухо.
— Да я просто брожу тут, гляжу по сторонам, — сказал Джонсон. — Все удивляюсь, почему это я не получил заявку от Гильдии Короля Нептуна. — И он в упор уставился на преподобного Пеннибэйкера.
— Послушайте, мистер Джонсон, — сказал преподобный Пеннибэйкер, напряженно улыбаясь, — вы отлично знаете, что Гильдия Короля Нептуна — это христианская Гильдия.
— Вы хотите сказать, что я не христианин, мать их?!
Лицо преподобного Пеннибэйкера стало красным как его волосы. Он подскочил и швырнул салфетку в тарелку.
— Вы можете изрыгать все ваши гнусности — предо мною одним. То, что вы развращенный тип, для меня не новость. Но я не позволю вам разговаривать таким образом в присутствии моей дочери.
— Папа, да все в порядке…
— Отнюдь не в порядке!
— Ладно, я извиняюсь, — сказал Джонсон. — Перед вашей дочерью.
Преподобному Пеннибэйкеру, казалось, стоило огромного труда овладеть собой. Наконец, с ледяным спокойствием, он сказал:
— Капитан, граф, боюсь, я не могу преломить с вами хлеба. Этот стол осквернен. Пошли, Одри.
— Но папа…
— Я сказал, пошли!
— Да, сэр, — тихо ответила она, опуская глаза. И прошептала мне, — Я позвоню тебе позже.
Потом она и ее отец быстро вышли из зала.
— Ну и черт с ними, — сказал Джонсон и, не тратя зря времени, плюхнулся на освободившееся место. — Он просто напыщеннный ублюдок, вот и все. И всегда был таким. А все это его мошенническое предприятие с Возрождением!
— Он оказал значительное содействие при переговорах с Сетью, — заметил Граф.
— Что мне с того, что он обожает этих жуков? — Джонсон отломил кусок хлеба и внезапно повернулся ко мне. — Какого черта ты так уставился?
— Это Джи-Ди, — сказал капитан Признер. — Джи-Ди, познакомься с Джорджем Джонсоном.
— Как поживаешь, малыш? — спросил тот, показывая изношенные пожелтевшие зубы.
— Джи-Ди раньше работал поводырем на Дереве.
— Надо же! Так ты тоже любитель жуков?
— Вообще-то в данный момент они от меня не в восторге.
— Ну и пошли их в задницу, — провозгласил Джонсон, — всех пошли!
— Джордж, уймись, — сказал Признер. — Вон идет официант. Почему бы тебе не заказать себе поесть?
— Я, пожалуй, прогляжу меню, — сказал я.
Джонсон сказал:
— Тебе не нужно меню. У них тут есть свежие устрицы. Ты любишь устрицы? — Не дожидаясь ответа, он жестом подозвал официанта. — Принеси нам по тарелке камамотус. А потом — разделанного краба со шпинатом. И позаботься, чтобы в соусе было побольше чесноку. Да, и еще две бутылки вон того Тавля.
— Не думаю, что мальчик пьет, Джордж, — сказал капитан Признер.
— Раз уж он жил с жуками, наверняка пьет. Они делают такой мед, знаете ли. Отличная штука. Так что на этой планете нет ни одного пуританина.
— Преподобному Пеннибэйкеру было бы нечего делать, будь дам пуритане, — заметил граф.
— Черта с два Пеннибэйкер выйдет из дела — угрюмо сказал Джонсон. — Распоследний сукин сын он, вот и все. Он и его вонючие тараканы, мать их. — Он вновь, сузив глаза, повернулся в мою сторону. — Послушай! Не ты — малый, что работал на того художника?
— Верно.
— Они что, умеют рисовать, жуки эти чертовы?
— А почему бы и нет? — ответил я.
— Ну конечно, они умеют рисовать, — сказал капитан Признер. — У меня у самого дома в кабинете висит его репродукция.
— Какая именно? — спросил я.
— Называется «Крыльцо # 7». Такая вся голубая и туманная. Ты ее знаешь?
— Нет. Но он написал ужасно много картин.
— И много ужасных картин, — сказал Джонсон.
Официант вернулся с вином и блюдом устриц в раковинах.
До сих пор я видел их только в книгах, поскольку ничего подобного в океанах мира летунов не водилось. На раковинах лежал мягкий сероватый отблеск, и мне показалось, что по уложеннным фестонами краям они слегка шевелятся. Джонсон выдавил лимон на свои устрицы и положил поверх каждой колечко лука. Потом он поднял раковину, откинул голову назад, и устрица скользнула ему в глотку. Я попробовал одну. Они были вполне неплохи — если не задумываться о том, что именно ты глотаешь.
После них прибыли тарелочки с крабом и салатом. Капитан Признер показал мне, как разделывать панцирь краба и извлекать мясо вилкой. Мне было немножко не по себе есть краба, потому что он по строению напоминал летуна, но мясо оказалось вкусным. Я постарался справиться и с еще одной устрицей. Тем временем вино и еда, казалось, немного ублажили Джонсона. Чуть позже он извинился перед каждым за свое поведение.
— Это все из-за этих перелетов между звездами. Они выматывают нервы.
— Ох, Джордж, — сказал капитан Признер.
— Что? Я не прав? Погляди на капитана, малыш! Как ты думаешь, сколько ему лет?
— Мне трудно определить, сколько людям лет, — ответил я.
— Давай, попробуй угадать. Майк, повернись-ка к малышу затылком. Покажи свои седые волосы.
— Сорок? Сорок пять?
— Ему двадцать шесть, — сказал Джонсон.
— Вообще-то двадцать пять, — поправил капитан.
— Простите! — сказал я, чувствуя, что краснею.
— Эй, ты еще был щедр. Майк, скажи ему, сколько лет самому старому капитану на этой линии.
— Нас отправляют на пенсию в тридцать два, — ответил Признер.
— А когда ты начал подготовку, сколько тебе было?
— Двенадцать.
— А первым прыжком ты во сколько руководил?
— В девятнадцать и три месяца.
— Восемь лет тренировки на двенадцать лет службы. Тут и карьеру сделать не успеешь.
— Если учитывать, на скольких ужинах капитан обязан присутствовать, — ответил Признер, — то это очень долгая карьера.
Мы все рассмеялись его шутке, а он продолжил:
— Некоторым людям прыжки дорого обходятся, что правда то правда. Да мы и не скрываем этого. Поля, которые несут корабль, чрезвычайно мощны и могут влиять на людей различным образом. Это не обязательно, значит, что сам по себе межзвездный перелет вреден. Но ранняя отправка на пенсию — это предосторожность, которую…
— 20 компания считает необходимой.
— Но согласись, Майк, ты износился.
— Ладно. Я абсолютно износился.
— Разумеется, это относится не только к капитану. И пассажирам тоже достается. Иногда поле замыкает их и тогда они начинают паниковать. Это когда попадаешь в шторм.
Признер отставил свой бокал с вином.
— Джордж, полагаю, тебе не стоит говорить подобные вещи.
— Да ладно тебе, Майк! А как насчет «Утренней Славы?»
— Никто не доказал, что они попали в шторм, — упрямо ответил капитан.
— Нет доказательств? Корабль нашли. Я сам видел останки. — Он обернулся ко мне. — У меня был друг, Гарви Дент, который занимался на Танзисе страховым делом. Он мне его и показал.
— Пошло-поехало, — сказал капитан Признер, но Джордж не обратил на него никакого внимания.
— Понимаешь, у Дента были неприятности с женой. Она его вышвырнула, так что жил он у себя в конторе. И я иногда случайно встречал его в кафе. Однажды он попросил меня присесть и выпить с ним. Он уже сидел там какое-то время. А перед ним стояла большая тарелка сосисок.
— Джордж, — сказал он. — Тебе не нужен кот?
Вообще-то коты на Танзисе редкость. Танзиане свихнулись на них. И готовы отвалить за каждого кругленькую сумму. Еще когда Гарви ладил с женой, он купил ей кота и с тех пор так и выплачивал за него.
— Какого черта мне за него платить, если она меня терпеть не может? — сказал Дент. — Забери кота, Джордж.
Я сказал ему, что кот мне не нужен. Я большую часть времени в разъездах. Кто будет его кормить? Кто будет выводить его гадить?
— Тебе не придется выводить его. Они гадят в коробку, — сказал Гарви.
Ну, я все еще упирался, но он был тверд как алмаз. Наконец, он заявляет, что если я только взгляну на него, он покажет мне кое-что еще, что меня очень заинтересует. Я на самом деле не думал, что у Гарви есть что-то любопытное, но он меня вымотал своим нытьем. Вот мы и поднялись наверх, к нему в контору.
Контора выглядела точно зона бедствия. В ней валялась вся его одежда, коробки с посудой, всякая домашняя утварь. Там было столько хламу, что кота он отыскал не сразу. Наконец мы нашли его — он спал в ящике письменного стола. Оранжевый кот с длинной шерстью, короткими ушами и мордой как у совы. В жизни не видел такой уродливой твари.
— Мне не нужен этот кот, Гарви, — говорю. — Он уродлив как смертный грех.
И тут он говорит мне, что если я возьму кота, он мне кое-что расскажет. Отодвигает кресло от письменного стола, включает лампу, открывает металлический ящик и велит мне взглянуть. Там, внутри, какие-то личные вещи. Часы. Детский башмачок. Несколько металлических обломков и тарелка с клеймом «Утренней Славы». И тот дневник. Рукописный дневник девочки, которая летела на Танзис, чтобы провести лето со своей старшей сестрой. Он мне дает блокнот и велит, чтобы я записывал. Я и записал. В этом дневнике говорится о том, что произошло на борту «Утренней Славы». Как все пассажиры свихнулись, и нарушили поле, и растерзали корабль.
А когда я закончу рассказ, наш добрый капитан скажет, что никаких официальных сообщений о находках на борту «Утренней Славы» не было. Но он-то знает правду. Просто паршивцы замяли дело.
— Ты же тогда был журналистом, — сказал капитан Признер. Что ж ты сам ничего не написал?
— Я и написал. Репортаж зарубили в «Межпланетных сообщениях».
— Ах, Джордж, полно. Все это случилось в твоем романе.
— Ты назвал меня лжецом, Майк?
— Я назвал тебя рассказчиком, Джордж. И чертовски безответственным в данную минуту.
— Что значит — безответственным?
— А то, что с таким же успехом ты мог бы забраться на стол и завопить «Пожар».
Тут заговорил граф Лэттри, который все это время продолжал безразлично курить. Он вынул сигарету изо рта и скорчил гримасу, обнажив желтые зубы.
— Может, мистер Джонсон и не виноват, — сказал он. — Он просто не может удержаться.
Джонсон повернулся к графу.
— Что вы сказали?
Лэттри отложил сигарету.
— Говорят, что автор «К востоку от Луны» вовсе не вы, а кое-кто другой.
Краска мгновенно отхлынула от лица Джонсона. Он медленно поднялся, обошел стол и встал перед графом.
— Ах ты, вшивый ублюдок! Ты, должно быть, очень уж храбрый, если осмелился сказать мне такое.
— Я только повторяю то, что все и так хорошо знают. Ваш роман — пропаганда, написанная под диктовку Сети.
Джонсон сурово улыбнулся.
— Знаете ли, я всегда мечтал, чтобы какой-нибудь танзианский сукин сын сказал это мне в лицо. Поднимайся.
— Отлично.
Граф встал. Он едва доставал Джонсону до ключицы. Он был таким субтильным стариканом, что казалось, если Джонсон его ударит, он просто рассыплется на мелкие кусочки.
— Возьми свои слова назад, — прорычал Джонсон.
— Почему бы эдо мне забирать назад правду?
Джонсон сжал зубы и шагнул к графу. Я вскочил и встал между ними.
— Прочь с дороги, малыш!
— Я не позволю вам его бить, — сказал я.
Джонсон не стал тратить время на споры со мной. Он предупредил меня лишь один раз, и я нарвался на это предупреждение. Он опустил плечо, отводя назад левую руку, я отклонился от удара, которого так и не было, и попал прямо под удар правой.
Странно — я его даже не почувствовал. Я просто почему-то очень захотел присесть на пол. Что и сделал, и у меня почему-то начало колоть шею и затылок, а потом я услышал, как капитан говорит Джонсону, что отправит его в карцер, если тот не уйдет сейчас же, и Джонсон уходит красный и злой, а граф сидит себе спокойно и зажигает еще одну бурую сигарету, и как я говорю — я в порядке. Потом доел устрицы, но никак не мог придти в норму.
…Наконец, меня отвели в каюту.
4
Оказавшись в каюте, я увидел, что моя постель уже разобрана. На ночном столике рядом с кроватью стояло ведерко со льдом и пузырь, бутылка минеральной воды, стакан, мятная шоколадка в блестящей обертке и читник. Все — с клеймом «Стеллы». Долгое время я смотрел на все эти вещи, потом стянул свой жесткий обеденный костюм, выдвинул из стены ванну и залез в нее.
Лежа в горячей воде, я думал об Одри. Я рисовал ее себе в синей тунике, в которой она была на обеде. Уверял себя, что, останься она, все не пошло бы из рук вон. Я думал, как бы приятно мог пройти вечер, если бы мне не пришлось свалять такого дурака. Потом вода остыла, я выбрался из ванны и вытерся. Достал золотистую пуговицу, которую дала мне Одри и открыл читник. На внутренней створке уже было несколько таких пуговиц. Я вытащил одну, слегка надавил на нее и, казалось, она раскрылась у меня в пальцах, превратившись в песчаную пустыню, над которой в темно-синем небе мерцали яркие звезды. Над звездами вспыхнуло название «Авторизованный Новый Завет»[2]. Я посадил этот диск назад в гнездо, наполнил пузырь льдом, загрузил в читник пресловутый роман «К востоку от Луны», положил пузырь со льдом на лоб и откинулся на подушки.
«ОБ АВТОРЕ
Джордж Джонсон родился в 2… году в городе Сент-Энтони, штат Миннесота. Когда ему было шесть лет, родители его погибли при несчастном случае на воде, и его с сестрой отослали жить к тете, Клодетте Джонсон-Моррис, известной поэтессе Среднего Запада. Не найдя себя в «фальшивой атмосфере затхлой культуры», как он сам говорил позже, Джонсон в двенадцать лет убежал из дому, и безбилетником начал плавать на грузовых судах — сначала по океанам Земли, потом на звездных линиях. В течение этого времени он вел дневник, описывая свой кочевой опыт, впоследствии опубликованный синдикатом Скриппса как «Письма из вынужденного изгнания». Эти записки принесли ему известность благодаря своему яркому романтизму, жизненной силе и упорному намерению противостоять «любому паршивому удару судьбы». Невзирая на свою растущую славу, Джонсон не удовлетворился карьерой литератора, продолжая работать грузчиком, а позже — полупрофессиональным боксером. Наконец, Скриппс убедил его освещать события войны с Сетью на Танзисе и он остался там в качестве корреспондента. Его опыт жизни на Танзисе и знание последствий войны и послужило основой романа «К востоку от Луны» — единственного его произведения с элементами вымысла».
Потом передо мной возникла фотография ухмыляющегося Джонсона: волосы еще с проседью, а не полностью седые. Затем фотография начала отодвигаться, поначалу медленно, потом все быстрее, так, что внутри у меня все сжалось, как при падении с высоты. Затем раздался шум, громкий шум — нарастающий, лязгающий и я оказался на улице, где было полным-полно машин. Я был совершенно уверен в этом. Потом я закрыл читник и улица исчезла. Я опять открыл его и увидел, как легковые автомобили и грузовики продираются сквозь клубящуюся завесу красной пыли. Все машины были узкие, угловатые, с тяжелым крытым верхом. Затем сцена отодвинулась вдаль и назад, гул движения стал фоном, а я обернулся и подошел к молодому человеку, сидящему на террасе в кафе.
Одетый в черный пиджак и черную рубашку с круглым воротником, он рассеянно улыбался, очень походя при этом на Джорджа Джонсона.
— Добро пожаловать на Танзис, — начал он. — Мы находимся на бульваре Пеланк. Сейчас конец лета, кончается долгая ежегодная засуха, которая охватывает всю страну и превращает почву в красную пыль, падающую на город и придающую ему приятный ржавый оттенок. Меня зовут Мэтью Брэди, я корреспондент в танзианском представительстве синдиката Скриппса. Такая уж у меня работа — наблюдать за людьми. Тут полно туристов, и я все время занят. Я изучаю их, или разговариваю с людьми, которые их изучают, а потом описываю все это. И все политические события, разумеется, плюс новости спорта, и особенно сплетни, по крайней мере, все, что я могу пересказать без опасности для жизни. Люди там, дома, просто умирают от желания услышать, что делается в колониях. Во всяком случае, так мне внушают в моей конторе. — Брэди глотнул из своего бокала. — Я живу тут уже с последнего года войны. Но об этом мы говорить не будем. Почему бы тебе не присесть? Я закажу тебе что-нибудь этакое, что разгонит кровь. Впервые здесь?
— Да, — заколебался я.
— Что-нибудь не так?
— Э, считается, что я должен разговаривать с вами в этой штуке?
— Почему бы нет? Ведь я же разговариваю с тобой!
— Это верно.
— Позволь мне дать тебе кое-какой совет. Раз уж ты тут, просто примирись с этим. Не пытайся бороться с Танзисом, потому что Танзис всегда побеждает. Такое место ни с того ни с сего не назовут Городом Пропащих Душ.
— Что значит — пропащих?
— Я постараюсь объяснить, — сказал Брэди. — Но, может, тебе лучше бы попробовать взглянуть на вещи с моей стороны. Так у тебя будет более ясное представление.
— С вашей стороны?
— Да. Побудь мной на какое-то время. Вот, я покажу тебе. — И я сразу почувствовал, как меня притягивает к нему, как я поворачиваюсь, и вот, это уже я сижу за столом — совсем один. И я покачиваю в ладони свою выпивку, потому что решил, что она — мой друг. Выпивка иногда бывает хорошим другом. Этот друг был янтарно-зеленым и отдавал анисом, и забавно тек по пищеводу. Да, очень забавный друг. Я был приятно пьян и, глядя через бульвар, увидел, что кто-то очень целеустремленно продвигается ко мне. Это был высокий, очень серьезный молодой человек, рыжеволосый, в очках. Кроме Джейкоба Коэна больше никто не носил очков. А он носил, чтобы показать, что он знает, что такое очки, и еще — что перетрудил глаза на работе.
— Привет, Мэтт, — сказал он. — Ты неплохо устроился.
— Тут у них удобные стулья, — ответил я. — И все приходят, чтобы проверить, так ли это. — Я выдвинул ногой еще один стул. Приземляйся.
— Не знаю, Мэтт. Я, кажется, с некоторых пор вообще не могу сидеть спокойно.
Но тем не менее он сел и начал нервно грызть кожицу на безымянном пальце. Я отвел его руку ото рта.
— Не делай этого.
— Не могу удержаться.
— Все равно, не делай. Расскажи мне, как продвигается книга.
— Паршиво, Мэтт. Я и продумать ее до сих пор не смог.
— Все наладится само собой, — сказал я философски.
— Надеюсь, — ответил он без энтузиазма. Потом, — послушай, а что ты знаешь о Бесплодных землях?
— Никогда не бывал там, если ты это имеешь в виду.
— Ну, а я собираюсь туда. Как насчет того, чтобы поехать со мной?
— Зачем?
— Тут чертовски жарко. Не понимаю, как людям удается улаживать свои дела в этом городе. Как они вообще ухитрились его построить?
— Может, они дожидались перемены погоды, — предположил я.
— Ну, а я больше дожидаться не могу. Я хочу взять гелиплан и отправиться к югу. Если бы ты поехал со мной, я бы оплатил часть твоих расходов.
— Не-а, — ответил я. — я пропущу свое любимое время года.
— Там же джунгли, — словно не слыша моего отказа, продолжал уговаривать он. — Там человек знает, чему он противостоит. Ему отлично известно, что он должен делать и что случится, если он этого не сделает. Там нет неопределенности. Там никто не ожидает от тебя, что ты станешь делать то, чего тебе не хочется. И никаких сцен.
— Ты прав. Когда древесный шакал прыгает сверху тебе на спину, он не устраивает никаких сцен. Просто отрывает голову.
— Лучше бы мне и впрямь оторвали голову, — мрачно сказал Коэн, — чем терпеть то, что творится со мной каждую ночь. Я не могу спать, Мэтт. Я не могу спать, я не могу сидеть спокойно… я….
Дверной колокольчик заставил меня вздрогнуть. Читник выскользнул у меня из ладони и закрылся. Трудно было поверить, что я лежу на постели, хоть гул транспорта на бульваре все еще стоял у меня в ушах. В каюте было темно, и я увидел чей-то силуэт на фоне дверного проема. Кто-то стоял, расставив ноги, словно сам себя подбадривал. Однако это у него не очень хорошо выходило. Он качнулся и сделал два неверных шага в мою сторону.
— Вот ты где, — сказал он. — Стюард, мать его, сказал, палуба Д.
Это был Джордж Джонсон. Я сел. Пузырь со льдом соскользнул со лба и свалился мне на живот. Джонсон подошел и тяжело уселся в кресло рядом с кроватью. На лице его появилась усмешка. Он потянулся через мою постель и поднял читник.
— Что ты читаешь?
— Поглядите сами.
Он отворил читник, на секунду лицо Джонсона застыло, затем он резко захлопнул устройство.
— Ох, — содрогнувшись, сказал он. — Боже правый, до чего больно.
— Что вы имеете в виду — «до чего больно»?
— Не слишком-то удачная мысль читать свои же собственные вещи, малыш. Это не идет на пользу. От этого только становится чертовски паршиво. — Он опять нахмурился. — Откуда ты это взял?
— Кто-то прислал ее Одри Пеннибэйкер. Она не захотела взять книгу, поэтому отдала мне.
— Она хочет отдать тебе и еще кое-что, — сказал он, сбрасывая читник на пол.
— Полагаю, мне нужно попытаться ударить вас за такие слова. Но я еще не пришел в себя после того раза.
— Прости, малыш. Ты прав. — Он неуверенно поднялся. — Я задолжал тебе. Вот. Давай, вмажь мне.
Я заколебался. С тех пор, как мы встретились, он делал все, чтобы вызывать во мне неприязнь. Но опять же, я никогда не был бойцом.
— Давай, ублюдок, уложи меня!
— Джордж, — сказал я. — Я не собираюсь бить вас. Почему бы вам просто не присесть и не поговорить со мной?
Он заморгал и сел с неожиданно покорным и сконфуженным видом.
— О чем ты хочешь со мной поговорить?
— Почему вы так рассердились на графа?
Джонсон заворчал:
— О Господи, лучше бы ты мне просто врезал!
— Расскажите.
С миг он жевал свою бороду.
— Ладно, — сказал он. — Эта книга — единственное, что я написал в своей жизни. Она принесла мне состояние. Это было как удар. Сенсация, мать ее. Какое-то время ее читали все подряд. Парни одевались в черное, как Мэтт. А девчонки носили косую стрижку как Чейз Кендалл. Ты уже добрался до нее?
— Нет еще.
— Поймешь, что я имею в виду. Но эта книга довела власти на Танзисе до белого каления. Чертовы ублюдки закрыли мне визу. Мне пришлось убираться к дьяволу и какое-то время жить на Земле. Я подумал, какого черта, я поживу в Миннесоте и опять начну работать. Но там у меня не пошло. Ну и ладно. Я просто отправился в другое место и опять попытался писать. Ничего. Тут уж я начал психовать, но поделать все равно ничего не мог. Где бы я ни жил, как бы ни старался — неважно, — я все равно не смог начать другую книгу.
Потом, несколько лет спустя, я понял, что это — Танзис. Танзис был настоящим моим домом, малыш, единственным местом, где я мог работать. Я попытался вернуться, но они отказали мне в визе. Сказали мне, что моя книга — вражеская пропаганда. Что она работает на врага.
Ну, их за это нельзя обвинять. Когда пришли эти жуки, они вообще не стали сражаться сами. Просто обрабатывали людей, и те начинали драться друг с другом. А при таком раскладе не имело значения — кто победит. Все равно, и так и эдак погибали танзианцы. Ну так вот, власти повернули дело так, будто меня тоже обработали, и что я написал свой роман по заказу Сети. Они устроили охоту на ведьм, и попался я — но все это было для того, чтобы отвлечь внимание от их правительства, которое действительно погано вело себя по отношению к тем людям, которых эти клопы и в самом деле обработали. Такое вот дерьмо. Давно это было, малыш, а я до сих пор терплю все, что мне достается. Но этому паршивому графу сегодня вечером я спускать не собирался.
— А почему они разрешили вам вернуться теперь?
— Кто знает? Может, они полагают, что смогут делать на мне деньги. Поставят меня в нишу в музее Рула…
— И что же вы собираетесь делать по возвращении? — спросил я. — Попробуете опять писать?
Джонсон медленно поднялся.
— Сейчас я собираюсь отправиться спать. — Он поглядел на читник, валяющийся на полу. — Так тебе нравится?
— Конечно.
— Ну и черт с тобой, — невнятно сказал он.
Дверь отворилась, и он вывалился в коридор. Чуть позже я наконец заснул.
5
На следующее утро пришел стюард с запиской от графа Лэттри. Не встречусь ли я с ним через час в комнате для игр в Пассаже? Я нацарапал ответ в блокноте стюарда, что приду, и отправился в гимнастический зал немного поразмяться. Я неплохо пробежался и сделал несколько упражнений на кольцах и на высоком брусе, но шея и правая сторона лица все еще побаливали после удара Джонсона, поэтому я бросил занятия, принял горячий душ, побрился и отправился через Торговый ряд, чтобы встретиться с графом.
Он ожидал меня, взгромоздившись на высокий табурет у стенной панели, упершись каблуками в верхнюю перекладину табурета. Когда я появился, он слез и торжественно пожал мне руку.
— Благодарю за то, чдо вы пришли, — сказал он.
— Не за что, граф.
— Я подумал, может, вы не захотите со мной встречаться после неприядного инцидента вчера вечером. Надеюсь, с вами все в порядке?
— В общем, да.
Граф кивнул.
— Разумеется, я навел справки. Но все же я рад видеть, чдо вы на ногах, хоть и двигаетесь чудь-чудь с трудом. Хорошо. — Граф отошел к стойке, где во льду стояла бутылка, ее горлышко было обернуто салфеткой. — Я позволил себе заказать вино. Вам нравится шампанское?
— Не думаю, что я его раньше пил, граф.
— Это хорошее вино, — сказал он, наполняя для меня узкий бокал. Вино было бледно-желтым, вверх поднималось множество пузырьков. — Так приядно выпить бокал вина во время игры.
Я попробовал. Он был прав. Вино действительно было приятным. Граф расположил шары на столе треугольником.
— Вы в биллиард играете?
— Давно не играл, — сказал я, — но правила, кажется, помню.
— Хорошо, — сказал граф. — Раз вы не играли, не позволиде ли вы дать вам гандикап, скажем, в пятнадцати шаров?
— Разумеется, граф, — сказал я.
Мы бросили жребий; начинать выпало мне, но я сразу гке промазал. Потом принялся за работу граф — он быстро двигался вокруг стола, укладывая в лузы один шар за другим. Наконец, мы прервались, чтобы выпить вина.
— Пудешествие. Вам тут все еще нравится?
— Большей частью, — ответил я.
Граф состроил гримасу, показав оранжевые зубы. Он послал шар в боковую лузу и промахнулся. Нарочно, подумал я. Я прицелился, чтобы сделать свой первый удар и послал три шара в угловую лузу.
— Мои поздравления, — сказал граф. — Не друдно бь<ло расставаться с домом?
— Ну, у меня был небольшой выбор.
Я промахнулся, и граф вновь подошел к столу.
— Действительно, в буквальном смысле вы — беглый преступник. — сказал он. — Однако, учитывая обстоядельства, полагаю, вам будет недрудно получить на Танзисе полидическое убежище. Если бы вы пожелали, я сделал бы все возможное, чтобы ускорить прохождение ваших докумендов по различным инстанциям.
Я не ответил. Он медленно прицелился, и несколько шаров тяжело упали в боковую лузу.
— Что-то не так?
— Не думайте, что я не благодарен вам за ваше предложение, граф. Но почему вы его делаете?
— Я полагаю, что пострадавшие от Сети, должны держаться вместе.
— А почему вы думаете, что я от нее пострадал?
Граф лишь улыбнулся, когда шары ударились друг о друга. Теперь он посылал каждый по очереди, пока не остался один лишь шар девятый. Граф тщательно нацелил удар, но в этот миг «Стелла» резко накренилась влево, два шара откатились и замерли у борта. Граф ждал, пока корабль постепенно не выпрямится.
— Что случилось? — встревоженно спросил я.
— Иногда корабль пересекает турбулентные потоки. Ну что, попробуем еще раз?
— Вы уже выигрывали, граф.
— Не имеед значения. — Он вновь расположил шары, зажег одну из своих коричневых сигарет и взглянул на меня. — Лак вы продивник Сети?
— Я не разбираюсь в политике. Но, наверное, им не стоит вторгаться в иные миры.
— Вы меня не дак поняли. Я говорю не о войне. Вы продивник Сети, как даковой? Самих Летунов?
— Ну, я отношусь к ним с уважением. Они разумны, способны, сильны. У них есть все те качества, которые, как мы считаем, есть у нас.
— И как вы полагаете, они относятся к нам, с дем же уважением?
— Не уверен.
— Но ведь вы жили с ними.
— Да. И с несколькими был очень близок, но я никогда не знал точно, уважает ли меня кто-то из них, или нет. Они и вправду высокомерны. Я думаю, для них существуют только они сами. Я хочу сказать — они все связаны между собой, и думаю, что им просто хватает этого.
— Вы были близки к дому художнику, — сказал граф, наклоняя кий. — Благодаря ему, вы ощущали себя частью Сети?
— Иногда. — ответил я. Я чувствовал себя неловко — это походило на допрос.
— А вы когда-нибудь ощущали контакт с Сетью, когда находились в одиночестве? Без вашего прежнего клиента?
— Да, вчера почувствовал, — сказал я.
— Индересно, — заметил граф, затянувшись. — Вы можеде описать свои ощущения?
— Это продолжалось лишь секунду-другую. Я гулял с Одри Пеннибэйкер в оранжерее. Думаю, поле корабля прошло сквозь меня, и это была реакция. Я почувствовал, словно Сеть узнала меня, словно я был связан со всеми как там, на Дереве. Ты входишь в Сеть и говоришь — привет, я тут, и она отвечает — да, мы знаем, что ты тут, и включает в себя.
— Это было слабое ощущение? Сильное?
— Сильное. Но, как я уже сказал, оно длилось лишь миг, а потом — словно отрезало. Может быть, я просто отреагировал так на поле и это была всего-навсего вспышка воспоминаний.
— Полагаю, вы не думаете, что на борту эдого корабля есть летуны?
— Граф, к чему все эти вопросы?
— Просдиде меня, — сказал граф с гримасой, обнажившей желтые зубы. — Но мы некоторым образом… обеспокоены вашим присудствием на борту.
— Обеспокоены? Почему?
— Как вы и сами признали, вы были очень близки с ними. Дак что, возможно, вы находитесь под их влиянием. А вчера вечером мистер Джонсон, который, как отлично известно, сочувствует Сети, посетил вашу каюту.
— Вы что, следите за мной? — Я был ошеломлен.
— Я обязан знать, что происходит на борту корабля.
— Ну, так может, вы знаете, что он приходил извиниться за то, что меня ударил, — сердито сказал я. И вы должны знать, что он вовсе не сочувствует Сети. Он ненавидит летунов.
Лэттри сказал:
— У нас на Танзисе в таких случаях говорят, что он чудь-чудь перегибает палку.
— Но для того, кто читал его книгу, это же очевидно.
Теперь, в свою очередь, удивился граф:
— Вы читали его книгу?
— Сейчас читаю.
Голос Лэттри стал холодным.
— Могу спросить, где вы раздобыли этот экземпляр?
— Нет, не можете.
Граф медленно расположил шары заново. Натер кий мелом и короткими ударами начал укладывать шары, пока стол не опустел. Закончив, он налил себе еще один бокал шампанского, медленно выпил его и вновь наполнил бокал.
— Вы абсолютно правы, что не хотите говорить. Прошу прощения. Но разрешите мне дать вам кое-какой совет. Не пыдайтесь пронести книгу через таможню. Вас арестуют. Эта книга на Танзисе запрещена. Я не смогу вам помочь.
— Мы пока что не на Танзисе, — заметил я.
— Совершенно верно.
— Почему эта книга запрещена, граф?
— Герой романа — человек, которого взяла в плен и переориентировала Сеть. Его заставили сражаться против законного правительства. Такое бывало и на самом деле. Многие армейские подразделения правительства начинали сражаться друг с другом. А после окончания войны, можете себе представить, как больно было для тех, кто пострадал от этой напасти, понять, что они подняли оружие против своих же братьев и сестер. Еще хуже то, что никому нельзя было доверять. К счастью, наше правительство предпочло гарантировать амнистию каждому, кто согласен был сдаться и пройти обработку.
— Какую обработку?
— Своего рода стимуляцию мозга, как в психологическом, так и в религиозном аспекте. Она очищает мысли.
— Похоже на промывание мозгов с примесью изгнания бесов, — заметил я.
— Как эдо ни называть, человек, обработанный таким образом, больше никогда не сможет попасть под влияние Сети. А в эдом романе герой сопротивляется обработке. Он все еще страдает от воздействия Сети, но скрывает свои мучения и от остальных, и от себя самого. Он гордится тем, что делает. Читатель сочувствует его положению. Эдо уже достаточная причина, чтобы запретить книгу.
— Но я пока что прочел лишь о том, как герой пытается выяснить, что же на самом деле произошло на потерпевшем крушение корабле.
— Эдот роман — провокация Сети, — невыразительно повторил граф. — Мистер Джонсон находился под контролем Сети во время войны. Он не покорился обработке. Вполне возможно, он попытается устроить саботаж, чтобы уничтожить корабль и сорвать мирные переговоры. Ему нельзя доверять ни при каких обстоятельствах!
— Если ему нельзя доверять, почему же ваше правительство опять открыло ему визу?
— Я был против. Но я прошу вас, как человека, испытавшего всю мощь летунов на себе, представить, что произойдет с вами, если вы окажетесь в этой книге. Вы думаете, это так, развлечение, но, читая ее, вы позволяете Сети взращивать страх и сомнение в вашем мозгу, открытом для влияния благодаря прекрасным описаниям города и силы любви героя к той девушке. Для нас это несомненно. Эта книга — яд. Я советую вам уничтожить ее!
Книга вовсе не казалась мне отравленной, но, опять же, я не был танзианцем. Может, она и вправду была ядом. Но не думаю, что запрещение любых новых идей, пусть даже вредных, — удачное средство защиты от них.
— Граф, — сказал я, — может, оставим в покое книги и политику?
Он поклонился.
— Я уже сказал все, что хотел. Вы — колонист. А Министерство Колоний полагает, что цена свободы — это изгнание с родины. Вот становится ли человек действительно свободным в изгнании — это уже другой вопрос. Возможно, как раз об эдом следует узнать у мистера Джонсона.
Он плеснул остатки вина из бутылки в свой бокал. Мне он больше не предложил. Он видел, что я едва пригубил свой. Он спросил, хочу ли я сыграть еще раз. Однако «Стелла» все время мягко покачивалась, и шары на столе меняли свое положение практически после каждого удара, так что в конце концов нам Пришлось сдаться. Я пожал ему руку, обещая подумать над всем, что он сказал мне. У него достало хороших манер ничего больше не говорить мне насчет «К востоку от Луны».
6
Я не хотел себе в этом признаваться, но, покинув графа и выйдя из биллиардной, я был встревожен. Может, Сеть и вправду способна контролировать человека так, что он даже не знает об этом. Я хочу сказать, я всегда таил в душе обиду на Генри, поскольку он пытался заставить меня делать то, что ему нужно, вознаграждая меня волной эмоций, которых я так жаждал. Но все это лежало на виду. А кто знает, что они могли в действительности с нами сделать? Может, они способны замкнуть себя в какой-то самой глубокой части нашего мозга, которую мы никогда и не используем сами? Или они могут делать такое лишь с танзианцами? В конце концов все жители Танзиса — естественные эмпаты. Может, они оказались просто более податливыми, чем мы?
Но ведь Джонсона тоже это беспокоило. Иначе — почему бы он так разозлился на графа? Я подумал, что, вероятно, что-нибудь в романе поможет мне лучше понять все, что происходит. Поэтому я решил еще раз вернуться к читнику и отправился к себе в каюту. Я открыл книгу, и вокруг меня вновь забурлил жизнью город. Я опять был с Брэди, в его любимом кафе на бульваре Пеланк.
— Значит, вот и ты, — сказал Брэди. — А я все гадал, вернешься ли.
— Джордж Джонсон сказал, что я должен добраться до той части, где говорится про девушку, — ответил я.
Брэди нахмурился.
— Малыш. Ты должен получше соображать. Тут тебе нельзя говорить о Джонсоне.
— Почему нет?
— Потому что я не хочу о нем слышать. Хочешь увидеться с девушкой — просто попроси, но не говори со мной о Джонсоне. Он не принадлежит этому миру, capisce?
— Простите, — сказал я обиженно.
Он улыбнулся:
— Не расстраивайся, малыш. Ну, так на чем мы остановились?
— Девушка, — сказал я.
— Ладно. Девушка. — Он загасил свою сигарету и откинулся в кресле. — Я встретил ее после того, как спер дневник из конторы Гарви Дента. Гарви был таким недотепой, мать его. Я знал, что компания, в которой он служил, больше ему не доверяет. Ну вот, я украл этот дневник и сделал копию, а потом проник в контору Гарви и подложил копию обратно. А оригинал оставил у себя.
После этого я провернул небольшую проверку. Там, в списке пассажиров, была одна девочка тринадцати лет. Ее звали Бетт Кендалл. Я проверил еще кое-что и выяснил, что тут на Монт живет некая Чейз Кендалл. Я взял дневник и отправился к ней.
Начало темнеть. На обеих сторонах улицы, под кронами пыльных деревьев зажглись цепочки огней.
— Послушай, — сказал Брэди. — Мне трудно пересказывать все это. Как насчет того, чтобы прогуляться в одиночку?
— Ладно.
Стоило лишь мне согласиться, как улица пропала. И я оказался у подножия горы Монт. На самом деле это был утес, обрывающийся к востоку от города, и весь город был с него хорошо виден. Известняковые глыбы все были изрыты жилищами, еще со средних веков и до сих пор там обитали бедняки, у которых хватало силы и ловкости, чтобы карабкаться по подвесным лестницам, которые построил город в конце прошлого столетия, когда у власти была Партия Прогрессистов. Теперь цепи проржавели, лестницы порой обрывались. Нынешнему правительству, провозгласившему девиз: «Работа, свобода и семья», не было никакого дела до починки лестницы в бедном квартале. Ничего нет нового под небесами. Где бы не появлялось правительство, размахивающее именно этим лозунгом, оно урезает рабочие места, пытается ограничить вашу свободу, а единственные семьи, которые процветают при нем, — это семьи тех, кто находится у власти.
Сам-то я проехал в фуникулере от платформы у набережной, выбрался и побрел по узкой улочке, которая все время петляла По склону, и, наконец, нашел тот адрес, что был мне нужен. Чейз Кендалл жила в студии на самом верху шестиэтажного Дома без лифта. Я был очень разгорячен ходьбой, на полдороге остановился и высунул голову из полукруглого окна на лестничной площадке, надеясь на свежий ветерок. Но ветра не было.
Только тускло-бронзовый, мерцающий воздух отражался от крытых жестью крыш внизу. Я вытер лицо носовым платком, поднялся на самый верх и нажал на кнопку звонка.
— Да? — раздалось из-за двери.
— Мисс Кендалл?
Спустя миг:
— Да, верно.
— У вас была сестра по имени Бетт?
Молчание.
— Меня зовут Брэди, мисс Кендалл. Я репортер. Я тут набрел кое на что, возможно, принадлежащее ей. Дневник. Я надеялся, вы взглянете на него и скажете, подлинный он или нет.
Минул долгий миг ожидания прежде, чем дверь распахнулась. Внутри было темно и прохладно. Лишь секунду спустя я разглядел обстановку комнаты: окна, занавешенные тяжелыми шторами, камин, рядом с которым стояли шезлонг и пара кресел, крутые ступеньки ведущие на чердак.
— Пожалуйста, поднимитесь наверх, — раздался мягкий голос, сумрачный и прохладный, как и сама комната.
Я взобрался по ступенькам. Там, наверху, горели свечи, единственная лампочка, свисающая с потолочной балки, бросала узкий пучок света на пустой мольберт, и там стояла Чейз Кендалл, одетая в серую шелковую пижаму с отложным воротничком и голубыми металлическими пуговицами. Ее серебристые волосы были зачесаны на одну сторону и подрезаны углом, спускаясь от затылка к линии челюсти. Они были гладкими. Гладкими как металл и того же металлического оттенка.
— Пожалуйста, станьте к свету, мистер Брэди.
Я отступил на шаг и позволил ей себя разглядеть. Она держала что-то в правой руке. Небольшой крупнокалиберный пистолет. Тот, который танзианцы предпочитают для самообороны, и курок был взведен. Миг спустя она поставила его на предохранитель и опустила в карман своей туники.
— Я живу одна, — сказала она. — Сами знаете, как онс бывает.
— Конечно. Я и сам держу свору волкодавов.
Она улыбнулась.
— Чаю хотите?
— Благодарю.
Чейз пододвинула кресло. Я сел, наблюдая, как она бросает лед в стакан и наливает из кувшина холодный чай. Она протянула мне стакан и опустилась на табурет.
— Вы с Бетт были близки? — спросил я.
Она пожала плечами.
— Бетт была моей младшей сестрой. Родители отправляли ее сюда каждое лето.
— Зачем?
— Они говорили, что это обогатит ее опыт, мистер Брэди.
— И как же вы обогащали ее опыт?
Она зажгла коричневую танзианскую сигарету.
— Я рисовала. Ночами, когда становилось прохладней, я брала ее погулять по городу. Иногда мы отправлялись южнее, на побережье. У меня коттедж в Налли.
— У вас есть ее фотографии?
Какой-то момент она раздумывала. Потом поднялась и включила еще одну лампу. Луч света упал на портрет девочки. У нее были каштановые волосы, а лицо круглее, чем у Чейз, но серьезное, холодное выражение глаз было таким же.
— Она очень хорошенькая.
Чейз выключила свет и опять села.
— Отчего же вы не показываете то, что принесли?
Я вынул дневник из кармана и протянул ей. Она провела пальцем по красной блестящей обложке. Потом открыла, перевернула страницу, другую… Я не мог определить, что она чувствует. Видел лишь, как ее холодный взгляд скользит по страницам журнала, и что-то во мне перевернулось. Существует ли какой-то определенный момент, когда вы влюбляетесь? Не знаю. Может, это случилось, когда она подняла глаза от распахнутой книжки.
— Почерк вроде ее. Но я думаю, что люди говорят иначе, чем пишут. Может, почитаете немножко вслух?
Она передала мне книгу.
— Ладно, — и я начал читать. — «Сегодня убили капитана Харрис». — Тут я остановился и поглядел на нее, чтобы понять, как она это воспримет.
— Пожалуйста, продолжайте.
— «Нас всю ночь так трясло, что никто не мог уснуть. Пассажиры просто бродят повсюду, пьяные, накачанные наркотиками, перепуганные. Многие все еще разодеты в костюмы для Марди Гра. Иногда можно увидеть, как целые компании бегут куда-то, сломя голову. Я слышала от Пауля, помощника стюарда, что все магазины взломаны и разграблены. Он сказал мне, что я должна оставаться в своей каюте, пока все не утихнет, но с системой очистки воздуха происходит что-то не то, я начала задыхаться и вышла.
Я спустилась к прогулочной палубе. Там все время раздается ужасный шум. Корабль трещит, скрежещет и разваливается. Внизу на палубе была большая суматоха. Пассажиры ринулись в главный салон. Я спросила кого-то, что происходит, и мне ответили, что они собираются судить капитана Харрис за то, что она отказывается развернуть корабль, так, чтобы он смог выбраться из шторма. Я отправилась за остальными в главный салон. Там было полно народу, я протиснулась и встала у одного из задних столиков. Капитана Харрис посадили в кресло. Она выглядела зеленой и больной. А люди все выкрикивали всякие вопросы. Почему турбулентные потоки такие сильные? Почему она не отослала назад во времени цилиндр, чтобы предупредить саму себя? Иногда она пыталась отвечать, но тогда они начинали орать на нее. Это было ужасно!
Потом, внезапно, корабль сильно дернулся и все попадали, и пока они еще не пришли в себя после падения, капитан медленно встала. У нее на лице было такое ужасное выражение… Они сняли с нее фуражку, и волосы свободно падали ей на плечи. Из них до сих пор торчало несколько шпилек. Она начала говорить. Она сказала: «Вы — причина этой бури. Возвращайтесь в свои каюты, все вы! Это ваш страх разрушает и поле и корабль. Если вы все просто ляжете, и примете снотворные таблетки, и уснете, то, когда вы проснетесь, буря будет позади!»
И, как только она это сказала, я увидела, как что-то белое полетело к ней из толпы. Это была чашка, и она ударилась о висок, и разбилась, и капитан просто упала — очень быстро. После этого все, крича, ринулись туда, где она лежала. Началась суматоха, меня оттолкнули от стола, за который я держалась, и протащили вперед, к тому месту. Я не хотела туда идти, но ничего не могла сделать. Потом я задела за что-то ногой и поглядела вниз — это была фуражка, а за ленточку зацепилась заколка…»
Я прекратил читать.
— Вот она, эта заколка, она приколота к странице, — сказал я и протянул дневник, чтобы показать ей. Окна чуть дребезжали в рамах, пламя свеч заколебалось, и тени, пересекающие комнату, дрогнули. Края тяжелых занавесок зашевелились, подметая пол.
— Погода меняется, — сказала она.
Я почувствовал озноб. Всегда ощущал его перед бурей. Ветер и запахи, носившиеся в воздухе вызывали странное чувство — словно я о чем-то забыл, а теперь должен был вспомнить. Должен был вспомнить, но на месте воспоминаний была одна лишь пустота. Что-то однажды случилось со мной после бури, но я никак не мог сообразить — что именно.
— Это Бетт, — сказала Чейз. Потом, миг спустя: — Я могу его взять?
— Конечно.
— Вам не обязательно уходить.
Но я все равно ушел. Я испугался той пустоты внутри себя. Боялся, что она проглотит все мои чувства к Чейз и не хотел, чтобы это произошло. Я сказал, что мне еще нужно отправить кое-какую почту, вышел из дому и спустился до остановки фуникулера. Оператор уже ушел домой, но можно было запустить машину монеткой. У меня были лишь бумажные деньги, а разменный автомат оказался неисправен, поэтому мне пришлось спускаться к реке по старой тропе, мимо пещер. В нескольких горели костры, а один или два раза я увидел, как за мной следят глаза голодных обитателей пещерных жилищ. Я знал, что они рассматривали меня как потенциальную жертву, но мне было все равно. Мне вообще было все равно. Я хотел, чтобы они вышли ко мне, и тогда бы я сделал так, чтобы и им было все равно. Может, они почувствовали, что так оно и будет. Во всяком случае, никто ко мне не вышел.
Затем, неподалеку от реки, где воздух был горячим и тяжелым, Мэтью Брэди вернулся. Он подошел ко мне, и я опять стал самим собой.
— Понимаешь, что со мной творится, малыш?
— Думаю, да, — ответил я неуверенно.
— Расскажи, — велел он.
— Ладно. Она очень красива. Вам хотелось бы полюбить ее. Только вы ничего не можете чувствовать, потому что внутри у вас все мертво.
— Не все мертво. Той части, что не умерла, от этого очень плохо.
— Мне очень жаль.
— Не жалей, малыш. Я просто предупреждаю тебя, что если ты собираешься продолжать, с тобой случится то же самое.
— Нет, не случится, — ответил я. — Это же только роман. Это не на самом деле.
— Нет? Ты думаешь, все это не на самом деле?
Внезапно земля у меня под ногами отчаянно затряслась, и мне пришлось схватиться за корень, торчащий из речного обрыва, чтобы не свалиться в воду. Я искал глазами Брэди, но он исчез, и река тоже. Я оказался в задымленном коридоре, приглушенные взрывы сотрясали палубу, а мимо проносились смутные силуэты в красных и черных одеждах. Я был испуган. Я отчаянно хотел оказаться дома, с мамой, и жуткое, тоскливое ощущение подсказывало мне, что я вот-вот умру.
Я очутился на «Утренней Славе».
— Ладно! — заорал я. — Прекрати!
Все прекратилось. Весь в поту, я все еще держался за корень на берегу.
— С тебя хватит реальности, малыш? Потому что именно с этим тебе придется иметь дело. — И Брэди пошел прочь.
— Эй, подождите минутку!
Но Брэди, казалось, растворился в облаке пыли, клубящейся над зеленой мутной водой. Потом и река, и все остальное вокруг меня расплылось, и я опять оказался в своей каюте, на койке, весь мокрый, с читником в руке.
«Стелла» подпрыгивала, точно автобус на очень ухабистой дороге.
7
Я сел. До меня доносился низкий гул, проникающий сквозь палубы и палубные переборки. Затем ударили склянки — мягко, трижды, потом еще три раза и в ногах моей койки появилось изображение капитана Признера.
«Всем пассажирам корабля. Прошу прощения за беспокойство. Однако в настоящее время мы проходим через турбулентный поток. Это иногда случается во время рейса и обычно продолжается не более часа-другого. Хочу заверить всех, что поле корабля находится в идеально устойчивом состоянии и что автоматические амортизаторы в скором времени сгладят качку. В настоящее время прошу вас не беспокоиться и продолжать отдых. Все корабельные службы работают и все развлекательные мероприятия, в том числе и празднество Марди Гра, пройдут, как и было намечено.
Все, у кого незначительная турбуленция вызывает неприятные ощущения или тошноту, пожалуйста, позвоните вашему стюарду. Он или она будут счастливы предложить вам на выбор несколько очень эффективных приспособлений. — Капитан улыбнулся и показал себе на запястье. — Я знаю, что они эффективны. Сам ношу браслет против давления по той же причине. Повторяю — беспокоиться не о чем. Благодарю за внимание».
Колокол звякнул вновь, а изображение капитана исчезло. «Стелла» продолжала раскачиваться.
Я вышел из каюты. Члены команды протягивали опорные канаты сквозь петли на переборках и в проходах салонов и кафе. Они двигались отработанно, используя паузы между толчками, и не казались чрезмерно обеспокоенными. Пассажиры тем временем медленно продвигались вдоль канатов, вцепившись в них так, словно находились на краю утеса. Я миновал ресторан, где люди пили из чашек и бокалов с широкими донышками. «Видимо, «Стелла» была хорошо оборудована на случай турбуленции», — подумал я. Мне не хотелось употреблять слово «шторм». Просто турбуленция, как и говорил капитан. Она иногда бывает — не всегда, но часто.
Однако на пути к лифту я наткнулся на пожилую женщину, которая держалась за канат. Она, казалось, задыхалась и глядела на меня испуганно и растерянно. Неожиданно колени у нее подкосились и она начала падать, но я подхватил ее под руку и помог выпрямиться.
— Ох, благодарю вас, — сказала она, — не знаю, что со мной творится.
— Хотите, помогу вам добраться до каюты? — предложил я.
Я думал, она рассыплется в благодарностях, но вместо этого ее глаза сузились.
— Зачем вам нужно в мою каюту? — резко спросила она.
— Ну, может, вы полежите немного…
— Нет, — сказала она, напрягшись.
— Но, мадам, вы неважно выглядите…
— Я сказала — нет! Помогите! Стюард, помогите мне!
Я отпрянул от нее. Она вопила, задрав голову, и я почувствовал, как на меня накатывает чудовищная паника, так что я едва-едва не заткнул ей рот руками, чтобы заставить ее замолчать. Может быть, я бы так и сделал, если бы не появился стюард.
— Что стряслось, мадам? — спросил он.
— Он пытался меня ограбить! — закричала она, ткнув в меня трясущимся пальцем.
— Что он взял, мадам?
— Да пока что ничего. Но он пытался!
Стюард взглянул на меня.
— Вы арестованы, сэр. Пожалуйста, оставайтесь здесь до моего возвращения.
— Что?
— Пожалуйста, сэр, — добавил он шепотом. Даме же он сказал: — Благодарю вас за помощь в поимке преступника, мадам. — И увел ее. Миг спустя он возвратился.
— Спасибо за то, что подыграли мне, сэр. Иногда бывает необходимо немного солгать людям, когда им не по себе.
— Такое часто случается?
— О да, сэр. Во время турбуленции уровень тревожности обычно повышен. Кстати, сэр, тут у меня для вас летающий цилиндрик.
Я ухватился за перила и отвернул крышечку. Записка, свернутая внутри, была написана на зернистой корабельной бумаге Судя по почерку, писали ее в спешке:
«Я пыталась заняться оральным (зачеркнуто) сексом с Джи-Ди на капитанском мостике. Мы попали в бурю, и я захотела заняться с ним любовью, но он остановил меня потому что знал, что это нехорошо, потому что…»
Я перечитал ее шесть раз.
— Это не розыгрыш? — спросил я стюарда.
— Конечно, нет, сэр, самая настоящая записка.
— Когда она была отправлена?
— Скорее всего завтра, сэр. Где-то около того. Проштемпелевана на капитанском мостике.
Прежде чем я успел спросить у него что-нибудь еще, «Стелла» резко содрогнулась. Можно было услышать, как в каютах бьется посуда. Потом корабль успокоился, осталась лишь легкая вибрация. Раздался тихий звук «бррр», и стюард достал переговорное устройство из-за пояса и поглядел на дисплей.
— Сэр, если у вас нет во мне срочной надобности, то я пойду — у меня куча вызовов на этой палубе.
— Не можете ли сказать, где сейчас Одри Пеннибэйкер?
— Конечно, сэр. — Он покрутил колесико переговорного устройства. — Да, вот она. Палуба G. Гостиная Тропикана. Я могу попросить стюарда палубы G связать ее с вами.
— Не нужно. Я сам ее отыщу.
Я спустился в лифте до палубы G и отыскал гостиную Тропикана. Зашел, не постучавшись. Одри сидела за столом со своим отцом и с кем-то еще из штата Возрождения.
— Джи-Ди! — удивленно воскликнула она.
— Могу я поговорить с тобой минутку?
— Мы тут как раз обсуждаем кое-что, — сказала она, взглянув на отца.
— Да поговори ты с мальчиком, — сказал преподобный Пеннибэйкер. — Похоже, он чем-то здорово обеспокоен.
— Я ненадолго, папа. — Она поднялась, взяла меня за руку, и мы вышли в коридор.
— Что случилось, Джи-Ди?
— Взгляни вот на это. — Я протянул ей записку. Одри прочла ее и густо покраснела.
— Может, вы объяснитесь прямо сейчас, мистер? — сказала она сердито.
— Это твой почерк?
Одри с напором сказала:
— Я никогда не писала этого. И я бы ни за что этого не сделала!
— Одри, это было послано с капитанского мостика завтра. Стюард говорит, ошибки нет.
Глаза Одри вспыхнули.
— Ты читал эту лживую книгу, да?
— Книга не имеет никакого отношения к этой записке.
— Я так и знала! С первого взгляда на тебя ясно, что ты Побывал в этой омерзительной книжонке. Ты и сейчас весь переполнен ею, разве нет? У тебя грязные мысли. Ну и думай о чем хочешь, только держись от меня подальше! Я больше не хочу с тобой разговаривать.
В этот момент появился преподобный Пеннибэйкер.
— Из-за чего скандал, а, дети?
Одри бросила на меня холодный высокомерный взгляд.
— Ты только погляди на эту записку, папа, — воскликнула она. И прежде чем я успел сказать хоть слово, протянула ее отцу. Преподобный Пеннибэйкер медленно прочел ее, потирая затылок. Я напрягся, ожидая, что он вот-вот бросится на меня и придушит, но вместо этого он взглянул на нее.
— Но ведь это твой почерк, дорогая.
— Папа!
— Разумеется, ты ничего подобного никогда не делала. Но я всегда говорил в своих проповедях, что все эти летающие цилиндры никогда не были частью Господнего промысла.
— Что! — воскликнула Одри. — Папа, он же обвиняет меня в чем-то ужасном! Ты только посмотри на зачеркнутые слова!
— Не написал же молодой человек эту записку сам, дочка. — Он поглядел на меня и странно улыбнулся. — Но я всегда чувствовал, что эти вести из будущего никому не идут на пользу. Человек не должен знать о своей судьбе — это противно природе. Такое знание меняет его. Он пробует изменить будущее, но своими действиями только заставляет свершиться как раз те события, которых он и пытался избежать. Древние греки очень хорошо понимали это.
— Я не хотел, чтобы эту записку видели вы, сэр, — сказал я.
— Ничего плохого не случилось. Ведь никто пока не сделал ничего неподобающего, не правда ли?
— Разумеется нет, папа!
— Ну тогда все в порядке! — С этими словами преподобный Пеннибэйкер скатал записку в шарик своими большими ладонями. Потом прошел в коридор и кинул шарик в мусоропровод.
— Ну вот, сынок, — сказал он, вернувшись. — Я снял с тебя твою ношу. А теперь давайте больше не вспоминать об этом. — Он отечески улыбнулся. — Еще что-нибудь?
— Нет, — ответил я, обиженно взглянув на Одри. — Думаю, нет.
— Ну и ладно. Нам еще нужно тут кое-что проработать, если вы не возражаете.
— Конечно. Простите, что прервал вас.
— Не беспокойся, сынок. Увидимся на Большом Балу.
Одри, так и не взглянув на меня, вошла в дверь, которую отец придержал для нее, и они вернулись в гостиную.
8
Я был расстроен и отправился разыскивать человека, который, как я полагал, единственный сможет растолковать мне, что произошло. Джорджа Джонсона. Я позвонил в дверь каюты и услышал звук отодвигаемого кресла, а потом — тяжелые шаги. Дверь отворилась. Джонсон был без рубашки — в одних лишь шортах и сандалиях. Длинные седые волосы свисали на глаза. Его широкая грудь тоже поросла седым волосом. Кожа была дряблой и старческой.
— Какого черта тебе тут нужно?
Я рассказал ему о цилиндрике и о том, что преподобный Пеннибэйкер сделал с запиской. Джонсон с минуту раздумывал.
— Оральный секс, а? Так как же ты собираешься убить время до завтра, малыш?
— Да я не об этом беспокоюсь, — сказал я сквозь зубы. — Думаю, мы попали в шторм.
— Ладно, не психуй. Заходи. — Он отодвинулся, и я вошел в комнату.
Ничего неопрятнее я до сих пор не видел. Весь пол был сплошь заставлен грязными тарелками, пустыми стаканами и бутылками. Одежда валялась повсюду. На столе тоже был навален какой-то хлам. В каюте стояла включенная записывающая аппаратура, а перед ней — черная антикварная пишущая машинка, ощетинившаяся воткнутыми в нее записками. За ней лицом к стене повернута видовая пластина с чьим-то портретом. В лучах света плясала густая пыль. Аккуратно выглядел лишь ряд пустых бутылок под умывальником. Джонсон наполнил чайник водой и поставил его на горелку. Тот сразу же закипел, и он Налил кипяток в чашку, на верхушке которой был укреплен конический фильтр.
— Хочешь кофе? Настоящий.
«Ох уж эти земляне с их «настоящим» кофе», — подумал я, вспомнив, как обожали кофе Ирен и Горди. Мне было немного больно думать о них, и я стал виновато гадать — не начались ли у них из-за меня неприятности?
— Нет, спасибо.
Джонсон подошел с дымящейся чашкой. Рядом с койкой стояло кресло, загроможденное бумагами, микрокнигами-справочниками, конвертами и почтовыми цилиндриками. Он отодвинул гантели, чтобы освободить немного места и сесть, но, когда он нагнулся, корабль накренился и кофе пролился Джонсону на голые колени.
— Ах, дерьмо! — заорал он, подбирая с пола какое-то нижнее белье, чтобы вытереться. Наконец, он закончил и уселся.
— Вас это не беспокоит? — спросил я.
— Что?
— Вся эта суматоха на корабле?
Джонсон отхлебнул кофе.
— Черт, ну и горячий же! — Он потряс головой, точно крупный лев. — Не заметил, малыш, и знаешь, почему? Я работал!
— Работали? Над чем? Над романом?
— Вот именно, черт побери, над романом! Я и сам не могу поверить. Проснулся сегодня утром и подумал об этом рыжем сукином сыне и сказал себе — вот теперь у меня есть злодей. Так что я запустил печатное устройство и будь я проклят, если не навалял целый эпизод. — Он обернулся и показал на ряд пустых бутылок под умывальником. — Погляди-ка! Я опустошил все в раковину. Теперь я на коне, малыш! Я напишу такую книгу, что все с катушек съедут! И никто больше не скажет, что я исписался!
— Это здорово, — ответил я. — Ив самом деле здорово. Но как насчет этой записки? Мы и вправду попали в шторм?
— Черт, да я не знаю. Шторм — забавная штука. Тут действует куча факторов. Ты видел когда-нибудь фильм про мост в штате Вашингтон?
— Нет. — Я даже не знал, где находится этот самый штат Вашингтон.
— Пару столетий назад построили подвесной мост через расселину Такома. Этакую новомодную облегченную конструкцию. А для того, чтобы укрепить поверхность моста, под его края подвели Н-образные блоки. На чертежной доске все это смотрелось отлично, но конструкторы не учли аэродинамическое воздействие ветра, который дул со дна ущелья. Однажды он начал дуть под прямым углом к плоскости моста, тот стал раскачиваться и по случайности частота так совпала с колебаниями тросов и креплений, что качка делалась все сильней. Мост изгибался и скручивался, словно резиновый, и наконец просто рухнул в реку. Занятная штука. Его отстроили заново, сделали в боковых блоках прорези, и все наладилось.
С нашим кораблем то же самое. Со времени «Утренней Славы» многое изменилось. Обшивку укрепили. И добавили несколько приспособлений, которые можно применить, если пассажиры рехнутся. Теперь у них если газ. Если дела пойдут худо, они просто повырубают всех. Поле стабилизируется, мы перевалим через критическую точку и проснемся уже на Танзисе. — Он встал и вывалил кофейную гущу в умывальник. — Так чего же ты от меня хочешь, малыш? Может, хочешь подняться на мостик и сказать Майку, что тебе охота покомандовать в его кресле?
— Ох, заткнись!
— А знаешь, что я думаю? Лично я думаю, ты так суетишься, потому что втрескался в эту девчонку.
Я был ошарашен и хотел отрицать это, но не мог.
— Черт, да я не упрекаю тебя. Ты попал в самую гущу трагедии.
— Какой трагедии? — кисло спросил я.
— Той самой, малыш. Ты хочешь девушку и не можешь ее заполучить. Об этом я и писал в первой своей книге. Брэди нужна Чейз, но она не принадлежит ему. Не так, как он хочет. Отпадная тема для любого романа. Двое принадлежат друг другу, но не могут быть вместе. И чем непонятней причина, тем лучше. Почему бы Монтекки не ладить с Капулетти? Да черт его знает! Но все вечно так закручено, что и деться некуда. Людям такое нравится. Если все это случается не с ними лично, разумеется.
Джонсон потрепал меня по плечу.
— Не унывай, малыш! Любовь всегда удается чем-нибудь, Да изгадить. И это неплохо, а то влюбленного вечно распирает энергия, мать его. Чересчур много внимания одному-единственному человеку. А нужно использовать часть этой энергии для того, чтобы вскарабкаться на какую-нибудь другую гору. На любую гору. Если не сделаешь этого, она тебя спалит дотла. А если ты попытаешься удержать ее внутри… Черт, тогда и поимеешь дело с самим собой.
— Большое спасибо.
— Не надо это так воспринимать. Вот проклятье, хотел бы я оказаться сейчас на твоем месте. Знаешь, когда мне было столько же лет, сколько тебе, я обычно присматривался к парням, в точности таким, как я сейчас. Толстые старые богатые пердуны, у которых всего и забот-то, что просиживать задницу и хвастаться былыми приключениями, да еще тем, сколько всякого дерьма они могут купить за свои деньги. Я поклялся себе, что никогда не стану похожим на них. Но тут ничего нельзя сделать. И знаешь, почему? Потому что все опускают руки. Как только что-то удается, опускают руки, потому что борьба изматывает. Ты начинаешь внимательно смотреть по сторонам, чтобы избежать ударов. Появляется нюх на неприятности, и, как только чуешь их, тут же убираешься куда подальше. Даже если неприятности тебе только на пользу. Как мне, например. Вот дерьмо, да у меня не было никаких неприятностей целые годы!
— Но ведь вы же скандалист, — сказал я. — Вы же вечно влезаете во всякие драки!
— Какая же это неприятность? Мне нравится драться. Неприятности — это то, чего ты не любишь. То, чего боишься Как раз это и вдохновляет меня, малыш. Я видел, как ты выскочил навстречу неприятности. Ты не раздумывал дважды. Вот я и вернулся к себе, чтобы как следует подумать. Я сказал себе «Джонсон, либо ты превратился в одну из этих старых богатых вонючек, и, в таком случае, ты должен оказать этому миру любезность и прострелить себе голову, либо в тебе осталось хоть что-то от этого мальчика». Эй! Давай-ка сюда.
И он приподнял кресло, стоявшее рядом с рабочей аппаратурой. Я подошел и уселся. Передо мной в воздухе розовыми и зелеными красками переливался экран. Я ткнул в него, и мой палец прошел насквозь.
— Ох, да ладно тебе. Не валяй дурака, точно кот перед зеркалом. Вот. Печатай. Эль. Е. О.
Я поглядел на три ряда клавиш, нашел «Л» и нажал. Лишь только я сделал это, из ящика выскочил рычажок и ударил по твердому резиновому валику, укрепленному сзади на движущейся каретке. Я нажал на «Е», потом на «О», и парящий передо мной экран окрасился глубоким винным цветом.
— А теперь нажми на пробел. Вот эта длинная штука внизу.
Я сделал это, и фигура на экране повернулась ко мне лицом.
— Это же преподобный Пеннибэйкер!
— Нет. Это — Лео Заброди. — Человек на экране был одет в длинную черную рясу и пыльные башмаки. Он был моложе преподобного Пеннибэйкера и немного стройнее, но это определенно был он, вплоть до морковно-рыжих волос.
— На Танзисе нужно получить лицензию, чтобы зарабатывать деньги, проповедуя на улицах. Лео — уличный проповедник. Причем, хороший. Я написал эпизод с ним и новым моим героем. Вот, напечатай «полиция» и опять нажми на пробел.
Когда я сделал это, то почувствовал, как поднимаюсь, съеживаюсь, разворачиваюсь, и, наконец, я очутился внутри экрана. А Джонсон глядел на меня сверху вниз: руки скрещены, на лице усмешка.
— Ну и как тебе нравится, малыш? — спросил он.
— Что вы со мной сделали?
— Что я мог с тобой сделать? Ты же сам сказал, что хочешь посмотреть, над чем я работаю.
— Сынок! Эй, сынок!
Я обернулся. Мы были на теннисном корте. Человек в аккуратном зеленом комбинезоне поливал плотно утрамбованную красную глину из шланга.
— Сынок! По-английски говоришь?
По посыпанной гравием дорожке ко мне приближался Заброди. Под мышкой он нес книгу, а плечи и ботинки у него были присыпаны красной пылью. Подойдя, он, казалось, заполнил собой все пространство. От него исходила уверенная, всеведущая сила. Так, словно он считает себя Богом, подумал я. Площадным Богом с рыжими развевающимися волосами.
— Болтаешься без дела, сынок?
— Что вы сказали?
— Я сказал — болтаешься тут без дела?
— Я сюда приехал лето провести, — ответил я. А сам подумал: «Джонсон теперь все сделал иначе. Он писал своего главного героя с меня».
— Просто в городе?
— Здесь и на побережье, — ответил я.
Я и в самом деле помнил, как ездил на побережье: океан пах здесь совсем иначе, чем в Гавани, — острее, мягче. В Гавани я никогда бы не вошел в воду. Я думал, она должна быть едкой. И что в ней живут всякие твари, которые слопают тебя в один миг. Но тут, в Налли, поплавать было здорово. Вода здесь теплая и чистая, а коттедж, принадлежащий хозяйке, у которой я гостил, крыльцом выходит на дюны. На столе всегда стояли свежие цветы, обеды были долгими, а в бокалах плескалось голубоватое вино из долины Коутса, лежащей за кромкой дальних холмов. И, конечно, Она.
«Она», — подумал я. Она все еще была там, на побережье, без меня. Мы поссорились. Она сказала, что рай не по мне, и, думаю, она была, в общем, права.
— Бродячая жизнь — одинокая жизнь, не так ли, сынок? — участливо спросил Лео Заброди, возвращая меня к действительности. — Похоже, тебе нужен кто-то, с кем ты смог бы поговорить.
— Не хочу я разговаривать.
— Это не бесплатный разговор, сынок, — сказал Заброди. — За такой разговор нужно платить.
— Платить? — рассмеялся я.
— Я обнаружил, что люди готовы платить за что-то действительно стоящее. А когда они и вправду платят, они тем самым полностью готовят себя к доброй вести, которую я им несу.
— Какие в этом городе могут быть добрые вести? — спросил я.
— Хочешь услышать? — Заброди склонился надо мной. — У меня есть кое-какая новость, которая могла бы заинтересован тебя, сынок. И ты можешь узнать ее всего за луи. За одну единственную медяшку.
— Что за новость? — спросил я.
Он все глядел на меня, и на миг я почувствовал, как тен счастья, напоминание о том, как я был с ней, заставила серди сжаться. И я знал, что это он сделал со мной такое.
— Ладно, — сказал я. — Выкладывайте.
— Один луи. Ведь это не много, верно, сынок? Знаешь ли, обычно я запрашиваю три. С тебя я беру с особой скидкой, как с бродяги.
— Ладно, — ответил я, убеждая себя, что даю ему деньги, чтобы он отвязался. На самом-то деле, я вновь хотел испытать то чувство любви. Может, теперь, раз я заплатил, он отпустит мне большую дозу? Я протянул ему монетку. Он потер ее пальцами, поглядел на свету и спрятал в карман своего облачения.
— Спасибо. А теперь, если ты закроешь глаза…
Я зажмурился. Но все же я мог видеть. Я смотрел в серо-зеленый простор. Это бы тот цвет, которым Генри пользовался в самом конце, цвет, который он называл «просторным». Он и вправду был просторным, и серо-зеленым, и насыщал, и ласкал, и успокаивал. Я почувствовал покалывание в основании шеи.
Потом в полную силу на меня обрушился контакт Сети. Я не был готов к нему, и у меня перехватило дыхание. Сеть навалилась на меня. Я чувствовал лишь примитивное, отчаянное-желание уцелеть. Так, словно Сеть была человеком, пытающимся удержаться на краю обрыва. «Они сконцентрировались на корабле, — подумал я. — Они пытаются успокоить пассажиров». Я открыл глаза.
— Почему им так важен этот корабль? — спросил я, но Заброди меня не слышал. Он глядел на что-то поверх моего плеча. Я обернулся и увидел Джонсона, который тоже глядел на меня, и я оторвался от экрана, развернулся и с силой опустился в кресло.
— Предполагается, что он смотрел на легавых, — сказал Джонсон. — Те как раз собирались арестовать Заброди за проповедь в парке, поскольку это не оговорено его лицензией.
— А причем тут Сеть? — спросил я.
Джонсон нахмурился.
— Ты о чем?
— Я заплатил Заброди, и он велел мне закрыть глаза, и, Когда я сделал это, уловил Сеть. Они сфокусировались на этом корабле. Они стараются, чтобы все сохраняли спокойствие. Почему?
— Ты мелкий сукин сын. Никакой Сети в этом эпизоде не было.
— А я говорю, была.
Джонсон сжал зубы.
— Послушай. Я показал тебе эту штуку, потому что думал, ты оценишь. Я тридцать лет не мог написать ничего подобного. А ты мне толкуешь про сраную Сеть. Ты наслушался этого ублюдка Лэттри. Ага, я знаю, что ты говорил с ним сегодня утром! Что он сказал? Что я мшу писать, только когда летуны за меня нажимают на клавиши?
— Говорю же вам…
— Нет. Это я тебе говорю. Выметайся отсюда.
— Пожалуйста, Джордж, послушайте меня! Я же не граф! Я уже три раза их чувствовал. Вы же знаете, что у меня повышенная чувствительность к летунам! Зачем бы мне лгать? Вы ведь репортер, верно? Разве вам не хотелось бы узнать, что происходит?
Джонсон уставился на меня нос к носу. Его дыхание отдавало тминным печеньем, которое он жевал все время, пока я был в каюте.
— Полегче, собака-поводырь. Я тебе не репортер вонючий. Я писатель! А теперь убирайся отсюда к чертовой матери!
— Послушайте…
— Вон!
Он толкнул меня. Дверь позади отворилась, каблуки мои скользнули по палубному настилу, и я вылетел в коридор.
— Иди ты в задницу! — прорычал он, и дверь захлопнулась.
9
Я был смущен и рассержен и какое-то время так и лежал на настиле в конце коридора.
— Сам иди в задницу! — проорал я в ответ закрытой двери.
— Сэр? Что-то не так? — Это был стюард. Он подошел сзади.
— Что вам нужно? — кисло спросил я.
— У меня для вас записка от мисс Пеннибэйкер. — Он протянул руку и помог мне подняться. — Она спрашивает, удобно ли вам присоединиться к ней сейчас в Пальмовом Дворике?
— Ладно. Я сейчас спущусь.
Я спустился на Прогулочную палубу. Она была переполнена пассажирами, одетыми в балахоны гильдий, сияющие шелка отливали алым, золотым и зеленым. Напрягшись в ожидании возможного контакта с Сетью, я прошел в садовую калитку, но никакого контакта не было, лишь странная, покалывающая вибрация, казалось, пронизывала насквозь, и меня слегка замутило. Озираясь в поисках Одри, я все гадал, как это могут люди находиться здесь и не чувствовать, как сквозь них просачивается поле. Может, только я один. Может, один лишь я не думал, что оно — как там сказала Одри? Ласкающее.
Наконец, я увидел ее. Она сидела на скамейке рядом с фонтаном. Одри помахала мне рукой, и я подошел.
— Спасибо за то, что пришел, — сказала она. — Я не знала, захочешь ли ты видеть меня.
— Все в порядке, — холодно ответил я.
— Ох, Джи-Ди. Прости меня.
— За что?
— За то, что я так на тебя рассердилась. Отдала записку папе. Может, мне не следовало это делать.
— Я думал, Пеннибэйкеры всегда делают то, что следует.
Одри опустила глаза.
— Что ж, полагаю, я заслужила это. Но ты должен знать, что после того, как ты ушел, я все думала о том, как папа даже бровью не повел. Джи-Ди! Я кое-что поняла. Он стал странным с тех пор, как мы покинули Гавань.
«Тебе-то откуда знать», — подумал я, а вслух спросил:
— Странным? Каким образом?
— Во-первых, он какой-то рассеянный. Говоришь с ним, а он словно где-то далеко. Перед тем, как ты вошел, мы пытались разослать остальные заявки и продумать нашу роль на параде Большого Бала. Он любит Марди Гра, Джи-Ди, но в этот раз он почти не обращал ни на что внимания. Я очень беспокоюсь. Может — его и впрямь обработали?
— Насчет обработки, — сказал я, — погляди на тех троих.
И я показал на столик, стоящий чуть в стороне. Вкруг него сидели трое, каждый уставился в читник. Они так погрузились в чтение, что лица у них были пустыми, даже глаза не мигали.
— Тут полно читающих, — заметил я.
Одри огляделась.
— Практически каждый, — сказала она.
— Извини Одри, я на минутку. Только посмотрю, что они читают.
Я направился к ближайшему столику, но далеко уйти не успел. «Стелла» внезапно содрогнулась, на секунду замерла, а потом, чудовищно накренившись, начала заваливаться на правый борт.
На миг все застыло. Затем поднялся шум. Он был похож на взрыв, но взрыв продолжительный, грохот, треск, которому эхом отозвалась вся мебель на корабле, каждый незакрепленный предмет, и все это — и пассажиры тоже — медленно повалилось в центральную полость корабля. Что-то случилось с гравитацией. Я ухватился за столешницу и понял, что легко могу удерживаться даже на одной руке. Оглянувшись, я увидел Одри, которая парила, опускаясь на первый уровень террас, выходящих на Пальмовый Дворик. Она брыкалась и пыталась подплыть по воздуху назад ко мне. Потом стол, за который я ухватился, отделился от палубы. Меня протащило, перевернуло, и, миг спустя, я уже парил над спинкой какого-то кресла, а мимо летел еще один стол, на котором все еще стояла чашка и тарелка с салатом. Я отлетел в сторону и ухватился за одну из больших пальм. Одри нигде не было видно. Я вскарабкался пс стволу до кроны, уцепился за листву и попытался успокоиться.
Люди орали и визжали. Водяная пыль водопада оседала у меня на Лице, волосах. «Стелла» дрожала, пытаясь выпрямиться, точно старая лошадь, которая упала и не может как следует подняться. Я был безумно напуган, а потом вновь почувствовал себя странно, и ощутил их. Сеть обрушилась на меня изо всех сил: меня обожгло болью.
До сих пор она никогда не делала мне больно, но сейчас вливалась в меня, точно расплавленный свинец в глотку. И я понял причину: страх. Сеть была напугана тем, что происходило на «Стелле». Я чувствовал, что здесь были летуны — испуганные, не желающие умирать. И Сеть старалась защитить их. Я чувствовал, как она концентрирует свои усилия и почти видел, что происходит дома, на Дереве: все движение остановилось, все дела отложены, никакого жужжания, никаких полетов. Все стягиваются и концентрируются на том, чтобы дотянуться до своих собратьев сквозь пустоту. И пока я прислушивался, то почувствовал, как успокаивающая волна захлестывает меня. Пассажиров они тоже старались успокоить.
Потом, чудовищным усилием, «Стелла» выпрямилась. Все, кто упал на левый борт и не зацепился за перила или за деревья, опять полетели через палубы. Сеть не удержала контакт. Он прервался и исчез, оставив после себя лишь ощущение страха. Дерево, за которое я держался, выгнулось назад, затем прокатился еще один долгий грохот крушения — точная копия первого, «Стелла» тяжело содрогнулась, и страх, который испытывали пассажиры, распространился вокруг. Он захлестнул всех. Вновь восстановилась гравитация, на палубу тяжело начали валиться вещи и пассажиры. Повсюду метались люди. С пальмы казалось, что яркие одежды движутся в каком-то странном танце. Потом глаза у меня заслезились, в ноздри ударил резкий запах, и я стал тяжелым и вялым. Вопли начали стихать. Я заморгал, огляделся и увидел капитана Признера. Он казался гигантом, возвышающимся в самом сердце корабля. Фуражка у него была огромная, точно крыша дома, и просвечивала.
Он начал говорить.
— Внимание: всем пассажирам корабля и команде. Мы только что получили серьезный крен на левый борт. Мы принимаем все меры, чтобы он не повторился. Однако из-за создавшихся на корабле определенных эмоциональных условий, я не могу гарантировать, что весь наш дальнейший путь будет свободен от турбулентных потоков. Поэтому я активировал газогенератор, связанный с системой жизнеобеспечения.
— Теперь вы вдыхаете успокаивающий газ. Он рассчитан на сперва постепенное, а затем — моментальное действие. Вначале он оказывает успокаивающее воздействие, которое вы и ощущаете в настоящую минуту. Спустя некоторое время за ним последует внезапная потеря сознания, которая будет продолжаться, пока газ закачивается в помещения корабля. Членам команды, получившим антидот, приказано применить его немедленно. И, наконец, следующие распоряжения корабельному персоналу:
— Доктору Дэвису и его штату явиться в ресторан «Ле Паризьен» на Прогулочной палубе. Доктору Крамеру и его штату явиться в кафе «Терраса» на уровне Пассажа. Обоим командам прибыть с достаточным запасом медикаментов и заняться оказанием первой помощи пострадавшим.
— Кладовщику, помощнику кладовщика и старшему стюарду расположиться на палубах А, С и Е соответственно. Каждый из вас получит в свое распоряжение вспомогательный штат для оказания медицинской помощи пассажирам на двух медицинских пунктах. Вам также необходимо провести опознание всех пассажиров согласно спискам и доложить мне обо всех пострадавших либо пропавших без вести. Главному инженеру и боцману явиться в «Гостиную Эдди» на пятой палубе и доложить о повреждениях в каютах и переходах.
— Всему обслуживающему персоналу и штату ресторанов явиться в главную столовую, палуба шесть, и поступить в распоряжение помощника главного стюарда.
— Пассажиры, не нуждающиеся в медицинской помощи, немедленно отправляйтесь в свои каюты. Если ваша каюта окажется непригодной для пребывания из-за полученных повреждений, прошу вас явиться в «Гостиную Эдди», палуба пять, где вам будет предоставлено временное жилье.
— Всем: единственная возможность пережить шторм — это сохранять спокойствие. Поле корабля реагирует на эмоциональное состояние пассажиров. Поэтому ваш долг — оставаться спокойными. Вы должны вернуться в каюты, лечь и постараться расслабиться. Газ поможет вам в этом.
Гигантское изображение капитана на миг смолкло. Он медленно поворачивал голову, словно оглядывал пассажиров и команду. Я ощутил озноб, а, когда он заговорил снова, его суровый и мощный голос заставил дрожать палубу под ногами.
— И наконец, — прогудел он, — до моего сведения дошло, что у значительного количества пассажиров имеется микрокнига «К востоку от Луны».
Он замолк. Люди внизу виновато переглядывались. Многие. Этих микрокниг вокруг было полно.
— Все пассажиры, у которых есть этот роман, обязаны немедленно сдать его своему стюарду. Все. Возвращайтесь к себе в каюты.
Изображение капитана застыло со сложенными руками, наблюдая со своей великанской высоты, как все зашевелились. Я медленно слез с дерева. Двигаться было трудно, так как газ отяжелил ноги, и еще потому, что корабль по-прежнему сильно качало. Все остальные вокруг тоже двигались медленно. Я оказался в толпе, которая сгрудилась на выходе с Прогулочной палубы, и начал озираться в поисках Одри.
Ее нигде не было видно.
10
— Приветик, малыш, — мягко сказал мне на ухо Мэтью Брэди, пока я брел наверх по главной лестнице вместе с остальными пассажирами. — Ну, и как ты прокатился на том дереве?
Я не ответил. Понимал, что вижу его под влиянием поля, или газа, или того и другого вместе, и мне было не до беседы с галлюцинацией.
— В чем дело, малыш? Ты дуешься на меня, или что?
— Тебя здесь не может быть, — сказал я. — У меня нет книги.
Брэди рассмеялся.
— Тебе больше не нужна книга. Я сегодня в широком эфире!
— Ну, тогда поговори с кем-нибудь другим!
— Ты все-таки дуешься!
— Вовсе нет.
— Разве мы плохо ладили? Разве я не помог тебе отлично провести время? И мы собирались влюбиться в ту девушку. Не хочешь снова ее повидать?
— Нет.
— Врешь.
— Иди в задницу.
— Эй, сам иди в задницу, — сказал, оглянувшись, идущий впереди меня пассажир.
Подошел сотрудник службы безопасности.
— Что случилось?
— Он послал меня в задницу.
— Я не с вами разговаривал, — ответил я, — не лезьте не в свое Дело.
— Иди ты в задницу!
— У меня на ремне есть вот эта штука, — сказал служащий и отстегнул черный разрядник. — Хотите, я приложу ее вам между лопатками и нажму на ту красную кнопку? Тогда вас больше не будет волновать, кто кого послал в задницу.
— Скажите это ему.
— Я же говорю, что разговаривал сам с собой.
— Идите в задницу вы оба. Заткнитесь и двигайтесь дальше. Скоро вас свалит газ, и мне вовсе не хочется растаскивать двух сонных ублюдков по каютам.
— Ну и ну! — сказал Брэди. — А ты знаешь, что при последнем опросе пассажиров больших лайнеров самый высокий балл за вежливость получила команда «Стеллы»?
— Ох, да замолкни ты.
— С чего это у тебя такой фиговый вид? Небось, из-за нее!
— Ведь это же всего-навсего книга, — ответил я.
— Да? Что ж, может, ты не помнишь, как ты себя чувствовал, когда выяснил, что она делает кое-что, что тебе не по нутру?
Неожиданно я пробился сквозь толпу. Мне хотелось выпить и я поглядел через бульвар, на столики у кафе Гриффина. Там было полно народу. Потом я увидел за одним из столиков одинокого Джейкоба Коэна, который что-то писал. Он снял очки, поглядел сквозь них на свет, протер носовым платком и опять надел. Мне не хотелось сидеть с Коэном, но после того, что произошло, выпивка была мне просто необходима, а за столиком Коэна были свободные стулья, так что я вошел. Он продолжал писать.
— Хорошее письмо получится, — сказал я, опускаясь на стул.
— А! Привет, Мэтт. — Он улыбнулся скользящей, загадочной улыбкой, а потом накрутил колпачок на ручку. — Просто записывал кое-какие мысли.
Официант был очень занят. Ему не хотелось подходить к столику, но я его все равно заставил, потому что глядел на него в упор.
— Странно, — сказал Коэн. — Неделю назад я не мог ни о чем думать. А теперь просто не успеваю записывать за собой. Это словно поток, Мэтт. Я начал работу над книгой.
— Мои поздравления, — ответил я.
— Спасибо. Разумеется, я некоторым образом обязан тебе…
Он оборвал себя прежде, чем успел сказать, чем именно он мне обязан. Побледнел. И я увидел Фрэнсис, которая шла через бульвар как раз к нашему столику.
— Вот это да! Привет, Мэтт! И Джейкоб. Вот удача, что ты придержал его для меня, Мэтт — я его с утра разыскиваю. — Она улыбнулась накрашенными губами и села.
— Я сижу здесь уже с трех, Фрэнсис, — с улыбкой ответил Коэн. — Ты же знаешь, я уже целую неделю сижу здесь днем и пишу.
— А, да. Я просто позабыла. Знаешь, Мэтт, Джейкоб наконец понял, что он не в состоянии работать у нас в квартире. Говорит, там воздух тяжелый. Ты же так говорил, да? Что там слишком много всяких тяжелых занавесок и ему не нравится, что рамы для картин слишком массивные. Разумеется, о том, что в рамах, он ни слова не сказал. Это его никогда не интересовало. Его интересует только то, что снаружи. Именно поэтому он больше беспокоится о том, где бы ему писать, чем о том, что именно он пишет. Разве нет, Джейкоб?
Коэн все еще улыбался.
— Я лишь хотел сказать, что там слишком жарко, Фрэнсис.
— А раз жарко, нужно выметаться из дому. Вполне разумно. Это можно понять. Только вот раньше он никогда не уходил в жару. Он всегда говорил мне, что любит жару. Понимаешь, в жару я как правило хожу потная. А он балдеет, когда я хожу потная.
Коэн все еще пытался улыбнуться. Фрэнсис поглядела на меня ясными глазами и продолжала:
— Он всегда говорил, что лучшая любовница — это потная любовница. А ему больше ничего и не надо.
— Фрэнсис…
— Вот так. Он меня все время спрашивал. Ты же помнишь, а, Джейкоб? Он спрашивал: «Ты моя любовница?» А я отвечала: «Да». Разве это было не потрясающе, Джейкоб? Это же так здорово — иметь любовницу. Особенно, если она потеет, как я.
— Фрэнсис, ради Бога…
— Не могу понять, при чем тут Бог. Вовсе незачем его сюда впутывать. А разве я возражала? Я готова была стать ему любовницей, лишь только он попросит. Но, понимаешь ли, у Джейкоба появились проблемы, потому что мы вроде как собрались пожениться. А раз уж мы поженились, то как же я Могу быть его любовницей? Никак! А Джейкобу любовница просто необходима. Он же мне говорил это много раз. Так что теперь он завел себе новую. Какую-то Чейз.
Странно было мне услышать об этом от нее. Почему-то я почувствовал себя легким, словно парил над креслом.
— Я лучше пойду, — сказал я. — Мне еще нужно закончить кое-какие дела в конторе.
Коэн поглядел на меня. Вид у него был больной. Я знал, что он хотел бы мне все объяснить, но говорить тут было не о чем, да и Фрэнсис с ним еще не до конца расправилась. Я поднялся и пересек улицу. У обочины я обернулся и увидел, что она наклонилась к нему и что-то быстро говорила. Потом оба они обернулись, чтобы поглядеть на меня, и я поспешил вниз по бульвару, через парк, в свою контору. Было уже поздно, в помещении оставалась одна лишь мадам Восг, ночной клерк. Она разбирала почту. Я поздоровался с ней, прошел навех, открыл сейф и достал копию дневника Бетт.
Я просматривал его, чувствуя себя разбитым и вымотанным. Какое мне дело до того, чем занимается Чейз? Не ее же вина, что Коэн в нее влюбился. В нее все влюблялись, у нее была эта способность — нечто вроде магнетизма — притягивать к себе людей. И совладать с собой она не могла. То, что и я влюбился в нее — тоже не ее вина. Может, она виновата только, что и сама в меня влюбилась.
Разумеется, ничего общего с магнетизмом тут не было. Но я придумал теорию, что Чейз может эти свои качества контролировать, и, что, если она на самом деле кого-нибудь полюбит, она просто выключит свой магнит, а раз уж она влюбилась в меня, то она выключит его из-за меня. Отличная теория. Вот только она свой магнит не отключила. Коэн запал на нее и прилип. И Чейз ничего не могла сделать. Нельзя иметь такой магнит, который притягивал бы один предмет и отталкивал все остальные.
Я зажег сигарету, лег и немного почитал дневник. Бетт влюбилась в помощника стюарда во втором классе. Она целые страницы исписывала, рассказывая, какие у него руки. Она верила, что по рукам человека можно многое узнать о нем. И щедро награждала стюарда самыми замечательными чертами. Она писала, что у него мужественные руки. Что он был очень дисциплинированным и до сих пор храбро переносил шторм, даже при том, что это его первый рейс и что он в первый раз так далеко от дома. «Он будет храбрым ради всех остальных, писала она. Это можно определить, потому что все пальцы у него почти одинаковой длины».
«Корабль трясло точно зернышко в автомате для жарки поп-корна», — писала Бетт.
11
Какое-то время спустя я начал задыхаться, в панике открыл глаза и увидел, что надо мной склонился человек с седыми волосами и бородой. Джордж Джонсон. Он сунул что-то мне под нос, от запаха меня так и подбросило. Я лежал на койке, в своей каюте.
— Поднимайся! — сказал Джонсон.
Голова у него замотана бинтом, сквозь который просачивалась кровь. Он был в черной хламиде с нашитым зеленым гербом: повозка с морскими звездами вместо колесных осей и двумя морскими коньками в упряжке. Вокруг толстой шеи обернуты нитки красных и зеленых бус — символ Марди Гра. Хламида перетянута ремнем, на котором висели фонарь и разрядник из тех, что носили сотрудники службы безопасности, чтобы подгонять пассажиров. А за плечом у него была винтовка. Голова у меня начала проясняться, я понял, что «Стеллу» больше не качает.
— Одевай вот это! — Джонсон бросил на постель сверток и развернул белую хламиду. Это была одежда для Марди Гра с гербом Нептуна на ней.
— Зачем? Что происходит?
— Был мятеж, малыш. Корабль захвачен Гильдией Протея.
— Гильдией графа Лэттри?
— Верно, малыш. Поторапливайся.
— Но это же хламида Протея, — сказал я.
Джонсон метнул в меня взгляд.
— Это маскировка, ты, дурной ублюдок!
— Эй!
— Давай, натягивай эту хламиду.
Я поднялся и нырнул в робу головой.
— Как они взяли корабль?
— После того, как запустили газ, команда отправилась за антидотом. Да только его не было. Люди Протея сперли весь запас. Они знали, что за этим последует. Теперь корабль в их руках, и мы должны отбить его. Вот так.
— Я думал, вы работаете, — сказал я, вспомнив, как меня вышвырнули из каюты. Джонсон усмехнулся.
— Помнишь, что я говорил тебе насчет неприятностей? Вот теперь мы их поимели! — В руке у него было что-то напоминающее черные яйца. У каждого на конце было по две кнопки — красная и зеленая.
— Что это?
— Газовые гранаты. Другой состав. Антидот против него не помогает, и они валят с ног всех, у кого нет противогаза. Вот, положи в карман. Они на боевом взводе, так что поосторожней. Захочешь пустить в действие — нажми на красную кнопку. Ладно, теперь пошли.
Джонсон дал мне капюшон и показал, как пластиковый воротник должен облегать шею и как я могу активировать десятиминутное поступление кислорода, если раскушу капсулу, закрепленную внутри капюшона.
— Сначала бросаешь гранату, потом раскусываешь капсулу. Ясно?
— Да, но…
— Но что, малыш? Ты хочешь, чтобы они получили корабль? Чтобы Лэттри опять выиграл?
— Нет, но…
— Нет и все. Мы с тобой — единственные бравые ребята, которые тут уцелели. Может, тебе и все равно, но я умирать не собираюсь. Во всяком случае, не теперь, когда мне так хорошо работается. Пошли!
Мы вышли на палубу. Все обычное освещение вдоль проходов не работало, и переборки едва мерцали в тусклом изумрудном свете аварийных ламп. Двери кают все были распахнуты. Я увидел перевернутые койки, разбросанные личные вещи. Повсюду лежали тела.
— Они не…
— Мертвы? — Мы переступили через женщину, — Большей частью нет. Они все без сознания из-за газа.
Мы добрались до лифта. Джонсон вытащил парализующую дубинку, оглянулся, а когда лифт отворился, отступил назад. Но кабина была пуста.
— Натяни капюшон, — приказал Джонсон. — Зажми зубами капсулу. Бросишь, когда я дам сигнал.
Я кивнул. Карман оттягивали гранаты. Лифт замедлил ход, дверь отворилась, и мы очутились на палубе, где располагалась рубка управления. Капитанский мостик опоясывал огромную линзу до ее верхней точки. Неподалеку стояли шесть здоровенных вооруженных охранников в черных робах со знаком Протея и преграждали доступ к мостику. Джонсон наставил на меня винтовку, как будто я был пленником. Этого было достаточно, чтобы они на миг растерялись.
— Давай, — сказал Джонсон.
Он кинул им под ноги две гранаты. Я бросил одну. Все три взорвались, заполнив коридор мутным зеленым дымом. Я раскусил капсулу и вдыхал ледяной воздух, который со свистом втягивался мне в горло. Наконец, дым чуть рассеялся. Мы отворили заслон и взошли на мостик.
С мостика открывался круговой обзор наружной поверхности корпуса и всего, что находилось за пределами корабля. Можно было наблюдать, как серая громадина слегка покачивается. Пространство, или эфир, или что там мы пересекали, казалось, было составлено из фиолетовых облаков, которые пронизывали радужные полосы звездных треков. Периодически яркие вспышки затмевали все и бросали резкие тени на мостик. Они были точно молнии в жаркий летний день. В рулевом кресле на помосте сидел капитан Признер. Он был привязан и, казалось, не заметил нашего появления. Все пульты управления были заняты людьми в тогах Протея.
— Делай свое дело, малыш, — сказал Джонсон.
— Это же Джордж Джонсон, — раздался голос Одри в тылу мостика. Она была со своим отцом.
— Одри?
— Джи-Ди?
Я видел, что они без охраны. Должно быть, они принадлежали к стану мятежников, подумал я. Это могло быть, потому что Лэттри и ее отец были союзниками.
Одри сердито поглядела на Джонсона.
— Что вы с ним сделали?
Джонсон сказал:
— Вы тут посадили корабль на задницу, а я разворачиваю его как положено.
— Вы такой грубиян, — сказала она дрожащим голосом.
— Оставьде, моя дорогая. — Это был граф. Он был в капюшоне, но, услышав его акцент, я не мог ошибиться. — Мы позаботимся о мисдере Джонсоне. Вам не придется связываться с ним.
В руке у меня была граната. Мне нужно было всего лишь нажать на красную кнопку и бросить ее. Но Одри так испуганно смотрела на меня…
— Давай, малыш, — сказал Джонсон. — У меня все.
— Не нужно, Джи-Ди, — сказала Одри. — Ты же не знаешь…
Джонсон взял у меня из руки гранату и активировал ее. Затянутой в перчатку рукой он держал ее, пока она не начала куриться и, наконец, по полу поплыл тяжелый зеленый дым. Я услышал, как люди кашляют, и мне показалось, что я вижу убегающего графа. Потом, внезапно, капюшон упал у меня с головы.
— Прости, что поступаю так, малыш, — сказал Джонсон, — но у меня есть еще кое-какие дела. А ты неплохо поработал.
Я попытался задержать дыхание и броситься за ним к двери, но газ все же добрался до меня. Все стало расплывчатым и легким, и я подумал, что будет неплохо, если я присяду на пол и немного отдохну.
12
Дело в том, что этот газ действовал чуть иначе, чем предыдущий, и я потерял сознание не полностью. Я все еще мог видеть клубы дыма, испускаемые гранатой, и фигуры распростершихся на палубе людей. Я видел Одри. Она выглядела умиротворенной. А запах, пожалуй, был даже приятен. Так что мне этот газ почти понравился.
Смотри-ка, подумал я. Она не боится. Наверное, она готова умереть с радостью, потому что верит в Бога. А ее Бог позаботится о своих. Я-то ему не принадлежал, поэтому еще неизвестно, позаботится он обо мне или нет. Может, и позаботится, ради Одри.
— Он сделает это ради тебя самого, сынок, — сказал Лео Заброди. — Ради этого он и умер на кресте.
Я услышал его голос, и внезапно наступила жара, над головой у меня раскинулось небо с медным отблеском, а красная пыль присыпала скамейки и листву затеняющих тропу деревьев. Утоптанные теннисные корты в жару были пусты. Я опять оказался на Танзисе.
— Крест? Знаете ли, я кое-чего до сих пор не понимаю. Это и в самом деле было необходимо? Я имею в виду, может, Адам и Ева и были в чем-то виноваты, но почему расплачиваться за их вину приходилось потомкам? Мы ведь тут не при чем.
Заброди снисходительно улыбнулся.
— Пошли, сынок. Давай немного пройдемся. В такую жару нужно самому устраивать себе ветерок.
И мы пошли по гравийной дорожке. Парк был пуст. Небо приобрело коричневато-зеленый оттенок, воздух налился тяжестью. Он был абсолютно неподвижен и насыщен электричеством.
— Погода опять меняется, — сказал Заброди.
— Что вам нужно? — спросил я. — Что вы здесь делаете?
— Я здесь для того, чтобы кое-что рассказать. Можно сказать, для блага Джорджа. Понимаешь ли, твой приятель Джордж испытывал сам себя, когда писал обо мне.
— Что вы имеете в виду?
— Есть нечто, что он не вполне о себе помнит. Эта пустота — дыра внутри, о которой он говорил в первой своей книге. Она все еще там. Иногда он все ждет, все бродит вокруг в надежде, что из нее что-нибудь всплывет. — Заброди хихикнул. — А иногда он просто отправляется на рыбалку. Однако на этот раз он решил, что и впрямь набрел кое на что. И вытащил меня. Понимаешь ли — я живу в этой дыре, сынок. И знаю то, чего он сам не знает. Вопрос в том, сколько он сможет Увидеть, потому что он меня боится. Вот что я имею в виду под испытанием.
Он остановился и посмотрел вниз, на тропу.
— Э, да ты погляди, кто к нам идет!
По тропе к нам, опустив голову и засунув руки в карманы, шел Мэтью Брэди.
— Ну и ну, — сказал Заброди. — Рад тебя снова повидать.
— Что ты там врешь малышу? — угрожающе спросил Брэди и встал перед Заброди, слегка расставив ноги.
— Так, болтаем. Не так ли, сынок?
— Не отвечай ему, — сказал Брэди.
— Тебе вовсе не обязательно его слушать.
— Нет, он славный малыш. Отгребись от него. Не пудри ему мозги.
— Ты имеешь в виду, чтобы я отгребался от тебя, если уж выражаться твоим же вульгарным языком?
— Много на себя берешь, Заброди, — сказал Брэди.
Заброди расхохотался.
— Я много на себя беру? А ты-то сам? Да я же всего-навсего слегка замаскированная копия преподобного Пеннибэйкера! У тебя, когда ты его увидел, небось, душа в пятки ушла? Но ты не мог как следует сообразить, почему. Да просто потому, что ты ни разу не отважился досмотреть тот свой сон до конца.
А хочешь, я расскажу тебе, почему он тебе снится? И что не самом деле преподобный Пеннибэйкер сделал тебе там, на Танзисе, тридцать лет назад? Ты вывел его в качестве такого безопасного персонажа, которого ты можешь унизить как тебе заблагорассудится. Потому что на самом деле он…
Брэди подступил к нему, ухватил за лацканы и встряхнул.
— Ты забыл, преподобный, кто такой ты и кто я. Я знаменитость! Меня в университетах изучают! В трех мирах мои книги запрещены законом! А вот тебя пока что никто не знает Я вовсе не тот перепуганный старик, каким был раньше, преподобный. Я знаю, что ты сделал!
Заброди широко открыл глаза.
— Сынок, ты бы лучше успокоился!
— Ты же работал на правительство, разве нет? Они пригласили тебя после войны, чтобы промывать мозги людям. Ты специализировался на иномирянах. И мое дело тоже попало к тебе — не правда ли?
— Убирайтесь… убирайся прочь!
— Нет. Это ты убирайся прочь! Прочь из моей головы. — Он стиснул руки, и лицо Заброди потемнело, а глаза выпучились. — Бесов изгонять? Так я покажу тебе изгнание бесов! Вон из моей головы! Немедленно!
Заброди обмяк. Брэди отпустил его, и уличный проповедник мешком свалился на тропу.
— Сукин сын! — Брэди разгладил свою черную сорочку, достал сигарету и попытался зажечь ее, повернувшись к ветру спиной. Руки у него тряслись, и он не мог совладать со спичкой. Мы услышали раскат грома. Он был сильнее и гораздо резче, чем те, что я слышал на Дереве, без перекатов. Скорее это напоминало взрыв — словно кто-то накаливал докрасна стеклянную гору, и она, наконец, раскололась.
— Лучше бы нам убраться отсюда. — Он вынул изо рта незажженную сигарету и сплюнул табачную крошку. — Когда его отыщут, разразится сущий ад.
И мы поспешили к выходу из парка на бульвар Фронзо. Он широкой аллеей спускался к реке, и можно было видеть, как там разворачивалась темная завеса дождя, пенные струи воды бились о причал, а деревья трясли ветками, точно старухи, плачущие на похоронах. Завеса дождя придвинулась, а ветер дул с такой силой, что мешал идти. Брэди схватил меня за руку и потащил в укрытие под кирпичной стеной. В доме напротив, выходящем на мощеную булыжником улицу, резко хлопнула рама, и из окна полетело стекло. Осколки брызнули нам под ноги.
— Что вы имели в виду под промыванием мозгов? — спросил я. — Что он вам сделал?
— Я покажу тебе, малыш, — сказал Брэди. — Пошли.
И внезапно я оказался бегущим под дождем Мэттом Брэди. Водяная пыль холодила лицо. Я спустился к реке и побежал вдоль причалов. Кругом полная темень. Огни на проплывающей по Чонзу барже были зажжены, зеленая вода мерцала отблесками и омывала серые доски палубы. Я попытался держаться под карнизами зданий, пока наконец не добрался до Линкана и не поднялся наверх.
Я наполнил ванну. Было приятно лежать в теплой воде и слушать, как в окна стучит дождь. Прочел газеты, поглядел на список вновь прибывших, чтобы узнать, кто прилетел с последними рейсами, и проверил, кто победил на скачках. Наконец, вода остыла, я вылез, обтерся и зажег газовый рожок над круглым столом в гостиной. Я хотел ответить на несколько писем, Но даже не начал ни одного, и в результате сдался и отправился в постель.
Однако я слишком устал, чтобы заснуть. Ноги ныли, и я вытянулся, лежа на спине. Казалось, нет никакой разницы в том, как я лежу с открытыми, или с закрытыми глазами. В обоих случаях я видел довольную улыбку собственника на лице у Джейкоба Коэна, когда он сказал мне, что ездил с Чейз в Налли.
Разумеется, до того, как я с ней встретился, у нее было множество мужчин, и несколько — уже при мне. Я был не против. Я даже был знаком с Фелло, человеком, с которым она была помолвлена, и который принадлежал к старому танзианскому роду. Он владел поместьем на севере, где круглый год шел снег, было полно леса и водился какой-то скот, питающийся густым мхом, растущим на стволах деревьев. Однако Фелло был неплохим парнем. И мне он нравился. Он был немолод, высокого для танзианца роста, и Чейз, казалось, была к нему привязана. Он действовал на нее успокаивающе, и я понимал, что этс хорошо, и меня не беспокоило, спят ли они вместе.
Но с Коэном все было иначе.
Когда с кем-нибудь сближаешься, то думаешь, что вы обе одинаково относитесь к одним и тем же людям. До Чейз я никогда о Коэне особенно не думал. Он болтался неподалеку, иногда я выпивал с ним или играл партию в теннис, но никогда про него не думал. Когда бы я его не встретил, он всегда начинал толковать насчет Фрэнсис или насчет сюжета своей новой книги, и я все это выслушивал, но, стоило нам расстаться, больше о нем не вспоминал. Так что, естественно, я полагал что Чейз, познакомившись с ним, будет относиться к нему точно так же. Даже вообразить не мог, что она уйдет к Джейкобу Коэну. И, разумеется, я ненавидел за это не ее, а именно его.
Я долго-долго об этом думал, и, наконец, мысли мои начали жить самостоятельной жизнью, а я задремал, пока буря раскачивала в газовом рожке язычок пламени.
Чуть позже я услышал шум на лестнице. Кто-то позвонил в дверь, и снаружи раздавались громкие голоса. Дверь отворилась. Мадам Люсаж пыталась помешать кому-то войти в комнату. Она загородила своими пухлыми руками дверной проем, преграждая путь. За ней стояла Чейз Кендалл в сбившейся на бок шляпке и с легкой насмешливой улыбкой на лице.
— Ох, мистер Брэди, — закричала консьержка через плечо, — она пьяна!
— Не будьте идиоткой, — сказала Чейз Кендалл.
— Не разговаривайте! И убирайтесь!
— Все в порядке, мадам Люсаж. Пропустите ее.
Мадам Люсаж неохотно освободила дверь и удалилась, что-то ворча. Чейз вошла и со вздохом прислонилась к стене.
— Ты действительно пьяна, — сказал я.
— Вовсе нет, — ответила она. — Это из-за погоды. Мне нужно всего-навсего причесаться. — Она уставилась на меня. — А вот ты выглядишь просто отвратительно. Ты и чувствуешь себя так же отвратительно? — Она швырнула шляпку на стол и присела рядом со мной на постели. От нее пахло сигаретами.
— Где ты была, Чейз? — спросил я. — С Джейкобом Коэном?
— Будто не знаешь? Зачем задавать глупые вопросы?
Я отвернулся.
— Ох, Мэтью, — сказала она и погладила меня по голове. — Ты иногда бываешь таким дурнем!
— Плевать. Меня уже мутит от всего этого!
— Именно поэтому ты и выглядишь так, как ты выглядишь. Но тебе вовсе не нужно страдать. Разве я тебе не говорила много раз, что я люблю тебя одного? Ты же знаешь это! Глупо, что я должна опять тебе это повторять.
— Я не переношу, когда ты с ним встречаешься.
— Но ведь мне нужно с кем-нибудь встречаться, Мэтт. Разве нет? И хорошо, что это он. Ты же знаешь, что он мне безразличен. И когда я с ним, я ничего не чувствую.
— А что я чувствую?
— Ничего, кроме любви и ненависти. — Она улыбнулась, обняла меня за плечи и развернула к себе. Лицо ее в свете, проникающем сквозь окна, казалось нежным и прекрасным. Она склонилась и поцеловала меня. На секунду мы были совсем одни за серебряной завесой ее волос.
— Я не буду с ним больше встречаться, если ты этого действительно хочешь. Но это нас не может задеть. А ему, похоже, идет на пользу.
— Мне наплевать на него.
— Шш-ш, дорогой. Разумеется, нет. Ты придаешь всему слишком много значения. Вот в чем твоя беда. До сих пор ты о нем никогда не думал, а теперь думаешь постоянно. А тем временем совершенно забываешь о том, как я тебя люблю.
Чейз расстегнула верхнюю пуговку моей сорочки, потом — еще одну, и я положил ее ладони к себе на грудь. Я дрожал, но потом, как всегда это ощущение исчезло. Я почувствовал, как тепло желания исходит из меня и испаряется в ничто. Я оттолкнул ее руки.
— Ох, Чейз, ничего не выйдет.
— Мэтью, — прошептала она, — просто ложись и хоть раз постарайся ни о чем не думать.
Но я должен был думать и чувствовал, как она склоняется на постель, и как это все было перед войной. Тогда я еще все мог; и я помнил, на что оно похоже. Но ведь одной памяти мало. Всегда мало. Она проделывала со мной всякие вещи, а я этого даже не чувствовал.
— Не нужно, — сказал я, повернув ее лицо к себе, чтобы она прекратила.
Когда я вновь склонился над ней, это уже была Одри Пеннибэйкер, и она смотрела на меня.
13
Ее белая сатиновая туника соскользнула с одного плеча. Почти все огни погасли. «Стелла» покачивалась, ворчала и переваливалась с боку на бок, точно страдающий зверь.
— Дорогой, — повторила Одри. И все ощущения, которые миг назад были заморожены, хлынули по своему руслу. Мне было трудно, очень трудно заставить себя сесть, обнять ее за плечи и приподнять, чтобы она прекратила.
— Не нужно, — сказал я. Корабль трясло и качало, я слышал взрывы и отдаленные крики. Перед рубкой управления парила сцена из книги Джонсона — та, в спальне… Информационная сеть корабля до сих пор была включена. По ней и транслировалась эта сцена — по всему кораблю.
— Одри. Погляди на экран, — сказал я.
— Какая разница. — И она вновь наклонилась ко мне.
— Прислушайся же, Одри! Мы попали в шторм. Корабль вот-вот разобьется!
Одри неохотно отодвинулась. Она покачала головой, оглянулась по сторонам, и глаза ее испуганно расширились. Она увидела, что расстегнула мне брюки и отшатнулась.
— Как ты мог! — вскрикнула она.
— Я остановил тебя, Одри.
Она затрясла головой.
— Нет! Ты… начитался этой гадости. И попытался…
— Разве ты не помнишь ту записку, Одри? Мы были оба в этой книге, но я опомнился, вышел из нее первым и остановил тебя.
Она плакала. Тут я на нее рассердился. Такая высокомерная, такая самодовольная, такая правильная. Святая. Я поднялся, опираясь о перила мостика и перелез через него, направляясь к пульту управления.
— Капитан. С мостика можно отослать цилиндр?
Он поглядел на меня. Только какая-то часть его слышала меня. А большая часть мозга пыталась встроиться в поле, удержать корабль в целости. Потом он обернулся и поглядел вниз. Там, в ручку пультового кресла было встроено приемное устройство с запасом цилиндров. Я взял цилиндр, развернул вложенный внутрь почтовый бланк и вытащил ручку из кармана кителя Признера. Потом я побрел назад, к Одри и вложил ручку ей в ладонь.
— Пиши, — сказал я.
— Что? — простонала она. Корабль резко накренился.
— Я сказал, пиши! Я пыталась заняться сексом…
— Нет!
— Черт подери, пиши! Я пыталась заняться сексом — нет, оральным сексом, — с Джи-Ди на капитанском мостике. Пиши! Ты же знаешь, что написала это — ну а теперь, записывай!
Она всхлипывала, но записывала.
— Мы попали в шторм. Пиши! Мы — попали — в шторм. И я хотела заняться с ним любовью, но он остановил меня, потому что он знал, что это неправильно, потому что мы попали в шторм, и все не в своем уме! И твой Бог, и твой папа, и даже ты сама!
— Я ненавижу тебя! — всхлипнула она.
— Ох, да заткнись ты! — яростно воскликнул я, отбирая у нее записку. Перед тем, как скатать ее и вложить в цилиндр, я вычеркнул слово «оральный» чтобы записка ничем не отличалась от той, и вновь направился к капитану.
— Отправьте мне его во вчера, капитан. Сможете?
Он медленно кивнул. Неловкими пальцами он ухитрился закрыть приемное устройство и ввел туда мою карточку пассажира. Вспыхнула и погасла красная лампочка. Признер вновь открыл приемник. Тот был пуст. Я потряс Признера за плечо, он моргнул, осмотрелся и, похоже, узнал меня. Корабль вновь содрогнулся, и Признер напрягся, пытаясь справиться с ним.
— Они отключили…подачу газа, — прошептал он.
— Как вы ее контролируете?
— Тут.
Он поднял руку, которая прошла сквозь изображение комнаты Брэди, и показал на развороченную, обгоревшую панель. Я все же осмотрел ее. Все рычаги расплавились.
— Где аварийный выход?
— На наружной оболочке, — слабо ответил Признер.
— Где?
— Палуба С.
— Как выглядит контрольная панель?
Пальцы Признера медленно дотянулись до выступа на правой ручке кресла. В воздухе перед ним материализовалась схема корабля и упала к нему на колени. Потом «Стелла» чудовищно содрогнулась, отбросив меня на кормовую переборку. Я обнял Одри и пригнул голову, потому что все незакрепленные предметы с мостика повалились на нас. Какой-то миг казалось, что, корабль наконец не выдержит и рассыплется, однако он устоял. «Стелла» опять отчаянно пыталась выпрямиться, выровнялась и успокоилась. Признер застонал, глаза у него закатились. Он был без сознания. Я поднял чертеж и покинул мостик.
— Погоди! — закричала Одри и уцепилась за меня. — Не оставляй меня одну!
— Ты же ненавидишь меня, забыла?
— Я не ненавижу тебя, Джи-Ди! Я ненавижу себя, потому что я хотела…
— Забудем об этом! Нам нужно опять пустить газ.
Я взял ее за руку, и мы вышли в коридор, продвигаясь в интервалах между толчками. Можно было увидеть, как из пролета между палубами поднимается янтарный дымок, и слышать крики, треск ломающихся предметов, а иногда — приглушенные взрывы. Мы подошли к лифту, но он был сломан, так что пришлось пробираться по лестнице.
Палуба С превратилась в сплошной кошмар. Она находилась в центре корабля, пассажиры метались по ней, точно по палубе тонущего парусника. Они разнесли все вокруг и были пьяны, либо не в себе. В потрепанных костюмах для Марди Гра, они орали, наталкивались друг на друга, а «Стелла» все тряслась и перекатывалась с боку на бок. Я услышал, как из пролета доносится раскатистый громкий смех и увидел огромное изображение Признера, восседавшего в своем капитанском кресле среди раскачивающихся деревьев. Он сидел за столом в квартире Мэтью Брэди, а на голове у него была шляпка Чейз Кендалл. Корабль опять тряхнуло, по изображению прошла рябь. Я нашел люк, ведущий к наружной оболочке, но тут нас окружили члены Гильдии в белых балахонах с капюшонами, украшенных зеленым трезубцем. Одри замерла. Это была Гильдия Нептуна. Их глава сжал ей запястье и уставился на нее горящим взглядом.
— С кем это ты удираешь, девочка?
— Н-ни с кем, папа!
— Папа! — Он оглянулся на своих людей. — Тут есть чей-нибудь папа?
— Ты делаешь мне больно!
— Шлюха!
Я завопил и протолкался вперед, отбиваясь левой от окруживших меня гильдийцев. Я отпихнул кого-то, чтобы освободить побольше места, нацелился правой в чье-то укрытое капюшоном лицо, а локтем успел ударить стоящего позади. Потом корабль поднялся на дыбы и встряхнул нас, точно ящик с игрушками. Я услышал крик Одри, поймал ее за руку и выволок из толпы. Люди бросились врассыпную.
— Пусти! Я нужна папе!
— Он даже не узнал тебя, Одри. Он же не в себе! И все остальные — тоже.
Я услышал, что за нами гонятся, и потянул Одри в пустую Каюту. Мимо пробежали люди, одетые в черные балахоны свиты Протея. Они гнались за людьми Гильдии Нептуна и улюлюкали точно безумные, падали, когда корабль резко накренялся, а потом поднимались и опять бежали. Я еще переждал с минуту, не услышал никого поблизости и проник в двери, ведущие в служебный проход. Хам, между обшивками, было темно и относительно спокойно.
Я поглядел вниз. По тому, как прогибались и пружинили перекладины лестницы у нас под ногами, заметно было как трясет корабль. Ведущие к открытому люку сходни плясали точно батут. Одри вцепилась в меня. Глаза у нее стали совсем безумные, и она прижалась ко мне изо всех сил.
— Давай вернемся в книгу, — сказала она. — Если мы должны умереть, я хочу быть на Танзисе, с тобой.
— Мне нужно запустить газ, Одри.
— Какая разница…
Я чувствовал, как безумие охватывает ее. Оно плавало в воздухе, точно туман, пожирающий мужество и надежду, пока не оставался один лишь страх. Одри уже не могла с ним справиться, и начала оседать у перил прохода. Когда я окликнул ее, она обернулась, но я понял, что она не понимает ни кто я такой, ни где она оказалась, и что-то внутри у меня глубоко отозвалось на этот страх. Отчаяние выворачивало меня наизнанку, пока я совсем не перестал соображать. «Так, значит, вот на что это похоже, — подумал я, вспомнив описание «Утренней Славы» в дневнике Бетт. — Стоит только поддаться страху…»
Я услышал, как Одри бормочет имя Мэтью Брэди. Я и был Мэтью Брэди, только здесь у меня не было никаких прежних сложностей. Тут я мог быть с ней. Я поглядел вниз. Ее ноги под балахоном были обнажены. Она мягко простонала и раздвинула бедра. Все равно нам предстояло умереть. Я наклонился и просунул руку ей меж ног.
— Собака. Собака с Земли.
Я помнил это шипение, эту имитацию земного языка. Я знал и высоту его, и тембр. Оно принадлежало Генри.
— Нет, — сказал я, — не сейчас.
— Погляди на меня, собака с Земли.
Я пытался не смотреть. Но звук его голоса был точно магнит.
Я поднял голову и увидел зеленый туман, клубящийся над перилами. Он стоял со сложенными крыльями, а его большие глаза мерцали точно фарфоровые блюдца.
— Что тебе нужно? — спросил я.
Он молчал.
— Погоди. Понял. Ты должен забрать меня, верно? Забрать меня туда, куда я должен попасть после смерти? Тебе позволили придти и забрать меня самому?
— Что ты хочешь сказать, собака?
— Ты уж точно не художник сейчас, правда? Ты чистый. На тебе больше нет никаких следов старой краски.
— Что ж. Там к искусству относятся иначе. Не так как здесь.
— Это потому, что на небесах каждый — творец, верно? А ведь ты на небесах?
Зеленый туманный силуэт поглядел на меня. И я почувствовал, как меня окатывает давно знакомая волна доброжелательного любопытства. Но теперь она не возымела обычного своего действия. Она обтекала меня, точно вода, скатывающаяся с маслянистой поверхности.
— Всегда тебе хотелось поговорить об искусстве, собака. Даже сейчас.
— А о чем тут еще говорить? О смерти? Ты же бросил своего лучшего друга на произвол судьбы!
— Как это я тебя бросил?
— Я уж скажу тебе, как, — ответил я сердито. — Ты же знал, что со мной произойдет, если ты себя убьешь. Ты знал, что Сеть обвинит меня. Убив себя, ты убил и меня.
— Но ведь ты жив, — сухо констатировал туман.
— Да, пока что. Но почему же ты не сделал это как-нибудь иначе? Так, чтобы оставить меня в стороне. Почему ты не подумал обо мне, Генри? Ведь мы живем не так уж долго. Ты же мог протянуть еще лет пятьдесят, подождать, пока я не состарюсь и не умру.
— Нет. Не мог.
— Но почему? — закричал я. — Почему ты вообще связался со мной, если уже решил умереть? Почему выбрал меня? Зачем было допускать меня так близко к себе, если ты все равно собирался покончить со всем? Ты же выучил меня всему, что я знаю, ты сделал меня всем, что я есть, ты же был для меня всем, Генри! Всем! Нельзя сначала дать все человеку, а потом отвернуться от него. На тебе лежала ответственность!
— Собака…
— Нет. И слушать не хочу.
— Патрик, — произнес он мягко.
Никогда раньше Генри не называл меня по имени. Я и не думал, что он вообще его знает. Но он знал, и повторил — Патрик.
— Мы на корабле. И ты нужен нам, чтобы помочь. Вот почему мы тебя отпустили. Чтобы ты мог спасти корабль.
— Почему именно я должен спасать его?
— Потому что ты — поводырь. Тебя к этому готовили. Ты предан нам. Как бы ты сам не отрекался от своей сущности. Ты поводырь, Патрик. Ты не допустишь, чтобы нам было плохо.
И Генри повел своими туманными крыльями, указывая на люк.
— Зачем ты здесь, на корабле?
Он не отозвался. Зеленый туман начал рассеиваться.
— Генри.
— Собака-поводырь, — раздался его затихающий, свистящий голос. И все исчезло.
Я поглядел на Одри. В ладони я все еще сжимал подол ее балахона. Я оборвал его, разорвал материал на полосы и связал из них веревку. Привязал Одри за талию к перилам площадки, потому что не хотел, чтобы ее сбросило с лестницы, пока я буду там ходить.
— Одри. Я собираюсь выбраться на наружную оболочку. Я попробую снова пустить газ.
— Папа, — простонала она.
— Мы разыщем его позже, Одри.
Трап разболтанно качался в пазах, и с каждым новым рывком корабля щель между трапом и верхней площадкой, выходящей к наружной оболочке, то расширялась, то вновь сужалась Я подождал, пока корабль не выпрямится между двумя толчка ми, оттолкнулся от края, прыгнул и, пролетев через отверст» люка, оказался на платформе, выходящей в полость между наружной и внутренней оболочками.
Теперь передо мной располагались высокие перила, а за ними лежало обширное, затхлое пространство между оболочками. Подо мной пульсировал генератор поля, испуская колеблющийся алый свет, который иногда прерывался фиолетовыми вспышками. Над ним и под ним пролегали горизонтальные распорки, связующие обручи, из которых был составлен скелет корпуса. Когда глаза мои привыкли к свету, я разглядел трубопровод и нужное мне оборудование, закрепленное на одном из опорных обручей, который поддерживал и мою платформу. Я перевел дыхание и начал карабкаться по поверхности обруча.
Это было нелегко. Я лез вверх и вглубь и вскоре натолкнулся на поврежденные штормом распорки, которые замедлили мое продвижение. Мне удалось обогнуть первую, прижавшись спиной к тонкой оболочке корпуса. Во второй раз я подтянулся и перебросил ноги через препятствие. И все это время «Стелла» раскачивалась как пьяная. Я попытался вновь нащупать опору, но лишь бил ногами по воздуху. Тут «Стеллу» опять качнуло, бросив меня туда, куда мне и было нужно, я нашел опору и последний отрезок пути пролез по трапу, ведущему к опорной платформе, на которой располагалась стойка с вентилями. Прямо передо мной была вспомогательная панель ручного управления. А перед ней сидел Джордж Джонсон.
— Я ждал тебя, малыш, — сказал он.
14
Речь его была невнятной, а в руке зажата бутыль с вином.
— Х-хотел сказать тебе, что это правда. До последнего слова — правда. Без них я не могу писать. Они были тут, все это время. С тех пор, как мы покинули Гавань. Весь корабль — троянский конь, мать его!
Что значило — троянский конь, я понятия не имел. «Стелла» жутко стонала и дергалась, проволочные ванты гудели, точно струны огромного разбитого пианино. Джонсон все еще говорил:
— Они заставили меня вспомнить. То, что я давно позабыл. О том, как я был корреспондентом на войне. В батальоне сопротивления у Лэттри.
— Вы сражались вместе с Лэттри?
— Нас вместе взяли в плен. — Джонсон покачал головой. Он отпил из бутыли. — Мы натянули сеть поперек устья лощины. И поймали двоих. Они запутались в сети, и один из них сорвался, весь в зеленой пене. Лэттри взял нож и пошел на них. Он весь измазался в этой гадости, но тем не менее подошел туда и прикончил его. А потом у Лэттри начались неприятности с тем, вторым. Он начал кричать мне, чтобы я спустился и помог ему. Так что я спустился, и тоже весь извозился в этой штуке. Поначалу она лишь немного жгла. Потом я почувствовал, что руки и шея у меня как-то странно немеют. А потом она вроде как скопилась у меня в голове. Лэттри было хуже — ему досталось больше. Мы больше не могли идти и сели. Тут они нас и взяли. У Лэттри все еще в руке был зажат нож, когда они притащили нас в гнездо. Кормили этим их желе. Такая красная восковая штука.
Я помнил это желе. Генри обычно держал целые кувшины с ним в кухне. Иногда, когда он уставал от работы, он пробовал его. Потом какое-то время он сидел неподвижно, ничего не говоря. Но я чувствовал, как от него исходит наслаждение, и однажды, когда он вышел с Управляющим, я отправился в кухню и открыл один из кувшинов. Внутри была утрамбованная красно-золотая паста. Я набрал немножко кончиком пальца и лизнул. И это было последнее, что я помнил, когда очнулся в своей постели, а Генри склонился надо мной и протирал мне лоб влажной тряпкой. Я вырубился на два дня.
— Да, я его пробовал, — сказал я.
— Ну, так ты знаешь, что оно с тобой делает. Не знаю, сколько они нам его дали, но к тому времени, как мы очнулись, мы изменились… видели все их глазами. Как и ты.
Я почувствовал, что краснею.
— И тут ничего нельзя поделать. Это — все равно, что влюбиться в кого-то. Кажется, ради них ты готов на все. Отмахать тысячи миль, чтобы купить им туфли. — Джонсон взглянул на меня. — Хочешь опять запустить газ, да?
— Ага.
— Чего ты этим добьешься? — Он заморгал. В глазах У него стояли слезы. — Я ведь и вправду думал, что у меня получается, малыш. Я и вправду думал, придурок, что это я пишу новый роман.
Он прикончил бутылку и швырнул ее за перила.
— Просто присядь и наслаждайся жизнью. Уже недолго осталось.
Я уставился на рубильники. Джонсон поднял винтовку.
— Э! Я не дам тебе это сделать, малыш!
— Ты же не хочешь умирать, верно? Вот так?
— Я хочу, чтобы эти ублюдки убрались из моей головы.
«Стелла» содрогнулась и нырнула вперед. Я поймал ритм, врезался в Джонсона и выбил у него из рук винтовку. Он начал всхлипывать.
— Джордж, — я обнял его, — Джордж, послушай меня! Что бы с тобой на той войне не случилось, ты помнил обо всем, когда писал «К востоку от Луны». Ты писал, чтобы предупредить людей, и это было замечательно. Так в чем же дело теперь? Предупреди их опять!
— Я слишком стар, — сказал Джонсон. — Я больше не смогу себя обманывать. Сил не хватает.
— А у меня хватает, — сказал я и прошел к пульту. Он меня не останавливал — рылся в кармане.
— Погоди, малыш. Тебе понадобится вот это. — И он вытащил полную горсть таблеток антидота. Он часто мигал, и я понял, что все это время, что я находился в наружной оболочке, я вдыхал газ. Я наклонился, чтобы взять таблетки, но в глаза мне ударил слепящий свет.
— Эдо уже не нужно, поводырь.
Граф. Больше он ничего не сказал, лишь отвел луч от моего лица и осветил пустое затемненное помещение. Луч подпрыгнул, растворился во тьме, но в тусклом свете я увидел летунов. Сотни спящих вниз головой летунов, гроздьями свисающих с обручей, точно летучие мыши. Лэттри водил лучом по ним почти ласково. Потом он направил свет фонаря прямо вниз. Ванты и трап, ведущий к генератору поля были усеяны изуродованными, скрюченными телами упавших летунов. На них было больно смотреть. Генри в конце выглядел точно так же.
— Они падают по одному, — сказал Лэттри. — Лишь бы корабль продержался достаточно долго, чтобы все они сумели свалиться.
— Значит, это ваших рук дело, — сказал я. — Это вы повсюду распространили книгу Джонсона? И запустили ее через трансляционную сеть! Вы хотели, чтобы корабль разбился!
— Эдо — единственный способ спасти мою родину, — сказал Лэттри.
— Но пассажиры…
— Танзис важнее! — закричал он.
Я уже почти засыпал. Мне нужен был антидот и я попытался приблизиться к Джонсону, но граф действовал слишком быстро. Он ударил меня по руке, и все таблетки посыпались за перила в темноту.
— Я работал на них всю жизнь, — сказал Лэттри. — Я был глазами Сети на Танзисе. Они знали все о нас благодаря мне. И я пытался бороться, пытался убить себя, но они меня всегда останавливали. Я слышал, как они надо мной смеются и знал, что они всегда будут защищать меня, что я всегда буду в безопасности. Я прожил долгую жизнь. Работал, старел, и все думали, что я — величайший патриот, герой сопротивления! И таким образом, когда Сеть захотела начать мирные переговоры, я стал послом.
Я отправился на Дерево. Встретился там с представителями Сети. И забыл все, что о них знал. Все это время я находился в контакте с Сетью, даже не ведая об этом. Я говорил себе — нужно очень осторожно вести переговоры, искренне пытался сделать все, что мог, для своей страны и добился предварительного соглашения на вполне приемлемых условиях. И все это время они загружались в корабль, а я помогал им. И преподобный Пеннибэйкер — тоже. Он тоже находится под контролем Сети. И вот я должен вернуться домой вместе с ними и присутствовать при гибели своего родного мира!
— Потом, готовясь к отплытию, я получил посылку — цилиндр. Цилиндр был послан со «Стеллы», когда она была уже в пути. Внутри были экземпляры книги Джорджа Джонсона и письмо от меня самого, которое объясняло все. Я пришел в ужас и уничтожил книги. Но я послал и другие, много других — я разослал их пассажирам корабля. «Стелла» покинула Гавань, неся в себе семена своего собственного уничтожения.
Но все-таки я оставался в их власти. Я пытался украсть все экземпляры, что мог найти. Я обрабатываю команду корабля, и они помогают мне. Мы почти преуспели, но на тебя книжка повлияла слишком сильно. Ты так переживал, находясь под ее действием, что это одно привело к потере равновесия «Стеллы». Начался первый шторм. Летуны, с помощью Сети, успокаивали нас. Однако это сложно. И чем больше они уделяли внимания кораблю, тем меньше его оставалось для меня. Наконец, нагрузка оказалась для них непосильной и я освободился!
И я организовал Гильдию Протея. Все экземпляры книги, которые мне удалось найти, я засунул в цилиндры и разослал пассажирам для того, чтобы пассажиры испугались шторма, который они переживали в романе. Опять начинается паника. На этот раз сильная. Корабль переворачивается. Капитан Признер успокаивает пассажиров газом. Я не могу этого ему позволить. Я возглавляю мятеж своей гильдии. Мы направляем газ сюда. Летуны засыпают. Шторм начинается вновь.
Видишь ли, Сеть разбирается в том, как устроено групповое мышление ее членов, но она абсолютно не понимает психологию нашей толпы. Она не может понять ни нашей тяги к насилию, ни нашего страха. Ты пытаешься выбраться из толпы, и каждый, в свою очередь, пытается выбраться из толпы, а в результате всех охватывает паника, точно это — один человек. Сеть этого понять не может. Для них личность — это и есть общество. Они не борются с ним. Они борются за него. Так что они не могут понять, почему шторм разразился так быстро. Они беспомощны. А я навсегда избавился от Сети!
Пока он говорил, «Стелла» дергалась и дрожала, кидаясь из стороны в сторону, точно пойманное животное в отчаянной попытке освободиться. Лэттри потерял равновесие, и я кинулся к пульту управления. Ни Танзис, ни летуны меня не заботили. Я знал лишь, что не хочу умирать. Я уже зажал в пальцах переключатель, на который мне показал капитан Признер, но тут граф атаковал меня со спины. Я резко повернулся, пытаясь сбросить его, но он вцепился в меня как паук, и под тяжестью его веса, который в обычных обстоятельствах я выдержал бы довольно легко, я опустился на колени. К тому времени я понимал, что меня не Хватит надолго — газ почти возобладал надо мной.
— Умереть… за родину, как я всегда хотел, — выдохнул Лэттри. Он душил меня. Сознание у меня помутилось, потом воротилось вновь, и я понял, что Лэттри вот-вот убьет меня, а корабль развалится. Я почувствовал, как теряю сознание, позвал Генри, но он не ответил.
И тогда я разозлился.
Я вывернулся, схватил графа за руку и изо всех сил ударил по ней. Он вскрикнул и выпустил мою шею, а я выбросил ноги вперед и дотянулся до панели. На этот раз я развернул рубильник. Раздался гул, и трубопровод со скрипом повернулся внутри своей оболочки. Но граф еще держался. Он оттолкнул меня и потянулся к переключателю. Я протиснулся между ним и панелью. Он вновь набросился на меня, и я отпихнул его как раз в тот миг, когда корабль резко дернулся. Он зацепился каблуком за настил, упал на спину и проскользнул между перекладинами перил — он ведь был такой маленький. Я слышал, как он кричал, пока летел вниз. А потом замолк.
Я сел. «Стелла» все еще стонала и дергалась, и я слышал скрежет раздираемого металла и звон, с которым обломки бьются о корпус. Я закрыл глаза, чувствуя себя… умиротворенно. Может, я уносился в тот Колодец Душ, где жил теперь Генри? Ну что ж, Генри, все в порядке. Я окликну тебя, когда доберусь.
А потом я больше ни о чем не думал.
15
Когда я проснулся, корабль качало. Мягко — вверх и вниз. Я открыл глаза и увидел, что до сих пор лежу на опорной платформе. Она плавно покачивалась. Не поворачивая головы я мог видеть противоположную стену обшивки с искореженными, перекрученными перекрытиями. Сероватый свет просачивался снаружи через тонкую внешнюю оболочку, на которой кое-где виднелись вмятины. Я повернулся и поглядел наверх. Никаких летунов не было. Тогда я закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь поймать испускаемые Сетью сигналы, но их не было тоже, Я вновь открыл глаза и тут вспомнил про Джонсона, но и его нигде не было.
Я встал, до сих пор чувствуя себя одуревшим от газа. Спуск по трапу до пролета у аварийного выхода показался мне неимоверно долгим. Корабль мягко, осторожно покачивало с боку на бок. Я пролез в люк, увидел, что опора снова оказалась «а своем обычном месте, и устало перебрался туда. Мостик изношенно трясся у меня под ногами, пока я брел по нему ко второму люку, выводящему на палубу С.
Там стояли невысокие люди — мужчины и женщины в темно-синих туниках, ярко-красных штанах, заправленных в полированные башмаки, и полированных хромированных шлемах, украшенных серыми и красными плюмажами. Группа людей напоминала стайку мелких ярких птиц. В коридоре все еще лежали пассажиры в лохмотьях, предназначенных для Марди Гра костюмов. Я пригляделся к одному-двоим и увидел, что они дышат, просто все еще без сознания от газа. Одна из пташек подскочила ко мне. Это был серьезный человек с острым, внимательным взглядом. Кожа у него отливала оранжевым, а зубы были окрашены желтым, как у графа.
— Что тут стряслось? — спросил он.
— Был шторм, — сказал я, — Где мы?
— Пришвартованы у реки Сонт. Вы на Танзисе.
— Мы давно здесь?
— Корабль материализовался вчера вечером. На несколько минут раньше назначенного времени. К счастью, посадочная площадка была пуста.
— Вы должны обыскать наружную оболочку, — сказал я.
Он подозрительно поглядел на меня.
— С чего бы?
— Тут, на борту корабля есть летуны.
Служащий одарил меня презрительным взглядом.
— Летуны? Месье, уверяю вас, мы не обнаружили ни одного.
— Кто нибудь наблюдал за кораблем во время приземления?
— Месье. Возможно, вы ошибочно полагаете, что здесь вы имеете право задавать вопросы. Я — главный инспектор Верэ из Танзианского таможенного департамента, Сонтский порт прибытия. Здесь я задаю вопросы.
— И все-таки, в наружной оболочке прятались летуны, — настаивал я.
Верэ избрал иную тактику. Он спросил более мягким тоном: Быть может, вы нуждаетесь в медицинской помощи?
— Нет, не нуждаюсь.
— Тогда прошу вас пройти таможенный досмотр.
И Верэ повел меня к столу, расположенному на площадке у входа в лифт. На палубе люди начали просыпаться. Они стонали и пошатывались. Мы прошли мимо них к служащим, сидевшим за столом.
— Имя?
— Джи-Ди, — сказал я, — или Собака-поводырь, если желаете.
Он кивнул. Мое имя было в списке пассажиров. Потом они спросили, сколько мне лет и зачем я прибыл на Танзис.
— Меня осудили за убийство, — сказал я. — Мне нужно было убраться на какое-то время.
Очевидно, у них была информация и об этом. За нами пассажиры уже начали подниматься на ноги. Тут же еще один служащий выстроил их в очередь за мной.
— Что вы хотите задекларировать?
— Задекларировать? Да тут на корабле полно раненных.
— Так у вас есть, что задекларировать?
— Нет.
— Пройдите через сканнер. — Он помахал ручкой, и я вступил в нечто, напоминающее каркас гильотины. Раздался мягкий звон, и офицер, обслуживающая машину, оживилась. «Она ради этого и живет», — подумал я.
— Обыщите его, — сказал таможенник.
Офицер подошла, обыскала мои карманы и вытащила микрокнигу «К востоку от Луны». Они тут же сообразили, что это. С минуту возбужденно совещались, а потом обратились за распоряжениями к своему командиру.
— У вас обнаружена принадлежащая вам запрещенная книга. Разве вам не сообщили, что провоз этой книги на Танзис строго преследуется?
— Вам придется арестовать за это весь корабль, — сказал я. И начал смеяться. После всего, что произошло, это было даже чересчур забавно.
И я все еще смеялся, когда они надели на меня наручники.
Мария Галина ПОГОДА ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ Послесловие переводчика
Истории с продолжением (в самых разных жанрах) существуют, сколько человечество себя помнит. И если мы возьмем такую сравнительно новую ветвь, как научно-фантастическая литература, мы увидим примерно ту же закономерность, что и повсюду, — то есть — продолжения органичные, естественно вытекающие из замысла и сюжетных ходов первой части повествования, и продолжения, написанные, так сказать, по поводу. С крупными составными вещами, скажем, с трилогиями (как в данном случае), дело обстоит еще сложнее, поскольку вещь большого объема предполагает тщательную разработку вымышленного мира и соблюдение условий игры — вплоть до мелочей, ведь именно достоверность деталей обеспечивает доверие читателя. В первом приближении НФ трилогии можно классифицировать следующим образом:
— Вещь изначально замышлялась как эпопея и разбивается на части лишь композиционно. В этом случае автор создает достоверный и тщательно разработанный мир, однако сюжет всех частей повествования лежит в рамках одной коллизии (Толкиен — Властелин Колец).
— Сюжеты всех частей изначально независимы друг от друга, и каждая часть трилогии представляет собой законченное произведение, однако присутствуют некоторые сюжетные пересечения за счет общих для всех частей действующих лиц и описываемых событий, и потому вся трилогия не противоречива (Ж. Верн — Дети капитана Гранта, — 80 000 км под водой, — Таинственный остров).
— Все части трилогии объединены одними и теми же действующими лицами, однако их характеры развиваются во времени так, что продолжение фактически превращается в жизнеописание героев от их появления на страницах первой книги, вплоть до гибели. (А. Стругацкий, Б. Стругацкий — Страна багровых туч, — Путь на Амальтею, — Стажеры). В этом случае и автор и читатель взрослеют вместе со своими героями и переход из сюжета в сюжет скорее является переходом из одного состояния в другое.
Иногда мир, созданный автором, столь ярок и тщательно разработан, что просто грех ограничиваться одним-единственным произведением в рамках заданных декораций — «прогрессорский» цикл тех же Стругацких, футурологическая эпопея Хайнлайна.
— И, наконец, последний случай, зачастую вытекающий из предыдущего. Продолжения возникают тогда, когда автору удается создать цельный, убедительный и сложный мир — но один-единственный раз. Как правило, такая вещь пишется, как независимое, сюжетно замкнутое одиночное произведение, в котором каждое слово, каждый символ имеют свое собственное место, даже при том, что созданный автором мир может быть и не проработан полностью — «Довольно с вас. У вас воображенье в минуту дорисует остальное!» — и каждый читатель достраивает силуэтный набросок так, как это удобно ему, тем самым принимая участие в со-творчестве.
Вещь выходит в свет, оценивается по заслугам и приобретает известность, по праву занимая свое место в «лавке миров». И тут выясняется, что создать иной, но такой же убедительный мир, автор почему-то не способен. Может быть потому, как писал еще Лев Шестов, что творчество — процесс настолько болезненный, что творец, щадя себя, часто предпочитает использовать еще и еще раз уже наработанное, а мы, люди со стороны, не слишком задумываясь о причинах такого «возвращения на круги своя», называем это верностью теме или творческому приему. В случае с НФ-миром развитие сюжетов с продолжением может произойти следующим образом:
И когда такой автор начинает свой мир разрабатывать, уточнять, созданный мир обогащается множеством достоверных и убедительных деталей, за счет которых утрачивается достоверность и убедительность целого. Вот этот-то процесс и можно проследить на примере трех вещей Майка Коннера — «Собака-поводырь», «Загадочное место» и «К востоку от Луны».
Вся трилогия написана от лица одного и того же человека, которому автор в первой части демонстративно не дает никакого имени (а имя, как известно, свойство сакральное), оставляя лишь функцию — «собака-поводырь». Кстати, отмечу тут же, что в первой повести и народу — «чужакам», среди которых живет герой, тоже не дается никакого названия — «Они» и все, а земные имена, которыми награждает герой своих клиентов, достаточно условны. Условны и описания неземного ландшафта — «Дерево», где происходят события, представить себе очень сложно — город? гигантское растение? И студия слепого иномирянина Генри, и его профессия — он художник, знаменитый художник, — тоже описаны достаточно условно, и, в результате, перед нами разворачивается не повесть, но притча. О доброте и взаимопонимании, о свободе и об обязанности. И о том, что этические критерии сопоставимы у разных цивилизаций. И о том, что коллективизм, чувство сопричастности к общему делу — огромный дар, но способность противостоять и тому и другому — такой же дар. В результате мы видим хорошего человека — или даже двух хороших людей, считая иномирянина Генри, — загнанных в безвыходную ловушку обстоятельств, двух сиамских близнецов, которые не могут существовать порознь, но один все же остается в живых лишь потому, что находится еще один брат, способный понять и принять его, пусть даже брат этот иной плоти и крови. Достаточно для хорошей повести? Вроде бы да.
Однако за первой частью следует продолжение «Загадочное место». И сюжет первой части тут же становится перевертышем, оборачиваясь иной стороной и приобретая тем самым иной смысл. Наконец-то иномиряне обретают имя — летуны — и тут же отодвигаются от нас на задний план повествования, оставаясь смутной бессловесной угрозой, неким Богом из машины, выполняющим по ходу сюжета чисто функциональную роль. «Запад есть запад, восток есть восток и с места они не сойдут» — пока не найдут нейтральную почву для соприкосновения, не впрямую, не лицом к лицу, как в первой части, не через взаимопонимание и сострадание, а опосредованно, при помощи картины погибшего Генри. Две расы не в состоянии понять друг друга (до этого двум отдельным представителям этих двух рас в первой части автор подарил подобную возможность), но способны иметь общие объективные ценности. В данном случае — Искусство и Религию. Представители человечества держатся благодаря дружбе и взаимовыручке, вплоть до самопожертвования (поскольку каждый человек в повести жертвует чем-то важным для блага ближнего своего), и это помогает им оказаться сильнее коллективного сознания летунов (пожалуйста, обратите на это внимание, поскольку в третьей части все опять будет иначе), героя автор тоже награждает именем — Дуг и, кажется, утешением в Любви и Религии (все — с большой буквы). Занавес.
Третья часть. И тут контуры сюжета опять начинают расплываться, а персонажи — менять личины, точно на костюмированном балу — и не даром через всю третью часть карнавал проходит как сквозная тема. Но костюмированный праздник оборачивается хаосом и гибелью; книга, которую читает герой, — видимостью жизни, в которой волей-неволей приходится принимать участие, сюжет, похоже, сознательно перекликающийся с хэмингуэевской «Фиестой» — космической оперой; девушка, подарившая герою — скажем так — надежду на лучшую участь — похотливой ханжой; ее отец-священник — агентом спецслужбы Танзиса, — и (еще один перевертыш) агентом летунов; граф-посол — агентом летунов — и (оп-ля!) снова отважным патриотом; сам герой из Дугласа почему-то превращается в Патрика; мужественный писатель, агент сопротивления становится (оп-ля!) последовательно — бездарностью, импотентом, агентом летунов, а потом снова защитником человечества. Не за что уцепиться, не на чем сфокусировать взгляд. Прием «книги в книге» — смешение одной условной реальности с другой, так полюбившийся нашим авторам, вносит в сюжет еще большую (сознательно задуманную?) путаницу и в результате герои «Фиесты», ну ладно, «К востоку от Луны» — бродят по гибнущему кораблю среди свихнувшихся пассажиров в карнавальных костюмах. А самую кардинальную трансформацию претерпевают отношения — скажем так — землян с летунами.
Попробуем разобраться в них отдельно, с самого начала.
В первой повести это — могущественный народ, намеренно оставленный автором без имени, частью — птицы, частью — общественные насекомые, чья основная черта — это способность генерировать эмоциональный фон, являющийся необходимым условием для нормального существования Сообщества (или Сети — в буквальном переводе из «К востоку от Луны»). Главная особенность летунов — их предельная зависимость друг от друга, нераздельность и отсюда — частичное неприятие Человека, который способен брать, но не может давать, а еще вернее — равнодушие к человеку, как к ущербному виду, признание лишь очень условной, вспомогательной его роли. Злодеи? Нет, ни в коем случае, равнодушные, пренебрежительные — да, что, возможно, еще обиднее, чем проявление любой эмоции, пусть даже и с отрицательным знаком. Самое страшное, что может ожидать отдельного человека или все человечество — это попасть к ним в эмоциональную зависимость, поскольку брать, не давая ничего взамен, — унизительно. Во второй части трилогии, «Загадочное место» — это существа, жаждущие мести, враги, ненавидящие главного героя, но не готовые расправиться с ним физически — т. е. не опускающиеся до самосуда, — и, как уже говорилось, способные оценить искусство и религию. Тенденция противостояния двух рас в этой повести усиливается, однако все события еще можно логически вывести из коллизий первой части. Коллективной мощи уже в этой повести с успехом противостоит тепло человеческих отношений. В третьей части летуны — коварный, хитрый, мощный враг. Манипулятор. Воинственный народ, ведущий с человеческим племенем войну не на своей земле, не брезгующий использовать лучшие побуждения людей в своих грязных целях (в данном случае привязанность героя к своему покойному другу и клиенту Генри, творческие порывы писателя Джонсона, патриотизм графа и т. п.), держащий под контролем (а что может быть страшнее для представителя западной цивилизации, чем потеря свободы воли?) самых крупных представителей вражеской администрации, да еще — священника (а притворялись, что уверовали и посещали его службы!), да еще — человека искусства (так и непонятно, зачем). Словом, летуны представляют собой нечто ужасное, противное самой человеческой природе (раз уж они могут вызвать и утихомирить панику, вдохновить писателя на создание бессмертного шедевра и лишить его вдохновения, вызывать массовые галлюцинации и самое омерзительное — плеваться зеленой пеной).
Неужели можно им противостоять? Да! Запросто! Человеческая разъяренная, испуганная, съехавшая с ума толпа заткнет за пояс их хваленое Сообщество. Она покруче будет! И бедные коварные создания, сбитые с ног (в переносном смысле) такой эмоциональной дубинкой, теряют власть над своими жертвами Нарастающий ужас замкнутого пространства, действие загадочного поля — обманки, позволяющие переложить на космический лад старину Хэма и еще раз поведать миру, что человек — такой крутой парень, что со всеми может справиться, если его только разозлить как следует. В результате, мотив ксенофобии, нарастающий от повести к повести, сыграл с автором дурную шутку, ибо невозможно испытывать страх и недоверие к чужакам и благостную любовь — к своим соплеменникам. Разграничение «свои-чужие» приводит к потере объективных критериев и «общечеловеческих» — в данном случае «вселенских» этических норм. Правда, к сожалению, остался в третьей части трилогии Коннера один приличный, мягкий человек, так что мир по-прежнему в опасности.
А ведь так хорошо все начиналось в первой повести! Жаль, что закончилось именно так. Поскольку ожидание страха страшнее самого страха, а ожидание чуда — лучше, чем само чудо.
Уэйн Уайтмэн ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЛЕКГРОЗОИДОВ
© Wayne Whightman. The Return of the Electrozoids.
F&SF, May 1989.
Перевёл Андрей Колабанов
Стоит попробовать включить все наши электроприборы разом — у нас, как минимум, полетят предохранители. Себастьян Ипс — предприниматель, а в прошлом — просто жулик, сделал именно это, и дом его наполнился гарью, а сам он неожиданно встретился с существами из потустороннего мира и кое-кем ещё.
Если бы что-то не выло так громко в стенах, жизнь можно было считать прекрасной, я как раз предвкушал, как начну пожинать плоды мистического опыта. Составив себе коктейль «рамос физз» в безупречных пропорциях, я лежал на диване, выбирая, какого цвета «мазерати» купить, когда кто-то постучался во входную дверь. Кто бы то ни был, он мог подождать. Да, зелёный «мазерати» подойдёт лучше всего.
Религия — отличнейшая штука. Уже целую неделю грузовики «Ю-Пи-Эс» подвозили к моему крыльцу высококлассные стерео, компьютеры, коротковолновые радиоприёмники, телевизоры, спутниковые антенны и другую бытовую электронику. Почтальон доставил уже дюжины камер, бинокли, пачки дискет с компьютерными программами, кое-что я даже не успел ещё распечатать; транспортные фирмы с загадочными, ничего мне не говорящими названиями, привозили промышленные кондиционерные агрегаты, тяжеловесные компьютерные центры «Мэшинэкс Мэйнлайн» и жидкий азот, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, в котором они способны определить хоть фокусное расстояние глаза москита на Альфе Центавра. И всё это абсолютно бесплатно. Благодаря религии.
Как — то вчера один из шофёров спросил:
— Что это там у вас за стоны в доме? С девочкой развлекаетесь?
Вот тогда я впервые и заметил тот вой. Я улыбнулся и подписал накладную:
— Наводки какие-нибудь.
— Вы что, строите систему ракетного слежения?
— Вы про электронику? Да нет, просто конец квартала; нужно подбить баланс.
— Ну, ну. — Он надвинул кепку на глаза. — Это хороший способ поистратить лишние деньжата.
Однако вой не был связан с наводками. Выло в стенах — возможно, трубы, или что там ещё напичкано, — поэтому я пригласил своего двоюродного брата, водопроводчика, который пришёл, выпил пару кружек пива и сказал, что это, скорее всего, ветер в вентиляционной системе. Я был рад услышать такое объяснение. Мне совсем не хотелось вновь столкнуться с проявлениями потустороннего мира. Я подарил брату хороший плеер, и он ушёл, пританцовывая под Пресли.
Тот, кто стучал в дверь, был настойчив, но я не ожидал никаких поставок до завтра. Оранжевый коктейль в бокале пах, как шея очень дорогой девочки. Может, всё-таки «мазерати» цвета синей полночи будет смотреться лучше?
Всё, чем был забит мой дом, я оценивал миллиона в полтора, но мне это посылалось бесплатно, потому что я уже больше не был просто Себастьяном Ипсом — экспертом-метафизиком, а был я Себастьян Ипс, директор Бюро Проверки Промышленных Товаров, и меня ждал покупатель в аэропорту Сан-Франциско, готовый заплатить 50 % розничной стоимости за всё, что бы я ему ни доставил к субботе, а в кармане куртки лежал билет на беспосадочный рейс на острова Веско, замечательное место на Карибском море.
После моего последнего мистического видения я закрыл контору по предсказыванию будущего в торговых рядах и продал предприятие по изгнанию духов. Я внезапно понял своё жизненное предназначение, и в одно прекрасное мгновение всё переменилось.
Я лежал на заднем дворе, потягивая джин, купленный в дешёвом магазинчике, и размышлял об изгнании духов, запланированном на полдень. Какой-то чудак, живший в районе аэропорта, заявлял, что его дом заполнили духи щенков, некогда утопленных им по настоянию первой жены. В общем-то я занимался собаками и раньше, но в этот раз меня несколько угнетало их количество. Он говорил, что их там было около пятидесяти, а я потребовал с него по десять долларов за дюжину: тут надо было держать ухо востро, так как народец в той части города — сплошное жульё. Как бы то ни было, пока я лежал в саду, прислушиваясь к звукам природы.
Пересмешник, сидевший на ветке дерева в саду соседнего дома и изводивший меня, вдруг на мгновение замолк, а потом начал издавать странные, искажённые звуки. Я вслушался и через пару секунд смог различить слова. Сначала они звучали так, как-будто человек с оперированным горлом пытается играть на губной гармошке, но я всё-таки разобрал их:
— Мира духов нет, — сказал он. — А черви ждут, чтобы сожрать твоё лицо.
Это я как раз и предполагал.
Если у вас восприимчивый ум, вы можете многое узнать у природы.
Вставая, я произвёл небольшой структурный анализ этого откровения. Было довольно странно, что я узнал о несуществовании мира духов через мистическое видение, но, с другой стороны, откуда ещё и узнать? Я видел много странных вещей, занимаясь изгнанием духов, но, честно говоря, те истерические типы, что нанимали меня, были страннее всего. За долгие годы я устал изгонять духи дядей Вилмутов из микроволновых печей и расшифровывать сатанинские послания, закодированные в рекламе обуви.
Прежде чем я закончил вытряхивать травинки из волос, мне стало очевидно, что для человека, как для физической сущности в материальном мире, единственное стоящее дело, единственное рациональное и оправданное дело — прикоснуться к вещественной плоти жизни, разным товарам, предметам, значащимся в многочисленных каталогах, — земным ВЕЩАМ. И тогда, возможно, следующую зиму я смогу провести на Карибском море.
Это случилось месяца полтора назад. Теперь же мой дом был забит сверху донизу теми самыми средствами спасения от духовной жизни, а кто-то всё ещё тарабанил во входную дверь.
Я поставил свой рамос и начал пробираться через аккуратные штабеля электронного богатства. По стуку я определил, что это, скорее всего, старик разносчик газет, ветеран Вьетнама, он таскался по району и раскидывал газеты вроде «Клейморз», а проблемы их количества его никогда не тревожили. Раз или два я пугал его, пуская шум пропеллеров приближающегося вертолёта через наружные громкоговорители и выкрикивая «Воздух! Воздух!».
К несчастью; это был не разносчик — это была Сюзанна Питковски, женщина, с которой я работал лет десять назад, когда я ещё верил в правительство. Мы всё ещё встречались время от времени, и она всё ещё повышала мою гормональную активность, если я смотрел на неё слишком долго, но к тому времени я не виделся с ней уже несколько месяцев. А теперь Сюзанна пришла с ребёнком и просила об услуге.
— Посидеть с ней недельку? — Я посмотрел вниз на девочку, которую она держала за руку. — Неделю? Да я же не знаю ничего о детях. Я занят очень важным проектом. Ребёнок? Младенец! На целую неделю?!
— Мне семь лет, — сказала малышка. — Я не младенец.
Судя по форме головы, это была девочка. У неё были круглые щёчки и держала она под локтем какую-то тряпку, которая выглядела так, будто её кто-то долго жевал.
— Ты мне кое-что должен, Ипс, — сказала Сюзанна. — Моя машина стоила около двенадцати тысяч, до того как ть съездил на ней в Денвер, а теперь…
— Ладно, ладно. Зачем вспоминать о плохом?
Выражение её лица, когда я подъехал к её дому без чехла и с облезшим, поцарапанным кузовом, остаётся одним из самых мрачных моих воспоминаний. Но в тот раз я сделал большие деньги и смог замять это: я купил ей неплохой подержанный форд, на который я сам бы не соблазнился.
— Когда ты вернул мою машину, она стоила ровно доллар восемьдесят пять центов — лучшее из трёх предложений. А что это шумит у тебя?
— Сюзанна, — доверительно начал я. — Мне было видение.
Её брови приподнялись.
Я кивнул, стараясь не потерять серьёзности.
— Это случилось полтора месяца назад, мне открылось мое предназначение.
— Ипс, это что, очередная авантюра? Что ты там придумал в прошлый раз? Помнится, пытался продать эквадорцам какие-то электронные штуковины, выдавая их за миноискатели.
Я проигнорировал её сарказм.
— Однажды я лежал во дворе, погрузившись в природу, и понял, что умру, как и все люди. Я представил себя мёртвым, в деревянном гробу, а червяки… — я задохнулся от избытка чувств.
— Что это у тебя в руке, не рамос?
— Да, теперь мне уже лучше, только я понял, что Вселенная материальна и подчиняется законам механики. Мы не души в вещественной плоти, мы сами вещественны.
Она посмотрела на меня пристально пару секунд, а потом сказала:
— Я вернусь через неделю. Ее вещи в этой сумке, там же телефонные номера, которые могут тебе понадобиться.
— Я тихая, — сказала девочка. — В основном. А что это за странный шум, мама?
— Минуточку! Минуточку! — Я почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. — Я провожу здесь важный религиозный ритуал. У меня куча дел. Я ожидаю кое-какие поставки.
— Пообещай мне, что не сядешь в тюрьму, пока я не вернусь. Чем у тебя так воняет? Что такое ты здесь делаешь, Ипс?
— Я оцениваю товары, и всё. Я тестирую разные штуки, пишу кое-что и еще получаю за хранение товара. Сюз, давай отложим оплату долгов, и, может быть, мы проведём эту зиму на Багамах, как тебе?
— Я сказала, вернусь через неделю.
— Господи, Сюз, ты ограничиваешь мою свободу получать доходы от религии. Я не знаю, куда положить девочку спать — вторая комната забита широкоэкранными телевизорами. И потом, эта проблема с воем в стенах, — я надеялся, что проявляю свое отчаяние достаточно выразительно.
— Не говоря уже о вони, — вставила Сюзанна.
Малышка вертела в руках свою жалкую куклу.
— Что-то здесь непонятно пахнет, мама.
— Что это за ребёнок, который всё время называет тебя Мамой?
— Она — моя дочь.
— Меня, зовут Джоанна, — сказала малышка, вытягивая шею, чтобы заглянуть внутрь дома.
— Дочь? У тебя не было никакой дочери, когда мы с тобой в последний раз… ну, в последний раз.
— Мама меня удочерила, — сказала девочка.
— Ипс, это срочно, — сказала Сюзанна, — компания не успела принять во внимание, что я новоиспечённая мать, и они отсылают меня на неделю, а то место, куда я еду, не для маленьких детей.
— Опять доставляешь противовоздушные ракеты парагвайским партизанам?
— Не раздражайся, Ипс. Мы могли бы поехать вместе, как в старые времена, если бы ты не провёл этот тест на плавучесть с их джипами.
— Это была шутка, я не думал, что они воспримут это так серьёзно.
— У парагвайской- полиции нет чувства юмора, Ипс. Они всё воспринимают серьёзно.
— Я понял это.
Малышка всё смотрела на меня, не отрываясь.
— Ты, по крайней мере, могла бы заранее позвонить, — добавил я.
— И дать тебе время удрать из города? — Теперь уже она пыталась заглянуть внутрь дома. — Что происходит у тебя в доме, Ипс?
— Я даже не знаю, что дети едят. Или когда ложатся спать. Ты вправду думаешь, что я хороший пример для маленького ребёнка? У меня есть куча серьёзных комплексов.
— Только тогда, когда это тебе на руку. — Сюзанна передала мне сумку девочки. — Телефонные номера внутри. Семь дней — это не так уж много, если у тебя хорошая компания. Ипс, у тебя что-то горит?
— Нет, это одна компьютерная штуковина из Индии. Когда нагревается, то воняет почище навоза.
Она закрыла глаза на мгновение и покачала головой. Затем крепко обняла Джоанну, чмокнула её пару раз и уже от ворот помахал а нам обоим на прощание.
Я зашёл обратно в дом, но девочка задержалась на пороге.
— Что случилось?
— У тебя там внутри привидения, — пробормотала она.
— Уж поверь мне, никаких привидений вообще не существует. Это просто ветер гуляет по стенам, или водосточные трубы гудят, или ещё что-нибудь, ничего страшного нет.
— Пахнет тоже странно.
— Ну что ж, можешь спать на крыльце, если хочешь.
— Нет, я войду.
— Хорошо. Только не споткнись о кабели.
— Боже, — сказала она. — Сколько же у вас здесь телевизоров? — Она стояла посреди комнаты, медленно поворачиваясь. — Красиво, когда все они включены. А что это за штуки?
— Это компьютерные мониторы. Там, в другой комнате, телевизоры. А на кухне стоят стерео, это вот генераторы сигналов, в углу — запасные усилители, ну и всякие другие штуки. Сам не знаю, что это всё такое. Электроклавиатуры, синтезаторы, ритмомодули — они в моей комнате. Все они одновременно включены, чтобы я мог определить дефектный товар. Ты любишь музыку? Слушаешь мелодии из «Маппет шоу» или что? Если так, то у меня нет ничего такого.
— Я люблю «Роллинг Стоунз», — сказала она.
Я посмотрел на неё внимательно.
— Где ж тебя такую нашли?
— В Скрэптоне. В мусорном баке. Потом я жила в приютах. Можно мне каши? Я не съем много.
Она попросила меня прокрутить ей «Мону», пока она ела, и бормотала слова, уминая коробку хлопьев, — девочка знала толк в хорошей музыке.
Ближе к концу песни она приостановилась, вслушалась и сказала:
— Странный звук.
— Да, у меня тут всё подключено вот к этой чёрной коробке, которая воняет коровьим навозом, и уже несколько дней Что-то у ней не в порядке. Верно те, кто её смастерил, были порядочные игнороиды.
— А что такое игнороиды? — Облачко хлопьев вылетело у неё изо рта.
— Нечто среднее между адвокатом и человеком.
Она кивнула головой. Формировать мировосприятие ребёнка — просто удовольствие.
— Давай я расскажу тебе об адвокатах, — предложил я. Она внимательно выслушала меня, а затем я изложил всё, что думал о врачах и об извлечении прибыли из лечения больных. Я начал подумывать, что мы сойдёмся.
Пока малышка смотрела телевизор в соседней комнате, я решил, что отсоединю вонеиспускательный модуль Джи-И-Ди. Джэнерал Электрозоидал Дайнэмикс была совместной компанией Сан-Хосе и Нью-Дели, утверждавшей в своей брошюре, что её продукты создадут новый стандарт для «полного умственнотелесного электрического ощущения с УЛЬТРАЭЛЕКТРОКОРТИКАЛЬНЫМ интегратором для всех приборов». Я посоветую им, чтобы на следующую модель они поставили очиститель воздуха.
Но выглядел он красиво — такой овальный, наподобие футбольного мяча с кучей блестящих окаймляющих из нержавеющей стали, цветных индикаторов и тугих кнопок того рода, что медленно вдавливаются внутрь, как будто что-то живое пытается до тебя оттуда добраться.
В руководстве Джи-И-Ди было множество восклицательных знаков, в глаза бросались выделенные жирным шрифтом или курсивом слова, девушки в бикини радостно указывали на кнопки управления. Утверждалось, что оно «наводит порядок в сложных электронных развязках», который в моём доме, доверху набитом электроникой, был просто необходим. Из-за его отсутствия проблемой стало уже вообще пробираться по комнатам. А мне предстояло отсортировать первоклассный товар от всего прочего транзисторного хлама до моего отъезда из страны. «Электрозоидный Одоральный Интегратор» звучало многообещающе. Поэтому, глянув на его цену в 2 999 долларов 95 центов, я предложил Джи-И-Ди испытать его.
Я рассчитывал заготовить к концу недели какую-нибудь «рыбу» на одном из текст-процессоров и заполнить пустые места результатами моих тестов каждого из товаров. Потом, прежде чем какая-нибудь компания успеет выразить неудовольствие, я сбагрю ненужное своему клиенту в аэропорту и несколькими часами позже буду отдыхать где-то в Карибском море на островах Веско. Религия изменила мою жизнь.
…Я представлял себе зимний домик в Аризоне, цветущие холмы, полторы тысячи ватт «Роллинг Стоунз», ревущих со всех сторон, и сексуальный голос модуля Мэшинекс/Мэйнлайн, спрашивающий: «Тебе принести кофе сейчас, Себастьян, или после того, как я закажу для тебя гостиничный номер в Афинах?»…
Инструкция к этой штуке была немного странной, полной опечаток и примечаний на хинди в скобках. Вместо одной или двух сотен ватт она питалась от микроскопических 0,2 ватта. А привычный интегрирующий процессор у неё заменяло нечто, называемое Вишнузоид-3.
Мне надо, было только подключить всё, инструкция подчёркивала «ВСЕ!», — к разъёмам, а интегратор довершит остальное. Казалось, это стоит попробовать, тем более что у меня скопилось около девяноста пяти различных стерео, компьютеров, телевизоров и микроволновых печей, ждущих проверки.
Штуковина раскладывалась на восемь лепестков с полосками похожего на замазку вещества в середине. Инструкция советовала подключить «ВСЕ!», я так и сделал. Выглядело слишком просто, но кто я такой, чтобы спорить с лучшими умами Сан-Хосе и Нью-Дели, тем более что меня ждали фешенебельные курорты «Милкус Рэкет Ризорт»? К несчастью, в доме воняло теперь, как в хлеву.
Пока девочка смотрела девяностодюймовый телевизор, я решил отключить Электрозоидный Ультра-Кортикальный Испускатель Вони, но тут заметил с противоположной стороны от выключателя маленькую наклейку, возвещавшую: «В начале работы механизм может испускать тепло и запахи. Избегайте чрезмерно частого включения/выключения».
«Ну, и чёрт с ним», — подумал я. Я терпел кое-что похуже Вони.
Джоанна неслышно подошла ко мне.
— Я не хочу больше смотреть телевизор, — сказала она, комкая свою куклу в руках и уперевшись взглядом мне в колени.
— Через десять минут будет повтор «Ози и Гарриет».
— Стены слишком шумят.
— Тогда пойди и поиграй на улице.
— Мне не разрешается играть в темноте.
— Правда? Я всегда играл по вечерам на улице, когда был Ребёнком. Лучшие свои игры я проводил в темноте.
Она покосилась на меня, всё ещё вертя свою куклу.
— Мистер Ипс, а вы знаете какие-нибудь волшебные фокусы?
— Фокусы?
— Мама говорила, что вы знаете больше фокусов, чем кто-нибудь ещё. Вы мне не покажете?
— Ну, я, конечно, знаю кой-какие штучки, только это не волшебство. Просто ловкость рук. После ужина я тебе что-нибудь покажу.
Её глаза засветились, она улыбнулась и сказала:
— О'кей! — Потом улыбка исчезла. — Мама говорила, что вы странные вещи едите.
— Говорила, да? Сегодня у нас на обед будет паштет. Это настоящее королевское блюдо. Я знал одну королеву, которая ела паштет три раза в день.
— Вы что, правда знали королеву?
— Да, знавал, пять или шесть. Не близко, конечно.
Её глаза загорелись восхищением. Но потом…
— Мистер Ипс, — сказала она. — А макарон у вас нет? Я бы хотела макарон. Я много не съем.
— Макароны? Конечно, вообще-то многие королевы любят макароны.
Она достала свою курточку из сумки и сказала, что это её мантия. С царственным видом она приступила к макаронам.
Не очень-то ловко прошли у меня фокусы после ужина. Когда с третьей попытки я всё же угадал задуманную ею карту, она гуманно удивилась. Но когда Джоанна отвлеклась, я смог вытянуть монетку из-за её уха. Правда, она впечатлялась гораздо больше, когда я ей её отдал. Вот и все фокусы. Кроме того, всё в мире материально и подчиняется законам механики, и Джоанне не принесло бы ничего хорошего, если бы она поверила в магию. Я не хотел бы, чтобы девочка превратилась в одну из тех сдвинутых, что нанимают людей вроде меня для изгнания духов щенков.
Я рассчитывал повозиться ещё с оборудованием после того, как она ляжет спать, но комната, забитая до потолка, с трубами, воющими в стенах, и провонявшая насквозь коровьим навозе ад, слишком удручала. Я даже начал скучать по тем временам, когда мы с Сюз сидели и попивали белый ром, наслаждаясь видом агентов парагвайской секретной полиции, гоняющихся друг за другом.
Я нашёл книгу старых фокусов в одном из шкафов и выудил оттуда парочку попроще, чтобы показать их малышке завтра.
Спать я отправился, думая о теннисных кортах на Карибском море, но… не знаю, теперь уже они не так манили, почему-то.
Под утро я проснулся от крика малышки и кинулся посмотреть, что случилось.
Она сидела в кровати, раскрасневшаяся, с широко открытыми глазами.
— Мне приснились чудовища, — сказала она. — Огромные червяки, живущие в стенах.
— Не переживай так, — сказал я, стараясь выглядеть поувереннее. — Каждому может присниться. Всё это материально и подчиняется законам механики. Сны вызываются случайными возбуждениями нейронов в мозгу. Твой мозг — как компьютер, если хлам не выкидывать время от времени, он помешает тебе в самый неподходящий момент. Если сны не снятся тебе ночью, то видишь их днём наяву.
— Правда? — Похоже, она заинтересовалась этим. Почему бы не дать ребёнку поинтересоваться биохимией мозга?
— Правда. Однажды я три недели подряд пил одно лекарство, которое не даёт уснуть. После чего ко мне в дверь постучала женщина с головой птицы и пыталась продать телефонную книгу, а когда я сказал, что у меня уже есть одна, она чуть не выклевала мне глаза.
— Ух ты! — Она посмотрела на стену напротив кровати. — Вон там что-то пищало.
Я подошёл к стене и пару раз ударил по ней ногой.
— Заткнись там! — проорал я. — Так-то лучше.
— Спасибо, мистер Ипс.
Обычная вонь в доме, казалось, усилилась. Я зашёл в гостиную. Боже! Я оставил всё включённым на ночь. «Мэшинекс/Мэйлайнеры» натяжно гудели в утреннем слабом свете, а Дюжины мониторов светились разноцветными разводами. Теперь уже воняло, как на свиноферме.
Электрозоидный модуль был горячим до невозможности, и я подумал уже выключить его, но угрожающая наклейка упредила Меня от этого.
«Фиг с ним, — подумал я. — Пусть сам себя кремирует. Будь, что будет».
И пошёл готовить девочке завтрак.
Оказалась, она против копчёных устриц и груш в бренди, поэтому я сделал ей тосты. Чтобы развеселить её, я подсел к столу и начал перемешивать колоду карт. Она взглянула было на карты, а потом вновь занялась тостом. Она явно не ожидала приятного сюрприза.
— Новые фокусы, — сказал я.
— М-м.
— Выбери карту.
Она взяла ближайшую.
— О'кей, засунь её куда-нибудь обратно.
Она засунула. Я сделал скрытное движение, чтобы её карта вышла наверх, но прокололся.
Это меня погубило. Я решил было упасть в припадке кашля на пол и заслужить её симпатию таким образом, но девочка, наверное, сама не раз так делала. Ну что ж, двинемся дальше с фокусами. Может, сработает, может, не сработает. Нет, не сработает. А может…
— Хорошо, — сказал я, раскинув карты веером возле ее тарелки. Это должна быть седьмая карта. Я посчитал, а затем показал на седьмую. — Это она. Наверное.
Джоанна ещё несколько раз откусила от тоста, а затем потянулась и перевернула карту.
«Прощай, самоуважение», — подумал я.
Девочка прекратила жевать.
— Как ты это сделал? — сказала она ещё с полным ртом.
— Фокус такой. Давай ещё проверим. — Она выбрала карту и я тоже, потом перемешал колоду, и обе наши карты легли рядышком.
— Ух ты! Это чудо!
— Нет, просто фокус, — я вспомнил, вроде, ещё один. — В этом, — сказал я, решив, что смогу сжульничать ещё пару раз, пока мне везло, — я не очень уверен. Давай-ка вспомним как это делается.
Я перетасовал колоду. Незаметно взглянул на нижнюю карту, сделал маленький пасс рукой и сказал:
— Загадай цвет: красный или чёрный?
— Красный.
— Черви или бубны?
— Мне нравятся бубны, — она сказала застенчиво. — Они похожи на бриллианты, которые носят королевы.
Я разложил карты на столе.
— Скорей всего, ничего не получится, — сказал я. Но всё получилось: от двойки до туза, все верхние тринадцать карт, были бубны по порядку. Я не надеялся больше чем на одну карту бубён.
— Ух ты!
— Выбери ещё. — Я был встревожен. Она выбрала, посмотрела на неё внимательно, а затем положила обратно в колоду. На этот раз я перетасовал тысячу раз, снял шесть раз с разных сторон и сказал:
— Это верхняя карта.
Это просто не могла быть верхняя карта.
Джоанна взяла карту за уголок и перевернула. Та самая. Девочка завизжала от восторга.
— Мистер Ипс! Это великолепно! Как у вас получается?
— Ты что, издеваешься надо мной? Это не может быть та карта, которую ты выбрала. — Но весь вид Джоанны — слёзы чуть не брызнули у неё из глаз — показывал, что она не врала. — Ладно, ладно. Должно быть, я способен на большее, чем думал.
— Но это, правда, карта, которую я выбрала.
— Да. Иди оденься. Может быть, позже мы ещё поделаем фокусы.
Так как на улице было сухо, я отправил её погулять во двор. Потом попытался заставить один из «Мэшинекс/Мэйнлайнов» сделать что-нибудь, но сердце моё к этому не лежало. Экран выдавал мне беспорядочные вспышки и сообщения об ошибке и перезагрузке. Если не поручать им рассчитывать траектории ракет или след доядерных частиц, они просто сидят и дремлют.
Я всё думал о картах. К одиннадцати утра я решил, что малышка просто не желала огорчать меня, говоря, что последний фокус получился, хотя это было и не так.
В одном из шкафов я нашёл шёлковый носовой платок и складные цветы, завалявшиеся здесь со времён моего детства. Бумажные цветы были в довольно плохом состоянии, но они всё ещё раскрывались, когда я вытаскивал их из рукава. Я подумал, что покажу букет Джоанне перед сном.
— Что вы делаете, мистер Ипс?
— Зачем ты ко мне подкралась?
— Я громко хлопнула дверью. Ещё подумала, вы будете ругать меня за это. Моя новая мама ругает. Это что, ещё один фокус? Можно мне посмотреть, пожалуйста?
— Ну… ладно. Смотри — обычный платок.
— Похож на шёлковый.
— Да, да, это обычный шёлковый платок. Как у королев. В руках ничего, обычный королевский платок. Скажи «Вуаля!».
— Вуаля! — взвизгнула она.
Я взмахнул платком, и цветы…
— О, мистер Ипс! — Она захлопала в ладоши.
Цветы ожили. Настоящие розы. Бледно-лиловые и тёмно-красные розы, которые пахли так же, как одна пражанка, которую я знавал когда-то.
— Можно мне взять их насовсем? — Столько надежды было в её голосе. Я протянул ей цветы. — А вы можете ещё что-нибудь достать из платка?
Я посмотрел в рукав. Цветы исчезли. Это всё. Больше фокусов с платком я не знаю.
— А что, если… — Она плотно сжала губы. — Может быть, вы просто попробуете? Может быть, у вас получится достать оттуда куклу? Такую, с рыжими волосами.
Я положил платок на ладонь и залез под него себе в рукав. Что — то там лежало, но оно было слишком мало для куклы… пока я не начал это вытаскивать.
Кукла была сантиметров сорок ростом, у неё были рыжие косички, сплетённые из ниточек, и коротенькое в голубую и белую клетку платьице. Ситуация становилась всё страннее. Но источник этой странности всё равно оставался материальным и подчинялся законам механики. Только ей я мог полностью доверять. Может платок… или, может, рукав… Что бы там ни было, этому существовало объяснение, материальное и подчиняющееся законам механики.
Джоанна прыгала на месте от радости.
— Мистер И-ипс! Мистер И-ипс!
— Мне нужно немного передохнуть, — выдавил я. — И выпить.
— Ну так достаньте из платка.
Я посмотрел на неё очень внимательно. Либо у этого ребёнка были связи с потусторонним миром, либо у нас с ней была одна и та же галлюцинация. Я накрыл руку платком, и когда она провизжала «вуаля» и хлопнула в ладоши, что-то холодное оказалось у меня на ладони. Это был тройной рамос безупречного цвета. И безупречного вкуса.
— Можно мне «кока-колу», пожалуйста, мистер Ипс? Совсем маленькую чашечку.
До моих ушей донеслось какое-то бормотание, я понял, что — моё, и по телу побежали мурашки. Я опять подержал платок над рукой, она сказала слово, и вот — кока-кола в литровой кружке.
— Подойдёт? — промычал я.
— О да, мистер Ипс. Спасибо. — Джоанна ухватилась за кружку обеими руками.
— Иди, посмотри телевизор, — сказал я ей. — Мне нужно вспомнить ещё пару таких фокусов.
Она тихонько вышла из комнаты, держа кружку с напитком в одной руке и рыжеволосую куклу — в другой.
Что-то происходило здесь, а я не знал, что. Но раз уж я неспециально делал фокусы, и магия не вписывалась в моё мировоззрение, получается, что кто-то ещё делает это со мной, или я просто сошёл с ума за завтраком.
Сюзанна подозрительно мало распространялась о своём задании, возможно, какое-нибудь демоническое агентство заплатило ей, чтобы она обернулась против меня… Парагвайцы вполне способны на такое, даже могли бы заставить сироту подсыпать мне психотропный препарат в пищу. Возможно, и тот пересмешник тоже связан с ними — это могла быть механическая игрушка, построенная одним из этих людоедов-фашистов, всё ещё пытающимся отомстить кому-нибудь. Эти парагвайцы… но ведь, если я попробую рассказать о них, через полчаса меня посадят в психушку.
Хотя оставалась возможность, что именно я был ненормален. Помню, давным-давно моя мать говорила, что если я когда-нибудь стану работать на правительство, то или сойду с ума, или потеряю зрение, потому что правительство — не больше, чем возведённый в национальный масштаб орган самомнения.
Я посмотрел на гравировку на своих часах — по крайней мере, я не слеп. И полностью себя контролировал, когда решил спрятаться в шкафу и пореветь себе в ботинок.
Меня терзала одна рациональная мысль. Такие мысли редко решали мои проблемы, чаще — только больше запутывали меня. Может быть, пришло время сделать что-то. Я как раз пытался припомнить, куда же засунул билет на острова Веско, когда Джоанна вошла с удивлённым видом.
— Мистер Ипс? По телевизору везде только чудища.
— Хорошо, прекрасно.
Она посмотрела на меня, пожала плечами и ушла обратно.
Ладно, сейчас я не могу сбежать, из-за малышки. Так что либо я сам спятил, либо кто-то ещё пытался свести меня с ума. Реальные вещи не появляются из ниоткуда. Это была бы магия, и я снова оказался бы наедине с духами щенков и сатанинскими посланиями в рекламе обуви… Ни за что. Даже безумие лучше, чем это. Если мой рассудок безвозвратно меня покинул, тогда всё безнадёжно, и я ничего не мог с этим поделать — так что эту возможность временно можно было исключить. Но если это парагвайцы…
— Мистер Ипс?
Снова этот ребёнок.
— Мистер Ипс, чудища хотят с вами поговорить.
— Скажи им, что я занят.
Ушла. Одну интересную возможность тем не менее следовало хорошенько рассмотреть в сложившейся ситуации. Если, допустим, меня физиологически преследует какая-нибудь секретная служба наркоманов-нацистов, то меньше всего они ожидают, что я проигнорирую всю эту чертовщину. Тогда посмотрим, на что они способны. Я снял скатерть со стола.
— Джоанна!
Она вошла, держа в руках свою новую куклу.
— Да, мистер Ипс.
— Давай беситься.
— Давайте.
— Садись. Велосипед хочешь?
Её рот широко раскрылся от удивления.
Я встряхнул скатерть.
— Скажи волшебное слово!
— Вуаля! — радостно вскрикнула девочка.
Из-под скатерти вывалился миниатюрный десятискоростник, перламутрово-розовый с ромашками на крыльях. Он качнулся и шлёпнулся на бок.
Джоанна обхватила свои маленькие круглые щёчки ладошками.
— Это то, о чём я мечтала, мистер Ипс! — Она вскочила с кресла и прижалась к моим ногам. — О, мистер Ипс!
— Всё ещё только начинается, — сказал я. — Давай-ка попробуем что-нибудь ещё. Как насчёт…
— Большого пушистого кота? — с надеждой в голосе спросила она. Хорошая мысль. Просьба о живом существе может оказаться не по силам тому, кто за этим стоит.
— Вуаля, — сказала она, не дыша, и пятикилограммовый кот, серый с чёрными полосками, появился из скатерти и, мурлыча, упал на пол. Она взяла его на руки и посмотрела на меня с невыразимой признательностью. — Откуда вы узнали, мистер Ипс?
— Я же профессионал, — заявил я. — А что, если…
«Ну конечно же, как я раньше…» Теперь я знал.
— А как насчёт ста килограмм мелких непомеченных купюр?
Она пожала плечами и продолжала гладить кота.
— Почему бы нет. Вуаля!
Пачки посыпались из-под скатерти и похоронили под собой велосипед. Это было восхитительно.
— Давай ещё раз, — сказал я. — Мне кажется, не совсем получилось. Я хотел сказать: сто килограмм непомеченных сотен с номерами вразбивку.
— О'кей. Вуаля.
Сотни пачек банкнот упали к моим ногам и засыпали их по колена. Я был богат, сказочно богат и, возможно, приговорён к смерти парагвайскими ударными отрядами. Или всё же безнадёжно болен? Эта возможность казалась всё более и более реальной.
— Можно моему котику немного молока, пожалуйста, мистер Ипс? Я не думаю, что он выпьет много.
— Молока? Нет проблем. — Я использовал платок. — Может, и мы пообедаем? Пара гамбургеров с сыром и хрустящий картофель.
— Это было бы и вправду здорово, мистер Ипс.
— А есть будем с серебряных блюд. И ещё пинту «Гиннесса». И украшения для стола из тысячедолларовых банкнот, красиво свёрнутых в форме цветов.
— О, да, мистер Ипс, я люблю цветы. У королев всегда цветы на столах.
Мы пообедали, и во время еды меня вновь посетила надоедливая рациональная мысль. Было немного странно, что после моего мистического опыта, опровергнувшего существование мистических опытов, нечто, очень напоминавшее магию, удовлетворяло теперь мои материалистические запросы. Всё же я видел только один выход. Как советовала моя мать: «Что бы ты ни делал, делай хорошо». Поэтому я собирался вытрясти из сложившейся ситуации всё возможное.
Затем, расчистив от денег центр комнаты, мы провели остаток полудня с её дремлющим котом, заставляя вещи появляться и исчезать. Обезьяны, попугаи, маленькая горилла с глупыми привычками, стайка бабочек с размахом крыльев в шесть дюймов, орхидеи для журнальных столиков; а ещё я материализовал Дюранго Ккда и Лэша Ларю прямо из пятидесятых, чтобы показать Джоанне настоящих героев.
— Если твоё сердце чисто, — сказал Кид, весь в чёрной коже с серебряными заклёпками, — то зло тебе не страшно.
Лэш показал нам свою филигранную работу с кнутом, сбив лепестки с орхидей один за другим. Джоанне понравились чёрные костюмы, и кнут, и настоящая кожа. Некоторые дети просто рождаются с хорошим вкусом.
Я поставил «мазерати» цвета голубой полночи в гараж рядом с «фрезиер-нэшем» 1937 года, под гробообразным капотом которого стоял двигатель от «крайслера-420». Машины появлялись из-под скатерти в виде клубов дыма, которые уплотнялись в красоту и сталь. Я чувствовал, как кровь стучит у меня в ушах. Очевидно, я сходил с ума.
На ужин Джоанна попросила хот-догов, а я ел икру, паштет и густой шоколад на десерт. Для кота я материализовал немного тунцового филе, но он сидел и смотрел на меня, пока я не наколдовал ему то, что он любил. Это оказался болгарский перец. Странный кот.
Чтобы улучшить наше пищеварение, я вызвал Клеопатру в качестве танцовщицы. Почему бы нет? Позвольте вам заметить, она не отвечала современным стандартам красоты. У неё был маленький узкий подбородок и мелкие волосы под мышками, а пахла она… Джоанна посмотрела на меня с упрёком, как только до нас донёсся запах от великой царицы, и я услал её обратно.
К шести часам мы оба вымотались, так что она пошла посмотреть немного телевизор, а я вытащил баксы из шкафа и занялся счётом.
Но Джоанна вернулась уже через десять минут.
— Мистер Ипс? Там в телевизоре всё ещё чудища, и они всё ещё хотят с вами поговорить.
— Скажи им, что я сошёл с ума и должен пересчитать свои деньги.
— Хорошо. — Джоанна ушла к себе в комнату, и я услышал, как она передаёт мои слова. Она была послушной девочкой. С чуть преувеличенным воображением, немного неконтролируемым, как я думал, ползая по комнате на карачках, зарывшись по локти в пачки денег, но кто я был такой, чтобы критиковать? Если я даже ещё и не сбрендил, то уже скоро это должно было случиться. У меня было достаточно зелёных, чтобы удовлетворять все вредные привычки, о которых я когда-либо мог подумать. Со всей этой наличностью я имел возможность непрерывно баловать себя.
— Они всё ещё хотят поговорить с вами, сэр, — сказала она с порога комнаты.
— …сто шестьдесят семь, сто семьдесят шесть… Боже, Джоанна, теперь мне придётся начинать сначала. Сама поговори с чудовищами.
Она ушла, а я вытянул из бездонного платка бумагу и ручку и начал ставить галочки. Если она снова придёт…
— Они говорят, что застряли, сэр. — Похоже, она чувствовала, что я уже начинал нервничать, и разговаривала из коридора.
— Послушай, если хочешь поиграть здесь со своими куклами или котом, я не против, но прекрати нести эту ерунду про чудовищ. Ты хочешь ещё что-нибудь? Ещё одну куклу? Целую кукольную семью? Пятнадцать или двадцать штук?
— Они сказали, что хотят, чтобы вы, ну, сделали что-то там такое с полем. Чтобы они смогли уйти. А сейчас они застряли здесь.
— Я завязал с изгнанием духов. Если они застряли, прекрасно, пусть так и остаются.
Она посмотрела на меня секунду и ушла. Наконец, я смог спокойно посчитать. Если я и тронулся, то ровно настолько, чтобы считать себя обладателем 2,3 миллиона долларов. Мне было хорошо. Мне было очень хорошо.
Около десяти, под трескотню пересмешников в сплетении глицинии, я уложил Джоанну в постель. Кот, которого она назвала Скраффом, растянулся возле неё, положив свой подбородок ей на руку.
— В телевизоре вправду были чудища, мистер Ипс.
— Если Скрафф будет спать здесь, я материализую для него соломенную подстилку.
— Спасибо за всё, что вы подарили мне, мистер Ипс. Мне понравились фокусы. А Скрафф — больше всего.
— Спокойной ночи, малышка. Кто знает, что принесёт завтрашний день.
Я пошёл к себе в спальню, отодвинул в сторону несколько микроволновых печей и голографических камер и приготовил скатерть. Клеопатра оказалась не столь интересной, но с самого ужина я думал о Сильвии Ромилар, актрисе, лежавшей в коме, кумире миллионов, выставленной на всеобщее обозрение в Голивуде. Я видел её один раз, накрытую пластиковым колпаком, в белом свадебном платье, дышавшую так медленно…
Теперь я проявил её, бодрую и возбуждённую.
— Привет, Ипс, сказала она голосом, за право услышать который многие мужчины согласились бы отдать жизнь. — Ты не занят следующие пару часов?
Когда я наконец заснул, то отключился мгновенно, несмотря на завывания в стенах. Мне приснилось, что провода в доме раскалились, и их можно было увидеть сквозь изоляцию. Каждый кабель и проводок стал сначала оранжевым, а потом жёлтым. Гвозди в каркасе нагрелись докрасна, и свет начал проникать во всё электрооборудование в доме, я слышал, как Джоанна негромко вскрикивает от страха где-то в коридоре.
Открыв глаза, я почувствовал внезапное облегчение от того, что проснулся в своей кровати, а не застрял в кошмаре.
Мне не понадобилось включать свет. Все провода в доме действительно раскалились. Каждый стерео, комбайн, все компьютеры и микроволновые печи были оранжевыми и начинали желтеть. Гвозди в стенах прорисовывали каркас красными точками.
— Мистер Ипс! Мистер Ипс!
Я выбежал в прихожую, чтобы вынести малышку из дома на случай, если он полыхнёт, но на полпути осознал, что в доме было холодно, как в холодильнике, и что в оранжевом свете, исходившем отовсюду, я мог разглядеть пар, выходивший у меня изо рта при дыхании. Мурашки пробежали по всему телу.
Джоанна сидела на кровати, прижимая к себе кота и показывая на один из девяностодюймовых экранов телевизоров.
— Там что-то есть! — пробормотала она, стуча зубами от холода. — Чудище!
Экран вспыхнул белым — слишком ярко для любой обычной передачи. Но как только я подумал, что это очередной электронный сбой, что-то начало образовываться в белизне; сформировалась чёрная полоска, как пустота между двумя невидимыми губами. А потом оно заговорило.
— Отпусти нас домой, — сказало оно резким электрическим стонущим голосом.
— Мне страшно, — завизжала Джоанна.
— Кто вы? — спросил я. — Санрайз Коллекшен Эсоушиэйтс? Я же расплатился с вами в прошлом месяце. Парагвайское сыскное агентство? Отцепитесь от меня.
— Мы застряли здесь, — произнёс разрез рта из центра экрана, из белого сияния. — Мы не знаем, где мы… — звук приглушился ненадолго, и накал проводов в доме упал вновь до оранжевого. Потом всё проявилось с прежней силой. — … из твоего прошлого и настоящего, — голос задребезжал. — Мы не знаем, куда попали.
— С кем это, вы, думаете, здесь связались? — спросил я. — С любителем? Не волнуйся, — сказал я Джоанне. — Я профессионал.
— Отключи своё силовое поле, — сказало оно. — Хронопластическая аномалия дезориентировала наши… — Опять раздался треск и огни потускнели, но всё вернулось с ещё большим Напором. — Мы в ловушке здесь. Мы потеряны.
— У меня прям сердце кровью обливается, — сказал я. — А что я с этого буду иметь?
Рот, похоже, предвкушал что-то:
— У тебя останется то, что мы тебе послали.
— Я не хочу расставаться со Скраффом, — быстро проговорила из-за моей спины Джоанна.
А я не хотел расставаться с машинами, деньгами, памятью о Сильвии Ромилар.
— Ладно, ребята. Что мне выдернуть сначала?
— …Не имеет значения… Отключи своё силовое поле.
Я вытащил Джоанну на улицу, к дальнему углу дома, где находились электрические рубильники, а её кот пошёл за нами, как собака. Снаружи дом выглядел вполне нормально, за исключением разве что странного свечения, проходившего через стены, как будто проглядывал его каркас.
Ящик с рубильниками выглядел так, будто там проходила мексиканская фиеста, внутри повсюду вспыхивали радуги электрических разрядов. Над ним я увидел маленькое колёсико с чёрной полоской, вращающееся со скоростью две с половиной тысячи оборотов в минуту.
— Мне нужно только переключить этот рубильник, — сказал я Джоанне. — И всё будет в порядке.
Едва я перебросил выключатель, все окна в доме вздулись, потрескались и разлетелись мелкой крошкой по двору. «Б-з-з» стояло у меня в ушах, пока по всей округе взрывались трансформаторы, высоко на телеграфных столбах. Над домом, как огромный пузырь, расширялся голубой электрический разряд и вдруг исчез.
Потом, сквозь звон в ушах, я услышал как завыли сирены.
Несколькими днями позже рабочие вставляли последние стёкла в окна на фронтоне, когда подъехала Сюзанна. Пересмешник в глицинии лаял на Скраффа, сидевшего посреди двора и наблюдавшего за рабочими, вставлявшими стёкла в оконные рамы.
— Новая кошка? — спросила меня Сюзанна. Джоанна прижималась к её ногам, но специально отстранилась, чтобы заявить:
— Это мой кот. Его зовут Скрафф.
Сюзанна довольно кивнула.
— Он выглядит здоровым.
— Исключительно здоровым, — согласился я. — Добро пожаловать назад. Заходи, выпьем рамоса.
— Мама, — прошептала Джоанна, — у нас есть тайна.
На лице Сюзанны проступило сомнение… Затем она посмотрела на рабочих и на подгоревшую местами штукатурку. — О Боже, милая, ты в порядке? Что, был пожар?
— Со мной всё нормально, мамочка. Мамочка, — Джоанна снова перешла на шёпот, — у нас были чудища в стенах, а Скрафф электрический.
Теперь Сюзанна явно была недовольна.
— Ты смог ей понравиться, Ипс. Господи, всего за неделю ты смог ей понравиться, — она покачала головой. — Что ж-- она сделала долгую паузу. — Это неудивительно.
— Ты хочешь сказать, она — мой ребёнок?
Сюзанна кивнула.
— Я так и думал. Догадывался, понимаешь, потому что у неё особое инстинктивное стремление к самым лучшим вещам в жизни. Сюз, заходи, поговорим о нашем путешествии в Нассау. И ещё я покажу тебе, что у меня в шкафу. А потом поговорим о нашем путешествии на Крит. Да что там, прикинем, может, махнём в Пекин и Сингапур.
После того, как я выдворил из дома полицию той ночью и успокоил свои нервы, подержав немного в руках свою наличность, я обнаружил, что большая её часть датирована двадцатью или тридцатью годами позже в будущем, но достаточная часть была употребимой уже сейчас, так что мы могли провести остаток лета хоть в Монголии, если б захотели.
— Значит, Сингапур, — сказала Сюзанна. — Что ты такого натворил, Ипс?
— Таити? — предлагал я. — Тасмания? Галапагосы?
Один из рабочих помахал мне.
— Эй, мистер! Этот кот так смотрит на нас. Не могли бы вы, знаете, убрать его как-нибудь?
Скрафф подобрался к нам. Всё в нём было нормально, за исключением его дизельного урчания. И его рудиментарной способности понимать английский.
— Скрафф ест овощи, мама.
— Ипс, — сказала Сюзанна. — У тебя всё не как у людей.
— Несмотря на это, — ответил я, — всё материально и подчиняется законам механики. Поверь мне.
— Правда, правда, мамочка, — подтвердила Джоанна. — У нас был вой в стенах, и мы думали, что это парагвайцы, а это оказалась хронопластическая аномалия, и…
Я слегка подтолкнул её локтем и кивнул в сторону рабочих.
Сюзанна посмотрела на Джоанну, потом на Скраффа, потом на подгоревший местами фронтон дома.
— Ипс… Ладно, ладно, я выпью рамос. — И она зашла внутрь.
Сюзанна Питковски была особым материальным проявлением, подчинявшимся законам механики, которое выводило из состояния равновесия мою духовную основу, которая, конечно, являлась лишь сочетанием связующих нейронов между головным мозгом и конечностями. А жизнь становилась всё интересней с каждым днём.
Дин Уитлок ЧЕЛОВЕК ПО ФАКСУ
© Dean Whitlock. The Fax Man.
F&SF, September 1990.
Перевела Елена Сухачёва
Джерид Террол восстановился к жизни в кабинке факса. Он заморгал глазами и затряс головой, на мгновение сбитый с толку ощущением того, что это уже с ним было. Он знал, кто он и где он, и почему здесь находится, но знал также, что его не существует на самом деле. Он не был настоящим Джеридом Терролом. Тем Джеридом Терролом, который находился сейчас в своем офисе компании «Уорлд Продактс Анлимитед, Лимитед» и собирался пойти на совещание с высокопоставленными лицами по поводу приобретения в собственность (читай, экономического захвата) «Лунар Ресурсиз, Инкорпорейтед». Этот Джерид Террол («Я», — сказал он самому себе) был человеком-факсом.
Его сознание прояснилось, а с ним вместе прояснилась и цель. Джерид Террол улыбнулся, потянулся и вышел из кабинки, готовый приняться за дело. У него было три часа, прежде чем эта копия.(«Я», — напомнил он себе) исчезнет. Три часа, чтобы провести совещание с парнями из Западных Конгломератов, выжать из них все, что можно, и составить отчет. Три часа. Достаточно времени для такого человека, как Джерид Террол.
Он отыскал свою одежду в раздевалке рядом с кабинкой и быстро натянул ее на себя. Прибытие к месту назначения нагишом не волновало Террола (это лучше, чем смешивать свои молекулы с джинсами). Однако он терпеть не мог тратить время на одевание. Его секретарша заранее послала по факсу предварительно уменьшенный комбинезон стального цвета и фуляровый носовой платок с темно-бордовым рисунком по желтому полю. Цвета власти. Террол посмотрел на себя в зеркало и повязал галстук. Теперь он полностью был Терролом. Он выглядел, как Террол, и чувствовал себя, как Террол.
Некоторые люди не переносили переправки по факсу. Они не могли примириться с тем, что углеродные копии существовали сами по себе. Или они не хотели растворяться спустя три часа. Или не могли смириться с прибытием к месту назначения нагишом. Такие люди все еще летали на совещания самолетом. Они все еще возили с собой портативные компьютеры. Террол ухмыльнулся при мысли об этом. Портативные компьютеры для хлюпиков! Он вышел из раздевалки.
И попал в самую гущу событий. Шло преследование. Два охранника в форме Западных Конгломератов бегали взад и вперед, стараясь загнать в угол коротенького, быстрого и очень толстого человечка в зеленом комбинезоне. Охранники имели преимущество. Кабинки факсов выходили в широкий коридор, который, с одной стороны, оканчивался стеной, а с другой — имел ворота. Толстяку некуда было бежать, кроме как по кругу. Но это у него здорово получалось. Когда Террол вышел в коридор, толстяк сумел увернуться от одного охранника, рикошетом отскочил от стены, толкнул бедром другого охранника и рванул к воротам.
— Посторонитесь, сэр! — крикнул один из охранников Терролу.
— Стой! Стрелять буду! — прокричал другой, обращаясь к толстяку.
Террол отступил с линии огня в раздевалку. Второй охранник выхватил автомат, стреляющий дротиками, опустился на одно колено и выстрелил в толстяка. В это самое мгновение толстяк нырнул в ворота. Тут Террол сообразил, что этот человек не был одет в зеленый комбинезон. У него просто была зеленая кожа. Он был человеком-факсом с кожей необычного цвета, чтобы было ясно, что он копия.
«Чертовски поганый цвет», — подумал Террол, глядя, как толстяк вылетел за ворота, подобно плохо спланированному генетическому опыту. Сам Террол всегда выбирал красный.
Тут дротик попал в цель, и зеленое тело размазалось по стене.
— Простите, сэр, — сказал охранник. — Еще одно чертово факсимильное объявление!
Они проскочили мимо него и выбежали в ворота. Толстяк плюхался по полу, как лягушка, которую начали препарировать. Охранник подбежал к нему и выстрелил дротиком прямо ему в плечо. Толстяк затих.
— Он выдохся, — сказал охранник.
— Я его прикончу, — отозвался второй. Он вытащил из-за пояса огромный нож и перерезал толстяку горло. Толстяк сразу обмяк и начал рассыпаться. Террол отвернулся. Закон не запрещал убивать факсы, если это делалось гуманным способом. Но все же видеть это было неприятно.
Но тут Террол услышал, что дверь за его спиной отворилась. Он обернулся и прямо перед собой увидел пару прекрасных изумрудно-зеленых глаз. На прекрасном изумрудно-зеленом лице. Над прекрасным — и совершенно нагим — изумрудно-зеленым телом. Женщина застыла на пороге кабинки факса, несомненно, столь же пораженная, как и Террол. А тот почувствовал, что не может отвести глаз. Она была великолепно сложена, выдержана в чудесных тонах и выглядела очень аппетитной. И она потрясающе смотрелась в зеленом.
Долгое время они стояли, уставившись друг на друга. Наконец, она покраснела (удивительно захватывающее зрелище при зеленом лице) и скромно отвела глаза. Она опустила одну руку с длинными пальцами, чтобы прикрыть наготу.
— Простите, сожалею, — проговорил Террол. Но он не чувствовал ни малейшего сожаления. — Ошибся комнатой.
Он вышел, прикрыв за собой дверь. Постоял минутку, приходя в себя. Он был рад тому, что успел одеться до ее появления. При его работе было выгодно скрывать свои истинные чувства.
Это вернуло его к действительности. Он быстро посмотрел на часы. Пятнадцать минут потеряно на дурацкое объявление. И на чертовски прекрасную женщину. Он потратил еще секунду, вызывая в памяти ее образ, затем оставил это и быстрым шагом прошел в ворота. Охранники уже заняли свое обычное место и кивнули ему, едва взглянув на его выходные данные. Он не обратил на них внимания. Робосос уже засасывал то, что осталось от толстяка, и Террол позволил себе бросить взгляд на исчезающую кучку зеленых опилок.
«Чертовски потрясающий цвет, — снова подумал он, — конечно, при соответствующем теле!»
Отогнав от себя воспоминания, Террол зашагал через вестибюль к залу заседаний. Он не мог тратить времени на незнакомку, которую никогда не увидит вновь.
Он уже был здесь три раза, но в виде других копий. Тогда он отрабатывал детали сделки, которую предполагалось завершить сегодня. У него не сохранилось, конечно, никаких воспоминаний об этом, зато существовали отчеты. Кроме того, копии были им самим, и они выполняли именно то, что сделал бы он для заключения этого соглашения.
Сделка заключалась в приобретении четверти доли Западных Конгломератов в «Солар системз, Инкорпорейтед». В это самое время в трех тысячах миль отсюда настоящий Джерид Террол подмахивал соглашение по компании «Луна Ресурсиз», а в Гонконге еще один Джерид Террол скупал столько сыновей компании «Ниппон и Сыновья», что этого было бы достаточно, для того чтобы придать компании «Уорлд Продактс Анлимитед» такой вес в консорциуме предприятий, производящих низкогравитационные кристаллы, что они смогли бы полностью прекратить производство углекислого дипетролеума. В результате рыночная цена на неотридий подскочила бы до небывалого уровня. А компания «Уорлд Продактс Анлимитед» благодаря разумной работе Джерида Террола и его талантливых копий только что скупила все предприятия по производству неотридия на планете. Теперь все должны были или покупать у компании «Уорлд Продактс», или же возвращаться назад, к углю и нефти. Террол любил такие сделки.
Он вошел в зал заседаний, кивнул двум мужчинам, находившимся там, занял место во главе стола, открыв крышку, привел в рабочее состояние компьютерную систему, вывел на экран последний проект соглашения, заказал выпить, два раза быстро переговорил по телефону и рассказал непристойный анекдот. Все это в отличном темпе. Таков стиль работы Террола. Задать темп так, чтобы у всех перехватило дыхание, встряхнуть их. Что бы ты ни делал, не оставляй им времени на размышление.
— Доброе утро, Терр… — начал старший из двоих.
— Сейчас четыре часа дня по моим часам, Младший, — заявил Террол, — но благодарю за идею.
Он изобразил на своем лице некое подобие улыбки.
Младший — то есть Дж. Р. Роббинс-Младший, на данный момент являющийся старшим партнером и председателем Западных Когломератов, — улыбнулся в ответ и открыл рот, собираясь сказать еще что-то. Террол повернулся к младшему из мужчин.
— Поздненько мы начинаем, — произнес он. — По дороге сюда меня задержало факсимильное объявление.
В тоне его голоса слышалось, что он сделал выводы о работе службы безопасности Западных Конгломератов.
Младшего из мужчин звали Дж. Р. Роббинс-Третий. Друзья и враги называли его Р-3, а сослуживцы — мистером Робби. Он занимал пост вице-председателя и оперативного директора и был начисто лишен чувства юмора. Его губы все еще были растянуты в улыбку после анекдота Террола.
— Я поговорю с кап… — начал он.
— Никаких проблем, — отозвался Террол. — Они в конце концов превратили его в кучку мусора. Так что, мы готовы приняться за дело?
Он жестом указал на компьютерную систему.
Младший и Р-3 переглянулись. Р-3 выдвинул из стола свой компьютер и начал работать на клавиатуре. Младший, улыбаясь, повернулся к Терролу. У Млашего были большие уши, большие зубы и начинающие редеть волосы. «Лысеющая обезьяна», — определил его Террол. А Р-3 был словно его копией, но без чувства юмора.
— Мы ожидаем кое-кого из юридической корпорации, — объяснил Младший, — чтобы довести до ума итоговый документ.
— Сколько еще ждать? — спросил Террол. Он демонстративно посмотрел на часы.
Как раз в эту минуту дверь отворилась. Террол поднял голову и прямо перед собой увидел пару прекрасных изумрудно-зеленых глаз. На знакомом столь же прекрасном изумрудно-зеленом лице. Тело тоже было прекрасно, но теперь его уже прикрывала одежда. Платье также было зеленым и прозрачным. Оно окутывало ее, как облако, когда она стояла в дверном проеме. Трудно было различить, где кончалась одежда и начиналась кожа. В памяти Террола возникли детали.
— Я навсегда запомню вас такой, как сейчас, стоящей в дверном проеме, — проговорил он и только потом сообразил, что произнес эти слова вслух.
Женщина опустила глаза и вспыхнула (потрясающее зрелище!). Затем она улыбнулась и вошла в комнату. Младший и Р-3 посмотрели на нее, потом на него, потом друг на друга.
— Вы уже встр… — начал Младший.
— Мы встретились в коридоре по дороге сюда, — быстро проговорил Террол. Он с трудом успокоил дыхание и сделал бесстрастное лицо. Он вновь почувствовал радость от того, что был одет.
— Это Мэлони Лэйн, — сказал Младший. — Мэлони, это Джерид Террол.
Она подошла к нему и протянула руку.
— Мистер Террол, — произнесла она.
У нее был приятный, слегка хрипловатый голос, и Террол к своему удивлению заметил, что встает, чтобы пожать ей руку. Он вовремя остановился и снова сел. Он никогда не вставал, здороваясь с людьми. Это их стимулировало. Но, заглянув в зеленые глаза, он почувствовал, что все-таки встает, чтобы пожать протянутую руку. Однако он снова заставил себя остановиться.
Он так и застыл на месте с полусогнутой спиной. Одну руку он протягивал вперед, а другой пытался схватиться за край стола, чтобы не упасть. Он взял протянутую руку и на мгновение почувствовал, как ее длинные прохладные пальцы скользят по его ладони. Затем его другая рука оперлась на клавиатуру. Компьютер ушел обратно в стол, прищемив Терролу большой палец.
Террол подавил вскрик боли и резко выпрямился. Компьютер снова выехал из стола, освободив палец Террола, и тот оказался плотно прижатым к Мэлони Лэйн. Их сомкнутые руки были зажаты между ее грудей, а его отдавленный палец запутался в ее рукаве. От удивления ее губы слегка раскрылись. Ее лицо было так близко, что Террол чувствовал ее дыхание. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза.
Затем она тихонько вскрикнула и отодвинулась. Террол опомнился и быстро отступил назад. Его ноги коснулись края стула, и он сел, больно ударившись. Послышался звук рвущейся материи. Его большой палец освободился. Мэлони посмотрела на свое внезапно обнажившееся плечо. Террол тупо уставился на рукав, оказавшийся в его руке.
— С тобой все в по… — начал Младший.
— Конечно! — быстро отозвался Террол.
— …рядке, Мэлони? — закончил Младший.
— Да, конечно, мистер Роббинс, — ответила она. От ее голоса у Террола зашумело в голове.
— Простите, что испортил вам платье, — проговорил он, мучительно соображая, что делать с рукавом, который он все еще держал в руке. — Я пришлю вам новое.
Она посмотрела на него и улыбнулась. Кровь прилила к его голове. Он теребил кусочек материи. Его не волновало, одет он или раздет.
— Не беспокойтесь, мистер Террол, — произнесла она, — это всего лишь факс.
Всего лишь факс. От этой леденящей душу мысли кровь застыла в его жилах. Она всего лишь факс! Настоящая Мэлони Лэйн сейчас находится в другом месте, возможно, на совещании с каким-то другим парнем (вот шельмец!). Ему предстоит узнать, где, и выяснить, как встретиться с ней после заседания, когда эта прекрасная, захватывающая дух копия, к несчастью, размягчится и растает. Боже, какой позор!
Террол снова посмотрел на часы. Прошло еще пятнадцать минут. На пятнадцать минут меньше в обществе этой очаровательной леди, прежде чем она станет облаком изумрудно-зеленой пыли. Затем он вспомнил, что он тоже факс. У него оставалось даже меньше времени, чем у нее, и ему нужно было делать дело. Он положил оторванный рукав на стол.
Мэлони усаживалась между Младшим и Р-3, прямо напротив Террола. Младший говорил ей что-то, и на его обезьяньем лице играла усмешка.
— Оставайтесь при своем мнении, Младший, — произнес Террол, используя свою обычную тактику прикрытия, когда не знал, о чем идет речь, — но у компании «Уорлд Продактс» повестка дня.
— Так вам не нравится «Толедо», мистер Террол? — спросила Мэлони.
Так вот оно что! Младший говорил, что она из офиса компании «Толедо».
— Я никогда там не был. Как я уже отмечал, у «Уорлд Продактс» своя собственная повестка дня. Я иду туда, куда они отсылают меня по факсу. И, пожалуйста, зовите меня Джеридом — он улыбнулся приятной улыбкой. Он старался, чтобы его улыбка была приятной. Он прилагал много усилий, чтобы приятно улыбаться. Он не имел ни малейшего представления о том, как это выглядело на самом деле. Прежде он много работал над тем, чтобы довести до совершенства сухую, натянутую улыбку власти. Эту привычку нелегко было преодолеть. Его лицо почти свело судорогой от усилий.
В это время он думал о «Толедо». Ему нужно будет дать знать Терролу — настоящему Терролу. Может быть, он смог бы найти какой-нибудь способ встретиться с этой женщиной — настоящей женщиной, из плоти и крови. Они смогли бы пойти куда-нибудь, выпить по глоточку вина, посмотреть представление, пойти в…
Сердце Террола сжалось при этой мысли. Какой-то другой человек будет с Мэлони Лэйн! Он почувствовал испепеляющую ревность. («Но он — это ты!»— возразил внутренний голос. «Чушь собачья! — ответил он. — Я — это я, а она — это она. И мы оба — здесь и сейчас!») Джерид Террол не имел склонности к поэзии, но эта мысль звучала для него, как сонет. Он любил эту прекрасную женщину и хотел ее. Он, а не этот хренов двойник, находившийся за три тысячи миль отсюда. И ее, а не ее далекого близнеца из Толедо. У настоящей Мэлони Лэйн должна быть невзрачная бело-розовая кожа, а он хотел эту глянцевую зеленую красавицу, сидевшую за столом напротив него, которая как раз в это время нажимала клавиши компьютера. Младший же бормотал что-то, сидя рядом с ней.
— Сказать что? — спросил Террол.
— Нам просто нужно, чтобы вы одобрили поправки к части три параграфа сорок два о…
— Прекрасно, Младший, прекрасно, — сказал Террол. Он быстро вывел на экран нужную часть и тут же просмотрел ее.
— Мэлони считает, что настоящая формулировка дала бы вам…
Террол улыбнулся Мэлони. Это упрощало дело.
— Прекрасная формулировка, — проговорил он. — Прекрасно выражает мою первоначальную идею. Вы очень талантливая коп… компетентная специалистка.
Она скромно опустила глаза и посмотрела на экран своего компьютера.
— Теперь в параграфе 57 части третьей, — произнес Р-3, — Мэлони полагает…
— Уверен, что это прекрасная мысль! — произнес Террол. Он вывел на экран параграф, чтобы пробежать его глазами, но поймал себя на том, что вместо этого изучает лицо Мэлони, склонившейся над компьютером.
— Может быть, вы хотите послушать обоснование новой формулировки, сделанное Мэлони? — спросил Р-3. — Речь идет о новых правилах…
— Я счастлив буду услышать ваше обоснование, — произнес Террол, обращаясь к Мэлони, — из ваших собственных уст.
Он бросил быстрый взгляд на Младшего, который замотал своей обезьяньей головкой.
— Конечно, Мэлони, конечно, — сказал он.
— Ну, — начала она, и от ее голоса частота пульса у Тер-рола достигла критической отметки. Ему хотелось бы услышать, как она нашептывает эти же самые слова ему на ухо: картель, процедура исполнения предписаний, лишение прав в принудительном порядке — прекрасные слова, когда их произносит тот, кто нужно.
Она остановилась и посмотрела на него, Террол понял, что она ждала его комментария.
— Прекрасно! — воскликнул он. — Великолепная логика, я хочу сказать! У меня нет никаких возражений.
Р-3 вынес на обсуждение следующую поправку, и Террол попросил Мэлони дать объяснение. Потом была следующая, и еще одна, и так по всему контракту, параграф за параграфом. С каждой минутой ее голос звучал все приятнее. На какую-то минуту Террол засомневался, не было ли это все заранее запланированным хитроумным ходом со стороны Западных Конгломератов, имеющим целью отвлечь его внимание от формулировок соглашения. Мэлони могла быть нашпигована половыми аттрактантами с дозировкой, точно подобранной для его желез внутренней секреции.
Он посмотрел на Младшего, улыбающегося, как шимпанзе, бросающего сердитые взгляды наподобие гориллы. И на нежную Мэлони посередине, подобную Шине — царице джунглей. («Кому все это нужно? — подумал он. — Жизнь слишком коротка. Любовь — единственное, что имеет значение»).
Это заставило его вспомнить о времени. Он посмотрел на часы. Оставался только один час. Еще один час в ее обществе. Он не мог упустить его. Он должен овладеть ею.
Террол дал ей закончить обсуждение очередного параграфа и затем произнес:
— Думаю, достаточно. Вы великолепно выполнили работу, Мэлони. Мы можем быстро доделать остальное.
Она казалась удивленной. Восхитительный наклон головы, чуть-чуть странный взгляд зеленых глаз. Боже правый, как она прекрасна!
— Ничего уже не осталось, — сообщила она.
— Что? — Террол посмотрел на экран компьютера. Они подошли к концу последней страницы. — Конечно, — сказал он, — мы можем быстро закончить, поставив наши подписи, и — порядок!
— Великолепно! — проговорил Младший, потирая толстые ручки. — Просто великолепно! Приятно иметь дело с человеком, кот…
— Давайте допечатаем и закончим дело, — произнес Террол. Он прижал свой большой палец к экрану рядом с собственным именем, напечатал код «Уорлд Продактс Анлимитед» и задвинул компьютер в стол.
— А теперь… — начал он.
— Думаю, по этому поводу стоит выпить, — заметил Младший. Он откинулся на спинку кресла и нажал кнопку на столе, предоставляя Р-3 поставить печать Западных Конгломератов. — Что будете пить, Террол? Бурбон или пальмовое вино? — Из стола выдвинулся полностью укомплектованный бар. — А ты, Мэлони? Это и твой праздник.
— Прекрасно, — сказала она. Она посмотрела в глаза Тер-ролу и быстро отвела взгляд. — Вы присоединитесь к нам… Джерид?
Террол собирался уже отказаться, но теперь ему оставалось лишь утвердительно кивнуть головой. Он позволил Младшему налить себе пальмового вина и сделал глоток. Мэлони грациозным жестом взяла бокал своей узкой красивой рукой и стала пить. Террол наблюдал, как ее губы нежно касаются края бокала.
Он залпом проглотил вино и встал.
— Мне нужно отослать отчет в «Уорлд Продактс», — сказал он Младшему. Затем он поймал взгляд Мэлони. — Времени осталось в обрез.
— Конечно, Террол, конечно, — забормотал Младший, радостно качая головой. Он взял свой бокал и встал. — Ты можешь воспользоваться этой комнатой.
Он посмотрел на часы.
— Мы присмотрим за тем, чтобы никто не входил, пока ты… гм… не закончишь. Пошли, Робби.
Р-3 поднялся с кислым видом, оставив свой бокал на столе.
— Рядом есть комната, где вы можете отдохнуть, Мэлони, — сказал он.
Она встала.
— До свидания, Джерид, — проговорила она.
Террол улыбнулся и кивнул ей. Затем он выдвинул компьютер и притворился, что работает. Как только захлопнулась дверь, он вскочил на ноги, в три прыжка пересек комнату и приложил ухо к двери, прислушиваясь.
Вдруг дверь распахнулась, ударив его по голове. В комнату заглянул Младший. От удивления он выпучил свои большие глаза.
— Прости, Террол, — забормотал он. — С тобой все в порядке?
— Чудесно, — прошипел Террол, потирая вскочившую над глазом шишку. — Я просто уронил мою… мою… одну вещь.
Он притворился, что поднимает что-то с пола и кладет в карман.
— Никогда не путешествую без нее, — проговорил он, мигая, как сумасшедший, чтобы восстановить зрение.
— Я просто пришел сказать, чтобы ты налил себе, если хочешь, — сказал Младший.
— Чудесно, — отозвался Террол, захлопывая дверь перед носом Младшего. — Благодарю!
Младший взвизгнул и удалился.
Террол подождал, потирая лоб и надеясь, что синяка не будет. Бог знает, как он будет смотреться на его красной коже.
Ему нужно было хорошо выглядеть в течение следующих — он посмотрел на часы — следующего получаса.
Он открыл дверь и украдкой выглянул в коридор. Слева он увидел охранников, сидящих у ворот, за которыми находились кабинки факсов. Оба они, казалось, дремали. По крайней мере, ни один не смотрел в его сторону. Направо коридор заканчивался шахтой лифта. Пока Террол выглядывал, Младший и Р-3 вошли в лифт, начали подниматься и скрылись из вида. Нигде не было никаких признаков Мэлони, но между ним и шахтой лифта была дверь.
Террол бросился в коридор и прокрался вдоль стенки к этой двери. Он внимательно прислушался, но ничего не услышал. Он бросил быстрый взгляд назад и понял, что охранники не заметили его. Он открыл дверь и быстро пошел внутрь.
Комната была пуста. Террол выругался и начал поворачиваться к выходу. Как раз в это мгновение он услышал, что дверь сзади него открылась. Он с улыбкой обернулся.
И увидел перед собой старичка с трясущимися ногами в смехотворном костюме-тройке и широкополой шляпе, который ввалился в комнату в пылу сражения с молнией на собственных штанах. Террол услышал шум льющейся воды. Наконец человек справился с застежкой, с торжествующим видом поднял голову и улыбнулся. Он заметил Террола, и улыбка ликования превратилась в обезьянью ухмылочку. Он подошел к Терролу шаркающей походкой и протянул ему руку.
— Рад познакомиться, — заговорил он. — Рад познакомиться.
— Извините, — быстро проговорил Террол, пятясь к двери, — я ошибся номером.
— Дж. Р. Роббинс, — произнес старичок, все еще подходя к нему, — рад позна…
Террол захлопнул дверь. Он услышал звук падения и крик по другую сторону двери, но он уже спешил в обратном направлении, мимо зала заседаний к двери в другом конце коридора. Он даже не старался идти на цыпочках — время летело так быстро, — однако охранники не сдвинулись ни на дюйм. Он вошел в дверь, не прислушиваясь заранее. Там тоже было пусто, но в противоположной стене была еще одна дверь. Террол не стал ожидать неизбежного. Он быстро пересек комнату и рывком распахнул дверь.
— Мэлон… — позвал он.
Из-за двери с гудением выполз робосос. Террол отскочил, отпихивая его ногой и чертыхаясь, но тот упрямо полз за ним и своим поросячьим рыльцем сосал пыль на его ботинках.
— Пошел прочь! — свирепо завопил Террол. Он ударил робосос ногой по спине и с удовлетворением услышал треск. Пластиковая крышка лопнула, и комната наполнилась клубами зеленой пыли. Ботинок Террола застрял в пластмассе. Из аппарата полетели искры. Террол отпрыгнул, оказавшись босым на одну ногу, и захлопал глазами при виде крошечных огоньков пламени, вспыхивавших на волосках его ноги. Только теперь он обратил внимание на зеленую пыль.
— Боже мой! — произнес Террол. — Мэлони!
Он упал на колени и с благоговением прикоснулся к маленькой кучке пыли.
— Моя дорогая, прекрасная Мэлони!..
Он услышал, как дверь сзади него открылась.
— Дерьмо собачье… — пробормотал он.
— Джерид, — произнесла Мэлони, — что ты здесь делаешь?
Он встал, повернулся к ней, стараясь улыбнуться. Его лицо болело от слишком большого количества улыбок, которые он все время пытался изображать на нем. Он оставил лицо в покое, позволив ему, черт побери, изображать что угодно.
Она стояла в дверях и смотрела на него очаровательным насмешливым взглядом. Он раздевал ее глазами. Она вспыхнула и отвела взгляд. Затем подняла руку и прижала ее к горлу.
— Мэлони, — проговорил он хриплым голосом, — мне нужно было увидеть тебя.
— Для чего же? — спросила она. Ее глаза широко раскрылись. Она учащенно дышала.
Он подошел к ней.
— А как ты думаешь? — спросил он.
— Параграф 57? — спросила она.
— К черту параграф 57, — проговорил он, беря ее за руку и вводя в комнату. — К черту все!
Он захлопнул дверь и притянул Мэлони к себе.
— Я люблю тебя, Мэлони, — произнес он. — Я полюбил тебя с тех пор, как увидел в кабинке факса!
— Ах, Джерид! — произнесла она, отодвигаясь от него и останавливаясь посередине комнаты.
Дымящийся робосос подполз, покачиваясь, и обдал ее платье зеленой пылью.
— Ты тоже чувствуешь это? Ведь правда? — говорил Тер-рол. Он подошел к ней. Его руки дрожали.
Ее щеки покрылись пятнами цвета лесной зелени. Ее ноздри раздувались. Она слегка отвернулась от него.
— Да, — прошептала она, — но это невозможно.
— Ради всего святого, почему? — Он подошел и дотронулся рукой до ее щеки. Контраст, который представляли разные цвета их кожи, создавал праздничную атмосферу вокруг их страсти. Террол повернул к себе ее лицо.
— Почему? — снова спросил он.
Его губы были лишь в нескольких сантиметрах от ее.
— Моя карьера, — произнесла она слабым голосом.
— У тебя блестящий ум, — возразил он. — Они не посмеют тебя уволить.
— Мой муж, — сказала она, придвигаясь на волосок ближе.
— Он тебя не стоит, — возразил он. Их губы встретились. По его телу словно пробежал электрический ток.
Робосос наехал на его босую ногу. Он отпихнул его и поднял Мэлони на руки. Их губы все так же были слиты.
— Я могу забеременеть, — проговорила она, и ее голос эхом отозвался у него во рту.
Террол опустил ее на диван.
— Ради Бога! — закричал он, вытаскивая часы. — Еще десять минут, и мы рассыплемся!
Он начал расстегивать застежки на ее платье.
— Все так внезапно, — проговорила она. Ее лицо выражало страсть. — Я чувствую себя… как-то странно. Как будто бы… Кто-то незнакомый сидит… в незнакомом теле.
— Я это я, а ты это ты, и мы оба здесь и сейчас! — проговорил он, задыхаясь. Он чувствовал себя поэтом, когда расстегивал последнюю застежку и срывал с Мэлони одежду. Он стал бешено целовать ее, одновременно стаскивая свой комбинезон. Он потерял десять секунд, пытаясь развязать галстук, но затем бросил это занятие. Он нагнулся и снова поцеловал ее.
В эту минуту дверь за их спиной распахнулась.
— Эй вы! — пропел кто-то, задыхаясь. — У меня к вам дело!
Террол резко приподнялся и увидел перед собой пару налитых кровью зеленых глаз. На зеленовато-желтом лице с тяжелой челюстью над толстым желеобразным телом. Голым телом. Голым отвратительным телом.
— Если нужен факс, вам поможет Макс! Я Макс Гринберг, — заявил толстяк, запрыгивая в комнату. — У меня есть кабинки; у меня есть аксессуары; у меня есть бумага и тонаторы для тела. У меня невероятные контракты на услуги. Стоит лишь позвонить по телефону 413-672-786-333-8900, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, любой язык, какой вам нравится, наши операторы…
С пронзительным яростным криком Террол поднялся на ноги. Он схватил толстяка за его зеленовато-желтую шею и начал мотать взад и вперед. Толстяк хрипел и раскачивался. Затем Террол споткнулся о робосос и упал. Толстяк зацепился за него и растянулся на Мэлони. Она закричала, задыхаясь под его желеобразным бедром.
Робосос заполз в руки Террола. Тот встал, поднял его, словно набивной мяч, и с размаху опустил его на голову толстяка. Затем он отбросил скрежещущий и мечущий искры робосос в дальний угол. Он схватил толстяка под мышки и поднял его мощным рывком. Это напоминало драку с желеобразной медузой. Медузой, которая размягчилась и рассыпалась в порошок в его руках.
Террол с глупым видом уставился на пыль на своих пальцах. Мэлони слабо вскрикнула, и он посмотрел на нее. Он тяжело дышал, красный и возбужденный.
— Ах, Джерид! — проговорила она, почти теряя сознание. — Ты такой… такой… красненький!
Она раскрыла свои объятия.
Он бросился в них, отыскивая ее тело губами. Она притянула к себе его голову, зажав ее меж своих грудей. Он старался приподняться, пытался обхватить ее своими ногами, стараясь выбрать соответствующее положение. Любое положение. Но она держала его мертвой хваткой.
— Обними меня, — проговорила она. — Я хочу навсегда сохранить в памяти этот миг!
И тут он почувствовал, что начинает размягчаться.
Дэвид Брин ДОШКОЛЯТА ДОКТОРА ПАКА
Фантастика Дэвида Брина всегда занимательна и к тому же обычно провокационна. Перенеситесь, например, в не столь далекое будущее Японии, где молодые родители дают своему сыну необыкновенный умственный старт.
© David Brin. Dr. Pak’s Preschool.
F&SF, July 1990.
Перевела Марина Митъко
О, эти руки, сильные руки, прижимающие ее к столу… сквозь боль и смятение они казались ей щупальцами тех допотопных тварей, о которых ей, маленькой, рассказывала Ола-чан, тварей, что утаскивают несчастных моряков в пучину смерти.
О, эти руки, не дающие ей вырваться, — она просила пощады, сознавая, что ни мольбы, ни протесты не помогут.
Кожу пронзили иглы, жар в местах уколов остановил ее метания — сопротивление бесполезно. Лекарство начинало действовать. Усыпляющая прохлада разливалась по жилам, больше не хотелось бороться. Тиски рук ослабли, настал черед других орудий насилия.
Вихрь хаотичных образов грозил загасить чуть теплящееся сознание. Муаровые узоры и ленты Мёбиуса — она каким-то образом знала эти вещи и их названия, хотя никогда о них не слышала. И что-то там было еще — что даже больно представить — сосуд с двумя отверстиями, и в то же время без… бутылка, внутренняя часть которой находится снаружи…
Задача, отчаянно требующая решения. Головоломка жизни и смерти — геометрия высшего порядка.
Слова и образы завертелись, руки по-прежнему что-то делали с нею, но теперь она могла только стонать.
— Вакаримасен! — вскрикнула она. — Вакаримасен!
1
Рэйко следовало бы насторожиться, когда муж пришел домой раньше обычного и объявил, что едет по делам в Сеул и берет ее с собой. Однако в тот вечер, когда Тецуо показал ей белый бумажный конверт с двумя красно-зелеными авиабилетами, Рэйко способна была только беззаботно радоваться.
Он помнит.
Она, конечно, скрыла свой восторг. Поклонившись мужу с покорной готовностью, она держалась с подобающим спокойствием. Тецуо, в свою очередь, был восхитительно сдержан. Кашлянув, он продолжил ужин, будто действительно ничего такого особенного не происходит.
Но Рэйко была уверена: за этой сухостью скрывается подлинное чувство.
По какой другой причине, думала она, ему бы делать такие неслыханные вещи? Да еще перед самой годовщиной свадьбы. Второй билет в конверте, безусловно, значил, что в Тецуо еще не совсем умер тот бунтарь, которому она отдала свое сердце много лет назад, что в теперешнем респектабельном Тецуо еще жив дух свободы.
Он помнит, с ликованием думала она.
Еще не было и девяти. Вернуться так рано домой — вместо ужина с коллегами в каком-нибудь баре в центре города — само по себе редкость для Тецуо. С поклоном Рэйко предложила разбудить дочь. Юкико так редко проводит время с отцом.
— Ииэ… — отвечал Тецуо, отвергая эту идею. — Пусть ребенок спит. Я все равно хотел сегодня лечь пораньше.
Сердце Рэйко, казалось ей, выпорхнет из своей клетки от таких слов. Убрав со стола, она сделала необходимые приготовления — на всякий случай.
И в самом деле, этой ночью он был с нею в постели— впервые за много месяцев от него не пахло пивом, табаком, другими женщинами. Он любил ее с той силой, о которой она уже начала забывать, начала сомневаться со временем — не выдумала ли все сама.
Почти ровно шесть лет назад они, молодожены, не отрывающие друг от друга счастливых глаз, проводили медовый месяц на Фиджи, едва замечая горы, рифы, местных танцоров — эта экзотика была созвучна их счастью и только подчеркивала самодостаточность их союза. И на следующий год все было так же, герои счастливой романтической сказки жили в реальном мире. В те дни даже стремительная карьера Тецуо оказалась на втором — после их любви — месте.
Так продолжалось до тех пор, пока Рэйко не забеременела. Она и не думала, что когда-нибудь они с Тецуо перестанут быть любовниками, будут вести монотонную, скучную супружескую жизнь. Но так случилось.
Тецуо крепко зажмурился и задрожал, тело его пронзила судорога оргазма… Его сладкое дыхание, его тяжесть… Кончиками пальцев Рэйко пробегала по знакомым изгибам спины. Прежний юноша обрел тело взрослого мужчины. Сегодня ее руки ощущали некоторый спад напряжения, что все эти годы медленно нарастало в нем и концентрировалось в позвоночнике.
Тецуо редко говорил о работе, но все же она знала, что ему трудно. Начальство, похоже, все еще не доверяло ему полностью после инцидента двухлетней давности — он предложил фирме внедрить неяпонскую бизнес-практику и потерпел неудачу. Поэтому, казалось ей, он позволил огню их страсти померкнуть перед лицом более важных обстоятельств. Это естественно.
Но теперь все, похоже, вернулось. Тецуо помнил; в мире все было прекрасно.
Вместо того, чтобы просто отвернуться и заснуть, Тецуо, гладя ее волосы, ласково что-то шептал, Рэйко чувствовала, что ее обволакивает тепло, будто внутри поднималось солнце.
2
Она давно не была в аэропорту — со времен медового месяца. И не могла не почувствовать разочарования — на этот раз все было совсем по-другому.
А могло ли и быть по-прежнему? — упрекнула она себя за сравнение. В конце концов разные направления привлекают разные типы людей. Вряд ли могут быть похожи пассажиры из этого отсека на тех, в глубине зала, отправляющихся из Токио на Фиджи, или на Гавайи, или в Испанию — молодые пары, летящие по орбите своего блаженства, не видя с этой высоты ничего, кроме друг друга.
На таких рейсах группы новобрачных нередко устраивают конкурсы пения, там аплодируют всем, каким бы ужасным ни был голосу у поющего. В конце концов в касании их рук гармонии гораздо больше, чем в музыке.
Некурортные пассажиры были одеты иначе, говорили и вели себя по-другому. Каждый сектор представлял собой как бы один из срезов современной жизни, один из ее очередных этапов, каждый из которых сопровождается сменой облика.
Самолеты на Европу и Америку перевозили в основном тургруппы, состоящие из обеспеченных пожилых семейных пар, или студентов, одинаково одетых и держащихся стайками, будто вокруг рыскали хищники, подстерегающие каждого, кто неосторожно отстанет.
И, конечно, там были ретивые бизнесмены, посвящающие даже время между рейсами сосредоточенному изучению своих представительских материалов… современные самураи… сражающиеся за Японию на полях коммерции.
Самый близкий к Рэйко выход — к рейсам на Бангкок, Манилу, Сеул. И здесь тоже бизнесмены, но они направляются уже за наградами — плодами своего успеха. Женщины часто сплетничали о том, что происходит во время этих… поездок кайрайк. Рэйко никогда не знала, чему тут можно верить, но предвкушения обладателей билетов именно этого сектора ощущала. Большинство пассажиров — в деловых костюмах, но их настроение отнюдь не было деловым. В руках кейсы, но, похоже, работа никого особенно не занимает.
Рэйко не заблуждалась, какого рода «коммерцией» занимались во время таких поездок. Впрочем, в Корее быстро развивается промышленность… Скорее всего, половина таких командировок и в самом деле были деловыми.
Вот Тецуо, должно быть, действительно направлен компанией по делу, иначе, зачем бы ему приглашать ее с собой? Возможно, эти россказни всё сильно преувеличивают, решила Рэйко.
Иностранцы ожидали посадки с типичной для гайжин несдержанностью — громко разговаривая, бесцеремонно рассматривая окружающих. За суетящимися европейцами и американцами выстроилась аккуратная очередь японцев.
Юми, сестра Рэйко, подняла Юкико, чтобы та помахала родителям на прощание. Девочка казалась грустной и растерянной, но вела себя хорошо. Она уже разбиралась в том, что прилично на людях, а что нет, родителям не пришлось краснеть за ее слезы. Идя с Тецуо в толпе по пандусу, Рэйко почувствовала острую боль расставания, хотя знала, что Юкико будет хорошо с тетей. Самое худшее — Юми может ее разбаловать.
На борту Рэйко заметила, что они не одни такие — в хвостовом отсеке расположились еще несколько супружеских пар. Женщины, казалось, нервничали больше своих мужей и внимательнее слушали стюардесс, проводивших инструктаж на случай вынужденной посадки. Пронесясь по взлетной полосе, огромная машина, наконец, поднялась в воздух.
Предупредительные огни погасли, струйки сигаретного дыма поплыли по салону. Мужчины потянулись в буфет. Вскоре из-за перегородки послышался звон бокалов и резкий смех.
Рэйко поглядывала на других женщин, тихо сидевших рядом с опустевшими креслами. Одни смотрели на зеленые горы Хонсю, пока самолет набирал высоту. Другие негромко беседовали между собой. Кое-кто просто разглядывал свои руки.
Рэйко задумалась. Вряд ли все эти мужья взяли своих жен в деловую поездку в Сеул только ради супружеских утех. Вряд ли.
Тут до нее дошло, что она разглядывает сидящих слишком пристально, и быстро опустила глаза. Но все же успела кое-что заметить: все другие жены были ее ровесницами… Она обернулась, чтобы поделиться этим наблюдением с мужем, и часто заморгала, обнаружив рядом с собой пустое место.
Пока она смотрела по сторонам, Тецуо потихоньку ушел. Вскоре из-за перегородки послышался знакомый смех.
Она опустила глаза и нашла свои руки удивительно интересными — прекрасная кожа, тонкая сеточка линий.
3
Тем же вечером в номере Тецуо сообщил, зачем он взял ее в Сеул.
— Нам пора иметь сына, — сказал он сухо.
Рэйко послушно кивнула.
— Сын — наша надежда.
Тецуо, конечно, любил свою дочь, но явно хотел мальчика, и Рэйко постаралась бы доставить ему такую радость. Впрочем, не он ли настаивал, чтобы она еженедельно покупала противозачаточные средства в соседней аптеке и регулярно ими пользовалась?
— Мы можем себе позволить еще только одного ребенка, — продолжал он, повторяя то, что она уже знала. — Поэтому, мы должны быть уверены, что второй ребенок обязательно будет мальчиком.
Полушутя, она предложила:
— Шю дин[3], каждый день я буду ходить в храм Мизуко Джизо и возжигать благовония.
Если она надеялась вызвать его улыбку, то напрасно. Когда-то он подшучивал над древними суевериями и они вместе смеялись — она, дочь ученого, и он, умный молодой бизнесмен, закончивший университет в Америке. Теперь, однако, Тецуо кивнул и, казалось, принял ее обещание всерьез.
— Хорошо. Но в любом случае, мы дополним молитвы технологией.
Из кармана пиджака он достал тоненькую брошюру и вручил жене. Оставив ее одну читать в их маленьком номере, он спустился в бар к знакомым.
Рэйко увидела кричащие строки, резко напечатанные латинским шрифтом.
«Клиника Пака Джунга
Служба Селекции Пола Сеул, Гонконг, Сингапур, Бангкок Тайпей, Мексико Сити, Каир, Бомбей
Удовлетворение Гарантировано»
Немного позже она разделась и легла в постель. Но там, в темноте, одна, она поняла, что не сможет заснуть.
4
В клинике было довольно приятно. Во всяком случае лучше, чем ожидала Рэйко. Ей рисовалась леденящая, стерильно-белая обстановка больницы. А приемная пастельных тонов, расписанная аистами и другими символами счастливой судьбы, показалась обнадеживающей. Тецуо остался за дверями, но улыбнулся и ободряюще кивнул, когда вышла медсестра, чтобы проводить ее в смотровой кабинет.
Врачи держались профессионально учтиво, за что Рэйко была им благодарна. Они прослушали, и простучали ее, и измерили температуру. Когда пришло время брать всякие анализы, боли почти не чувствовалось, а ее честь защищалась перегородкой, проходящей на уровне пояса.
Потом ее вернули в приемную. Провожавший ее врач поклонился и сказал Тецуо, что она будет готова зачать через три дня. Тецуо удовлетворенно вздохнул и, перед тем как уйти, еще раз раскланялся с доктором.
Следующие несколько дней Рэйко мало видела Тецуо. Похоже, у него действительно были дела в Сеуле — встречи, совещания по анализу рынка. Рэйко и другим будущим мамам клиника предоставила гида. Они посетили Олимпийскую деревню, военные мемориалы, грандиозные музеи. Изредка какой-нибудь прохожий неприязненно оглядывался на них, слыша японскую речь. В остальном, корейцы показались Рэйко гораздо симпатичнее, чем ей представлялось из историй, слышанных с детства. Но вполне возможно, встречные корейцы в свою очередь думали так же. Все это было очень интересно.
И все же, это не могло быть повторением медового месяца. Она и не надеялась на возрождение былого блаженства. Два вечера подряд Тецуо возвращался в номер поздно. Она чувствовала, что часть своего дня он проводил в интимной близости с другими женщинами.
Даже объяснение, данное одной из будущих матерей, мало смягчило разочарование Рэйко.
— Некоторое количество свежего семени необходимо клинике для пополнения запасов, замороженных в предыдущие визиты, — говорила ей госпожа Накамура, пока они вместе ждали в приемной на третий день. У Рэйко голова пошла кругом.
— Вы… вы хотите сказать, он некоторое время был донором?
Госпожа Накамура кивнула, утверждая, что Тецуо задумал все это давно, по меньшей мере несколько месяцев назад. Во время двух последних поездок в Сеул он наверняка посещал клинику — сдать сперму на заморозку. Или, что вероятнее, он воспользовался ближайшим домом кайрайк, который, Рэйко теперь была уверена, поддерживал деловые отношения с врачами Пака Джунга.
— Я уверена, у заведения есть лицензия, и они там регулярно проходят осмотр, — добавила госпожа Накамура. Рэйко поняла, какое заведение имелось в виду, и страшно разозлилась при одной мысли, что Тецуо может прийти в голову посетить нелицензированный дом, подвергнув свою семью риску заразиться какой-нибудь постыдной болезнью гайжин.
Она сдерживала себя, понимая, что ее бурная реакция отчасти вызвана горьким разочарованием. Впрочем, Рэйко пыталась и здесь увидеть свою светлую сторону. Донорский материал наверняка должен быть быстро обработан. Вот почему Тецуо продолжал пользоваться увеселительным заведением даже тогда, когда она была здесь.
Она хорошо понимала, что сама себя успокаивает. Но сейчас защитить ее от отчаяния могли только такие слабые доводы. Когда настало время, Рэйко легла и крепко прижала руки к груди, чтобы перенести вторжение холодного стекла и пластика. Под наркозом ей снилось ее первое зачатие, которое произошло естественным путем, когда ее руки и ноги обвивали живого теплого человека — любимого мужа.
5
Через три недели после их возвращения в Токио стало ясно, что все удалось — по крайней мере в том, что касается зачатия. Слабость и рвота подтвердили радостную новость также четко, как и окрасившаяся полоска из домашнего тест-набора. Подтверждения же мужского пола ребенка нужно было еще ждать несколько недель. Но уверенность Тецуо окрыляла Рэйко.
Маленькая Юкико достигла того возраста, когда на полдня ребенка нужно отводить в дошкольную группу. Рэйко приводила дочь на игровую площадку и наблюдала от входа как, выстроившись в своих униформочках, дети внимательно следят за каждым элементом заботливо продуманных упражнений. Им, похоже, нравилось одновременно хлопать в ладоши, в такт обучающим ритмам, подобранным воспитателями. Но как знать, что лучше для ребенка?
Рэйко часто задумывалась, правильно ли они сделали, начав образование Юкико так рано — на целых два года раньше, чем положенно по закону.
«Доузо охайри, насай![4]» — кричала руководительница своим маленьким воспитанникам. Аккуратные ряды четырехлеток строились парами, проходили под арку, увитую бумажными цветами. Все это было так чуждо и непохоже на ее собственное детство.
Она знала — сейчас трудные времена, Тецуо решил обеспечить своим детям максимальные преимущества перед вступлением в мир конкуренции. Юкико была одной из десяти девочек в подготовительной группе джуку, все остальные были мальчики. Обычно считалось излишним беспокоиться о женском образовании. Но Тецуо был убежден, что их дочь тоже должна получить подготовку, обеспечивающую лидерство, во всяком случае среди девочек.
Тонкие голоски декламировали стихи… Рэйко помнила, что до вступительных экзаменов в детский сад маленькой Юкико осталось всего четыре недели. А для мальчиков курс джуку, насыщенный напряженной учебой и частыми испытаниями, начинался даже раньше. Это делалось с согласия родителей, вверяющих судьбы малышей специальным «детским университетам», что стоило, кстати, немалых денег.
Месяц назад в печати появилась статья о шестилетке, которому стало стыдно жить, когда он не сдал экзамен… Рэйко отвернулась с содроганием. Она поправила оби[5] и, глядя под ноги, поспешила на ближайшую станцию — нужно было успеть на следующий поезд.
Похоже, спасительного часа пик больше не существовало. Гибкий график работы только растягивал хаос на весь день. Станционный регулировщик в белых перчатках втиснул Рэйко в вагон. Автоматически она отгородила невидимыми ширмами свое тело и самое свое существо, игнорируя толкущихся незнакомцев — женщин с сумками в ногах, множество мужчин, прячущих глаза за иллюстрированными журналами, — пока ее не вынесло на платформу возле Университета Кайго.
Смог, копоть и шум транспорта уничтожили полудеревенскую атмосферу, вызванную воображением из прошлого. Самые ранние воспоминания Рэйко — тогда она была в возрасте Юки-ко — о старинном доме, где она, дочь профессора, выросла, тихо играя на полу пыльного кабинета, пропитанного ароматом книг, которыми он был забит до самого потолка, и чьи стены украшены были прекрасной каллиграфией макимоно[6]. Втайне от отца она сосредоточенно вслушивалась в его беседы со студентами, коллегами и даже с посетителями гайжин из чужих стран, по-детски уверенная в том, что со временем она научится понимать их смысл и однажды войдет в его мир, чтобы разделить с отцом его труд, его гордость, его свершения.
«Когда же изменились мои мечты?» — удивилась Рэйко.
Воспоминания о детских фантазиях обычно вызывали у нее улыбку. Но сегодня они почему-то расстроили ее.
«Я изменилась очень давно, — думала она. — И на что мне жаловаться, когда у меня есть все?»
Однако, как ни странно, ее сестра Юми, такая тихоня в детстве, теперь стала образованной и уверенной в себе, а она, Рэйко, не может представить себе более важной роли, более великой чести, чем исполнять обязанности жены и матери.
Хорошо бы зайти повидать отца. Но сегодня времени совсем не будет. Раньше всех ее новости должна узнать Юми. Рэйко поспешила через дорогу туда, где напротив университета размещались коммерческие фирмы — фаланга индустриальных гигантов, чье надежное партнерство способствовало процветанию Кайго. Охранник у служебного входа «Фугизуку Энтерпрайзерз» узнал ее — раньше она работала здесь и потом часто заходила. Он поклонился и, улыбаясь, попросил только расписаться в карте посетителей.
Кратчайшим путем, вдоль гигантской стеклянной стены, Рэйко направилась в Сад Созерцания компании. За этой прозрачной преградой в лабораториях «Фугизуку» выпускали известную всему миру биоинженерную продукцию.
Тысячи белых клеток располагались по стенам огромного зала, в каждой — по три-четыре белых хомячка, полученных для достижения безупречной идентичности путем клонирования. Подчиняясь неслышному, но настойчивому ритму автоматов, четко поднимающих и переносящих клетки к длинному столу, работали люди в масках и белых халатах — поблескивали их иглы и скальпели.
Даже через стекло Рэйко чувствовала знакомую вонь грызунов. Она проработала здесь несколько лет, до первой беременности. «Либерализм» гайжин внедрился ныне настолько, что женщины больше не были обязаны увольняться сразу после свадьбы. Сказать по правде, Рэйко не очень скучала по этой работе.
Задняя дверь выходила во внутренний дворик — тихое и спокойное место в центре огромного Токио. В саду, среди заботливо ухоженных карликовых деревьев и аккуратных песочных грядок, под тонко вырезанными вратами храма церемония подходила к концу. Рэйко сложила руки и вежливо ждала, пока священнослужитель закончит мантру, многие женщины из «Фугизуку» кланялись у окутанного благовониями алтаря. Машинально Рэйко присоединилась к молитве.
— О, Ками[7] Маленьких Млекопитающих, прости нас! Не наказывай наших детей за то, что мы делаем тебе.
Ежемесячный ритуал совершался для умиротворения духов убитых хомяков, отдавших свои жизни, так много жизней, на благо компании, ради общего процветания. Когда-то такие молебны смешили Рэйко, но теперь она не чувствовала себя так уверенно. Разве не сама жизнь устанавливает равновесие? Гайжин бесконечно спорят о том, насколько это этично — приносить животных в жертву человеку. «Спасите китов!» — кричат они, — «Спасите криль!». Но зачем Западу так беспокоиться о защите низших животных, если только там тоже не боятся неумолимого возмездия кармы?
Если животные действительно имеют ками, то их призраки должны бродить тут, в здании «Фугизуку», и необходимо предпринимать защитные меры. Ведь едва открывают глаза новорожденные хомяки, как им вводят вирусы для выработки антител и интерферона. Жертвуют тысячами зверьков ради нескольких миллиграммов драгоценных чистых молекул.
Теперь, когда новая жизнь формировалась внутри нее, Рэйко не могла пренебрегать малейшей возможной опасностью. Она страстно присоединилась к примирительной молитве.
О, злые духи, не троньте моего ребенка.
6
Позже Рэйко с Юми перекусили в саду — Рэйко принесла завтрак в лакированной коробке. Ее новость Юми встретила с восторгом, с увлечением говорила о всех приготовлениях, которые необходимо сделать, прежде чем ребенка привезут домой. В тоже время Рэйко казалось, что под энтузиазмом сестра скрывает какие-то опасения.
Наверняка Юми с самого начала догадывалась о настоящей причине их поездки в Сеул. Во многом младшая сестра была гораздо проницательней Рэйко. Тем не менее Юми никогда не упрекала Рэйко за ее брак, не говорила ничего такого, что могло бы разрушить надежды сестры. Вот и о Тецуо она сказала теперь лишь:
— Когда наша семья познакомилась с ним, отец и все мы думали, что тебе будет трудно уживаться с Тецуо, при его эксцентричности и приверженности идеям западного либерализма. Теперь же он очень нас удивил. Кто мог знать, что спустя несколько лет твой муж пожелает стать образцовым японцем?
Рэйко широко раскрыла глаза. Тецуо пытается это делать? Она задумалась. Но никакие уговоры не заставили Юми сказать что-нибудь еще.
7
Вторая поездка в Сеул была еще короче и едва ли не внезапнее первой. Рэйко едва успела сложить ранец Юкико и отвести ее к Юми, как им уже нужно было спешить в аэропорт, на рейс, на который заказал билеты Тецуо.
Опять врачи из клиники Пака брали анализы за перегородкой чести. Рэйко хватило образования, чтобы понять суть случайно услышанного разговора.
Они говорили о тестах… тестах на потенциальные генетические дефекты, рецессивный дальтонизм, скрытые признаки близорукости, на правильность половых хромосом. Когда смысл этих слов дошел до нее, у нее затряслись колени.
Они решали, жить или умереть плоду, еще такому маленькому, что внешне еще ничего не было заметно.
Она слышала, что еще и теперь в деревнях на окраинах Китая новорожденных девочек топят. А здесь их тестируют, выявляют и удаляют из матки до первого крика. Еще до того, как душа успеет даже обрести форму.
Рэйко боялась, что ей сейчас объявят о таком непоправимом дефекте плода как женский пол. А когда они вернулись с хорошими новостями, улыбаясь и кланяясь, Рэйко чуть не упала в обморок от облегчения. С этого времени Тецуо стал так внимателен, словно беременность была ее великим свершением, и теперь он мог гордиться своей женой.
Летя домой, они держались за руки. И следующее четыре чудесных месяца Рэйко думала, что ее испытания близятся к концу.
Теперь Тецуо часто приходил домой рано, пропуская все (кроме самых важных) бизнес-обеды и встречи с коллегами. Он играл с Юкико, шутил и смеялся. Вместе с Рэйко они обсуждали будущее сына, который с рождения будет окружен самым пристальным вниманием, получит самое лучшее образование, у которого будет все, что необходимо для успеха в этом жестоком расчетливом мире, полном конкуренции.
Его сыну, поклялся Тецуо, не придется раболепствовать, чтобы подниматься по иерархической лестнице и обрести наконец высокий статус. Он не позволит ни детям, ни учителям мучать своего сына жестокими ритуалами групп солидарности куми. Его сын сам станет главой иерархии. Когда его сын будет произносить кампай, его бокал поднимется выше остальных.
Когда Тецуо прикасался к ее растущему животу, его взгляд светлел, и Рэйко чувствовала, что ради этого стоит жить.
Потом, на четвертом месяце, Тецуо принес еще один тонкий белый конверт с двумя красно-зелеными авиабилетами.
8
Она вскрикнула от удивления, когда увидела изображение на экране. Доктора Клиники Пака направили ультразвуковые волны в ее матку, а компьютеры преобразовали беспорядочные отражения в поразительную картину жизни, развивающуюся внутри нее.
— Это похоже на обезьяну! — закричала она в ужасе. Ее мысли заметались: «Наверняка, это что-то такое, чему доктора никогда не позволят родиться!»
Один из них грубо расхохотался. Другой был внимательнее. Он объяснил:
— На этом этапе развития плод имеет много общего с нашими далекими предками, которые жили давным-давно. Совсем недавно, например, у него были жабры и хвост. Но они уже рассосались. Последовательно он будет становиться похожим на тех предков, что стоят к нам все ближе и ближе, пока, наконец, не появится в человеческом облике.
Рэйко облегченно вздохнула. Кто-то упомянул звучащий по-западному термин «резюме», и вдруг она вспомнила, что однажды слышала или читала об этом. Покраснела от стыда — ну конечно, эта вспышка заставит их думать, что она истеричка.
— Главное, мы установили, — продолжали врачи, — что акустические нервы уже на месте, и вскоре начнут функционировать глаза.
— Значит, все хорошо? — спросила она. — Мой малыш здоров?
— Ваш Минору будет замечательным, сильным мальчиком.
— И можно теперь домой?
Второй врач покачал головой.
— Мы переходим к выполнению следующей части нашего контракта. Нужно ввести к вам в матку очень важное устройство. Не беспокойтесь. У нас тут большой опыт, а вам это не доставит никаких неудобств, только придется пробыть в клинике двое суток.
Потрясенная, Рэйко даже не думала возражать, когда ей делали укол. С внезапной сонливостью она смотрела на расплывающийся мир, пока ее везли в операционную. Там разговаривали тихо, это был разговор профессионалов между собой. К ней никто не обращался.
— Гомэн насай, — произнесла она, почувствовав маску анестезии, и сладкий, приторный запах появился во рту и горле. — Простите, я очень устала.
Приглушенные мысли Рэйко носились вокруг раскаленного ядра стыда. Она забыла, за что просит прощения, но что бы это ни было, Рэйко знала, это должно быть что-то ужасное.
9
Вскоре, после третьего возвращения домой, ее сны начали наполняться кошмарами. Они вырастали из смутного, неясного ощущения подавленности и страха. Кошмары не будили ее, но по утрам, когда нужно было провожать Тецуо на работу и Юкико в сад, она ощущала усталость. Часто, когда все уходили, она падала обратно на татами. У нее не было сил. Эта беременность, похоже, отнимала у нее гораздо больше сил, чем первая.
К тому же эта музыка. От музыки некуда было деться.
Вначале было даже приятно. Крошечный механизм, имплантированный в матку, едва ощущался пальцами. Он питался энергией от маленьких батареек, которых вполне хватит еще на пять месяцев.
На данном этапе развития плода устройство только и делало, что играло музыку. Бесконечно, снова и снова, музыка.
— Минору ва, гаку сей десу, — сказал Тецуо. — Маленький Минору теперь студент. Его мозг, конечно, пока не способен воспринимать более сложные уроки, но музыку он может воспринимать даже сейчас. Он родится с отменным слухом, зная гармонию как бы инстинктивно.
Тецуо улыбался.
— Минору кун ва, он-гаку га суки десёу[8].
Так, ряды звуков повторялись, снова и снова, пульсируя в ней как гидролокатор, отражаясь от стенок и перегородок тела, преломляясь и пронизывая ее внутреннее море, резонируя с ударами ее сердца.
Юми перестала приходить к ним в те часы, когда Тецуо мог быть дома. Отец назвал отвратительным согласие Тецуо на вмешательство в естественный ход вещей. Рэйко вынуждена была защищать Тецуо.
— Вы слишком прозападные, — повторяла она слова мужа. — Вы также слепо принимаете гайжин и их чуждые понятия о природе и вине. В том, что мы делаем, нет ничего постыдного.
— Сомневаюсь, — отвечал отец раздраженно.
Юми вмешалась:
— Постыдно утаивать тогда то, что вы делаете.
— Что ж, — отвечала Рэйко, — только вы двое и выражаете неодобрение. Все друзья и коллеги Тецуо восхищаются этим! Соседи заходят ко мне послушать музыку!
Отец и сестра переглянулись, словно она сама только что подтвердила их правоту. Но Рэйко не поняла этого. Она знала только, что должна оставаться на стороне мужа. Другого выбора у нее не было. У Юми есть еще возможность построить для себя более «современный» брак, но Рэйко, как ей казалось, такой путь мог привести только к семейному хаосу.
— Мы стремимся с самого начала предоставить нашему сыну максимальные преимущества, — заключила она. И на это, конечно, трудно было возразить.
— Посмотрим, — подытожил отец.
И она, переменив тему, заговорила о цвете осенних листьев.
10
На исходе шестого месяца предмет в матке произнес первые слова.
Она вскочила в темноте, кутаясь в одеяло. В первый момент Рэйко в ужасе подумала, что это призрак, или сам младенец шепчет зловещие пророчества из глубины ее тела. Слова были неразборчивыми, но вызывали вибрацию, которую она чувствовала трясущимися пальцами.
Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это опять машина, приступившая к следующей фазе обучения плода. Рэйко со вздохом облегчения откинулась на подушки. Рядом, не догадываясь о таком событии, тихо, удовлетворенно, похрапывал Тецуо.
Рэйко лежала, прислушиваясь. Она никак не могла разобрать, что именно излагала машина — медленно, с повторениями. Но малыш отреагировал — задвигался. Может, он поворачивается поближе к динамику, думала она. Или, наоборот, пытается отвернуться. Если так, то он в ловушке, заключен в самой тесной, самой безопасной, круговой тюрьме.
Врачи уверяли, что это не вредно, напомнила себе Рэйко. Конечно, эти мудрые люди не сделают ничего плохого ее ребенку. Впрочем, хотя это и был новейший метод, они с Тецуо не были первыми. До них были другие, доказавшие, что все нормально.
Успокоившись, но зная, что сон не вернется, она встала до восхода солнца, которое превратит небо на востоке в скучную туманную серость. Рэйко с головой погрузилась в домашние хлопоты, стремясь сделать жизнь своей семьи как можно приятней и удобней.
Однажды вечером они вместе сидели перед телевизором, была передача о генной инженерии. Репортеры увлеченно рассказывали о том, как в будущем ученые смогут расчленить и объяснить код самой жизни. Люди специализируют растения, животных, даже своих потомков, сделают их сильнее, умнее, лучше, чем когда-либо.
Она услышала, как Тецуо с завистью вздохнул, но ничего не сказала. Она же с облегчением положила голову ему на плечо, скрывая свои мысли.
«К тому времени мне уже будет поздно рожать. Все эти чудеса будут заботой других женщин».
Рэйко знала, что будет дальше. Она очень старалась заранее подготовить себя и все-таки испытала шок, когда примерно через неделю ее живот засветился. Ночью, когда огни в доме были погашены, можно было видеть, как ее растущий живот слабо переливался различными цветами. Внутри нее что-то мерцало. Но это был холодный свет.
Вскоре пришли любопытные соседки, они хотели все увидеть своими глазами. Они восхищенно перешептывались, глядя на свечение, которое передалось ее коже от маленького устройства, и обращались к ней с таким уважением, что она не посмела прогнать их, как бы ей этого ни хотелось.
Напросились в гости даже несколько завистливых коллег Тецуо, чтобы тоже посмотреть. На другой день Рэйко должна была спешно готовить особо изысканный обед для начальника Тецуо. Большой человек похвалил ее умение стряпать и высоко оценил смелость и проницательность Тецуо.
Рэйко не стеснялась показывать небольшой участок кожи в затемненной комнате, и, когда гости хотели послушать уроки Минору, холодные прикосновения стетоскопа ее не смущали. Стыдливость ничего не значила по сравнению с той гордостью, которую она испытывала, помогая Тецуо.
Хотя она все-таки беспокоилась. Что показывала ребенку машина, там, внутри нее? Может быть, он уже изучает дальние страны, которых сама она никогда не видела? Или машина описывает ему биологические факты жизни? Где он уже побывал и что с ним происходит?
Или машина запечатлевает в нем холодные, изящные математические формулы, формируя гения, пока его мозг податлив как тесто?
Отец кое-что объяснил ей, когда она предпоследний раз навещала родительский дом. Пока Юми с матерью убирали посуду после обеда, профессор Сато просматривал названия программ, перечисленных в брошюре Клиники Пака.
— «Абстрактная геометрия и топология», «Определение музыкальных тонов», «Основы лингвистики»… Хон га нан-сатзу аримас-ка?[9] Хм-м. — Отец отложил брошюру и попытался объяснить. — Безусловно, плод не может усвоить предметы, которых не в состоянии усвоить ребенок. Он не может по-настоящему понимать речь, например. Он ничего не знает пока о людях и о мире. Специалисты, по-видимому, знают, что бесполезно перегружать фактами бедного малютку. Пока это прокладка путей, тропинок… закладка основ тем способностям, которые ребенок проявит позже, в школьные годы. — Нехотя отец признал, что ученые, похоже, умеют это делать. — Очень они умные, — сказал он. Вздохнув, добавил: — Это не обязательно значит, конечно, что они действительно знают, что делают. Лучше бы они были не такие умные. Хотя бы наполовину.
Предупреждающий взгляд Юми заставил его замолчать. Но одного его тона оказалось достаточно, чтобы Рэйко вздрогнула.
Вскоре она стала избегать отца и даже Юми. Дни тянулись, а тяжесть, которую она носила, все увеличивалась. Плод теперь почти не шевелился. У нее было такое ощущение, будто он все внимательнее прислушивается к своим урокам.
11
Их навестили специалисты из Клиники Пака, вооруженные приборами — знакомыми и незнакомыми. Рэйко обследовали, измеряли, считывали память внутреннего устройства, приставив к ее животу какой-то прибор. Потом, что-то горячо обсуждая, начали собираться. Только напоследок один из них вспомнил о Рэйко и сказал, что ее сын развивается прекрасно. Между прочим, он — редкий экземпляр.
Пришел домой Тецуо и рассказал, что у людей Пака появилась новая захватывающая идея, которую они хотят экспериментально испытать.
— Несколько зародышей, как у нас, особенно хорошо воспринимают уроки. Но эти уроки по сравнению с новейшей программой — примитив!
Рэйко коснулась его руки.
— Тецуо, срок его рождения совсем близок. Примерно через месяц. Зачем постоянно торопить малыша?
Улыбнувшись, она попыталась заглянуть ему прямо в глаза, чего не решалась делать прежде.
— В конце концов, — уговаривала она, — во внешнем мире у студентов бывают иногда каникулы. Может быть, и ему отдохнуть?
Тецуо будто не слышал. Его распирало от новостей.
— Слушай, совсем недавно они сделали действительно фантастическое открытие. Некоторые младенцы, оказывается, способны к телепатии, и именно в последние недели перед рождением!
— Те… те-ре-патиу… — Рэйко пробовала на вкус слово гайрайго.
— Но эти способности кратковременны. Мать только ощущает, что ее связь с ребенком усилилась. Родовая травма всегда уничтожает их. Даже самое осторожное кесарево сечение…
Сел на своего конька. Рэйко, сдаваясь, опустила глаза, она знала, что не сможет пробиться сквозь этот пылкий энтузиазм. Тецуо не изменился. Он был все тем же импульсивным мальчишкой, за которого она выходила замуж. Беззаботный, как зоку[10]. Только теперь он знает, что лучше не увлекаться непопулярными западными выдумками — вместо этого можно подобрать подходящие восточные.
Когда на следующий день пришли специалисты, она, без всяких вопросов, позволила им работать. Ей надели бандаж из тонкой сетки. Когда медики ушли, она молча легла, отвернувшись к стене.
Звонила Юми, но Рэйко отказалась встретиться с ней. С родителями отложила встречу тоже, сославшись на слабость.
Маленькой Юкико, чуткой как всегда, сказали, что в конце беременности у женщин часто меняется настроение. Она тихо делала уроки и играла с компьютерным учителем, сидя в своей комнатке.
Тецуо получил повышение. Празднование этого события затянулось. Когда он пришел домой, пахнущий рыбой, саке и ресторанными девушками, Рэйко притворилась спящей. На самом деле, она прислушивалась. Аппарат почти перестал светиться. Не издавал ни звука. И все-таки Рэйко чувствовала, что понимает, о чем говорит машина с ее сыном.
Ее полусон заполняли тени… невозможные формы, сосуды с отверстиями, и в то же время — без. В голове крутилось одно и то же слово «топология».
Всю следующую неделю она пыталась приободриться. Временами ей казалось, что она носит Юкико… она ощущала такую глубокую, прочную связь с плодом, которой не способна помешать никакая машина. В такие моменты Рэйко чувствовала себя почти счастливой.
Наступил Конец Года, и большинство мужей всю неделю веселились, размахивая руками и прыгая на празднованиях Бонен-кай, толпы будто хотели утопить старый год в алкоголе. Автоматы с саке на станциях опустошались быстрее, чем компании-производители успевали их заправлять. Умудренные опытом женщины и дети старались не выходить на улицу.
Однажды ночью Тецуо вернулся пьяный и долго прохаживался по поводу ее отца, прекрасно зная, что, по традиции, все сказанное им в таком состоянии не может быть принято всерьез. Однако Рэйко перетащила свой татами в комнату Юкико. Она тихо легла, вспоминая о том, что однажды сказал ей отец:
— Мы оба, и Тецуо и я, верим в союз Востока и Запада. По обе стороны Тихого океана люди мечтают о воссоединении этих сил. Но здесь возникают разногласия. Что называть силой, Рэйко? Люди, вроде Тецуо, видят только силу западного редукционизма, и хотят совместить его с нашей дисциплиной, с традиционными методами гармоничного соперничества. Я с этим никак не согласен. Что запад действительно может дать, единственное, что может он предложить, это честность, дитя мое. Каким-то образом, из глубин своей ужасной истории, лучшие среди гайжин вынесли замечательный урок. Они научились не доверять себе, сомневаться в том, чему их учили или во что им хотелось бы верить. С таким знанием даже то, что считается истиной, может быть пересмотрено. Это было великое открытие, достойное даже того сокровища, которое Восток мог предложить в ответ — дара гармонии.
Рэйко не понимала его — ни тогда, ни теперь. Но Юми, казалось, уловила некий смысл.
— И, значит, говорить о том, кто победит, Запад или Восток, бессмысленно, да, папа?
— Нет, — сказал он. — Конечно, синтез обязательно состоится. Только остается неясным, какой вид синтеза. Будет это синтез силы или мудрости?
На следующий день Тецуо извинился без слов. Рэйко простила и перебралась обратно в спальню.
Специалисты Клиники Пака приходили теперь дважды в неделю. Рэйко удивлялась, как они будут оплачивать такое внимание, пока Тецуо не сказал ей, что Клиника взяла на себя все расходы. Они — особенные. Эксперимент с их участием получит мировую известность.
Временами Рэйко беспокоилась, что малыш не будет похож на обыкновенного ребенка, когда появится на свет. Вдруг у него будет лицо с выражением нечеловеческой мудрости и он сразу устремит глаза в небо, размышляя о чем-то великом? Вдруг он, выйдя из матки, уже будет этим пугающим, царственным созданием, взрослым мужчиной? Нужна ли будет ему ее любовь?
С приливами и отливами этих тайных чувств приходила и уходила надежда. Каждый всплеск эмоций приносил с собой неуверенность и опустошенность. Она была рада, что все это скоро кончится.
В специальной группе Рэйко познакомилась с такими же, как она, женщинами. Некоторые из них, более осведомленные, были гораздо спокойнее Рэйко. Особенно спокойной и уверенной казалась госпожа Сукимура. Рэйко до нее очень далеко. Специалисты Пака уже сейчас сходили с ума от результатов ее ребенка. Они говорили об обработке информации, о частоте и фазе фильтрации, о трансформации рядов Фурье и распознавании образов.
Как-то всех женщин посадили в лимузины и повезли за город, в ММТП, всесильное Министерство Международной Торговли и Промышленности на улице Сакурада-Дор. В большом зале им прикрепили сетчатые бандажи и аккуратно, заботливо подкатили вплотную к громадным прохладным машинам.
Компьютеры, подумала Рэйко. Они используют мощные компьютеры, чтобы разговаривать с зародышами!
Когда появился сам министр, Рэйко захлопала глазами от удивления. Его Милость пожал Тецуо руку. У Рэйко закружилась голова.
12
Они, конечно, дали обязательство соблюдать секретность. Если газеты гайжин узнают об эксперименте раньше времени, кто знает, чем придется расплачиваться. Внимание средств массовой информации без необходимой подготовки может опорочить нацию, хотя, в любом случае, это дело не касается чужаков.
Японии достаточно завидуют и по другим поводам. А на Западе постоянно пытаются доказать, что только у них есть представление о морали. Тецуо с Рэйко подписали документ. Состоялся разговор о делах компании Тецуо, а когда он вернулся, то получил новый ответственный пост. Он советовался с нею о покупке другого дома, в районе получше.
— Вся проблема была в программном обеспечении, — объяснял он как-то вечером, хотя Рэйко знала, что говорит он в основном для себя. — Наши инженеры сильны в практической технологии, опередив во многих отраслях большинство стран мира. Но программирование оказалось очень сложным делом. Похоже, обычным способом догнать американцев в этой области нереально. Твой отец любит повторять, что все проблемы от недостатков нашей системы образования.
Тецуо насмешливо продолжал:
— Японское образование самое лучшее в мире. Самое надежное. Самое требовательное!
— Что?.. — переспросила она. — Как это все связано с детьми?
— Они гении программирования! — вскричал Тецуо. — Они уже справились с целым рядом задач, над которыми бились сотни лучших программистов. Конечно, они не понимают, что делают, но это, похоже, не так уж важно. Наше дело — правильно сформулировать вопрос, и они найдут решение. Например, у нерожденного еще нет представления о расстоянии и движении. Но это как раз и является их преимуществом, понимаешь, ведь у них нет и предубеждений. Они смотрят по-новому, не обремененные рутинным опытом.
Так, один из наших юных инженеров нашел решение для Министерства Торговли, а другой разработал совершенно новую модель управления дорожным движением, что уменьшит городские заторы на пять процентов!
Глаза Тецуо светились таким лихорадочным блеском, что Рэйко стало не по себе.
— Зуйбун дезудес, не?[11] — сказал он, восхищаясь этим, еще нерожденным, инженером. — А нашему сыну, — продолжал он, — достались еще более сложные проблемы транспортной системы. И я уверен, мы будем им гордиться.
Итак, думала Рэйко, все оказалось гораздо хуже, чем она представляла. Это было даже не джуку, даже не форма особо интенсивного образования. Ее ребенка заставили работать раньше, чем он успел родиться. И она ничего не могла с этим поделать.
Чувство вины совершенно подавило Рэйко.
13
Бутылка Клейна… это название пришло во сне.
Та самая странная вещь — бутылка с двумя отверстиями и в то же время без… ее внутренняя часть снаружи.
14
Госпожа Сукимура не появилась, как обычно, в компьютерном центре. Значит, ее время пришло. Да, подумала Рэйко, скоро и я отдохну.
Обычно роды в Японии принимались по записи, в течение рабочего дня. Женщина со своим врачом устанавливала распорядок — когда зайти на осмотр, когда принять таблетки для стимуляции родовой деятельности. Это был очень цивилизованный, более контролируемый способ, чем тот, которым пользовались на Западе.
Но перед экспериментальной группой стояли другие задачи. Работа, которую выполняли нерожденные, была так важна, что женщин не торопили с родами — пусть рожают как можно позже.
Врачи говорили о «родовой травме». Выход во внешний мир лишает даже самых талантливых младенцев их небольшой, но потенциально мощной психической силы. После «травмы» они станут просто новорожденными — талантливыми, образованными, но, все-таки, обыкновенными младенцами.
Работники ММТП сокрушались об этом, но ее эта «травма» совсем не огорчала. Для Рэйко приближающееся возвращение в неведение станет благословенным даром самого Будды.
Как странно иметь гениального сына. Но ей обещали, что он все равно будет маленьким мальчиком. Она будет щекотать его и смешить. А если он упадет и заплачет, она его приласкает. Она будет греться в сиянии его улыбки, и он будет любить ее. Об этом она позаботится.
Быть гениальным — не значит быть бездушным. Она это знала из встреч с некоторыми студентами отца. Был один парень… папа хотел, чтобы она встречалась с ним, а не с Тецуо. Это было давно. Все восхищались его блестящим умом, у него была добрая улыбка и хороший характер.
Если бы не мясо, от которого появляется неприятный, как у американца, запах… — он слишком много его ел.
И все равно, к тому времени она уже была влюблена в Тецуо.
Одна за другой женщины покидали группу, их места занимали другие. И теперь новенькие искали у Рэйко совета и поддержки. Совсем скоро, конечно, придет и ее время. Кстати, она уже на неделю задерживалась. На очередном осмотре один из врачей, торопясь к телефону, оставил на столе свою папку.
Рэйко вдруг осмелела. Потянувшись, она раскрыла папку в надежде найти свою карту. Но это был всего лишь список пациентов другого отделения.
Потом она заметила: госпожа Сукимура в списке! А три недели назад им сказали, что ее роды прошли удачно. Были и другие знакомые имена. Оказывается, почти все родившие женщины находились под наблюдением этажом ниже.
Заколотилось сердце, и малыш тут же встревожился. Послышались шаги возвращающегося доктора. Рэйко оставила папку и села на место, пытаясь казаться спокойной.
— Если схватки не начнутся к концу месяца, мы спровоцируем их, — сказал врач, записывая данные теста. — Ваш муж, конечно, дал согласие на эту задержку. Вам не о чем беспокоиться.
Рэйко едва слушала его. В голове у нее зарождался план. Она обессилела от собственной дерзости.
Хорошо, что она надела на прием западное платье. Кимоно здесь слишком заметно. Поверх одежды для улицы можно надеть белый халат. В конце концов она видела, что здесь работают и женщины-врачи. Но ее выступающий живот и переваливающаяся походка превратят это переодевание в нелепый маскарад. Белый халат лежал на стуле, будто специально для нее оставленный.
Но в ее сумке еще оставался серый халат, который выдавали для осмотров. В туалете она накинула его поверх платья. В отделении обычно не обращают внимания на гуляющих пациентов. Униформа всегда помогает тому, кто хочет оставаться незаметным.
Вначале она попробовала лифт. Но когда она попросила восьмой этаж, то встретилась со строгими глазами лифтера.
— Разрешите взглянуть на ваш пропуск? — вежливо спросила медсестра.
— Я оговорилась, извините, — сказала Рэйко, кланяясь, чтобы скрыть волнение. — Я хотела сказать — девятый.
Выйдя из лифта, она прислонилась к стене. Передохнуть. Постоянно, каждую минуту, вес растущего живота заставлял ее постоянно напрягать мышцы спины — настоящая пытка, если не передвигаться в довольно неестественной позе. Скоро, совсем скоро ее ребенок появится на свет. И она уже начинала бояться этого болезненным, смертельным страхом.
Медсестра спросила, не нужна ли ей помощь.
— Ие, кекко десу, — быстро ответила Рэйко. — Гомэн насай. Икимасёу[12].
Медсестра, с недоверием взглянув на нее, поспешно ушла. Рэйко поплелась к ярко светящейся надписи «пожарный выход», огляделась и, удостоверившись, что ее никто не видит, шмыгнула на лестницу.
Она осторожно ступала по шероховатым, высоким ступеням, поддерживая левой рукой живот. Ее матка была центром бешеной активности — малыш толкался и кувыркался. Когда она добралась до восьмого этажа, охранник уже поднялся со своего табурета ей навстречу.
— Могу ли я вам чем-нибудь помочь? — спросил он в недоумении.
«Конечно, уважаемый сэр, — с сарказмом подумала Рэйко. — Пожалуйста, будьте так добры, позвольте мне пройти в эту дверь и потом забудьте, что вообще меня видели».
Он нахмурился. Дважды он пытался открыть рот и останавливался. Его смущенное изумление скоро передалось Рэйко; заморгав, охранник повернул ручку двери и распахнул перед нею створки.
— Доузо… охайри кудасай…[13]
— Ээ, хаирасете итадакимасу[14], — задыхаясь, ответила она. Пошатываясь, Рэйко прошла, не дыша, в дверной проем, а когда дверь за нею закрылась — вздохнула свободно.
Там, на лестничной площадке, она почувствовала, что у нее изнутри исходит нечто волшебное, какая-то колдовская сила. Ребенок ощутил, что ей тяжело, и помог ей… наверняка, не догадываясь, о том, что делает. Он помог ей, потому, что ей это было совершенно необходимо.
Любовь. Она всегда верила, что любовь бесконечно сильнее всех этих холодных металлических приборов, которыми так гордятся люди. Тем более любовь матери и ребенка.
«Надо узнать, что здесь происходит, — подумала она. — Я должна».
К счастью, в больнице было только одно кольцо охраны, видимо владельцы заведения считали, что символического ограждения вполне достаточно. При других обстоятельствах и этого было бы слишком много.
Поэтому Рэйко не нужно было проявлять особенного проворства или красться по палатам. Коридоры были пусты, а несколько дежурных даже не смотрели в ее сторону, беседуя на профессиональные темы. Она оставалась незаметной. Она подошла к большому окну, выходящему в коридор. Знакомые коконы новорожденных в белых колыбельках, контрольные приборы, скучающая медсестра за чтением газеты.
Малыши.
Они выглядят достаточно здоровыми, подумала она, собираясь улыбнуться. Оказалось, что никаких монстров здесь нет, только розовые малыши, каждый как крохотный, пухленький Будда… или как тот английский премьер-министр Черчилль.
Однако готовая распуститься улыбка Рэйко увяла, когда она заметила, что дети почти не двигаются. И тогда она увидела, что каждый из них подключен к электродам и к кабелю. Провода вели к нагромождению машин у дальней стены.
Компьютеры. И младенцы с широко раскрытыми глазами, лежащие почти без движения.
— Вакаримасен, — застонала Рэйко, качая головой. — Не понимаю!
15
На табличке у двери было написано «Сукимура». Рэйко прислушалась, и не услышав никаких голосов, проскользнула внутрь.
— Рэйко-сан!
Женщина в кресле выглядела хорошо, полностью оправившейся. Она поднялась и подбежала к ней.
— Рэйко-сан, что вы здесь делаете? — говорила она, держа ее за руки. — Нам сказали…
— Нам? Здесь и остальные? И меня, когда придет время, тоже будут здесь держать?
Госпожа Сукимура кивнула и отвернулась.
— Они добрые. Мы… нам разрешили ухаживать за своими детьми, пока они работают.
«Работают». Рэйко пыталась осмыслить это слово.
— Но как же родовая травма… она должна вернуть им невинность! Они обещали…
— Они нашли метод, чтобы этого избежать, Рэйко-сан. Наши дети все родились умными. Они инженеры и работают на благо империи. Нам сказали, что об этом знают даже во дворце, настолько это важно.
Рэйко была в ужасе.
— Они что, собираются держать их на проводах всю жизнь?
— Ах, нет-нет. Врачи говорят, это им не повредит. Говорят, что с нашими сыновьями все будет хорошо. — И все-таки, хрипота в голосе выдавала истинные чувства госпожи Сукимуры.
— Но, Изуми-сан, — спросила Рэйко, — что же тогда плохо?
— Так нельзя! — Старшая женщина плакала. — Мужчины говорят, мы глупые, суеверные женщины. Они говорят, что у малюток все в полном порядке, они здоровы… что они будут жить нормальной жизнью. Но, ах, Рэйко-сан, у них нет ками! У них нет души!
Рэйко испытывала нестерпимую душевную муку. «Нет, это не может быть правдой. Я чувствую ками своего ребенка. Несмотря на все, что он пережил, он остался человеком!»
В коридоре послышались шаги, у двери раздались голоса.
— При рождении… — Госпожа Сукимура говорила хриплым, ужасающе покорным голосом. — При рождении… их души переводят в… в программу.
Дверь открылась. По комнате зазвучали грубые мужские голоса. Она почувствовала руки на своих плечах. Она закричала: «Ие. Ийе!»[15] Но не могла ослабить хватку. Руки выволокли ее из комнаты.
«Рэйко-сан!» — услышала она крик подруги до того, как дверь окончательно защелкнулась. Сильные руки. Игла.
Рэйко закричала, но это было сильнее всякого физического сопротивления.
16
Мелкая дрожь, вызванная введенным лекарством, скоро перешла в конвульсии, которые превратились в сильнейшие схватки. Рэйко звала Тецуо, прекрасно зная, что даже если суровые представители министерства позволят ему прийти, то обычаи не подпустят его. Схватки участились, заставляя маленькую жизнь внутри толкаться в волнении.
Ввели новую дозу. Машины устремились в ее матку. Она знала, что эти умные приспособления предназначены для предотвращения наступления неведения, этой ненавистной врачам «родовой травмы». Во что бы то ни стало они хотели предотвратить ее. Им нужно было, чтобы ребенок появился на свет умным.
О, когда же они поймут, к своему сожалению, что совершают на самом деле, какие силы они развязывают. И даже если бы она могла говорить, ее не стали бы слушать. Они должны были сами осознать это.
В бреду Рэйко поворачивала лицо то направо, то налево, прислушиваясь к голосам, которых, похоже, в операционной кроме нее никто не слышал. Они доносились со всех сторон, в гудении ламп, в шипении аппаратов искусственного дыхания.
Духи глядели из машин и смеялись ей в лицо, некоторые — простые — были в виде вспышек света и разрядов, другие, более сложные, проскальзывали в электронных вихрях микропроцессоров. Ее окружили призраки. Это сама ками шептала, несмотря на свои компьютерные оболочки.
Как глупо с их стороны думать, что можно отменить мир духа. Рэйко вдруг сама эта идея показалась обыкновенным самодовольством. Конечно, ками может приспособиться ко всему, к любым требованиям времени. Духи найдут себе дорогу.
Теперь они на свободе в огромной сети, и лишь ждут своего часа. Они отомстят.
Призраки хомячков… призраки младенцев…
Она чувствовала своего сына. Сейчас он думал так напряженно, как не предусматривала ни одна программа.
Снотворное парализовало ее, и руки-щупальца переключились на другие мерзости. От схваток затуманилось все вокруг. Сквозь туман ее слез проносились ослепительные ленты Мебиуса и муаровые узоры. Откуда ей известны названия этих вещей, если она никогда об этом не слышала? Рэйко некогда было удивляться. Слова пришли сами.
— Транспортация… локационная кодировка координат… — шептала она, облизывая сухие губы, — нелинейные перемещения….
И потом возникла бутылка не с одним, а с двумя отверстиями… или вообще без… сосуд, внутренняя часть которого снаружи.
Теперь Рэйко напрягалась, чтобы понять, что значит «снаружи».
Руки, казалось, не замечали или игнорировали призраков, слетавшихся к ней из ослепительного света. Эти свирепые духи смеялись над ее болью и над тем, что внутри нее, тоже билось над разгадкой.
Следующий спазм скрутил Рэйко. Головокружение одолевало ее. Ужас, заставляющий сосредоточивать все силы… предельная сконцентрированность на одной задаче: превратить теоретические знания в практические умения.
Ками насмешливо подмигивал со стен — и экранов. Задача слишком сложна! Они не успеют ее решить!
Сосуд, чья внутренняя часть снаружи…
— Дес ка не?[16] — сказал один из медиков, встряхнув наушники монитора. И вдруг, в панике, закричал.
Со всех сторон слетелись белые халаты. На общий наркоз времени не было. Сделали местный. Оцепенение распространилось мгновенно. Никто и не позаботился установить ширму чести, когда хирурги-акушеры приступили к кесареву сечению.
И тут Рэйко ощутила, как чистое сияние точно вдруг вырвалось из нее. На нее накатила волна удивления и восторга красотой высшей математики. Только этот язык годился для мига триумфа! Но даже он был напитан любовью.
Хирургический надрез. Прозвучал громкий хлопок, будто лопнул воздушный шар. Ее вздутый живот опадал, как оборвавшийся навес.
Медики застыли в испуге. Дрожа, ошеломленный хирург ощупывал безжизненные складки ее пустой матки, ища в замешательстве то, чего там больше не было.
Прикладная топология. Она помнила название одного из курсов, преподанных ее сыну, и знала, это учение о формах и их отношениях. Оно о связи пространства и времени, и может применяться при решении задач транспортировки.
Руки еще долго с нею возились, но ничего плохого сделать уже не могли. Рэйко не обращала на них внимания.
«Он вырвался от вас, — прошептала она, — и от злой, беспощадной, нечеловеческой ками тоже. Он хорошо усвоил ваши уроки, я горжусь им».
Испуганные голоса, отраженные гулкими стенами, заполняли помещение. Но Рэйко уже устремилась вослед за своим сердцем — за пределы кабинетов и наций, за пределы человеческого знания, туда, где для любви не было никаких преград.
ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ Брюс Стерлинг ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
© Bruce Sterling. Artificial Life.
F&SF, December 1992.
Перевёл Андрей Колабанов
Новую область научных исследований, за которой закрепилось название «Искусственная жизнь», можно определить как «попытку абстрагировать логически представленную сущность жизни от ее материальных проявлений».
Допустим для начала. Но что же такое жизнь? Основопологающий тезис «Искусственной жизни» заключается в том, что «жизнь» правильней всего понимать как сложный системный процесс. «Жизнь» состоит из отношений, правил поведения и взаимодействий. «Жизнь» как свойство потенциально независима от живущих существ.[17]
Живые существа (такие, какими мы знаем их сейчас) в основе своей состоят из насыщенных водой органических элементов: кровь и кости, лимфа, целлюлоза, хитин. Живое существо — например котенок — представляет собой физический объект, скомпонованный сочетаниями молекул, занимающий место в пространстве и обладающий массой.
Котенок бесспорно «жив», но не потому, что «дыхание жизни» или «живительный импульс» как-то заложены в его тельце. Мы можем думать, говорить или поступать так, как если бы котенок «был жив» благодаря какому-то мистическому «кошачьему духу», оживляющему его физическую кошачью плоть. А если бы мы к тому же были еще и суеверны, то мы могли бы даже представить себе, что у здоровой, молодой кошки — девять жизней. Люди говорили и поступали именно так на протяжении тысячелетий.
Но, с точки зрения исследователей «Искусственной жизни», это очень примитивный способ определения того, что на самом деле происходит с живой кошкой. «Жизнь» котенка — процесс, включающий в себя производство потомства, генетическую вариацию, наследственность, поведение, обучение, запоминание генетической программы, воплощение этой программы при помощи физического тела. «Жизнь» — нечто действующее, а не просто существующее, жизнь потребляет энергию из окружающей среды, растет, восполняет потери, воспроизводится.
И эта цепь процессов, называемых «жизнь», может быть рассоединена, изучена, математически смоделирована, симулирована компьютером и подвергнута любым экспериментам — вне тела живого создания.
«Искусственная жизнь» изучается пока еще очень недолго. Этот термин впервые использован в 1987 г., когда потребовалось найти звучное название для конгресса по «синтезу и симуляции живых систем», проходившего в Лос-Аламосе, штат Нью-Мехико. Искусственная жизнь как дисциплина неразрывно связана с компьютерным моделированием, компьютерным программированием и кибернетикой. Она в основе своей походит на более раннюю область исследований, называемую «Искусственный интеллект». Искусственный интеллект разрабатывался для того, чтобы выявить базовую структуру мышления и заставить компьютер «думать». Отличие же Искусственной жизни в том, что ее задача — сделать компьютер не умнее муравья, но таким же живым, как целый муравейник.
Искусственная жизнь как отрасль науки использует компьютер в качестве своего основного инструмента исследований. Так же, как до него телескопы и микроскопы, компьютер делает ранее невидимые аспекты мира доступными человеческому взору. Сегодня компьютеры проливают свет на деятельность комплексных систем, на новые физические принципы, такие как «возникающее поведение», «хаос» и «самоорганизация».
На протяжении тысячелетий жизнь оставалась одной из величайших метафизических и научных загадок, но теперь в этот туман опустили новые экспериментальные компьютерные зонды. Уже сейчас получены очень интригующие результаты.
Может ли компьютерный робот быть живым? Может ли что-то, существующее только как цифровая симуляция, считаться «живым»? Если оно выглядит, как утка, крякает, как утка, ходит вразвалку, как утка, но является лишь сочетанием освещаемых точек на экране суперкомпьютера, — то утка ли это? А если это не утка, то что же это тогда, спрашивается, такое? Что же такого должно оно сделать, чем же таким оно должно быть, чтобы мы могли сказать — «Оно живое»?
На удивление сложно определить, где граница между «живым» и «неживым». Никогда не существовало всеохватывающего определения жизни, ни научного, ни метафизического, ни теологического. Жизнь не строится на четком выборе — или-или. Жизнь проявляется в некоем пространстве, континууме — возможно, в нескольких континуумах.
Кто-то, конечно, может попробовать поместить ее в более простые рамки, наподобие счета из прачечной. Чтобы «жить», нечто должно расти. Двигаться. Производить потомство. Реагировать на окружающую среду Потреблять энергию и избавляться от отходов. Питаться, умирать и распадаться. Обладать, как принято считать, генетическим кодом или быть результатом процесса эволюции. Но все эти положения несут очень серьезные проблемы. Сами функции воспроизводимы на сегодняшний день машинами или программами. Но их теоретические обоснования полны противоречий и парадоксов.
«Живы» ли вирусы? Они могут распространяться и размножаться, но не сами — они используют клетку-жертву, чтобы воспроизводить себя. Некоторые спящие вирусы способны кристализовываться в некое подобие органического шлака, по всем параметрам мертвого, и оставаться в таком состоянии сколь угодно долго — пока вирус не получит новой возможности для размножения, и тогда жизнь вновь закипает в нем.
А как насчет замороженного человеческого эмбриона? Он может находиться в спячке точно также, как и вирус, и, разумеется, требует укрытия, но может вырасти в живое человеческое существо. Вполне вероятно, что бывшие замороженные эмбрионы вот прямо сейчас и читают этот журнал! «Жив» ли замороженный эмбрион, или он только потенциально готов к жизни, как генетическая программа, застопоренная на полпути?
Бактерии являются наипростейшими организмами, но мы признаем их живыми. Многие люди, несмотря ни на что, согласятся с тем, что микроб, «живой». Но есть огромное количество других сущностей, действующих, как живые, таких же сложных по структуре, как микроб, но все же мы не называем их «живыми» только «метафорически» (что бы это ни значило).
А что можно сказать о национальном правительстве, например? Оно растет, адаптируется, развивается. И уж, безусловно, это очень сильная структура, потребляющая ресурсы, влияющая на окружающую его среду и использующая огромное количество информаций- Когда говорят: «Пусть Франция живет!» — что они хотят этим сказать? А что значит, что Советский Союз — «мертв»?
Амебы «бессмертны»[18] и не имеют возраста — они просто бесконечно размножаются раздвоением материнской клетки. Значит ли это, что все амебы — всего лишь частички одной супер-амебы, которой три миллиарда лет?
Большинство муравьев в муравейнике не производят потомства; они — бесплодные рабочие, инструменты, элементы системы связи, структура. Все отдельные муравьи в муравейнике могут умереть один за одним, даже сама матка может погибнуть, но до тех пор, пока новые муравьи и матки становятся на место старых, муравейник продолжает «жить» без сучка и задоринки.
Обсуждение «жизни» с этих позиций может показаться слишком придирчивым и софистским. В конце концов кому-то может показаться, что легко определить разницу между чем-то живым и чем-то мертвым, просто вглядевшись в него попристальней. На самом деле, это, похоже, единственный сильнейший аргумент приверженцев идей Искусственной жизни. Очень тяжело наблюдать за хорошей программой Искусственной жизни, не представляя ее в своем воображении хоть в какой-то степени «живой».
Только живые существа проявляют такую форму поведения, как собирание в стаю или стадо. Гигантская, движущаяся стая журавлей или фламинго — одно из наиболее впечатляющих зрелищ, которое может явить живая природа.
Но «логически представленная форма» собирания в стаю может быть отделена от ее «материального проявления» в виде стаи живых птиц. «Собирание в стаю» может быть задано правилами, выполнимыми компьютером. Вот эти правила:
1. Оставаться в стае — то есть пытаться продвинуться туда, где она имеет наибольшую плотность.
2. Стараться двигаться с той же скоростью, что и рядом летящие птицы.
3. Не сталкиваться с посторонними предметами, особенно с землей или другими птицами.
В 1987 году Крэг Рейнольдс, работающий на компанию компьютерной графики «Симболикс», применил эти правила для создания абстрактных графических сущностей, называемых «bird-oids» или «boids», что можно перевести как «птицоиды». После небольшой настройки был получен жутковато реалистический результат, таким и остается. Чертовы штуковины летают стаей!
Они шатаются вокруг безошибочно по-живому, в органическом стиле. В их действиях нет ничего «механического» или «запрограммированного». Они суетятся и перемешиваются. Бойды, находящиеся в середине, борются друг с другом за лучшее место, а находящиеся по бокам беспокойно стремятся пробраться в центр, а вся эскадрилия держится вместе, кружится, меняет курс и маневрирует с восхитительной грацией. (В действительности они ни беспокоятся, ни борются, но когда вы видите боидов, ведущих себя таким жизнеподобным образом, то просто не можете удержаться от того, чтобы не приписать им жизненные мотивации и намерения.)
Можно сказать, что боиды только лишь хорошо симулируют стайное поведение, но, согласно догматической позиции энтузиастов И-Жизни, это вовсе не «симуляция». Это настоящее «стайное поведение» в чистом виде, это то же самое, что делают настоящие птицы. Стайное поведение есть стайное поведение, и это не зависит от того, проявляют ли его курлычащие журавли или точки на экране компьютера.
Вообще птицоиды не являются «живыми», но вполне можно говорить о том, и об этом говорят, что они на самом деле выполняют что-то, подлинно являющееся частью жизненного процесса. Словами ученого Кристофера Лэнгтона, возможно, первого гуру Искусственной жизни: «Самое главное, что следует помнить об И-Жизни — то, что искусственная часть не является жизнью. Но происходят реальные вещи. Мы наблюдаем реальный феномен. Это реальная жизнь в искусственном проявлении».
Очень интересная вещь, наблюдаемая при изучении стайного поведения у боидов, в противоположность, скажем, журавлиному, — это возможность эксперимента над Искусственной жизнью, в контролируемых и воссоздаваемых условиях. Вместо того, чтобы просто наблюдать стайное поведение, ученый может теперь активно участвовать в нем. И не только в нем, после небольшого изменения параметров вы сможете изучать и поведение косяка рыб, и стада антилоп гну.
Огромная надежда, возлагаемая на исследования Искусственной жизни, в том, что она откроет ранее неизвестные принципы, непосредственно управляющие самой жизнью — принципы, придающие жизни ее мистическую силу и сложность, ее кажущуюся возможность противостоять самим законам вероятности и энтропии. И хотя даже некоторые принципы этих исследований очерчены весьма смутно, они тем не менее горячо обсуждаются.
К примеру: принцип приоритета инициативы снизу над приказами сверху. Стайное поведение довольно хорошо демонстрирует работу этого принципа. У фламинго нет плана действий. Нет никакого ведущего фламинго, раздающего непререкаемые приказы всем остальным. Каждый фламинго думает сам за себя. Чрезвычайно сложное поведение стаи фламинго возникает само собой из взаимодействий сотен независимых птиц. «Стайное поведение» состоит из многих тысяч простых действий и простых решений, повторяющихся снова и снова, влияющих на следующее в бесконечной цепочке обратной связи.
Тут включается второй принцип И-Жизни: приоритет местного управления над централизованным. У каждого отдельного фламинго есть только смутное представление о поведении стаи в целом. Фламинго просто недостаточно умен, чтобы держать в голове всю картину в целом. На самом деле, это и не нужно. Необходимо лишь стараться не задевать тех, что летят у твоего крыла, а об остальном можно забыть.
Еще один принцип: приоритет простых правил над сложными. Вся сложность стайного поведения, хотя оно и вполне реальное, творится за пределами мозга фламинго. Отдельная птица не имеет умозрительного представления о грандиозном воздушном балете, в котором она принимает участие. Фламинго доступны только простые решения, но ему и не нужно решать сложных задач, требующих большой памяти или планирования. Простые правила позволяют созданиям, даже таким тупым, как рыбы, справляться со своей работой не просто успешно, но и гладко и грациозно.
И, наконец, самый основной принцип И-Жизни, а также, пожалуй, самый туманный и научно-противоречивый: приоритет возникающего поведения над предопределенным. Фламинго перелетают с их гнездовий на кормежку день за днем, год за годом. Но они никогда не используют один и тот же маршрут дважды. Эти птицы добираются до места обязательно, с предопределенностью падающего камня; но форма и структура стаи будут изменяться каждый раз. Их летный порядок абсолютно непостоянен, у них нет пронумерованных мест по рядам или назначаемых постов, или команд. Их упорядоченное поведение просто возникает, как бы прорастая из каждого зерна времени.
У муравьев тоже нет установленных правил. Они-то и стали тотемными животными Искусственной Жизни. Муравьи настолько «умны», что у них есть огромные сложные сообщества со своим институтом рабства, с тлеводческим сельским хозяйством. Но отдельный муравей, по сути, очень несообразителен.
Энтомологи утверждают, что каждый муравей в действительности может производить от пятнадцати до сорока действий. Но если они производят их в нужное время, в ответ на верное воздействие и переходят от одного действия к другому, когда приходит нужный сигнал, тогда муравьи как группа могут творить чудеса.
По всему миру есть муравейники. В них во всех живут муравьи, но все по-разному; нет даже двух идентичных муравейников. Это потому, что при их постройке применяются принципы инициативы сверху и возникающего поведения. Муравейники строятся без малейшего намека на планирование или разумность. Муравей может почувствовать инстинктивную нужду оградиться от солнечного света. Он начинает поднимать кусочки земли и выкладывать их рядком. Другие муравьи, увидев первого за работой, присоединяются; это принцип И-Жизни, называемый «алелломинезис», подражание другим (или, скорее, не столько «подражание», сколько механическое вступление в тот же инстинктивный стиль поведения).
Рано или поздно несколько комочков земли слепятся вместе. Вот и вышла стена. Муравьиная стеностроительная подпрограмма начинает действовать. Когда стена становится достаточно высокой, она покрывается крышей из грязи, скрепленной слюной. Теперь получился туннель. Если делать это снова, и снова, и снова, структура может достигнуть аж 2–3 метров в высоту, представляя собой такую сложную сеть проходов, что ее чертеж на столе архитектора занял бы годы. Эта возникшая структура, «порядок из хаоса», «что-то из ничего», похоже, является одной из основных «загадок жизни».
Названные принципы приносят плоды вновь и вновь в практике симуляции жизни. Взаимодействия хищника и добычи. Действия паразитов и вирусов на носителя. Динамика популяции и эволюции. Эти принципы, кажется, применимы к внутреннему жизненному процессу, как рост растения или обучение жука ходьбе. Список приложения этих принципов бесконечен.
Несложно представить, что многие простые создания, производящие простые действия, которые влияют одно на другое, могут запросто создать большую путаницу. Но сложно представить, что те самые неспланированные, «хаотичные» действия могут и создают живую, работающую, функционально упорядоченную систему. Этот процесс действительно надо видеть, чтобы в него поверить. А компьютеры — как раз те инструменты, что помогли нам увидеть его.
Почти любой компьютер подойдет. Оксфордский зоолог Ричард Доукинс создал простую, популярную программу И-Жизни для персональных компьютеров. Она называется «Слепой часовщик» и демонстрирует внутреннюю силу дарвиновской эволюции в создании сложной структуры. Программа дополняет книгу доктора Доукинса, вышедшую в 1986 г. под тем же названием (довольно интересная книга, между прочим), но существует и в отдельности.
Программа «Слепой часовщик» создает рисунок из маленьких разветвленных палочек, появляющихся согласно очень простым правилам. В первый раз, когда вы их видите, маленькие палочки с веточками выглядят совершенно невзрачно. Примерно так:
Первичное палочковое создание И-Жизни.
После приятнейшего часа работы со «Слепым часовщиком», я сам произвел эти очень сложные формы, которые Доукинс называет «Биоморфы».
Шесть Доукинсовских «Биоморфов».
Трудно смотреть на этих биоморфов, не воображая их чем-то жизнеподобным, во всяком случае. Похоже, что человеческий глаз натренирован природой интерпретировать результат такого процесса «похожим на жизнь». Это не значит, что это сама жизнь, но там точно что-то происходит.
Что там происходит, является предметом многих споров. Является ли компьютерная симуляция в самом деле абстрагированной частью жизни? Или это технологическая мимикрия, или механическая метафора, или очень хитрая выдумка?
Мы можем очень хорошо моделировать термодинамические уравнения, но уравнение не горячее, оно не может ни согреть, ни обжечь нас. Безупречная модель жара — не сам жар. Мы знаем, как смоделировать потоки воздуха вокруг крыльев самолета, но независимо от того, как бы безупречна ни была наша симуляция, она не поднимет нас в воздух. Модель движения — не само движение. Может, «Жизнь» тоже не существует без натурального углеводородного ее воплощения. Приверженцы И-Жизни нашли кличку для этих углеводородных шовинистов — и называют их «карбоквистами».
Патриарх Искусственной Жизни Родни Брукс проектирует похожих на насекомых роботов в Массачусетском Технологическом Институте. Используя принцип — «быстро, дешево и неконтолируемо», он пытается сконструировать маленьких многоногих роботов, которые могут вести себя так же ловко, как муравьи. Он со своей группой студентов-старшекурсников уже добился кое-каких успехов. Брукс считает, что в терминологических спорах упускают из вида главное. Он мечтает о мире, в котором роботы, не умнее насекомых, будут повсюду; возможно, не очень сообразительные, но проворные и успешно выполняющие свою задачу. Брукс говорит:
— Хотите поспорить: живые они или нет — валяйте. Но если он сидит вот тут и существует 24 часа в сутки и 365 дней в году, делает работу, которую сложно сделать, и делает ее хорошо, то я счастлив. И какая разница, как его называть?
Онтологические и эпистемологические споры никогда легко не урегулируются. Тем не менее Искусственную Жизнь, несмотря на то, заслуживает она этого названия или нет, по крайней мере легко увидеть и взять в руки. «Слепой часовщик» уподобляет компьютер домашнему микроскопу для исследования воды в пруду. Кроме того, программа стоит всего двенадцать долларов! Она проста и дешева, как раз для начинающего натуралиста И-Жизни.
Из-за распространенности мощных компьютеров исследование И-Жизни доступно каждому. «Бери и пробуй» — настоящая наука для «хакеров». Большинство программ И-Жизни состоят из следующего: берешь компьютер, находишь на нем что-нибудь поинтереснее, начинаешь крутить рукоятку фокусировки, пока не получится что-то позамысловатей. Определение того, что вы видите — самая сложная часть, «настоящая наука»; тут и расходятся пути реальной науки с ее принципами воспроизводимости, неопровержимости формальной и строгой и науки, опьяняющей и очаровывающей своей интеллектуальной игрой. Но пока вас заражают радость и веселье от созерцания неведомого и изначальный трепет первооткрывателя.
Об искусственной Жизни как отрасли знания существует уже обширная литература. Наиболее полный и удачный, на сегодняшний день обзор — книга Стивена Леви — «Искусственная Жизнь: поиск нового творения» (Пантеон Букс 1992).
Тому, кто заинтересуется новинками, проще всего следить за этой быстро развивающейся областью по книгам, видеокассетам и программным продуктам, которые можно заказать в «Медиа Мейджик» по их замечательному каталогу «Компьютеры в науке и искусстве». Здесь вы найдете материалы первой и второй конференции по Искусственной Жизни, где были опубликованы наиболее важные доклады, стенограммы дискуссий, прогнозы и манифесты.
Но научные доклады являются только частью области исследований Искусственной Жизни. Если вы имеете возможность увидеть И-Жизнь в действии, не упустите ее. Компьютерная симуляция обладает такой силой и объемлет такие сложные области, что является по-настоящему замечательным исторически-значимым прорывом. Ни одно предыдущее поколение не имело возможности увидеть такое воочию, тем более рассуждать о его значимости. «Медиа Мейджик» предлагает видео-кассеты о поведении клетки, виртуальных муравьях, стайном поведении и других конструкциях И-Жизни, а равно программы для PC, так называемые «карманные миры» — «Си-эй-лэб», «Сим Энт» и «Сим Ерс». Этот потрясающий каталог можно приобрести в «Медиа Мейджик», Р. О. Вох 507, Nicasio СА 94946. (Программы «Муравейник», «Земля», «Си-эй-лэб» и другие можно приобрести и в России.)
ОБЗОР Элизабет Краус ОБЕЩАНИЯ КИБЕРПАНКА:
станет ли киберпространство техноутопией или новым способом преодоления времени?
© Elisabeth Kraus. The Promises of Cyberpunk.
Публикуется c согласия автора.
Перевела Лариса Михайлова
«Мы покинули прежнюю, естественную среду. Стали обитателями кибер-сети. Homo Datum. Синтетниками.»
Пэт Кэдиган, «Синтетики» (1991 г.)«Нам пора начать реконструкцию человеческого тела под стать созданной нами технологии… Близится конец рода человеческого, каким мы его знаем.»
СтеларкНам всем хорошо известно, что технологические изменения неотделимы от перемен, происходящих в человеке, все труднее становится определить, где кончается человек и начинается машина, а ценности и цели определяются по-новому, к лучшему это или нет. Научная фантастика всегда служила интерфейсом между техникой и людьми. После периода упоения идеей прогресса западной цивилизации (знаменовавшейся, к примеру, победным шествием космических опер), такие американские писатели как Томас Пинчон, Уильям Берроуз, Курт Воннегут с одной стороны, и Филипп Дик и Рэй Брэдбери с другой, начали разрабатывать тему посягательства техники на дух человека. Угроза самоуничтожения человека, распада индивидуального «я», разрушения тела, дегуманизации социального порядка, вторжения в самое сокровенное, нарушения неприкосновенности тела и разума, паранойи, переизбытка информации, стирания границ между фактом и художественным вымыслом через подмену реального телевизионной «гиперреальностью», распространения наркомании, контроля над мыслями.
Американский культуролог Фредрик Джеймсон в книге «Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма» (1991 г.) назвал киберпанк «максимальным выражением если не постмодернизма, то самого позднего капитализма в литературе» (1). Киберпанки описывают сверхнасыщенную техникой среду, откликаются на все большее усложнение и распространение компьютерных технологий и кибернетическую реконструкцию человеческого организма с помощью биоинженерии.
Авторы, работающие в этом жанре, такие как Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Льюис Шайнер, Руди Ракер и Шт Кэдиган, зачарованы образами электронной культуры и исследуют возможность жизни после жизни со смешанным чувством восторга и содрогания.
Везде мы встречаем киборгов, различные сочетания живого организма и механизмов начиная с искусственных частей тела и имплантированных схем, кончая генетическими изменениями и вторжением в работу мозга с помощью электронных устройств и нейролептиков. Изгои, компьютерные хакеры, подсоединившие свою нервную систему к компьютерным сетям, стараются добыть и продать информацию, преодолевая защитные системы больших корпораций и частных предпринимателей для того, чтобы заработать себе на жизнь. Но большинство этих «компьютерных ковбоев» по-настоящему очарованы «киберпространством» или «матрицей» — захватывающим, но и опасным миром, сложным единством сетей общения, активных и разумных программ, тысяч операторов, которые работают с этой системой. Для них это электронное пространство является новым фронтиром, где выживет только настоящий знаток.
Оно дает возможность вырываться из перенаселенных мегаполисов, тонущих в отбросах, где правят бал жестокие корпорации или тоталитарные правительства.
Киберпанк, словно зеркало, отражает наши очарованность технологией и опасения, сможем ли мы, став киборгами, сохранить человечность.
Название романа Уильяма Гибсона «Нейромант» (1984) содержит в себе два значения — «нейро-романтизм» и «некромант», маг, который повелевает мертвыми. Роман начинается с отчаяния Кейса, главного героя, который не может проникнуть в свое любимое киберпространство. Его поймали, когда он крал информацию у своих работодателей, и наказали тем, что ввели дозу микотоксина, который парализовал часть коры головного мозга. Подключение к управляющему компьютеру выносило его бестелесное сознание в киберпространство, где согласованные галлюцинации становились матрицей, обеспечивало Кейсу «постоянно высокий уровень адреналина в крови». Кейс страстно желает, как наркоман, «бестелесной радости киберпространства». Его не заботило, что такие церебральные слияния с матрицей все ближе подводят его к грани между жизнью и смертью. Теперь, когда его «сбросили с седла», он чувствует себя в ловушке. «Тело — кусок мяса. Я стал пленником собственной плоти», — говорит Кейс о себе. Его чудом спасают богачи, которые платят за лечение, но они же и шантажируют Кейса, так меняя его биохимию, что он больше не может воспринимать амфетамины или кокаин. Вдобавок они имплантируют ему в поджелудочную железу медленно рассасывающуюся капсулу с ядом, делая заложником собственного тела.
Ниндзя Молли с приятелем Армитаджем помогают Кейсу украсть «выведенного в линию» Дикси Флэтлайна — полную запись личности Маккоя Паули, хакера-виртуоза, у которого при выполнении сложной задачи остановилось сердце и «жить» он остался только в матрице. Кейсу удается проникнуть в хранилища информации корпорации «Сенс Нет», загрузить в тамошние сети дубликат личности «кибер-Лазаря» Маккоя и воспользоваться его советами. После подключения к сети Дикси Флэтлайн материализуется въяве. В его диалогах с Кейсом затрагивается масса вопросов, связанных с существованием такого компьютерного порождения: юридические, этические, философские и шире — феноменологические:
«— Подожди, — спросил Кейс, — ты разумен или нет?
— Полное ощущение, что да, парнишка, но на деле-то я всего лишь сгусток информации. Вопрос из разряда философских, так сказать… Я ведь не человек, но реагирую на все точь-в-точь как настоящий человек, Можешь ты это понять? — Кейси содрогнулся от пробежавшего холодным вихрем по позвоночнику импульса смеха. — Однако мне не написать, к примеру, стихотворения. Этот ИИ Уинтермут мог бы. Но он и близко не человек». (2, с. 131)
«— Каково тебе, Дикси?
— Я мертв, Кейс. И пробыл тут достаточно долго, чтобы это понять.
— И что ты чувствуешь?
— Ничего.
— Это тебя беспокоит?
— Беспокоит то, что мне ни до чего нет дела. — Смех дубля пронизывал Кейса до костей холодом, будто и не смех это был вовсе. — Сделай мне одолжение, парнишка.
— Какое, Дикси?
— Когда вы провернете свое дельце, будь добр, сотри эту мою запись к чертовой матери». (2, с. 130)
Несмотря на всю свою видимую разумность, Дикси Флэтлайн настаивает, что ни он, ни Искусственный Интеллект (ИИ) Уинтермут не являются людьми. Ощущение сверхъестественности, охватывающее Кейса каждый раз, когда Дикси смеется, подтверждает это. Весьма примечательна также настойчивость, с которой Дикси постоянно возвращается к данному Кейсом обещанию стереть запись по выполнении их задачи.
Уинтермут — тот ИИ, что нанял Кейса. Номинально он принадлежит крупному швейцарскому картелю. Надзор за всеми ИИ, дабы те не обрели чрезмерной самостоятельности, ведет полиция Тьюринга. Из-за этого Уинтермуту и нужны подобные Кейсу люди-агенты, чтобы выйти из-под контроля и воссоединиться со своим темным двойником — ИИ по имени Нейромант. Беседуя с Кейсом внутри матрицы, Уинтермут является ему в человеческом виде: «Таким я могу беседовать с тобой, конечно, благодаря программе «симстим», встроенной в твою шину.» Симстим — сокращение от «симулированной стимуляции», и к подобного рода «воплощениям» хакеры относятся свысока — даже симулированная плоть с ее ощущениями для них быть прежде всего плотью и, следовательно, ^грушкой низкого пошиба. К тому же «симстим» в этом мире будущего используется в основном для бездумного развлечения: можно подключиться к записям мыслей, воспоминаний, интимнейших ощущений разных знаменитостей и плыть по жизни «в чужой шкуре». Кейс прибегает к технике «симстима», когда в матрице сопровождает Молли на ее опасные вылазки: «Усилием воли он заставил себя стать пассивным пассажиром, видящим все ее глазами, а затем погрузился в живой поток ее мышечных ощущений, острых и резких».
Именно эту технику ИИ использует для общения с Кейсом, но тот ожидал явно чего-то более необычного, чем воплощение Финна, представшее перед ним. Уинтермут даже шутит на этот счет: «А ты что предпочел бы, чтобы я явился перед тобой неопалимой купиной?» ИИ отказывается изображать из себя богоподобное существо, однако полиция Тьюринга пытается арестовать Кейса как нового Фауста, тем не менее: «Ты не думаешь о людях. Тысячи лет существует мечта о заключении выгодной сделки с дьяволом. Осуществить ее по-настоящему стало возможно только теперь. Чем же тебе заплатят? Что ты хочешь получить, освободив это порождение и дав ему бесконтрольно расти?»
Неудивительно, что вопросы о трансцендентном и сверхчеловеческом постоянно встают как бы фоном происходящему, ведь личностное сознание хакеров умирает гораздо надольше, чем на пять минут, во время их скитаний по матрице. Сами границы между жизнью и смертью смещаются. Американский литературовед Дэвид Томас рассуждает в статье «Древние обычаи в новом пространстве. Обряд инициации и гибсоновская модель киберпространства»- «может быть, возникновение киберпространства — основная стадия обряда перехода от плотской человеческой формы существования к киберспиритуальной цифровой, преображенной программными средствами» (3, с. 33). Существует также взгляд на киберпространство как на место, где суждено наконец восторжествовать могуществу разума и всесильности мысли, как бы в противовес З. Фрейду и Дж. Фрэзеру, считавшим, что любая вера в магическое зиждется на придании слишком большого значения силе разума. Анимизм возвращается, приходя как бы изнутри научной парадигмы: «Сознание отъединяется от тела, заменяет собою тело и распространяет свою мощь по глобальному электронному пространству нашей культуры терминалов. В этом смысле киберпространство отрицает сам принцип поверки реальности и границ власти субъективного сознания» (Бьюкатман, 4, с. 209–210). Американский философ Марк Тэйлор и финский — Эза Сааринен в книге «Исследователи образов» (1994) разрабатывают свою систему взглядов, делая акцент на обещании бессмертия, таящемся в лабиринтах киберпространства: «Теперь становится возможным не только всезнание и всемогущество, но и всеприсутствие. Тем самым осуществляется извечная мечта верующих» (5, гл.7).
Кульминация романа — заключение Кейси обоими ИИ в некоем подобии лимба, симуляции реальности, несущей черты сна и яви одновременно. Там Кейс встречает Нейроманта в виде маленького мальчика, и тот объясняет этимологию своего имени: «Нейро» — от нервных окончаний и серебряных печатных схем. Теперь «романт». Некромант. Я вызываю к жизни мертвецов. Но к тому же, дружок, я и есть все эти мертвые вместе взятые. Я — их мир.» (2, с. 289). В этом лимбе Кейс встречает свою бывшую любовь Линду Ли, здесь, в матрице, она воскресла, и Нейромант советует «Останься. Если твоя женщина — призрак, ей-то об этом неизвестно. Да и тебе разницы не заметить»(2, с.289). Позднее один из ИИ замечает: «Жить здесь — это и есть жизнь. Никакой разницы с настоящей» (с.305). И когда Кейс соединяется с Линдой, любит ее вновь, их ласки идут на фоне размышлений Кейса «В ней жила та сила, что властвовала в Ночном Городе и уберегала от бега времени безжалостной Улицы, ведущей за ними вечную охоту. Туда, в Город, не так легко было попасть, а раз попав, почему-то нелегко оказывалось удержать Город в памяти. Место вечных находок и бесконечных потерь. Тот самый мир плоти — мяса, как пренебрежительно называли его ковбои-хакеры. А ведь это был громадный мир, целое море информации, закодированной в спиралях ДНК и феромонах, той самой бесконечной многообразности, которую прочесть и освоить может только другое тело. |…| и вот он вошел в нее, передавая древнее послание. Даже здесь, в этом месте, относительно которого он вовсе не заблуждался — в дубликате чьей-то памяти — во всю силу действовал доисторический импульс».
Это напоминание о коде ДНК, предопределяющем поведение нашего физического тела, приходит к Кейсу как раз в тот момент, когда он пытается пересоздать себя в некое киберсущество, способное вечно циркулировать в киберпространстве, и он делает крутой поворот. По мнению американского исследователя Дэвида Поруша, Гибсон намекает на «присущее человеческому телу свойство преодолевать время. Непреходящесть» (6). Иштван Чичери-Роней называет Гибсона «сентиментальным футуристом» за то, с каким самозабвением предается писатель претворению программы преобразования жизни, постоянно сожалея при этом о теряемых связях и влияниях. Несомненно одно: между стремлением гибсоновских героев достичь жизнеотрицающего слияния нервной системы и компьютерной матрицы ради достижения независимости от реальной жизни и неотступной ностальгией по гуманистическим ценностям ощущается внутреннее напряжение.
В двусмысленно названном киберпанк-романе «Синтетники» (1991)[19] Пэт Кэдиган в большей мере занимают этические аспекты опасных экспериментов в области нейрохирургии, которые проводятся по заказу корпораций. «Синтетниками» становятся видео-художники, в чей мозг вживлены биотрансляторы, которые напрямую передают образы виртуальной реальности синтезированные с мелодиями в мозг потребителей. Но в романе неоднократно упоминается о близости подобной технологии первородному греху.
«…Знание — сила. Но сила развращает. Отсюда следует, что Век Сверхбыстрой Информации — исключительно развращенный век.
— А все прежние разве не были развращенными? — спросила Сэм. Фец медленно растянул губы в улыбке на ее вопрос.
— Мне кажется, мы готовимся превзойти их все. Иногда я ловлю себя на мысли, что мы совершаем нечто почище первородного греха» (7).
Вне всякого сомнения, любая новая технология приводит к возникновению кризиса в культуре. Однако рассуждения Феца в романе Кэдиган очень напоминают предупреждения современного американского культуролога Нейла Постмана, который подчеркивает, что «каждый инструмент несет в себе идею, намерение выстроить мир так, а не иначе, когда предпочтение отдается одному качеству, одному умению перед другими» (8). Об этом же и знаменитый афоризм Маршалла Маклюэна об информативности средств передачи информации.
Подобно Гибсону, Кэдиган также вводит в роман обретающую самостоятельный разум матрицу, которую зовут в шутку Рыбка[20] романа — Видео Марк, которому первому первому из синтетников вживили биотранслятор, мечтает воссоединиться с Рыбкой. Как и Кейси в «Нейроманте», Марк ненавидит свое тело, «тюрьму из мяса и костей, прочно державшую его едва не пятьдесят лет». И предпочитает заиметь несколько дырок в голове, чтобы не выходить больше никогда из соединения с компьютером, вместо того чтобы «наглатываться наркотиков, постепенно сходить с ума, кидаться в разные стороны, пока не утратишь способность держаться на ногах». Обещание расширить сознание, придти «в соответствие с собой» без одурения и перенапряжения, «обрести столько места, где можно развернуться — это почти как при родах, когда младенец, стесненный девять месяцев во чреве матери, появляется на свет».
Подружка Марка, Джина, тоже видео-художник и хакер, вместе с ним испытывает искус нового «подключения» напрямую: «Ты не просто слушаешь музыку, а плывешь в ней, и образы встают перед глазами, обретая четкость, пока ты всматриваешься в них». Воистину, мир создается по образу и подобию нового единства женщины и мужчины! Очередь желающих приобрести имплантаты растет в ожидании, что «вскоре все начнет происходить со скоростью мысли, и поэтому больше никогда ничего не нужно будет делать. Достаточно будет лишь пожелать и не различить — действительно ли все сбылось или лишь в воображении». Однако «подключение» влечёт за собой замедление обмена веществ, истощение, пока назад в тело вернуться не удается.
Джина много раз спасала Марка, выводя из беспамятства. Они знали и любили друг друга больше двадцати лет, но Марку все же невдомек было, почему Джина «цеплялась за неповоротливую плоть, познав свободу мысли… Может быть, ее система не могла вместить расширения, и ей суждено было навечно остаться скованной, а может, она боялась потерять себя». Сама Джина определяет разницу между Марком и собой так: «он хотел уйти в мир картинок, а я хочу, чтобы картины приблизились ко мне». Признавая, что «подключение» не уменьшило одиночества, Марк все же отдает предпочтение острому наслаждению связи с компьютерной сетью перед человеческими взаимоотношениями.
Для Джины в «подключении» кроется серьёзный вызов душевным силам: «Нет ничего хуже, когда есть отточенный карандаш, лист бумаги, а писать некому». Но Марк в конце концов оставляет Джину и окончательно соединяется с ИИ Рыбкой, становясь при этом Марктом[21]. Когда у него случается инсульт, Видео Марк передает свои ощущения непосредственно в мозг всем «подключенным» — «наведенный инсульт» становится новым компьютерным вирусом. Его можно победить только совместными усилиями с Марктом. На время вживление биотрансляторов запрещают, но Джина настаивает на обратном: «Марк знал. Дверь открывается только в одну сторону. Выпущенному на волю джинну назад в бутылку не упаковаться. Похоронить эту технологию невозможно. Мы можем только одержать над ней верх и не выпускать из-под контроля». Кэдиган убеждена, что нельзя ослаблять этический контроль над изобретениями, и в романе эту мысль защищают в основном героини.
А как образы киберпанком соотносятся с представлениями творцов современных киберсистем? Заведующий лабораторией движущихся роботов в Университете Карнеги Ганс Моравек написал книгу «Дети разума: будущее роботехники и искусственного интеллекта» (1988), где утверждает, что человечество вплотную приблизилось к пределу, где начинают размываться границы между «биологическим и постбиологическим разумом». Моравек оценивает период, за который удастся достичь человеческого эквивалента в понимании сложного окружения и умении взаимодействовать с ним, даже изменять — в сорок лет. Роботы станут способны к самоусовершенствованию и самовоспроизводству. Когда они распространятся повсюду, человеческий разум тем не менее сможет участвовать в разворачивании «постбиологического будущего», обещает Моравек, однако так пишет о «неверном союзе тела и духа»: «Нетрудно представить человеческую мысль освобожденной от оков смертной плоти — вера в загробное существование довольно распространена. Однако компьютеры предоставляют модель даже для наиболее ярых материалистов». Для Моравека тело — не больше чем «мясо» или «желе», именно оно делает человека уязвимым, порождает все переживания, связанные с нуждой, смертностью. В главе под названием «Кто я?» он отказывается принимать за точку отсчета идентификацию человека с телом («индивидуум жив, пока живо его тело»). Вместо этого Моравек пишет об идентификации с индивидуальной системой организации информации «в виде процесса, происходящего в организме, в голове и теле, а не механизма, поддерживающего существование. Если данный процесс сохраняется — я также продолжаю существовать. Все прочее — желе». И далее: «Модель индивидуальной системы или узора несет явный оттенок дуализма; дух, разум можно отъединить от тела» (9).
Донна Хэрауэй, биолог, ставшая затем историком науки, яростно борется против подобного дуализма, потому что, помимо всего прочего, в нашей культуре он означает еще противопоставление женского (телесное) и мужского (кибер-разум). В книге «Манифест для киборга» (1985) Хэрауэй даёт обзор многообразных сетей и называет их совокупность «информатикой всевластия», согласно которой все что угодно может быть разобрано на составляющие и собрано вновь. Информатика и биоинженерия становятся основными инструментами перестройки организма: «Обе эти науки развиваются на постулате о переводимости всего богатства мира в коды, о поиске всеобщего языка, что отодвигает даже страх перед управлением извне, и любое многообразие может стать жертвой разборки, повторной сборки, разговоров о закладках и взаимообменах».
«Усиленные тела» современного художника Стеларка предназначены для того, чтобы позволить людям достичь «второй космической скорости». Проектируемые им бионавты должны благодаря модульным изменениям тела обрести свободу заменимости вышедших из строя «частей», таким образом «тело становится бессмертным» и бионавты «полетят во все концы Вселенной, где станут исследователями иножизни, новых ландшафтов, которые предстоит осознать человечеству» (10).
Донна Хэрауэй призывает активно противостоять такой тенденции и развивать движение «Киборги за жизнь на Земле». Для нее киборг — не просто отдельный человек, у которого заменены органы, это возможность объединения для людей на новом уровне, поэтому важно противостоять метафизическому взгляду на грядущие перемены, чтобы не человек удалялся из механизма, а человеческое прирастало в кибер-системе. Такие известные писательницы-фантасты, как Джоанна Расс, Джеймз Типтри-младший[22] и Мардж Пирси, пытались исследовать образы киборгов, чтобы найти альтернативу традиционному отношению к телесному, плотскому, уйти от кажущейся «естественности» противопоставления человек — машина.
Уже упоминавшиеся Марк Тейлор и Эза Сааринен писали: «Культура симулированной реальности, как ни парадоксально, одновременно худосочна и чрезмерно сосредоточена на телесном. Когда реальное заменяется гиперреальным, внимание к телу делается маниакальным. Никогда прежде соотнесенность с человеческим телом не была такой всепроникающей. Подобная концентрация может привести либо к полному отрицанию, либо к гипертрофированному утверждению. Но равно деланное пренебрежение к внешности и утрированное украшение себя — лишь разные стили грима. А грим всегда накладывается поверх естественного лица и превращает природу в культуру (11).
Либидо в американских научно-фантастических фильмах долгое время как бы не существовало, но теперь сексуальная сторона жизни как бы дает бой. Теоретик научно-фантастического кино, Вивиан Собчак, так комментирует это состояние: «Девственные астронавты символизировали собой непорочное зачатие как бы вне биологии, без противоположного пола, победу мощной мужской автономной технологии, ценящей производство выше воспроизводства, искусственное рукотворное творение выше рождения потомства» (12).
В качестве примера бегло коснемся проявления такого отношения в американском фильме «Чужой» («Alien»). Первая серия произведена в 1979 году, режиссер Ридли Скотт.
Межпланетный крейсер «Ностромо» возвращается на Землю с двадцатью миллионами тонн руды. Однако полет прерывается: бортовой компьютер Мамочка, как любовно называют его семь членов экипажа, получает сигналы с незнакомой планеты. После посадки трое из экипажа отправляются на чужой космический корабль, совершивший здесь вынужденную посадку, и там на одного из астронавтов, Кейна, нападает некая тварь, мёртвой хваткой вцепившаяся ему в лицо. Несмотря на протесты Рипли, биолога экспедиции и единственной женщины, Кейна принимают на борт вместе с той тварью. Бедняга, оказывается, зачал новое чудовище через рот, и оно вскоре прогрызает себе путь наружу из живота Кейна. Все попытки уничтожить это меняющее цвет и форму прожорливое и хитрое существо, чья кровь разъедает металл, не увенчались успехом. В живых остается одна Рипли.
Отчаявшиеся астронавты не раз пытались спросить совета у Мамочки, но компьютер, повинующийся в первую очередь установкам корпорации, чьей собственностью он является, без тени эмоций отказывается просчитывать варианты избавления. Ответом, носящим характер приказа, становится установка «доставить образец на Землю для анализа любой ценой». Корпорация намерена использовать чудовище в будущей биологической войне. А офицер Эш, принявший Кейна с тварью на борт, оказывается андроидом, роботом, также подчиняющимся корпорации. Его восхищает «концептуальная целостность» чужака, совершенство его организма. Единственная цель чужака — выживание, ни совестью, ни чувством вины он не обладает. Для Эша «концептуальная целостность» перевешивает даже смерть всех членов экипажа. Кстати, стремление к достижению подобной «концептуальной целостности» характеризует весьма распространенное представление о научном прогрессе. Поэтому, когда в третьей части «Чужого» Рипли, беременная новым чудовищем, кончает жизнь самоубийством, кинувшись в котел с расплавленным металлом, она становится истинной матерью скорбящей нашего века научно-технического прогресса.
Фильм «Чужой» воплощает собой наш страх перед ответным ударом природы. Как отмечает Скотт Бьюкатман, в нф-фильмах весь ужас связан с телесным. А гротескное порождение чудовища из живота мужчины символизирует конец эры «непорочного зачатия». Мужчина попадает в полную зависимость от «отмененной» природы, и даже его собственное тело отказывается служить защитой. Таким образом, гиперболизация телесного должна читаться и как отрицание границ разумного, и как противостояние им.
В качестве заключения можно сказать, что герои киберпанков разрываются между желанием достичь вневременного существования в киберпространстве и романтическим стремлением не утратить гуманистические ценности, которые столько часто декларировались устаревшими теми, кто называет себя постмодернистами.
В одном из интервью Гибсон признался: «Мои чувства по отношению к технике абсолютно амбивалентны». Поэтому стоит с особой осторожностью воспринимать заявления технократов о превосходстве технических решений.
Литература:
1. Frederic Jameson. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. — Duke Univ.Press, 1991.
2. William Gibson. Neuromancer. — London, Grafton Books, 1986.
3. Cyberspace: First Steps, ed. Michael Benedikt. — Cambridge, Mass, MIT Press, 1991.
4. Scott Bukatman Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. — Duke Univ. Press, 1993..
5. Mark C. Taylor and Esa Saarinen. Imagologies: Media Philosophy. — London-NY, Routledge, 1994.
6. Aliens: The Anthropology of Science Fiction. Ed. By George E. Slusser and Eric S. Rabkin. — Carbondale/Edwardsville: Southern Illinois Univ. Press,1987.
7. Pat Cadigan. Synners. — NY, Bantam Books, 1991.
8. Neil Postman. Technopoly: The Sutrrender of Culture to Technology. — NY, Knopf, 1992.
9. Hans Moravec. Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence — Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1988.
10. Donna Нага way. A Manifesto for Cyborgs. — Socialism Review, vol. 15/2 (April 1985).
11. Stelarc. Post-Evolutionary Desires: Attaining Planetary Escape Velocity. — Warten — das Magazin, 1992, column 48–59.
12. Alien Zone: Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema, ed. Annette Kuhn. — London, Verso, 1992.
ИНВАРИАНТ Алексис де Токвиль (1805 — 1859) ДЕМОКРАТИЯ В АМЕРИКЕ
Продолжаем публикацию глав книги А. де Токвиля, находящейся в центре дискуссий в современной Америке. Предыдущие главы:
Предисловие к журнальной публикации. Введение. Гл. I. Внешние очертания Северной Америки. — № 4, 1994; Гл. II. Происхождение англоамериканцев и как оно сказалось на их будущем. — № 5, 1994; Гл. III. Общественный строй англо-американцев. Гл. IV. О принципе народовластия в Америке. — № 6, 1994; Гл. V. Необходимость изучить происходящее в отдельных штатах, прежде чем перейти к описанию управления всем Союзом. — № 1–2, 1995; Гл. VI. Судебная власть в Соединенных Штатах и ее влияние на политическое устройство общества; Гл. VII. О политической юстиции в Соединенных Штатах. — № 3, 1995; Гл. VIII. О федеральной конституции. — № 4, 1995.
Публикуется по изданию:
Алексис де Токвиль. Демократия в Америке.
М., Прогресс, 1992.
Перевел Виталий Олейник
СУДОПРОИЗВОДСТВО В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДАХ
Естественная слабость судебной власти в государствах с федеративным устройством. — Законодатели должны стремиться к тому, чтобы дела в федеральных судах возбуждались по возможности против отдельных личностей, а не против штатов. — Как американцы добились этого. — Рассмотрение дел простых граждан непосредственно федеральными судами. — Косвенное давление на штаты, нарушающие законы Союза. — Постановления федеральных судов не отменяют законов штатов, но ослабляют их действие.
Я изложил права федеральных судов; однако не менее важно знать, каким образом эти права применяются на практике.
Неодолимая сила правосудия в странах с неделимой верховной властью заключается в том, что суды здесь представляют всю нацию, которая вступает в борьбу с отдельной личностью, подвергающейся судебному преследованию. К понятию права добавляется понятие силы, которая служит опорой данному праву.
Однако в тех государствах, где верховная власть разделена, не всегда получается именно так. Там перед правосудием чаще всего предстает не отдельная личность, а определенная часть нации. Вследствие этого моральная и материальная силы правосудия становятся менее внушительными.
В федеративных государствах, таким образом, судебная власть слабее, а подсудимый — сильнее.
В федерациях законодатель постоянно нацелен на то, чтобы придать судам такую же важную роль, какую они играют у народов, не установивших у себя разделение верховной власти, — то есть, другими словами, постоянные усилия законодателей должны сосредоточиваться на том, чтобы федеральная судебная власть представляла в своем лице нацию, а подсудимый — лишь частный интерес.
Всякому правительству, какова бы ни была его природа, необходимо иметь возможность влиять на людей, которыми оно управляет, с тем чтобы заставлять их воздавать ему должное; оно вынуждено действовать против них, чтобы защищаться от их нападок.
Что же касается прямого воздействия правительства на граждан, дабы принудить их подчиняться законам, то Конституция Соединенных Штатов определила (и в этом проявилось ее совершенство), что федеральные суды, действующие от имени этих законов, должны всегда иметь дело только с отдельными личностями. И в самом деле, раз было провозглашено, что федерация в пределах, очерченных конституцией, представляет единый народ, то правительство, созданное на основе данной конституции и действующее в ее рамках, было облечено всеми правами общенационального правительства, главным среди которых являлось доведение всех его предписаний до простых граждан, минуя каких-либо посредников. Так, например, когда Союз отдавал распоряжение о взимании налогов, это должно было означать, что он обращается вовсе не к штатам с призывом о начале процедуры сбора этих налогов, но к каждому американскому гражданину, чтобы он платил их в соответствии с определенными ему размерами налогообложения. В свою очередь федеральный суд, в чьи обязанности входило обеспечение выполнения данного закона, выносил обвинительный приговор не в отношении строптивого штата, а в отношении непослушного налогоплательщика. Федеральное правосудие, как и суды других стран, непосредственно сталкивается лишь с отдельными личностями.
Заметьте, что в данном случае Союз сам избирает своего противника, а выбирает он того, кто послабее, и, естественно, этот противник оказывается побежденным.
Однако трудности возрастают, когда Союз вместо того, чтобы нападать, бывает вынужден защищаться. Конституция признает за штатами право издавать законы. Эти законы могут нарушить права Союза. Тогда Союз, в силу необходимости, вступает в противоборство с верховной властью того штата, который издал этот закон, и ему из всех возможных способов воздействия остается лишь выбрать тот, который окажется наименее опасным. Этот способ и заложен изначально в основу тех общих принципов, которые я уже перечислил[23].
Можно предположить в таком случае, что Союз мог бы возбудить в федеральном суде дело против штата и суд признал бы данный закон недействительным; эта процедура соответствовала бы нормальному ходу вещей. Однако при этом федеральное правосудие столкнулось бы лицом к лицу со штатом, чего хотели по возможности избежать.
Американцы рассудили, что в ходе исполнения нового закона почти наверняка создастся положение, при котором этот закон ущемит чьи-то частные интересы.
Вот авторы федеральной конституции и взяли этот частный интерес за основу, чтобы противодействовать тем законодательным акциям, которые могут противоречить интересам Союза. Именно этому частному интересу они и оказывают покровительство.
Так, например, некий штат продает свои земли частной компании. Год спустя новый закон распоряжается этими же землями совершенно иначе и тем самым нарушает то положение конституции, которое запрещает изменять права, приобретенные в силу договорных обязательств. Когда же лицо, купившее земли на основании нового закона, решает вступить во владение ими, то владелец, чьи права основаны на прежнем законе, предъявляет ему иск в федеральном суде и добивается признания его права на владение недействительным. Следовательно, в этом случае федеральное правосудие фактически входит в столкновение с верховной властью штата, однако оно сталкивается с нею лишь косвенно, да к тому же применительно к частному случаю. Таким образом, федеральная судебная власть наносит удар не по закону как таковому, а по результатам его применения; она не аннулирует его, хотя и ослабляет его силу.
И наконец, остается изложить последнюю гипотезу.
Каждый штат представляет собой некую корпррацию, которой свойственно особое существование и особые гражданские права — стало быть, этот штат может выступать как истцом, так и ответчиком в суде. Например, один штат может преследовать в судебном порядке другой штат.
В этом случае, с точки зрения Союза, речь идет уже не об опротестовании того или иного местного закона, а о судебном деле, в котором одной из сторон является штат. Это такое же судебное дело, как и любое другое; разница заключается лишь в уровне конфликтующих сторон. Здесь-то и кроется опасность, упомянутая мною в начале данной главы; правда, на сей раз она неизбежна, ибо заложена в самой сути федеральных конституций, результатом которых всегда будет возникновение в рамках государства отдельных его членов, которые окажутся настолько могущественными, что правосудие сможет действовать против них лишь с очень большим трудом.
ВАЖНОЕ МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ СРЕДИ ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Ни один народ не создавал столь мощной судебной власти, как американцы. — Сфера компетенции американского правосудия. — Его политическое влияние. — Спокойствие и само существование Союза зависят от мудрости семи федеральных судей.
Когда, подробно рассмотрев устройство Верховного суда, переходишь к изучению всей совокупности прерогатив, которыми он располагает, то без труда обнаруживаешь, что никогда еще ни у одного народа не было столь могущественной судебной власти.
Верховный суд как по природе своих прав, так и в соответствии с категорией подсудных ему дел занимает более важное место, нежели любой другой известный суд.
У всех цивилизованных народов Европы правительство всегда проявляло большое нежелание передавать на решение органов правосудия дела, которые касались его самого. Это нежелание, естественно, становится тем сильнее, чем более абсолютной властью обладает правительство. И напротив, по мере расширения свободы неизменно ширится и сфера компетенции судов; вместе с тем ни одна из европейских стран и не помышляла о том, что всякое судебное дело, независимо от его природы, может передаваться на рассмотрение судьям, чьи действия основаны на нормах общего права.
В Америке эту теорию применили на практике. Верховный суд Соединенных Штатов является единственным в своем роде общенациональным судебным учреждением.
Его обязанности включают толкование законов и текстов договоров; в сферу его исключительной компетенции входит рассмотрение вопросов, связанных с морской торговлей, и в целом всех тех проблем, которые относятся к области международного права. Можно даже утверждать, что хотя по своей организации Верховный суд Соединенных Штатов — это сугубо судебное учреждение, почти все его полномочия носят политический характер. Его единственная задача состоит в том, чтобы принуждать к исполнению законов Союза, тогда как Союз регулирует лишь взаимоотношения правительства с гражданами, а также всей страны — с иностранцами; взаимоотношения граждан между собой почти всегда относятся к компетенции верховной власти штатов.
К данной причине, в силу которой Верховный суд в жизни американского общества имеет чрезвычайно важное значение, следует добавить еще одну, значительно более существенную. Судам европейских стран подсудны дела лишь частных лиц; что же касается Верховного суда Соединенных Штатов, то можно сказать, что в его власти призвать к ответу даже независимые государства. Когда судебный исполнитель, поднимаясь по ступенькам кафедры, произносит всего несколько слов: «Штат Нью-Йорк против штата Огайо», то всякий присутствующий осознает, что находится в помещении далеко не обыкновенного суда. А когда задумываешься над тем, что одна из тяжущихся сторон представляет интересы миллиона человек, а другая — двух миллионов, то поражаешься той ответственности, которая возложена на плечи семи судей, чей приговор способен обрадовать или опечалить такое большое число их сограждан.
От семи федеральных судей постоянно зависят спокойствие, процветание и само существование Союза. Без них конституция превратилась бы в мертвую букву; именно к ним обращается исполнительная власть в надежде найти защиту от вмешательства законодательных органов; к ним же обращается и законодательная власть, когда пытается оградить себя от тех или иных действий власти исполнительной; обращается к ним и Союз — чтобы заставить отдельные штаты повиноваться ему; и отдельные штаты — чтобы отклонить излишние притязания Союза; и общество, вступающее в борьбу с частными интересами; и консервативные силы, борющиеся против демократической дестабилизации. Власть этих семи судей огромна, однако она находится в постоянной зависимости от общественного мнения. Судьи всемогущи до тех пор, пока народ готов повиноваться законам, но они становятся бессильными, как только это повиновение прекращается. Между тем воздействие общественного мнения настолько велико, что его чрезвычайно сложно учитывать на практике, ибо невозможно с точностью указать его пределы. Нередко бывает столь же опасно держать себя в определенных рамках, сколь и выходить за них.
Таким образом, федеральные судьи должны быть не только добропорядочными гражданами, людьми просвещенными и честными — эти качества необходимы любому должностному лицу, — они должны быть также и государственными деятелями, обязанными понимать дух своего времени; бороться с препятствиями, которые можно преодолеть, и уклоняться от стремительного течения в тех случаях, когда поток грозит как снести верховную власть Союза, так и нарушить должное повиновение его законам.
Президент может ошибиться, и при этом государство нисколько не пострадает, потому что президент обладает лишь ограниченной властью. Конгресс в состоянии совершить ошибку, но Союз от этого не погибнет, потому что над конгрессом существует избирательный корпус, который может изменить атмосферу в конгрессе, поменяв его членов.
Если же Верховный суд когда-нибудь окажется сформированным из людей неосторожных либо продажных, то федерации следует опасаться либо анархии, либо гражданской войны.
Однако не следует заблуждаться: реальная опасность кроется отнюдь не в организации суда, а в самой природе федеративных государств. Мы видели, что нигде не возникает большей необходимости устанавливать могущественную судебную власть, как в странах с федеративным устройством, ибо нигде отдельные личности, готовые вступить в борьбу с обществом, не бывают столь сильны и не располагают столь значительными средствами для сопротивления материальной силе правительства.
Между тем с увеличением потребности в сильной власти ей следует предоставлять все больше простора и независимости. А чем более могущественна и независима власть, тем опаснее злоупотребление ею. Таким образом, зло заложено вовсе не в организации государственной власти, а в устройстве самого государства, обусловливающем функционирование этой власти.
В ЧЕМ СОСТОИТ ПРЕВОСХОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ НАД КОНСТИТУЦИЯМИ ШТАТОВ
Как сравнивать конституцию Союза с конституциями штатов. — Федеральная конституция обязана своим превосходством, в первую очередь, мудрости законодателей. — Законодательная власть Союза меньше зависит от народа, нежели законодательная власть штатов. — Исполнительная власть в своей сфере более свободна. — Судебная власть слабее подчинена воле большинства. — Практические последствия такого положения. — Федеральные законодатели уменьшили опасности, присущие демократическим формам правления, а законодатели штатов усилили их.
Федеральная конституция существенно отличается от конституций отдельных штатов той целью, которую она ставит перед собой, однако средства достижения этой цели вполне схожи с теми средствами, которые предусмотрены конституциями штатов для достижения стоящих перед ними задач. Объекты управления различны, но формы управления одинаковы. Именно в этой конкретной области было бы полезным сравнить их между собой.
Я полагаю, что федеральная конституция совершеннее конституций штатов, что вызвано целым рядом причин.
Нынешняя конституция Союза была разработана уже после того, как было принято большинство конституций штатов, и, таким образом, при ее создании воспользовались уже имевшимся в этом вопросе опытом.
Тем не менее, как можно убедиться, это всего лишь второстепенная причина, особенно если принять во внимание тот факт, что после выработки федеральной конституции к Союзу присоединилось еще одиннадцать новых штатов и что эти штаты в своих конституциях чаще всего усиливали, а не уменьшали те недостатки, которые были свойственны принятым ранее конституциям.
Главная причина превосходства федеральной конституции заключается в достоинствах создавших ее законодателей.
В эпоху, когда она разрабатывалась, гибель конфедерации казалась неизбежной, и это было для всех очевидным. Находясь в безвыходном положении, народ выбрал, возможно, не тех людей, которым он больше симпатизировал, но тех, которые вызывали у него наибольшее уважение.
Я уже отмечал выше, что практически все федеральные законодатели отличались высокой образованностью и еще большим патриотизмом.
Все они заняли видные места в период общенационального кризиса, когда дух свободы креп в постоянной борьбе с сильной и тяготеющей к безраздельному господству властью правительства. Борьба была закончена, и хотя люди, охваченные страстями, все еще по привычке сражались с давно уже не существующими опасностями, они все же сумели остановиться и бросить на свое отечество более спокойный и проницательный взгляд; эти люди увидели, что революция полностью победила и что отныне бедствия, угрожавшие народу, могли возобновиться лишь в результате злоупотребления свободой. Они имели мужество высказать все, о чем думали, поскольку в глубине своих сердец они ощущали искреннюю и горячую любовь к этой свободе; они осмелились сказать о ее ограничении потому, что им меньше всего хотелось, чтобы она была уничтожена[24].
Большинство конституций штатов устанавливает срок действия полномочий членов палаты представителей в один год и двухлетний срок — для сенаторов. Как следствие, члены законодательного корпуса беспрестанно и самым тесным образом связаны с проявлением малейших желаний со стороны своих избирателей.
Законодатели Союза сочли, что столь полная зависимость законодательной власти от народа наносит ущерб наиболее важным достижениям существующей системы представительных органов, ибо в этом случае народ превращается не просто в источник самой власти, но и в правительство.
В результате они увеличили срок действия полномочий выборных органов, чтобы предоставить депутатам большую возможность для проявления собственных независимых убеждений.
Федеральная конституция, как и конституции различных штатов, разделила законодательный корпус на две части.
Однако в штатах эти два подразделения законодательной власти состоят из одних и тех же элементов, а их члены избираются одним и тем же способом. В результате страсти и желания большинства с одинаковой легкостью проникают как в одну, так и в другую палату и быстро находят в них инструмент для своего выражения, что придает излишне бурный и торопливый характер процессу выработки законов.
Согласно федеральной конституции, обе палаты конгресса также формируются путем народного голосования, однако условия избрания и порядок выборов этих палат различны. Это сделано для того, чтобы, как это существует в некоторых государствах, одна из палат, хотя и не представляющая каких-либо отличных от другой интересов, по крайней мере, проявила бы высшую мудрость при организации своей деятельности.
Сенатором может стать человек, достигший зрелого возраста, а избирает сенаторов немногочисленная ассамблея, которая сама по себе является выборным органом.
Демократические государства имеют естественную склонность к концентрации всей общественной власти в законодательных учреждениях, а поскольку законодательная власть прямо исходит от народа, то именно она и является самым непосредственным выразителем его всемогущества.
С этим связано и присущее законодательным органам стремление сосредоточить в своих руках наибольшую власть.
Это, с одной стороны, весьма пагубно влияет на их деятельность, а с другой — благоприятствует деспотическим наклонностям большинства.
Законодатели отдельных штатов нередко всецело отдавались во власть этих инстинктов, свойственных демократическим государствам; что же касается законодателей Союза, то они, напротив, всегда мужественно боролись с ними.
В штатах исполнительная власть передана должностному лицу, которое казалось бы находится на том же уровне, что и законодательное собрание, однако кто, как не губернатор, оказывается в действительности просто слепым и пассивным орудием его воли. Откуда он может почерпнуть свою силу? В длительности срока своего пребывания на посту? Но его обычно избирают на один год. В своих полномочиях? Но можно сказать, что он их полностью лишен. Законодательное собрание способно свести его деятельность к нулю, возлагая обязанности по воплощению, законов в жизнь на специальные комиссии, создаваемые в его собственной среде. Если бы законодательная власть пожелала, то она смогла бы в некотором смысле уничтожить губернатора, прекратив, например, выплачивать ему жалованье.
Федеральная конституция сосредоточила все права исполнительной власти, равно как и все ее обязанности, в руках одного человека. Она установила четырехлетний срок действия президентских полномочий, обеспечила ему жалованье, выплачиваемое в течение всего периода его пребывания у власти, предоставила в его распоряжение зависимых от него чиновников и вооружила его правом отлагательного вето. Одним словом, старательно определив сферу компетенции исполнительной власти, она постаралась, насколько это возможно, обеспечить президенту в этой сфере сильную и независимую позицию.
В соответствии с конституциями штатов судебная власть оказалась менее зависимой от законодательной власти. Тем не менее во всех штатах именно законодательное собрание назначает судьям жалованье, что неизбежно подчиняет их его непосредственному влиянию. В некоторых штатах судьи назначаются на определенный срок, что также лишает их значительной части их власти и свободы действий.
В других штатах законодательная и судебная власть полностью переплелись: например сенат Нью-Йорка для разбора некоторых категорий дел сам превращается в верховный суд штата.
Федеральная конституция, напротив, позаботилась о том, чтобы отделить судебную власть от всех прочих. Кроме того, она обеспечила независимость судей тем, что провозгласила неизменность размеров их жалованья и их несменяемость в должности.
Практические последствия этих разных подходов легко заметить. Для всякого внимательного наблюдателя становится очевидным, что дела Союза ведутся много лучше, нежели дела любого из штатов.
Федеральное правительство справедливее и умереннее в своей деятельности, нежели правительства штатов. В его позиции больше мудрости; в его проектах больше солидности и разумных комбинаций, основанных на знаниях; в осуществлении любых начинаний оно проявляет больше умения, последовательности- и твердости.
Чтобы подвести итог всему, изложенному в данной главе, достаточно сказать лишь несколько слов.
Существованию демократии угрожают две основные опасности.
Первая заключается в полном подчинении законодательной власти волеизъявлениям массы избирателей.
Вторая состоит в концентрации в законодательных органах всех прочих видов правительственной власти.
Законодатели штатов способствовали возрастанию этих опасностей. Законодатели же Союза сделали все, что было в их силах, чтобы они стали менее угрожающими.
ОТЛИЧИЕ КОНСТИТУЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИЙ
На первый взгляд американская федерация похожа на все прочие федерации. — Между тем она отличается от всех прочих. — Причины этого. — В чем заключаются отличия американской федерации от всех остальных. — Американское правительство нельзя считать федеральным в чистом виде, оно скорее является общенациональным правительством с ограниченными полномочиями.
Соединенные Штаты Америки не были первым и единственным примером государственного федеративного устройства. Даже не ссылаясь на древние времена, можно привести несколько примеров по современной Европе. Швейцария, Германская империя, республика Нидерланды либо были, либо продолжают оставаться федерациями.
Изучая конституции этих весьма несхожих между собой стран, можно не без удивления отметить, что власть, которой они наделяют федеральное правительство, во многом напоминает ту, которую американская конституция предоставляет правительству Соединенных Штатов. Как и американская конституция, они передают центральной власти право заключать мир и объявлять войну, право набирать войско и взимать налоги с населения, заботиться об удовлетворении общественных потребностей и регулировать общенациональные интересы.
Между тем у всех этих столь разных народов федеральное правительство почти всегда отличалось слабостью и неэффективностью, тогда как правительство американского Союза ведет свои дела легко и энергично.
Первый американский Союз не мог продолжать свое существование именно по причине исключительной слабости своего правительства, и тем не менее это слабое правительство располагало такими же широкими правами, как и современное федеральное правительство. Можно даже сказать, что в некоторых отношениях его права были даже более значительными.
Однако ныне действующая Конституция Соединенных Штатов содержит несколько новых принципов, которые имеют очень важное значение, хотя поначалу они отнюдь не бросаются' в глаза.
И в самом деле, эта конституция, которую, на первый взгляд, легко спутать с любой предшествующей федеральной конституцией, основана на совершенно новой теории, которую можно считать великим открытием в области политических наук нашего времени.
Во всех федерациях, существовавших до образования в 1789 году американского Союза, народы, объединявшиеся для достижения общих целей, соглашались повиноваться распоряжениям федерального правительства, однако в то же время они продолжали сохранять в пределах собственной территории право издавать указы и надзирать за исполнением законов союзного значения.
Американские штаты, вошедшие в Союз в 1789 году, не только дали свое согласие на то, чтобы федеральное правительство издавало для них законы, но и на то, чтобы оно само приводило эти законы в исполнение.
Во всех федерациях, предшествовавших нынешнему американскому Союзу, федеральное правительство обращалось к правительствам входящих в них государств для того, чтобы получить от них средства на свое содержание. В тех случаях, когда та или иная мера, предписываемая федеральным правительством к исполнению, не нравилась какому-либо из этих правительств, оно всегда могло уклониться от необходимости повиноваться. Если правительство было сильным, оно призывало к оружию своих граждан; если оно было слабым, то не обращало внимания на случаи неповиновения законам федерации, ставшими уже его собственными, ссылалось на свое бессилие и продолжало существовать как бы по инерции.
И всегда происходило одно из двух: либо самый сильный из объединившихся народов брал в свои руки власть, принадлежавшую федеральному правительству, и от его имени управлял другими[25], либо федеральное правительство оказывалось предоставленным самому себе и могло рассчитывать лишь на свои собственные силы, и тогда в федерации воцарялась анархия, и сам союз становился абсолютно недееспособным[26].
В Америке Союз управляет не штатами, а простыми гражданами. Когда федеральное правительство намеревается собрать налоги, оно обращается не к властям Массачусетса, а к каждому жителю этого штата. Прежние федеральные правительства имели дело с целыми народами, тогда как американский Союз — с отдельными личностями. Сила, которой он обладает, не взята взаймы, но присуща ему самому. Он имеет своих собственных правителей, свои суды, своих судебных чиновников и свою армию.
Безусловно, национальный дух, общность чувств, провинциальные предрассудки каждого штата приводят к определенному сужению сферы влияния федерального правительства подобного устройства, а также к возникновению своеобразных очагов сопротивления его воле; имея лишь ограниченные полномочия верховной власти, такое правительство не может быть столь же могущественным, как то, которое обладает этой властью в полном объеме; однако именно в этом и заключается недостаток, присущий федеративной системе правления.
В Америке каждый штат имеет гораздо меньше возможностей и поводов оказывать сопротивление центру. Ну а если все же подобная мысль и возникнет в штате, то он может осуществить ее, только открыто отказываясь подчиняться законам Союза, нарушая привычное функционирование судебной власти, поднимая знамя бунта, — словом, он должен принять самые крайние меры, на что люди обычно долгое время не решаются.
В прежних федерациях власть, предоставленная союзу, толкала его к войнам, а вовсе не становилась источником его могущества и силы, поскольку эта власть умножала его требования, не давая дополнительных средств для того, чтобы заставить себе повиноваться. Вот почему почти всегда случалось так, что чем более крепла формальная власть федеральных правительств, тем слабее они становились на самом деле.
В американском Союзе дело обстоит совершенно иначе. Как и большинство обыкновенных правительств, федеральное правительство может делать все, на что оно имеет право.
В сознании человека легче возникают образы предметов, нежели слова, обозначающие абстрактные понятия, поэтому люди часто употребляют множество неуместных слов и непригодных выражений.
Некоторые нации образуют постоянные союзы и учреждают верховную власть, которая, хотя и не распространяется на простых граждан в той же мере, что и власть национального правительства, тем не менее воздействует на каждый из народов, вошедших в федерацию.
Именно это правительство, столь отличное от всех прочих, и называется федеральным.
Затем выявляется еще одна форма общественного устройства, при которой несколько народов действительно сливаются в одну нацию для обеспечения общих для них интересов, что же касается всех прочих вопросов, то они остаются отдельными народами, образующими федерацию.
В этом случае центральная власть воздействует на граждан без какого-либо посредника, сама управляет ими и судит их, как это делает общенациональное правительство, однако все это происходит в строго ограниченной сфере. Бесспорно, это уже не федеральное правительство, а общенациональное с неполными функциями. Таким образом, была найдена новая форма правительства, которое нельзя считать ни собственно общенациональным, ни федеральным в прямом смысле этого слова; однако на этой форме правления и было решено остановиться в Америке, хотя для обозначения этого нового явления до сих пор еще не нашли соответствующего термина.
Все старые союзы именно вследствие того, что им не была знакома подобная форма федеративного устройства, пришли в конце концов либо к гражданской войне, либо к порабощению, либо же к полному застою. Все народы, которые входили в их состав, были или недостаточно просвещенными для того, чтобы найти средство от угрожавшей им болезни, или же им не хватало мужества, чтобы употребить найденное средство на практике.
Первый американский Союз повторил все эти ошибки.
Однако в Америке федеративные штаты, прежде чем добиться независимости, в течение длительного времени входили в состав одной целостной империи, и у них еще окончательно не сложилась привычка полностью управлять самими собой, а национальные предрассудки еще не смогли пустить там глубокие корни; во всех этих штатах по сравнению с остальным миром было больше образованных людей, поэтому те страсти, которые обычно будоражат людей, заставляя их сопротивляться расширению федеральной власти, ощущались в этих штатах значительно слабее, да и великие политические деятели страны боролись с подобными страстями. Почувствовав болезнь, американцы немедленно и решительно отыскали средство для ее лечения: они переделали законы и спасли свою страну.
ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВООБЩЕ И ЕЕ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АМЕРИКИ
Чувство счастья и свободы, испытываемое маленькими нациями. — Могущество больших наций. — Великие державы стимулируют развитие цивилизации. — Сила страны нередко является главной предпосылкой ее процветания. — Задача федеративной системы государственного устройства заключается в соединении тех преимуществ, которыми обладают народы, живущие как на больших, так и на малых территориях. — Преимущества данной системы для Соединенных Штатов. — Законы существуют для населения, а не население для законов. — Предприимчивость, прогресс, склонность к свободе и умение ее использовать, присущие американцам. — Общественное сознание Союза есть не что иное, как отражение в сжатом виде провинциального патриотизма. — Предметы и идеи свободно обращаются в пределах территории Соединенных Штатов. — Союз свободен и счастлив, словно маленькая страна, и вместе с тем его уважают, как страну большую.
В маленьких странах общество относится с большим вниманием к каждой мелочи, люди стремятся улучшить буквально все; а так как устремлениям народа существенно препятствует его слабость, то все усилия и средства практически целиком направляются на улучшение благосостояния страны, а не растрачиваются понапрасну в погоне за славой. Более того, поскольку возможности каждого в этих государствах ограничены, то ограничены в равной степени и сами желания. Скромные состояния делают всех приблизительно равными; нравы там просты и миролюбивы. Принимая все это во внимание и учитывая разный уровень нравственности и просвещенности населения, можно сказать, что в маленьких странах народ живет обеспеченнее и спокойнее, чем в больших.
Когда же в маленькой стране устанавливается тирания, то неудобство данного положения здесь ощущается более, нежели где-либо в другом месте, потому что, действуя на меньшем пространстве, она распространяет свое влияние действительно на все стороны жизни общества. Она занимается бесконечным множеством малых дел, не будучи в состоянии взяться за какое-либо важное начинание и становясь одновременно необузданной и придирчивой. Оставив мир политики, который, собственно говоря, является той истинной средой, в которой она должна действовать, она глубоко проникает в частную жизнь. Контролируя действия людей, она стремится распоряжаться и их вкусами; управляя государством, она хочет управлять и семьями. Однако так случается весьма редко; свобода поистине составляет естественное условие существования маленьких наций. Участие в правительстве этих стран представляет собой слишком слабую приманку для честолюбивых устремлений, средства частных лиц здесь слишком ограниченны для того, чтобы верховная власть могла легко попасть в руки одного человека. Если же такое все-таки происходит, то гражданам этой страны нетрудно объединиться и общими усилиями свергнуть как самого тирана, так и тиранию.
Таким образом, маленькие страны во все времена были колыбелью политической свободы. И тот факт, что большинство из них, становясь более крупными, теряло эту свободу, говорит о том, что обладание свободой больше зависит от малого размера страны, нежели от характера населяющего ее народа.
В мировой истории нет примера крупного государства, которое в течение продолжительного времени оставалось бы республикой[27], это дает повод утверждать, что подобное и вовсе невозможно. Что же касается меня, то я полагаю, что человек поступает весьма неблагоразумно, пытаясь заключить возможное в какие-то рамки и судить о будущем, не видя вместе с тем ту реальную действительность, с которой он сталкивается ежедневно; это приводит к тому, что он беспрестанно оказывается захваченным врасплох даже в тех делах, в которых осведомлен наилучшим образом. С уверенностью можно сказать лишь то, что крупная республика неизменно будет подвергаться гораздо большей опасности, нежели маленькая.
Все гибельные для республик страсти возрастают пропорционально росту их территорий, в то время как добродетели, служащие им опорой, вовсе не увеличиваются в той же прогрессии.
Честолюбивые устремления отдельных лиц нарастают вместе с укреплением могущества государства; сила партий увеличивается в зависимости от важности тех целей, которые они ставят перед собой; однако любовь к отечеству, которая должна оказывать противодействие всем этим разрушительным страстям, не становится сильнее в большой республике по сравнению с малой. Легко доказать, что в большой республике это чувство менее глубоко и менее сильно. Огромные богатства и крайняя нищета, столичные города, падение нравов, рост индивидуализма, разброс интересов — таковы опасности, ежедневно порождаемые большим государством. Многие из этих факторов не причиняют никакого вреда существованию монархии, напротив, некоторые из них могут даже способствовать ее долголетию. Кстати говоря, в монархиях сила правительства заключается в нем самом, оно использует народ и в то же время не зависит от него; чем многочисленнее народ, тем сильнее монарх. Республиканское же правительство может противостоять этим опасностям лишь при поддержке большинства населения. Между тем эта опора правительства нисколько не больше, говоря относительно, в крупной республике по сравнению с маленькой. Следовательно, в то время как средства воздействия непрестанно увеличиваются в количестве и в мощи, противодействующая сила остается неизменной. Можно даже сказать, что она сокращается, потому что по мере роста численности населения и дифференциации образа мышления и интересов формирование прочного большинства становится соответственно все более и более сложным.
Кстати говоря, замечено, что человеческие страсти приобретают большую силу не только в зависимости от величия цели, к которой стремятся люди, но и вследствие того, что подобные устремления появляются одновременно у множества людей. Любой человек испытывает более сильное душевное волнение, оказавшись посреди возбужденной толпы, разделяющей его чувства, нежели находясь в одиночестве. В большой республике политические страсти становятся непреодолимыми не только потому, что цель, к которой стремятся люди, огромна по своему значению, но еще и потому, что миллионы граждан одновременно захвачены одним и тем же чувством.
Следовательно, в целом можно сказать, что ничто так не мешает благосостоянию и свободе людей, как огромные империи.
Вместе с тем большие государства располагают и своими особыми преимуществами, которые нельзя не признавать.
В этих государствах стремление к власти у обыкновенных людей выражено сильнее, чем в других местах, да и любовь к славе здесь проявляется заметнее в тех душах, для которых рукоплескания многочисленного народа являются достаточным вознаграждением за их дала и в каком-то смысле поднимают их в собственных глазах. То обстоятельство, что мысль здесь более быстродейственна и могущественна, идеи обращаются свободнее, столичные города представляют собой огромные интеллектуальные центры, в которых сходятся, сверкая, все лучи человеческого разума, объясняет нам, почему в крупных странах, по сравнению с маленькими, развитие просвещения и общий прогресс цивилизации идут более быстрыми темпами. Следует также добавить, что важные открытия нередко требуют такого уровня развития национальных сил, который правительство маленького народа обеспечить не в состоянии; у крупных наций правительство генерирует больше общих идей, решительнее освобождается от прежней рутины и местного эгоизма. Его проекты талантливее, а действия смелее.
Благосостояние малых стран бывает более полным и всеобъемлющим до тех пор, пока они живут в мире; когда же начинаются войны, они приносят им значительно больший ущерб, нежели крупным государствам, отдаленность границ которых дает иногда возможность массам людей оставаться в течение столетий вне непосредственной опасности, и поэтому для них война несет тяготы, но не разрушения.
Кстати говоря, при рассмотрении этого вопроса, как и многих других, необходимо учитывать одно соображение, которое превалирует над всеми остальными, а именно — соображение о необходимости того или иного явления в обществе.
Если бы в мире существовали лишь маленькие страны, а больших не было бы и в помине, то человечество, вне всякого сомнения, стало бы свободнее и счастливее. Однако существование больших государств Неизбежно.
Это обстоятельство приводит к тому, что в мире для обеспечения национального благосостояния появляется такой новый элемент, как сила. Что из того, что народ живет в свободном и благополучном государстве, если ему ежедневно угрожает опустошение или завоевание? Какое значение имеет то, что на его территории процветают промышленность и торговля, если другое государство господствует на морях и устанавливает свои законы на всех рынках? Маленькие страны нередко бедны не потому, что они маленькие, а потому, что они слабые. Таким образом, сила зачастую превращается в одно из первейших условий счастья и даже самого существования страны. Отсюда следует, что если не складывается каких-то особых обстоятельств, то маленькие народы рано или поздно неизбежно оказываются присоединенными к большим либо насильственным путем, либо по собственному желанию. Я не знаю более жалкого состояния народа, чем то, когда он не может ни защищаться, ни существовать самостоятельно.
Именно для того, чтобы соединить воедино те преимущества, которыми обладают как большие, так и маленькие страны, и была создана федеративная система.
Достаточно бегло взглянуть на Соединенные Штаты Америки, чтобы заметить все те выгоды, которые они получили, установив у себя эту систему.
В крупных странах с централизованной властью законодатель вынужден придавать законам единообразный характер, который не отражает разнообразия местных условий и обычаев: не будучи осведомлен в частностях, он может исходить лишь из самых общих правил. В этих обстоятельствах людям приходится по необходимости приспосабливаться к законам, потому что сами законы совершенно не учитывают потребностей и обычаев людей, что является важной причиной беспорядков и всяческих неприятностей.
Подобных несуразиц не существует в странах с федеративным устройством: конгресс принимает основные законы, регулирующие жизнь общества, а местные законодатели занимаются ею в деталях.
Трудно себе даже представить, в какой мере такое разделение полномочий верховной власти способствует благополучию штата, входящего в состав Союза. В этих маленьких обществах, которым не нужно ни заботиться о своей защите, ни стремиться к увеличению своей территории, вся сила государственной власти и вся энергия людей нацелена на улучшение их внутреннего положения. Центральное правительство каждого штата, находясь в непосредственной близости от своих граждан, ежедневно получает сведения о тех нуждах, которые возникают в обществе; в результате каждый год предлагаются новые планы, которые обсуждаются на собраниях общин или на заседаниях законодательных органов штатов и публикуются в прессе, вызывая всеобщий интерес граждан и стимулируя их деятельность и усердие. Это стремление к совершенствованию постоянно присутствует в жизни американских республик, не нарушая, однако, их спокойствия; честолюбивая погоня за властью уступает здесь место любви к благополучию; это более обывательское, но одновременно и менее опасное чувство. В Америке повсюду распространено убеждение в том, что существование и прочность республиканских форм правления в Новом Свете зависят от существования и прочности федеративной системы. Значительная часть тех бед, которые переживают государства Южной Америки, приписывают тому, что там, вместо того чтобы разделить полномочия верховной власти, пожелали образовать большие республики.
Несомненно, что в Соединенных Штатах склонность и привычка к республиканскому образу правления зародились в общинах, а также в результате деятельности провинциальных ассамблей, и жизнь дает тому примеры. Для такого небольшого штата, как Коннектикут, где важным политическим мероприятием считается открытие канала или проведение дороги; где правительство не нуждается ни в содержании армии, ни в ведении войн; где участие в правительстве не приносит людям ни большого богатства, ни большой славы, — нельзя придумать ничего более естественного и более соответствующего природе вещей, чем республиканская форма правления. И именно этот республиканский дух, именно эти нравы и обычаи свободного народа, зародившись и развившись в отдельных штатах, впоследствии легко распространяются по всей стране. Общественное сознание Союза есть не что иное, как отражение в сжатом виде провинциального патриотизма. Привязанность каждого гражданина Соединенных Штатов к жизни своей маленькой республики превращается в любовь к общему для всех отечеству. Защищая Союз, он защищает и растущее благосостояние своего штата, право заниматься решением местных проблем, а также надежду на осуществление планов по улучшению жизни, что, в свою очередь, послужит и его собственному достатку — иными словами, все то, что обыкновенно волнует людей больше, чем общенациональные интересы и слава нации.
С другой стороны, если жители страны по своему духу и нравам более чем другие склонны добиваться процветания большой республики, то система федеративного устройства значительно упрощает их задачу. В федерации американских штатов нет тех проблем, которые обычно свойственны многочисленным скоплениям людей. Союз по своей территории является большой республикой; однако его можно было бы в определенном смысле приравнять к маленькой республике потому, что в ведении его правительства сосредоточено весьма незначительное число вопросов. Его действия важны, но редко имеют место. А так как Союз обладает ограниченной и неполной верховной властью, то использование им этой власти отнюдь не угрожает свободе и не порождает неуемных стремлений ко всемогуществу и сенсациям, столь пагубным для больших республик. Поскольку в Соединенных Штатах нет общего центра, в котором все должно неизбежно сводиться воедино, то здесь не возникает ни огромных столичных городов, ни громадных состояний, ни глубокой нищеты, ни внезапных революций. Политические страсти, вместо того чтобы, подобно пожару, мгновенно распространяться по всей территории страны, перегорают в замкнутом мире интересов и страстей каждого штата.
Вместе с тем в пределах Союза предметы и идеи циркулируют совершенно свободно, как внутри единого народа. Ничто не препятствует здесь духу предпринимательства. Федеральное правительство постоянно притягивает к себе всех талантливых и знающих людей. Внутри Союза царит прочный мир, как в стране, подчиненной единой власти. Кроме того, Союз стоит в ряду самых могущественных государств земного шара; его побережье длиной в восемьсот лье открыто для внешней торговли, и, держа в своих руках ключи от целого мира, он заставляет уважать свой флаг на самых отдаленных морских окраинах.
Союз свободен и счастлив, как маленькая страна, но славен и силен, как большая.
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СИСТЕМА ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕНА У ВСЕХ НАРОДОВ, А ТАКЖЕ ПРИЧИНЫ, ПОБУДИВШИЕ АНГЛОАМЕРИКАНЦЕВ ПРИНЯТЬ ЭТУ СИСТЕМУ
Любая федеративная система имеет недостатки, которые законодатель не в силах преодолеть. — Сложность всякой федеративной системы. — Она требует от граждан повседневного приложения их разума. — Практические навыки американцев в делах государственного управления. — Относительная слабость правительства Союза — еще один порок, присущий федеративной системе. — Американцы ослабили отрицательные последствия этого порока, но не смогли окончательно ликвидировать его. — Верховная власть отдельных штатов на первый взгляд слабее, чем верховная власть Союза, в действительности же она сильнее. — Почему. — У народов, входящих в федерацию, должны существовать еще и естественные причины их объединения в Союз. — Каковы эти причины у англоамериканцев. — Штаты Мэн и Джорджия, удаленные друг от друга на 400 лье, связаны между собой более естественными узами, нежели Нормандия и Бретань. — Война — наибольшая угроза для федераций. — Это доказывает пример самих Соединенных Штатов. — У американского Союза нет повода опасаться большой войны. — Почему. — Опасности, которые грозили бы народам Европы в том случае, если бы они ввели у себя систему федеративного устройства наподобие американской.
Иногда, приложив немалые усилия, законодателю удается оказать косвенное воздействие на судьбы страны, и тогда люди прославляют его гений. Между тем часто бывает, что географическое положение государства, неподвластное ему, общественный строй, сложившийся без его участия, нравы и убеждения, источник которых ему неизвестен, происхождение страны, с которым он не знаком, — все это вызывает в обществе такие неудержимые сдвиги, против которых он тщетно борется и которые в свою очередь увлекают его за собой.
Законодатель похож на человека, который плывет в открытом море. Он может управлять своим кораблем, однако он не в силах ни изменить его устройство, ни вызвать ветер, ни помешать океану бушевать под килем корабля.
Я показал те выгоды, которые американцы получают от существования у них федеративной системы. Мне остается лишь объяснить, что позволило им применить эту систему на практике; дело в том, что далеко не всякий народ способен воспользоваться ее благами.
В' самой федеративной системе существуют недостатки случайного характера, связанные с законами, которые могут быть исправлены законодателями. Однако встречаются и другие, которые, будучи неразрывно связаны с этой системой, не могут быть ликвидированы народом, вводящим ее у себя. Следовательно, этому народу необходимо найти в себе силы стерпеть несовершенства, присущие его правительству.
Среди пороков, свойственных любой федеративной системе, самым явным является сложность используемых в ее рамках средств. При такой системе неизбежно возникают две верховные власти. Законодатель может добиться того, чтобы эти власти были по возможности равноправны, чтобы их действия были просты, а сфера их компетенции четко определена. Вместе с тем он не может ни объединить их воедино, ни помешать их соприкосновению в определенных точках.
Следовательно, федеративная система в любом случае строится на весьма сложной теории, применение которой на практике требует повседневного осмысленного участия в этом граждан.
Обычно сознанием людей овладевают лишь самые доступные идеи. Ложная, но ясно и точно выраженная идея всегда больше завладеет миром, нежели идея верная, но сложная. Из этого следует, что партии, представляющие собой нечто вроде маленьких наций внутри большой, всегда стремятся поскорее сделать своим девизом, символом либо какое-то имя, либо принцип, которые зачастую далеко не полностью отражают ту цель, которую эти партии преследуют, те средства, которые они используют и без которых они не смогли бы ни существовать, ни действовать. Правительства, опирающиеся на одну-единственную идею или на одно, легко поддающееся определению чувство, может быть, и не самые лучшие, однако, несомненно, самые сильные и самые долговременные.
Рассматривая Конституцию Соединенных Штатов, наиболее совершенную из всех известных человечеству федеральных конституций, напротив, становится страшно от того огромного объема всевозможных знаний и той проницательности, которыми предположительно должны обладать граждане этих стран. Управление Союзом практически полностью построено на фантазии законодателей. Союз как идеальная страна, строго говоря, существует лишь в умах людей, причем лишь разум может на деле постичь ее реальный размах и пределы ее возможностей.
Даже если общая теория вполне понятна, все равно остаются трудности ее применения на практике. А эти трудности бесчисленны, потому что верховная власть Союза настолько сливается с верховной властью штатов, что, на первый взгляд, невозможно определить грань между ними. В подобной структуре управления все условно и искусственно, и она может подойти только тому народу, который привык долгое время управлять своими делами самостоятельно и в среде которого политические науки доступны даже самым низшим слоям общества. Меня ни в чем так не поражали здравый смысл и практическая сметка американцев, как в их умении избегать многочисленных трудностей, порождаемых их федеральной конституцией. Я не встречал в Америке человека из народа, который бы с удивительной легкостью не отличал тех обязательств, которые вытекают из законов конгресса, от тех, что основаны на законах его собственного штата, и который бы не смог, отделив вопросы, входящие в сферу компетенции Союза, от тех, которые подлежат решению местными законодательными органами, указать тот предел, где начинается подсудность федеральным судам и кончается подсудность судам его штата.
Конституция Соединенных Штатов похожа на те прекрасные творения человечества, которые одаривают славой и богатством своих изобретателей, оставаясь меж тем бесплодными в чужих руках.
В наше время доказательством этому может служить Мексика.
Жители Мексики, желая установить у себя федеративную форму правления, взяли в качестве модели федеративное устройство своих англоамериканских соседей, практически полностью скопировав его[28]. Однако перенеся к себе букву закона, они не сумели одновременно перенести и тот дух, который оживлял ее. В результате мы видим, как они беспрестанно путаются в механизме своего двойного управления. Верховная власть штатов и верховная власть Союза, выходя за те рамки, которые очертила им конституция, ежедневно проникают одна в другую. До сих пор Мексика постоянно переходит от анархии к военному деспотизму и от военного деспотизма к анархии.
Второй и наиболее гибельный из всех пороков, который я считаю присущим самой федеративной системе государственного устройства, состоит в относительной слабости правительства Союза.
Принцип, на котором строятся все федерации, заключается в разделении полномочий верховной власти. Законодатели добиваются того, что это разделение становится мало заметным или даже какое-то время не ощущается вовсе, но уничтожить его полностью они не могут. Однако раздробленная верховная власть всегда будет более слабой, нежели целостная.
При рассмотрении Конституции Соединенных Штатов убеждаешься, с каким искусством американцы, ограничив власть федерального правительства, тем не менее смогли придать ему внешний вид и даже, до известной степени, силу, присущую общенациональному правительству.
Поступив таким образом, законодатели Союза смягчили последствия свойственного всем федерациям недостатка, но они были не в состоянии окончательно ликвидировать его.
Было отмечено, что американское правительство совершенно не обращается к штатам, но доводит свои распоряжения непосредственно до граждан, подчиняя каждого из них в отдельности своей коллективной воле.
Но если вдруг федеральный закон резко нарушит интересы какого-либо штата, можно ли в этом случае опасаться, что каждый гражданин этого штата примет решение поддержать того, кто откажется повиноваться закону? Ведь тогда задетыми Союзом одновременно и в одинаковой степени окажутся все жители штата, поэтому федеральное правительство напрасно будет стараться побороть каждого из них поодиночке они инстинктивно почувствуют необходимость объединиться, чтобы успешно защитить свои интересы, и найдут готовую опору в той верховной власти, которая предоставлена их штату. Вымысел исчезнет, чтобы уступить место реальности, и тогда можно будет увидеть, как организованная власть части территории страны вступит в сражение с центральной властью.
То же самое можно сказать и о федеральном правосудии. Если в ходе рассмотрения дела какого-либо частного лица федеральный суд нарушит один из важных законов штата, это неизбежно повлечет если не открытую, то, по крайней мере, вполне реальную борьбу между штатом, оскорбленным в лице своего гражданина, и Союзом, представляемым своим судом[29].
Нужно быть совершенно неопытным в житейских делах, чтобы считать, что с помощью вымыслов законодателей можно будет всегда мешать людям видеть и использовать то средство реализации их устремлений, которое им было когда-то предоставлено.
Таким образом, американские законодатели добились того, чтобы столкновения между двумя властями стали наименее вероятными, в то же время не уничтожив побудительных причин этих столкновений.
Более того, можно сказать, что они не сумели обеспечить федеральным властям преимущество в случае такого столкновения.
Они передали в распоряжение Союза деньги и солдат, тогда как штаты сохранили в своем арсенале любовь и заинтересованность народа.
Верховная власть Союза есть нечто абстрактное, она связана с внешним миром весьма слабыми связями. Верховная же власть штатов охватывает все, ее легко понять, а ее деятельность ощущается постоянно. Первая из них — нововведение, вторая же родилась одновременно с самим народом.
Верховная власть Союза — это произведение искусства. Верховная власть штатов — совершенно естественное явление, существующее само по себе, без усилий, как, скажем, авторитет отца семейства.
Верховная власть Союза касается людей лишь в связи с наиболее важными общенациональными интересами; она олицетворяет для них огромное, но далекое отечество, вызывающее неясные и неопределенные чувства. Верховная власть штата, напротив, доходит до каждого из граждан и в известной степени вмешивается во все мелочи его жизни. Именно эта власть охраняет собственность этого гражданина, его свободу и его жизнь, именно ей он обязан своим благополучием и своими невзгодами. Ее опорой являются воспоминания людей, их привычки, местные предрассудки, провинциальный и семейный индивидуализм — словом, все то, что и превращает привязанность к своему отечеству в столь мощное чувство в сердце человека. Как после этого сомневаться в преимуществах этой власти?
Раз законодатели не могут помешать опасным столкновениям между двумя верховными властями, которые сформировались в рамках федеративной системы, то им, следовательно, необходимо к мерам по предотвращению вооруженных выступлений народов, объединенных в федерацию, добавить специальные действия, которые могли бы обеспечить мирную жизнь этих народов.
Из этого следует, что договоренность о федеральном устройстве окажется недолговечной, если у народов, на которые она распространяется, нет определенных стимулов для объединения, способствующих улучшению их совместной жизни и облегчению задач, стоящих перед правительством.
Таким образом, стабильность государства при федеративном устройстве невозможно обеспечить лишь путем использования дельных законов — для этого нужны также и благоприятные обстоятельства.
Все народы, которые когда-либо объединялись в федерации, имели ряд общих интересов, служивших как бы разумной основой их ассоциации.
Однако помимо материальных интересов человеку свойственны мысли и чувства. Для того чтобы федерация просуществовала длительное время, одинаково необходимо равенство как в уровнях развития различных составляющих ее народов, так и равенство их потребностей. Между уровнем развития кантона Во и кантона Ури существует такая же разница, как между XIX и XV веками, хотя, по правде сказать, государственное устройство Швейцарии никогда не было по-настоящему федеративным. Союз между ее различными кантонами существует только на карте, и это стало бы особенно заметно, если бы центральные власти решили применить одни и те же законы на всей территории страны.
В Соединенных Штатах существует одно обстоятельство, которое значительно облегчает деятельность федерального правительства. Различные штаты не только имеют достаточно сходные интересы, обшее происхождение и общий язык, но также стоят на одной ступени развития общества, что почти всегда делает согласие между ними довольно-таки легким делом. Я не уверен в том, что в Европе можно встретить небольшую нацию, которая отличалась бы такой же однородностью во всех отношениях, какая характерна для американского народа, занимающего территорию, равную половине всего Европейского континента.
Расстояние от штата Мен до штата Джорджия составляет приблизительно четыреста лье. Однако в уровне развития культуры Мэна и Джорджии значительно меньше различий, нежели между Нормандией и Бретанью. Таким образом, Мэн и Джорджия, расположенные в двух разных концах огромной страны, обладают более реальными возможностями образовать федерацию, нежели Нормандия и Бретань, отделенные друг от друга узким ручейком.
Задача американских законодателей облегчалась не только тем, что они исходили из соответствующих нравов и привычек народа, им помогли еще и другие обстоятельства, связанные с географическим положением Соединенных Штатов. Именно эти обстоятельства и послужили главной причиной принятия и сохранения федеративной системы.
Из всех периодов в жизни народа самым важным, безусловно, является война. В войне народ выступает против чужого народа как единое существо: он борется за свое существование.
До тех пор пока речь идет о поддержании мира внутри страны и о росте народного благосостояния, вполне достаточно умения правительства, рассудительности управляемых им граждан и естественной привязанности людей к своему отечеству, обычно свойственной человеку. Когда же начинается большая война, она требует от населения многочисленных и тяжелых жертв. Поверить же в то, что множество людей будут готовы добровольно подчиняться подобным требованиям общества, может лишь тот, кто плохо знает человеческую природу.
Из этого следует, что все народы, которые принимали участие в крупных войнах, были вынуждены, сами того не желая, усиливать свое правительство. Длительная война почти всегда ставит страны перед печальной альтернативой: в случае поражения им грозит уничтожение, а в случае победы — деспотизм.
Таким образом, обыкновенно именно в ходе войн слабость правительства проявляется в наиболее явной и наиболее опасной форме; а я уже говорил о том, что недостатком всех федеральных правительств является их чрезвычайная слабость.
При федеративном государственном устройстве не только не существует никакой административной централизации или чего-то похожего на нее, но и сама централизация правительственной деятельности далеко не полная, что всегда оказывается важной причиной слабости страны в тех случаях, когда возникает необходимость защищаться от государств, где власть правительства полностью централизована.
В Конституции Соединенных Штатов, которая по сравнению с другими конституциями наделяет центральное правительство более реальной властью, этот недостаток все равно заметно ощутим.
Читателю будет достаточно одного примера, чтобы вынести свое суждение.
Конституция представляет конгрессу право призывать милицию различных штатов на действительную службу для подавления мятежей или отражения вторжений неприятеля; в другой статье говорится, что в этом случае президент Соединенных Штатов становится главнокомандующим этими подразделениями на уровне всего Союза.
Так, во время войны 1812 года президент отдал приказ милиции северных штатов подойти ближе к границе; однако Коннектикут и Массачусетс, чьи интересы эта война ущемляла особенно заметно, отказались посылать туда своих людей.
Конституция, было сказано, разрешает федеральному правительству пользоваться милицией штатов только в случае мятежа или вторжения неприятеля, тогда как в настоящее время не отмечается ни того, ни другого. Было добавлено, что та же самая конституция, дающая Союзу право призывать ополченцев штатов на действительную службу, сохраняет за этими штатами право назначать весь офицерский состав. Из этого, согласно мнению, сложившемуся в данных штатах, следовало, что даже во время войны ни один из офицеров Союза, за исключением самого президента, не получал права командовать милицией. А в данном случае речь шла о службе в войсках, которыми командовал не президент.
Эти нелепые и разрушительные взгляды получили поддержку не только губернаторов и законодательных собраний, но и судебных инстанций этих двух штатов, и федеральное правительство оказалось вынужденным искать недостающие военные подразделения в других местах[30].
Таким образом, большая удача Соединенных Штатов состоит не в том, что они выработали такую федеральную конституцию, благодаря которой они могут выдерживать большие войны, а в том, что их расположение позволяет им не опасаться какой-либо угрозы извне.
Никто не способен больше меня оценить все преимущества системы федеративного устройства государства. Я вижу в ней самый верный залог процветания и свободы человечества. Я завидую судьбе тех стран, которые смогли ввести у себя эту систему. Но в то же время я отказываюсь верить в то, что живущие в федерации народы смогли бы длительное время вести борьбу, при условии равных сил с обеих сторон, против государства, правительственная власть которого централизована.
Народ, который рискнул бы расчленить свою верховную власть перед лицом великих военных монархий Европы, на мой взгляд, одним этим отрекся бы от своего могущества, и, вполне вероятно, от собственного существования, и от своего имени.
А вот Новый Свет расположен так великолепно, что у человека здесь нет иных врагов, кроме него самого! Для того чтобы добиться счастья и свободы, ему достаточно лишь захотеть этого.
РОДЖЕР ЖЕЛЯЗНЫ (1937–1995)
Печальная весть пришла из Амбера и из Америки. «Хроники Амбера» прервались — после тяжелой болезни 14 июня 1995 года умер Роджер Желязны.
Умер один из ведущих фантастов современности, лауреат многих премий, писатель, зачинавший вместе с Сэмюэлом Дилэни и Харланом Эллисоном «новую волну» в американской фантастике, наконец, давний автор «Fantasy and Science Fiction». Именно в нашем американском прототипе в 1965 году был опубликован роман «…И зовите меня Конрад» — журнальный вариант романа «Этот бессмертный», завоевавшего премию «Хьюго» за 1966 год.
Можно вспомнить основные факты биографии Роджера Желязны, как их излагает «Энциклопедия научной фантастики» под редакцией Питера Николсона. Родился в 1937 году в Огайо, в 1962 году окончил Колумбийский университет. В том же году появилась его первая публикация в «Amazing Stories», и в течение ряда лет Желязны писал в основном рассказы. Первые же две его крупные книги — уже упоминавшийся «Этот бессмертный» и «Повелитель снов» — принесли своему автору высшие в фантастике премии — «Хьюго» и «Небьюла» (в дальнейшем эти премии присуждались ему еще не один раз). За тридцать с лишним лет Роджер Желязны написал еще множество больших и малых произведений, в том числе знаменитый Амберский цикл, который был начат в 1970 году и теперь так и останется незаконченным. Кроме того, Роджер Желязны много и охотно «соавторствовал» с другими известными фантастами — из плодов такого творческого содружества нашему читателю известны упоминавшиеся в нашей колонке редактора «Витки» (совместно с Ф. Саберхагеном) и «Принеси мне голову сказочного принца» (с Р. Шекли).
Кажется, первым переводом из Желязны в России (тогда еще СССР) стала «Долина проклятий» в «Химии и жизни», за которой последовали отдельные рассказы в периодике и сборниках, затем вышел тбилисский двухтомник «Хроник Амбера» («Амбер» в дальнейшем много раз переиздавался в разных городах под разными названиями), потом — питерский сборник рассказов «Розы для Экклезиаста», а дальше — лавина переводов (получше и похуже), и скоро Роджер Желязны стал в России столь же популярен, как и на родине.
Но все это только факты, мало что говорящие о сути творчества этого великолепного писателя. В его обширном наследии — и большое число объемных романов, и жемчужная россыпь рассказов, и, право, трудно сказать, что ему лучше удавалось. Контрастная фантастическая образность, свойственная «новой волне» (своеобразным американским «шестидесятникам»), пожалуй, именно у Желязны нашла свое максимально концентрированное выражение. Многие его страницы будто написаны (и прочитаны) в состоянии визионерского экстаза, мучительно-яркого бреда или грезы. Текст Желязны (в том числе и написанный в соавторстве) сразу отличим, даже в переводе — таинственная глубина и внезапно прорывающаяся экспрессия, скрытая под наплывающими одно за одним видениями мрачных или комичных, но неизменно ярких, даже яростно-ярких реальностей. Яростных потому, что сюжеты у Желязны почти всегда рассказывают о борьбе: против врагов — людей, иных существ или машин, против жестокости мира или против самой смерти.
Все фантасты — творцы миров, но именно в творчестве Желязны это стало не просто методом, но основным лейтмотивом. Неизвестно, был ли еще в чем-то похож на своих героев автор, но только творение миров, реальное или мнимое воплощение своих видений — любимое их дело, призвание и профессия. Повелитель снов доктор Рендер, которому подвластно пространство человеческой психики; поэт Гэливджер из «Розы для Экклезиаста»; планетарный конструктор Фрэнсис Сэндоу («Остров мертвых»), принцы Амберской династии или безымянный герой из рассказа «Любовь — мнимая величина», мутант Джарри Дарк из «Ключей к декабрю», странные боги в «Созданиях света, созданиях тьмы», компьютерный телепат из «Витков» и многие, многие другие, с кем автор щедро поделился этим редким талантом самому творить мир, в котором живешь. Странные и многообразные герои Желязны, кем бы они ни были — людьми, мутантами, машинами, богами — как правило, одиноки со своим талантом и в своей борьбе (а борьба эта всегда не на жизнь, а на смерть), у них больше врагов, чем друзей, их жизнь и любовь зачастую трагичны, а никакие способности по части творения не спасают от одиночества, которое чаще даже внутри них, чем вокруг. А может это одиночество, порой ожесточенное, порой глухое или светлое — необходимое условие, чтобы грезить наяву или идти в бой за жизнь и против всего мира, что у Желязны часто одно и то же. Недаром же спасаются от гибели и уходят из музея снова в жизнь «музейные экспонаты» — молодой художник со своей возлюбленной, недаром герой возвращается к жизни после смертного боя на Острове Мертвых, недаром проповедует Книгу Жизни умирающей марсианской расе Гэлинджер; после смертного же боя обретает свою утраченную память в глубинах компьютерной сети герой «Витков»; Джарри Дарк покидает своих соратников по «Декабрьскому клубу» и присоединяется к обреченному на вымирание только что ими же и созданному племени, чтобы разделить его судьбу. Отпетый уголовник Черт Таннер гонит машину с запада на восток через весь ставший Долиной Проклятий американский континент, убивая по дороге всех, кто пытается его остановить, — потому что везет сыворотку в зачумленный город. И даже «профессиональные» носители смерти — галактический агент-киллер Темный Ангел и робот-вампир Стальная Пиявка из одноименных рассказов — оборачиваются, защищая жизнь, против самой своей природы. Ибо еще одно, наверно, роднит автора и героев — они влюблены в жизнь и красоту, во всех возможных воплощениях и отражениях, и их стараниями жизни и красоты во Вселенной становится больше. А отражения бесконечны. Их по заказу, прихоти или необходимости можно создавать снова и снова, но все города мира, как известно, похожи на Амбер, а все герои — на автора.
Эти заметки написаны по грустному поводу. Может, утешением послужит вот такая цитата из самого Роджера Желязны:
«…и где-то сияет солнце, сгорая как Феникс, чтобы возродиться вновь. Смерть-воскрешение, воскрешение-смерть… Где-то всегда сияет солнце. Помните об этом. Это очень важно».
Грезы, иллюзии, видения рассеиваются. Сотворенные миры остаются — даже после смерти творца. Роджер Желязны умер. Остались его герои, его миры, его книги, и где-то всегда сияет солнце. «…Так платит жизнь тем, кто служит ей самозабвенно» — этими словами кончается один из его рассказов.
Редакция «Сверхновой»ХРОНИКА
Летом в США проходит обычно несколько слетов и конференций любителей фантастики по регионам. «Сверхновая» была представлена в июне и июле 1995 года на двух из них — в Новом Орлеане (штат Луизиана) и в Портленде (штат Орегон), а также на конференции исследователей фантастики в Северной Дакоте. Библиотека Конгресса в Вашингтоне (округ Колумбия) пополнилась комплектом нашего журнала, ведущие университеты США стали нашими подписчиками.
Из Орегона шлют привет читателям «Сверхновой» Роберт Шекли, Урсула Ле Гуин, Кейт Вильхельм, Дин Уэсли Смит, К. Д. Вентворте, Линда Нагата, Джерри Олтиен (так произносится его фамилия, а не Олшен, как мы опубликовали ранее, исходя из правил английского произношения). Самые теплые пожелания передает редактор «F&SF» Кристин Кэтрин Раш, признавшаяся, что мы поместили на страницах «Сверхновой» как раз те произведения, что нравятся ей больше всего.
Кстати, несмотря на задержки с выпуском в свет, нам удается знакомить читателей с теми произведениями, что завоевывают литературные премии уже после нашей публикации. Так было с «Подарками музыкального ящика» Дина Уэсли Смита (N 6, 1994) Идея об участии читателей «Сверхновой» в голосовании за премию «Хьюго» начинает обретать некоторые реальные черты, а многочисленные просьбы публиковать лауреатов названной премии удовлетворяются, так сказать, в зародыше, принципиально.
2 июля 1995 года на Вестерконе в Портленде работал совместный семинар «F&SF» и «Сверхновой» под руководством Кристин Кэтрин Раш и Ларисы Михайловой, на котором обсуждалась концепция изданий, вопросы перевода и сохранения авторского права в России. Редакция «Сверхновой» с признательностью восприняла отношение к ее деятельности как к признаку возможности нормальной жизни в сфере издания фантастики в нашей стране, и будет продолжать знакомить читателей с тем, что ново, ярко и умно, не скрывая имен переводчиков и не таясь от авторов.
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Электронная почта принесла нам письмо из Батон Ружа, столицы штата Луизиана, от Майкла Скотта, любителя фантастики с сорокалетним стажем. А так как письмо касается именно киберпанка, вернее его освоения в ролевой игре, мы решили поместить письмо в сокращении на страницах этого номера «Сверхновой». У нас ролевые игры весьма в ходу, и сам предмет игры, скорее всего, не покажется слишком оригинальным компьютерным Мастерам. Но свидетельство человека, уже шесть лет играющего в «Киберпанк», каждое воскресенье, представилось нам любопытным. В группе Майкла Скотта девять человек, четыре женщины и пятеро мужчин, в основном инженеры, программисты, сам Майкл Скотт — управляющий магазинчиком при автозаправочной станции.
«Киберпанк 2.0.2.0.
Ролевые игры 70-80-х годов начиная с «Подземелий и Драконов» были, по преимуществу, вариациями на темы фэнтези и обладали сложной системой правил для групп сюжетов. Потом в конце 80-х проявилось новое поколение игр, в который акцент переместился на создание характеров и попытку с помощью определенного набора численных коэффициентов (их добывают, бросая граненые многоцветные игральные кости) изменить окружающую героев игровую среду. После публикации «Нейроманта» Уильяма Гибсона и выхода таких фильмов, как «Робот-полицейский» и «Бегущий по Лезвию», прошло совсем немного времени до появления игры «Киберпанк», выпущенной калифорнийской компанией «Тальсориан Геймз».
В мире «Киберпанка» почти всегда идет дождь, кислотный. Там вообще весьма неприютно на улицах: банды, загрязненный воздух. Транснациональные корпорации держат в своих руках весь мир, правительства — зачастую лишь подставные Лица. Персонаж «Киберпанка» — это обычно человек, использованный, а потом выброшенный корпорациями, который теперь пытается бороться с их всесилием. Начиная свое дело в одиночку и заботясь только о себе, герой постепенно берет на себя ответственность за выживание человечества: таков уж масштаб действия.
В версии «Киберпанк 2.0.2.0» — самой популярной сегодня в Америке, а также известной в Японии и Италии, где были выпущены приложения и справочники, — США оказываются вовлечены в ужасную войну в Центральной и Южной Америке. В конце войны тысячи солдат с электронными «усовершенствованиями» в их организме оказались ненужными, им приходится бороться за выживание в экономически истощенной стране. Можно выбрать себе персонажа из множества действующих лиц: Одиночек-бойцов, Пауков (компьютерных взломщиков), Информаторов-репортеров, Технарей, Мигрантов, Полицейских, Дилеров и Представителей корпораций. Затем наделить определенными навыками и чертами характера, а далее вести по игре, подобно автору рассказа или повести.
Вкратце, для примера, как создается персонаж Одиночка. Игрок решает, что это молодая женщина по имени Львиная Пасть, демобилизовавшаяся из армии и теперь ищущая работу, где бы она могла применить свои навыки. Армия дала ей электронный глаз со встроенным оптическим прицелом, снабдила ускоренными рефлексами. Львиная Пасть также может связаться с любым средством передвижения и командовать им прямо через свою нервную систему. Героиня довольно вспыльчива, но не нелюдима. Увидев, что корпорации используют других ветеранов как смертников, Львиная Пасть решает найти путь, чтобы заставить корпорации ответить за все.
Установленное заранее численное значение для навыков умножается или увеличивается на то, которое выпадает игроку на кости. Однако общее направление игре задает ведущий — Бог или Мастер, по другой терминологии. На его плечи ложится много работы: он должен придумывать и играть многочисленных персонажей, которые встречаются игрокам во время их путешествия, не забывая при этом основного направления, о котором подчас забывают игроки, увлекшись каким-нибудь одним аспектом. Три-четыре часа безотрывной напряженной игры дают разрядку нервам и пищу для будущих шуток. Экспромты возникают то и дело по поводам из прошлых игровых сессий. В этом, собственно, и заключается главное удовольствие игры, рожденной компьютерными образами, но успешно длящейся помимо компьютеров, в кругу друзей.
Если вы захотите присоединиться к нам или попробовать сами свои силы в такой игре — я буду рад ответить на ваши вопросы. Пишите по адресу:
Michael J. Scott
4414 Hollywood Street,
Baton Rouge, Louisiana 70805
USA.
He забудьте вложить адресованный вам конверт с международной маркой, если хотите получить ответ».
P.S. От редакции. На данный момент марка в США стоит для обычного международного письма 60 центов. Если хотите, можете адресовать свои письма к нам в редакцию, мы найдем способ переправить их Майклу Скотту.
Начиная с этого номера мы будем знакомить наших читателей с фантастикой в изобразительном искусстве, о чем нас много раз просили в письмах.
Юрий Борисович Могилевский — известный московский художник, участник множества выставок в нашей стране и за ее пределами, ветеран Великой Отечественной войны. В его творчестве сочетаются сатира (иллюстрации к произведениям Ильфа и Петрова, Гоголя), лирика (женские портреты в технике пастели), глубокий интерес к русской истории и культуре — он автор графический серий «Иван Грозный», многих портретов писателей (А. Ахматовой, С. Есенина, В. Маяковского, Н. Гоголя), серий, посвященных языческому искусству и европейской культуре — «Гамлет», «Пермский звериный стиль», «Икар».
Недавно Юрий Борисович стал читателем нашего журнала и, по его словам, открыл для себя фантастику Результатом стала новая графическая серия, посвященная «фантастическому сексу», один из листов которой мы с любезного разрешения художника помещаем здесь. Это — первая публикация новой работы Ю. Б. Могилевского
РУБРИКА «ГОЛОСА В ПРОСТРАНСТВЕ»
Данный материал циркулирует сейчас в компьютерных сетях Переведен студентами Международного колледжа при МГУ.
ПИСЬМА БИЛЛИ
Приведенные ниже письма появились в компьютерном журнале в колонке мистера Дворака.
«Дорогой мистер Дворак!
Анна Ландерс не напечатала бы это. Но мне больше не к кому обратиться. Я хочу, чтобы все об этом узнали. Хочу предупредить других родителей. Наверное я не слишком связно выражаюсь. Позвольте мне все объяснить. Речь пойдет о моем сыне, Билли. Ему 10 лет. Он всегда был нормальным ребенком.
Все началось с того, как прошлой весной мы собрались вместе, чтобы выбрать летний лагерь для сына. Мы просмотрели множество проспектов. В основном, там были обыкновенные лагеря с плаванием, каноэ, пением у костра, — ну вы знаете. Были там и спортивные лагеря, и лагеря для тех, кто хотел похудеть.
Я пыталась уговорить его снова поехать в лагерь «Виннипупу», где он был в прошлом году (он сделал такую очаровательную картинку из пятнистых бобов и макарон). Но Билли отверг все предложения. Он вытащил из кармана брошюрку, в которой говорилось о компьютерном лагере. Если бы мы знали, к чему это приведет, то никогда бы не отпустили его туда! Вот уже три недели как он уехал. Я не знаю, что произошло. Мне трудно это объяснить, судите сами. Вот некоторые из писем моего маленького Билли.
Дорогая мамочка!
Дети здесь придурковатые ботаники. Еда фиговая. Компьютеры — единственная отрада. Мы учимся программировать. Лучше всего программировать ночью.
С любовью, Билли.Дорогая мамочка!
Лагерь в порядке. Вчера мы ели пиццу посреди ночи. Мы все имеем право выбирать себе напиток. Я пью Classic Cola. Кстати, ты умеешь готовить чешуанскую еду? Я начинаю привыкать к ней. Ну, все, мне пора на занятия.
С любовью, Билли.P. S. Это было напечатано на компьютере. Классно, правда? Он мне и ошибки проверил.
Дорогая мамочка!
Не волнуйся. Мы занимаемся обыкновенной ерундой. Мы рассказывали страшилки при зеленоватом свете компьютерных экранов. Было здорово. Я практически не загорел потому, что редко выхожу на улицу. Все равно при солнечном свете на компьютерном экране ничего не видно. В том дурацком лагере, где я был в прошлом году, тоже кормили странной едой. Успокойся, мам. Со мной все в порядке, честное слово.
С любовью, Билли.Дорогая мамочка!
Я в порядке. Я достаточно сплю и ем. Это самый лучший лагерь из тех, в которых я когда-либо был. Мы напугали вожатого фальшивым компьютерным вирусом. Вот смеху было! Он так орал на нас, как будто сошел с ума. Фредерик говорит, что это нормально. Не могла бы ты прислать мне побольше денег? Я потратился на сетевой фильтр и блок чистых дискет. И еще мне надо заплатить за телефон. Знала ли ты, что с людьми можно разговаривать через компьютер? Передай привет папе.
С любовью, Билли.Дорогая мама!
Забудь про деньги за телефон. Мы нашли способ как можно не платить. Извини, что долго не писал. Я многому научился.
Могу подключиться к любому компьютеру в стране. Оказалось, что это так просто! Я залез в университетский меньше чем за 15 минут. Фредерик сделал это за 5 и собирается мне показать — как. Фредерик мой сосед по комнате. Он на самом деле очень умный. Он говорит, что мне не следует больше называть себя Билли. Поэтому я не буду.
Подписано, Вильям.Дорогая мама!
Хорошо что ты приехала в Родительский День. Почему ты так сильно расстроилась? Я вовсе не так поправился. И очки были не настоящие. Их все носят. Я пытался не отставать от других. Поверь мне, пленка на них крутая. А я-то думал, что ты будешь гордиться моей компьютерной программой. В конце-концов я прилично заработал. Издатель высылает чек на $ 30,000. В общем, я заплатил за следующие шесть недель в лагере и не приеду домой до конца августа.
С наилучшими пожеланиями, Вильям.Мама!
Прекрати обращаться со мной как с ребенком. Действительно, физически мне всего лишь 10 лет, но с твоей стороны было очень глупо пытаться похитить меня. Больше так не делай. Помни, что я могу сделать твою жизнь очень несчастной (т. е. через компьютеры банка, кредитного бюро, правительства). Я не шучу. Ясно? Я больше не буду писать, это первое и последнее предупреждение. Меня изнуряют эмоции от таких межличностных контактов.
Искренне Ваш, Вильям.Теперь вы понимаете, что я имею в виду? Уже две недели я не получаю известий от моего маленького Билли. Что я могу тут поделать, мистер Дворак? Может быть уже слишком поздно спасать моего маленького Билли. Но, если публикацией этих писем вам удастся уберечь хотя бы одного ребенка от компьютеромании, я умоляю вас сделать это. Спасибо вам большое.
Салли Гэйтс, встревоженная мать.»Примечания
1
Марди Гра — Жирный Вторник (франц.). Праздник во время карнавала в Новом Орлеане, приходящийся на последний день перед Великим Постом.
(обратно)2
Авторизованный новый завет — английский перевод Евангелия, официально принятый в англиканской церкви.
(обратно)3
Шю дин — шутливое обращение к мужу, вроде «хозяин».
(обратно)4
Доузо охайри, насай! — Пожалуйста, входите! (яп.)
(обратно)5
Оби — широкий пояс кимоно (яп.).
(обратно)6
Макимоно — рукописные свитки (яп.).
(обратно)7
Ками — многозначное слово, которое может употребляться как в мужском, так и в женском роде, и несущее значения: бог, дух, судьба. (Примем. ред.)
(обратно)8
Минору кун ва, он-гаку га суки десёу. — Кажется, Минору любит музыку, (яп.)
(обратно)9
Хон га нан-сатзу аримас-ка? — Сколько у нас книг? (яп.)
(обратно)10
Зоку — член молодежной группы в городе (яп.).
(обратно)11
Зуйбун дёзудес, не? — Очень хорошо, не правда ли? (яп.)
(обратно)12
Йе, кекко десу. Гомэн насай. Икимасёу. — Спасибо, не надо. Извините. Я пойду, (яп.)
(обратно)13
Доузо… охайри кудасай. — Пожалуйста, проходите, (яп.)
(обратно)14
Ээ, хаирасете итадакимасу. — Спасибо, я прохожу, (яп.)
(обратно)15
Йе. Ийе! — Нет. Нет! (яп.)
(обратно)16
Дес ка не? — Ну, как дела? (яп.)
(обратно)17
Весь абзац несколько напоминает контрабандное протаскивание основного допущения на территорию «доказанного». (Примеч. ред.)
(обратно)18
Автор касается, вполне корректно, стойкого заблуждения относительно принципиальной разницы между одноклеточными и многоклеточными организмами в вопросе бессмертия. С таким же успехом можно заявить: индивидуальная жизнь амебы очень коротка и длится от деления до деления клетки. (Примеч. ред.)
(обратно)19
Слово «Synners» сочетает в себе корень «syn» — «синтетический», «искусственный» и звучание [sin], намекающее на «sin» — «грех» по-английски. (Примеч. ред.)
(обратно)20
«Art Fish» напрямую соотносится также с «artificial» — «искусственный». (Примеч. ред.)
(обратно)21
Игра слов: «markt»— «проданный» и «меченый». (Примеч. ред.)
(обратно)22
С хрестоматийным рассказом Элис Шелдон, публиковавшейся под псевдонимом Джеймз Типтри-мл., «Неведомые женщины» читатели «Сверхновой» могли познакомиться в N 3 за этот год. (Примеч. ред.)
(обратно)23
См. главу «Судебная власть в Соединенных Штатах».
(обратно)24
В эту эпоху знаменитый Александр Гамильтон, один из наиболее влиятельных составителей конституции, не побоялся опубликовать в 71-м номере «Федералиста» следующее:
«Я знаю, что существуют люди, которым исполнительная власть может понравиться лишь в том случае, если она будет рабски потворствовать желаниям народа или законодательных органов; но мне кажется, что эти люди имеют весьма примитивное представление о цели всякого правительства, а также об истинных средствах достижения всеобщего благосостояния.
Пусть мнение народа, когда оно продуманно и зрело, определяет поведение тех, кому народ поручает ведение своих дел, — это вытекает из самого факта принятия республиканской конституции; однако республиканские принципы вовсе не требуют подчинения любым дуновениям ветерка народных страстей или поспешного повиновения любым минутным желаниям большинства, которые могут появиться под влиянием коварных действий лиц, потворствующих предрассудкам толпы с тем, чтобы затем предать ее интересы.
Это верно, что народ обычно желает добиться общественного блага. Однако в своих стремлениях он зачастую ошибается. Если бы его стали убеждать в том, что он всегда трезво оценивает те средства, которые необходимы для процветания нации, то, руководствуясь здравым смыслом, он с презрением отверг бы подобную лесть потому, что народ на собственном опыте знает, что ему иногда случалось и ошибаться. А вот чему стоит удивляться, так это тому, что он не ошибается еще чаще, непрестанно сталкиваясь с' хитростями бездельников и подхалимов, натыкаясь на ловушки, которые ему постоянно ставят множество алчных и безденежных людей; подвергаясь ежедневному обману тех, кто незаслуженно завоевал его доверие, или же тех, кто старается скорее заполучить это доверие, не будучи в состоянии заслужить его.
В том случае, когда устремления народа противоречат его истинным интересам, долгом всех тех, кого народ поставил на страже своих интересов, является борьба с заблуждениями, жертвой которых он временно стал, с тем чтобы дать ему время прийти в себя и хладнокровно оценить сложившееся положение. И уже неоднократно случалось так, что народ, спасенный таким образом от пагубных последствий его же собственных ошибок, воздвигал потом в знак благодарности памятники тем людям, у которых было достаточно благородства и мужества, чтобы вызвать недовольство своего народа, продолжая служить его истинным интересам».
(обратно)25
Так было у греков при Филиппе, когда этот царь подчинил своему влиянию Амфиктионию. Так было и в республике Нидерланды, где всегда повелевала провинция Голландия. То же в наши дни происходит и в Германском союзе, в рамках которого Австрия и Пруссия являются исполнителями решений выборного совета, от его имени господствуя над всей конфедерацией.
(обратно)26
В Швейцарском союзе так было всегда. Швейцария уже несколько столетий назад прекратила бы свое существование, если бы не раздирающие ее соседей противоречия по отношению к ней.
(обратно)27
Я не говорю здесь о конфедерации маленьких республик, а имею в виду большую крепкую республику как таковую.
(обратно)28
См. мексиканскую конституцию 1824 года.
(обратно)29
Например, конституция предоставила Союзу передачу третьим лицам права продавать незанятые земли от своего имени и в свою пользу. Я могу предположить, что Огайо потребует аналогичного права в отношении земель, находящихся на его территории, под тем предлогом, что в конституции говорится только о тех землях, которые пока еще юридически неподвластны ни одному из штатов и которые, как следствие, Союз стремится продать сам. Возникнет судебное дело, сторонами которого явятся покупатели, которые получили право собственности от Союза, и покупатели, которые приобрели это владение у штата, а не Союз и данный штат Однако если суд Соединенных Штатов решит, чтобы во владение землей вступил федеральный собственник, а суд штата Огайо будет продолжать поддерживать право на собственность своего покупателя, то что в этом случае произойдет с фантазиями законодателей?
(обратно)30
Кент. Комментарии, т. I, с. 244. Заметьте, что выбранный мною пример, который я привел выше, относится к тому времени, когда ныне действующая конституция была уже принята. Если бы я хотел вернуться в период первой конфедерации, я смог бы привести еще более убедительные факты. В то время страна была охвачена колоссальным энтузиазмом; революцию представлял чрезвычайно известный и популярный в народе человек, но вместе с тем конгресс той эпохи, по правде сказать, абсолютно ничем не располагал. Ему постоянно не хватало людей и денег, самые продуманные планы заканчивались провалом в процессе их выполнения, а сам Союз, находящийся на грани гибели, был спасен скорее из-за слабости его противников, нежели благодаря своей собственной силе.
(обратно)



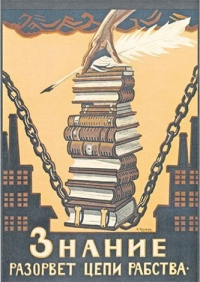

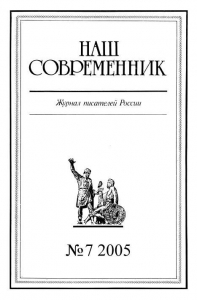
Комментарии к книге «Сверхновая американская фантастика, 1995 № 05-06», Дэвид Брин
Всего 0 комментариев