Виталий Ручинский
Возвращение Воланда
или
Новая дьяволиада
Роман
Тверь
«Россия – Великобритания»
1993
ББК 84Р6 Р 93
Редактор В. Скороденко
Оформление художника
Л. Юга
© Россия – Великобритан ISBN 5–87381.002–8
Часть первая
Глава I. Якушкин, Церберша и кое-кто еще
В восьмом часу вечера, если уж точно, в семь сорок пять, – отмечу также, что вечеру тому выпало быть в предновогодье, в последних числах декабря, – у подъезда знаменитейшего московского театра, на всю страну знаменитого и даже за ее пределами, появился молодой человек. Был он худ и долговяз. Одет в кургузую куртку из синтетической материи, на голове кроличья шапка, изрядно облезшая. Добавлю, что прикатил он не на «Жигулях» и не на такси или леваке, а сошел с троллейбуса на остановке рядом с театром.
Спектакль давно начался, и у театрального подъезда, обращенного на старинный московский бульвар, было пустынно. Публика, гужевавшаяся перед началом, рассеялась и рассосалась. Счастливые обладатели билетов дождались тех, кого поджидали: мужья жен, жены мужей, приятели, скажем так, – приятельниц. Все уже сидели в зале, на законных местах, и наслаждались, как принято было выражаться в старину, искусством Мельпомены. Точнее ее верных служителей. Ну, а представители беспокойного племени ловцов лишних билетиков, те из них, кому в тот вечер не улыбнулась фортуна, разбрелись, проклиная собственное невезенье. Разъехались по домам смотреть телевизор или еще куда двинули. Увы, автор не может дать подробную справку, куда деваются после начала спектакля незадачливые ловцы лишних билетиков.
Легко вбежав на ступени театрального подъезда, молодой человек в кроличьей шапке (пока мы так его обозначим) первым делом посмотрел на свои наручные часы. Затем сверил их с часами на фонарном столбе. Но ему и этого показалось недостаточно: он и у случайного прохожего поинтересовался, который час. Показания сходились с точностью до минуты.
Надежно определив себя не только в пространстве, но и во времени, молодой человек в кроличьей шапке неторопливо двинулся вдоль фасада и принялся разглядывать стеклянные витрины с фотографиями артистов в ролях текущего репертуара и отдельных сцен из спектаклей. Заметно было, что разглядывание производится им без особого интереса. Остается предположить, что за таким занятием молодой человек просто убивал время. Несколько раз он снова поглядывал на часы: на свои наручные, не упускал из виду и фонарных.
Среди витрин была одна, посвященная спектаклю на революционную тему. Главным его действующим лицом был, конечно, Ильич. Когда молодой человек перешел к этой витрине, чей-то голос за его спиной вполне явственно произнес:
– Нечего сказать, театр! Постыдились бы играть такие бездарные пьесы!
В зеркальном стекле отразилась ощеренная кошачья морда.
Молодой человек в изумлении обернулся и не обнаружил у себя за спиной никакого кота. Тем не менее кот был! Неправдоподобно крупный, можно сказать, матерый котище черной масти неторопливо и степенно спустился по ступенькам на тротуар, пересек проезжую часть бульвара и исчез в сумраке среди деревьев.
Сдвинув на лоб шапку, молодой человек почесал затылок. Не найдя разумного объяснения коту, он обратился к следующей витрине, посвященной гоголевскому «Ревизору».
Без пяти минут восемь молодой человек круто развернулся и теперь уже, отнюдь не фланируя, а с чрезвычайно озабоченным видом стал огибать театральное здание, по странному замыслу архитектора сильно смахивающее на амбар для хранения сельскохозяйственной продукции. Он зашел на «амбар» с тыла и остановился перед дверью, над которой молочно светилась узенькая стеклянная табличка с надписью «Служебный вход». Здесь молодой человек шумно выдохнул из себя воздух, набрал вновь в легкие до упора –так поступают купальщики перед тем, как войти в воду, – и потянул на себя тяжелую дверь.
Слева от входа, в особой будке, частично застекленной, а частично обитой фанерой, впрочем, крашенной, сидела женщина в накинутом на плечи пальто. Она читала книжку, водила пальцем по строчкам, губы ее беззвучно шевелились. Войдя, молодой человек осторожно кашлянул, стараясь привлечь внимание к своей персоне. Женщина медленно оторвалась от чтения. Отметила нужную строку пальцем, погрузила в пришельца вопрошающий взгляд и недружелюбно произнесла:
– Вам чего?
– Мне Сутеневский назначил, Аркадий Михайлович, – отвечал молодой человек.
– А как ваша фамилия?
– Якушкин.
– Вы драматург, что ли? – Женщина в будке наморщила нос, показывая своим видом, что занятие драматургией лично она никак не одобряет. Взамен четкого ответа молодой человек лишь развел руками, что могло означать и «да» и «нет». Женщина-страж эту неопределенность тоже не одобрила, недовольно покрутила головою. Затем отвела взгляд в сторону и несколько раз повторила: «Якушкин, Якушкин...». От повторения, как ни странно, наступило прояснение. Она полезла в обшарпанный письменный стол, непонятно каким образом втиснутый в будку, порылась в ящике и достала картонную папку оранжевого цвета с завязками.
– Ваша?
Молодой человек, которого мы теперь с полной ответственностью можем называть Якушкиным, успел окрестить про себя женщину в будке Цербершею. Он имел обыкновение давать клички различным людям, с которыми его сталкивала судьба. Впрочем, клички эти он никогда не обнародывал, да и были они не такими уж обидными.
– Моя, – отвечал Якушкин, и в голосе его впервые прозвучали нотки растерянности.
– Ну, так забирайте.
Но молодой человек вместо того, чтобы проявить к своей папке хоть какой-то интерес, спросил, где Сутеневский. Объяснил, что уславливались с ним на восемь часов.
– Сутеневский ушел, – твердо и уверенно отвечала Церберша. – С полчаса как. Попрощался и ушел.
Тут с Якушкиным случилось нечто. Он вытаращил на Цербершу глаза, сцепил опущенные руки и задал совсем уж глупый, если не бестактный вопрос:
– А куда?
– Что куда? – удивилась Церберша.
– Я спрашиваю: куда ушел Аркадий Михайлович?
– А он мне не докладывает.
– Да нет! – стал оправдываться Якушкин. – Вы меня не так поняли. Я к тому, что, может, он вышедши? Может, по какой надобности, а после вернется?
– По какой это еще надобности? – возвысила голос Церберша. – Ушел он, и все. А вам наказывал передать...
И она просунула оранжевую папку в полукруглое окошечко, изогнув ее, иначе бы папка не пролезла. Якушкину ничего другого не оставалось, как ее принять. Принять-то он принял, но повел себя при этом странно. Можно сказать, непоследовательно и даже противоречиво. Сунул папку под мышку. Затем отвесил Церберше явно шутовской поклон. Пробормотал: «Как же так?»... Напоследок с силой лягнул входную дверь ногой и вышел. Церберша некоторое время глядела ему вслед, а затем возвратилась к чтению.
К Якушкину, к тому, что приключилось с ним в этот вечер, мы еще вернемся. Сейчас же давайте понаблюдаем, что произошло на служебном входе спустя каких-нибудь четверть часа. На первый взгляд, ничего существенного.
Из недр театральных помещений и различных служб по пустынному коридору вышли на служебный вход двое. Один из них был низенького роста, в очках, с закинутой назад головою, словно от такого ношения головы он старался казаться повыше. На нем также была синтетическая куртка, но совсем иного рода, чем на Якушкине. Даже не куртка, а модное стеганое полупальто, со множеством затейливых прострочек и застежек на «молниях». Его спутник, наоборот, был высокого роста, отменных статей. А уж одет был не в какую-нибудь синтетику, которая, хоть и модные простежки, но все ж синтетика, – а в добротную дубленку редкостного апельсинового цвета. Но что характерно, на ногах у обоих были абсолютно одинаковые элегантные боты из непромокаемого материала, легкие, прочные и теплые. Да простит меня читатель за подробности в описании одежды моих героев! Но я прошу верить, что сведения этого рода окажутся в недалеком будущем не только полезными, но даже необходимыми для понимания хода событий.
Низкорослого звали Аркадием Михайловичем Сутеневским и пребывал он в театре в должности завлита, или, официально, помощником главного режиссера по литературной части. И если верить Церберше, никак не мог он быть в данный момент в театре. Скорее уж дома, ужинать в кругу семьи или, скажем, проверять дневник у сына-школьника. И тем не менее!..
Ну а того, что был высокого роста и отменных статей, если бы вы где-то встретили, то безусловно узнали. Фамилия его Урванцев, состоял он, да и сейчас состоит политическим обозревателем на телевидении, регулярно появляется на телеэкранах с репортажами из различных точек земного шара.
На подходе к Церберше между завлитом и политическим обозревателем велся такой разговор.
– Экспозиция у тебя, Паша, явно затянута, – говорил Сутеневский своему спутнику. – Наш дурак...– Тут он оглянулся и проверил, не подслушивает ли кто? – Наш дурак любит энергичное начало, чтобы рвануть с места в карьер.
– А как же Антон Павлович? – возражал Урванцев.
– При чем тут Антон Павлович? Тогда другое время было. Тогда, брат, на извозчиках в театр ездили.
Проницательный читатель уже догадался, что речь шла о пьесе, которую написал Урванцев. Редко кто из политических обозревателей не пишет нынче пьес.
Когда собеседники достигли Церберши, та поднялась со стула и поманила к себе пальцем Сутеневского.
– Якушкин приходил, – сообщила она заговорщическим шепотом.
– Какой Якушкин? Декабрист? Друг Александра Сергеича? – Шутки Сутеневского обычно были либо литературного, либо театрального свойства.
– Да нет, драматург.
– Вечно вы меня пугаете, Марья Андреевна! Да еще на ночь глядя. Таких драматургов нет. Вот драматург! – И Сутеневский указал на Урванцева. Тот улыбнулся Церберше, не разжимая губ.
Но Церберша стояла на своем.
– Ну как же! Вы еще наказывали вернуть ему папку... Такой худой...
– Ах, этот! – воскликнул Сутеневский и легонько хлопнул себя ладошкой по лбу, то ли притворно, то ли взаправду, кляня свою забывчивость. – Ну и что ж, что приходил? Все к нам приходят.
– Я отдала ему папку.
– Отлично! Благодарю вас от имени и по поручению...
С этими словами Сутеневский пропустил вперед Урванцева, и оба вышли на улицу. Когда они огибали «амбар», выходя к фасаду, Урванцев поинтересовался, кто такой Якушкин.
– Да графоман один. Житья от них нет. Несут и несут пьесы. А я по доброте душевной читаю. Говорю им после всякие разные слова. Зачем – непонятно. Мне молоко следует выдавать, как химикам, за повышенную вредность
– Я похлопочу, – пообещал Урванцев.– Вернемся, однако, к нашим баранам...
И он спросил, что все-таки надлежит делать с его пьесой. Сутеневский отвечал, что ничего не делать. Надо выждать момент, когда «наш дурак»... (так завлит аттестовал главного режиссера)... будет в настроении, и подсунуть ему для прочтения. Урванцев согласно кивал головой. Но спросил, не будет ли пользительно, если главному режиссеру кто-нибудь позвонит. Назвал несколько фамилий достаточно высокого начальства. Сутеневский отвечал, что звонки только разъярят главного режиссера и вызовут негативную реакцию – в последнее время он возомнил себя пупом Земли, ни с чьим мнением не считается, а если уж кого и слушает, то только его, Сутеневского.
Они вышли на бульвар, пересекли проезжую часть. Стали с поднятыми руками у края тротуара, принялись ловить такси или, на худой конец, левака.
– А может, устроить дружескую встречу? – не отставал Урванцев. – В ресторации или на холостяцкой квартире. В непринужденной обстановке, за бокалом вина, и поднять вопрос...
Сутеневский объяснил, что все эти дружеские встречи, и даже с приглашением дам, ровным счетом ничего не стоят и ни к чему путному не приводят. Главный напивается в первые пятнадцать минут, а на следующий день ни за что не вспомнит, где был, с кем, кто поставил угощение и напитки. Остается одно – запастись терпением, доверившись во всем ему.
Мимо проносились такси, но все с пассажирами. С зелеными огоньками ни одного. Да и леваки в последнее время стали жутко капризны.
– Обидно, что тема пьесы, что называется, с пылу, с жару, – продолжал гнуть свою линию Урванцев. – Там, за океаном, идет страшная борьба – поддерживать нашу перестройку или нет. Представляешь, как это может прозвучать, срывание всяческих масок!..
Он взмахнул рукою, показал, как он срывает маски, и неловко задел Сутеневского. Завлит отшатнулся и чуть не упал, но Урванцев вовремя его подхватил. Оба рассмеялись.
– Как обувка? – неожиданно спросил Урванцев, кивнув на боты Сутеневского.
– Не говори! – отвечал тот. – Какое-то чудо. Главное, ни у кого в Москве таких нет. – Да я и сам, сколько ни езжу, не встречал...
Сутеневский рассказал, как народный артист республики Петрищев, завидя на Сутеневском необыкновенные боты, аж затрясся от зависти. Предлагал отстегнуть за них любую сумму, но Аркадий Михайлович на торговую сделку не пошел, отчего Петрищев впал в полное уныние.
– Отдал бы, – добродушно обронил Урванцев.– Я тебе еще приволоку. Руководство по-новой собирается в заграницу, поеду освещать визит.
По-прежнему никак не удавалось схватить машину. Один левак, правда, остановился, но, узнав, что ехать совсем близко, на улицу Герцена в Дом литераторов и разговор всего лишь о трешке, захлопнул в гневе дверь и укатил.
– А может, как в старые добрые времена? – От обсуждения достоинств импортной обуви Урванцев вернулся к прежней теме, к драматургической. Дабы расшифровать новую свою идею, он развернул в воздухе правую ладонь, затянутую в кожаную перчатку, а левую уточкой, по касательной, под нее подсунул. Сутеневский наблюдал за манипуляциями политического обозревателя поверх очков.
– Наш дурак не берет, – глухо произнес он, догадавшись, что предлагает Урванцев. – И добавил: – По крайней мере, у тебя не возьмет.
На том разговор прервался. Затормозил еще один левак. После уговоров и повышения ставки до пяти рублей он согласился везти Сутеневского с Урванцевым в Дом литераторов, куда они отправлялись «по предварительному соглашению», как было это позже зафиксировано в милицейском протоколе, отужинать в тамошнем ресторане. Придет время, мы к ним вернемся...
Глава 2 Мои советчики (авторская ремарка)
Я закончил первую главу. С ходу написал еще две, целиком посвященные биографии Якушкина. (При окончательной правке романа они вылетели). И тут меня взяло сомнение, стоит ли продолжать? Те участки головного мозга, что ведают воображением, тотчас выдали образ путника в запыленном платье у подножья высокой горы. Жуткое по своей банальности слово «путник» заставило меня содрогнуться. Но, кроме шуток, никогда прежде я не писал романов, чтобы из отдельных глав. Одни лишь короткие рассказы.
В затруднительных ситуациях советуются. У меня водилось двое приятелей, причастных к литературе. Один из них, как и я, писал короткие юмористические рассказы и с гораздо большей, чем я, ловкостью пристраивал их в журналах и газетах, где имелись отделы сатиры и юмора. В отличие от меня, научного сотрудника в НИИ химического профиля, он нигде не работал. Прожить на мизерные гонорары было невозможно, и он подрядился выступать с чтением своих произведений в разных аудиториях. Путевки на выступления ему давали в каком-то «Бюро по пропаганде литературы». Однажды он уговорил меня съездить вместе с ним. Не для того, чтобы тоже выступить, а поглядеть, как на деле выглядит эта самая «пропаганда».
Отведав прелестей во всех, без исключения, видах городского транспорта, мы добрались до некоего ЖЭКа, в двух шагах от кольцевой дороги. Нас встретила женщина в ватнике и шляпе из ядовито-зеленых синтетических перьев, остроносенькая, с лицом, напоминающим собаку породы «колли». Она провела нас в полуподвальное помещение, именуемое «красным уголком», и сказала, что народ сейчас соберется.
Пришли в основном пенсионеры, женщин поболее, чем мужчин. Мы сидели вместе с распорядительницей в ватнике за столиком в торце помещения. Она вела подсчет, сколько пришло народу. Когда набралось десятка полтора, встала и объявила, что к ним приехал известный писатель, чтобы ознакомить общественность ЖЭКа со своим замечательным творчеством. Мой приятель встал, отвесил на три стороны поклоны, чем сорвал аплодисменты.
Началось чтение. Читал он свои рассказы совсем неплохо. Я обнаружил у него актерские способности. В диалогах он менял голос, изображая то подвыпившего сантехника, то хамку-продавщицу – любимые мишени советской сатиры. Несколько раз я рассмеялся. Что касается публики, то ни на одном лице я не обнаружил даже подобия улыбки. У всех без исключения лица были мрачные и насупленные. Впрочем, по прочтении каждого рассказа раздавались вежливые аплодисменты.
Неожиданно откуда-то сверху раздался детский крик: «Сдавайтесь!». По лестнице ссыпался вниз малыш лет шести. Он держал за палку металлическую бабочку на колесиках. Есть такая игрушка. Когда ее катят, бабочка хлопает крылышками. Малыш принялся катать по полу свою каталку, бабочка хлопала крылышками, а малыш продолжал кричать «Сдавайтесь!» и еще «Ура!». Какой- то бабусе удалось схватить маленького бузотера. Она разложила его у себя на коленях и несколько раз шлепнула его по попке, приговаривая: «Неслух какой!».
Малыш не снес обиды и громко заревел. С пропагандой литературы на этом было покончено. Среди публики нашлась родная бабуся малыша с каталкой, а отшлепала его, оказывается, совсем чужая. Между ними завязалась перепалка. Аудитория разделилась на два лагеря. Одни оправдывали чужую бабусю, другие считали, что она не имела никакого права прикасаться к чужому внучку. Распорядительница в ватнике пыталась восстановить тишину и порядок. Когда она поняла, что это ей не удастся, она провозгласила средь шума и гвалта: «А теперь поблагодарим докладчика!». Раздались два-три хлопка, и мы с приятелем удалились.
На обратном пути я выразил ему сочувствие по поводу досадного инцидента. На что он ответил, что это чепуха, с ним еще и не такое случалось. Главное, путевка будет оплачена, а деньги не пахнут, как мудро заметил еще древнеримский император Веспасиан, введя налог на общественные уборные.
Другим моим приятелем был мой коллега, научный работник. Никаких поползновений к сочинительству за ним не числилось, но интерес к литературе у него был прямо-таки сверхъестественный. Он читал подряд все толстые журналы, не говоря уж о «Литературке». Его суждения о литературных новинках всегда были полярные: либо «гениально», либо «мура».
Вот этих двух людей я позвал однажды вечером к себе в гости. Выставил добытую с трудом бутылку портвейна и приступил к чтению готовых глав из романа. К исходу чтения у меня сел голос, и заканчивал я уже на сипе.
Наступило молчание. Юморист-сатирик опрокинул рюмку портвейна, исполнил костяшками пальцев на столе несколько бреков и произнес: «М-да». Научный работник уставился в окно, за которым успел припустить дождик.
– Булгаковым попахивает, Михаилом Афанасьевичем, – произнес со вздохом юморист-сатирик.
– А я что говорю! – встрепенулся научный работник.
Я покраснел, будто меня уличили в краже чайных ложечек на званом обеде. Стал оправдываться. Сказал, что чту Михаила Афанасьевича как отца родного, что никогда бы не посмел...
– Стиль, старик, его стиль! – оборвал меня юморист-сатирик. (Сам он, на мой взгляд, подражал Зощенко.)
– Стиль-утиль, – сострил научный работник.
– Насчет Булгакова ты не нам будешь доказывать, а критикам, – строго заметил юморист-сатирик.
– Разнесут за милую душу! – поддакнул научный работник.
Я ответил, что было бы даже неплохо, если б и разнесли. Это означало бы, что роман напечатан. Юморист- сатирик замахал на меня руками: ни о каком напечатании и речи быть не может. С плотницким умением и сноровкой он принялся вколачивать по шляпку критические гвозди в мое еще не рожденное детище. Но тут...
В какой-то момент словно выключили звук в телевизоре. Мои гости продолжали еще что-то говорить, перебивали в критическом раже друг друга, но их слова мною уже не воспринимались. В моем воображении в который раз возникла старинная карета, запряженная шестеркой серых, в яблоках, лошадей. С кучером в треуголке и неграми-лакеями на запятках. Я пока не имел достаточно четкого представления, откуда она взялась и кто в ней путешествует. И какое место в моем романе уготовлено ее пассажирам. Но я знал теперь наверняка – я буду сочинять роман!
–...Ты понял? – ворвался в мои слух возбужденный голос юмориста-сатирика.
– А я что говорю! – в который раз поддакнул научный работник.
Этому пора было положить конец. Я взглянул на часы и сказал, что сейчас по телевизору начнется футбол. Литературные прения тотчас закончились. Оба моих приятеля были футбольными болельщиками. Мы прикончили бутылку портвейна. Я включил телевизор, и мы начали смотреть футбол.
Если тебе, читатель придет на ум заняться сочинительством, даю совет: никогда не показывай начатое и незаконченное произведение своим приятелям. Прежде поставь последнюю точку.
Глава 3. Иван Степанович Перетятько и старинная карета
Двумя годами раньше – я имею в виду неудачный визит молодого человека по фамилии Якушкин в театр, к завлиту Сутеневскому – морозной декабрьской ночью катила по Минскому шоссе в направлении центра Москвы старинная карета.
Инспектор ГАИ, старший лейтенант Перетятько Иван Степанович, дежурил на ответственном посту у Триумфальной арки. Нес нелегкую свою службу в стеклянной будке с электрическим обогревом. Без четверти три он вылез наружу, спустился по лестничке, имея намерение несколько размяться. Одет он был достаточно тепло, в нагольном овчинном тулупе, подпоясанном белыми ремнями с портупеей, в валенках с галошами. Уши у шапки опущены, что не возбранялось начальством в морозный период времени.
Иван Степанович прохаживался взад-вперед, постукивая милицейским жезлом по валенку, и размышлял как о приятном, так и о не слишком приятном. Например, о том, что жена его Валентина, буфетчица столовой № 179 Краснопресненского райпищеторга, в последнее время слишком много взяла себе воли. А он, Иван Степанович, не проявляет той твердости и решительности, которые ему свойственны по отношению к нарушителям правил уличного движения. В обычае Валентины стало возвращаться домой с работы в полночь-заполночь. Да и спиртным от нее частенько попахивает. А когда Иван Степанович деликатно намекает, что не дело это, она нахально отвечает: не нравится – скатертью дорога, пусть выметается и попробует потом жить на вшивую свою зарплату. Замечу, что честности Иван Степанович был просто беспримерной, взяток с нарушителей не брал, как некоторые другие недобросовестные инспектора ГАИ. Валентина рекомендовала ему держаться за нее обеими руками и не задавать неуместных вопросов–где была, почему припозднилась? Не нервировать ее упреками, якобы свела она дружбу с зеленым змием. Взамен спокойно потреблять принесенные ею из столовой съестные припасы, включая сырокопченый сервелат. Помимо аллегорической дружбы с зеленым змием тревожила Ивана Степановича и вполне реальная дружба Валентины, а также контакты с директором столовой № 179 Липкиндом, нахальным евреем с золотыми зубами. Однажды вечером засек их с Валентиной Иван Степанович в «Жигулях» шестой модели, которые мчались, и, между прочим, с превышением скорости, в направлении жилого массива Фили-Мазилово. Спрашивается, зачем, с какой целью, ехать туда легкомысленной Валентине в столь поздний час? Когда он попросил у нее объяснений, она сказала, что Иван Степанович, наверное, обознался. Но разве мог он обознаться? Он, беспрерывный отличник патрульной службы?..
За этими невеселыми думами Иван Степанович заметил карету, когда та была от него уже метрах в десяти. Сработал условный рефлекс. А еще вспомнились мудрые наставления командира отряда майора Громова. «Видишь подозрительное транспортное средство – ваше решение?» – спрашивал он своих подчиненных на теоретических занятиях. И сам отвечал: «Решение одно – перво-наперво останови! Для этого вам, товарищи, выданы жезлы»...
Короче, Иван Степанович вскинул вверх жезл. Кучер тотчас натянул поводья, и лошади послушно встали. Продолжая следовать советам капитана Громова, Иван Степанович обошел вокруг странное транспортное средство. Подивился на кучера в треугольной шляпе. У него, между прочим, что-то не было видно никакого лица. Нет, одежда на кучере была, причем довольно странного фасона – кафтан, белые чулки. А вот лица не было. Треуголка как бы висела в воздухе и ничего не прикрывала от холода. Лакеи же на запятках, наоборот, были с лицами. При ближайшем рассмотрении они оказались неграми и весело скалились. Другой бы на месте Ивана Степановича обязательно растерялся, помянул нечистую силу, но он, как вы уже поняли, был человеком мужественным.
– Куда следуем? – спросил он у «обезличенного», так сказать, кучера.
Тот указал кнутовищем на дверцу кареты. Там, мол, выясняйте.
Иван Степанович подошел к левой дверце, подергал, постучался жезлом. Дверца отворилась... Чтобы не затягивать повествование, предоставим лучше слово самому Ивану Степановичу. Ко мне попал любопытный документ, протокол допроса, произведенного спустя пару дней следователем с Петровки. Вот он.
«Протокол допроса.
Я, старший лейтенант ГАИ Московского управления МВД СССР Перетятько И. С. ... (далее следует место и год рождения; национальность и прочие сведения)... 27 декабря 19... года, в ноль часов ноль-ноль минут заступил на дежурство на посту № 17, согласно графику. До 2 час. 56 мин. дежурство протекало без происшествий. За превышение скорости мною был оштрафован гр. Лиханов А. Г. в «Жигулях» пятой модели, цвет «коррида», за номером МТБ 88-47. В 2 час. 56 мин. я увидел карету, которая следовала к центру города... (Здесь следует описание кареты, вопрос, заданный кучеру)... Дверца отворилась, и я увидел человека в берете, с тростью, имеющей набалдашник в виде собачьей головы. Я попросил его предъявить документы и попутно задал вопрос: на каком это основании он разъезжает по Москве на гужевом транспорте, кто дал разрешение? Человек ничего мне не ответил. Зато ответил черный кот огромного роста, находившийся при нем. Кот повел себя агрессивно. Громко шипел и сказал мне: «Брысь отсюда!» Из чего я заключил, что это не кот, а переодетый котом бандит. И потом, что значит «брысь»? Это я имел полное право сказать ему «брысь». Я почувствовал, что теряю сознание, и ничего больше по существу дела показать не могу. Записано с моих слов, изменений и вставок нет.
И. С. Перетятько».
Впоследствии было установлено, что Иван Степанович, упавши на асфальт, сильно ударился затылком
Врачом 54-й больницы, куда он был доставлен, было зафиксировано сотрясение мозга в легкой форме
Видел я еще один документ рапорт, составленный лейтенантом милиции Козликовым. Тот прибыл на место происшествия через двадцать минут. Пока Иван Степанович в беспамятстве валялся на мерзлом асфальте, к нему в будку звонил уже известный майор Громов Он хотел напомнить насчет послезавтрашней политучебы, где Иван Степанович должен был сделать доклад на тему: «Империалистическое окружение и роль советской милиции». Телефон в будке не отвечал, и тогда майор Громов приказал лейтенанту Козликову слетать на милицейских «Жигулях» и выяснить, что там, наконец, с Перетятькой, почему не берет трубку?
Первым делом Козликов удостоверился, что Иван Степанович живой. Он позвонил из будки майору Громову и доложил обстановку. Вызвали «Скорую помощь». Пока она ехала, Иван Степанович очнулся и попытался рассказать Козликову про карету, кучера без лица и прочую чертовщину, включая говорящего кота Понятное дело, все услышанное Козликов воспринял как бред. Но зафиксировал в своем рапорте.
Врачи в больнице, куда доставили Ивана Степановича, недолго сражались за его жизнь. В хорошем смысле– недолго. Могучий организм, не ведавший пагубных воздействий алкоголя и никотина, взял свое, и старший лейтенант быстро пошел на поправку. Но причина инцидента оставалась загадкой. Тут еще подоспел козликовский рапорт, где упоминалась карета со странными пассажирами и не менее странным обслуживающим персоналом. Подключились следственные органы. На Петровке было заведено уголовное дело: «О покушении на жизнь и здоровье ст. лейтенанта ГАИ Перетятько И. С.»
Следователь посетил Ивана Степановича в больнице, когда тот завтракал яствами, принесенными женой Валентиной, запивая их жидким больничным чаем. Отвечая на заданные вопросы, он настаивал на карете, запряженной шестеркой лошадей, что и нашло свое отражение в протоколе допроса. Делать нечего, всерьез принялись разрабатывать карету. Что за карета? Откуда взялась?..
Родилось несколько хитроумнейших версий. Первая – карета могла быть похищена с киностудии «Мосфильм». Тем более, что «Мосфильм» совсем неподалеку. На этих киностудиях чего только нет? Версия частично подтвердилась. На «Мосфильме» как раз снимали картину об императрице Елизавете Петровне, в связи с чем было изготовлено несколько экипажей XVIII века. Увы, тщательное расследование, с допросами охраны киностудии и всех без исключения членов съемочной группы, не выявило решительно никаких улик. Главное, в ту ночь на «Мосфильме» не было лошадей. Их доставляли на съемки с подмосковного конного завода и тут же, в целях сохранности животных, увозили назад. Так подозрение, павшее на киношников, было пока оставлено.
На первый взгляд, странно, что следствие уперлось в одну лишь карету и полностью проигнорировало пассажира в берете и с тростью, а также бандита, переодетого черным котом. И уж, конечно, никто не допускал и мысли, что последний мог быть никаким не бандитом, а просто говорящим котом. В диалектический материализм говорящие коты любой масти не вписываются. А следователи, как вы сами понимаете, исповедовали эту, и только эту всепобеждающую теорию.
Еще одна «каретная» версия была связана с гипнозом. Психиатры, к которым обратились за консультацией, охотно ее поддержали. Вообразите такой сюжет. Перетятько останавливает обыкновенную легковушку, «Жигули» или, скажем, «Волгу», за нарушение правил уличного движения. А за рулем – гипнотизер! Что ему стоит внушить Ивану Степановичу, с целью избежать наказания, будто он едет не в автомобиле, а в старинной карете? На инспектора ГАИ гипноз производит столь сильное впечатление, что он теряет сознание, падает на проезжую часть и ударяется затылком об асфальт. А подлый гипнотизер безнаказанно уезжает.
Версия подкрепилась вот каким подозрительным фактом. Той же ночью, в 2 час. 58 мин. (обратите внимание: с разницей в две минуты!), другим постом ГАИ, у дома № 19 по Кутузовскому проспекту, была остановлена для проверки документов «Волга», принадлежащая заслуженному артисту республики, баянисту-виртуозу Чуваеву. Снеслись с КГБ, подняли чуваевское досье – и, о чудо! Оказывается, баянист-виртуоз приобрел определенную известность еще и как экстрасенс. Простым наложением руки не раз снимал у друзей и знакомых головную боль, излечивал их от насморка и других болезней. Хватились Чуваева, хотели его привлечь, а он, подлец, улетел в очередное концертное турне за границу. На этот раз по странам Африканского континента. Тут возникли и мотивы международного характера: наркобизнес и махинации с валютой! Обыкновенная вещь, Чуваев вез наркотики или же чемоданчик с валютою, а тут Перетятько – что везете? Что это у вас в чемоданчике?.. Чуваеву ничего другого и не оставалось, как его загипнотизировать. Аналогичные случаи имели место. Правда, не у нас, а за рубежом.
Сгоряча хотели немедленно возвратить баяниста-виртуоза на Родину, чтобы допросить с пристрастием. Но остереглись. За преждевременное прекращение гастролей и разрыв контракта пришлось бы выплачивать из государственной казны приличную неустойку.
За Чуваевым в Африке, помимо обычного наблюдения, было установлено еще и дополнительное, усиленное. Но оно мало чего дало. Что с того, если засекли его, когда он на рынке в городе Лусака обменивал пару электроутюгов отечественного производства на бусы из каких-то сомнительных камней? А позже, в республике Заир, толкнул стюарду из отеля фотоаппарат «Зенит». Да и какой советский человек, оказавшись в Африке или в Азии, не занимается мелкими коммерческими операциями, известными под названием «чейндж»?
По возвращении Чуваева вызвали на Петровку. Добивались, чтобы он признался, куда и откуда ехал той ночью. Куда – Чуваев ответил: естественно, домой, на проспект Мира. А вот откуда, отказался отвечать наотрез. Тогда ему прозрачно намекнули, что за неправильное поведение недолго и шлагбаум за кордон опустить. Мало того, что останется он без валютных заработков, еще неизвестно, станет ли рваться на его концерты население того же Мелитополя или Йошкар-Олы. По душе ли придется соотечественникам исполнение на электронном баяне произведений Баха или Соловьева-Седого, включая песню «Не слышны в саду даже шорохи»? В одном африканском королевстве она произвела настолько сильное впечатление, что ее даже хотели утвердить в качестве национального гимна.
Трудно сказать, чего больше испугался Чуваев: пониженного сервиса отечественных отелей, зарплаты исключительно в «деревянных» или безнадежной конкуренции с рок-группами, которые успели заполонить страну. Но только признался он, что был тем злополучным вечером в гостях у гражданки Лызловой Нонны Парфеновны, манекенщицы Центрального Дома моделей, проживающей в жилом массиве Матвеевское. Чуваев умолил сохранить его показания в строгой конфиденции. Он был женат, причем на генеральской дочке. Жена, равно и тесть, боевой генерал, навряд ли одобрили бы его странный визит к манекенщице.
Тотчас было добыто досье на гражданку Лызлову Н. П., урожденную Вострикову, 23 лет от роду, русскую, разведенную. В среде московской творческой интеллигенции, а также в коммерческих кругах она была известна под кличкой «Нонка-дай-дай» за неуемную страсть к дорогим подаркам. Но вот какая штука, если иметь в виду международные мотивы в покушении на Перетятько: в контактах с иностранцами Нонка ни разу не была засвечена. Наоборот, слыла истинно русской патриоткой. К путанкам относилась с глубоким презрением. К тому же была истово верующей.
Одно обстоятельство заставило, правда, насторожиться. В свободное от основной работы и иных занятий время Нонка увлекалась верховой ездой. Регулярно посещала Битцевскую конно-спортивную базу. Казалось, свяжи эту ниточку с той, что протянулась от «Мосфильма», где, напоминаю, имелись старинные экипажи, и карета, запряженная шестеркой лошадей, приобретет вполне реальные очертания. И безо всякого уже гипноза. Но судьба распорядилась иначе...
В одной среднеазиатской республике вскрылись жуткие злоупотребления среди должностных лиц самого высокого ранга: взятки, приписки, миллионные хищения. Дело разрасталось, словно масляное пятно на платье, если попытаться вытирать его мокрой тряпкой. Из Москвы, из прочих городов выехало туда множество следователей, но их все равно не хватало. Стали собирать, что называется, по сусекам. В какой-то момент из союзной прокуратуры раздался грозный окрик: чем это вы, оболтусы, занимаетесь? Что за мифическая карета? Ну, шмякнулся об асфальт темечком работник ГАИ, наплел после небылиц. Разве в этом первоочередная наша задача? В считанные часы следователи, ведущие дело «О покушении на жизнь и здоровье ст. лейтенанта ГАИ Перетятько И. С.», были заброшены в Среднюю Азию специальным авиарейсом, а само дело велено было сдать в архив.
На этом можно было бы поставить точку. Но я обязан рассказать, что произошло дальше с Иваном Степановичем, как дальше сложилась его жизнь.
В больнице он провалялся неделю, а затем продолжил службу в родном Четвертом отряде ГАИ. Товарищи по службе, жена Валентина поначалу не заметили особых изменений в его поведении. А изменения были, и весьма существенные.
В первый же день после выписки из больницы Иван Степанович заскочил между делом в магазин канцелярских товаров и купил толстую тетрадь в клеенчатой обложке. Возвратившись домой с дежурства, он теперь в любой час уединялся на кухне и что-то подолгу писал в этой тетради. Я не стану дальше интриговать читателя – Иван Степанович занялся… да-да! Вы угадали – сочинительством!
Один за другим, без передыху, сочинял он рассказы из милицейской жизни. О нелегкой доле автоинспектора, о хитрых проделках нарушителей правил уличного движения, пытающихся избежать справедливого возмездия. Главным, то есть сквозным героем всех его рассказов был старший лейтенант Смелов. Впоследствии Иван Степанович без ложной скромности признался, что прообразом Смелова был он сам.
Тетрадь была исписана от корки до корки. Иван Степанович приобрел другую и ее спустя некоторое время прикончил. А там и третью. Всего он написал 38 рассказов. Совсем как молодой Хемингуэй. Забегая вперед, скажу, что литературные критики придавали этому обстоятельству, то есть совпадению чисел, немаловажное значение. Итак, родился цикл рассказов с одним и тем же героем. Недолго помучившись, Иван Степанович дал ему название «Записки постового».
То, что произошло дальше, может вызвать законное недоверие к автору. Не к Ивану Степановичу, а к автору романа. Но я клянусь честью, все это чистая правда и ничего, кроме правды!
Иван Степанович привык придерживаться субординации. Свои тетради он отдал не в какую-нибудь литконсультацию или в журнал, а майору Громову. Майор прочитал, и довольно скоро. Сказал, что рассказы лично ему понравились. По поводу некоторых эпизодов, связанных с задержанием нарушителей, он пришел в полный восторг – до того правдиво и, главное, жизненно отражено. Тетрадок он не вернул, а заручившись согласием Ивана Степановича, отвез их в Управление ГАИ некоему безымянному полковнику. Спросите, зачем? А чтобы продемонстрировать, насколько хорошо поставлена в его подразделении воспитательная работа с людьми, какие талантливые и высокообразованные кадры он, майор Громов, растит.
Что долго размазывать? Тем же макаром тетрадки поднимались все выше и достигли генерала, который командовал не только автоинспекцией, но и всею столичной милицией. Генерал, как человек страшно занятой, не стал разбираться с тетрадками, а швырнул их, как и любую другую входящую корреспонденцию, своему помощнику.
И надо же так случиться! Буквально теми же днями состоялась давно запланированная встреча генерала со столичными писателями, в уже упомянутом Доме литераторов. На этой встрече писатели приставали к генералу с малоприятными вопросами: о небывалом размахе квартирных краж, об участившихся угонах автомобилей, о жутких махинациях в столичной торговле. Повторялась ставшая сакраментальной фраза: куда только смотрит милиция?
Генерал стойко оборонялся, ссылался на объективные факторы. Но и в контратаки ходил. Выговаривал художникам слова за то, что слабо еще освещают они героические будни милиции, не способствуют поднятию ее авторитета. В ответ какой-то нахальный публицист высказался явно не по делу. По его мнению, не такие уж они и героические, эти милицейские будни. Коррупции и вопиющих злоупотреблений тоже хватает. В пример привел расхожую историйку о том, как одного водителя остановил автоинспектор и попросил подвезти. Выходя из машины, автоинспектор забыл в ней свою крагу. Каково же было удивление водителя, когда он обнаружил, что крага набита трешками, пятерками и даже десятками. Откуда они, не загадка. Автоинспектор взымал дань с нарушителей в свою пользу.
В зале порскнул смешок, и заявление генерала о том, что в милицейском корпусе каленым железом выжигается всякая коррупция, не возымело должного эффекта.
Когда не успевший остыть от гнева и возмущения генерал вернулся в свое управление, к нему зашел помощник. Он доложил, что ознакомился с рукописью старшего лейтенанта Перетятько и самого высокого о ней мнения. До генерала не сразу дошло, о чем, собственно, речь. Когда же наконец дошло, он радостно воскликнул: «Вот это нам как раз и нужно!». И повелел соединить себя с секретарем писательского союза. С тем самым секретарем, который также имел генеральский чин, но только не носил погонов, поскольку занимал должность по линии изящной словесности.
Милицейский генерал не без сарказма сообщил писательскому генералу-секретарю, что пока художники слова только еще прицеливаются да раскачиваются писать о героических буднях милиции, такое произведение уже создано. Причем в их собственной милицейской среде. Рукопись он высылает спецпочтой, а уж там решайте, как с ней поступить. Заодно проверим, чего стоят обещания руководства писательского союза тесно сотрудничать с правоохранительными органами.
Милицейский генерал распорядился перепечатать тетрадки. Шесть опытных машинисток, разъяв их на равные части, исполнили это за один день. Попутно расставили недостающие запятые, убрали лишние и вообще навели кое-какой порядок с орфографией.
Последующие события развивались со скоростью сверхзвукового истребителя-бомбардировщика. Секретарь писательского союза, который, как мы отметили, сам был генералом, но только не носил погонов, счел за благо не ссориться со своим собратом по генеральскому корпусу. Рукопись он читать не стал, а выслал ее в одно подвластное издательство с припиской: «Считаю необходимым издать как можно скорее».
Директор подвластного издательства был человеком дисциплинированным. К тому же он страшно любил ездить за границу в составе разных делегаций, а также и в одиночку. А начнешь конфликтовать с начальством – шиш поедешь. План издательства был давно сверстан и утвержден. Но он, недолго думая, вышиб из плана роман одного малоизвестного писателя-деревенщика. Этому роману фатально не везло, и автора уже давно зачислили в разряд безнадежных неудачников. Судите сами. Написанный черт знает сколько лет назад, роман повествовал о вредных последствиях глубокой вспашки почвы. Он так первоначально и назывался – «Глубокая борозда». Естественно, его послали на отзыв тогдашнему руководству сельским хозяйством. В отличие от автора, этому самому руководству глубокая вспашка, наоборот, страшно нравилась. Оно просто приходило от нее в восторг и широко пропагандировало. И, конечно, прислало в издательство разгромный отзыв о «Глубокой борозде».
Умные люди посоветовали бедолаге-автору роман переделать, предать анафеме уже не глубокую вспашку, а мелкую. Какая, в сущности, разница? Сказано – сделано. Переделки отняли у него год жизни. Роман в соответствии с противоположной критической направленностью получил название «Мелкая борозда». Автор учел все замечания и советы. Но не учел, что за это время в очередной раз поменялось сельскохозяйственное начальство. Чтобы хоть чем-то отличаться от прежнего, оно выступало уже против глубокой вспашки, горой стояло за мелкую. Опять автор фраернулся...
Эта печальная история повторялась ровно столько раз, сколько раз менялось сельскохозяйственное начальство. Но вот грянула перестройка. Рухнули все препоны. Самые смелые критические идеи стали находить отражение в художественной литературе. Роман получил почетную репутацию «непроходимого» в застойный период и был принят издательством на ура. Толком уже нельзя было понять, за какой вид вспашки выступает автор. Да и назывался роман теперь несколько расплывчато– «Борозда времени». Казалось, все муки позади. Но тут подоспел Перетятько со своими «Записками постового»...
Автор «Борозды времени» в полном унынии и расстройстве слонялся по Дому литераторов. Ловил за рукав коллег по перу и в который раз рассказывал горестную свою историю. Ему сочувствовали. Особенно сердобольные совали ему в карман рубли и трешки, чтобы мог он хорошенько выпить и обрести забвение.
А «Записки постового» издали в рекордно короткий срок. То ли сработала реклама, то ли на самом деле книга понравилась читателю, но раскупили ее в считанные часы, весь тираж. Барыги у памятника первопечатнику Ивану Федорову запрашивали за книгу не меньше полсотни. Появились ксерокопии, расходились по тридцатке. Ивана Степановича без проволочек приняли в Союз писателей. Из органов милиции он уволился, чтобы безраздельно отдаться литературе. Милицейский генерал, сыгравший столь важную, если не решающую роль в судьбе Ивана Степановича, издал по этому случаю приказ. За многолетнюю и беспорочную службу Ивану Степановичу объявлялась благодарность. «В связи с переходом на творческую работу» он награждался почетным значком и ценным подарком Приказ был оглашен в Зале милицейской славы, в присутствии высших чинов столичной милиции и, естественно, самого Ивана Степановича. Вручая ему значок и подарок, золотые часы, генерал прослезился и трижды его поцеловал. На тыльной стороне часов было выгравировано: «И. С. Перетятько, воспевшему нашу родную Государственную автоинспекцию».
В краткой речи генерал пожелал Ивану Степановичу дальнейших успехов на новом поприще. Сказал, что весь милицейский корпус, а вместе с ним и весь советский народ будет с нетерпением ждать его новых произведений. А «Записки постового» назвал, невольно перефразируя Белинского, «энциклопедией жизни ГАИ». По его словам, на этой книге еще долго будут учиться новые поколения автоинспекторов.
Итак, жизнь Ивана Степановича круто переменилась. «Записки постового» принесли ему немалые дивиденды, поскольку многократно переиздавались. Книгу перевели едва ли не на все языки народов страны. Издали и за границею.
Иван Степанович настоял, чтобы Валентина бросила к чертям работу и одновременно порвала всякие отношения с директором столовой № 179 Липкиндом. Валентина послушно согласилась. Тем более, что сам Липкинд уже намыливался в государство Израиль, на постоянное жительство. Он звал с собой и Валентину. Уговаривал ее развестись и вступить с ним в законный брак. Но Валентина осталась верной Советскому Союзу и Ивану Степановичу.
В сжатые сроки она освоила новую профессию – писательской жены. Она ездила в Литфонд заказывать пальто и шубы. Вышибала путевки в Дома творчества. Завела приятельские отношения с другими писательскими женами. Взяла за правило повсюду рассказывать, какой ее Ваня трудяга, как он сутками не вылезает из- за письменного стола, буквально себя не жалеет... Они такие, жены преуспевающих писателей.
А между тем с написанием новых произведений дела у Ивана Степановича шли из рук вон скверно. Многочасовое сидение за письменным столом (тут Валентина говорила сущую правду) не давало никакого результата. Каждый раз, взяв чистый лист, он выводил на нем, к примеру: «Было восемь часов вечера. Смеркалось»... Или «Лил сильный дождик»... Или – «Погода была солнечной, без осадков...» А дальше, хоть застрелись, ничего путного на ум не приходило. И никаких более сюжетов не рождалось, даром что в загашнике памяти Ивана Степановича сохранилось еще множество историй из милицейской жизни. А вот поди ты!.. Куда подевалась та легкость, с которой он сочинял свои бессмертные «Записки постового»?
Материальному благополучию угрозы пока что не было. Помимо бесчисленных переизданий «Записок», подоспели киношники и принялись выкупать права на экранизацию его рассказов, одного за другим. Но, повторяю, ничего нового написать Иван Степанович был не в силах.
С огорчения он стал прикладываться к бутылке, чего, как вы помните, прежде за ним не водилось. А тут стал наведываться в Дом литераторов, в ресторан и в верхнюю буфетную, или «пестрый» зал. Вскоре сделался там завсегдатаем. Буфетчиц и официанток звал ласкательными именами, а они его – Ваней. Учинил там несколько пьяных дебошей, что, впрочем, в обычае этого Дома. В частности, набил морду одному критику левого направления, когда тот позволил себе прилюдно высказать критические замечания о «Записках постового», в частности, о языке и стиле. Критик распространялся на эту тему за столиком в «пестром» зале, а Иван Степанович проходил мимо к буфетной стойке за очередной порцией шнапса. Уловил произнесенной звучную свою фамилию, остановился, послушал. А потом без всяких предисловий размахнулся и так звезданул зарвавшегося хулителя, что тот свалился со стула на пол.
Критик хотел подать в суд, но его отговорили. Шепнули, что с Перетятькой лучше не связываться: в недавнем прошлом милиционер, сработают старые связи, неизвестно чем еще обернется. Установят, к примеру, что не Иван Степанович ему морду набил, а, наоборот, он Ивану Степановичу. После расхлебывай... И критик отъехал с миром в Соединенные Штаты, куда был приглашен читать лекции о советской литературе в одном из университетов.
Приключился еще один инцидент, поопаснее. В нетрезвом виде, за рулем только что приобретенной «Волги» врезался Иван Степанович в «мерседес» с дипломатическим номером. К счастью, обошлось без жертв и даже без серьезных травм с обеих сторон. Тем не менее случай из ряда вон...
Выручил тот самый милицейский генерал. Иван Степанович к нему пробился, бухнулся в ноги. Сказал, что «бес попутал». Поклялся, что больше никогда не сядет за руль, употребив даже каплю проклятого зелья. Генерал на редкость мягко, по-отечески его пожурил. А с заведенным делом велел поступить по известной схеме– сначала замотать, а потом спустить на тормозах. Шоферские права Ивану Степановичу скоро вернули.
...Я еще долго мог бы описывать новую жизнь Ивана Степановича. Стоило, быть может, поведать о завязавшемся в Коктебеле бурном романе Валентины с известным поэтом А. Воздвиженским. О том, как Валентина ушла к Воздвиженскому и даже забрала кое-что из мебели, но потом вернулась, и Иван Степанович по-христиански ее простил.
Когда в литературной среде началось решительное размежевание, Иван Степанович примкнул, конечно, к истинно русским патриотам. Сделался одним из вождей направления. На митингах и собраниях клял ненавистных жидомасонов и вообще жидов. Тут перед ним открылись новые возможности. Он победил на выборах, стал Народным депутатом...
Многое можно было бы поведать читателю, но меня поджимает неумолимое развитие сюжета. Поэтому давайте оставим пока Ивана Степановича, томимого безысходными муками творчества, на собственной даче в ближнем Подмосковье.
Но прежде чем с ним расстаться, я обязан еще разок вернуться к загадочному происшествию у Триумфальной арки, к некоторым дополнительным подробностям. Относительно их Иван Степанович крепко держал язык за зубами. Даже в состоянии сильнейшего подпития, когда снимается всякое торможение и наружу выплескивается самое заветное... Но кто мешает сделать это мне?
Итак, я цитирую повторно протокол допроса.
«...Кот повел себя агрессивно. Громко шипел и сказал мне: «Брысь!». Что значит «брысь»? Это я имел полное право сказать ему «брысь»!»
На самом же деле Иван Степанович точно так и поступил.
– Брысь! – крикнул он коту. – Брысь, подлый!
– А хо не хо-хо? – ответил то ли переодетый котом бандит, то ли настоящий кот.
И покопавшись за спиной, извлек какую-то книжку в переплете.
Иван Степанович решил, что кот (пусть будет кот) намеревается предъявить документ на управление каретой. Но нет... На какое-то мгновение стало светло, как днем. На переплете книжки, которую кот буквально всадил в лицо Ивану Степановичу, тот успел прочитать: «И. С. Перетятько. Записки постового». Вот тут он и рухнул на асфальт, раскинув руки!
Но слух еще не отказал, полная отключка наступила немного позже.
– Вечно ты, Бегемот, выдумываешь! – раздался новый голос, дребезжащий словно ослабленная гитарная струна. – Надо было вознести милиционера в его будку и там усыпить.
– Я ставил перед собою благородную задачу, – отвечал кот или кто он там еще. – Я хочу подарить литературе нового талантливого прозаика. Не исключено, что он станет вторым Львом Толстым или Гоголем!
– Поехали! – властно произнес еще один голос, низкий, басовых тонов.
– Мессир! – воскликнул тот, что укорял кота за неправильные действия. – Вам не кажется, что мы прибыли в этот город чересчур рано? События только еще начали развиваться. Надобно годика эдак два, чтобы ситуация назрела.
– Нашёл о чем беспокоиться! – отвечал властный бас. – Включим ускорение...
– Ускорение чего? Событий или времени? – уточнил кот.
– Разумеется, времени. Согласно теории старика Эйнштейна, год можно превратить в час или даже в минуту. А события пусть развиваются своим чередом, мы пока не станем вмешиваться...
Повторяю, Иван Степанович слышал каждое произнесенное слово. И запомнил – память у него дай Бог каждому!.. Ну, что бы ему, кажется, донести до следователя, посетившего его в больнице, суть странной беседы в карете? Не хочешь следователю – составь сепаратный рапорт. Запусти его по начальству наверх. По причине колоссальной важности наверняка дошел бы тот рапорт до самых что ни есть верхних верхов. А уж там для полной его расшифровки и осмысления в философском плане привлекли бы самых опытных экспертов и консультантов. И как знать, возможно, по-иному сложились бы многие события в Москве да и в масштабе государства...
С другой стороны, наверное, все-таки Иван Степанович был прав, вовремя прикусив язык. Навряд ли придали бы серьезное значение его показаниям или же сепаратному рапорту, поскольку на передний план в любом случае вылез бы уже не переодетый котом бандит, а самый настоящий кот. Причем свободно разговаривающий на человеческом языке. К показаниям и рапортам, в которых фигурируют говорящие коты, сами понимаете, какое может быть отношение. Еще хорошо, если в психушку не запрут...
– Вперед! – закричал кот, сопроводив свой крик долгим и пронзительным мяуканьем.
«Так это на самом деле кот! – успел подумать Иван Степанович. – Говорящий кот!..»
Приподнявшись из последних сил на локтях, он уже не лежал, а сидел на мерзлом асфальте. Силился подняться на ноги. Но тут раздалось новое, повторное мяуканье, еще пронзительней прежнего, просто душераздирающее. Оно-то и доконало Ивана Степановича. Силы покинули его окончательно, и он повторно шлепнулся об асфальт темечком. Наступила полная отключка.
А карета тронулась и исчезла в ночном мраке.
Глава 4. Сцены на бульваре и в булочной Филиппова
Легко и непринужденно обращаясь с пространством и временем, автор романа не должен упускать из виду ни одного из своих героев. Точно так же, как в театральном спектакле тот или иной герой обязан появиться в нужный момент, желательно с репликой. Произвести какое-то действие, скажем, броситься на колени и открыться своей возлюбленной в пылких чувствах. Или же принести важные известия, сообщить, например, что в городе началось наводнение и всем надо спасаться. Подтолкнув развитие сюжета, герой обычно уходит. Нечего ему зря болтаться на глазах у публики. Произнесет что-нибудь такое, запоминающееся, хотя бы: «Я еще рассчитаюсь с тобой, подлец!» – и убегает вынашивать планы мести. Ищет способа раздобыть пистолет, чтобы примерно наказать обидчика.
У автора романа все его герои должны быть, что называется, под рукой. Когда того потребует очередной изгиб повествования, любой из них должен быть готов предстать перед читателем. Посему я предлагаю вновь обратиться к событиям декабрьского вечера в столице, ровно два года спустя после загадочного происшествия у Триумфальной арки. Давайте понаблюдаем за тем, что дальше произошло с молодым человеком по фамилии Якушкин.
Покинув театр, Якушкин вышел на бульвар. Там он остановился, развязал тесемки на папке, возвращенной ему Цербершей, и лихорадочно стал перебирать листы рукописи. Как и многие безвестные и безымянные авторы, он употреблял распространенный тест с целью проверки: прочли ли в редакции или, в данном случае, в театре, отданное туда произведение или, даже не раскрывши, швырнули назад, извините, в морду? Для этого между страницами вкладываются малюсенькие клочки бумаги. Или хлебные крошки. Если рукопись на самом деле читали, их смахнут или сдуют
Хитроумный тест дал результат неутешительный. Все вложенные Якушкиным клочки бумаги оказались на месте. «Что же он со мной, паразит, делает! – пробормотал он. – Ведь божился, что прочтет, причем в сжатые сроки! Креста на нем нет!».
Тут произошло непредвиденное...
Налетевший порыв ветра–самое удивительное, что до сих пор вечер был тихий и абсолютно безветренный – подхватил из раскрытой папки едва ли не всю рукопись. Страницы с шуршанием взмыли в воздух веером, разлетелись стаей белокрылых чаек. Или же словно прокламации, которые разбрасывают на митингах для поднятия ярости митингующих.
Якушкин пытался поймать порхавшие в воздухе листочки. Он даже подпрыгивал, но листочки всякий раз ускользали, покачиваясь, поднимались все выше, средь голых веток деревьев в черное, расцвеченное редкими и мелкими звездами небо. «Это же первый экземпляр!» – в отчаянии подумал Якушкин. (Любой сочинитель знает, что это такое – первый экземпляр!) Он проклинал себя за идиотское нетерпение, за то, что ему приспичило произвести проверку на бульваре, а не дома, в безветренной обстановке. Но... Ветер, как налетел неожиданно, точно так же внезапно и стих. Страницы рукописи, планируя, стали приземляться вдоль аллеи. Подчеркиваю, именно вдоль, без всякого отклонения в стороны, и ни одна не застряла в ветках.
Согнувшись в три погибели, Якушкин принялся собирать листок за листком из драгоценного первого экземпляра. В какой-то момент он обнаружил, что ему помогают. Чьи-то руки ловко и сноровисто ухватывали страницы с обледеневшего после недавней оттепели снега. Наконец все были собраны. Якушкин разогнулся и смог разглядеть, кому эти руки принадлежали.
Незнакомец, как и он сам, был высокого роста, неимоверно тощий. Одет явно не по сезону – в легонькое светлое пальтецо, приобретенное, видно, по случаю с чужого плеча: короткое, в обтяжку, рукава по локоть. На голове курортная шапочка с пластмассовым козырьком и надписью «Ялта». Удивило и старомодное пенсне на шнурочке, совсем как у Антона Павловича Чехова.
– Давайте-ка я вам уложу вашу рукопись, – предложил незнакомец,– а то у вас вон как руки ходуном ходят. Ах, нервы, нервы!..
И не дожидаясь согласия Якушкина, вынул у него из рук пустую папку и собранную порцию страниц. Присоединил к своей и принялся быстро-быстро перебирать страницы, перекладывать согласно нумерации. На какое-то мгновение Якушкину показалось, что незнакомец погрузился в чтение. Но нет – он уже протягивал ему собранную и увязанную папку. Якушкин с жаром кинулся его благодарить за помощь в критический момент.
– Ну, что вы, что вы! – ответил незнакомец и произвел руками отмашку: дескать, сущие пустяки, не стоит благодарности. Заметил, что по морозцу даже невредно ему было несколько размяться. – Вам же, юноша, я хочу дать один совет, – продолжал он своим дребезжащим, словно отпущенная гитарная струна, голосом. – Никогда не занимайтесь чтением на улицах, площадях или бульварах. Чтению следует предаваться дома, в уютном кабинете, перед разожженным камином, при свете свечей в бронзовых, а еще лучше – в серебряных канделябрах. На колени вам уложит свою умную голову верный сенбернар, а вы свободной рукою треплете его за ухом. Время от времени можно прихлебнуть горячего глинтвейна из хрустального бокала...
Произнеся слово «глинтвейн», незнакомец зябко поежился.
– Вы так легко одеты, недолго и простудиться, – сказал Якушкин.
– Ой, не говорите! – с жаром подхватил незнакомец. – Кто же мог предвидеть, что у вас такой зверский климат?
Но тут же продолжил прежнюю тему.
– А на бульварах можно лишь газету в витрине пробежать. Да и то, скажу вам, пустое занятие, одну брехню помещают...
– Вы так считаете? – удивился Якушкин.
– А как же иначе? Для того и существуют газеты, чтобы помещать брехню.
Столь категорическая оценка прессы показалась Якушкину странной. Да и внешний облик незнакомца тоже, в особенности, старомодное пенсне на шнурочке. Как, впрочем, и обрисовка кабинета для чтения – с камином, с канделябрами, с верным сенбернаром и горячим глинтвейном. «Интересно, кто он такой? – подумал Якушкин. –Может, иностранный турист?»
– Нет, я не турист, – отверг незнакомец предположение. Тем паче иностранный. Я здесь родился и вырос... И он указал рукой в направлении Арбата. – Дом был загляденье: колонны, мраморный портал, потолки пять метров, лепные, с мифологическими обнаженными фигурами. Кого, спрашивается, не устраивало?
Незнакомец одной рукой сдернул с головы курортную шапочку, а другую резко выбросил вперед, отчего сделался похожим на типовой памятник вождю мирового пролетариата.
– Ведь что придумали, мерзавцы? Подогнали бульдозер с круглой чугунной чушкой на цепи для разрушительных целей. Неделю били ею в стены. Меня на вечное поселение сослали под самую кольцевую дорогу. Начнешь добираться – сплошные пересадки. Вот изредка наведываюсь в центр повспоминать о былом и невозвратном...
И незнакомец разрыдался. Слезы обильно хлынули у него из глаз. Громко подвывая, он утирал их курортной шапочкой. Якушкин стал его успокаивать, и незнакомец на редкость легко и быстро успокоился. Слезы мгновенно подсохли, на лице заиграла улыбка.
– А что, мил-человек, рублика у вас не найдется? – Приступая к Якушкину с более чем банальной просьбой, он весело подмигнул. – Нет, не насовсем – в долг. Я могу и расписку дать. Нелепейшая история – не успел засветло снять с текущего счета. А вечером сбербанки имеют досадное обыкновение закрываться. Это вам не Париж и не Чикаго!.. При первой же оказии верну всю сумму до копеечки. Возможно, даже сегодня, чуть попозже...
«Текущий счет» и «сбербанки» плохо вязались с его внешним обликом. Равно и воспоминания о Париже и Чикаго. И уж, конечно, обещание вернуть долг «до копеечки» представлялось более чем сомнительным. Но Якушкин был человеком добрым и отзывчивым. Он достал из кармана куртки кошелечек. Там оказался металлический рубль и немного мелочи. Рубль он протянул незнакомцу.
– Чувствительно вам благодарен! – воскликнул незнакомец, выхватывая монету. – А сейчас прошу простить, меня на Патриарших прудах клиент ожидает...– И повернувшись к проезжей части, крикнул: – Эй, троллейбус! А ну притормози, братец!
Троллейбус тронулся с остановки у театра и набирал ход. Как вдруг его сильно тряхнуло на рытвине в асфальте. Дуги соскочили с проводов, и троллейбус встал. Отворились двери. Водитель вылез, чтобы приладить дуги к проводам. А незнакомец, пользуясь открывшейся внезапно возможностью, рысью побежал садиться. На бегу он оборачивался и посылал Якушкину воздушные поцелуи. Он забежал за троллейбус и наверняка успел в него вскочить. Водитель успешно восстановил дуги на проводах. Когда троллейбус тронулся, незнакомца уже не было видно. Троллейбус увез его в направлении Арбата, где, если ему верить, он родился и вырос.
А Якушкин побрел по бульвару к Пушкинской площади.
Смертельно не хотелось ехать домой. Там его встретит Лена с двухлетним Мишкой на руках. Если, конечно, не успела его уложить. Лена и спрашивать ничего не станет, по его глазам поймет, что потерпел он очередное фиаско. Потом на кухне, за чаем, она приступит к осторожным уговорам. Почему бы ему не вернуться в НИИБИОФИЗ? Или еще куда попробовать определиться по профилю. Ведь специалист он, каких еще поискать: отличные руки, английским свободно владеет, имеет компьютерную подготовку. Главное, подальше от этой проклятой литературы. Одни от нее огорчения и никакой радости.
Лена его любит. Понимает с полуслова. И человек порядочный. Но даже ей, любящей и все, кажется, понимающей, не объяснишь: тот, кто отравлен словно наркотиком, этим странным занятием, тот, кто увидел однажды рассказ, напечатанный под своей фамилией, тому, видно, излечиться не дано...
Бульвар кончился. Якушкин спустился в подземный переход под улицей Горького, переименованной в Тверскую. Поднялся наверх на противоположной стороне. У редакции «Московских новостей» толпился народ. Здесь в любое время велись бурные политические дискуссии. На все лады крыли верховную власть и отдельных ее представителей. Якушкин потолкался, послушал. Решительные речи ораторов, а также предлагаемые ими дерзкие проекты государственного переустройства настроили его на смелый лад. «Позвоню-ка я Сутеневскому домой, выскажу этому мерзавцу все, что я о нем думаю!» – такая пришла ему в голову идея.
Он снова вынул кошелечек. Там, как обычно, довольно было «двушек». В многотрудном процессе пристраивания собственных произведений Якушкину часто приходилось звонить по телефону различным людям, от которых это самое пристраивание вроде бы зависело. Дома у него телефона не было, никак не подходила очередь. Поэтому «двушки» для телефонов-автоматов он неукоснительно подкапливал.
Якушкин позвонил из автомата рядом с цветочным магазином. Детский голос ответил, что папы нет дома, будет поздно. Диверсия не удалась, и вконец огорченный Якушкин побрел дальше, вниз по Тверской. У булочной Филиппова что-то заставило его замедлить шаг. За стеклянной витриной он увидел очередь в кафетерий и вспомнил, что с утра ничего не ел. День прошел в беготне, из одной редакции в другую. В одной не оказалось нужного человека. В другой, хоть таковой и оказался, но был занят, принимал делегацию писателей из африканской страны, а после должен был вместе с нею мчаться куда-то на прием. В третьей попросили еще недельку срока, поскольку заняты были выпуском очередного номера и не успели прочитать... И, наконец, совсем уж печальный афронт в театре. В беготне, в сплошной нервотрепке, можно позабыть, что время от времени следует отвлекаться от забот о пище духовной и подкреплять физические силы. Забыть можно, но рано или поздно желудок напомнит... И Якушкин вошел в булочную Филиппова.
Желающих подкрепиться в вечерний час набралось тут предостаточно. А куда еще пробьешься? Отшвырнут от дверей бородатые швейцары в лампасах, словно ты нелюдь какой. Да и плата за самое скромное блюдо в заведениях со швейцарами немыслимая. Якушкин терпеливо выстоял в двух очередях, сначала в кассу, затем к раздаче. Мелочи в кошельке хватило на стакан кофе со сгущенкой и булочку с марципаном.
Закусывали в булочной Филиппова стоя. Якушкину удалось протиснуться к одному из столиков. Его соседом справа оказался мордатый мужчина в огромной шапке из собачьего меха. Он набрал целую батарею граненых стаканов с кофе и гору булочек. Под столиком находился его чемодан. Мало того, что он его придерживал ногами, он еще периодически поглядывал под стол, убеждался, что чемодан цел и его пока не сперли. Якушкин определил его для себя командировочным. Отложил в памяти на тот случай, если в каком-нибудь очередном произведении понадобится отразить представителя этого сословия.
Но вот сосед слева...
Он был коренастый, плотненький. В черном драповом пальто, застегнутом доверху. На голове черный котелок, какие и теперь носят клерки из лондонского Сити. Впечатление портил желтый клык, торчащий из-под верхней губы, и бельмо на одном глазу, отчего лицо имело выражение свирепое, если не сказать, разбойничье.
Клыкастый с бельмом на глазу пил кофе, булочку себе не взял –то ли был сыт, то ли денег в обрез. В какой-то момент он задел локтем Якушкина и извинился, вежливо приподнявши с головы котелок. И тут же резко отодвинул от себя недопитый стакан.
– Ну и бурда! – возмущенно произнес он. – Я бы повесил мерзавцев, кто это сварил... Вот недавно я пил кофе в одном местечке, так уж кофе! Без дураков!
Будучи человеком любознательным, Якушкин поинтересовался, что это за местечко, где варят кофе «без дураков».
– Дом литераторов! Единственное в Москве местечко! Да еще если попросить с двойной или с тройною закруткой!..–Тут клыкастый, оказавшийся на поверку не только глубоким знатоком, но и требовательным ценителем кофе, мечтательно закатил единственный глаз.
«Он там! В ресторане Дома литераторов!» – пришла на ум Якушкину неожиданная догадка. Распаляя себя до продела, он быстренько нарисовал в воображении такую картину. Сутеневский, в кругу закадычных друзей и наверняка продажных женщин, пьет вино, раздирает руками сочного цыпленка-табака. А чтобы повеселить компанию, рассказывает презабавную историю об одном бедолаге-авторе, который, видите ли, захотел осчастливить их театр своим произведением. А Сутеневский, не будь дураком, спихнул не глядя это самое произведение Церберше...
Следуя примеру клыкастого, он решительно отодвинул от себя стакан, оставил недоеденной булочку с марципаном и бросился к выходу.
– Папочку забыли! – раздался позади голос.
Клыкастый протягивал ему оранжевую папку. Якушкин второпях оставил ее на полочке, что пониже стола, предназначенной для того, чтобы посетители могли положить туда мелкие вещи и закусывать с максимальным комфортом.
– Если вы в Дом литераторов, то прежде подумайте, как вы туда проникните? – сказал клыкастый, возвращая папку.
Якушкин пожал плечами. Черт его знает, как?..
– Не беспокойтесь, я позвоню, чтобы вас пропустили. Назовете свою фамилию тамошней Церберше...– Разгоряченный Якушкин ничуть не удивился слову «Церберша», произнесенному клыкастым. А ведь на него он, и только он, имел несомненное авторство.
– А то и сам подскочу, – обнадежил неожиданный доброхот на прощанье.
Якушкин поблагодарил за участие и заботу и, плохо соображая, что с ним происходит, выбежал на улицу.
Трудно вообразить, что Якушкин, с его эрудицией не распознал в незнакомце в пенсне на шнурочке и курортной (пусть не жокейской) шапочке, явившемся ему на бульваре, – озорного гаера и наглого враля Коровьева! Чуть раньше – невозможного проказника, черного кота Бегемота. А позже, в булочной Филиппова, в знатоке и любителе кофе – еще одного булгаковского героя, Азазелло. Ведь Якушкин совсем-совсем другое, нежели бравый Перетятько. Тот хоть и сделался впоследствии полноправным и даже влиятельным членом писательского союза, но в жизни не читал романа «Мастер и Маргарита». Оттого и привел его в изумление говорящий кот Бегемот! Якушкин же, мало сказать, читал роман – перечитывал его множество раз, знал почти наизусть... Остается предположить, что чересчур уж был озабочен он собственными проблемами, вот и изменила ему врожденная наблюдательность.
Давно уже засела у меня в голове крамольная идея – а что бы появиться вновь в Москве Воланду со всею его свитой? Никак не мог я от нее отделаться, хотя, признаюсь, гнал прочь. Но тут состоялось у меня знакомство... вы не поверите – с самим Якушкиным. При каких обстоятельствах, о том речь впереди. Он-то и рассказал мне многое, что я успел поведать читателю и что еще предстоит. Взялся я за собственное сочинение с чистой совестью, поскольку Якушкин ни о каком сочинительстве больше и слышать не хотел. Сведениями, у него почерпнутыми, он предоставил мне право распоряжаться, как мне будет угодно.
...Предвижу, могут посыпаться со всех сторон упреки на автора. Как посмел он, негодник, прикоснуться своими лапами к булгаковскому творению? Отвечаю заранее: не смею равнять себя с гением. Но и поделать с собой ничего не могу. А там будь что будет!
Глава 5. Сведения о Сутеневском Аркадии Михайловиче
Мы покинули Сутеневского и Урванцева, когда они изловили левака и отправились в Дом литераторов, чтобы там отужинать. Тому имелась целая предыстория.
«Какая там предыстория?» – воскликнет иной смекалистый читатель. Драматурга цепляют в качестве обыкновенного «карася». Он обязан поить и угощать заведующего литературной частью театра в призрачной надежде снискать его благосклонность и добиться решительного перелома в проталкивании своей пьесы на театральные подмостки. Вот и вся «предыстория»!
Не торопись, сынок! Не торопись, смекалистый читатель! «Карасевую» мотивировку не станем полностью сбрасывать со счетов, но предыстория – была!
Для освещения ее мне придется хотя бы эскизно обрисовать умонастроения, свойственные нашей творческой интеллигенции. Скажем так, некоторой ее части. Чем она более всего озабочена? Собственным самовыражением? Эстетическими проблемами? Гражданской позицией? Или, может, судьбою замороченного вконец народа?
Ох, уж эти умонастроения!..
О чем свидетельствует обкусанный бессонной ночью угол подушки? Или лихорадочный блеск в глазах во время таинственных и конфиденциальных переговоров по телефону? А при их благоприятном исходе исполнение на манер американских индейцев победного танца «орла» – не на людях, в собственном кабинете? Что, наконец, главное в этих устремлениях? В чем их доминанта? (Я не удержался и употребил это модное сегодня словечко.)
А в том состоит доминанта, чтобы вырваться за границу!
Не насовсем, упаси Господи! Мы не какие-нибудь отщепенцы или евреи. На ограниченный срок. На месяц, на неделю, на пару дней – но вырваться. И не за свои кровные, не в туристскую поездку, где тебя на цепи водят по достопримечательностям, а исключительно за чужой счет: за государственный или еще чей, какая разница?
Не подумайте, что тут исключительно меркантильная мотивировка: привезти магнитофон с видешником или же обнову для повторно смененной супруги. Пусть и это гоже. Но главный кайф состоит в другом: в том, что именуется словом престиж.
Встретишься в вестибюле творческой организации с коллегой по перу. Или по театральному процессу. Или по киношному. Он тебе: «Что-то, старичок, давненько тебя не видно, уж не хвораешь ли?» А ты ему небрежно (обязательно небрежно): «А я в Испанию мотал по творческому обмену: Мадрид, Толедо, Кордова...» Слова-то какие!
Ни с чем не сравнимое, хотя отчасти и садистское наслаждение наблюдать, как у «коллеги» лезут на лоб клочковатые брови, как пробуждается завистливым блеском потухший взгляд. «Рад за тебя», – выдавливает он с трудом. А ты, чтобы распластать его, добить, добавляешь: «Замечательная страна! Гойя, Эскуриал, коррида... Теперь вот к скандинавам собираюсь, жду визы...»
Не дай Бог тому коллеге, когда он вернется домой, проболтаться собственной жене. Ой, что тут поднимется! Кошмар и ужас в последней степени! Жена примется форменным образом истреблять его за преступное бездействие. Какие-то, понимаешь, проходимцы и бездари мотаются по всему миру, а он, народный талант, жемчужина, ценнейшее достояние страны и широкой общественности, наладился ездить в Тюмень да в Сыктывкар с целью изучения жизни лесорубов и нефтяников! К черту Сыктывкар! К черту лесорубов!.. Жена силой вытолкнет его из дома, не дав спокойно отобедать. Напялит шляпу на облысевшую его голову. А он будет лепетать ей: «Да-да, ты совершенно права»...
Забросит тот коллега всякое творчество. Начнет без устали обивать пороги высоких кабинетов, разных там иностранных комиссий. Везде будет напоминать о невероятных собственных заслугах, но вот по непонятной причине обойден заграничными поездками, где же социальная справедливость?.. Что ж, пожелаем ему удачи.
По части заграничных поездок Аркадий Михайлович Сутеневский в прежние времена считался середнячком. Хотя и старался ладить с властями. Сутеневский регулярно проталкивал на сцену пьесы, которые обучали зрителя высокой коммунистической морали. Рабочие в тех пьесах единодушно отказывались от всяких премий. Инженеры в плодотворном сотрудничестве с наукой разрабатывали прогрессивную рецептуру легированных сталей. И революционную тематику не оставлял Сутеневский без внимания. В одном из спектаклей рабочие с молотками, женщины в косынках, вооруженные красногвардейцы, а также и матросы ходили целый акт по сцене кругами с красными знаменами, искали дорогу в светлое будущее. А в центре данного хоровода стоял Ильич и с присущей ему мудростью вносил в маршрут определенную корректировку.
Но вот какая история: не ценили должным образом власть предержащие старания Аркадия Михайловича. За границу выезжал он редко. А ведь могли бы, кажется, посылать–и на театральные симпозиумы, и на конгрессы, и на фестивали. Других же посылали? Хотя бы его собственного главного режиссера Карнаухова. Даром что ни поездка, обязательно досадное происшествие. Или напьется на банкете до изумления. Или, того хуже, морду иностранному театральному деятелю начистит в пылу творческой полемики, когда исчерпаются иные аргументы. Или же у него бумажник с паспортом свистнут... Все прощалось. И по одной единственной причине– непревзойденный был постановщик пьес с Ильичем в главной роли. Престарелый генсек, когда его однажды привезли на один такой спектакль, стал рваться на сцену к Ильичу, чтобы с ним посоветоваться, как дальше строить коммунизм. Еле его удержали соратники и бдительные помощники.
За кордон выезжал Сутеневский исключительно с собственным театром на гастроли. А театр ездил в одни лишь ближние страны, с передовою, как и у нас, идеологией. А хотелось туда, подальше, где сервис в отелях поприличнее и ассортимент товаров побогаче. Отдельные попытки свозить театр на гастроли и в такие страны предпринимались. Но всякий раз гастроли с треском проваливались. В самом деле, ну зачем тому же датчанину или французу вместо культурного отдыха постигать рецептуру стали, даже если сталь легированная? И относительно Ильича там давно уже разобрались, какой на самом деле наметил он кепкой маршрут для своей страны. Хорошо еще, что только собственная страна, да еще братские пошли по тому маршруту, а не весь мир.
И вот грянула перестройка. Цензура дала трещину. Внимание верховных властей к театру ослабло, не до того им было, и репертуарная ситуация круто изменилась. «Новое время – новые песни», как справедливо заметил поэт Некрасов. На сценах театров взамен мартеновских цехов или живописных пейзажей с колхозной нивою на переднем плане, или же кабинета Ильича в Кремле, воспроизведенного с фотографической точностью, стали выстраивать совсем другие декорации. В основном коммунальные клоповники без удобств. В одной нашумевшей пьесе героиня с самого начала и до трагического финала безуспешно решала одну и ту же проблему – как оборудовать в лачуге, где она поселилась с дитем, хоть какой-нибудь туалет. Вихрем смахнуло с театральных подмостков передовиков производства, непреклонных в смелом научном поиске ученых. Взамен повалила туда всякая шушера – алкоголики, бомжи, наркоманы, проститутки (в том числе и валютные). Расплодилось также множество неприкаянных старушек, брошенных на произвол судьбы жестокосердными детьми. Пьесы с такими старушками брали нарасхват, поскольку в любом театре великовозрастных артисток предостаточно. Прежде они исполняли роли совсем других старушек, обогретых сыновней и дочерней ласкою, а также советской властью.
Сутеневский уловил изменение театральной погоды с чуткостью морского барометра-анероида. Пьесам нового, критического направления он дал зеленый свет. И главного режиссера Карнаухова удалось убедить, откуда подул ветер. Премьеры выстреливались одна за другой. Стали ездить на гастроли и в страны с отсталой идеологией. Играли хоть и не на первосортных сценах, но публика шла. Сборы были хоть и скромными, но кое- какая валюта перепадала, в том числе и Сутеневскому.
Как известно, аппетит приходит во время еды. Помимо зарубежных гастролей можно ведь выезжать и в индивидуальном порядке? Для этого по нынешним временам важно прежде всего занять правильную позицию– гражданскую и эстетическую.
Сутеневский разразился серией статей о театре доперестроечного периода. Камня на камне от него не оставил. Низвергал с пьедесталов вчерашних кумиров. Призывал ко всеобщему покаянию. О своих былых проделках, о том, как проталкивал он на сцену Ильича в кепке, помалкивал. Да о том все как-то сразу забыли. Восхищались бойким его пером, разящим сарказмом, безжалостным срыванием всяческих масок.
Позиция стала приносить плоды. Сутеневский прошел на выборах в правление театрального союза, вновь созданной общественной организации, которая, между нами говоря, для того, в основном, и была создана, чтобы держать под контролем вояжи за кордон. Своя рука владыка. Начал теперь он ездить и в единственном числе, и в составе компактных групп, которые сам и формировал.
Но где напастись валюты? Ее, проклятой, вечно не хватало. А ездить хотелось уже безо всякого передыху. Чтобы, не успел вернуться, а тебе уже названивают: собирайтесь, виза получена, билеты на самолет заказаны. Тут надобны усилия иного рода. Необходимо заводить, умножать и укреплять связи с закордонными театральными кругами. С размахом принимать их представителей в Москве, когда те пожалуют. Проявишь активность, исполнишь известные телодвижения, глядишь, и приглашение пришлют пожаловать с ответным визитом, при полном их валютном обеспечении.
Ни одного приезжего иностранца, имеющего отношение к театру, не оставлял Сутеневский без внимания. Прежде всего наводил справки, кто таков. Если всего лишь жалкий эстет, помешанный на новых театральных формах, сам перебивается с хлеба на квас, – сбывал его с рук. Пусть им занимается кто-то еще. Ну, а если человек дельный, имеет доступ к каким-нибудь фондам, тут уж приступал к исполнению отработанной программы. Выезжал встречать в аэропорт. Водил дорогого гостя в театры. Организовывал встречи с деятелями отечественного искусства. А под занавес устраивал обед или ужин в приватной обстановке. И уж тогда, за рюмкой водки или вина, осторожно заводил беседу о том, что не худо было бы ему нанести ответный визит. Мог бы он, скажем, и с лекциями выступить о новациях советского театра. Иной гость разведет руками и ответит: в чем дело? Приезжайте, господин Сутеневский, будем рады. А на какие шиши, не уточнит – по недомыслию или же лишь бы отвязаться. Другой же, наоборот, понимающе кивнет, пообещает прислать приглашение, где черным по белому будет написано: берем на полное обеспечение, включая деньги на карманные расходы...
За неделю до описываемых событий в Москву приехал один театральный японец. То ли продюсер, то ли театральный критик, точно не знаю. И фамилия оказалась утраченной. Никаких других японцев в нашем повествовании не предвидится, поэтому мы будем называть его – японец, и все.
Сутеневский привычно навел справки и выяснил, что японец по части иенных субсидий представляет интерес. К тому же в Японии завлит ни разу не был. Словом, заняться японцем стоило. Технология обхаживания была отработана до мелочей. Убил он на японца всю неделю. В свой театр даже не забегал. Согласитесь, где уж ему было заняться папкой, полученной от Якушкина? Впереди оставался заключительный этап – неофициальный ужин. С устройством ужина неожиданно возникли проблемы.
Домой приглашать японца было невозможно: жена некстати затеяла ремонт. Оставалось – в ресторан. Но в какой? Ресторан при Доме театральных деятелей недавно сгорел вместе с самим Домом. Это отдельная история, не станем ее развивать... В общепитовском ресторане обдерут, как липку, да еще дрянью какой-нибудь накормят. Везти японца в интуристовский–тоже нежелательно. Планируемый разговор необходимо было сохранить в конфиденции. А о какой конфиденции в интуристовском ресторане может идти речь, если, по слухам, там даже в писуарах установлены «жучки», а все официанты– тихие мальчики оттуда. Зачем же информировать КГБ о своем горячем желании посетить Японские острова?
И тут Сутеневскому поздно вечером позвонил домой Урванцев.
Он спросил, как подвигаются дела с его пьесой. (О ней мы уже наслышаны.) Сутеневский бодро ответил, что подвигаются, что «делается все возможное и даже невозможное». А сам про себя подумал: «Ты-то мне и нужен!» И поинтересовался, не мог бы Урванцев оказать ему любезность, устроить на завтрашний вечер столик в ресторане Дома литераторов? (Наивный человек! Будто там нет «жучков»?)
Как всякий уважающий себя политический обозреватель, Урванцев был полноправным членом писательского союза. В свое время он накатал брошюрку о происках империалистических разведок против нашей страны и тотчас был принят. А как его не принять, если он вдобавок к брошюре каждую неделю появляется на экранах телевизоров, чтобы поведать о новых и новых кознях ненавистного империализма? Было бы даже странно, если бы его не приняли.
Урванцев пообещал тотчас связаться с директором ресторана, с которым они приятели, и отзвонить. В ожидании его повторного звонка родилась в голове Сутеневского еще одна идея, прямо скажем, блестящая. А что если пригласить на ужин с японцем и самого Урванцева? Во-первых, поможет в качестве переводчика. Японец объяснялся по-английски, а Сутеневский знал английский через пень колоду. Привлекать интуристовскую переводчицу, которая их обслуживала всю неделю, не хотелось по причине все той же конфиденции Для Урванцева же любой язык, что семечки. Одно слово, политический обозреватель.
Ну, а во-вторых, раз он тоже будет выпивать и закусывать, то и счет оплатит. Такого еще не бывало, не по правде жизни это, чтобы завлиты поили и прикармливали драматургов, а не наоборот. Если Урванцев решил заделаться драматургом, пусть привыкает...
Урванцев отзвонил и сообщил, что все устроено в лучшем виде. Столик заказан и даже намечено в общих чертах, чем будут потчевать. Приглашение участвовать в ужине с японцем принял с благодарностью. Договорились, что он приедет в театр. Сутеневский решил завтра хотя бы там показаться во избежание ненужных разговоров о том, что он совсем забросил свою литературную часть. Единственное, что он успел сделать, не считая ответов на телефонные звонки, – сбагрить Церберше якушкинскую оранжевую папку. Что касается японца, то за ним, с целью привезти его в Дом литераторов, была отправлена разгонная машина, прикрепленная к театру. Вот, собственно, и вся предыстория.
Глава 6. Советско-японские переговоры и чем они закончились
Расплатившись с леваком, Сутеневский и Урванцев вышли из машины и направились к подъезду Дома литераторов. На входе Урванцев не стал вытаскивать писательского удостоверения, а небрежно кивнул местной Церберше (употреблю уж придуманное Якушкиным прозвище). Сутеневского же притянул к себе рукою, показывая ей, что тот вместе с ним. Урванцев был здесь свой.
Скинули верхнюю одежду и шапки, сбросили выскочившему из-за барьера гардеробщику. В ожидании приличных чаевых тот радостно приветствовал их появление. Поправили перед зеркалом прически и стали прогуливаться по вестибюлю в ожидании японца. Урванцев то и дело с кем-то здоровался, причем различным способом. С одними небрежным кивком, с другими вскидыванием вверх руки, на спортивный манер («Привет, старик!»). С кем-то казенным рукопожатием. А с иными посредством крепких дружеских объятий, с похлопыванием по спине, с троекратными поцелуями крест-накрест. Среди деятелей литературы и искусства, а также футболистов поцелуи обыкновенное дело.
Японец прибыл с небольшим опозданием. Едва он появился в дверях, Сутеневский подлетел к нему. Представил приблизившегося Урванцева. Тот, пожимая руку японца, сказал, что ему доводилось бывать в его прекрасной стране, и не раз. Сутеневский самолично снял с головы иностранного гостя шапку, освободил его от пальто, отдал подоспевшему гардеробщику. Японец, как и многие другие японцы, был щуплый, в очках и беспрерывно улыбался. У него при себе оказалась портативная видеокамера. Первым делом он произвел панорамную съемку вестибюля с Сутеневским и Урванцевым на переднем плане.
– Прошу! – широким жестом пригласил Урванцев, и все трое, японец в центре, Сутеневский с Урванцевым по краям, двинулись в направлении ресторана.
Любезный читатель! Приходилось ли тебе когда-нибудь бывать в Московском Доме литераторов, который именуется также и Центральным? То есть наиглавнейшим в масштабе страны. Если нет, вот тебе попутно описание. Краткое – для подробного, ей-Богу, потребовалось бы написать отдельный роман.
Стародавняя писательская обитель, именуемая «Грибоедовым», где происходили удивительнейшие эпизоды «Мастера и Маргариты», как ты, наверное, помнишь, сгорела до тла, стоило туда заявиться Коровьеву и Бегемоту с примусом. Был ли «Грибоедов» на самом деле таким, каким описал его Булгаков, или же он плод его фантазии, судить не берусь. Находясь на сугубо реалистических позициях, опишу нынешний Дом литераторов, какой уж он есть.
Воздвигнут он был сравнительно недавно. Точнее, пристроен к старинному особнячку в готическом стиле, где размещался прежде. Вследствие бурного развития литературы у нас в стране, гужеваться в тесном особнячке писателям стало невозможно...
Из вестибюля дорога ведет в просторное фойе с табачного цвета диванами, кушетками и креслами вдоль стен. Японец спросил о назначении помещения, на что Урванцев отвечал, что здесь писатели могут сойтись накоротке, обменяться новостями литературной жизни. Сейчас здесь никто не обменивался, но японец добросовестным образом снял видеокамерой и фойе.
Вошли в следующее по ходу «верхнее» кафе (имеется еще и «нижнее»), или в «пестрый» зал. Здесь народу было битком. За столиками сидели впритирку. У буфетной стойки толпилась очередь. Беспрерывно щелкал кофейный автомат. Публику можно было обозначить как демократическую. Не в плане политических убеждений, а в плане внешнего облика. Джинсы, куртки, бороды. У дам, а они все же имели место, распущенные по плечам волосы, непомерный избыток косметики. Клубился табачный дым. Сюда приходили выпить и наскоро перекусить. Вино и водка отпускались в разлив, с умеренной наценкой. Для московской безалкогольной пустыни, согласитесь, просто оазис.
Но не одною выпивкой да перекусами здесь занимались. За столиками велись бесконечные дискуссии. Темы две: литература и политика. Разумеется, внутренняя, внешней у нас как-то мало уже интересуются. Шум стоял невообразимый. Дохляк с забинтованной шеей, чирей у бедняги выскочил или еще что, орал что было сил: «Лешка! Ты мне друг! В литинститутском общежитии на одной койке спали. И сейчас Марьяну из Лианозова вместе трахаем. А повесть твоя все равно – говно!» «Ах, ты гаденыш!» – орал в ответ густым басом не согласный с оценкой своей повести Лешка. Поднимался во весь свой богатырский рост – косматый, бородища, чистый дьякон с картины передвижника Перова. Тянулся через стол, чтобы схватить за грудки хлипкого обидчика и разделаться с ним по-свойски. Чьи-то еще руки его удерживали, усаживали на стул, подносили стакан вина.
Японец попросил Урванцева перевести суть полемики, по тот отмахнулся: не стоит, мол, внимания. А внимание японского гостя привлек к стенам зала, расписанным автографами литературных и иных знаменитостей, дружескими на них шаржами и просто рисунками. Оттого зал и назывался «пестрым». Японец аж задрожал, до того интересно ему сделалось. Стал обходить зал кругом, наставив на стены видеокамеру.
Тут случился легкии инцидент, который тем не менее мог бы поломать все планы Сутеневского. На пути японца встал, выйдя из-за столика, поэт Савелий Рык, извечное наказание и горькое несчастье Дома литераторов. Едва ли не каждое его появление заканчивалось скандалом и мордобоем. Впрочем, дрался он не наотмашь, на пол противника не валил, чтобы после завершить расправу ногами. В основном, расквашивал носы. Его бы не впускать вовсе, а как не впустишь, если при нем писательская книжка? На какие деньги Рык пил и вообще поддерживал свою жизнедеятельность, никто объяснить не мог, поскольку никаких стихов он давно уже не печатал.
– Здравствуй, чукча! Здравствуй, угнетенный брат мой! – громко произнес Рык, обращаясь к японцу и протягивая ему руку. Японец на рукопожатие ответил и, не убравши улыбки, наоборот, улыбнувшись пошире, неожиданно возразил:
– Я не чукча, я джапанезе. – А ведь говорил, хитрец, что ни слова не знает по-русски!
Указал в подтверждение своих слов на японскую видеокамеру и принялся ею снимать Рыка. Тот охотно позировал, а когда японец закончил съемку, обратился к своей компании за столиком:
– Глядите, братцы, живой японец! Человек из страны Двадцать Первого века!
Поднялись несколько расхристанных личностей и выпучили на японца мутные глаза. Один молча и непреложно вложил ему в руки стакан, на четверть налитый водкой. Похоже, японец готов был в этнографических целях присоединиться к компании. Ему уже и стул подвигали. Но подоспел Урванцев, и Сутеневский мысленно возблагодарил судьбу за то, что она его ниспослала. Урванцев действовал энергично и решительно. Вынул из рук японца стакан с водкой, поставил на стол, а его самого увлек за собой. Сутеневский прикрывал отступление. Рык нехорошо выругался, попытался достать хотя бы Сутеневского, но тот ловко увернулся. Рык что-то прокричал вслед, и вся троица благополучно покинула «пестрый» зал, где нормального человека на каждом шагу подстерегают любые опасности.
На пути в ресторан предстояло пройти еще через бар со стойкой и табуретами на высоких ножках. Народу здесь было не так густо. Это объяснялось просто – напитки подороже, чем в «пестром» зале. Не водка с вином, а марочный коньяк и ликеры.
Только вошли, как с одного табурета обернулась сухопарая и густо нарумяненная дама. В одной руке у нее была дымящаяся сигарета в длинном мундштуке, свободной рукой она вцепилась в плечо Сутеневского и без всяких церемоний притянула его к себе вплотную. Это была одна из хорошо известной породы московских дам. Где они служат, непонятно. Какое имеют отношение к литературе и искусству – тем более. Но их всегда можно видеть на генеральных репетициях и премьерах, на закрытых просмотрах в Доме кино, на вернисажах, худсоветах и писательских форумах. Актеров, писателей или художников они зовут: «Сашка», «Владик» или «Егорушка». Обязательно отдыхают с ними на Рижском взморье, где пользуют «сашек», «владиков» и «егорушек» своими ценными советами по линии литературы и искусства.
– Что вы на это скажете? – Дама обожгла лицо Сутеневского испепеляющим взглядом.– Ведь это уже черт-те что!..
Завлит недоуменно пожал плечами. В любом другом месте он бы так шуганул ее, что она полетела бы от него кубарем. Но здесь была чужая для него, писательская территория, следовало соблюдать осторожность. Плюс японец.
Дама повторила свой вопрос. И, видимо, чтобы дошло до Сутеневского, о чем речь, выпустила ему в лицо густую струю табачного дыма. Сутеневский закашлялся и хотя бы по этой причине ничего не смог ответить. Тогда дама заговорила, все сильнее распаляясь. О вчерашней премьере в театре «У Красных Ворот». Форменное бесстыдство! По сцене беспрерывно скачут полуголые девки, пьеса бездарна, режиссура беспомощна, до каких пор будет молчать широкая общественность?..
Сутеневский тоскливо озирался по сторонам. Положение спас все тот же Урванцев. Он подошел, извинился, объяснил даме, что их ждут, и силой увел завлита. Дама продолжала что-то кричать вдогонку, но это уже было несущественно.
Наконец вошли в ресторан. Тотчас откуда-то сбоку вынырнул директор, известный всей творческой Москве Гоша. Небольшого роста, с усиками, напоминающий агента ЦРУ, какими их изображали раньше в наших кинофильмах.
Может, Гоша и уступал булгаковскому Арчибальду Арчибальдовичу, наверняка уступал, но дело свое все же знал туго. С помощью неведомых связей выбивал остродефицитные продукты, включая икру и осетрину Официанток и поваров держал в строгости. (Тем не менее они его боготворили, величали не иначе, как «отец родной».) Соблюдал таинственные законы иерархии Знал, какого писателя как надлежит принять и обслужить. Например, Урванцева, как мы уже знаем, автора одной-единственной брошюры, принимал всегда самолично, с выражением знаков повышенного внимания. Иному же прижизненному классику, когда тот начнет канючить даже и не столик, а местечко, чтобы отобедать, небрежно бросит на ходу: «Сами видите, все занято, ждите...» Ох, и мудрены эти самые законы писательской иерархии, лучше в них не вдаваться...
Гоша указал Урванцеву на столик с табличкой «занято». Не на проходе или у выхода, где дует из дверей, а в укромном уголке, возле камина. Едва ли не самый лучший столик. Мало указал – проводил, каждому из гостей пододвинул стул. Озабоченно оглядел выставленные бутылки, блюда с холодными закусками. Подозвал официантку, чтобы та приняла заказ в развитие программы ужина. Активно поучаствовал в детальной проработке и обсуждении. Наконец удалился, пожелав приятного отдыха. Предупредил: случись какая неувязка, он будет рядом, на боевом посту, в собственном кабинете.
Пока наши герои только еще приступают к трапезе, пока разворачивают туго накрахмаленные салфетки, а по рюмкам разливается «московская» с медалями из «дальнобойной», то есть ёмкостью в три четверти литра, запотевшей бутылки. Пока раскладывается на тарелки салат «столичный», осетринка горячего копчения, тарталетки с тертым сыром и паштетом, а также помидорчики «натюрель», – давайте окинем хотя бы беглым взглядом зал.
Он составлял основную часть того самого готического особнячка, к которому была приделана впоследствии пристройка. Зал был выдержан в строгих, темных тонах. Высокий, со сводчатым потолком, с винтовой лестницей, которая вела на балкон с балюстрадой. Помимо декоративного назначения, балкон имел еще и чисто функциональное. Там размещался туалет. Посетителям время от времени приходилось взбираться наверх. Да, неудобство, но, согласитесь, мелкое. Однажды автор этих строк был свидетелем, как могучий кавказец с великолепными усами поднял свою даму на руки и легко взбежал с драгоценной ношею вверх по лестнице. А потом, когда они посетили туалет, тем же макаром снес вниз. Высшая степень куртуазности!
Узкие стрельчатые окна навевали идею о каких-нибудь «сценах из рыцарских времен», которые было бы не худо здесь разыграть. Но был здесь ресторан, и ресторан неплохой. Проникнуть сюда постороннему – целая проблема. Конечно, проникали. Но кто? Пусть жулик или спекулянт, но уж не мелюзга, а респектабельный джентельмен в отлично сшитом костюме. Пусть вездесущая торговля (куда от нее денешься?), но уж рангом не ниже директора торга. Пусть... Нет, не хочу возводить напраслину и создавать у читателя неправильное впечатление: в основном бывали здесь писатели да еще деятели искусств. Но прежде всего писатели.
Неукротимые прогрессисты и твердокаменные консерваторы, почвенники и виртуозные мастера городской прозы, сионисты и адепты русской идеи, литературные критики в обнимку с живыми мишенями своих критических стрел и копий, певец военной темы Пролазов и воинствующий пацифист, очкарик с бабьим лицом Заборович, – все валом валили сюда, не напасешься столиков: кто отобедать, а кто приятно провести вечерок.
А дамы, дамы, черт меня совсем возьми! Нет, я не о писательницах, это особая тема. И не о писательских женах со стажем. Я о юных музах иных мастеров отечественной словесности, о соблазнительных чертовках со стройными ножками и фигурками, под стать античной богине охоты Диане. А туалеты?.. Про штанишки в обтяжку из полупрозрачной ткани, про смелые мини-юбки я уж молчу. Вечернее платье из брабантских кружев – не угодно ли? Вчера еще демонстрировалось в Париже у «Кристиан-Диора» в качестве сногсшибательной новинки сезона, а сегодня можно его увидеть здесь, на одной из посетительниц.
Но хватит о дамах, эдак можно далеко уехать.
Что же всех сюда влекло? Забота о престиже? Отчасти, пожалуй. Рассказать, что накануне отужинал в Доме литераторов, – это может прибавить несколько баллов на московской бирже творческой интеллигенции. Но превалировали чисто прозаические мотивы. Можно было не опасаться ущерба для здоровья. Продукты доставлялись доброкачественные, блюда готовили на коровьем масле. Меню не слишком обширное, но с известной долею изыска. Добавьте сюда обслугу по высокому для нас разряду. Официантка никогда не обсчитает, уличенные безжалостно изгонялись Гошей. Оттого и чаевые, награда за честность, были высокими.
Но довольно. Я думаю, читатель уже получил представление о ресторане Дома литераторов. Тогда вперед!
Уже выпили по первой, по второй и по третьей.
За здоровье японского гостя, за укрепление советско- японских культурных связей. Еще за что-то. Все шло путем. Японец поначалу принялся снимать на видеокамеру зал и публику, но скоро оставил это занятие и сосредоточился на яствах и напитках. Отсутствием аппетита он не страдал, да и никак не скажешь, что представитель слабопьющей нации.
Урванцев явочным порядком взял на себя роль тамады. Говорил, не умолкая, и все больше по-английски. Непонятно, как при этом ему удавалось еще есть и пить. Он рассказывал разные забавные истории, связанные с собственным пребыванием за границею. В отличие от него, Сутеневский сделался хмур и мрачен. Ему мало нравилось, что Урванцев, пользуясь знанием английского, захватил бразды правления, а его собственная роль организатора мероприятия поблекла, оказалась приниженной. Возможно, сказалось также на умонастроении завлита происшествие в «пестром» зале, бестактная попытка заполучить японца Савелием Рыком и его сотоварищами. Не бесследно, видно, прошло и приставание в баре околотеатральной идиотки. Мелкие, незначительные инциденты, согласен. Так ведь артистические натуры, они какие хрупкие!..
Так или иначе, а внутри у Сутеневского росло непонятное раздражение, и на ум пришли совсем уж непривычные мысли. «Ну что я такое делаю? – думал он про себя. – Сижу здесь мелким прохвостом, обхаживаю какого-то японца. Зачем, непонятно. Чтобы слетать на недельку в Японию? Так они сами, без всяких обхаживаний, обязаны меня приглашать. В пояс кланяться! За великую честь почитать!»
Я не хочу, чтобы у читателя образовалось однобокое представление о Сутеневском Талантлив он был, как черт. И дело знал превосходно, до мельчайших тонкостей. Да вот только занимался с утра до вечера разной ерундой. Ему бы сидеть да писать давно начатую книгу о теории драмы. Или подыскивать пьесы для репертуара, в том числе и среди молодых авторов... Так ведь не до того!
Непривычные мысли удалось прогнать прочь, стоило энергично тряхнуть головою. Возвратившись к суровым реалиям, Сутеневский подумал, что пора, наверное, переходить и к деловой части. Решил, оптимально будет после того, как подадут горячее, цыплят-табака. Чтобы уж наповал сразить японца, лишить его всякой способности к сопротивлению... И он спросил у Урванцева, не пришел ли, по его мнению, черед цыплят-табака? Тот отыскал глазами официантку, махнул ей салфеткой. Официантка мигом поняла, что от нее требуется. Вышла и вскорости вернулась с подносом, на котором лежали распятые, фырчащие от жара цыплята-табака, аранжированные грузинскими травками и соусом «ткемали».
Естественно, снова пропустили по рюмочке, под цыплят. На японца грузинский деликатес действительно произвел сильное впечатление. То ли он в своей Японии никогда ничего подобного не пробовал, то ли у нас изголодался, но только обсасывал каждую косточку и буквально мычал от удовольствия. Следовало ловить момент. Сутеневский наклонился к Урванцеву и тихонько сказал:
– Переведи ему... Как он посмотрит, если я возьму да нагряну к ним в Японию? Лекции почитать, то да се.
Урванцев перевел. Японец заулыбался шире некуда Ответил, что будет рад и счастлив, если господин Сутеневский выкроит время для того, чтобы посетить их страну
– Черта мне в его радости? – не без сарказма заметил Сутеневский Урванцеву–Ты его давай напрямки спроси: примут меня самураи на полное довольствие или пет? И насчет оплаты лекций уточни.
Урванцев снова стал переводить. Разумеется, не напрямки, как велел Сутеневский, а в сдержанной и деликатной манере. С лица японца начала сползать утвердившаяся там, казалось, навечно улыбка. Оно сделалось напряженным, скучным и даже печальным. «Никак я ошибся? – с тревогой подумал Сутеневский, наблюдая метаморфозу – Ведь совсем плохой японец...»
Опасения подтвердились. Японец, вместо четкого и ясного ответа, зачем-то стал объяснять, что он проживает и маленькой квартире, семья же, наоборот, большая. Но в Токио есть первоклассные отели Сутеневский начал медленно закипать.
– Он что, дурочку из себя строит? Ты спроси, кто за отель платить будет?
Не успел Урванцев приступить к переводу этого, уже принципиального, запроса, как кто-то громко позвал:
– Аркадий Михайлович!
Сутеневский обернулся – у их столика стоял молодой человек в кургузой зимней куртке.
Клыкастый с бельмом на глазу сдержал слово. Войдя в Дом литераторов, Якушкин назвал местной Церберше свою фамилию. Та сверилась с записью в особой тетрадке, и Якушкин был пропущен. Сгорая от нетерпения увидеть Сутеневского, уличить его в недобросовестном поведении, он даже не сообразил, что следует раздеться. Спросил, где ресторан, и бросился туда. Кроличью шапку он, впрочем, снял, держал в руке. А другой сжимал оранжевую папку.
–...Вы меня не узнаете? – спросил он у Сутеневского.
Тот смерил его высокомерным взглядом поверх очков и покачал головой: нет, не узнает.
– Странно. Мы с вами не так давно виделись...
– В чем дело? – уже с раздражением произнес Сутеневский. – Что вам от меня нужно?
– Якушкин я...
Сутеневский пожал плечами, состроил гримасу полнейшего непонимания. Продемонстрировал всем своим видом Урванцеву и японцу – вот, мол, какая странная история, появляется какой-то непонятный Якушкин.
Но Урванцев (даром, что ли, он политический обозреватель?) сохранил в цепкой своей памяти эту фамилию. Пошептал на ухо Сутеневскому. Тут завлит все и вспомнил.
Как недели две назад позвонил ему театральный критик Банкетов и взахлеб стал расписывать одного молодого, перспективного автора. Как уговорил принять его, познакомиться. Не только с ним, но и с его «выдающимся» произведением, которое для театра просто находка. Что по врожденному легкомыслию Сутеневский исполнил, но только в части приема автора. Он пообещал ему прочесть рукопись и велел прийти снова. Назначил даже день и час, о чем напрочь забыл, занятый с утра до вечера обхаживанием прибывшего в Москву японца. Сегодня же, заскочив в театр, он обнаружил у себя на столе оранжевую папку с выведенной на ней незнакомой фамилией. Сутеневский и разбираться не стал, а, не моргнув глазом, отдал ее уже известной Церберше. Заодно предупредил, что его ни для кого нет. Кроме одного лишь Урванцева. Справедливости ради отметим, что примерно таким же образом он поступал и с другими малоизвестными авторами.
–...Вы мне назначили время, я приезжаю, а вас нет. Рукопись, не читая, отдали вахтерше, громко возмущался Якушкин. – Как прикажете понимать ваше поведение?
Минуточку! – Сутеневский встал, поправил очки. – На каком это основании вы решили, что я не читал вашу рукопись? А вот, представьте, читал! Вещь показалась мне слабой, для театра она никакого интереса не представляет. А встретиться с вами повторно я не смог по причине страшной занятости...
– Вы врете! – вспылил Якушкин. – Вы даже не раскрыли папки!
– Тогда нам с вами не о чем разговаривать! – Сутеневский изобразил на лице глубокую обиду и, скрестив руки, уселся на стул... Ах, не следовало ему садиться! В этом заключалась главная, стратегическая ошибка.
– Знаете, вы кто? Вы подлец и мерзавец! – закричал уже на весь зал Якушкин.
Многие из сидевших за другими столиками отложили свои приборы, отставили бокалы и начали прислушиваться, поглядывать, что там происходит, в районе камина. Японец же схватил свою видеокамеру и навел на Якушкина. Он отнес его к одной из местных достопримечательностей и решил запечатлеть.
– Молодой человек! – Тут уж возвысил голос Урванцев. Как тамада, он считал себя ответственным за поддержание порядка. – Вы не умеете себя вести! Я сейчас скажу, и вас выведут...
– Пусть только попробуют! – пригрозил Якушкин.
– Да-да! – встрепенулся Сутеневский. – Его надо вывести. Он пьян.
– Это я пьян? Ах, ты, гнида!
И Якушкин, поднявши вверх оранжевую папку, со страшной силою опустил ее на голову завлита знаменитого московского театра. Не плашмя, а ребром!
Случилось малопонятное. С головы Сутеневского посыпался густой сноп электрических искр, словно на ней производилась электросварка. Ни один специалист, к кому потом ни обращались, не смог дать объяснения этому непонятному явлению. Нам же остается предположить, что не зря папка побывала в руках Коровьева, а позже – и Азазелло.
– Ну, сколько, по-вашему, в папке весу? Ну, грамм пятьсот, ну, килограмм, от силы. Тем не менее, эффект от удара ею по голове завлита получился знатный. Под Сутеневским опрокинулся стул, и он рухнул на пол. При этом он поддел ногами столик. Посыпались на пол бокалы, бутылки, тарелки и блюда с холодными и горячими закусками.
Все, бывшие в зале, повскакали со своих мест. Через мгновение Якушкина уже держали за руки – высокий и плечистый официант, единственный мужчина в местном официантском корпусе, и не потерявший самообладания Урванцев. Сутеневский валялся на полу в бесчувственном состоянии. Руки разбросаны в стороны, костюм обляпан соусом «ткемали» и остатками салата «столичный». На груди застрял почти целехонький цыпленок- табака.
Примчался директор ресторана Гоша. Среди посетителей, к счастью, случился писатель, окончивший медицинский институт, но впоследствии занявшийся литературой. Про него говорили, что он самый знаменитый врач среди писателей и самый знаменитый писатель среди врачей. Он проверил пульс у Сутеневского. Оказался – слабый, но все ж прослушивается. По указанию врача-писателя несколько добровольцев из публики вынесли завлита в фойе, где было побольше воздуха, и уложили на диван в ожидании «Скорой помощи», которую Гоша вызвал самолично по телефону.
Он вызвал также и милицию из ближнего, 83-го, отделения. Якушкина распорядился отвести в свой кабинет. Тот не делал никаких попыток вырваться и убежать. Был страшно бледен, не произнес ни слова. В кабинете его заперли на ключ.
А в ресторанный зал пришли две уборщицы с вениками, мокрыми тряпками и совками. Собрали разбитую посуду, вытерли пол. Публика стала рассаживаться по местам, обсуждая инцидент. Еще прежде никто не обратил внимания на неведомого посетителя в строгом черном костюме. Он ужинал в одиночестве, за столиком в противоположном углу зала. При появлении Якушкина он встал и расплатился. На пути к выходу оказался в числе первых, подоспевших к месту происшествия. А потом исчез. Надо ли объяснять, что это был Азазелло? Как удалось ему получить отдельный столик, про то история умалчивает.
Урванцев взялся отвезти японца в гостиницу «Будапешт», где тот остановился. По дороге объяснил, что молодой человек, который повел себя в ресторане столь странным образом, – начинающий литератор. Спор у него с беднягой Сутеневским вышел по одной сугубо эстетической проблеме. В силу своей горячности, он, не приняв аргументов оппонента, прибегнул к своим, не имеющим прямого отношения к эстетике. Японец согласно кивал.
Вернувшись в свою Японию, он опубликовал в журнале подробную статью о московских впечатлениях. Нашел в ней отражение и инцидент в писательском ресторане. По мнению автора, в России настолько жарко и бурно спорят о проблемах литературы и искусства, что, случается, лупцуют друг друга по голове чем попало.
Пока ожидали милицию, Гоша с помощью официантки, обслуживавшей злополучный столик, составил акт о нанесенном ущербе: разбитая посуда плюс счет за испорченный ужин. Сумма вывелась немалая: 412 рублей 64 копейки. Не берусь судить, приписал ли Гоша лишку или нет.
Вначале, как водится, прибыла милиция, а уж затем «Скорая». Сутеневского отвезли в Институт Склифосовского, где мы его пока оставим на попечении врачей. Что касается милиции, то подобные инциденты в Доме литераторов были для нее не в диковинку. Правда, почаще случались в «пестром» зале, нежели в ресторане.
Прибыл молодой розовощекий крепыш-лейтенант в сопровождении сержанта. Для составления протокола расположились в Гошином кабинете. Якушкин на все вопросы отвечать отказался, вид у него был совершенно невменяемый. Но убедились, что не пьян, разве что под наркотой. Лейтенант объяснил, что в его показаниях больше нужды нет, достаточно показаний двух свидетелей. В этом качестве выступили Гоша и уже упомянутая официантка.
Закончив составлять протокол, лейтенант пообещал, что намотают парню, самое меньшее, два года по 206-й статье. А если травма Сутеневского серьезная, то и поболее. Плюс возмещение нанесенного материального ущерба в соответствии с актом.
Приняв от Гоши в качестве компенсации за беспокойство блок сигарет «Ява», милиционеры повели Якушкина через бар, через «пестрый» зал и фойе и вывели на улицу Герцена...
Я не убежден, что Аркадию Михайловичу Сутеневскому предстоит вновь появиться на страницах моего повествования. Но осветить, чем обернулся для него инцидент, или происшествие, в Доме литераторов, я обязан.
Из Института Склифосовского его выписали через две недели. Некоторое время еще он побыл на домашнем режиме, а затем возвратился к исполнению своих служебных и общественных обязанностей. Существенного ущерба для его здоровья отмечено не было, если не считать появившегося легкого заиканья да еще непроизвольного подмигивания правым глазом. Можно сказать, легко отделался. Не торопитесь!
Две важных перемены не остались незамеченными.
Во-первых, Аркадий Михайлович неожиданно утратил всякий интерес к зарубежным поездкам. Никаких поползновений или диверсий на этот счет более не предпринимал. А когда ему предлагали, когда, казалось, само плывет в руки, каждый раз находил благовидный предлог, чтобы отказаться. Предлагал взамен себя альтернативную, как принято нынче выражаться, кандидатуру. Удивительно, но факт!
Ну, а во-вторых, он столь же неожиданно стал оказывать широкое покровительство начинающим драматургам. И вообще литераторам, предлагавшим свои произведения для воплощения в театре. Стоило об этом разнестись по Москве, как к нему начали выстраиваться в очередь. Сутеневский всё подряд читал, встречался потом с авторами, подолгу с ними беседовал, давал дельные советы по части улучшения и доработки их произведений. Иные из них упорно и даже самоотверженно проталкивал на театральные подмостки.
На этом можно поставить точку. Давайте оставим Аркадия Михайловича в его служебном кабинете, за столом, заваленным горою разноцветных папок, и обратимся к куда более удивительным событиям.
Глава 7. На Патриарших прудах дела покруче
Часа за полтора до скандального происшествия в писательском ресторане совсем неподалеку, на Патриарших прудах, два упитанных господина прогуливали своих собак: коккер-спаниеля и ньюфаундленда. Владелец кривоного, со стелющимися по земле огромными ушами коккер-спаниеля имел фамилию Евдаков и был птицею очень высокого полета, входил в ближнее окружение Президента. Спросите: как удалось ему воспарить в заоблачные дали? Не знаю, не знаю... Повторю лишь вослед за Гоголем: «темно и скромно было происхождение моего героя». Не стану напирать на скромное происхождение, живем все же в стране с пролетарскими традициями, и рабоче-крестьянские папа и мама могут стать важным плюсом в карьере. Но то, что темнотой был окутан путь Евдакова наверх, это уж точно.
Молодым совсем человеком был он заброшен в качестве корреспондента на Ближний Восток, откуда регулярно слал статьи и репортажи о жутких происках международного сионизма. Считалось, там прописался. Водил дружбу со многими арабскими шейхами и эмирами. И вдруг вынырнул в Москве. Сделался почему-то доктором наук, кажется, исторических, а там и академиком. Поахали, конечно, но приутихли. Да и кого у нас только ни избирают в академики?.. И вдруг новый, прямо-таки сверхъестественный прыжок – в партийную и государственную верхотуру. Тут и ахать не стали, поскольку такие наступили времена – только поспевай за сногсшибательными новациями и кадровыми перестановками.
Напарником Евдакова по прогулке с собаками и, соответственно, владельцем ньюфаундленда был Матвей Илларионович Шуртяев, драматург. Еще драматург, скажете, сколько можно? Да, еще!
Шуртяев был драматургом совсем иного рода, нежели Якушкин или даже Урванцев. Его пьесы, помимо Москвы, шли едва ли не в каждом городе, а также и кое-где за границей. И во всех, без исключения, главным героем был Владимир Ильич Ленин, основатель нашей славной коммунистической партии и государства. Кстати, пьеса, которой я вскользь коснулся, в которой рабочие с молотками и работницы в косынках водили хоровод вокруг Ильича, – ее также сочинил Шуртяев.
...Впоследствии Евдаков не мог объяснить, с чего это ему вздумалось после трудового дня ехать не на дачу, где он пребывал в любое время года в целях укрепления здоровья, а на городскую квартиру. Там его настиг телефонный звонок Шуртяева. Драматург просил о незамедлительной встрече, чтобы обсудить кое-какие вопросы и посоветоваться. Сговорились сойтись на Патриарших прудах, на прогулке с собаками. Оба квартировали неподалеку. Замечу, что и евдаковский коккер-спаниель не просто так оказался в городе. И не по прихоти автора жена Евдакова привезла его с дачи для совершения назавтра плановой вязки с одной чистопородной сукою.
Итак, место действия – Патриаршии пруды.
Почему «пруды»? Почему во множественном числе, если пруд всего один? Впрочем, как я выяснил, когда-то давно их было несколько. Но сейчас, уж точно, один, водная гладь, заключенная в правильный четырехугольник. Это летом, весной или осенью. Зимой же замерзший пруд становится катком. На берегу со стороны Спиридоньевского переулка павильон в стиле ампир, здесь раздевалка для любителей катанья на коньках. На противоположном берегу памятник дедушке Крылову. Великий баснописец присел в задумчивости на каменную скамью, сочиняя, видимо, одну из своих знаменитых басен. Пруд обсажен липами. Аллеи в любое время года располагают к прогулкам. Низкая ограда отделяет сей живописный оазис в центре Москвы от улиц. Вот вам и описание.
Многое тут, конечно, изменилось с незабвенных булгаковских времен. Не громыхает больше по Спиридоньев- ке трамвай «Аннушка» Порушили кое-какие дома, понастроили взамен новых, поуродливей прежних. Но я вас уверяю: таинственные флюиды, предвозвестники удивительных событий, продолжают витать над Патриаршими прудами Особенно в вечернюю пору...
Возвратимся, однако, к Евдакову и Шуртяеву. Не скажу, чтобы они были друзьями или приятелями. Скорее, добрыми знакомыми Шуртяев знакомство прилежно пестовал. Объяснял доверенным лицам, что таким образом он старается держать руку на пульсе страны. Да и ценный совет получить можно было от Евдакова. Вот и сегодня просто позарез понадобилось посоветоваться Шуртяеву относительно одного предмета. Точнее, персоны. А именовалась та персона Владимиром Ильичем Лениным.
За последнее время разнузданные радикалы и демократы начали подбираться к Ильичу. В различных сомнительных изданиях появились наглые статейки о том, что не таким уж был он божьим одуванчиком. Наоборот, невероятно жесток, необузданно властолюбив. И дровишек наломал немало. От него, видите ли, и проложилась дорожка, которая привела страну к ее нынешнему, аховому состоянию.
Как же тут не заволноваться? Ленин был для Шуртяева не просто титан мысли и вождь мирового пролетариата, но также и источник постоянных доходов. Скажем прямо, немалых. А тут до чего дело дошло! Его, гениального стратега и тактика, обвиняют уже в том, что у нас сегодня нет в магазинах колбасы или элементарных штанов!.. Начитавшись подобных статеек, навряд ли попрет публика в театр, на пьесу, где Ильич обучает, как надобно сражаться с оппортунистами всех мастей и вообще строить новую жизнь. Ой, навряд ли!..
И родилась в голове у Шуртяева смелая новация. Да, Ленин кое в чем ошибался. Надо это признавать, пока не поздно. Но он вовремя признавал свои ошибки, моментально их исправлял. Да, при нем определенных лиц даже и расстреливали – не тех, кого следовало по справедливости. Были ошибки и стратегического свойства. К примеру, в последней пьесе Шуртяева «Дорога без конца», еще не поставленной на сцене, имелся такой замечательный диалог:
Ленин. Введение военного коммунизма в восемнадцатом году было, Надюша, жуткой ошибкой.
Крупская. Володя! Ну как ты можешь так говорить?
Ленин. Тем не менее, это факт
Крупская. Остановись, не будь оппортунистом!
(Ленин закрывает лицо ладонями, плачет)...
Ну, а главная, можно сказать, трагическая ошибка Ленина состояла в том, что он не распознал вовремя звериной сущности ближайшего своего соратника Сталина. А когда распознал, было уже поздно. Что имело для страны самые губительные последствия.
Согласитесь, складно получилось у Шуртяева, ничего не скажешь.
Но почему такая срочность? Почему он просил Евдакова о незамедлительной встрече? И на это была своя причина.
Назавтра Шуртяеву предстояло лететь с делегацией за границу, в город Брюссель, чтобы поучаствовать в международном «круглом столе» насчет проблем нашей перестройки. Не просто поучаствовать, но и выступить с докладом. И все на ту же ленинскую тему. Там, в Брюсселе, перед представителями мировой общественности, нацелился Шуртяев апробировать смелую свою новацию, чтобы произвести громкий резонанс и повысить тем самым собственную значимость как у нас, так и за кордоном. Но благоразумно прежде заручиться согласием или даже поддержкой руководства страны, к которому принадлежал Евдаков...
Шуртяев с Евдаковым уже пару раз обогнули пруд. Впадая в известный натурализм изображения, отмечу, что приходилось им частенько останавливаться, когда одной из собак или обеим одновременно приходила идея оросить, задравши ногу, очередное дерево. Вообще-то прогуливать собак на Патриарших прудах запрещено, но, как говорится, не для всех у нас в равной степени пишутся законы. Что касается хозяев, то они обменивались пока незначительными новостишками, поругивали демократов: оба принадлежали к умеренно консервативному крылу. И за конькобежцами, выписывающими вензеля на замерзшем пруду, понаблюдали. Наконец Шуртяев приступил к теме, ради которой, собственно, и была затеяна прогулка.
Аргумент он выдвинул такой. Лучше частично поступиться классическим образом вождя и мыслителя, чем позволить измордовать его полностью. Атаки на Ильича становятся все яростнее. Крыть, честно говоря, нечем, другого выхода он не видит.
Аргумент должного понимания не встретил. В целях конспирации оба собеседника называли Ленина «Лукичом». Евдаков твердил одно: Лукича мы не отдадим, он наш последний рубеж, отдадим – тогда вообще все полетит к черту.
Никто не говорит, чтобы отдавать Лукича целиком, – возражал Шуртяев. Замечу, что собеседники шли в это время по аллее, проложенной параллельно Малой Бронной. – Но если Лукич не Бог, а человек, а людям свойственно ошибаться, следовательно, и он в философском плане...
Тут обе собаки по непонятной причине одновременно рванули поводки в противоположные стороны. Их хозяева вынуждены были за ними потянуться. Образовался просвет, в который тотчас вклинился некий субъект. Он был высоченного роста, в берете, лихо заломленном на ухо, отчего напоминал композитора Вагнера, каким тот изображен на известном портрете. На незнакомце было пальто свободного покроя, под мышкой трость с набалдашником в виде собачьей головы. Не успели оглянуться, а он уже шагает вместе с ними по аллее. Евдаков первый обратил на него недовольный взгляд, и тогда субъект, приложив два пальца к берету, произнес с легким иностранным акцентом буквально следующее:
– Я прошу прощения, но предмет вашего ученого спора показался мне настолько интересным, что я бы хотел принять в нем участие.
– С кем имею честь? – процедил сквозь зубы Евдаков.
– Кто я-я-я?!– Субъект неожиданно пропел приятным басом фразу из оперы Гуно «Фауст». Перейдя же на нормальную человеческую речь, продолжал: – Я путешественник. Слоняюсь скуки ради по белу свету. Сегодня – здесь, завтра – там. В Москву вот решил наведаться. Если сомневаетесь, извольте...
Он извлек из бокового кармана пальто внушительных размеров бумажник, а из бумажника зеленый паспорт. Протянул Евдакову. Тот полистал. Виза была проставлена, фотография сходилась с оригиналом, фамилия... фамилия как-то сразу вылетела из головы. То ли немецкая, то ли еврейская, осталось такое ощущение.
– Вы что же, немец? – уточнил Евдаков, возвращая документ.
– Да, пожалуй, что немец, – быстро согласился субъект.
...Повторилась та же история. Ни Евдаков, хотя в его руках был паспорт с четко проставленной фамилией, ни Шуртяев, который как-никак, а писатель, – не признали в субъекте булгаковского Воланда! А ведь это был он. Он и никто другой! Спустя столько лет вновь появился на Патриарших прудах собственной персоной!
– Ну и что же такого вы хотели нам сообщить? – с возможной сухостью в голосе спросил Евдаков.
– Я позволю себе заметить, что вы куда ближе к истине, чем ваш оппонент. Ленин, или Лукич, как вы его называете, был величайшим революционером. Его не пристало мерить обычными мерками. А уж выискивать у него какие-то ошибки просто смешно. Ни много ни мало, двенадцать миллионов людей отправились по его милости на тот свет...
– Величие революционера вы мерите числом погибших людей! – вскричал Шуртяев. – Странная точка зрения!
– Да уж какая есть, – с печальным вздохом отвечал Воланд. – Я имею полное право ее высказывать, поскольку сам был свидетелем Октябрьской революции и Гражданской войны. И с Лукичом неоднократно встречался– в Петрограде, в Смольном, здесь, в Москве, в его Кремлевской комнате...
– Вы видели живого Ленина?!–вырвалось у Шуртяева. Тут было уже не до детской конспирации.
– Как сейчас нас.
– Сколько же вам в таком случае лет?
Не отвечая впрямую на каверзный вопрос, Воланд вновь извлек бумажник, а из него на этот раз пожелтевшую от времени фотографию. Вручил Шуртяеву. Тот стал разглядывать ее в свете фонаря. На фотографии были запечатлены какие-то люди, выстроившиеся в три ряда. Кто в пиджаке, кто в полувоенном френче, кто в кожаной куртке, иные с бородами. В нижнем ряду, в центре, косоглазый Ильич, а в верхнем, крайний справа, Воланд. В том же самом лихо заломленном на ухо берете. Сколько лет прошло, а он нисколько не постарел!
Это группа делегатов Конгресса Третьего Интернационала, – пояснил Воланд. И добавил: – Кстати, Ленину я при личных встречах не раз говорил: что-то уж больно много вы народу укокошили. А он в ответ: ничего, пролетариат нам новых народит, у него это неплохо получается. Вот такая логика.
Пораженный Шуртяев передал фотографию Евдакову. Тот также отыскал на ней и Ленина, и Воланда. «Ловкая фальшивка, – подумал он про себя. – Как бы от этого типа отделаться?»
– Вы, наверное, думаете, что фотография поддельная? – угадал его мысли Воланд. – Если угодно, мы можем с вами заключить пари на миллион долларов. Передайте фотографию на экспертизу в Институт марксизма-ленинизма. Я полагаю, вам не откажут там в такой малости, уважаемый Николай Павлович.
– Откуда вы знаете, как меня зовут? – удивился Евдаков.
Воланд улыбнулся и достал из кармана необъятного своего пальто свежий номер «Правды». Ткнул пальцем в корреспонденцию на первой полосе о пребывании в Москве очередного арабского шейха. Вчера его принял член высшего руководства страны Николай Павлович Евдаков. Корреспонденция сопровождалась снимком, на котором шейх в экзотическом одеянии и Евдаков в цивильном костюме обменивались дружеским рукопожатием.
Евдаков возвратил фотографию и сказал, что от заключения пари отказывается, поскольку никаких оснований сомневаться в подлинности фотографии у него нет.
– Ну и ладненько, – согласился Воланд, убирая фотографию в бумажник. – Я вам не какой-нибудь американский жулик, вроде того же Хаммера. Приехал, понимаешь, предъявил какие-то сомнительные фото, письма от Ленина, втерся в доверие к вашему руководству и давай после грабить. Назаключал разорительных контрактов, вывез массу ценных картин, ювелирных изделий... Мне ровным счетом ничего не нужно. Разве что повспоминать былые времена, пофилософствовать с подходящими людьми...
Между тем, обе собаки уже некоторое время обнюхивали Воланда. Видимо, они остались им довольны и дружелюбно завиляли хвостами. Воланд подхватил недавних оппонентов под руки и увлек их по аллее вперед. Запланированная прогулка с собаками продолжалась, но теперь уже с его участием.
Евдаков с Шуртяевым оба были тертыми калачами и сочли за благо помалкивать. Воланд же вновь сел на своего конька, стал развивать уже высказанную идею о неприменимости к великим революционерам обычных мерок. По его словам, каждый из них, кого ни возьми, дорвавшись до власти, моментально становится деспотом и тираном, кровопийцей и душегубом. Выискивать у них какие-то ошибки смешно и нелепо. Ведь не говорим же мы об «ошибках» остальных тиранов, которые не были революционерами? Того же Нерона? Или русского царя Ивана Грозного? Или английского монарха Генриха Восьмого?.. С другой стороны, вождь Английской революции Оливер Кромвель, Французской – Максимильен Робеспьер, захватив власть, тоже укокошили массу народа. Их тоже смешно за это корить, как это делают отдельные историки, поскольку суть всякой революции и состоит в массовом человекоубийстве. Хотя Кромвель с Робеспьером в подметки Ленину не годятся, народу они извели гораздо меньше...
– Минуточку! – Шуртяев остановился и высвободил руку. – Откуда все-таки вы взяли эти пресловутые двенадцать миллионов? И на каком это основании вы их целиком вешаете на Владимира Ильича?
– На самом что ни на есть законном основании, дражайший Матвей Илларионович. – Предваряя вопрос, откуда он знает имя-отчество Шуртяева, Воланд вытащил из кармана еще одну газету, «Литературку» за прошедшую среду. Там было напечатано интервью с драматургом под заголовком «Ленинская тема в ракурсе перестройки». – На кого же еще мне эти миллионы вешать? – продолжал Воланд. – Ленин открыто призывал к Гражданской войне, сам ее и устроил. Что касается цифры, то уж поверьте, я пользовался самыми авторитетными источниками.
– Вот что я вам замечу, – произнес Шуртяев, выставив вперед ножку. – Призывал к Гражданской войне Ленин или не призывал, она была неминуема. Страсти были до того накалены, что...
Воланд не позволил закончить тирады. Весело рассмеявшись, он объяснил, что история как наука не терпит сослагательного наклонения. Надлежит рассматривать лишь то, что произошло, и ничего кроме. Что было бы, если бы Цезарь не перешел Рубикон? Если бы Наполеон не проиграл сражение при Ватерлоо? А Ленин не призывал к Гражданской войне? Порядочному историку не к лицу мыслить подобным образом.
– Вы, стало быть, историк? – вставил Евдаков.
– В том числе и историк, – отвечал Воланд. И добавил: – Сегодня на Патриарших прудах интересная будет история!
Знаменитая булгаковская реплика была пропущена мимо ушей. Утратив уже всякую осторожность, Шуртяев стал домогаться у Воланда, из чего, по его мнению, складываются двенадцать миллионов жертв? Воланд спокойно начал производить подсчеты. Из погибших на фронтах Гражданской войны, из умерших вследствие жуткой разрухи от голода и болезней, из расстрелянных в «чрезвычайке» заложников...
– Я так и знал, что речь зайдет о заложниках! – с победоносным видом воскликнул Шуртяев и поймал одобрительный кивок Евдакова. – Мы категорически отвергаем выдумки враждебной пропаганды! При Ленине никаких заложников не было! А были заговорщики и контрреволюционеры, захваченные с оружием в руках. Большевики никогда не воевали с мирным населением.
– Вы так полагаете? – спросил Воланд и прищурился.
– Да, я так полагаю и готов заявить об этом с самой высокой трибуны!
– Уж не в Брюсселе ли? – последовал новый вопрос, прозвучавший уже с откровенной ехидцей.
«Откуда он знает про Брюссель?» – пронеслась в голове Шуртяева тревожная мыслишка. Но он тотчас вспомнил, что поделился планами участия в Брюссельском «круглом столе» с интервьюршей из «Литературки», и в газете это было напечатано.
– Хотя бы в Брюсселе! – произнес с вызовом Шуртяев.
– Вам это не удастся. – Воланд покачал головой.
– Это почему же? – продолжал задираться отважный Шуртяев. – У меня в кармане билет на самолет, виза получена, гостиница заказана.
– Все это не имеет ни малейшего значения. – Воланд смерил драматурга коротким, но цепким взглядом. – Вас арестуют.
– Меня? Кто? Бельгийская полиция?
– Бельгийская полиция тут ни при чем. Вас арестуют чекисты.
– Вы хотите сказать, КГБ? – Шуртяев рассмеялся деланным смехом и взглядом пригласил повеселиться Евдакова. Вот, мол, какой, оказывается, шутник наш новый знакомец!
– Я сказал то, что хотел сказать, – со всей серьезностью произнес Воланд. – Вас арестуют чекисты в качестве заложника и застрелят при попытке к бегству.
– Вы определенно рехнулись, – не выдержал тут Евдаков. – Почему это наши чекисты должны арестовать Матвея Илларионовича? Даже смешно...
– В каком смысле я рехнулся? – спросил Воланд.
– В самом прямом. У вас, по-видимому, отклонения в психике.
Воланд согласно закивал головою, давая понять, что это не исключено. Но вслух заметил, что человеческая психика штука весьма тонкая. Распознать, есть отклонения или нет, вправе только квалифицированный специалист.
– Впрочем, – добавил он,– в практике вашей психиатрии, как я слышал, бывает всякое. Случается, и вполне нормального человека возьмут да и упекут в сумасшедший дом.
У нас с этой практикой навсегда покончено, – сказал, как отрезал, Евдаков. – Это признано на самом высоком международном уровне.
– Прекрасно! – воскликнул Воланд. И тут же задал Евдакову совсем уж неуместный вопрос: – Вот вы считаетесь психически здоровым?
– Безусловно.
– А ведь вас прямо сегодня упекут в психиатрическую лечебницу.
– Да вы что!..– возмутился Евдаков и поперхнулся от внезапно поднявшегося гнева.
– Именно, именно!.. Кстати уж, я хотел поинтересоваться, Николай Петрович, существуют ли у вас сумасшедшие дома повышенного типа – для элиты, для высшего эшелона?..
Согласитесь, это было уже слишком. Всяким шуткам есть, наконец, предел... Шуртяев попросил у Воланда пардону для краткого тет-а-тет с Евдаковым. Оттащил его в сторону. Воланд тем временем, демонстрируя полное удовлетворение проведенной беседой, уселся на скамейке. Заваливши ногу на ногу, он поигрывал тростью.
– Коля! – горячо зашептал Шуртяев на ухо Евдакову, неожиданно перейдя с ним на ты. – Знаешь, он кто? Никакой он не иностранец! Он экстремист из прибалтов, чтобы мне так жить! Акцент выдает...
– Ты думаешь? – глотая избыток слюны, с сомнением спросил Евдаков.
– Уверен!.. Я сейчас – что? Я сбегаю, позвоню кое- кому. Пусть срочно приедут. Подержи моего пса, а я сбегаю на угол.
Вручив туго соображавшему Евдакову поводок от своего ньюфаундленда, Шуртяев быстро пошел по аллее в направлении Спиридоньевского переулка.
– Матвей Илларионович! – донесся до него голос Воланда.– В последний раз даю вам возможность признаться в том, что вам отлично известно. Признайтесь, что большевики по прямым указаниям Ленина расстреляли многие тысячи мирных жителей, взятых заложниками. Я вас очень прошу, признайтесь!
Шуртяев остановился, обернулся. Поглядел назад диким взглядом и ничего не ответил. Сердце на мгновение сжалось, руки и ноги похолодели. Но – отпустило. Он несколько раз жадно глотнул морозного воздуха и продолжил свой путь.
– Не прикажете ли, в таком случае, позвонить режиссеру Карнаухову и отменить читку вашей пьесы «Дорога без конца»? Вследствие вашего отсутствия! – это были последние слова Воланда, которые довелось услышать Шуртяеву...
С пьесой «Дорога без конца» дело складывалось совсем не просто. Несмотря на все примененные Шуртяевым смелые новации, Сутеневский, сделавшись радикалом и демократом, пьесу решительно забраковал. Ни о каком Ленине и слышать больше не хотел. Но Шуртяеву удалось напрямую вложить пьесу в руки главного режиссера Карнаухова. Пришлось посулить Карнаухову за постановку неслыханные блага. И Карнаухов не выдержал, сломался. Читка пьесы на труппе была назначена на следующий день после возвращения Шуртяева из Брюсселя... «Откуда этому прибалту про читку известно? – подумал Шуртяев. – Ведь это же пока страшный секрет!»
Он уже не шел, а бежал, неуклюже переваливаясь с одного бока на другой. Его обливал холодный пот... Был, у него был, заветный телефончик давнего дружка с Лубянки Сергея Митрофановича, в чине полковника! В прежние времена поставлял туда Шуртяев различные сведения – и по просьбе Сергея Митрофановича, и по собственной, гражданской инициативе. Думал, теперь без пользы – перестройка. Ан нет! Пригодился телефончик!.. Сергей Митрофанович даст команду – мигом приедут, заберут наглого прохвоста, свезут куда следуют и прояснят. У Сергея Митрофановича на байках о встречах с Лениным не проскочишь, не таких раскручивал!..
Когда до угла оставалось метров пятьдесят, не больше, произошло малопонятное. Разом погасли все фонари. Окна в близлежащих домах тоже притемнились. Короче, темень наступила полнейшая. Шуртяев остановился. Идти наощупь не рискнул. По скользкому, присыпанному снежком асфальту недолго в темноте и ноги переломать. И уж тогда точно никакого тебе Брюсселя!
Одновременно с внезапным наступлением темноты Шуртяев почувствовал, что с ним творится что-то неладное. И трудно объяснимое. Показалось, будто занесло его в подземный переход – то ли провалился, то ли затащили недруги. Надо заметить, что подземными переходами пользовался Шуртяев крайне редко. А пользовался в передвижениях по городу исключительно собственным «мерседесом». Случалось исполнять на нем сложнейшие маневры и километровые объезды, лишь бы подрулить точно в заданный пункт, чтобы обойтись без всяких там подземных переходов. Друзья шутили, будто он на «мерседесе» ездит даже в общественный туалет, расположенный напротив его дома. Шутка явно неуместная, далекая от реализма: в квартире Шуртяева; на всякий случай, имелось целых два туалета...
Подземный переход показался страшно длинным, не было ему конца, прямо какой-то туннель, что ли? Шуртяева несло все дальше и дальше. Свет дробно то вспыхивал, то гаснул. Зачем-то промелькнул плакат на стене – полузабытый, из давней эпохи, с улыбающимся в пушистые усы Сталиным. Вождь народов держал на руках узбекскую девочку по имени Мамлакат, которая, как известно, отличилась на уборке хлопка. «А Сталин зачем? – успел подумать Шуртяев. – Мы же его окончательно разоблачили!».
Но тут его чудесным образом вынесло на поверхность. Тотчас зажглись фонари, и Шуртяев с удивлением обнаружил, что по-прежнему он на Патриарших прудах, на том же самом месте, где застало его отключение электричества. Стало быть, подземный переход ему померещился? Как и плакат с усатым вождем народов?.. Странно! Никогда прежде ничего подобного с ним не происходило. «Вернусь из Брюсселя, надо будет серьезно посоветоваться с врачом», – решил он... Шуртяев вспомнил, зачем и куда он направлялся – про странного прибалта, про Сергея Митрофановича. Что-то заставило его оглядеться, и он обнаружил, что пейзаж местности сильно изменился.
Вместо привычных взгляду домов возникли прежде невиданные, с островерхими башенками. Конькобежцев с пруда как ветром сдуло. Да и пруд оказался нерасчищенный, а заваленный снегом. Но одно дело пейзаж. Включившийся слух наполнился хлопаньем ружейных выстрелов. Со стороны Тверской – тра-та-та-та-та! – хлестко застрочил пулемет. По аллеям, по Малой Бронной забегали какие-то люди в сапогах и кожаных тужурках. «Стой! – закричал в надрыве кто-то. – Стрелять буду!» Раздался душераздирающий женский крик, а следом, совсем рядом, – выстрел.
Прямо на Шуртяева вышел высокий и бородатый солдат в шинели без погон. За плечами котомка, на плече винтовка-трехлинейка с примкнутым штыком. В руках солдат держал жестяной чайник. И что уж совсем никак не вязалось с его обликом, на носу у него прицеплено было знаменитое чеховское пенсне на шнурочке. Читатель уже смекнул, что это был не кто иной, как Коровьев.
– Любезнейший! – обратился к Шуртяеву непонятный солдат. – Где бы тут у вас кипяточку раздобыть? Смерть как чайку захотелось.
Шуртяев в ужасе отшатнулся и побрел дальше. Он утратил уже всякую способность соображать, оценивать происходящее. Было одно желание – уйти подальше от этих страшных мест.
– За него, понимаешь, кровь мешками проливал! – крикнул вдогонку революционный солдат Коровьев. – Вшей в окопах кормил! А он – кипяточку пожалел! Никакого сочувствия! Одно слово – буржуй!
– Где буржуй? Где? – крикнул кто-то. – Держи его!
Со стороны Малой Бронной, перепрыгнувши через ограду, выскочил на аллею приземистый и плотненький матрос в распахнутом бушлате и неимоверных клешах. Чем-то он жутко напоминал кота – морда круглая, глаза– щелки. На поясе у него болтался маузер в деревянной кобуре. Он остановился, руки в боки, широко расставив ноги, и преградил путь Шуртяеву. Когда тот подошел к нему вплотную, матрос хлопнул его ладонью по плечу.
– Буржуй? Признавайся!
– Я не буржуй, я советский драматург, – дрожащим от страха голосом отвечал Шуртяев.
– Врешь! По одежде видно – буржуй! А ну, пошли!
И матрос взял несчастного драматурга за шиворот и потащил на угол, куда, собственно, тот и направлялся.
Только никакой там, на углу, телефонной будки не оказалось, а стоял допотопный грузовик, какие можно увидеть в кинофильмах на революционную тему. Мотор был включен, кузов битком набит людьми. Мужчины в котелках и треухах, в пальто с воротниками шалью, женщины в шубах натурального меха, в платках, повязанных поверх шляпок. Лица у всех бледные, глаза отрешенные.
– Комиссар! Кошкин! – позвал котообразный матрос. – Принимай еще одного буржуя! Это я его отловил!
Из дверцы кабины высунулась усатая голова в кожаной фуражке. Один глаз с бельмом, из-под верхней губы выпирал наружу клык.
Молодец, товарищ Бегемот! – похвалила усатая голова матроса. А Шуртяеву приказала: – Полезайте, гражданин, в кузов, вы арестованы.
Шуртяев собрал последние остатки самообладания и спросил:
– На каком основании?..
– Именем революции! – последовало четкое и внятное объяснение со стороны комиссара Кошкина. Шуртяев поглядел на отрешенных людей в кузове. Лезть туда не хотелось. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу.
– А, что с ним долго церемониться! – встрял подоспевший солдат-Коровьев. – Он мне, товарищи, кипяточку пожалел. Гад он и контра, больше никто!
– У меня на буржуев глаз наметанный! – похвалился матрос Бегемот. – Можно сказать, глаз-ватерпас!
– Гражданин, вы нас задерживаете! – сказал комиссар Кошкин. – Полезайте в кузов без разговоров. В ЧК разберутся...
При слове ЧК Шуртяева охватил новый прилив теперь уже непреодолимого страха. Не раздумывая, он кинулся бежать. Не назад, в аллею, а по Малому Козихинскому переулку, что выходит на Малую Бронную... Поскользнулся, упал, поднялся, снова побежал...
Ах, Шуртяев, Шуртяев! Предупреждал же тебя Воланд: будете застрелены при попытке к бегству.
Отчего же ты не принял к сведению? Пеняй теперь на себя, братец!
Вослед неслись крики:
– Стой! Стрелять буду!
– Уйдет, братцы! Ей-Богу, уйдет!
Бабахнул выстрел. Еще один... Снова крики:
– Из винта! Срежь его из винта!
Третьего выстрела Шуртяев не услышал. Кто произвел его, тоже неясно. То ли матрос Бегемот, то ли революционный солдат Коровьев. А возможно, и сам лично комиссар Кошкин, в котором читатель, без сомнения, угадал определенное сходство с Азазелло... Что-то неведомое со страшной силой подбросило Шуртяева в воздух, и он, перевернувшись, упал на спину, широко раскинув руки со скрюченными от пронзившей его боли пальцами. Последнее, что он увидел, было кумачовое полотнище, протянутое поперек Малого Козихинского переулка, с лозунгом – «Пролетарий! На коня!» Его автором, между прочим, был не Ленин, а другой большевистский вождь Лев Давыдович Троцкий.
Дальше наступила полная темень, небытие.
Между тем Евдаков в обществе Воланда и двух собак сидел на скамейке, неподалеку от памятника Крылову. Собаки вели себя смирно, но Евдаков все же держал их на поводках. Надо заметить, что отключение электричества, последующее преображение пейзажа, возврат в наше славное революционное прошлое, с облавой на буржуев и прочей чертовщиной, – все это, очевидно, было припасено для одного бедняги Шуртяева. А для Евдакова на Патриарших прудах по-прежнему было спокойно и невозмутимо. По-прежнему прогуливались по аллее пенсионеры и редкие влюбленные парочки. Провозили в колясках своих детишек мамаши, а конькобежцы, и стар, и млад, вычерчивали коньками на льду пруда затейливые вензеля или отмеряли бесконечные круги.
А время шло. Чем больше его утекало, тем сильней росло у Евдакова чувство тревоги. Возникло какое-то недоброе предчувствие. И уж совсем непонятно было, куда это запропастился Шуртяев. Нет, мысль позвонить была правильная, но где же он, черт побери?
Сложный коктейль мыслей и чувств вылился в раздражение на самого себя. Ну, что он такое затеял? Зачем остался в городе? Сидел бы сейчас, кум королю, на даче в Жуковке, у разожженного сторожем Егором камина. Листал бы последний номер «Плейбоя» с безукоризненными по качеству фотографиями обнаженных красавиц (до этих фотографий большой был Евдаков охотник). А еще потягивал бы из рюмашки отличный испанский портвейн, присланный с оказией нашим послом в Испании в качестве бескорыстного дара. Вместо этой благодати торчи, как последний дурак, на Патриарших прудах с двумя собаками, стереги какого-то непонятного «прибалта»...
Кстати, поведение «прибалта» резко изменилось. За то время, что отсутствовал Шуртяев, он не произнес ни слова. Целиком погрузился в «Литературку». На попытки Евдакова продолжить беседу отвечал односложно. Или отрывисто хмыкал. Или не удостаивал даже и хмыканья... Да, странен был «прибалт», ничего не скажешь.
Неожиданно шуртяевский ньюфаундленд Чарри, имевший репутацию благовоспитанного и выдержанного пса, задрал вверх свою короткую черную морду, жалобно заскулил и сразу перешел на долгий, протяжный вой. Так воют собаки, когда лишаются хозяина, когда он умирает или бросает их. Евдаков стал успокаивать собаку, гладить ее за ушами, но тут в знак солидарности завыл его собственный коккер-спаниель. Правда, в другой тональности, повыше тоном. С двумя воющими собаками справиться было уже невозможно. Прохожие шарахались от скамейки. А одна пожилая женщина малоинтеллигентного облика произнесла такие слова:
– Самим жрать нечего – собак заводят...
Занятый успокоением собак, Евдаков проглядел, как на аллее, со стороны Спиридоньевки, появились Коровьев и Бегемот. Коровьев, никакой уже не революционный солдат, был в том же обличье, каким явился на бульваре Якушкину, – в курортной шапочке с пластмассовым козырьком и надписью «Ялта» и в светлом коротком пальтеце. Ну и, конечно, на носу пенсне. Бегемот же напялил на себя страшное на вид, отечественного производства полупальто из коричневого синтетического меха, вывороченного наружу. На голове у него, наоборот, красовалась дорогая шапка из серого каракуля фасона «Иван-царевич». Такие шапки носят у нас преуспевающие кооператоры да служивая элита, включая самого Президента. Куда девался Азазелло, честное слово не знаю!
Едва Коровьев с Бегемотом поравнялись со скамейкой, Воланд встал и присоединился к ним.
– Куда вы? – встрепенулся Евдаков. – Рано еще. Посидите, побеседуем...
В ответ Воланд холодно пожал плечами и пробормотал:
– Не понимай... русски... плохо...
– Ах, не понимай? Только что понимай, а теперь не понимай? – Всегда выдержанный и корректный Евдаков (такую линию поведения диктовала его нынешняя должность, да и прежние тоже) ощутил пьянящий вкус беспредельного гнева, когда, сорвавшись с тормозов, можно позволить себе абсолютно все. – Говори, сволочь! – закричал он. – Кто ты есть! Ну!..
Пригнувшись, он держал обеих собак уже не за поводки, а за ошейники. Напряжение достигло апогея, как любят выражаться некоторые классики. Собаки, уловив серьезность момента, перестали выть и, казалось, ждали одного – команды «Фас!»
Настал черед Коровьева. Он заслонил собою Воланда. Воздел руки к небу и, раскачиваясь из стороны в сторону, подобно актеру, исполняющему предсмертный монолог из античной трагедии, завопил своим надтреснутым голосом:
– Соотечественники! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои! Глядите все! Приехал к нам знатный иностранец с целью осмотра достопримечательностей. Захватил с собой чемоданчик валюты, чтобы расплачиваться за повышенный сервис. А какая-то жалкая фарца и ничтожный валютчик... – Коровьев в праведном гневе выбросил руку в направлении Евдакова, – нагло пристает к нему с противозаконными сделками. Иностранец справедливо отказывается, и тогда этот подрыватель нашей экономики готов спустить на него свирепых овчарок!
По какой причине Коровьев назвал собак, известных читателю пород, «свирепыми овчарками», объяснить не берусь.
– Это кто фарца и валютчик? Я?..– В глазах Евдакова все поплыло и сделалось мутным. Но он все же нашел силы выразить свое возмущение. – Да как вы смеете!
– Не я же и не он? – Коровьев указал на Бегемота, тот сразу приосанился. – Мы с ним долларовые бумажки только в телевизоре видели... Сколько же мы будем терпеть подобных паразитов на здоровом теле нации?
Набежал народ. Все спрашивали друг у друга, что происходит. «Фарцовщика поймали»,– авторитетно объяснил осанистый старик с внешностью актера на амплуа благородных отцов. И стал излагать известные только ему важные подробности... Но тут произошло непредвиденное.
То ли у Евдакова руки ослабли от волнения и незаслуженной обиды, то ли он сознательно отпустил ошейники, но только обе собаки разом рванули с места. Еще мгновение, и они бы набросились на... Нет, не на ненавистного Евдакову «прибалта» Воланда – тот как-то незаметно сумел скрыться и исчезнуть. И не на откровенного провокатора и лжепроповедника Коровьева. На Бегемота!.. Похоже, собаки учуяли в нем кошачье естество, а отношение собак к кошкам общеизвестно!
Бегемот, не будь дурак, высоко подпрыгнул, ухватился за ветку липы и повис, болтая ногами. А собаки с оглушительным лаем, встав на задние лапы, царапали передними ствол дерева, тщетно пытались до него добраться.
Шум поднялся невообразимый. Бегемот, словно обезьяна (любимый персоналж дедушки Крылова) перескакивал с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Он то удалялся от собравшейся толпы, то снова приближался. Коровьев оставил тему «фарцы» и незаконных валютных операций и начал проповедовать о собаках. По его словам, развелось их в столице великое множество. Чтобы всех прокормить, напряженно трудятся целые сельскохозяйственные регионы и огромные флотилии рыболовецких траулеров. Среди публики отыскались заступники «меньших наших братьев» и вступили с Коровьевым в дискуссию. Вконец обессиленный Евдаков, распластавшись, полулежал на скамейке, не в силах произнести ни слова.
– Кончайте балаган! – раздался негромкий, но властный голос.
Все, и Евдаков тоже, разом обернулись. У выхода с аллеи на улицу Жолтовского появилась серебристая карета, запряженная шестеркой лошадей. Дверца была приоткрыта. Рядом с ней стоял Воланд, опираясь уже не на трость, а на шпагу.
Коровьев тотчас сдернул с головы курортную шапочку и отвесил публике глубокий поклон. Быстро пошел к карете. Бегемот, все так же перескакивая с одного дерева на другое, поспешил за ним следом. Последним, можно сказать, затяжным прыжком он приземлился возле кареты и юркнул в дверцу. Воланд и Коровьев вошли следом. Дверца захлопнулась перед самым носом разъяренных собак. Кучер без лица, но в треуголке стеганул по лошадям, и лошади сразу взяли во весь опор. Карета покатила по улице Жолтовского в сторону Вспольного переулка, с которым, как известно, она смыкается.
Публика, понятно, обомлела. Кроме собак. Те, волоча за собою бесполезные поводки, взялись преследовать карету. Скоро они возвратились, позорно поджав хвосты и высунувши наружу языки.
Какой-то бородатый молодой человек стал объяснять, что это была съемка фильма... (Опять киношники!) ... а собравшиеся задарма выступили в качестве «массовки». Версия была дружно отвергнута, поскольку не было видно ни съемочных кинокамер, ни юпитеров.
В распоряжении публики остался один Евдаков. Приступили к нему. Посыпались возгласы осуждения по поводу фарцовщиков и валютчиков, от которых просто нет прохода приезжим иностранцам. Такой на вид приличный человек, и в возрасте, а туда же!.. Евдаков находился в прежней позиции, полулежал на скамейке с вытаращенными глазами и отвалившейся нижней челюстью. Появление непонятной кареты его доконало.
Наконец явилась милиция в составе участкового уполномоченного. Наперебой кинулись ему объяснять, что произошло. Участковый мало что понял, но уловил слова «фарца» и «валютчик». Он приподнял Евдакова за воротник пальто со скамейки с намерением отвести его в близлежащее отделение. Но Евдаков идти не мог, ноги не слушались. Пришлось вызвать милицейский транспорт. Вместе с Евдаковым увезли также и обеих собак.
В 83-м отделении милиции Николай Павлович вновь обрел дар речи. Мало того, впал в буйство. Стал требовать, чтобы его немедленно соединили по телефону с Президентом, поскольку не только стране, но и всему мировому сообществу угрожает жуткая опасность от прибалтийских экстремистов, проникших в Москву... Ну, ясное дело, бред. Догадались слазить к нему в карман, достали красную книжечку с тисненным золотом государственным гербом, где черным по белому было написано: «Советник Президента». Или что-то в этом роде. Настала очередь обомлеть милиционерам. Старший по дежурству позвонил в городское управление и доложил, кто у них находится.
В считанные минуты в отделение примчался милицейский генерал. Тот самый, что открыл путь в большую литературу Ивану Степановичу Перетятько. Разнос, который он учинил, не поддается описанию. Надолго запомнят сотрудники 83-го отделения милиции тот декабрьский вечер!
Милицейский генерал самолично отвез Евдакова вместе с собаками на его московскую квартиру. Оставил на попечение супруги. Принес глубокие извинения за самоуправство своих подчиненных и уехал. Вроде бы благополучный исход? К сожалению, не вполне...
Первое, что сделал Евдаков, оказавшись дома, это позвонил по «вертушке» Президенту. На беду, удалось ему соединиться, что, как вы сами понимаете, далеко не так просто даже для личных советников. Евдаков продолжал нести, теперь уже по телефону, все ту же ахинею – о прибалтийских экстремистах, проникших в невероятных количествах в Москву и творящих незнамо что, о скачущих по деревьям «боевиках», о карете, на которой они безнаказанно разъезжают, о похищенном ими драматурге Шуртяеве... Естественно, Президент, не дослушав, положил трубку.
Но Евдаков не унялся. Позвонил Председателю КГБ и повторил то же самое, слово в слово. В отличие от Президента, Председатель КГБ выслушал до конца и даже задал несколько уточняющих вопросов. Пообещал разобраться и принять меры.
Меры были приняты.
Спустя каких-то полчаса на квартиру прибыла бригада врачей из «Кремлевки». Евдакову насильно сделали успокаивающий укол. Затем свели вниз, усадили в машину и отвезли в больницу на Рублевское шоссе. Там был срочно созван консилиум из медицинских светил различного профиля, но в основном из психиатров.
Что тут долго говорить! Мнение специалистов было единодушным. У Николая Павловича Евдакова сильнейшее психическое расстройство, плюс галлюцинации, плюс мания преследования, в общем, шизофрения. Случившееся отнесли за счет нечеловеческих перегрузок, которым он подвергался, исполняя свою высокую должность. Согласован был курс интенсивного лечения с применением самых лучших заграничных лекарств и препаратов...
Попутно отвечу на вопрос Воланда: есть ли у нас сумасшедшие дома, ориентированные на правящую элиту? По моим сведениям, нет. Во всяком случае, Евдаков был оставлен в больнице широкого профиля на Рублевском шоссе. Но в особой палате, с окнами хоть и без решеток, но стекла в них непробиваемые. Круглосуточный надзор и обслуга производились исключительно медперсоналом мужского пола.
Прежде чем опустить занавес над Патриаршими прудами, несколько слов о драматурге Шуртяеве. Точнее, о его загадочном исчезновении.
Хватились, когда назавтра он не объявился в Шереметьеве – для проверки документов и посадки в самолет, улетавший в Брюссель. Посыпались звонки по телефону на квартиру – из Союза писателей, из прочих организаций, ведающих у нас международными контактами. Случай, сами понимаете, из ряда вон... Жена, то есть не совсем жена, а молоденькая фигурантка балета Большого театра, проживавшая вместе с Шуртяевым под видом его двоюродной племянницы, никакой ясности не внесла. Сказала лишь, что накануне Шуртяев дома не ночевал, вместе с ним исчез его любимый пес породы ньюфаундленд. Пес, правда, скоро отыскался. Его приютила супруга Евдакова. Но пес, хоть и был на редкость смышленым, а все ж не мог объяснить, куда подевался его хозяин.
Как водится, завели уголовное дело. Подключился КГБ. Шуртяев был, конечно, не то, что Евдаков, но фигура заметная, и даже на международном уровне. Жена Евдакова припомнила, что ее муж среди прочего бреда говорил о похищении драматурга прибалтийскими экстремистами. Версия показалась, на первый взгляд, логичной. Шуртяев не раз выступал в печати против разнузданного экстремизма, сепаратизма и прочих негативных явлений в союзных республиках, в том числе и прибалтийских. Только никаких подозрительных гостей из Прибалтики в Москве обнаружить не удалось.
Следователи рвались допросить Евдакова. Вдруг вскроются важные подробности? Но врачи, опасаясь рецидива галлюцинаций и бреда, наотрез отказались его представить. Следствие было временно отложено. Толки постепенно сошли на нет. Шуртяев, хоть и заметная фигура, хоть один из видных прорабов перестройки, но ведь не он первый и не он последний. В Москве, что ни день, бесследно исчезают люди. Такие, уж видно, наступили времена.
Глава 8. Чудесное спасение
А что же Якушкин? Неужели автор, увлекшись сценами на Патриарших прудах, бросил на произвол судьбы своего героя? Отнюдь! Вот и его выход. В полном смысле этого слова.
...Милиционеры вывели под руки Якушкина из Дома литераторов на улицу Герцена. Автомобиль, на котором они приехали, «уазик», или, как его называют в народе, «козел», был оставлен не у подъезда, где все забито было писательскими машинами, а поближе к площади Восстания. Двинулись пешком по тротуару. И сразу наткнулись... на кого бы вы думали? Естественно, на Коровьева!
Он был не один. Вместе с ним был огромный черный кот сибирской породы. Коровьев разбросал в стороны длинные свои руки, словно приглашал милиционеров сыграть с ним в салочки или еще какую озорную детскую игру.
Высокочтимые стражи порядка! – обратился к ним Коровьев. – За что вы мальца-то? Куда вы его волокете?
– Отойдите, – коротко и мрачно ответил лейтенант.
Узнал ли Якушкин давешнего незнакомца с бульвара или нет, сказать точно не берусь. Может, и узнал... Он пребывал в состоянии полного безразличия ко всему. О случившемся нисколько не жалел. Наоборот, была даже какая-то удовлетворенность. «Так ему, мерзавцу, и надо! –думал он о поверженном на пол Сутеневском.– Будет знать, как обманывать!..» Слова лейтенанта о том, что ему припаяют не меньше двух лет, не произвели на него сильного впечатления. Он вспомнил, как кто-то из мудрых людей заметил: «Тот, кто не вкусил тюрьмы или войны, тот не жил по-настоящему». Единственно, жалко было Лену, малыша... «Ничего, ведь выпустят же в конце концов?» – успокаивал себя Якушкин.
– На-апрасно! – причитал Коровьев, увязавшись за конвоем. – Я этого мальца знаю и могу выдать ему самую лестную характеристику. Даже если он чего набедокурил, пожурили бы маленько, провели бы воспитательную работу. А то сразу хватать!.. Он мне цельный рубль пожертвовал от своих денежных крох. Скажите, кто еще вот так, запросто, отстегнет рубль первому встречному?
– В вытрезвитель напрашивается, – сказал лейтенант сержанту и многозначительно подмигнул.
– Кого в вытрезвитель? Меня?! – возмутился Коровьев. – Почетного члена антиалкогольной ассоциации?.. Да я на вас жалобу подам в инстанцию!
Угроза, видимо, возымела действие. Милиционеры решили не связываться с членом антиалкогольной ассоциации. Лейтенант подошел к машине, отпер дверь ключом. Сам сел за руль, Якушкину велел садиться рядом. Сержант забрался на заднее сиденье. Коровьев сокрушенно махнул рукою.
Неожиданно на капот «уазика» вспрыгнул кот, с явным намерением погреться на теплом капоте. Заслонив всякий обзор, он сурово и враждебно посматривал сквозь ветровое стекло на лейтенанта.
– Брысь! – крикнул тот, высунувшись в окошко.
Кот чуть помедлил, но все же послушно соскочил на тротуар.
– Жестокосердные люди! – пожаловался Коровьев.– Не позволяют домашнему зверю погреться! Он же простудиться может! Возись с ним после! – Коровьев взял кота на руки и отошел с ним к афише кинопрограмм. Сделал вид, что ее изучает.
Лейтенант включил стартер, но «уазик» не завелся. Он повторил попытку – то же самое. Еще и еще – тот же результат. Лейтенант помянул черта и вылез из кабины. Открыл крышку капота, заглянул внутрь.
– Искра в корпус ушла, – услышал он чей-то голос. Лейтенант поднял голову. Коровьев, придерживая пенсне, продолжал изучение киноафиши. Кота при нем уже не было, а возле машины находился низенький и круглолицый толстяк в кожаной куртке и в такой же кепке. Он-то и высказал идею насчет искры, которая ушла в корпус.
– А ты что, соображаешь? – подозрительно спросил лейтенант. Сам он умел только жать на газ да крутить руль.
– Обижаешь, начальник! Двадцать лет за баранкой да еще потом семь лет механиком, мало тебе?
Лейтенант с сомнением поглядел на толстяка. На вид ему было от силы лет тридцать. Получается, шоферил он с ясельного возраста?
– Садись за руль, – приказал толстяк.
Лейтенант снова сел за руль, а толстяк достал из кармана куртки гаечный ключ и принялся копаться в моторе. Что-то отвинтил, отчего едко запахло бензином. Что-то, наоборот, подкрутил, обо что-то постучал.
– Заводи! – крикнул он.
Мотор взревел как сумасшедший. В тот же миг Коровьев был уже у машины. Распахнул правую дверь и вытащил из нее Якушкина. Толстяк с треском опустил крышку капота и с неожиданным проворством отскочил на тротуар. Лейтенант успел крикнуть Коровьеву: «Ты что же это делаешь, гад?» Потянулся за Якушкиным, попытался ухватить его за руку. При этом нога его неосторожно придавила педаль газа. Машина рванула с места и, стремительно набирая скорость, понеслась по улице Герцена в сторону центра.
Очень скоро выяснилось, что «уазик» (он же «козел») вышел из всякого повиновения. Лейтенант изо всех сил жал на тормоз – скорость от этого росла еще сильнее. Выключил зажигание – мотор пуще набирал обороты. Оставалось одно – смириться и безостановочно крутить руль, то и дело лавировать среди других машин, обгонять их слева и справа, а то и выезжать на встречную полосу. Нечего сказать, наладил «уазик» толстяк-механик с огромным трудовым стажем!
Лейтенант сидел, вцепившись в руль, ни жив ни мертв. Сержант на заднем сидении утратил дар речи. «Уазик» вынесло на Манежную площадь. Лейтенант лихо заложил левый вираж, который сделал бы честь автогонщику с мировым именем. Проскочил мимо Музея Ленина, и машина понеслась вверх, к площади Дзержинского, взяла курс на памятник железному Феликсу, который московские остряки давно прозвали «поллитровкой» за поразительное сходство с бутылкой водки – если рассматривать памятник с приличного расстояния.
В гор штаб ГАИ посыпались донесения постовых об «уазике»-нарушителе. Попробовали связаться с ним по рации, благо таковая в «уазике» имелась. Поинтересовались, в чем дело, куда торопимся? Или, может, кого преследуем? Какого-нибудь преступника?.. Лейтенант отвечал бессвязно и невразумительно. Тогда всем постам ГАИ была дана команда: задержать!
Легко сказать! Один за другим выскакивали из своих будок гаишники, любимые персонажи рассказов Ивана Степановича Перетятько. В надрыве свистели в свои свистки, вскидывали вверх усовершенствованные, с подсветкой, жезлы. «Уазику» на все это было глубоко наплевать. Он несся себе и несся со скоростью 150, а то и 180 километров в час, обгоняя любой транспорт, исполняя просто фантастические маневры, и всякий раз оставался цел и невредим
– Промелькнула Таганка, затем Крестьянская застава. «Уазик» вырвался на Рязанское шоссе. Машин здесь стало поменьше, да и лейтенант, в общем и целом, освоился с обстановкой. Город кончился, проскочили кольцевую дорогу, курс был взят на Рязань.
Снова и снова выбегали на шоссе гаишники со своими бесполезными свистками и жезлами. Их родных милицейских кровей «уазик» уходил в декабрьской ночи все дальше и дальше от столицы.
Проносились назад деревни, поселки, ближнее, а затем и дальнее Подмосковье, Лыткарино, Бронницы, Коломна...
Как известно, всему рано или поздно приходит конец. Прошел час сумасшедшей гонки, минул другой. Начал кончаться бензин. Мотор зачихал, закашлял. Скорость резко упала. Наконец «уазик» встал.
Обессиленные милиционеры еще долго не выходили из машины. Лейтенант сидел, уронив голову на баранку. Оба не в силах были поверить, что остались целы и невредимы. Наконец, они вышли и поплелись сдаваться на ближайший пост ГАИ. Оттуда они незамедлительно были отправлены в Москву, в горштаб ГАИ, где столь же незамедлительно были подвергнуты допросу. Лейтенант стал плести какие-то сказки Шарля Перро – о черном коте невероятных размеров, о его странном хозяине в невиданном пенсне со шнурком, о «взбесившемся «уазике»... Сержант, родом из Якутии, твердил одно: «Можете расстреливать, ничего не знаю...»
В тот же день съездили проверить «уазик», брошенный на подъезде к Рязани. Залили в бак бензин, завели, поездили – ничего сверхъестественного, машина как машина, клапана в моторе, правда, немного постукивают.
Интересна вот еще какая деталь. Бесследно исчез протокол, отражающий подробности хулиганской выходки Якушкина в писательском ресторане. Лейтенант клялся, что положил его в карман шинели, но вот нет протокола, и крыть нечем.
Сгинул также пристегнутый к протоколу акт о нанесенном ущербе. Когда спустя несколько дней известный читателю Гоша позвонил в родное 83-е отделение милиции и спросил, каким образом можно будет получить денежную компенсацию, то наткнулся на полное непонимание проблемы.
Смекнувши, что никакой компенсации не будет, разве что на морковкино заговенье, Гоша попытался взыскать с Урванцева хотя бы плату за ужин. Но не тут-то было. Политический обозреватель неожиданно проявил твердость и неуступчивость. Сказал, что платить по справедливости должен не он, а виновник происшествия.
Каким образом Гоша компенсировал ущерб, ей-Богу, не знаю. Свидетельствую лишь кардинальную перемену в их отношениях с Урванцевым. Гоша перевел его в разряд второстепенных писателей – и никаких ему с тех пор отдельных столиков и других знаков повышенного внимания.
Было отчего Урванцеву прийти в расстройство чувств. А тут еще Сутеневский, выписавшись из больницы, вернул ему пьесу. Объяснил, что ни о какой постановке и речи быть не может по причине ее низкого драматургического уровня.
В конце концов пьесу удалось пропихнуть на сцену в одном захудалом театре поблизости от кольцевой дороги. На премьеру собралось даже ползала публики. Организовал Урванцев и положительную рецензию в газете «Правда». Но на последующие три спектакля, сколько ни бились, более пятнадцати человек не приходило. Пьеса благополучно слетела с репертуара, после чего Урванцев совершенно охладел к драматургии и целиком отдался прославлению нашей мудрой и миролюбивой внешней политики.
Однако я не закончил с двумя милиционерами, ставшими безвинными жертвами Коровьева и Бегемота.
Сержанту велели служить дальше, а лейтенант был уволен из органов внутренних дел. За то, что упустил задержанного хулигана, да при этом еще занимался возмутительным лихачеством на милицейской машине, что никак несовместимо с высоким званием советского милиционера. После той ночи лейтенанту вообще все сделалось, что называется, «до фени». Он и не подумал унывать, рвать на себе волосы, а подался в кооператоры. В любой день теперь его можно увидеть у северного выхода станции метро «Бабушкинская», где он торгует шашлыками. Я и сам как-то отведал его продукции и свидетельствую: вполне приличный шашлык...
Извлекши из «уазика» Якушкина, Коровьев первым делом поставил его на ноги. Бегемот успел превратиться из толстяка шоферюги и автомеханика снова в кота. Встав на задние лапы, он заботливо поправил на Якушкине шарф, одернул куртку. Отступил на несколько шагов, придирчиво оглядел его, словно костюмер, одевающий к выходу оперного тенора. Вновь подошел, сдул с плеча Якушкина невидимую пушинку, зачем-то сдвинул ему набекрень шапку. Якушкина наконец осенило.
– Вы кот Бегемот? – спросил он. – А вы, значит, Коровьев?
– К вашим услугам! – воскликнул Коровьев, поклонившись.
– Два ноль в вашу пользу! – поддержал его Бегемот.
– Никогда не думал, что вы существуете на самом деле!
– Почему же мы не существуем? – удивился Коровьев. – Что мы, мертвые души, что ли?..
И тут же поведал историю о директоре одного передового, по его словам, московского предприятия, которого знал лично, но раззнакомились, не сойдясь в убеждениях. По команде того директора главбух регулярно вписывал в платежную ведомость мертвых душ: не существующих в природе инженеров, техников, а также представителей рабочего класса. Ну а потом директор на пару с главбухом, в четыре руки, загребали выведенную зарплату...
– Напрасно вы нас равняете, – закончил Коровьев.
– Вы меня не так поняли, – стал оправдываться Якушкин. – Я думал, вы оба – моя галлюцинация.
– Ну, вот! – с горечью воскликнул Бегемот. – Опять я галлюцинация. Сколько можно!
А это тоже галлюцинация? – спросил Коровьев, вытащив из кармана металлический рубль. – Возвращаю с благодарностью. Крепко вы меня выручили.
К тротуару подъехала уже известная карета. Дверца отворилась, откинулась подножка.
– Ба! Вот и наши! – сказал Коровьев.
Якушкин увидел кучера в треугольной шляпе, но без лица, негров лакеев на запятках. Впрочем, он перестал чему-либо уже удивляться. Коровьев легонько подтолкнул его к карете.
– Будьте благоразумны, – шепнул он.– В ваших же интересах...
Якушкин догадался, что ему предстоит встреча с Воландом. Он поднялся в карету, следом Коровьев, последний Бегемот. Предварительно кот с видом заговорщика приложил лапу поверх глаз и, прищурившись, оглядел улицу Герцена, проверил, нет ли за ними наблюдения Улица была пустынна. Даже милиционер, охранявший иноземное посольство в особняке напротив, куда-то попрятался. Дверца захлопнулась, и карета мягко тронулась.
Внутри она показалась Якушкину куда просторнее, чем можно было предположить по внешнему виду. Стены были убраны тяжелыми драпировками темных тонов. На столике с гнутыми ножками, накрытом скатертью, горели три свечи в канделябре. Было еще несколько кресел, стульев и пуфов. У разожженного камина, в кресле с высокой спинкой, сидел Воланд.
При появлении Якушкина он обернулся. Сейчас на Воланде были вишневого цвета камзол с вертикальными светлыми прорезями и высокие ботфорты. С подлокотника свисал край темного плаща, с огненного цвета подкладкой. Обе его руки покоились на эфесе длинной шпаги, воткнутой острием в пол кареты
Якушкина охватило ни с чем не сравнимое волнение Он не представлял, как приличествует вести себя с дьяволом. Поздороваться? Сказать «здрасьте» или «добрый вечер»? ... Вместо этого он молча поклонился, и Воланд ответил коротким кивком.
– Ничего, ничего! – затрещал возникший Коровьев.– Сейчас мы со свиданьицем водочки, по-людски...
Он держал поднос с наполненными рюмками и, подобно опытному официанту на морском лайнере, следил, чтобы рюмки не расплескались от тряски – карета находилась в движении. Доносилось ритмичное цоканье лошадиных подков об асфальт, поскрипывали рессоры. Но куда катила карета, угадать было невозможно: окна были плотно зашторены.
Успевший разлечься на мраморной каминной доске Бегемот (заметьте, коты всегда выбирают самые теплые места!) проворно спрыгнул и взял с подноса две рюмки, себе и Воланду. Принимая рюмку, Воланд знаком предложил Якушкину последовать примеру, что тот исполнил. Коровьев поставил поднос на столик и с рюмкой в руке присоединился к компании.
– За здоровье нашего гостя! – провозгласил Воланд. Все дружно чокнулись и опрокинули рюмки.
Водка показалась Якушкину очень крепкой, но в то же время сказочно мягкой. Пахла неизвестными травами. В жизни он такой не пил. По телу сразу разлилась теплота, стало легко и покойно.
– Как тут у вас просторно! – сказал он.
– Многие удивляются, – согласился Коровьев. – А между тем ничего удивительного. Просто мы использовали ценный и полезный опыт ваших видных партийных и государственных деятелей. Вообразите, кто-то из них получает новую квартиру: себе или, скажем, дочке. В ордере обязательно запишут метров эдак двадцать пять, не больше. Чтобы оттенить личную скромность и презрение к земным благам. А в квартирке той, на самом деле, все девяносто метров или даже сто. И никакого тут мухлежа или жульничества. Площадь возрастает за счет подсобных помещений, а их в таких квартирках не сосчитать. В ордер подсобки не вписывают, строжайше запрещено. Не говоря уж о всяких там кладовках или антресолях. Вот и мы тоже взяли, да и расширили карету за счет подсобок...
– О чем вы хотели меня просить? – обратился Воланд к Якушкину.
– Ни о чем! – Якушкин удивленно пожал плечами.
– Мессир! – встрял Коровьев. – О чем может просить писатель? Натурально, об издании своих произведений, и как можно большим тиражом!
Поднявши лапу, Бегемот внес поправку. Сказал, что у драматического писателя в голове несколько иные мысли. Впрочем, оговорился он, каждого писателя в той или иной степени можно назвать драматическим. Но лично он имеет в виду сочинителей драм и комедии, а также трагедий и фарсов, то есть драматургов. Любой из них мечтает, чтобы его пьеса была поставлена в столичном театре, ну а затем еще эдак в ста театрах на периферии. Сиди себе после на веранде собственной дачки, попивай чаек с вареньем, почитывай в газете положительные рецензии, а денежки тем временем капают, капают...
– Вы, стало быть, писатель? – Воланд рассматривал Якушкина с заметным интересом.
– Какой я писатель? – с непонятным весельем отвечал Якушкин. – Никакой я не писатель. Ничтожество я, и больше никто.
– Откуда такое странное самоунижение?
– Писатель он, писатель, – снова встрял Коровьев. – Я сам читал, и с огромным удовольствием.
– И я! – подтвердил Бегемот. – Просто рыдал от наслаждения!
Якушкин выразил по этому поводу сомнение. У него до сих пор почти ничего не напечатано. А то, что даже и удавалось пробить, далеко не самое лучшее из того, что написано.
– И тем не менее! – не уступал Бегемот. – У кого- кого, а уж у меня безошибочный нюх на таланты. Назовите мне любого автора, из любой страны, и я скажу, чего он стоит!..
– Погоди, Бегемот, – прервал его Воланд и снова обратился к Якушкину. – На мой взгляд, писатель – это тот, кто написал нечто стоящее. А уж издали его или нет, дело второстепенное. Мне уже доводилось объяснять эту нехитрую истину одному человеку...
Догадка пронзила Якушкина, словно удар электрического тока.
– Я знаю! – воскликнул он. – Знаю, какому человеку!.. Умоляю, готов перед вами на колени встать, но скажите... этот человек... то есть писатель... он всех вас придумал?
Воцарилась пауза. Раскаленные поленья в камине затрещали сильнее. Клок пламени со снопом искр вырвался наружу. Но тут же, словно повинуясь неведомому приказу, камин унялся, и пламя успокоилось.
– Не придумал, а угадал с потрясающей точностью. За что ему воздано по заслугам, – ответил Воланд.
– Да уж! – подтвердил Коровьев. – Даже мое разбитое пенсне описал в точности. Стеклышко я потом вставил в одной лавке в Амстердаме.
Так разрешился краткий спор, затеянный еще на улице. Но Якушкину не терпелось узнать теперь подробности того, что неожиданным образом приоткрылось.
– А как именно было воздано этому писателю? – спросил он Воланда. Тот усмехнулся недоброй усмешкой и сказал:
– В свое время узнаете.
Нарушив вновь наступившую паузу, Коровьев пустился в пространные рассуждения о том, какая литература настоящая, а какая нет, как распознать. Бегемот стал ему поддакивать, приводил доводы в поддержку коровьевских постулатов. Воланд слушал со скучающим видом, поигрывая эфесом шпаги.
– Мы всё теоретизируем, – прервал он новоявленных литературоведов, – А ведь любая теория мало что стоит по сравнению с практикой.
– Это вы из Гёте, – нашелся Якушкин. Воланд одобрительно кивнул и продолжал:
– Давайте оставим теории ученым крысам, это их хлеб. Они давно бы перемерли с голоду, не будь на свете разных теорий. Возьмите хотя бы философов. До сих пор никак не могут разрешить простейший вопрос: что первично – материя или дух?
– Разумеется, материя, – с убежденностью произнес Бегемот. – Я сам отъявленный материалист. Вот вам доказательство: когда в промтоварных магазинах пропадает материя, дух у населения катастрофически падает. То же самое происходит и с колбасой, которую также следует рассматривать в качестве материи.
– Ты замолчишь или нет, негодный Ганс! – прикрикнул на него с улыбкой Воланд.
– Словечка уж вставить нельзя, – проворчал Бегемот. – Что за деспотизм!
«А они неплохо проинформированы о том, что у нас творится, – подумал про себя Якушкин. – Уж не означает ли их нынешний визит в Москву, что...» Но Воланд погасил возникшую было догадку.
– Дайте! – сказал он и протянул руку.
Якушкин в недоумении утопил голову в поднятых плечах. Непонятно, что от него понадобилось Воланду?
– Дайте сюда ваше произведение, которое вы столь удачно превратили в орудие расправы, пусть даже и праведной. Я желаю с ним познакомиться.
– «Господи! А папка где? – с ужасом подумал Якушкин. – Где я ее оставил? В ресторане? Или в милицейской машине? Это же настоящая катастрофа!»
Подобно другим безвестным авторам, Якушкин больше всего на свете боялся, как бы его рукопись не попала к недобросовестным людям. Проще говоря, к жуликам, которых пруд пруди. Долго ли свистнуть сюжет? Или стибрить произведение целиком, а после издать под своей фамилией? Или такие случаи не бывали? Ходи потом, доказывай...
– Я потерял папку! – прошептал Якушкин, обводя присутствующих растерянным взглядом.
Коровьев застонал от огорчения, схватился за щеку, словно у него внезапно разболелся зуб. Бегемот также пригорюнился.
– А я на что, интересно? – раздался чей-то новый голос. Якушкину он показался знакомым.
Появился Азазелло. Он был без пиджака, в жилетке, но при неизменном галстуке. Вид у него был заспанный. Наверняка он лег соснуть после трудов праведных в одной из «подсобок».
– Даром, что ли, я потащился в писательский ресторан? – продолжал Азазелло.– Будто других дел у меня нет?.. Вот, подобрал с пола.
Он показал всем знаменитую оранжевую папку и вручил ее Якушкину. Тот бросился благодарить его. Выслушав слова благодарности, Азазелло заметил, что он, конечно, далек от мира литературы и театра, но полагает, что если каждый драматург начнет лупцевать... этих... как их...
– Завлитов, – подсказал Коровьев.
–...лупцевать завлитов своими отвергнутыми пьесами, то на их должность вообще не сыщешь охотников. Что в таком случае ждет театр? – закончил Азазелло.
Коровьев разъяснил, что без завлитов большой беды театрам не будет – должность второстепенная, никак не ключевая. Хотя он тоже не сторонник того, чтобы их лупцевали по голове. Бегемот, наоборот, действия Якушкина безоговорочно одобрил. Назвал Сутеневского конъюнктурщиком и приспособленцем, так ему и надо.
– Могу я наконец взять в руки вашу пьесу? – нетерпеливо сказал Воланд.
– Это не совсем пьеса... то есть совсем не пьеса...– Якушкин запутался и покраснел. У присутствующих вырвались возгласы удивления.
– Не пьеса? – переспросил Воланд. – Ничего не понимаю. В таком случае, что?
– Это повесть, называется «Похороны охотника», – то ли просветил, то ли еще больше запутал ситуацию Якушкин. – Я ее совал в разные журналы, везде забодали... то есть отвергли. А Банкетов...
– Кто такой Банкетов?
– Критик литературный и театральный одновременно. Он меня опекает, говорит, во мне что-то есть...
И Якушкин рассказал, как все было. Банкетов прочитал повесть, ему она понравилась. С журналами, сказал он, сейчас безнадега, печатают одних только эмигрантов. Имеет смысл показать повесть в театре, поскольку он видит в ней почти готовую пьесу, осталось расписать диалоги да убрать кое-что лишнее. В присутствии Якушкина Банкетов позвонил Сутеневскому, уговорил его прочитать, встретиться потом с автором. А Сутеневский...
– Знаем, знаем! – замахал лапами Бегемот.
Воланд сказал, что для него не имеет значения, к какому жанру относится произведение. Он принял из рук Якушкина папку с рукописью, развязал тесемки и погрузился в чтение. Читал он с невероятной скоростью, страницы отлетали одна за другой и тут же сами складывались на полу в аккуратную стопку. Бегемот вернулся на свое любимое место, на каминную доску, надел очки. Брал за один раз по нескольку страниц из стопки и читал в очередь с Воландом, ничуть от него не отставая. Коровьев же объяснил, что искусству скоростного чтения он не успел обучиться. По этой причине прочтет повесть как-нибудь потом на досуге. Вдвоем с Азазелло они удалились...
А Якушкин с нетерпением ждал приговора Воланда своему произведению. Потрескивали свечи, пламя их колебалось и плясало от тряски кареты. Ровно гудел камин. По-прежнему слышен был цокот подков, поскрипывание рессор. Карета продолжала катить в неизвестном направлении.
Глава 9. КОМФИГ... КОМФИГ! Отрывки из повести Якушкина Предуведомление автора романа
При обстоятельствах, которые я освещу несколько позже, мне удалось заполучить лишь небольшую часть рукописи Якушкина. Точнее, некоторые черновики. Расшифровка отняла у меня уйму времени, почерк у автора оказался на редкость неразборчивым. Некоторые дополнительные подробности сюжета я прояснил, когда посещал Якушкина в... Но об этом также чуть позже. Сейчас же я предлагаю вниманию читателя отрывки из повести с моей незначительной правкой. Я расположил их так, как счел целесообразным, сопроводив в ряде случаев собственными комментариями. Итак...
«– На этом, уважаемые дамы и господа, разрешите закончить. Благодарю за внимание.
Пухлые босоногие женщины в рискованных одеждах– то ли музы, то ли нимфы, то ли античные богини, во время доклада я нет-нет да и посматривал на них, – внезапно отделились от небесно-голубого, с курчавыми завитками белоснежных облаков, плафона и закружились надо мной в стремительной пляске. Мраморные стены огромного зала дрогнули. По ним снизу вверх побежали гирлянды разноцветных огоньков, взрыв аплодисментов обрушил мертвую тишину.
От неожиданности я покачнулся, ухватился за край трибуны. Но овладел собой и быстро убрал в плетеный кузов кролика, которого только что демонстрировал высокому научному форуму. Стараясь держаться надменно и неприступно, сошел со сцены в зал. Тотчас ко мне рванулись репортеры. Защелкали блицы. С непривычки я жмурился, но это было приятно. Чертовски приятно!.. «Это даже не успех, это настоящий триумф!» – прошептал мне на ухо невесть откуда взявшийся Бур-Сакеев. Он пытался развить свою мысль, но репортеры в два счета его оттеснили.
Ох, уж эти репортеры! Они взяли меня в кольцо, и каждый совал в лицо коробочку диктофона. «Мистер Каперсов! Мистер Каперсов!» – с ударением на последнем слоге надрывались пройдохи.
Тем временем овация нарастала. Зал аплодировал стоя. И высохшие старики, надменные англосаксы, профессура, все сплошь нобелевские лауреаты. Посмотришь– в чем только душа держится, а мотаются с одного конгресса на другой. И белозубые негры в длинных одеждах и круглых шапочках. И пугающие загадочной учтивостью японцы,
Председатель, точная копия нашего институтского вахтера Охромеева (и усища его, где он только фрак раздобыл?), в отчаянии жал на кнопку звонка, пытаясь успокоить публику. Куда там! Зал упорно скандировал: «Каперсов, браво!»
Неожиданно перед глазами возникло распаренное, словно после похода в баню, лицо Фуркасова. Этот наглец взялся за что-то меня отчитывать. Да как он смеет? Да я!..»
Комментарий автора романа. Догадливый читатель уже смекнул, в чем дело. Для остальных поясню. Это было описание сна, приснившегося главному герою повести Каперсову, от лица которого ведется повествование.
«...Три года назад я закончил биофак МГУ и по распределению попал в академический институт, в лабораторию профессора Бур-Сакеева, знаменитого автора КОМФИГа.
Вниманию непосвященных! КОМФИГ расшифровывается следующим образом: Комбинация Физических Генераций. Каких? – спросите вы. А любых! Зеленых кузнечиков, например, Бур-Сакеев последовательно обрабатывал рентгеном – раз, ультразвуком – два, вращал в центрифуге – три, наводил на них лазер – четыре... ну и так далее, всего не перечислишь. Скажете, все это уже было? Стара штука? Не торопитесь!.. Новизна КОМФИГа и одновременно его исключительная научная ценность–в особом чередовании различных способов обработки биологического объекта, в сложнейших комбинациях. Или, как любит выражаться сам Бур -Сакеев, в сочетании несочетаемого.
В застойные времена нашему профессору ходу особо не давали. Академические тузы и короли лишь недоуменно пожимали плечами: ничего не знаем, что еще за КОМФИГ какой-то? Налицо полное игнорирование научных фактов! А сводились они, то есть факты, к следующему.
Я уже упомянул про зеленых кузнечиков. Однажды один такой кузнечик, выловленный, заметьте, на заливных лугах под Костромой, после обработки КОМФИГом резко повысил свою первоначальную прыгучесть. Почти в два раза! Бур-Сакеев, которому чувства юмора не занимать, нарек того кузнечика Бимоном. В честь олимпийского чемпиона по прыжкам в длину, рекордсмена мира.
За Бимоном последовали другие кузнечики, обработанные КОМФИГом примерно с тем же эффектом. Правда, достижение Бимона (на то он и Бимон!) превзойти никому из них не удалось и по сию пору.
Публикация в «Успехах биологии» о поразительном научном факте была встречена с прохладцей и ожиданий не оправдала. На очередных выборах в Академию Бур-Сакеева благополучно провалили.
Но грянула перестройка, и положение круто изменилось. Пожалуй, решающую роль сыграл визит в Москву известного австралийского ученого, доктора Аткинса. Каким способом удалось Бур-Сакееву его заполучить, история умалчивает. Но я свидетельствую: Аткинс приезжал на часок к нам в лабораторию. Мало того, Бур-Сакеев вывез его в подмосковную деревню Елыкаево, и австралиец присутствовал там на испытаниях прыгучести обработанных КОМФИГом кузнечиков. Их проводили на лугу, арендованном у местного колхоза «Вперед». Название колхоза соответствовало смелому характеру научного поиска.
На прощальном банкете в Доме ученых австралийский гость высоко отозвался о Бур-Сакееве и проводимых им исследованиях над кузнечиками. И на международном конгрессе в Пальма-де-Майорка, куда он прямиком от нас проследовал, также воздал должное нашему шефу и его КОМФИГу. Присовокупил, что у нас столь передовое научное направление еще не получило подобающего развития. Другими словами, зажимают, и всё.
Моментально один ультрапрогрессивный журнал предоставил Бур-Сакееву трибуну. Шеф гулял как хотел. Чистым Мамаем прошелся по титулованным недругам. Себя причислил к жертвам застоя. Что касается КОМФИГа, тут уж не жалел красок. Кузнечик мал, да удал! Бимон только начало! А с переходом на крупные биологические объекты нас ждут результаты, от которых дух захватывает. И резкое повышение удойности коров, обработанных КОМФИГом. И ускоренное выращивание сазанов и карпов в искусственных водоемах. И новые высокопродуктивные породы свиней, овец и коз. И все – КОМФИГ, КОМФИГ!
Скептики и маловеры призадумались. Кому охота прослыть душителем прогресса? Неровен час причислят, и будешь ходить оплеванный до скончания дней. Академическое начальство сменило холодность на радушие. На следующих выборах Бур-Сакеев сделался членкором.
Штат лаборатории резко увеличили. Правда, занимались мы по-прежнему одними кузнечиками. Как объяснял Бур-Сакеев, накапливали силы для решительного броска. Кузнечиков отлавливали везде, где только можно; каждому сотруднику была спущена норма месячного отлова и выдан персональный сачок.
Важные перемены произошли и в Елыкаеве. На лугу, оттяпанном у колхоза «Вперед», был оборудован испытательный полигон для измерений прыгучести кузнечиков. Сгоряча затеяли возводить и исследовательский корпус, но дальше фундамента дело не сдвинулось.
Теперь Бур-Сакеев стал частенько ездить за границу: на научные конгрессы, симпозиумы и конференции. Ну и в порядке обмена представительными делегациями ученых с дружественными и не вполне дружественными странами. Сверх того, вошел он и в состав множества комитетов и комиссий – от ведающих контактами со внеземными цивилизациями до занимающихся проблемой несовершеннолетних рожениц. Понятное дело, в лаборатории появлялся он крайне редко. Текущей работой руководил его зам и правая рука Иван Иванович Фуркасов.»
«Примерно за две недели до исторического события в Елыкаево нагрянули стройбатовцы, числом взвод. Привезли с собой дорожную технику, принялись выравнивать ухабистый проселок длиною километра в полтора от шоссе до ворот испытательного полигона и тут же его асфальтировать. Развернувшееся благоустройство я отнес за счет возросшего авторитета Бур-Сакеева, его нынешней общественной значимости. И Фуркасов подтвердил: да, именно так.
А ведь лукавил Иван Иванович! Ох, лукавил!
Приезжала также черная «Волга», привозила двух блондинистых молодцов, одетых, несмотря на тридцатиградусную жару, в темные костюмы, и при галстуках. В сопровождении Фуркасова они обошли полигон. Особое внимание было уделено железобетонному забору. Обнаружили приличную щель. Мы регулярно ею пользовались, чтобы срезать дорогу до шоссе, до остановки рейсового автобуса. Затребовали стройбатовского лейтенанта. Щель повелели ему заделать, что было исполнено без промедления. Приехавшие в черной «Волге» о чем-то пошептались с Фуркасовым и отбыли. На мой вопрос, кто это, Фуркасов невнятно промычал и неопределенно повертел в воздухе ладошкой.
В последующие дни приезжали новые гости, также одетые по протоколу. Повторно проверялась надежность и прочность забора. Невольно возникало подозрение, уж не собирается ли напасть на наш полигон банда экстремистов неясной политической ориентации?
Наконец прикатил крытый грузовик. Прибывшие с ним грузчики выгрузили разборный навес из желтого стеклопластика и два десятка кресел. Навес был собран внутри полигона, на месте, указанном Фуркасовым Под навесом выставили кресла. Это уже плохо вязалось с гипотезой о нападении экстремистов. Накануне по лаборатории– дело было уже не в Елыкаеве, а в столице, – пополз слушок о том, что сегодня вечером с конгресса в Мар-дель-Плата возвращается Бур-Сакеев. Под конец рабочего дня меня вызвал к себе Фуркасов...»
«Иван Иванович Фуркасов был, что называется, армейская косточка, майор-отставник. Каким образом очутился он у нас в лаборатории, ей-Богу, не знаю.
Недоброжелатели отмечали полную его некомпетентность в биологии, а также и в других научных дисциплинах; сторонники и присные – необыкновенные организаторские способности. Его почти всегда можно было застать за составлением какого-нибудь «графика выхода...» – на овощную базу, в народную дружину...
Коньком его была трудовая дисциплина. Он зорко следил за опозданиями на работу. Нарушителей заставлял писать объяснительные. Впрочем, ходу он им не давал, копил, видно, про запас. Отпроситься у него в библиотеку или еще куда было сущим наказанием. Обязательно начнет допытываться, с чего это вдруг, нельзя ли отложить на другой день? Отказы следовали редко, но согласитесь, приятного мало. То ли дело Бур-Сакеев: не успеешь рта раскрыть – ступай, голубь, куда того душа твоя пожелает.
К своему знаменитому шефу Фуркасов относился с благоговением. Был ему предан, как сторожевой пес...»
«Итак, меня вызвал к себе Фур касов. «К себе» – понимай в кабинет Бур-Сакеева. Он его каждый раз оккупировал, когда шеф бывал в отлучке.
– Завтра в Елыкаеве ожидается высокий гость, – объявил мне Фуркасов и сделал ударение на слове «высокий». – Будем демонстрировать ему обработанных КОМФИГом кузнечиков. На вас возлагается почетная обязанность, испытания на прыгучесть будете проводить вы. В помощь выделяется Самопалов. У меня все.
Я поблагодарил за оказанное доверие и хотел уйти. Но «всё» оказалось далеко не всё.
– Попрошу не опаздывать, – продолжил Фуркасов, – это во-первых. Во-вторых... – тут он отвернулся и уставился в окно, – отберите из наших запасов десятка полтора кузнечиков попрыгучее. И на это я выразил полную готовность. Пустяковое дело, отберу самых матерых. Мелкие дохляки слабенько скачут, никакой им КОМФИГ не помогает. Еще Фуркасов повелел мне сходить к нашей хозлаборантке Лукиничне и взять у нее новый белый халат. Я попробовал возражать: на улице жара, испытания впору проводить не в халате, а в плавках...
– Вы в армии служили? – прервал меня Фуркасов.
– Нет.
– Тогда делайте, что вам говорят.
Странная логика: в армии не служил, а все равно делайте...
– Приказ – исполнение, приказ – исполнение! – Фуркасов потрепал меня по плечу, отчего я непроизвольно вытянулся по стойке «смирно» и прищелкнул каблуками. Такое странное он оказывал на меня воздействие.
В заключение Фуркасов распорядился, чтобы я выписал для него на бумажке номера отобранных кузнечиков, составил, другими словами, так называемую индексацию. Номера он внесет в протокол завтрашних испытаний вместе с предварительно зафиксированной дальностью прыжков насекомых, то есть до обработки их КОМФИГом. Фуркасов постоянно занимался составлением подобных протоколов, объясняя, что столь важное и ответственное для развития науки дело никому нельзя передоверить. Контейнер, металлический короб с персональными ячейками для кузнечиков, мне также надлежало как можно скорее доставить Фуркасову. Они с Бур-Сакеевым привезут его в Елыкаево на служебной машине.
Я исполнил все в точности...»
«– Ваш пропуск!
У ворот Елыкаевского полигона стоял институтский вахтер, усач Охромеев. Как видно, специально вывезенный из Москвы. Такого сроду не бывало: днем ворота всегда нараспашку, на ночь их запирали на висячий замок, ключ прятали под камень.
– Очумел, что ли? – Я легонько плечом отодвинул хлипкого старика Охромеева. Словно из-под земли, вырос один из той самой пары блондинистых, что приезжали для инспектирования забора.
– В чем дело? – строго спросил он. Не у меня, а у Охромеева.
– Я ему – ваш пропуск, а он хулиганит, – наябедничал тот...
Блондинистый пристально взглянул на меня, и моя рука полезла в карман за пропуском. Хорошо еще, что таковой при мне оказался. Блондинистый выхватил картонную книжечку, раскрыл и принялся внимательно ее изучать. Поковырял ногтем фотографию. Сверил с моей внешностью. Вновь погрузился в изучение документа. Наконец вернул мне его и с заметной неохотою произнес:
– Проходите.
С десяток удивительно похожих друг на друга блондинистых молодцов уже расположились в разных точках полигона. Среди них прогуливался Бур-Сакеев под ручку с Фуркасовым. Между стойками навеса была натянута проволока, а к ней прикреплены листы ватмана с разноцветными таблицами и графиками: оформление для научного доклада.
– Кто это? – спросил профессор, указывая на меня.
Бур-Сакеев принадлежал теперь всей стране, а возможно, и всему прогрессивному человечеству. Где уж было ему выучить списочный состав собственной лаборатории?
– Это ваш сотрудник Каперсов, – объяснил Фуркасов. И добавил: – Каперсы – это такие ягодки.
– Стало быть, вы фрукт? – пошутил Бур-Сакеев, протягивая мне руку.
– Фрукт! Фрукт! – весело подхватил Фуркасов. – Еще какой!
– Мне ли не знать каперсов? – развил тему Бур-Сакеев. И рассказал, как шеф-повар из ресторана Дома ученых чуть ли не на коленях умолял его привезти из заграницы хотя бы килограмм каперсов. Без них нипочем ему не приготовить фирменного блюда, утки по-сингапурски.
– Мне бы с вами поговорить, – робко попросил я.
– После! После! –замахал руками Фуркасов.– Не приставайте с глупостями!..
С «глупостями» я уже как-то приставал. Не к Бур- Сакееву, тот был малодоступен, а к Фуркасову. Немедленный переход на крупные биологические объекты день ото дня все сильнее тревожил мое воображение.
Однажды мы с Фуркасовым возвращались из Елыкаева в Москву на служебном «Москвиче». Когда выехали с проселка на шоссе и перестало трясти, я, осторожно кашлянув в кулак, сказал:
– А что, Иван Иванович, не замахнуться ли нам на что-нибудь покрупнее?
Фуркасов сидел рядом с шофером, с сзади. Он обернулся и, прищурившись, начал выискивать в моем лице пусть мелкую, но важную деталь. Потом поинтересовался, что я имею в виду?
– Допустим, кроликов.
Фуркасов хмыкнул и спросил, что же в таком случае делать с кузнечиками? Ничего, сказал я, пусть себе летают, скачут.
– Значит, для вас с кузнечиками уже все ясно?
– В общем и целом...
– То-то и оно, что в общем и целом! – Фуркасов поднял вверх указательный палец. – А ясность должна быть полная!
Тогда я привел убедительный, как мне казалось, довод: время уходит, от нас ждут полезных для страны результатов.
– А опыты с кузнечиками, по-вашему, бесполезные? – изловил меня на слове Фуркасов.
Я смешался, принялся оправдываться. Разумеется, опыты с кузнечиками тоже полезные, полезней не бывает, но в то же время... Фуркасов прервал мою оправдательную тираду.
– Вот народ! – сурово заметил он. – Ну как с ними науку двигать? Всё им в Эйнштейны не терпится, в Чарлзы Дарвины, в Кулибины...
К чему он приплел русского механика-самоучку Кулибина, не знаю. На том разговор закончился.
Из-за ворот послышались громкие, возбужденные голоса. И сразу чей-то крик. Блондинистая команда навострилась и бегом туда. Мы с Бур-Сакеевым и Фуркасовым тоже пошли взглянуть, что там такое стряслось, за воротами.
Нашим взорам предстала страшная картина. На земле валялся младший научный сотрудник Самопалов. А блондинистый молодец (тот самый, что проверял у меня пропуск) сидел на нем верхом. Это было не только страшно, но еще и удивительно!
Вам когда-нибудь встречались люди, способные разламывать грецкие орехи, зажав по одному в кулак? Или готовые в одиночку вытащить из непролазной грязи засевшего «жигуленка»? А между тем, они спокойно живут среди нас. Один из них Самопалов. Не просто младший научный сотрудник, но еще и мастер спорта по штанге. Пусть не заслуженный, не международного класса, но мастер спорта.
А сейчас Самопалов лежал, погрузившись носом в пыль, а блондинистый проверялыцик пропусков, на вид не такой уж крепыш, без всяких церемоний заламывал ему руки за спину.
– Я ему – ваш пропуск, а он – пшел отсюдова! – громко возмущался старик Охромеев.
– Ваш сотрудник? – спросил блондинистый, расправившийся с нашей гордостью в области физкультуры и спорта.
– Наш! – подтвердил Фуркасов.
Но сразу он Самопалова не выпустил. Прежде переглянулся с одним из своих коллег, видимо, начальником или командиром. Только когда тот кивнул, поднялся и стал отряхивать пыль с брюк.
Фуркасов отвел Самопалова в сторону и принялся его отчитывать за более чем легкомысленное поведение.
На следующий день Самопалов подошел ко мне и произнес такую речь:
– Ты думаешь, он сильнее меня? Да я его одной левой, если по-честному! – Он... (нецензурное существительное) ... приемчик применил, каратист... (нецензурное прилагательное). А если без приемчиков, я эту... (нецензурное существительное плюс глагол)... как делать нечего!
Я выразил полное с ним согласие. Безусловно, он попался на приемчик, которыми владеют все блондинистые. Лучше с ними не связываться.
Время шло, а высокий гость все не ехал. Самопалов прилег на траве и моментально заснул, продемонстрировав необыкновенную крепость нервной системы. Согласитесь, человека только что изваляли в пыли, заламывали ему руки, а он спит себе, словно младенец. Блондинистые разгуливали по полигону. Бур-Сакеев и Фуркасов расположились в креслах под навесом и тихо беседовали. Привожу часть их беседы, то, что мне удалось услышать.
Фуркасов. Что конгресс?
Бур-Сакеев. Полный порядок.
Фуркасов. Культурная программа?
Бур-Сакеев. На этот раз скромненькая. Катанье на яхтах. Экскурсия на мулах в горы. Прием а-ля фуршет.
Фуркасов. Как был встречен ваш доклад?
Бур-Сакеев. Небывалый фурор. Публика неистовствовала. Репортеры посходили с ума. Заперся от них в номере. Один пролез через камин. Выскочил оттуда весь в саже...
Разомлевши от жары, я тоже вздремнул, пристроившись на контейнере с кузнечиками. Когда проснулся, беседа продолжалась, но речь шла о другой зарубежной поездке.
Бур-Сакеев. ...а угощение было чисто галапагосское. На первое супец из акульих плавников, на второе мясо морской черепахи, запеченное с молодыми побегами бамбука...
– Едут! – негромко, но внятно произнес начальник над блондинистыми. Я заметил у него портативную рацию. Тотчас одна часть его команды замерла на постах внутри полигона, остальные бегом кинулись к воротам. Бур-Сакеев с Фуркасовым тоже заторопились туда, одергивая пиджаки и поправляя распущенные завязки галстуков. Я увязался за ними.
К полигону приближался кортеж машин. Впереди гаишный «мерседес» с мигалкой на крыше. За «мерседесом» черная «Волга» со множеством антенн. Наконец правительственный «ЗИЛ». За ним еще великое множество «Волг».
Кортеж подъехал. Из «ЗИЛа», из передней правой дверцы, стремительно выскочил еще один, последний по счету блондинистый. (Господи! Сколько же их всего!) Он отворил правую заднюю дверцу и остался стоять, ее придерживая. Из двери, сначала ноги, затем остальное, выбрался плотный, кряжистый мужчина в возрасте. Лицо его мне показалось знакомым. Он часто появлялся II телевизоре, в программе «Время», в других программах. Указать точный его пост не берусь. Я вечно пугаюсь в нашем государственном и партийном руководстве. Единственное, что могу сообщить, – присутствующие обращались к нему – «Евграф Сысоич».
Из «Волг» повылезали, как обычно пишут в прессе, «представители министерств и ведомств». Все как на подбор солидные и мордатые. Из одной «Волги» два юных очкарика извлекли наше академическое начальство, старенького академика-секретаря, и повели под руки. Бур-Сакеев изобразил на лице радостную улыбку и приблизился к Евграфу Сысоичу. Того уже успели взять в кольцо наружные блондинистые. На мгновение кольцо разомкнулось и пропустило внутрь профессора. Фуркасов остался поодаль, меня же черт дернул устремиться за Бур-Сакеевым. И тут же я взвыл от боли. Один из блондинистых как бы невзначай наступил мне на ногу. Вот еще какие у них приемчики!
Вокруг Евграфа Сысоича юлой завертелся лысоватый референт в дымчатых очках. Он и представил профессора.
– Товарищ Бур-Сакеев Ксаверий Игоревич, – произнес он, заглянувши в раскрытый блокнот.
– Как-как? – удивленно и даже, как мне показалось, испуганно переспросил Евграф Сысоич.
Референт повторил.
– Вы что же, еврейской национальности будете? – спросил Евграф Сысоич, протягивая тем не менее руку.
– Что вы! –запротестовал профессор. – Я чистокровный русак.
– Я так, к слову пришлось. – Евграф Сысоич обвел присутствующих озорным взглядом. Лица у всех просветлели, а у иных сделались просто умильными. – По мне хучь турок, – развил свою мысль высокий гость.– Ничего страшного!
– Мой дед вообще был православный священник.
– А-а-а, ну это хорошо... Ну, как вас там...
– Ксаверий Игоревич, – быстро вставил референт.
– Ну что, Игорич, накормим страну? Народ накормим?
Бур-Сакеев всем своим видом выразил готовность накормить и страну и народ.
– Я сейчас много езжу по различным регионам, – сказал Евграф Сысоич. – И вы знаете, крепнет уверенность...
Раздался одобрительный гул.
К Евграфу Сысоичу самостоятельно, без очкариков, протиснулся старичок-академик.
– Профессор Бур-Сакеев проводит интереснейшие опыты, – прошамкал он.– Огромный резонанс за границей...
– Что вы мне всё – заграница-заграница! – оборвал его Евграф Сысоич.– Думаете, заграница нас накормит? Вот вам! – Он сложил пальцы в кукиш и описал им широкую дугу, чтобы всем было видно, как накормит нас заграница. – Или демократы накормят, мать их?.. Но!..– Кукиш был распущен, взамен поднят указательный палец...– наука должна активно подключаться. А то, понимаешь, мать вашу!..
Многие из присутствующих переглянулись и тоже вскинули вверх указательные пальцы.
– Ладно! Веди! – приказал Бур-Сакееву высокий гость. – Показывай, что натворил, наоткрывал...
Ступая широко расставленными, короткими и негнущимися ногами, Евграф Сысоич вошел в ворота. Вахтер Охромеев вытянулся, лихо козырнул и гаркнул: «Здравия желаю!». За что был удостоен милостивого кивка. Следом за Евграфом Сысоичем вошла наружная блондинистая охрана, а уж за ней «представители министерств и ведомств».
Когда я вошел, в числе последних, Евграф Сысоич уже сидел в кресле под навесом. Свита усаживалась. Кроме блондинистых – те остались стоять позади охраняемой персоны. Фуркасов нашел себе занятие, подносил бутылки с прохладительными напитками и тотчас их открывал. Бур-Сакеев с указкой в руке подошел к развешенным плакатам и испросил позволения начать доклад.
Воспроизводить его я не стану. Речь профессора была пересыпана заковыристыми словечками столь же щедро, сколь хозяйка пересыпает солью шинкованную капусту. Но если вы настаиваете, вот некоторые образчики:
– Апробация новации сенсибилизирует алгоритм иррегуляции... Своевременная коррекция чрезвычайно привлекательна с позиций стабилизации и поляризации... Амбивалентная интрузия чревата интерференцией...
Самое удивительное, Евграф Сысоич, по-видимому, все понял. Во всяком случае, он несколько раз произнес «так-так», «интересно, черт возьми!», что тут же было отражено референтом в блокноте. Напряженные лица Присутствующих также выражали понимание. А ведь речь шла о поистине головоломной теории КОМФИГа!
– Ладненько! – произнес Евграф Сысоич после того, как Бур-Сакеев поблагодарил присутствующих за внимание. Похлопал себя по коленкам и спросил: – У вас всё?
– Что вы! Теперь вас ждет самое интересное! – пообещал Бур-Сакеев. – На ваших глазах будут продемонстрированы сверхпрыгучие кузнечики, первый реальный результат КОМФИГа.
Перейдя на нормальный человеческий язык, профессор достаточно толково и вразумительно стал излагать суть эксперимента. Я находился при контейнере, облаченный в белоснежный халат. Готов был начать в любую минуту. По команде начальства мне предстояло вскрыть контейнер, достать из ячейки первого кузнечика и осторожно перенести в устройство наподобие пружинных весов, названное катапультой. Нажмешь педаль – кузнечик подбрасывается вверх, затем переходит в горизонтальный полет. Самопалову предстоит принимать его в пункте приземления, накрыть сачком... Черт возьми! Куда подевался Самопалов?
Порыскав глазами, я с ужасом увидел, что он по-прежнему дрыхнет в траве неподалеку от предполагаемого пункта приземления. Это хорошо, что он там, там ему и надлежит быть! Но не спящему, а полностью отмобилизованному, готовому накрыть сачком приземлившегося кузнечика. Что же блондинистые его не разбудили? Ведь это же явный прокол! Впрочем, у них другие функции.
Бур-Сакеев заканчивал описание предстоящего эксперимента. Команда начинать могла последовать в любой момент. Я не решался тронуться с места. Единственный, кто мог спасти положение, был Фуркасов. Но он был занят откупориванием бутылок с прохладительными напитками: по случаю жары спрос на них был повышенный. Я стал в открытую его приманивать знаками. Чудо, но мне это удалось. Фуркасов обратил на меня свой взгляд. По моей отчаянной жестикуляции понял, что не всё ладно. Я указал ему на Самопалова. Он схватился за голову. Бросил бутылки, подбежал и в два счета его растолкал. Самопалов поднялся во весь свой богатырский рост. Шумно потянулся... В этот момент Бур-Сакеев провозгласил:
– А теперь перейдем к эксперименту. Его проводит мой сотрудник Каперсов и его помощник Самопалов.
Я поклонился. Вскрыл контейнер, извлек первого кузнечика. Посадил его в чашку катапульты.
– Экземпляр номер одна тысяча двести шестьдесят семь! – громко объявил я.
– Ап! – скомандовал Бур-Сакеев. Совсем как предводитель акробатов в цирке при исполнении головокружительного трюка.
– Я нажал ногой на педаль. Кузнечика подбросило вверх, и он полетел в направлении Самопалова. Едва кузнечик сел на траву, Самопалов проворно накрыл его сачком. В точке приземления воткнул заготовленную вешку. Евграф Сысоич наблюдал за всем этим в полевой бинокль. Самопалов принес мне в сачке кузнечика, и я поместил его в персональную ячейку в контейнере. Дальность полета или прыжка (как угодно) мы с Самопаловым измерили рулеткой.
– Тридцать семь метров пятьдесят один сантиметр! – объявил я первый полученный результат.
– А до обработки КОМФИГом этот же кузнечик прыгнул всего лишь на двадцать один метр ровно, – присовокупил Бур-Сакеев и показал всем заготовленный Фуркасовым протокол. – У нас как в аптеке. Можете не сомневаться.
Раздались одобрительные возгласы. Так повторялось каждый раз при испытании прыгучести очередного кузнечика. Когда было покончено с последним, Бур-Сакеев объяснил, что теперь, в московской лаборатории, насекомые будут подвергнуты подробному и всестороннему исследованию как на клеточном, так и на молекулярном уровне, дабы познать оставшиеся пока непознанными таинства и загадки КОМФИГа.
Евграф Сысоич переглянулся с референтом и обратился к Бур-Сакееву:
– Действительно, впечатляюще. Не знаю, как остальным, но лично мне понравилось... Когда можно ожидать внедрения в сельское хозяйство этого... вашего?.. КОМФИГа, – подсказал референт...»
Комментарий автора. Якушкин сказал, что именно в этом месте Воланд вынужден был прервать чтение. Почему? Об этом в следующей главе.
Глава 10. Непростительная халатность
Карета неожиданно остановилась. Чуть раньше, заглушая цокот лошадиных подков и скрип рессор, донесся снаружи рев возбужденной толпы.
– Стой!.. Стой, кому говорят!
Едва карета успела остановиться, в дверь бесцеремонно постучали.
– Открывай!.. Открывай, мать вашу!
Дверь рвали на себя. В окна полетели камни, но стекла выдержали, не разбились.
Воланд оторвался от рукописи, в недоумении поднял голову. Бегемот, разлегшийся на каминной доске, где также предавался чтению, снял очки и привстал на лапах.
Появился Коровьев. Приоткрыл на одном из окон шторы, глянул и отшатнулся. Лицо его выражало неподдельный страх и ужас.
– Мессир! –закричал он. – Вы вправе подвергнуть нас с Бегемотом самой свирепой экзекуции! И поделом нам!
– Почему меня? – возмутился Бегемот, – Чуть что, первое дело – я!
Странное дело, но Якушкин никакого страха не ощутил. Наоборот, его охватило непонятное веселье.
А карета продолжала сотрясаться от толчков и ударов. От пляшущего пламени свечей по драпировкам метались причудливые тени. Коровьев же, вместо того, чтобы что-то предпринять, пустился в пространные объяснения. По его словам, они с Бегемотом, получив указание от Воланда, как надлежит поступить с Шуртяевым...
«Шуртяев? – уловил фамилию Якушкин. – Да-да, есть такой. Знаменитый драматург. Пьесы на ленинскую тему. Заполонил ими все театры...»
А Коровьев продолжал. В пласте Времени ими с Бегемотом был прорыт туннель. Посредством него драматург был доставлен в обожаемое им революционное прошлое, точнее в Восемнадцатый год. Там (или лучше сказать – тогда) его шлепнули чекисты при попытке к бегству. В точности, как было ему предсказано Воландом.
Далее на Бегемота была возложена совсем нехитрая операция – заделать туннель намертво. Бегемот, очевидно, выполнил ее неудовлетворительно. Проще говоря, на халтурку. В туннеле остались щели, через которые уже в нынешнее время проникла масса народа из 1918 года.
– Кто эти люди и что они хотят? – спросил Воланд.
– Российские санкюлоты, – объяснил Коровьев. – Устремились в будущее с голодухи, а тут тоже особенно нечем подхарчиться. Вот и буйствуют
Бегемот проворчал что-то нелестное по адресу Коровьева. Это ему надо было проверить, не осталось ли щелей, раз он был назначен старшим по операции. Бегемот спрыгнул на пол и удалился, гордо подняв хвост.
– Не волнуйтесь, мы их живо утихомирим, – пообещал Коровьев и тоже исчез.
– Меньше всего я волнуюсь, – с усмешкой произнес Воланд. – Но ответ за недосмотр и халатность шельмецам придется держать.
Через мгновение Коровьев и Бегемот появились снова. Коровьев уже знакомым читателю солдатом с империалистической войны, Бегемот революционным матросом. Для пущей важности он, кроме маузера в деревянной кобуре, привесил к поясу несколько гранат-лимонок. Вместе с ними был и комиссар Кошкин, то есть Азазелло. Якушкин сразу узнал излюбленных персонажей советской драматургии.
Коровьев отомкнул задвижку дверцы, та распахнулась настежь. На подножке висели какие-то люди. Коровьев с криком «Именем революции!» принялся их сгонять, орудуя прикладом своей винтовки. Якушкин отодвинул штору на окне, прильнул к стеклу. Он увидел, как двое в овчинах лезли на козлы с явным намерением добраться до кучера в треуголке (но без лица) и сбросить его оттуда. Кучер нахлестывал нападавших по спинам кнутом, но те упрямо продолжали лезть. Множество рук пытались стащить с запяток негров лакеев. Хватали их за ноги в белых чулках. Негры держались мужественно. Ногами же и отбивались. В целом, как принято теперь говорить, ситуация находилась под контролем.
Подножка была наконец очищена. Кучер и негры-лакеи продолжали держаться. Отведавшие приклада коровьевской трехлинейки новых попыток влезть на подножку не возобновляли. Коровьев смело сошел вниз и подал знак комиссару Кошкину. Тот также спустился к толпе. Один Бегемот благоразумно остался на подножке.
– Почему шум? – спросил Кошкин-Азазелло.
Толпа разом утихомирилась. Кучера и негров лакеев на время оставили в покое. Теперь Якушкин смог разглядеть лица – изможденные, страшно худые, одни искажены гневом, на других печать немого отчаяния. Мужчины, женщины, все в немыслимой рванине. Попадались солдатские шинели, матросские бушлаты…
– Почему шум, граждане? – повторил комиссар Кошкин.
Толпа снова невнятно загудела. Вперед протиснулся неимоверный амбал, косматый, со звероподобным лицом. На нем был неожиданный цилиндр и офицерский френч без погон, надетый на голое тело. Ясное дело, анархист.
– Кого везешь? – крикнул он Кошкину-Азазелло. – Говори: буржуев? Дай нам буржуйского мясца отведать!
Толпа возбудилась. Послышались крики: «Буржуев везут! Бей их! Кроши!..» Комиссар Кошкин выхватил короткоствольный наган и несколько раз выстрелил в воздух.
– Спокойно, граждане! – произнес он в наступившей тишине. – Не верьте анархистам! Никаких буржуев и прочих эксплуататорских классов в карете нет! Данная карета реквизирована по постановлению ревкома у кровопийцы и царского прихвостня, графа Бобринского. Сам граф пущен в расход. А карету мы используем для революционных надобностей, для розыска контры и буржуазного элемента. Это говорю вам я, комиссар Кошкин!
– Верим! Верим! – раздались крики. – Да здравствует комиссар Кошкин!
– А кучер в шляпе зачем? А негры в ливреях на запятках? – не унимался амбал-анархист (возможно, также и террорист). – Ты нам давай не вкручивай!
Его коварный выпад, не моргнув глазом, парировал Коровьев. Кучер, объяснил он, бывший графский кучер. Состоит, как и прежде, при лошадях и карете, но уже на службе в ревкоме. Получает паек. Что касается негров, к ним тоже не может быть никаких претензий. Обыкновенные трудовые негры. Прежде закабаленные графом Бобринским, теперь свободные, как все. Тоже состоят при ревкоме. В поездках по городу выслеживают буржуазный элемент и всякую контру, знакомую им по прежней службе у графа.
– Если вы насчет ливрей и шляп, – закончил Коровьев,– то где же им, граждане, другую взять одежонку? Может, подскажете?
Но амбал-анархист лез напролом.
– Ты нам сказки не рассказывай! – крикнул он. – Ты мандат покажь!
«Комиссар Кошкин» достал из кармана куртки сложенный лист бумаги. Амбал-анархист протянул руку, чтобы взять, но его оттолкнул пожилой сивоусый рабочий в такой же, как и у Кошкина-Азазелло, кожаной фуражке. Он взял бумагу, развернул, надел очки в железной оправе и начал читать.
– Мандат правильный! – объявил он и вернул документ. Амбал-анархист тотчас исчез в толпе.
– Да здравствует наш славный вождь товарищ Троцкий! – бросил в толпу клич Кошкин-Азазелло.
Толпа ответила дружным «ура». Лица у всех сделались радостными,
– Да здравствует великий вождь мирового пролетариата товарищ Ленин! – внес свою лепту в подъем общего энтузиазма Коровьев.
Еще более мощное, многоголосое и несмолкаемое ура прокатилось над толпою. К Коровьеву и к Кошкину- Азазелло тянулись бесчисленные руки. Они едва успевали их пожимать. Бегемот также спустился вниз для обмена рукопожатиями с толпою. У женщин, которые были с малыми детишками, спрашивал, сколько детишкам годиков, как зовут, трепал их за щечки. Наконец все трое вернулись в карету. Дверца захлопнулась, и карета снова тронулась в путь, провожаемая ликующими криками толпы. Скоро все стихло, лишь по-прежнему ритмично постукивали об асфальт подковы да слышался скрип рессор.
– Что же с ними теперь будет? – спросил Якушкин.
– А ничего, – беззаботно отвечал Коровьев. Вся троица успела принять прежнее свое обличье.
– Эх, зря я не шлепнул из маузера эту анархистскую сволочь! – сокрушался кот Бегемот, не успевший остыть от встречи с революционными массами. – Он у меня просто плясал на мушке!
Воровато косясь на Воланда, Коровьев разъяснил, и почему-то одному Якушкину, что туннель, прорытый в пласте Времени с целью транспортировки Шуртяева в прошлое, сугубо индивидуального пользования. Другое дело, когда по нему поперли в противоположном направлении, то есть в будущее. В этом случае туннель способен пропустить за один раз хоть тысячу, хоть десять. Якушкин свидетель, сколько в итоге набралось. Возвращать их теперь по одному в Восемнадцатый год – задача непосильная. Пусть уж проживают люди из Восемнадцатого года в светлом будущем, раз устремились в него в революционном порыве.
– Ну как взыщешь е эдаких пройдох? – произнес с улыбкой Воланд. Вопрос был также адресован Якушкину.
– Мессир! Вы превратного о нас представления. Мы старались изо всех сил. Тут не вина наша, а беда. – Как и пристало революционному солдату, Коровьев не сдавался, держался до последнего.
Прибавится теперь работенки у московской милиции, – с неожиданным лукавством заметил Бегемот.
Он как в воду глядел. Среди прочих напастей, обрушившихся на город, неожиданно Москву наводнили бомжи. И какие-то невиданные прежде. До того бедно и убого одетые, что одним своим видом вызывали сострадание. В последнее время их в городе хватало, но чтобы вот так, вдруг, и в таком колоссальном количестве...
Появлялись они повсюду, но большей частью в центре. Иные ввязывались в острые политические дискуссии, которые чуть ли не круглосуточно ведутся на Пушкинской площади, перед редакцией прогрессивной газеты «Московские новости». Новоявленные агитаторы высказывали откровенно большевистские взгляды. Призывали искоренить буржуазный элемент и вообще всех богатеньких. Призыв находил понимание и поддержку, невзирая на несколько старомодную терминологию. «Буржуазным элементом» определили зажравшихся кооператоров, от которых нет никакого спасения. Но когда проповедники социального равенства начали провозглашать здравицы в честь товарищей Ульянова-Ленина и Троцкого, их чуть не избили.
Всё это было отражено в рапорте сотрудника КГБ, откомандированного присматривать за политической тусовкой. Между прочим, на том рапорте одним из верхних чинов была наложена следующая резолюция: «Вполне сознательная провокация. Возможен прибалтийский след. Проверить».
Но это еще цветочки. Кое-кто из бомжей перешел от слов к действиям. Прямо скажем, противоправным. Участились случаи разбойных нападений на улицах. Выйдет, скажем, покупатель из магазина, где еще удавалось хоть что-то купить: батон хлеба или же мороженую скумбрию, а его бомж остановит, в фантастическом тряпье. Объяснит, что продовольственные излишки подлежат изъятию. Вырвет сумку и даже не убегает. Батон тут же в зубы, трескает, прохвост, с жадностью. И мороженой рыбкой не гнушается. С голодухи, это понятно. Но, согласитесь, всему есть свои приличия?
На Тверской, в аккурат перед Моссоветом, известный читателю амбал-анархист в цилиндре набросился на одного гражданина уже по непродовольственным мотивам. Как выяснилось, на директора советско-итальянского предприятия «Пицца по-неаполитански». С криком «Буржуй проклятый!» амбал-анархист начал сдирать с преуспевающего коммерсанта кожаное пальто на натуральном меху, приобретенное, как ни странно, в солнечной Италии, куда он выезжал для уточнения рецепта пиццы по-неаполитански.
К счастью, поблизости оказалась милиция. Кожаное пальто удалось отбить и возвратить владельцу. Ну, а амбал-анархист был доставлен в уже известное 83-е отделение милиции. Паспорта при задержанном, естественно, не оказалось, а была справка с печатью, выданная неким «Домкомом».
Из справки следовало, что ее владелец проживает в Спасо-Песковском переулке, дом 17, вход со двора. В порядке проверки довольно скоро установили, что такого дома по Спасо-Песковскому переулку не существует. Как, впрочем, и почти всего переулка: снесли в горячке благоустройства, при прокладке проспекта Калинина. Если кто и проживает ныне в Спасо-Песковском, состоящем из одного-единственного дома, так это господин американский посол.
Пригляделись получше – мать честная! Справочка-то датирована 1918 годом! Документ явно просроченный. На уточняющие вопросы амбал-анархист отвечал одними лишь призывами к ликвидации частной собственности во всех ее формах и проявлениях, включая кожаные пальто. Было принято решение подвергнуть его судебно-психиатрической экспертизе. Дальнейшая судьба амбала-анар- хиста мне неизвестна.
Упомяну о том, как двое несовершеннолетних и страшно чумазых мазурика приставали к прохожим на Театральной площади с вопросами, куда подевались котлы для варки асфальта, в которых они обыкновенно ночуют. Прохожие никакого объяснения на этот счет дать не могли, а советовали ехать на ночевку на Казанский вокзал, издавна славящийся обилием бомжей, проституток за рубли и прочих подозрительных личностей.
Что касается КГБ, то там в связи с нашествием бомжей упорно и целеустремленно искали «прибалтийский след». Пробовали связать их появление с загадочным исчезновением Шуртяева, что само по себе близко к логике. Но вскоре в Москве началось такое, что стало уже не до исчезнувшего Шуртяева и не до бомжей...
– Готов побиться о любой заклад, что они с Бегемотом специально изобрели кунштюк с пролезанием людей из прошлого в будущее, – сказал Воланд, вновь обратившись к Якушкину.
Тут Коровьева проняло, похоже, по-настоящему,
– Мессир! – воскликнул он с обидой в голосе ,– Ну как у вас только язык повернулся сказать про нас такое? Вы нанесли нам смертельную обиду при госте!
Он достал из кармана наигрязнейший платок, принялся вытирать брызнувшие из глаз слезы и несколько раз громко высморкался. Бегемот насупился, также выражая крайнее неудовольствие словами Воланда. Но признался, что заделывал туннель в страшной спешке, поскольку пора было отправляться к Дому литераторов на выручку Якушкину...
«Выходит, они заранее знали, что произойдет в Доме литераторов? И чем закончится? – подумал Якушкин. – Ничего себе!»
–...не исключено, – продолжал Бегемот, – что остались в туннеле кое-какие щелки. Только не в них, видно, дело, если прорвалось в будущее столько народу. Дело совсем в другом. Охваченные революционным порывом массы, устремившись в светлое будущее, способны не только пролезть в щели, но и смести любую преграду. А Воланд, не разобравшись хорошенько, возводит напраслину.
Азазелло, почему-то выведенный из-под всякого подозрения, помалкивал, лишь тихонько посмеивался.
– Ладно! – В голосе Воланда прозвучали примирительные нотки. – Что случилось, то случилось, теперь уже не поправить.
Мир и согласие были восстановлены. Но Воланд, равно как и Бегемот, что-то не торопился возобновить чтение, прерванное нападением на карету. Что касается Якушкина, то он полностью освоился с обстановкой и чувствовал себя так, словно путешествовал не в обществе самого Дьявола, а, скажем, ехал в обычном вагоне скорого поезда. Успел перезнакомиться с соседями по купе, узнал, кто откуда и чем занимается. И потекла непринужденная беседа о том, о сем. Не только для того, что-бы скоротать время, но и расширить представления о жизни и людях.
– Здорово как у вас получилось! – сказал он Коровьеву. – Ну прямо вылитый вы были солдат с империалистической войны.
– Пустяки, – отвечал Коровьев,– солдат или кто там еще. Важно быть знакомым с тем или иным героем, желательно видеть его живьем, остальное дело техники.
Якушкин поинтересовался, где это Коровьеву довелось наблюдать своего героя. Уж не в театре ли? На что тот сказал, что он совсем не театрал, но одну пьесу с революционным солдатом все же как-то видел. Правда, не объяснил, в каком именно театре.
– А я своего матроса скопировал сразу из нескольких пьес, – похвалился Бегемот. – Удалось создать обобщенный образ революционного «братишки». Без ложной скромности расцениваю как крупную творческую удачу.
И тут Якушкина осенило.
– Но это же замечательно! – воскликнул он. – Вы можете продлить жизнь любому герою пьесы: драмы, комедии или даже трагедии. Если он, конечно, не убит, как Гамлет или как Лариса из «Бесприданницы». Я всегда мечтал узнать, что произошло дальше с Хлестаковым, с тремя сестрами...
– Теплее! Теплее! – с загадочным видом произнес Азазелло.
Воланд метнул в него недовольный взгляд. Азазелло тотчас вынул круглое зеркальце, стал прихорашиваться, поправлять узелок галстука.
– Продлить жизнь можно не одним лишь героям пьес. Зачем обижать прозу? – сказал Воланд. – Я уже говорил вам, что для меня жанр не имеет значения.
– Вы, как всегда, гениально правы, мессир! – подхватил Бегемот. – Я давно нацелился превратиться в «Кавалера Золотой Звезды». Просто до жути хочется! Заветная мечта!
Воланд огорчил Бегемота. Сказал, что такое окажется не под силу даже ему, непревзойденному асу всяческих превращений. Насколько он помнит, действие романа разворачивается в абсолютно нереальных условиях. Да и герои далеки от живых людей...
– Будто вам не под силу создать и нереальные условия, – усмехнулся Якушкин. – По-моему, для вас раз плюнуть.
– Теперь холодно! – подал голос Азазелло.
– Помолчи! – прикрикнул на него Воланд. А Якушкину ответил следующим образом:
– Воссоздать любые условия: время и место действия, хоть каменный век, хоть древнеримскую империю, разумеется, несложно. Включая даже какую-нибудь планету или галактику, созданную писателем-фантастом. Под условиями нереальными он разумеет сознательное искажение действительности, совершенное автором произведения либо по требованию цензуры, либо по собственной инициативе, в корыстных целях. Вот такие, с позволения сказать, у слови я воссоздавать никому не удастся, равно и героев. Да и не к чему это.
– Мы опять ударились в теорию, – закончил Воланд.– А ведь я еще не дочитал вашу повесть.
Коровьев и Азазелло испросили позволения удалиться. Воланд снова взял в руки стопку страниц из рукописи Якушкина. Бегемот вспрыгнул на каминную доску и последовал его примеру
Глава 11. Кролик Кузя. Заключительные отрывки из повести Якушкина
«...Евграф Сысоич переглянулся с референтом и обратился к Бур-Сакееву:
– Действительно впечатляюще. Не знаю, как остальным, а мне лично понравилось. Когда можно ожидать внедрения в сельское хозяйство этого... вашего?
– КОМФИГа, – подсказал референт.
Не моргнув глазом, Бур-Сакеев ответил: хоть завтра! Он готов приняться и за крупный рогатый скот, и за свиней с овцами и козами, а также и за кур. Но есть определенные трудности. Первейшая и наиглавнейшая – строители не выполнили своего обещания, до сих пор не воздвигли здесь, в Елыкаеве, исследовательский корпус И Бур-Сакеев указал на фундамент, успевший зарасти бурьяном и частично развалившийся. Идея заключается в том, чтобы убрать полигон под крышу. Тогда испытания кузнечиков можно будет проводить ускоренными темпами, в любое время года, в любую погоду...
– Опять кузнечики! – непроизвольно вздохнул кто- то из «представителей министерств и ведомств»
– Да, опять! – подтвердил Бур-Сакеев, выискивая взглядом жалкого скептика. – Пока мы досконально не разберемся с кузнечиками, переход к крупным биологическим объектам невозможен. Я заявляю это со всею твердостью. Я вам не авантюрист какой-нибудь!
Глаза его загорелись гневом и обидою, что отметало даже малейшее подозрение в авантюризме.
– Кто у нас будет по строительству? – строго спросил Евграф Сысоич.
Из кресла поднялся мужчина, который был, пожалуй, потолще остальных. Он назвался:
– Филимонов из главка.
Что же это вы, товарищ Филимонов, нас подводите?
Ей-Богу, Филимонов готов был провалиться сквозь землю. Его скорбный вид выражал глубокое раскаяние. Но были произнесены и оправдательные слова: нет стройматериалов, лимиты исчерпаны, строительной техники не хватает...
– Вы нам, знаете, зубы не заговаривайте! – прикрикнул на него Евграф Сысоич. – Думаете, демократия, так уж можно шаляй-валяй работать? Пишите! – приказал он референту. – Сдать корпус в трехмесячный срок!
– Ой! Я не успею! – простонал Филимонов.
– А нас это слабо интересует. Не хотите – подавайте заявление, мать вашу!
Кто-то догадался толкнуть Филимонова локтем в бок.
– Будет стараться! – воскликнул он совсем уже молодецким голосом.
– Вот это другое дело! – похвалил Евграф Сысоич. – А вот скажите, – вновь обратился он к профессору, решив проблему строительства,– как вы себе мыслите? Все-таки кузнечики это одно, а коровы с овцами совсем другое...
Бур-Сакеев с печальной, но одновременно и мудрой улыбкой, как бы выражая ею признательность не только за уместный, но и за чрезвычайно тонкий вопрос, ответил в том духе, что так уж устроена матушка-природа – всё у нее подчиняется одним законам. И установлено это не кем-нибудь, а самим Фридрихом Энгельсом! (При упоминании основоположника диалектического материализма Евграф Сысоич довольно крякнул.) Если в результате применения КОМФИГа у одного биологического вида, у насекомых, обнаружена полезная мутация, продолжал Бур-Сакеев, того же смело можно ожидать и от любой другой живности.
– Нет, а все-таки, как ты себе рисуешь? – наседал Евграф Сысоич. Он перешел с Бур-Сакеевым на ты, что означало, по-моему, высшую степень расположения. – Возьмем, к примеру, стадо коров...
– Колхозных, – вставил кто-то.
– А я других коров не знаю, пока живой. Ну, и каким же это образом ты собираешься поднять удои?
Бур-Сакеев с ходу дал объяснение. Через пару- тройку лет едва ли не каждая колхозная ферма будет оборудована установкой КОМФИГа (на слове «колхозная» было сделано особое ударение). Коровы на таких установках будут подвергаться соответствующей обработке с целью повышения удоев. То же самое, но уже для обеспечения народа мясом, ожидает бычков, овец и свиней, прочную колхозную живность...»
«КОМФИГ это не только научный метод, это – судьба!» – любил говорить Бур-Сакеев. Сейчас на моих глазах КОМФИГ становился судьбою страны! Я понял, что присутствую при эпохальном или, как принято теперь говорить, судьбоносном событии...
– Черт его знает! – Евграф Сысоич почесал мизинцем в затылке. – А вдруг?.. Этих... как их... сенсов- экстрасенсов тоже ведь всерьез не принимали. Одно время мы даже директиву спустили: не давать им ходу, как проводникам махрового идеализма. А вот поди ты! Теперь по телевизору людей запросто лечат от всех болезней! И без всякого Минздрава!.. У меня у самого недавно поясницу заломило. Вызвал лечащего врача. Тот пощупал. Придется, говорит, вам ложиться в больницу на обследование. Я ему – да пошел ты! Какая может быть больница в переломный для страны момент?...
– Не жалеете вы себя! – послышался чей-то сердобольный голос.
–...Короче, прогнал медицину. Присаживаюсь вечерком к телевизору в порядке отдыха. А там экстрасенс упражняется. А что, думаю, подставлю-ка ему поясницу. Сидел задом к экрану минут пятнадцать. После Генеральный позвонил, отвлек... Лег спать, просыпаюсь наутро–никакой поясницы! Как рукой сняло!
Когда утихли восторженные возгласы по поводу чудесного исцеления Евграфа Сысоича, Бур-Сакеев снова вЗЯл слово и сказал, что уж сколько ему пришлось хлебнуть с КОМФИГом, никакому экстрасенсу и не снилось. Выдержка спасала, природный оптимизм. И еще вера в торжество правого дела!
– А вот скажи, – вернулся к главной теме Евграф Сысоич,– кормов для скотины при твоем КОМФИГе больше не потребуется? Честно сказать, с кормами у нас не густо.
Бур-Сакеев без запинки ответил, что об увеличении кормовых единиц и речи быть не может. Наоборот, рацион кормления животных можно будет даже несколько снизить.
– Вот это нам подходит! – радостно воскликнул Евграф Сысоич. И повелел референту дать в прессе отклик. Народ должен быть в курсе, какие вырисовываются перспективы на продовольственном фронте...»
………..
«Вы, случайно, не играете в карты? В преферанс? В покер? Или хотя бы в очко? Если играете, наверняка вам известно, что такое сенокос. Поперла за столом кому-нибудь из игроков карта со страшной силой – обязательно кто-то произнесет со вздохом: «Ну, сенокос!» А карта прет себе и прет.
С попавшим в полосу «сенокоса» сражаться бесполезно. Он пускается на самые безнадежные комбинации – и всякий раз выигрывает!
Вот и для нашего Бур-Сакеева, похоже, пробил час «сенокоса». Не страшась последствий, он смело раздавал любые авансы и тут же стриг дивиденды. Да что там стриг! Косил косой! Косить и только косить! Потом разберемся... Да и кто вообще станет разбираться в этой стремительной, быстротекущей жизни?
Ах, когда же для меня пробьет час «сенокоса»? Чтобы тоже косить, косить без устали!»
«Евграф Сысоич стал прощаться. Мы с Самопаловым были удостоены высокого рукопожатия. В окружении блондинистых высокий пошел садиться в «ЗИЛ». Усаживаясь, погрозил кулаком Филимонову из главка. Тот, полностью воспрянувший духом, ответил плутовскою улыбкой. Притворно заслонился ладошкой, то ли от кулака Евграфа Сысоича, то ли от нестерпимого сияния, исходившего от его персоны.
Гаишный «мерседес» выехал вперед, и кортеж тронулся в обратный путь...»
Комментарий автора романа. По сведениям, полученным мною от Якушкина, Каперсов путем различных хитроумных проделок добивается от начальства разрешения приступить к опытам над кроликами. Точнее, над одним-единственным, шиншилловой породы, который оказался в его распоряжении. Каперсов дал ему кличку Кузя.
……….
«В лучших традициях нашей лаборатории, как и многих других лабораторий и даже целых институтов, я толком не представлял, чего хочу добиться своими опытами. Конечно, самое лучшее, если бы кролик Кузя после обработки КОМФИГом начал быстро набирать в весе. Стал бы в считанные дни размером с теленка. Но кто может знать наперед конечный результат?
Допустим, никаких фантастических привесов я не достигну. Но не исключено, что обработанный кролик, подобно кузнечику Бимону, станет на редкость прыгучим. Тоже хлеб (хотя и не мясо). Или у него отрастет длинная шерсть, по пушистости равная мохеру. Мало ли каких можно ожидать полезных мутаций Настоящий ученый подобен охотнику, который, презрев усталость, рыскает по лесам в поисках дичи. Никому не дано знать наперед, на что наткнешься. Караулишь лису – подстрелишь рябчика. Идешь на медведя – добудешь кабана. Главное – попасть! Приложиться и с двух стволов – бац! бац! Так учил не кто иной, как сам Бур-Сакеев!»
Комментарий автора романа. В помощь Каперсову был выделен уже известный Самопалов. Толку от него никакого не было. В самый разгар опытов он безответственно отбыл на ответственные соревнования штангистов.
……….
«Но сказать, что обработка КОМФИГом даже кузнечиков – штука чрезвычайно трудоемкая. На установке «БУРСАК» (названа в честь Бур-Сакеева) обычно трудится целая бригада. Мне же приходилось вкалывать одному. Оттого день и ночь я пропадал в лаборатории
После очередного этапа (рентген, ультразвук и прочее) я пытался приметить, не произошло ли с кроликом Кузей каких изменений. Нет ли желанной мутации? Ничего особенного обнаружить не удавалось. Кролик вел себя смирно. Обработку КОМФИГом переносил стойко. И аппетит у него ничуть не снизился. В положенное для кормежки время с жадностью набрасывался на капусту и морковь.
Один опыт сменялся другим. Впереди оставался последний – обработка на центрифуге. Я произвел кое-какие расчеты и выяснил, что вращать кролика в центрифуге можно в пределах двух часов. Больше он не выдержит...
Специально для будущих моих биографов: к заключительному опыту я приступил ровно в девять часов вечера. Взял Кузю на руки, поцеловал на прощанье в мордочку и посадил в чашу центрифуги. Задраил люк, включил рубильник. С тихим воем центрифуга начала набирать обороты. Я установил на панели управления продолжительность два часа. По истечении этого срока центрифуга сама должна отключиться. Уселся в кресло и принялся ждать.
Кроме меня, в комнате находилась Лукинична, хозла- борантка и уборщица по совместительству. Она яростно терла пол насаженной на щетку мокрой тряпкой и беспрерывно бормотала:
Наше дело за чистотой следить, реактивы получать со склада. Нам начальство за это премию. А мы на премию гостинчик внучку. Предлагали в институт сверхвысоких энергий – отказалась. Тридцать один год беспрерывно состою при биологии…
Сказалась скопившаяся за последние дни усталость. Под монотонное бормотанье Лукиничны я заснул...
Есть сны, которые держатся в памяти долго. Вот и тогда мне приснился такой сон.
В зале, облицованном светлыми дубовыми панелями, сама собой раскатилась передо мной ковровая дорожка В дальнем конце, за огромным, сияющим полировкой
столом сидел человек. Я узнал в нем Евграфа Сысоича.
Грянул «Марш авиаторов» – «Все выше и выше и выше...» Я зашагал по ковровой дорожке, стараясь попадать в такт музыке Евграф Сысоич вышел из-за стола и сделал несколько шагов мне навстречу.
– Так вот вы какой! – произнес он, протягивая руку (будто не виделись с ним в Елыкаеве). – Совсем еще юноша. Что ж, поздравляю вас от своего имени и от имени, и по поручению Генерального секретаря и Президента.
Он пригласил меня садиться, и я утонул в прохладном кожаном кресле.
– Мы вот тут посовещались, – объявил Евграф Сысоич, изучая ногти на пальцах рук, – и есть такая интересная задумка. Почему бы вам не организовать собственную лабораторию, чтобы уж как следует развернуться?
Я пообещал, что развернусь. Будьте уверены!
– Мы еще чуток посовещались, – продолжал, удовлетворенно крякнув, Евграф Сысоич, – и сложилось вот какое мнение. Не слетать ли вам на месячишко в Африку, чтобы немного поднять ихнюю науку?
Само собой разумеется, я ответил, что готов выполнить любое задание Родины.
Другого ответа я от вас не ждал. По дороге можете заскочить на конгресс в Ниццу. – Евграф Сысоич встал, прошелся по ковровой дорожке и круто обернулся.– Личные просьбы имеются?
Я смешался. Сначала сказал: да, имеются. Тут же отрицательно затряс головой. Наконец выпалил:
– Вот если бы пару билетиков на Тони Марчиано?..»
Комментарий автора романа. Для непосвященных сообщаю: Тони Марчиано–известнейший певец в стиле рок-музыки. Приезжал с концертами в Москву и вызвал невероятный ажиотаж. Самому Каперсову Тони Марчиано был, что называется, до лампочки, но на его концерт страшно хотелось попасть Алисе, девушке, в которую он был влюблен.
……….
«Евграф Сысоич насупился.
– С Марчиано как раз трудновато. Сами понимаете, певец с мировым именем, – сказал он, стыдливо отводя глаза.
Но я сделался настойчив.
– Не стал бы обременять вас просьбами, но тут, понимаете, девушка...
Евграф Сысоич лукаво улыбнулся. Подмигнул мне.
– Эх, молодо-зелено! Что с вами поделать? Ладно, так и быть, обратитесь в правительственную кассу от моего имени.
Я выбрался из кресла и попросил позволения удалиться.
– Погодите, – остановил меня Евграф Сысоич. Нажав на клавишу селектора, произнес: – Отправьте товарища Каперсова домой, как положено. На «ЗИЛе», в сопровождении эскорта мотоциклистов.
Дальше все смешалось. Исчезла ковровая дорожка, зал в дубовых панелях, Евграф Сысоич вместе с полированным столом. На какое-то мгновение я ощутил себя в «ЗИЛе» впереди гаишная машина с мигалкой, справа и слева мотоциклисты, с непроницаемыми лицами, в шлемах, затянутые в черную кожу. На гаишной машине взвыла сирена и... я проснулся.
За окном вовсю шпарило утреннее солнце. А ревела, надрываясь, вовсе не гаишная сирена, а аварийная сигнализация. Позже выяснилось, что у мотора центрифуги от длительного вращения подгорели обмотки. Программное устройство – на него я легкомысленно положился– не сработало, не выключило центрифугу вовремя, то есть через два часа. Она беспрерывно вращалась всю ночь. А с нею вместе вращался несчастный кролик Кузя!
Я выпрыгнул из кресла. Рванул на себя рубильник. Не дожидаясь, пока центрифуга полностью остановится, начал вскрывать люк. Приготовился к самому худшему...
После того, как я пробил разрешение приступить к опытам над кроликом, я постоянно ощущал повышенное внимание к своей персоне со стороны Фуркасова. Он повадился раз по десяти на дню заходить ко мне в комнату. Никаких вопросов не задавал, вид индифферентный. Постоит, помурлычет танго «Компарсита» и уйдет. Определенно, он ждал, что я на чем-то споткнусь. Похоже, дождался.
Я отвернул последнюю гайку, откинул крышку люка. Непроизвольно зажмурился, неимоверным усилием заставил себя раскрыть глаза, и... о чудо! Кролик Кузя живой! Живо-о-о-ой! Как ни в чем не бывало, сидит себе в чаше центрифуги и выбивает задними лапами о борт барабанную дробь.
В приступе нахлынувшей нежности я протянул к нему руки. Захотелось его погладить, но тут – хотите верьте, хотите нет – кролик издал какой-то странный звук: будто
запела детская дудочка. Верхняя губа у него задралась, обнажились желтоватые передние резцы, и он впился ими в мой палец. Чтобы быть предельно точным – в указательный на правой руке!
Я отпрянул назад. Из укушенного пальца показалась тонюсенькая струйка крови. Голова закружилась, предметы вокруг расплылись и сделались мутными. А в глазах вспыхнули и завертелись с бешеной скоростью яркие, радужные обручи. И в каждом оскаленная кроличья морда!
– На помощь! – позвал я слабым голосом
Крик был услышан. В комнату вбежали несколько сотрудников нашей лаборатории. Радужные обручи с оскаленными мордами внутри никак не пропадали, несмотря на то, что я энергично тряс головой, пытаясь прогнать их. Трудно объяснить, тем более описать мое состояние. Внутри все клокотало, гнев и раздражение искали выхода, и выход был найден! Я ощутил непреодолимое желание публично покаяться во всех своих грехах!
– Пришли? – Я коротко хохотнул. – Тогда слушайте! И не говорите после, что ничего не слышали! Спросите, задайте вопрос кто смелый – зачем я пустился в жуткую эту авантюру? Зачем беспрерывно терзаю и мучаю несчастного кролика? Во имя интересов науки? – Тут я разразился сатанинским хохотом. – Как бы не так! На самом деле прославиться захотелось. Думал, а вдруг наткнусь на какое-нибудь открытие. Хоть на вот такусенькое! Главное, чтобы в газетах потом напечатали, а там наплевать!
Повторяя «наплевать», «наплевать», я пустился в пляс. Споткнулся, упал. Поднялся и снова стал плясать под мотивчик «цыганочки» в собственном исполнении. По свидетельству очевидцев, коленца, которые я откидывал, и па, которые выделывал, более подходили к «Танцу с саблями» композитора Хачатуряна, нежели к «цыганочке»
В дверях появился Фуркасов. Губы его скорчились в презрительную гримасу Он остался стоять, скрестив на груди руки.
– Потому что дальше пойдет само собой, – продолжал я, задыхаясь, покаянную свою исповедь. – Еще как пойдет! Симпозиумы с конгрессами на лучших заграничных курортах! Повышенное внимание со стороны руководства страны и мировой общественности! Льготы, какие вам и не снились! На каждом шагу – портреты анфас и в профиль. В профиль я лучше получаюсь!
Я запнулся, исчерпав фантазию. Фуркасов незамедлительно этим воспользовался.
– Всё ясно, – сказал он со вздохом – Крах авантюриста, к тому же еще и шизофреника. Звоните ноль-три, пусть срочно приезжают.
Он подал знак двум верным своим присным Те тотчас в меня вцепились и оттащили в кресло. Там я начал затихать. Жгучая потребность покаяться как-то сразу улетучилась. Юркой змейкой вползла трусливая мыслишка: «Что я наделал?» – сокрушался я, впадая в мелкую дрожь.
Фуркасов взялся проводить расследование.
– Кто видел его последний? – спросил он.
Вперед вышла Лукинична.
– Я! – гордо объявила она. – Кто у вас тут допоздна вкалывает? Кто за всеми мусор убирает? Говорю ему ввечеру: шел бы ты домой. А он – ха-ха-ха! – кролика за уши и в машину эту чертову...
Лукинична подошла к разъятой центрифуге и заглянула в люк.
– Да вот и животное! – воскликнула она. – Это ж надо! Человечьим именем назвал! Кузьмою! Лукинична всё слыхала! Муж у меня одно время был Кузьма Степанович. Замечательно играл на мандолине, в буру также.
Лукинична погрузила руку в центрифугу с намерением предъявить собравшимся кролика. И в тот же миг взвыла от боли: кролик Кузя тяпнул за палец и Лукиничну!
Наша заслуженная хозлаборантка и уборщица по совместительству заметалась по комнате.
– Люди добрые! – завопила она дурным голосом – Виновата я! Кругом виновата! Да разве я навожу чистоту, как положено по инструкции? Распихаю по углам мусор, и все дела! И вся любовь!
В темпераменте Лукинична, пожалуй, превзошла меня. Рухнула на колени и поползла, простирая руки к Фуркасову
– Что мусор! – продолжала она выкладывать числившиеся за ней прегрешения – Если бы только мусор! Домой таскаю все, что под руку подвернется. Эксикатор пропал, помните? Банка стеклянная, агромадная. Я уперла! Под огурчики для засола. А спирту сколько перетаскала? Получу со склада – обязательно отолью во флягу для домашнего потребления. Вяжите меня, подлую, – и в милицию!
Двое наших престарелых лабораторных дам подняли Лукиничну и уволокли в коридор. Как позже выяснилось, они попытались отпаивать ее валерьянкой. Лукинична продолжала буйствовать. На одной даме порвала кофточку, другой вмазала по физиономии. Настаивала, чтобы ее немедленно отправили в милицию. Через какое- то время она начала затихать и позволила увести себя в кладовку. Там она заснула.
– Массовое помешательство! – растерянно пробормотал Фуркасов.
Нет, уважаемый Иван Иванович! Никакое это не помешательство! А вот что это такое – знаю один я! Гениальная догадка пронзила меня, словно удар мушкетерской шпаги. Я начал лихорадочно прикидывать план действий, как тут... вошел Самопалов. Он только что прибыл с ответственных соревнований штангистов.
– Поздравляйте меня! – радостно объявил он. – Рванул сто пятьдесят два с половиной, толкнул сто восемьдесят. Как и планировали с тренером Карамзиным.
И показал медаль на ленте, обвивавшей его бычью шею.
Я выпрыгнул из кресла. Отбился от Фуркасовских присных и подошел к Самопалову.
Незадолго до отбытия на соревнования Самопалов хвастал, что ему удалось попасть на концерт Тони Марчиано. От концерта он пришел в полный восторг. По его словам, впервые был продемонстрирован абсолютно новый вид рока. Не «хэви металл», а «металл» с приставкой «хелл», что по-английски означает ад! Можно было оглохнуть на всю оставшуюся жизнь. Световое оформление также было умопомрачительным – беспрерывный фейерверк.
Меня эти подробности мало интересовали. Терзала мысль, с кем был прохвост на концерте? Неужели с Алисой?
Приступ ревности сыграл положительную роль. С еще большим рвением я взялся за подготовку к опытам над кроликом Кузей...
– Самопалов! – воскликнул я и, поднявшись на цыпочки, поцеловал его в щеку. – Ты наша спортивная гордость! Но и науке без тебя не обойтись. Жду не дождусь тебя. Подключайся с ходу!
Откуда у меня только взялись силы! Я подтащил туго соображавшего Самопалова к центрифуге. Вцепился в его могучую руку и засунул ее по локоть в люк. В тот же миг Самопалов издал страшный вопль. Воздев вверх окровавленный палец, он, как прежде я сам, а затем и Лукинична, заметался по комнате.
Самопаловское покаяние оказалось со спортивной окраской. Для начала он процитировал тренера Карамзина, который постоянно учит: «Режим, Самопалов, режим!». А он его нарушал – с Алисою, с бывшей нашей секретаршей. Если у меня еще и оставались кое-какие сомнения, то уж теперь!..
– Гад я полный! – казнил себя Самопалов. – На Тони Марчиано ходили? Ходили! Портвейн после пили в кафе-мороженом? Пили! В подъезде балдели? Балдели!
Я ждал описания разнузданных сексуальных сцен. Но нет, дальше обжиманий в подъезде дело не зашло. Но и обжимания, по словам Самопалова, есть не что иное, как вопиющее нарушение спортивного режима. Да еще накануне ответственных соревнований! В результате – бронзовая медаль. В то время как они с тренером Карамзиным планировали золотую...
Кто-то робко присоветовал Самопалову успокоиться, не придавать значения. Тут с ним сделалось нечто! Он разбушевался уже по-настоящему. Принялся крушить о стену казенные стулья. А когда целых не осталось, стал биться о стену головой.
Теперь у меня не оставалось никаких сомнений... Нет, я не о коварстве Алисы, а насчет необыкновенного свойства кролика Кузи. Один его укус – и человек выплескивает наружу без остатка все, что таится у него на душе. Вот оно, долгожданное открытие! Почище прыгучих кузнечиков будет! И совершил его я, младший научный сотрудник Каперсов! Я, и никто другой!
– Что у вас тут происходит? – послышался хорошо знакомый бархатный баритон...
Позже никто не мог объяснить, с чего это в столь ранний час вздумалось Бур-Сакееву припереться в лабораторию.
– Там!.. Там!..– только и смог вымолвить напуганный Фуркасов, указывая на центрифугу
Я почувствовал себя полным хозяином положения. Приблизился к Бур-Сакееву и отвесил поклон, точно он был девушкой, которую я собирался пригласить на тур вальса. В этот момент Самопалов нанес последний, особенно мощный удар головой о стену и больше, кажется, не собирался. Верным почитателям его спортивного таланта удалось усадить штангиста в кресло, оставшееся, к счастью, целым, хотя он и запустил им в стену. В кресле он затих.
– Здрасьте! – с необузданной развязностью произнес я.– А мы тут вовсю экспериментируем и наткнулись на непонятную мутацию.
– Где мутация? – Глаза Бур-Сакеева вспыхнули охотничьим блеском.
Я обнял профессора за талию и, точно мы с ним были на светском рауте, принялся прогуливать его по комнате. При этом излагал примерно следующее:
Видите ли, какая штуковина, точнее хреновина (излюбленный стиль Бур-Сакеева). По сравнению с кузнечиками адаптация кролика к КОМФИГу обнаружила: во-первых, активацию поведения, во-вторых, релаксацию биохимической энергии, в-третьих, заметную аннигиляцию рефлексов...
Знай наших! Тоже не лыком шиты!
В высшей степени интересно, – пробормотал Бур-Сакеев, косясь на Фуркасова. Тот производил руками предостерегающие отмашки.
–...а также инфильтрацию, кавитацию и прострацию. – Я развернул профессора спиной к Фуркасову и лицом к центрифуге. – Вот наш подопытный кролик. Кличка Кузя. Можете его потрогать, взять на руки...
– Назад! – раздался отчаянный крик Фуркасова. Но было уже поздно...
Пройдут годы. Я состарюсь. Стану маститым ученым. Буду неукоснительно соблюдать режим работы и отдыха. Совершать прогулки по вечерам, а перед тем, как лечь в постель, обязательно выпивать стакан кефира. Я буду регулярно снимать кардиограмму. У меня будут внуки и внучки, и я с удовольствием буду трепать их по кудрявым головкам. Но никогда, – вы слышите? – никогда не выветрится из моей памяти жуткая, леденящая кровь, покаянная исповедь Бур-Сакеева!
Начальная реакция – мгновенная. Подобно тигру, скрывающемуся в зарослях на берегу тропической реки, с рычанием он бросился на верного своего сподвижника, на Фуркасова! Тот непостижимым образом увернулся и выскочил в коридор Тогда Бур-Сакеев обвел присутствующих пламенным взглядом и приказал:
– Стенографистку мне! Живо! Пусть документально будет, по всей форме!
Среди сотрудников лаборатории прошелестело: «Стенографистку! Стенографистку!»
Никакой стенографистки у нас отродясь не было. Что поделать, не предусмотрена штатным расписанием. Вытолкнули вперед молоденькую стажерку, худенькую и в очках. Стажерка присела за стол с карандашиком, готовая записывать под диктовку. Её уникальные записи, увы, безвозвратно утрачены, но, поверьте, в моей памяти отложилось каждое слово.
– Пишите! – приступил к диктовке Бур-Сакеев – Так называемый КОМФИГ есть не что иное, как сплошная туфта и полоскание мозгов! Плюс фальсификация научных фактов! Фуркасов тайно занижает в протоколах прыжки свежеотловленных кузнечиков...
«Вот почему этот подлец никому не доверяет заполнение протоколов, составляет их сам!» – подумал я.
– После обработки на «БУРСАКах» кузнечики, понятное дело, скачут дальше. Якобы вследствие воздействия КОМФИГа В этом весь фокус. Штукарь я, а не ученый. Жулик, каких свет не видывал!
Впоследствии я до бесконечности ломал голову над словами профессора. Сплетал логические цепочки, но они распадались.
В самом деле, если КОМФИГ прямое жульничество, то почему же обработанный им кролик Кузя приобрел невиданные свойства? Почему укушенный человек начинает прилюдно каяться во всех смертных грехах? Такого не под силу добиться даже опытнейшему следователю с Петровки! То есть, с одной стороны, КОМФИГ – жульничество (признание Бур-Сакеева), а с другой, вроде бы, и нет? Где же истина?
Не исключено, конечно, что кролик Кузя был таким от рождения и КОМФИГ тут ни при чем. Тогда почему же до того, как я не прокрутил его в центрифуге, он ни разу не обнаружил свои необыкновенные свойства?
Ответа на все эти вопросы я не находил
– А как же Бимон? – робко спросил кто-то
– Бимон? – Бур-Сакеев горько усмехнулся – Бимон был поразительно прыгуч от самой матушки-природы. Поди сыщи второго такого! Всю Россию можно прочесать, все среднеазиатские и кавказские республики! Конечно, австралиец Аткинс сыграл роль, сделал Бимону рекламу. Заодно и мне. Что там долго рассуждать? Пузырь я, дутая величина. Хотя бы одна мыслишка была в голове! – Бур-Сакеев постучал костяшкой пальца по лбу. – Университетский курс, и тот начисто забыл. В Мар-дель-Плата на конференции привязались с вопросами – еле выкрутился. Хотел пополнить эрудицию, но когда? Скажите, когда? Одних комитетов – семь... зачеркните... семнадцать, если приплюсовать комиссии. Скачешь по Москве, словно блоха. А заграничные поездки? По-вашему, отказаться, да?
Дальше пошло бессвязное и малопонятное.
– Бельэтаж на даче пристроить мозги свербит... Жена пьет кровь стаканами. С первой... то есть не с первой, а со второй, первая не в счет... было намного проще... Алименты задушили! Вдобавок есть еще женщина из пригорода... как ее... Натали, одним словом. Ее тоже со счетов не сбросишь, если младенцу годик. Уа! Уа! – Бур-Сакеев изобразил руками, как он баюкает «младенца». – Поди напасись на всех модных тряпок! Выедешь за кордон – первым делом в супермаркет мчишься, на дешевую распродажу. Вот такой список вытаскиваешь! А обувь? Покупаешь – руки дрожат. По всему капиталистическому лагерю с размерами путаница, тридцать девятый на тридцать седьмой, голову можно сломать! Что имеем в итоге? Халатом от Кристиан-Диора по морде имеем в итоге!
Тут он запнулся. Обвел всех удивленным взглядом, как бы вопрошая: что это со мной, братцы? И рухнул на сидящего в кресле Самопалова. Через мгновение профессор замер в неудобной позе и громко захрапел, причмокивая во сне губами.
Всех укушенных кроликом Кузей (а их в итоге набралось великое множество) я бы разделил на две примерно равные категории. Одни после покаянных речей впадали в сон. Другие (как я или Самопалов) продолжали бодрствовать. Но и те, и другие впоследствии начисто отрицали даже сам факт покаяния. Иными словами, приступы откровения и пробуждение человеческой совести, увы, оказывались во всех, без исключения, случаях кратковременными.Покаянная речь Бур-Сакеева произвела сильнейшее впечатление. Сотрудники лаборатории стояли в оцепенении, никто не мог вымолвить ни слова.
Неожиданно дверь отворилась, и в комнату вошли трое мужчин в белых халатах.
Кто тут у вас по части шизофрении? – спросил врач с медицинским саквояжиком в руках. По вызову прибыла не обычная «скорая», а с приставкой «спец».
– Повторяю вопрос: кто шизофреник, кого будем брать? – сказал врач, переваливая во рту погасший окурок сигареты.
Из-за его спины вынырнул Фуркасов. Отвел врача в сторону и стал убеждать, что брать никого не нужно, все здоровы, дружный, сплоченный коллектив. Сопровождавшие врача два «медбрата» имели устрашающий вид. Они внимательно разглядывали сотрудников лаборатории. Похоже, определяли на глазок, кто из нас шизофреник. Врач продолжал настаивать на госпитализации любого, на кого укажут. Фуркасов не уступал и выдать шизофреника отказывался.
– Стало быть, вызов ложный? – сказал врач. – За это с вас, между прочим, взыщется!
– Взыщется! – с охотой согласился Фуркасов и, обняв врача за плечи, словно они были знакомы сто лет, вывел в коридор.
Бытует мнение, будто Фуркасов погасил конфликт с медициной посредством денежной купюры в двадцать пять рублей. Лично я сомневаюсь, чтобы такой жмот выложил хотя бы полтинник. Помогли, наверное, иные аргументы. Но об этом пока молчание...
Так или иначе, но «скорая» с приставкой «спец» благополучно отбыла ни с чем. Вернувшийся в комнату Фуркасов обратился к собравшимся с краткой речью. Сказал он буквально следующее:
– Зарубите на носу: в этой комнате ничего не говорилось, а вы ничего не слышали.
Отыскались вольнодумцы и предложили создать комиссию для расследования инцидента. Состав ее избрать, как водится, тайным голосованием. Фуркасов привычно натянул вожжи и объявил, что никаких комиссий не допустит. А если кто настаивает, лучше пусть сразу подает заявление об уходе. Тем более, что грядет сокращение штатов... Вольнодумцы сразу сникли и прикусили языки.
К Фуркасову подошла стажерка, которая записывала за Бур-Сакеевым. Показала листочки и кокетливо спросила, может, ей перепечатать? Фуркасов вынул листочки у нее из рук, сказал, что в перепечатке нет необходимости, и спрятал листочки в карман. Я даже и не пытался впоследствии просить его дать поглядеть на уникальные записи. Понимал, что бесполезно.
По команде Фуркасова все сотрудники разошлись по рабочим местам. В комнате остались мы с Фуркасовым, спящий профессор, да еще Самопалов, которому удалось выбраться из-под шефа, не потревожив его сон. Ну а кролик по-прежнему находился в разъятой центрифуге.
– Что с ним делать? – спросил Фуркасов, указывая на спящего Бур-Сакеева. – Жалко будить, так сладко спит. Может, передислоцируем его в кабинет?
Самопалов сказал, что ему раз плюнуть. Легко поднял кресло со спящим профессором и взвалил его себе на спину. Вынес из комнаты. Я вам доложу: это была картина! Впереди по коридору шествовал Самопалов с драгоценной ношей, за ним мы с Фуркасовым. Черт дернул меня увязаться! Остался бы в комнате, все бы сложилось совсем иначе.
Самопалов внес кресло в кабинет и опустил на пол.
– Свободны, мерси, – сказал Фуркасов, и мы с Самопаловым удалились.
Тут я вспомнил о кролике. Стремглав бросился в свою комнату. Вбегаю... Даже теперь, спустя столько времени, при одном только воспоминании меня охватывает чувство жуткой досады. Какого я свалял дурака!
Заглянул в люк центрифуги, а там пусто! Кролик исчез. Я переворошил обломки искалеченных Самопаловым стульев. Может, среди них прячется? Нет! С криком отчаяния я выбежал в коридор. Наскакивал на встречных с вопросом, не видели ли они серого кролика. От меня в испуге шарахались, прижимались к стене.
Я ссыпался вниз по лестнице. Пробежал нижним коридором – безрезультатно. Наконец меня вынесло к проходной.
– Охромеев! – закричал я дремавшему у вертушки вахтеру. – Тут кролик не пробегал?
– Как же! – с тихой радостью отвечал усач Охромеев. – Я ему: ты куда без отмеченного пропуска? А он – прыг через барьер!
Я выбежал из подъезда. Тяжеленая дверь на мощной пружине поддала мне под зад. В глаза ударило яркое солнце. Я зажмурился. А когда раскрыл глаза, первое, что я увидел, был кролик. Он сидел на краешке тротуара, подобрав под себя лапы. Видимо, ожидал зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Прохожие не обращали на него никакого внимания. Только одна маленькая девочка потянула за руку женщину, которая вела ее, и воскликнула:
– Мама! Смотри, кролик!
На что женщина недовольно ответила:
– Перестань заниматься глупостями. Мы опаздываем.
Я начал осторожно красться. В какой-то момент кролик обернулся и увидел меня. Мощно оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, он выпрыгнул на проезжую часть улицы. Раздался визг тормозов. Салатного цвета такси едва не сбило его. Таксист высунулся в окно по пояс и закричал с веселой яростью: «Ты что, погибели ищешь?».
А кролик Кузя, то останавливаясь и пропуская машины, то петляя среди проносящихся мимо, уходил все дальше. Моментами он исчезал из поля моего зрения, затем появлялся снова. Светофор переключился на желтый, и тут я увидел его в последний раз. Он сидел на белой разделительной полосе. К нему приближался автофургон с косой надписью «Мебель» на борту. Кролик Кузя взлетел вверх и опустился на крышу автофургона. Шофер наддал, проскочил на желтый, увозя драгоценного моего кролика...»
Комментарий автора. На этом черновики рукописи обрываются, и уже окончательно. Из путаных высказываний Якушкина я составил некоторое представление о том, что произошло в повести дальше. Вырвавшись на свободу, кролик Кузя свободно разгуливал по Москве и перекусал великое множество разных людей. Каждый раз это приводило к новым разоблачениям. По мнению самого Якушкина, эта часть повести ему не удалась. По этой причине он нисколько не жалеет, что «Похороны охотника» никогда не были напечатаны. Вот, пожалуй, все, что я пока могу сообщить читателю.
Глава 12. Договор
Потрескивали оплывшие, догоревшие почти до основания свечи. Света заметно поубавилось. Несколько раз появлялся Коровьев. Входил на цыпочках, приложив к губам палец. Поглядывал на занятых чтением Воланда и Бегемота и неслышно исчезал в темных драпировках. Откуда-то издалека послышался переливчатый женский смех. Кто-то включил радио. Сквозь треск электрических разрядов донеслись обрывки музыки, возбужденный голос диктора на иностранном языке. И снова тишина, нарушаемая лишь мерным цоканьем подков да поскрипыванием рессор.
I
I
И тут нахлынула на Якушкина тоска. Такая, что хоть вешайся. Только что пребывал он в состоянии умиротворения и беззаботности, и вдруг... А еще пришла тревога. Нет, не за себя – за Лену и маленького Мишку. Что с ними будет? Что их ждет?
Перед тем как он отправился в театр на встречу с Су- теневским, которая так и не состоялась, домой вернулась Лена. Она отстояла в очереди за молоком, но ей не хватило, кончилось перед самым носом.
Лена не выдержала, сорвалась. Такого с ней прежде не было, чтобы слезы, истерика... Человек она мужественный. И выдержки хватает. Только, наверное, у ее мужества и выдержки тоже есть предел. Причина, разумеется, не в несчастном пакете молока. Мишка голодным не останется, есть полпачки «Детского питания», можно сварить кашку. И не в безденежье, ставшем, увы, хроническим, причина. Даже не в том, что в соседнюю комнату вместо умершей тихой старушки Марии Викентьевны (тихой, потому что натерпелась за долгие годы лагерей) вселился грузчик из продмага, невыносимый Колыванов. Пытался Якушкин через исполком присоединить комнатку. Была бы отдельная квартира, просто чудо! Носил он в исполком разные справки, ходатайства и «отношения». Мягко выражаясь, хрен вышло. Сказали – не видят оснований. Теперь хлебай полной чашей. Что ни день, у Колыванова застолье. Придут расхристанные дружки – и понеслась душа в рай! Крики, хмельные песни, безобразия в туалете.
Лена сорвалась, потому что среди всего этого кошмара не видно света в окошке. Того далекого огонька, что заставляет заблудившегося в зимней ночи лыжника напрягать последние силы.
Ну, что он такое, в самом деле? Бегает по Москве со своими рукописями, беспрерывно сует их в разные редакции, чтобы затем получить по морде. И не сразу, а после многодневного ожидания, после звонков и упрашиваний, чтобы прочли, Христа ради. Конца не видно.
Впрочем, не исключен и такой конец: он тоже может сорваться. А там известно что – психушка. Не он первый...
Симптомы уже были. Лена говорит, чуть ли не каждую ночь он во сне разговаривает. А сегодня и вовсе впал в неописуемый бред. Появились галлюцинации: Коровьев с Бегемотом, Воланд, читающий рукопись...
Стоп! Но ведь ресторан в Доме литераторов, сшибленный им на пол завлит Сутеневский, милиция –это же не бред? Кто-то ведь отбил его у милиционеров?
– Что это вы пригорюнились? – донесся голос Боланда. Он успел закончить чтение. По-прежнему находился в кресле возле камина с длинной шпагой в руке. Бегемот уже не лежал, а сидел на каминной доске, свесив задние лапы. Он собрал страницы рукописи, уложил их в оранжевую папку, завязал тесемки и с благодарственным поклоном вручил папку Якушкину. Очки он снял и оставил висеть на цепочке вокруг шеи. Объяснил, что пользуется очками исключительно для чтения.
– По-моему, у вас нет повода для уныния, – продолжал Воланд. – Повесть ваша произвела на меня благоприятное впечатление. Но мне бы не хотелось сразу говорить о деле. Давайте прежде поужинаем. Вам же не удалось подкрепиться в писательском ресторане? Поэтому окажите мне честь.
Тотчас возник Коровьев. В обычной своей манере, размахивая руками, затрещал о том, что не может быть ничего приятнее на свете, чем ужин в товарищеской обстановке, в тесной компании. Объяснил, что съестные и питейные припасы они обыкновенно возят с собой, поскольку не рассчитывают на придорожные трактиры. Там недолго схватить несварение желудка от недоброкачественной пищи, вдобавок обдерут.
Он принес новые свечи. Принялся вправлять их в канделябр, а огарки старых тушил, слюнявя пальцы. Поленья в камине, до сих пор едва тлевшие, полыхнули веселым пламенем. Камин ровно загудел. Накатила теплая волна. Стало светло, как днем.
– Гелла! – позвал Воланд. – Накрывай на стол!
Появилась служанка Гелла с подносом, уставленным множеством серебряных кастрюлек, соусниц и судков с крышками. Издалека он напоминал игрушечную крепость или замок, с бастионами и башнями. Как и положено официантке, на Гелле была кружевная головная наколка, из кармашков передника торчали ножи и вилки с ложками. В продолжение всего вечера, или, лучше сказать, ночи, она не произнесла ни слова. Лишь приветливо улыбалась.
Коровьев, наоборот, болтал, не умолкая. Суетился, помогал расставлять на столике холодные и горячие закуски. Сворачивал в острые конуса накрахмаленные салфетки. Протирал бокалы тяжелого хрусталя, разглядывал их после на свет. Хлопнул себя по лбу, сделал вид, что забыл что-то важное. Возвратился с несколькими бутылками. Вытер с них пыль и стал демонстрировать перед Якушкиным диковинные заграничные этикетки. Приговаривал, что белое винцо пойдет «под рыбку», ну, а красным лучше запивать мясные блюда. На десерт, шепнул он, будет подан ананас в мадере, а также кофе. По желанию, черный, можно и со сливками, а можно и с коньяком или ликерами. До ликеров лично он большой охотник.
Последним явился Азазелло, одетый по протоколу, в черном костюме. Скучающим взглядом окинул накрытый стол. Вид у него был прожигателя жизни, которому это самое прожигание смертельно надоело.
– К столу! – закричал Коровьев и несколько раз хлопнул в ладоши.
Якушкину не оставалось ничего другого, как сесть на указанный Коровьевым стул, который тот назвал «традиционно гостевым». Остальные, кроме Воланда и Геллы, тоже расселись. Воланд остался в своем кресле возле камина, а Гелла отступила от столика и была готова выполнить любое новое приказание или просьбу.
– За нашего гостя! – провозгласил первый тост Воланд, приняв от Коровьева тяжелый граненый кубок с рубинами, блеснувшими в пламени свечей. И первый чокнулся с Якушкиным. Коровьев чокнулся с ним лихо и размашисто, несколько расплескав вино. Бегемот – церемонно изогнув лапу. Азазелло беззвучно соприкоснул бокалы.
Коровьев взялся ухаживать за «гостем». Накладывал ему на тарелку закусок. Всякий раз давал пояснения, сыпал присказками... «Не угодно ли отведать французской кухни? Барашек под соусом Россини. Композитор был величайшим гастрономом...» Или – «А вот и судачок по-балатонски, рецепт считался утерянным...» Или – «Остендские устрицы! Полчаса назад выловлены из моря»... «Трюфеля, воспетые поэтом Пушкиным»...
– Трюфеля – моя слабость! – объявил Бегемот. – Усиленно рекомендую!
Он повязал вокруг шеи салфетку. Наложил себе на тарелку гору разных закусок. Ел все вперемежку, уписывал за обе щеки.
– А вот и суп по-галапагосски, из акульих плавников! – провозгласил Коровьев, приняв от Геллы новую кастрюльку и откинув крышку. – Запах-то, запах! Это супец из вашей повести, вы его славно описали!
И осекся, прикрыв ладонью рот.
«Что же он врал, негодяй? – подумал Якушкин. – Ведь говорил, что только еще прочтет на досуге. Неужели успел прочитать на бульваре, в считанные секунды, когда у него в руках была папка?»
Он почти ничего не ел, больше ковырял вилкой в тарелке. Вино лишь пригубил. Это не ускользнуло от внимания Воланда.
– Почему вы ничего не едите? – спросил он. – Или блюда пришлись не по вкусу? Так мы их переменим! – И подал знак Гелле.
– Нет-нет! Не надо, прошу вас! – остановил ее Якушкин. – Мне что-то не хочется...
Бегемот сорвал с себя салфетку, вытер ею усы и подошел к Волаьду. Они начали о чем-то шептаться. Затем подозвали Азазелло, и перешептывания возобновились уже втроем.
– Я съезжу, – произнес Азазелло вслух. Поймав вопросительный взгляд Якушкина туманно пояснил: – Тут недалеко, одна нога здесь, другая там...– И исчез...
Наутро жена Якушкина, Лена полезла в холодильник, где оставался крошечный кусочек масла в масленке да уже известные полпачки «Детского питания». Открыла – и чуть не упала в обморок. Холодильник был битком набит продуктами. И какими! Нежнейший, без жиринки, окорок. Сервелат холодного копчения. Икра черная и красная. Балык и сыры четырех сортов, включая «пармезан». Откуда взялось это неслыханное богатство, было загадкой. В голодной Москве даже в валютных магазинах ассортимент был не столь богатым. Нам же остается предположить, что не обошлось тут без участия Азазелло... Кстати, он вскоре вернулся. Его отсутствие и впрямь оказалось недолгим...
Коровьев извлек откуда-то еще одну бутылку, поменьше. Со словами: «Если уж это снадобье не подействует, тогда не знаю...» вышиб пробку. Выплеснул за спину вино из бокала Якушкина и наполнил его до краев новым напитком. Вдвоем с Бегемотом они принялись буквально насильно вливать его Якушкину в рот. При этом Коровьев приговаривал: «Пей до дна! Пей до дна!..» Снадобье же оказалось густым и тягучим вином, достаточно крепким, с терпким запахом. Вновь по телу Якушкина разлилась теплота, а чувство тоски и тревоги бесследно исчезло. Он улыбнулся виноватой улыбкой.
– Вот и ладненько! – одобрил его Коровьев. – А то прямо не знаешь, что с вами делать. В кои веки сошлись накоротке, по-приятельски, когда еще выпадет?.. Вы закусывайте, закусывайте.
Якушкин почувствовал страшный голод. Он с жадностью набросился на еду и в полной мере оценил необыкновенные ее достоинства. Когда он насытился, Воланд сказал, что теперь можно поговорить о деле.
Он повторил, что повесть ему в целом понравилась, издать ее стоит. Журнал или издательство пусть Якушкин выберет сам, остальное не его забота.
– Ах, подлецы! Ах, мерзавцы! – возмущался Коровьев. – Ну как же они до сих пор не издали такую замечательную повесть? Могли бы хоть воплотить на театральных подмостках...
Бегемот решительно поддержал положительную оценку. Сказал, что находится под сильным впечатлением от прочитанного.
– Но у меня имеются некоторые замечания, – продолжал Воланд.
«И у дьявола замечания!» – подумал про себя Якушкин. Но без всякого огорчения и обиды.
Чем оборачиваются на деле «замечания», он знал по собственному опыту. В редакции журнала, имеющего, между прочим, отношение к театру, прочли один его рассказ. После долгой и мучительной осады, после бесчисленных телефонных звонков и визитов в редакцию Якушкину удалось пробиться к заместителю главного редактора. Он был совсем не то, что булгаковская Лапшённикова. У той, как вы, наверное, помните, глаза от беспрерывного вранья навсегда сошлись к носу. Да и рангом Лапшённикова была пониже, всего-навсего редакционной секретаршей.
У заместителя главного редактора, моложавого живчика с тонкой шеей и ранней лысиной, глаза были честные и правдивые. Глядел он ими прямо, не отводил в сторону, и это усыпляло всякую бдительность. Был он безукоризненно вежлив. Каждый раз говорил: «Спасибо, что позвонили» или – «Очень хорошо, что вы зашли, мы тут как раз...»
Моложавый живчик сообщил Якушкину, что рассказ его понравился. Но есть легкие замечания. Кроме того, требуется небольшое сокращение.
Якушкин трудился над «замечаниями» в поте лица неделю или две. Корежил рассказ вдоль и поперек. Принес в редакцию новый вариант. А еще через некоторое время все тот же живчик с честнейшими глазами сказал ему, что вопрос с публикацией рассказа отпал по причине перегруженности журнала другими произведениями. Не забыл добавить: «Очень хорошо, что вы зашли...» В общем, поиздевался всласть.
– До того момента, как кролик оказался на свободе, все прекрасно придумано и написано. А вот дальше...– и Воланд стал объяснять, что его не устраивает во второй части повести.
Кролик в итоге перекусал массу народа. Сотрудники лаборатории, проходимец-профессор – это еще, по мнению Воланда, оправданно, таков сюжетный ход. Но вот что дальше? Кролик кусает продавца мебельного магазина, и тот признается, что регулярно берет «в лапу» от покупателей за дефицитную мебель. Затем жертвою зверька становится кассирша Аэрофлота. За лишнюю десятку, вложенную в паспорт, она оформляет билет на любой рейс, хоть в Сочи. Следующей своей жертвой кролик избирает прораба со стройки, который ворует паркетную плитку и цинковые белила... Укушенный директор передового предприятия признается, что неоднократно получал незаконные премии, занимался приписками...
– Не слишком ли все это мелко и незначительно для такого замечательного кролика? – заключил Воланд.
– Так ведь воруют! – вырвалось у Якушкина. – Совсем житья не стало от жуликов!
Как и многие другие советские люди, Якушкин полагал, что стоит только заменить на различных должностях жуликов людьми честными, как жизнь сразу изменится к лучшему.
– В государстве, где ложь и жульничество возведены в ранг высокой политики, иначе и быть не может. – Таков был ответ Воланда.
А Коровьев сделал подробный комментарий. На место отбывающего срок продавца, жулика и взяточника, примут на работу в мебельный магазин точно такого же. Кассирше Аэрофлота удастся откупиться–сунет взятку милиции. Отданный на поруки трудовому коллективу ворюга-прораб на какое-то время затаится, а потом примется воровать еще наглее и хлеще. Что касается директора передового предприятия, то высокие дружки перекинут его на другое, в той же должности, где он развернется даже покруче...
– По-вашему, выходит, с жуликами бороться бесполезно? – возмутился Якушкин. – Нет никаких средств?
– Отчего же? Средства имеются, – ответил Воланд.
Он погрузился в задумчивость. Бушевавшее в камине пламя отбрасывало на его лицо красноватый отсвет. Резко очерчивался острый профиль. Воцарилось молчание. Коровьев сидел, откинувшись на спинку стула. Бегемот свернулся калачиком на каминной доске. Похоже, задремал. Лицо Азазелло, как обычно, было непроницаемо. Гелла неслышно убирала со столика посуду.
– Давайте-ка сменим тему, – предложил Воланд, нарушив долгую паузу.– Я хочу приоткрыть вам один секрет... Да вы и сами почти его разгадали...
– Почти – не считается, – вставил Азазелло.
Якушкину вспомнились недавние его слова: «теплее! теплее!». А потом – «холодно! холодно!»... Что же это, наконец, за игру с ним затеяли?
– Литература и искусство обладают особым свойством, – сказал Воланд.– После того, как автором поставлена последняя точка, герои его произведений продолжают самостоятельную жизнь. Погибли они, согласно его замыслу, или нет, не имеет никакого значения, поскольку все они переходят в иное измерение...
Якушкин, естественно, поинтересовался, что это за штука – иное измерение? На что Воланд ответил, что объяснить не так просто, пришлось бы прочитать даже не лекцию, а целый курс. Тем не менее пусть Якушкин не сомневается, иное измерение существует. Причем в бесчисленном разнообразии исторических, географических, климатических и прочих условий. Все там точь-в-точь, как на Земле в разные периоды времени.
Бегемот проснулся и мигом сплел новеллу. Оказывается, посетив однажды иное измерение, он встретил там Хлестакова, о котором некоторое время назад вспомнил Якушкин, и полностью в курсе того, что произошло с ним после отбытия из города, в котором его приняли за ревизора. Деньги, полученные от перепуганных чиновников, были Хлестаковым промотаны в первом же придорожном трактире. Он проиграл их в штосс гусарскому ротмистру. В отчаянии уговаривал ротмистра взять его в гусары, но ротмистр отказал. С превеликим трудом Хлестаков добрался до отцовской деревни, куда с самого начала и направлялся.
Там жизнь его сложилась следующим образом. Отец женил его на дочке соседнего помещика. Хлестаков совершенно очаровал ее рассказами о петербургской жизни, столичным шиком и лоском. После женитьбы на какое-то время он образумился и вел себя смирно. Занимался хозяйством, ездил наблюдать покосы и молотьбу. Потом снова стал поигрывать в картишки. И к бутылке начал потихоньку прикладываться. Образовались долги. Имение, взятое в качестве приданого, пришлось заложить...
Бегемот встретил Хлестакова в губернском опекунском совете, куда сам заскочил за какой-то пустяшной справкой. По словам Бегемота, Хлестаков внешне сильно изменился, растолстел и обрюзг, под глазами мешки, да и волосы сильно поредели, хотя он все еще пытался накручивать кок. Имея нужду в деньгах, он приехал перезаложить имение. Убеждал членов опекунского совета в том, что в Петербурге у него обширные связи, с сенаторами и камергерами настолько он друг и приятель, что они без звука дадут ему взаймы хоть миллион ассигнациями. На что ему присоветовали отправляться в таком разе в Петербург, а не морочить голову опекунскому совету... Дальнейшая судьба Хлестакова Бегемоту, увы, неизвестна.
– Кстати, секрет, который я вам открыл, на самом деле, никакой не секрет, – сказал Воланд после того, как Бегемот закончил свою новеллу. – Вспомните-ка ваш любимый роман. Ведь Мастер в конце концов повстречал своего героя?
– Вы о Понтии Пилате? Так он же историческое лицо!
– Историческое, не историческое, какое это имеет значение? – поморщился Воланд. – Повторяю в который раз: если герой создан, стало быть, он существует. Другое дело, где. Ох, уж эти мне материалисты!
– Значит, и герои моей повести?..– вскричал Якушкин.
– А как же иначе? – встрял в разговор Коровьев. – Никакого не может быть даже сомнения. Было бы странно, если бы они не существовали.
– Ах, как бы мне хотелось взглянуть на них! – У Якушкина возникло предчувствие, что вот-вот произойдет что-то совершенно необыкновенное. Путешествие в карете в обществе дьявола казалось ему уже вполне будничным.
– Сожалею, но вам это не удастся, – сказал, как отрезал, Воланд. – Во-первых, это совсем не так просто– извлечь кого-нибудь из иного измерения и перенести на Землю. А во-вторых... Вспомните, роман Мастера не был напечатан. По крайней мере, при его жизни. Я же обещал издать вашу повесть. Ее прочтут люди. По этой причине увидеть своих героев воочию вам не дано. Таковы правила.
– Да вы не огорчайтесь, – успокаивал Якушкина Коровьев. – Ну что вам на них глазеть, на ваших героев-то?
И стал рисовать картинки, одна соблазнительней другой. Как издадут повесть Якушкина. Как он заработает кучу денег, поскольку, определенно, будут и переиздания. Да и театры, вне всякого сомнения, клюнут на повесть и воплотят на сцене. А там и иностранцы подключаются. Переведут на свои языки и издадут у себя, то есть за границей. Тут уж и валюта посыплется. «Мерседес» можно будет купить...
«Он искушает меня, подлец Коровьев, – подумал Якушкин.– Но зачем, с какой целью?».
– Говорите, что я должен сделать? – с дрожью в голосе спросил он у Воланда.
– Поздно, – ответил тот. – Я дал вам слово, а слово свое я привык держать.
Коровьев мгновенно перестал соблазнять Якушкина изданием его повести и неслыханными благами, которые на него вследствие этого свалятся. Ломая руки стал взамен сокрушаться: что бы Якушкину раньше-то не сказать, что ему хочется поглядеть на своих героев? А то задним умом все крепки... Ну, не флюгер, ли?
Бегемот потянулся, выгнувши спину. Стал мелко царапать когтями каминную доску. Сладко зевнув напоследок, спрыгнул на пол. Прохаживаясь взад-вперед на задних лапах, принялся передними исполнять гимнастические упражнения, а также приседать. Явно имел целью размяться после краткого сна. Один Азазелло сидел неподвижно и молча, со скучающим видом.
– Впрочем, если вы сами, добровольно, откажетесь от всяких попыток издать вашу повесть...– неожиданно произнес Воланд.
Тут Якушкина, что называется, понесло. В страшном волнении он забегал по карете. То и дело натыкался на разминавшегося Бегемота. Коровьев хватал Якушкина за руки, пытался урезонить. Советовал хорошенько прежде пораскинуть мозгами, не пришлось бы после локти грызть? А Якушкин отбивался от наглого и изменчивого гаера и в полном уже неистовстве кричал, что ему совершенно безразлично, издадут его повесть или не издадут, главное увидеть собственных героев воочию, узнать, что с ними произошло после того, как он с ними расстался.
– А кого именно вам бы хотелось увидеть? – прервал его Воланд. – Проходимца-профессора? Самопалова? Или, может, Лукиничну?
Якушкин замер.
– Кролика! – решительно объявил он. – Кролика Кузю!
– Браво! – поддержал выбор Коровьев. – Этот ваш герой с лихвою стоит всех остальных.
– Хорошо, будь по-вашему, – после секундной паузы согласился Воланд. – Только после ни о чем не жалеть.
И подал знак Бегемоту. Тот прервал гимнастику и взял со стула знаменитую оранжевую папку. Не зная, куда ее пристроить, Якушкин сидел на ней в продолжение ужина. Бегемот вручил ему папку, вновь с церемонным поклоном. Якушкин понял, что от него требуется, чего все ждут. Но родилось и сомнение.
– А где гарантии? – неуверенно произнес он.
– Гарантий не даем, – отрезал Воланд.
Конечно, и тут не обошлось без Коровьева. Он стал распространяться на тему о том, что гарантии «в наше бурное время» мало что значат. К примеру, один его добрый знакомый... «Какие у черта могут быть добрые знакомые?» – успел подумать Якушкин. Так вот, одного коровьевского знакомого, заслуженного ветерана труда, по выходе на пенсию наградили памятным подарком, часами последней модели. Натурально, с гарантией. На другой день часы остановились. Пришлось везти их на край света, в гарантийную мастерскую. После починки часы вскоре опять встали. Опять поездка в гарантийку, выстаивание в очереди... Так повторялось множество раз. Заслуженный ветеран труда и пенсионер истратил в итоге на такси сумму, вдвое превышающую стоимость часов. Вдобавок у него подскочило давление, чего прежде никогда не бывало. Пришлось потратиться на дорогие импортные лекарства, которых еще не так просто достать даже и с приплатой. В конце концов он швырнул часы, завернув их в гарантийную бумажонку, с балкона собственной квартиры на шестнадцатом этаже. А то бы неизвестно, чем вообще могла кончиться эта история. Не исключено, что больничной койкой в кардиологической лечебнице или же психушкой.
То ли коровьевская байка возымела действие, то ли сами собой рассеялись сомнения относительно гарантий. Так или иначе, но Якушкин широко размахнулся и швырнул оранжевую папку в пылающий камин!
Воланд успел отъехать с креслом в сторону. Сидел, прикрывши лицо рукой. Все, кроме него, безотрывно следили за тем, как папка, словно живая, начала изгибаться и корежиться в огне, превращаться, сначала по краям, а затем целиком, из оранжевой в черную. Лопнула завязка, вывалились страницы. Их жадно охватило пламя. В считанные секунды рукопись стала пеплом, смешанным с углями от сгоревших поленьев.
– Будьте любезны! – словно во сне, услышал Якушкин чей-то голос.
Он оторвал взгляд от камина. Рядом с ним стоял Азазелло. В обеих руках он держал солидную кипу бумаги с машинописным текстом. Якушкин взглянул на верхнюю страницу – это были остальные экземпляры его повести. Первый гулял по редакциям, остальные невостребованными хранились дома. Видно, не с одной только целью набить холодильник дефицитными продуктами побывал у Якушкина дома Азазелло!
Якушкин показал ему знаком, чтобы тот швырнул в камин и эти экземпляры. Снявши голову, по волосам не плачут!
– Нет уж, лучше вы сами, – сказал Азазелло.– Это ваша прямая функция. А то еще будете после предъявлять претензии.
Пришлось принять кипу от Азазелло. В отличие от первого экземпляра, остальные Якушкин со странной заботливостью укладывал на пылавшие поленья. Через минуту все было кончено.
Воланд поднялся из кресла. Остался стоять, опершись рукой на шпагу.
– Бегемот! – позвал он.–Теперь твой черед!
Бегемот опустился на четыре лапы метрах в пяти от камина. Начал раскачиваться со все возраставшей амплитудой. При этом глухо рычал, точно превратился из кота совсем в иного представителя семейства кошачих, в черную пантеру. Издав душераздирающее мяуканье, на мгновение распластался в воздухе черной дугою и влетел в камин!
У Якушкина вырвался крик ужаса. Противно запахло паленой шерстью. Бегемот бесстрашно скакал по пылающим поленьям, запускал под них свои лапы, раздвигал. Очевидно, что-то разыскивал. Наконец выбрался из камина наружу. Шерсть на нем в нескольких местах горела. Весь он был в клубах вонючего дыма.
Коровьев сорвал со столика скатерть. Опрокинулся на пол канделябр со свечами. С горестным звоном попадали бокалы, которые не успела унести Гелла. Несмотря на протесты Бегемота, Коровьев укутал его скатертью. Некоторое время подержал, чтобы сбить пламя. Когда же сбросил скатерть, Якушкин сумел разглядеть в полумраке, что отважный кот держит в руках какой-то серый комочек. Азазелло подобрал с пола канделябр, восстановил на столике. Стало, как прежде, светло. Якушкин увидел, что Бегемот держит за уши серого, шиншилловой породы кролика. Силы его оставили, и он грохнулся на пол в обмороке.
–...Какие мы нервные и впечатлительные! – донесся до него надтреснутый голос Коровьева. – Раз сделались писателем да еще придумываете фантастические сюжеты, надо быть готовым ко всему.
Якушкин лежал на полу. Азазелло приподнял его голову, а Коровьев с прибаутками стал вливать ему в рот из бокала уже известное вино. Вдвоем они усадили Якушкина на стул.
Воланд стоял поодаль. Шпага, с которой он прежде не расставался, лежала на подлокотниках кресла. На руках у него сидел кролик.
– А где уверенность, что он настоящий? – запинаясь, спросил Якушкин. – То есть, я хотел сказать... такой, каким я его придумал?
– Опять вы нас в чем-то нехорошем подозреваете! – обиделся Коровьев. – Ваш он, ваш, до мельчайших подробностей! Ну сколько можно! – с досады он даже хлопнул себя по ляжкам.
– Стал бы я ради какого-то обыкновенного кролика прыгать в камин, – проворчал Бегемот. Шерсть на нем, как ни странно, была целехонька, без каких-либо выгоревших участков. Да и паленым в карете больше не пахло, воздух был чист и свеж.
Якушкин смутился. Пришлось принести извинения.
– Идите сюда! – позвал его Воланд. Резким движением он раздвинул на окне штору. – Глядите!
Чуть раньше, уже придя в себя, Якушкин обратил внимание на то, что не слышно больше ни стука подков, ни поскрипывания рессор. Он встал и подошел к окну.
Вначале он увидел одно лишь черное небо да редкие звезды. Карета больше не катила по земле, а непостижимым образом поднялась в воздух. Якушкин глянул вниз–там была Москва. Город угадывался в географии знакомых улиц и проспектов, обозначенных светящимся пунктиром фонарей. Был виден ярко освещенный Кремль: остроконечные башни, кирпичные стены в белой изморози, золотые купола кремлевских соборов. Карета то ли зависла, то ли медленно проплывала над Москвой-рекой. Слева Лужники, справа Воробьевы горы, воспетые композиторами-песенниками как Ленинские.
– Какой огромный город! – в задумчивости произнес Воланд. – Его, конечно, изрядно изуродовали с тех пор, как я побывал здесь в последний раз. Но он все равно прекрасен. А москвичи... Ну что москвичи? Люди как люди. По-прежнему их мучает квартирный вопрос, одолевают заботы о хлебе насущном...
– Одолевают не всех москвичей, мессир, – внес поправку Коровьев. – Имеется кучка отпетых негодяев, которые живут припеваючи.
От этих слов начало проясняться – замысел Воланда, игра, которую он и его сподвижники затеяли с Якушкиным. И, может быть, прояснилось полностью. Что стоило, к примеру, спросить, что это за «кучка отпетых негодяев»? Но мысли Якушкина были заняты сейчас одним – кроликом! Полюбовавшись на ночную Москву с высоты птичьего полета, он испросил позволения у Воланда потрогать зверька. Он хотел убедиться, что кролик Кузя не галлюцинация, что он существует. Воланд передал кролика с рук на руки. Якушкин стал его поглаживать, щекотать за ушами. Ласку кролик сносил терпеливо, лишь косился глазом в радужных сеточках на своего создателя.
Прибежал Бегемот, притащил тарелку с очищенной морковью. Якушкин спустил кролика на пол, и тот принялся за морковку. Ухватывал по одной с тарелки и громко ею хрустел. Бегемот одобрил кроличий аппетит, сказал, что он у него прямо волчий. Тут же поправился: сравнение не вполне корректно, поскольку волки ни за что на свете не станут питаться морковью.
– Что же с ним произойдет дальше? – спросил Якушкин у Воланда. – Мне не терпится узнать. Вы обещали...
– Надеюсь, вы убедились, что я умею держать обещания? – прервал его Воланд. – Настаивали бы на издании вашей повести, она бы безусловно была напечатана. А теперь...– тут Воланд снова усмехнулся. – Теперь она принесет вам множество сюрпризов. Точно так же, как однажды принес сюрприз роман одному Мастеру, хотя, как и ваша повесть, он был сожжен. И не ему одному. Заодно и тем, кто пытался его запретить. Напоминаю: рукописи не горят… Впрочем, это уже известная история.
Подошедший Коровьев стал расхваливать Якушкина за то, что тот придумал такого замечательного кролика. Ему, Коровьеву, беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться, насколько тот замечательный и бесподобный. Таких еще не было на свете.
– А уж пользы-то, пользы от него будет! – восторгался Коровьев. – Сколько бывало бьешься, сколько разных штук напридумываешь, чтобы вывести на чистую воду одного-единственного мерзавца! А тут разок куснет за палец – и готово дело! Полное раскаяние в грехах и преступлениях, включая и должностного порядка! Налицо мощное повышение производительности труда с переходом на передовую технологию.
– Раскаяние само по себе не так уж важно, важны его последствия, – поправил своего сподвижника Воланд.
В коротком обмене мнениями прозвучал прозрачный намек на открывающиеся перспективы. Якушкин и его пропустил мимо ушей. Он, не отрываясь, следил за кроликом.
Между тем карета пошла на снижение. Немного стало закладывать уши. Прошло еще несколько минут, и колеса ее мягко коснулись земли. Так садится пассажирский лайнер, управляемый искусным пилотом. Неведомый кучер без лица и в треуголке тоже, видно, был мастером своего дела.
Азазелло выбежал и тотчас вернулся. Как обычно, не для разговоров, а, что называется, по делу. Он принес плетеную корзину с такой же крышкой. Тоном, не терпящим возражений, сказал, что животное нуждается в покое и отдыхе. С этими словами взял у Якушкина кролика, посадил в корзину и унес. По всей вероятности, в «подсобку».
Тут же карета остановилась. Якушкин поглядел в окно и по двери, заколоченной фанерой взамен разбитого стекла, узнал свой подъезд в пятиэтажке. Он понял, что для него путешествие в карете закончилось. И оказался прав.
– До свидания! – с неожиданной сухостью в голосе произнес Воланд. – Советую: никому ни слова. Да вам все равно никто не поверит.
– Я вас больше не увижу? – в растерянности воскликнул Якушкин. – И кролика тоже?
– Я же не сказал «прощайте», я сказал – «до свидания». – Голос Воланда несколько смягчился.– Не беспокойтесь, вы скоро понадобитесь. А пока отдыхайте в кругу семьи.
Коровьев с преувеличенной услужливостью отворил дверцу, опустил подножку. Зажмуривши глаза, энергично тряс головою, желал Якушкину «всего-всего». Бегемот молча вскинул вверх лапу. Появившийся в последний раз Азазелло коротко бросил: «Чао!», оправдывая итальянское звучание своего имени.
Едва Якушкин вышел из кареты, дверца захлопнулась и карета отъехала. Скрылась за углом дома. Он глубоко вздохнул и вошел в подъезд.
В квартире все было спокойно. В прихожую доносилось шипенье и бульканье неисправного бачка в туалете. Да еще громкий храп соседа, буяна и алкаша Колыванова. Якушкин на цыпочках вошел в комнату. Лена спала. Спал в своей кроватке Мишка. Разметал во сне ручонки, сбросил с себя одеяло. Якушкин осторожно укрыл его.
Накатила смертельная усталость. Не раздеваясь, а лишь только сняв обувь, он прилег на тахту рядом с женой. И тут же заснул...
А на улицах появились первые пешеходы. Люди шли, упрятав головы в поднятые воротники пальто и курток, пытаясь защититься от порывов пронизывающего ветра, предсказанного вчерашним прогнозом погоды. Торопились к остановке автобуса, чтобы отправиться кто на завод, кто на службу в учреждение или институт, а кто с утра пораньше занять очередь в продовольственный магазин. Люди переваливались через нанесенные за ночь сугробы снега. Скользили и падали, поднимались с проклятиями, адресованными городским властям. В Москве уж который год махнули рукой на уборку снега. Лица людей были мрачны. Никому из них день не сулил особых радостей – нечаянных или запланированных советской властью. Над Москвой занимался серенький рассвет.
Конец первой части
Часть вторая
Глава 1. Страсти по Якушкину
Древние греки верили, что все сущее родилось из первозданного хаоса. Из хаоса мыслей и чувств рождается книга. А еще из боли за несчастную свою страну, за измордованный коварной и жестокой властью народ.
Но не станем далее распространяться о высоких гражданских материях. Буквально два словечка о технологии сочинительства.
Писатель подобен полководцу. Но сражение ведет не за территории, не за города или страны, а за умы и сердца читателей. Подобно полководцу, в нужный момент бросает он в огонь сражения свежие резервы, выводит на страницы своего повествования новых героев. Вот и я, не мудрствуя лукаво...
Читатель, имеющий склонность к статистике, успел заметить, что до сих пор в романе явно преобладали персонажи мужского пола. Жена Якушкина Лена, театральная Церберша, легкомысленная супруга Перетятьки Валентина, равно и бессловесная чертовка Гелла особой погоды не делали. Зато женщина, которая вот-вот появится, сыграет в последующих событиях важную роль. Речь идет о Валерии Гряжской, художественном руководителе Драматического театра «У Красных Ворот», народной артистке, лауреате множества премий.
В то самое утро, когда незадачливый сочинитель Якушкин возвратился домой после ночного путешествия в карете, Валерию разбудил телефонный звонок. Не раскрывая глаз, она нашарила на полу, рядом с тахтой, телефонную трубку.
– Дрыхнешь, сурчиха? – произнесла трубка голосом, принадлежащим театральному критику Банкетову.
– А у тебя что, бессонница? – парировала выпад Валерия. – Очумел звонить в такую рань!
– Кто рано встает, тому Боженька подает.
Валерия попросила перезвонить через часок, когда
придет в себя. На что Банкетов сказал, что у него к ней дельце вообще-то не телефонного порядка. Пусть Валерия сообразит, когда сможет принять его в театре, а он подскочит. Валерия немного подумала и назначила Банкетову прийти в три часа. На том и порешили. По-прежнему не раскрывши глаз, она принялась восстанавливать в памяти события минувшей ночи...
Недавно Валерия прогнала очередного, не уточню, какого по счету, мужа. Со всеми своими мужьями расправлялась она в момент. Едва начинал приставать с чтением моралей или же предъявлял особые права на нее или просто надоедал–тут же вылетал за дверь с собранными вчерне вещами. И в замужнем состоянии никому не удавалось ее стреножить, а уж когда она, по всем юридическим канонам, обретала свободу, и говорить нечего.
Накануне весь день она провела в своем театре. Потребовался незапланированный ввод в «Бесприданнице». Актриса, игравшая без замен Ларису, и, надо сказать, превосходно, неожиданно для всех вышла замуж. И не за какого-нибудь жалкого Карандышева, подобно злосчастной своей героине, а за преуспевающего шведского коммерсанта. И отчалила в Швецию, якобы на медовый месяц, с туманным обещанием вернуться «через какое-то время».
Ввод молоденькой дебютантки на роль прошел вполне пристойно. После спектакля Валерия села на телефон и принялась обзванивать свою «шоблу» – так обозначала она друзей и приятелей. Всем пообещала подъехать, и везде это известие было принято с восторгом. Замечу, что ночной образ жизни для московской, как, впрочем, и любой, богемы – обыкновенное дело.
Но не в соблюдении богемных обычаев состояла причина ночных бегов, в которые все чаще стала ударяться Валерия. И уж, конечно, не в разрыве с очередным мужем. Который месяц пребывала она в состоянии, которое принято обозначать как творческий кризис.
Нет, внешне все обстояло благополучно. По-прежнему спектакли в театре «У Красных Ворот» шли с аншлагами. Пресса, и левая, и правая, и всякая, не скупилась на дифирамбы по поводу премьер и ее, Валерии, режиссерского мастерства.
Но среди людей искусства, помимо очков и баллов, начисляемых прессой, есть еще и «гамбургский» счет. Или, говоря современным языком, свой рейтинг. А он у Валерии неумолимо катился вниз.
Да и себя обмануть невозможно. Хваталась ли она за классику, бралась ли за современную пьесу или за переводную, чувствовала каждый раз: не то получается, не то! А в памяти сохранились воспоминания молодости, когда, вопреки придиркам цензуры, каждый новый спектакль– событие! Накал страстей, толки – запретят, не запретят? И слезы радости на глазах благодарных зрителей. И тощенькие букетики цветов, купленные на последние деньги. И толпа, ожидавшая ее выхода после премьеры... Куда же всё это подевалось?..
Итак, накануне вечером Валерия снова кинулась в бега.
Повсюду ожидало ее застолье. Где на скорую руку, а где и с солидной подготовкой. В одном доме при ее появлении извлекли из духовки жареного гуся с яблоками. Везде Валерия принимала коньячку либо водочки, внимала сногсшибательным новациям, излагала припасенные собственные. Особенно не задерживалась. Прощалась с хозяевами и неслась дальше.
На Кутузовском проспекте, у знаменитого кинорежиссера, приготовлено было интеллектуальное угощение в виде народного депутата, а также супружеской четы астрологов, приманенных севрюжкой и другими превосходнейшими яствами. Соревнуясь, депутат и астрологи предрекали стране в недалеком будущем невероятные катаклизмы. Депутат ссылался на только ему известные сведения из сверхсекретных источников. Астрологи сыпали названиями звезд и планет, напирали на неблагоприятное их расположение.
Взволнованный мрачными предсказаниями хозяин дома достал заветную бутылку французского коньяка. Этот коньяк и сыграл роковую роль. После третьей рюмки Валерия «поплыла». В таких случаях безотказно срабатывал инстинкт самосохранения. Она прокралась в прихожую, разыскала в ворохе одежды свою дубленку и удалилась по-английски.
По дороге домой, на пересечении Кутузовского проспекта и Садового кольца, случилось ей непонятное видение: серебристая карета, запряженная шестеркой лошадей. Валерия расценила карету как дурной симптом. В том смысле, что пора бросать пить. И тут же дала себе клятву бросить...
– Лайма! – позвала Валерия слабым голосом.
В зашторенной спальне появилась Лайма Карловна, сухонькая пожилая латышка, в любое время суток аккуратно причесанная. Она проживала вместе с Валерией в качестве экономки и домоправительницы. Лайма Карловна держала в одной руке рюмку водки, в другой –тарелку с тонко нарезанным маринованным огурчиком. Естественно, она ничего не знала о клятве, которую дала себе Валерия. Но отлично знала, что более всего сейчас требуется ее непутевой хозяйке.
Валерия отбросила с лица прядь волос, присела на тахте. Решила, что утренняя рюмка не в счет, поскольку для поправки. Лихо опрокинула ее в рот, шумно выдохнула. Похрустела огурчиком и стала озабоченно прислушиваться к процессам, протекающим внутри организма.
Процессы протекали в правильном направлении. Предметы в комнате прояснились и более не расплывались. Валерия не стала выслушивать упреки Лаймы Карловны по поводу неправильного образа жизни и отправилась в ванную.
Пока она принимает душ и наводит макияж, пока, уже одетая к выходу, торопливо глотает крепчайший кофе, приготовленный Лаймой Карловной по особому рецепту, с корицей и гвоздикой, и одновременно выслушивает ее обстоятельный доклад: кто звонил и что просили передать – я позволю себе обрисовать человека, который нарушил телефонным звонком сон Валерии, обрисовать Банкетова.
Нет, не перевелись еще в нашем Отечестве порядочные люди. Старик Банкетов из их числа. Я понимаю, трудно вообразить театрального критика, никем не ангажированного, не рекрутированного, а, следовательно, и не коррумпированного. Куда легче–православного священника, прилюдно отплясывающего эротический танец ламбада. Или же каннибала, проповедующего вегетарианство. Призываю читателя зажмуриться и довериться автору.
Независимость суждений во все времена котировалась высоко, хотя особых доходов и не приносила. Когда на московской театральной бирже появлялась новая пьеса или же после ее премьеры, дошлые люди первым делом интересовались: а что сказал Банкетов? Именно сказал, поскольку печатали его редко. За ним даже утвердилась кличка «Акын», с ехидным намеком на то, что удел его – исключительно устное творчество.
Нет, время от времени писал Банкетов и статьи, и рецензии, и театроведческие эссе, но с ними вечно случались нелепые истории. Скажем, актер – Герой соцтру- да или, напротив, один из вожаков демократического движения, а Банкетов, что называется, умыл и причесал его за халтуру, за поверхностную трактовку роли. Естественно, автора просили смягчить или вообще снять острый пассаж. В ответ Банкетов молча показывал самозванному правильщику кукиш. Вот с каким человеком свела однажды Якушкина судьба. Или лучше сказать, Его Величество Случай... Якушкин шел по Петровке. В тот день, после оттепели, подморозило, и по Москве впору было передвигаться на коньках. Люди скользили и падали. Иные ломали конечности; их исправно доставляли в институт Склифосовского, где был налажен конвейер по накладыванию гипсов. На подходе к Столешникову переулку шедший впереди Якушкина грузный мужчина поскользнулся на вспученной наледи и упал, отчаянно цепляясь руками за воздух. Якушкин поспешил на помощь, поднял бедолагу. Как в сказке, затормозило такси. «А я, мать честная, пятого уже в Склифосовского вожу!» – с сумасшедшим блеском в глазах похвалялся таксист. По дороге пострадавший представился: Банкетов.
Якушкин дождался, пока старику сделают рентген. Перелома, к счастью, не обнаружили, просто сильный ушиб. Он взялся отвезти Банкетова домой. Перед дверью квартиры хотел было откланяться, но Банкетов пригласил зайти. Опрокинули по рюмашке за благополучный исход. Банкетов поинтересовался, чем Якушкин занимается. Узнав, что пробует себя в сочинительстве, выразил желание познакомиться с каким-нибудь его произведением. Так у Банкетова оказалась повесть «Похороны охотника». Остальное читателю известно.
Но не все.
Банкетов мог бы стать свидетелем дебоша, который учинил Якушкин в писательском ресторане, заявись он туда часом раньше. Спросите, зачем? Да просто промочить горло, как он любил выражаться.
Едва он вошел в фойе, как увидел Якушкина. Того волокли к выходу двое милиционеров. Банкетов до того обомлел, что даже не успел спросить, за что схватили парня.
Но тут же кинулся наводить справки. Ситуацию прояснил врач-писатель. Тот самый, что присматривал за травмированным Сутеневским, пока не прибыла «Скорая помощь». Банкетов был знаком с врачом-писателем, и даже не шапочно. Тот не чужд был театрального процесса, наладившись, и довольно ловко, перелицовывать в пьесы зарубежную и отечественную прозу. К его перели- цовочной деятельности Банкетов относился терпимо, как ко всякому отхожему промыслу.
Врач-писатель, поглаживая остренькую бородку, с охотою изложил происшествие в писательском ресторане. До мельчайших подробностей, с описанием оранжевой папки, которую Якушкин обрушил на голову Сутеневского. Банкетов начал вычислять в уме, в чем суть конфликта.
Вне всякого сомнения, Сутеневский повел себя по отношению к его протеже неблаговидным образом. Заработал по башке – так ему и надо! Но как помочь Якушкину?
План сложился молниеносно. Инцидент следует обратить для Якушкина из минуса в плюс. Прежде всего, кто такой Сутеневский? Человек Карнаухова. Связан со своим главным режиссером одной веревкой. Значит, следует обратиться к недругам и соперникам Карнаухова на московском театральном ристалище. К кому конкретно? К Валерии Гряжской!
Когда-то Карнаухов был одним из ранних ее мужей. Сверх того, они на пару руководили театром «У Красных Ворот». Злые языки утверждают, будто Валерия накрыла Карнаухова в гримуборной с молоденькой актрисуль- кой, хотя, согласно официальной версии, разрыв произошел исключительно по идейным и эстетическим мотивам. Так или иначе, но в какой-то момент Карнаухову и Валерии стало тесно вдвоем в супружеской постели. Валерия мало что развелась, она еще и с треском вышибла Карнаухова из театра. Министерское начальство не позволило Карнаухову сгинуть. Не забывайте, что он был непревзойденным постановщиком пьес с Ильичем. Открылась вакансия в другом театре, даже повыше разрядом, в академическом, и туда он был определен главным режиссером.
Между двумя театрами, Валерии Гряжской и Кар- науховским, который год велась многоплановая вражда. Переманивались актеры, перехватывались новые пьесы, сулящие безоговорочный успех. Раскол коснулся и театральных критиков. Одни до небес превозносили Карнаухова, другие, наоборот, восхваляли Валерию Гряж- скую, а Карнаухова разносили в пух и прах. Все это оправдывалось свободой взглядов и вкусов, без чего невозможно представить развитие театрального процесса.
В приемной секретарша Валерии Гряжской вязала на спицах и одновременно разговаривала по телефону, прижавши трубку к уху поднятым плечом.
– Туда нельзя, – всполошилась она, оторвавшись от обоих занятий и указавши на кабинет. – Валерия Степановна заняты.
– Это кому, мне нельзя? – удивился Банкетов и потянул на себя дверь.
В кабинете раздался громкий визг. Визжала актриса Дашнакова, миниатюрная женщина с вечно испуганными глазами. Она помогала Валерии – та стояла с поднятыми руками – натянуть на себя платье.
– Чего ты визжишь, дура? – сказала Валерия. – Это же Банкетов.
– Я визжу, потому что вы голая, – объяснила Дашнакова.
– А то я голых баб не видел, – усмехнулся Банкетов.– К тому же не такая уж Валерия голая.
И он погрузился во вращающееся кресло, демонстративно развернувшись лицом к хозяйке кабинета.
Обычно Дашнакова исполняла роли обиженных судьбою или советской властью женщин. Тому соответствовала ее беззащитная внешность. Вряд ли кто лучше мог вышибить слезу у зрителя. Но была у нее еще одна профессия. Она постоянно сбывала «среди своих» импортные шмотки, которые неизвестно каким образом к ней попадали. Для Валерии Дашнакова обычно делала скидку.
– Ну, как тебе платьице? –спросила Валерия у Банкетова.
Тот встал, подошел к Валерии. С удовольствием ощупал ее мощный бюст, обтянутый небесно-голубой, в серебряных блестках тканью, и покачал головой.
– Как ты его только натянула? В другой раз обязательно лопнет.
– Не выдумывайте, – заступилась за платье Дашнакова.– У Валерии Степановны вид в нем очень даже аппетитный. Мужики будут выстраиваться в очередь, – добавила она, облизываясь.
Но Валерия уже приняла решение.
– Забирай, – сказала она Дашнаковой. С трудом изогнувшись, расстегнула на спине молнию. – Я в этом платье словно блядь с трех вокзалов. А меня, между прочим, в иностранные посольства приглашают.
Дашнакова убрала импортную шмотку в полиэтиленовый пакет. Сказала на прощанье Банкетову, что от театральных критиков никакого кайфа, а одно сплошное расстройство, и покинула кабинет.
– Давай для начала выпьем, – предложила Валерия, переодевшись в свитер и юбку. Она достала из стенного шкафа початую поллитровку, рюмки и шоколадную конфетку. Ночная клятва была оставлена до лучших времен: обстоятельства сильнее! К ним она отнесла и визит Банкетова.
Выпили, закусили разломленной конфеткой. Банкетов сразу взял быка за рога.
– Валерия, – спросил он, – хочешь насолить Карнаухову с Сутеневским?
Всегда хочу, – отвечала Валерия, дожевывая конфету. – Говори!
Банкетов с прибавлением присочиненных на скорую руку живописных подробностей поведал о вчерашнем происшествии в писательском ресторане. Валерия внимала с немым восторгом.
– А я все думала: кто-нибудь Аркашку жахнет когда по башке или нет? – сказала она, когда Банкетов закончил рассказ. – Слава Господи, один нашелся.
Начало выглядело обнадеживающим, и Банкетов без всякой паузы стал излагать сюжет якушкинской повести. Особо отметил, что в ней содержится жуткая сатира на сегодняшний день.
– Ну и что ты предлагаешь? – прервала его Валерия. – Мне, что ли, за нее приняться?
– Именно! А уж я не поленюсь расписать повсюду, как этот шедевр был отвергнут Сутеневским вкупе с его бездарным патроном.
– Ой, не знаю, что тебе и сказать. – Валерия с сомнением покачала головой. – Пока я вижу одни мужские роли. А мне шансонеток моих надо беспрерывно занимать. Мужики как раз у меня тихие. А бабы – форменные звери. Если им не давать ролей, они глотку перегрызут. Или хуже того, попрут из театра. Одна Дашнакова чего стоит.
Этому безусловно серьезному доводу Банкетов отыскал возражение. Переделка повести в пьесу будет заказана, как водится, перелицовщику. Хотя бы тому же врачу-писателю. Его надо попросить, чтобы он заодно превратил часть мужских персонажей в женские.
Ладно, – сказала Валерия, – давай повесть, я прочту. Резину тянуть не буду. Завтра позвоню и скажу: да или нет.
Банкетов на мгновение остолбенел. Впервые со вчерашнего вечера, когда созрел его великолепный план, он вспомнил, что нет у него в руках никакой повести! По какому Якушкин проживает адресу, тоже неизвестно... Но Банкетов не был бы Банкетовым, если бы вконец растерялся и воздел лапки кверху.
– В том-то вся и штука, что повесть добыть непросто, – произнес он с печальной улыбкой. – Автор арестован...
От этого сообщения Валерия вскочила на ноги и в возбуждении забегала по кабинету.
– Что ж ты мне раньше не сказал? – воскликнула она. – Разводишь тут турусы про какого-то кролика. Представляешь, как это сейчас может прозвучать? Автора по милости подлюки Сутеневского арестовали, а мы ставим его произведение! Да вся Москва поднимется на цирлы и побежит в кассу, стоит только разнестись!..
Многие люди, знавшие Валерию Гряжскую, сравнивали ее с танком или бульдозером. Препятствий для нее не существовало. Чем неприступнее они были, тем с большей энергией она их преодолевала.
Валерия выглянула в приемную и крикнула секретарше:
– Басавлюка ко мне! Живого или мертвого!
Она разлила остатки водки. После того, как снова выпили, объяснила, что Басавлюк – главный администратор театра. Если кому под силу выйти на арестанта Якушкина и добыть повесть, так это ему!
Через пару минут в кабинет вошел средних лет мужчина, разбитной и улыбчивый, в кожаном пиджаке. Это был Басавлюк.
Глава 2. Засада на Остоженке
Валерия Гряжская не сомневалась, что Басавлюк – человек с Лубянки. Откуда такая уверенность? Тем более, как показывает практика, «людьми с Лубянки» часто оказываются совсем не те, на кого думаешь. Но с Басавлюком особая история.
Что бы ему ни поручалось – от вышибания вагона под декорации при выезде на гастроли до ремонта «Волги», принадлежащей театру, – все исполнялось быстро, четко, на высоком уровне. И это в нынешних условиях, когда детали государственного механизма до того разболтаны, что с ними не совладать. Так оборотистость того или иного работника вызывает сегодня известные подозрения. «Ты на самом деле оттуда?» – не раз спрашивала у Басавлюка Валерия. «Ну, вы уж скажете!» – отшучивался тот...
Басавлюк присел на стул. Согнал с лица улыбку, которой успел одарить Валерию и Банкетова, вытащил из кармана блокнот. Валерия в двух словах обрисовала ситуацию. В Доме литераторов за мелкое хулиганство арестован некий Якушкин. Необходимо выйти на него, вступить с ним в контакт и получить для прочтения его повесть «Похороны охотника». В тот же час доставить рукопись Валерии.
Басавлюк не стал задавать никаких вопросов. Произвел запись в блокноте и пообещал немедля приступить к выполнению задания.
Валерия взялась отвезти Банкетова домой. Затем она отправилась в сауну при бассейне Олимпийский, куда имела доступ, а уж к началу вечернего спектакля рассчитывала вернуться в театр.
А Басавлюк спустился к себе на первый этаж. В два счета выяснил по телефону, что Дом литераторов, если так можно выразиться, обслуживает 83-е отделение милиции. Сел в свой «жигуленок» и отправился на улицу Щусева.
В отделении милиции творился какой-то кавардак. Начальник залег дома с сердечным приступом после жуткого разноса, учиненного милицейским генералом за то, что его подопечные задержали президентского советника Евдакова. Заместителя вызвали на совещание на Петровку. Дежурный капитан вместо ответа на вопрос Басавлюка, где находится задержанный хулиган по фамилии Якушкин, поинтересовался, кем он Басавлюку доводится. Узнав, что «добрым знакомым», от дальнейшего разговора отказался.
Пришлось звонить на Лубянку. Не из отделения милиции, а, согласно инструкции, из автомата. И, между прочим, тому самому Сергею Митрофановичу, к которому накануне необузданно рвался звонить несчастный Шур- тяев, дабы сигнализировать о появлении на Патриарших прудах загадочного прибалта. Сергей Митрофанович к просьбе Басавлюка оказать ему содействие отнесся с пониманием. Пообещал, что с 83-м отделением немедленно свяжутся и Басавлюк получит там все необходимые сведения.
И точно, когда Басавлюк возвратился в отделение, дежурный капитан не стал больше играть в жмурки. Сообщил, что задержанный Якушкин из-под стражи бежал и бесследно исчез. Вот такой, с позволения сказать, натюрморт.
У другого бы на месте Басавлюка опустились руки. Но вы его плохо знаете. Он носом почуял: за этим что-то кроется. Ход его рассуждений был следующий. Инициатива связаться с Якушкиным, вне всякого сомнения, исходила от Банкетова, для чего и приезжал он в театр. А кто такой, извините, Банкетов? Числится отъявленным демократом. На последнем инструктаже Сергей Митрофанович объяснял, что демократы все равно что дети малые. Постоянный за ними нужен глаз, а то ведь незнамо что натворить могут.
Что значит – Якушкин бесследно исчез? Для милиции, может быть, и бесследно, но не для органов госбезопасности. Если нужно, найдем! И Басавлюк снова позвонил Сергею Митрофановичу. На этот раз он попросил немедленной аудиенции. Сергей Митрофанович снова пошел навстречу. Велел Басавлюку через часок прибыть в известный номер в гостинице «Будапешт», снятый КГБ для контактов с «добровольными помощниками».
Но едва успел Сергей Митрофанович отключиться, как в трубке сквозь прерывистые гудки возник совсем другой голос. Надтреснутый и невыразимо противный. Последовал вопрос:
– Басавлюк?
– Я, – ответил несколько удивленный администратор.
– Слушай меня внимательно. Ни к какому Сергею Митрофановичу и не думай ездить. Возвращайся в театр. Гряжской скажешь, что выполнить ее задание нет никакой возможности. Ты все понял?
– П-понял, – произнес Басавлюк. Но взял себя в руки и спросил: – А с кем я, извиняюсь, разговариваю?
– Допустим, моя фамилия Коровьев. Тебе это сильно важно?
– А вы кто будете, гражданин Коровьев?
Ответа не последовало, частые гудки сделались громче.
Басавлюк был не робкого десятка, но сейчас руки у него дрожали. Такого еще не бывало! Его телефонный разговор с Лубянкой подслушивается! Вот до чего дошло! Вот до чего распоясались демократы! Уже приступили к прямому блокированию ведомства, занимающегося государственной безопасностью!
Басавлюк закусил удила. Он и не думал слушаться наглеца, назвавшегося Коровьевым. Наоборот, визит в «Будапешт» приобретал дополнительный стимул. Вместе с Сергеем Митрофановичем они оперативно поломают голову, наметят план действий. По всей видимости, затевается мощная противоправная акция. Ее следует упредить, зачинщиков обезвредить. А его личное мужество и бдительность будут отмечены благодарностью в приказе или даже высокой правительственной наградой!
Короче, Басавлюк снова забрался в свой «жигуленок» и отправился в путь.
Но выехав к Никитским воротам, он вспомнил о деле сугубо личного или, я бы даже сказал, шкурного свойства. Накануне вечером ему позвонил мясник Василий из продовольственного магазина на Остоженке и велел сегодня приезжать за мясом. Басавлюк остановил машину и задумался.
Заботы о безопасности страны имели безусловный приоритет. Но ведь и мясом семью тоже нужно обеспечивать? А семья у Басавлюка была не такой уж маленькой: он, жена, двое детишек, тесть с тещей. В магазинах мясо если и попадается, так только жилы и кости. Приличным можно разжиться лишь с заднего хода, у знакомого мясника... Басавлюк прикинул, что до встречи с Сергеем Митрофановичем еще целый час. Спокойно можно смотаться за мясом, а уж потом отправляться в гостиницу. И вместо того, чтобы свернуть налево и взять курс на гостиницу «Будапешт», он повернул направо и проехал в направлении Остоженки.
В стеклянной двери невзрачного на вид магазина была выставлена табличка с надписью «Закрыто на учет». Но это не остановило Басавлюка. Поигрывая ключиками, он вошел. В торговом зале было пусто: ни тебе товаров, ни продавщиц. Одна лишь уборщица по имени Фаина сидела на высоком табурете и курила папиросу.
Здесь я вынужден отвлечься. Эта Фаина, я вам доложу, та еще была штучка. В молодости от нее, говорят, глаз было не оторвать. Перебывала она в секретаршах у разных начальников и, по слухам, оказывала им услуги, не предусмотренные штатным расписанием. Обожала красивую жизнь – рестораны, загородные пикники, выезды на недельку в Сочи. Неумолимое время, а также увлечение спиртными напитками проделали над Фаиною разрушительную работу. В пятьдесят лет с небольшим хвостиком она выглядела старухой, и карьеру свою заканчивала уборщицей в продмаге. Но верная многолетней привычке, была она густо нарумянена, с подведенными бровями и накрашенными губами. Сейчас Фаина находилась под легким хмельком, всерьез напивалась она обычно под вечер.
– Еще соколик пожаловал, – произнесла нараспев Фаина и стряхнула себе под ноги пепел.– Пришла беда, отворяй ворота!
Что бы, кажется, Басавлкжу навострить уши? Но он не стал прислушиваться к пьяненькой уборщице, а с независимым видом прошел в разделочную, во владения мясника Василия.
Басавлюка и Василия связывали сугубо деловые отношения. Василий, имея высшее филологическое образование, был заядлым театралом. Басавлюк регулярно снабжал его билетами на ажиотажные спектакли. Взамен Василий обеспечивал администратора мясом за умеренную приплату.
Только никакого Василия в разделочной не оказалось. А находился там довольно-таки странный субъект, в курортной шапочке с надписью «Ялта» и в пенсне. Пристроившись на чурбаке, на котором Василий разрубал мясные туши, субъект читал газету. У ног его, выписывая восьмерки, бродил огромный черный кот.
– А где Вася? – с некоторой растерянностью спросил Басавлюк.
Субъект в курортной шапочке не удостоил его ответом. Кот же поднялся на задние лапы, раздобыл откуда-то очки, напялил на морду и явственно произнес человеческим голосом:
– Потрудитесь предъявить паспорт.
В изменчивой, прихотливой и разномастной, словно гуцульская жилетка, биографии Басавлюка бывало всякое. И под следствием он когда-то состоял, правда, по пустяшному делу. Подумаешь, попер из одного театра мягкий диванчик и пару кресел для домашнего употребления. Но я это к тому, что тертый он, в общем, калач.
И уж наверняка знал, кто вправе требовать у него паспорт, а кто нет. Пусть милиция, пусть коллеги из КГБ... А тут рука Басавлюка сама нырнула в карман, извлекла паспорт и протянула беспардонному коту.
Тот выхватил и принялся изучать. Листал страницы, пробовал когтем отковырнуть фотокарточку. Словом, изучал как полагается. Закончив унизительную процедуру, протянул басавлюковский паспорт читателю газеты и произнес всего одно-единственное слово:
– Он!
Субъект тотчас отложил газету. Принял серьезный документ, поднялся с чурбака, раскинул в стороны длиннющие руки и двинулся к Басавлюку.
– Вам Василия? – участливо переспросил он. Его надтреснутый голос показался Басавлюку знакомым. «Уж не этот ли тип вклинился в телефонный разговор с Сергеем Митрофановичем?» – подумал администратор. По его поджидали иные, просто сногсшибательные новости.
– Ох, боюсь, не скоро вы нашего дорогого Васю теперь увидите! – продолжал странный субъект с неизбывной печалью. – Замели его лукавые ищейки с Петровки. Приехали на двух машинах с пистолетами. Да и всего-то парочку неоприходованных свиных туш нашли. А Васю тут же в наручники – и увезли. Ой, горе, горе!
Субъект скинул с носа пенсне, оставил его болтаться на шнурочке, вправленном в лацкан, и завыл в голос. Примерно в том же ключе, в каком воют деревенские бабы по покойнику.
А вы кто, собственно? – спросил Басавлюк, теряя остатки мужества.
– Мы-то? – субъект успокоился и ткнул пальцем сначала в себя, затем в кота. – Нас оставили держать засаду на левых клиентов. Вы первый попались, теперь чур не обижаться. Передадим вас куда следует для дачи компрометирующих показаний.
Согласитесь, не было в словах этих никакой нормальной логики. Сначала сотрудников с Петровки оригинал в курортной шапочке назвал «лукавыми ищейками». Непритворно сокрушался по поводу ареста мясника Василия из-за неоприходованных свинячьих туш. И в то же самое время объяснял свое присутствие в разделочной, а также и кота, засадой, выставленной на левых клиентов... Мысли в голове у Басавлюка заходили ходуном.
Но он все же потянулся за паспортом, чтобы вырвать его из руки явного враля и пустобреха.
– Э, нет! – воскликнул тот, ловко отведя руку. – Да вы напрасно тревожитесь. Советский паспорт вам не скоро понадобится... Азазелло! – громко позвал он.
С черного хода появился крепыш в цивильном черном костюме, на голове котелок. Бельмо на одном глазу и желтоватый клык, торчащий из-под верхней губы, произвели на Басавлюка самое неблагоприятное впечатление.
– Силь ву пле! – произнес субъект, восстановив на носу пенсне.
Названный Азазелло первым делом снял котелок и поклонился Басавлюку в пояс. Тут же свесил свою разбойничью голову набок, на незрячую сторону, как бы прицеливаясь. А прицелившись, ухватил администратора за талию обеими руками и развернул лицом к двери. После чего со страшной силою лягнул его ногой пониже спины, а точнее – в задницу!
Басавлюк прошиб дверь в торговый зал. Преодолел его по воздуху и, сложившись рыбкой, вылетел на улицу. Там его подхватил снежный вихрь. Поднял в воздух и унес.
Вы спросите: куда, зачем?
Имея уважение к документу, приведу заметку, напечатанную на следующий день в «Вечерней Москве».
«Аномалия на Остоженке.
Вчера, в 15 час. 10 мин. у дома № 8 по Остоженке москвичи и гости столицы наблюдали редкое атмосферное явление. При безветренной погоде неожиданно возник столб из снежных хлопьев, диаметром в несколько метров, уходящий от земли высоко в небо. Спустя несколько секунд столб рассеялся. Очевидцы утверждают, что в него оказался втянутым какой-то мужчина.
Мы обратились к признанному авторитету в области аномальных атмосферных явлений, доктору физико-математических наук Ю. Г. Жуку. В беседе с нашим корреспондентом Юлий Германович сказал, в частности, следующее: «Подобные явления для науки не новость. Атмосферные вихри и смерчи наблюдаются учеными во многих точках земного шара. Я уже давно предсказывал, что рано или поздно дойдет черед и до Москвы. Суть явления состоит в том, что фронты теплого и холодного воздуха вступают между собой в активное взаимодействие. В результате образуется векторная составляющая Фуке Ладыженского и циркуляционный контур Лапласа Розенбаума. К утверждениям, что в вихрь был втянут человек, я бы отнесся с осторожностью. На мой взгляд, они обусловлены чрезмерной впечатлительностью наблюдателей, что, в свою очередь, объясняется физической, а напряженной социальной атмосферой в столице».
Басавлюк очнулся оттого, что кто-то энергично тряс его за плечо. Он раскрыл глаза. Прояснилось смуглое лицо с широко раскрытыми, по-детски удивленными глазами. Человек был голый, набедренная повязка не в счет. Басавлюк подтянул правую руку, пальцы загребли горячий песок. Включившийся слух наполнился ритмичным уханьем. Он с трудом повернул голову в направлении этого уханья и увидел необъятную водную гладь. На песчаный пляж набегали ребристые волны океанского прибоя. В зимней одежде стало Басавлюку нестерпимо жарко. С помощью голого человека он расстегнул куртку, снял шапку.
– Вы, случайно, не скажете, где я? – спросил Басавлюк.
– Самое удивительное, что голый понял, о чем его спрашивают.
– Тута-моту! Тута-моту! – несколько раз повторил он.
Многоголосый хор тут же отозвался: «Тута-моту!»
Басавлюк приподнялся на локтях. В некотором отдалении стояли еще два десятка таких же смуглых и голых людей. Они двигались в танце, хлопали в ладоши, раскачивали бедрами и беспрестанно повторяли: «Тута-моту!» Чуть подальше виднелась пальмовая роща. «Что они этим хотят сказать? – подумал Басавлюк. – Что я похищен и увезен в местность под названием Тута-моту?»
Память возвратила его к происшествию в продмаге, куда он так неудачно приехал за мясом. Вспомнились и говорящий кот, и его хозяин в пенсне. И вежливый, на первый взгляд, крепыш с клыком и бельмом на глазу. От жутких воспоминаний Басавлюк едва снова не впал в беспамятство. Но смуглые люди не позволили. Они окружили его, поставили на ноги. Явилась и ручная тележка. Басавлюк был на нее погружен и отвезен в туземную деревню.
Я клятвенно обещаю хотя бы кратко осветить в дальнейшем пребывание театрального администратора Басавлюка на одном из островов Тихого океана. Сейчас же, оторванный от родной земли, он не в силах повлиять на дальнейшее течение событий. Посему я предлагаю оставить его под присмотром дружелюбно настроенных туземцев и вернуться в заснеженную Москву.
Глава 3. Сергей Митрофанович берет след
Более всего на свете Сергей Митрофанович хотел сделаться генералом. И никакого тут с моей стороны осуждения. Плох тот солдат... А Сергей Митрофанович к тому же был не солдатом, а полковником.
Он отлично понимал, что для производства в генералы нужно либо иметь родственника на крутом бугре, либо выдающиеся заслуги в деле выявления и обезвреживания внутренних и внешних врагов. Никаких особых родственников у него не имелось. С врагами по нынешним временам ситуация тоже стала безысходной. Иностранные шпионы почти совсем перевелись. Что касается врагов внутренних, то и выявлять их нечего. Сами выявляются в различных газетенках и журнальчиках, где публикуют свои зловредные статейки. Заковыка в гом, что до поры до времени трогать их не велено. Вот и поимей выдающиеся заслуги! Просто какой-то, извиняюсь, кризис жанра.
В своем ведомстве Сергей Митрофанович занимался контрразведкой. Под это слово, как сами понимаете, подогнать можно что угодно. Возможно, следовало бы мне четче обрисовать его должность. Или даже привести фрагменты из должностной инструкции. Но я пишу роман, а не трактат о внутреннем устройстве Комитета госбезопасности. Ограничусь тем, что по своей функции Сергей Митрофанович держал в поле зрения деятелей литературы и искусства.
Он искренне огорчился, узнав об исчезновении драматурга Шуртяева. Но возникли и определенные идеи. Шуртяев– фигура политическая. Конечно, нельзя исключить, что драматурга пристукнули, скажем, в подворотне, с целью ограбления, а труп вывезли в лесную чащобу или на свалку. Только сомнительно все это.
Следы могут привести к так называемым «демократам». Если хорошенько копнуть и выити на похитителей или убийц, то вот они, выдающиеся заслуги, коих не хватает для вожделенных генеральских погон. Не теряя времени, он получил у руководства разрешение лично курировать шуртяевское дело, которое уже завели на Петровке.
И тут, с разрывом в сутки, исчезает «добровольный помощник» Басавлюк! Сначала дважды звонит по телефону, напрашивается на аудиенцию. Сергей Митрофанович попусту прождал его в гостинице «Будапешт». Конечно, на следующий день он позвонил ему домой. Плачущая жена поведала, что ее муж дома не ночевал. Где он, ей неизвестно.
Можно было, конечно, предположить, что Басавлюк загулял: с кем не бывает? Но минули еще сутки, и в том, что он исчез, не осталось сомнений. Не знаю, почему, но в голове Сергея Митрофановича как-то сразу связались две ниточки: шуртяевская и басавлюковская.
В самом деле, один за другим исчезают два ценных и полезных человека. Как понимать?
Сергей Митрофанович был уже в возрасте, но память у него, как у всех выдающихся чекистов, была превосходной. И отложилась в ней фамилия – Якушкин, произнесенная по телефону Басавлюком. Этот Якушкин зачем-то понадобился театральному администратору. По поручению Сергея Митрофановича его сотрудник, капитан Дрынов, звонил в 83-е отделение милиции и распорядился, чтобы Басавлюку предоставили там об Якушкине все необходимые сведения. После чего Басавлюк пропадает с концами. Следовательно, в первую голову надо заняться этим самым Якушкиным.
Вот к какому выводу пришел Сергей Митрофанович, сидя в собственном кабинете на Лубянке. Не слишком большом, но и не маленьком. С портретом «Железного Феликса» на стене. А утвердившись в принятом решении, вызвал к себе капитана Дрынова.
В отличие от беспородного Сергея Митрофановича, Дрынов имел родного дядю генерала в том же ведомстве и пер наверх со страшной силой. До Сергея Митрофановича доходили слухи, будто Дрынову «планируется» его должность, когда его самого удастся спровадить на пенсию. Он счел за благо не подавать виду, но и не упускал случая подставить ножку молодому карьеристу.
Пышущий здоровьем, всегда подтянутый, в отутюженном костюме и свежей сорочке, Дрынов в точности походил на современных героев-чекистов из фильмов, где они вступают в схватку со шпионами и диверсантами.
– Вот что, Алеша, – сказал Дрынову Сергей Митрофанович после того, как ввел его в курс дела, – слетай- ка в 83-е отделение и выясни, что это за фрукт Якушкин: координаты, род занятий...
– Связи, – подсказал Дрынов.
Сергей Митрофанович поморщился. Эти молодые всегда норовят лезть в пекло поперек батьки.
– Нет, насчет связей ты пока погоди.
Дядя генерал, конечно, штука неплохая. Но если ты бестолочь или, скажем, аморальный тип, то и никакой дядя тебе не поможет. К счастью, Дрынов во всех отношениях был на высоте. Энергичен, напорист, обладал неплохим аналитическим мышлением.
В 83-м отделении ему удалось в краткий срок выяснить достаточно много. К тому времени там уже было проведено служебное расследование: допросили лейтенанта и сержанта, упустивших задержанного хулигана Якушкина. Сверх того, загнавших на сумасшедшей скорости милицейский «уазик» аж под самую Рязань. Затребованный по просьбе Дрынова лейтенант описал внешность Якушкина. Осветил и обстоятельства его похищения злоумышленником в пенсне и в курортной шапочке с надписью «Ялта». Недобрым словом помянул черного кота и безответственного «механика».
Всё это заслуживало внимания, но Дрынова интересовал Якушкин. Заместитель начальника отделения предложил выделить следователя и начать розыск. Дрынов подумал, что милицейских придурков к этому делу больше подпускать не стоит. Уже отличились, нечего сказать! Розыском Якушкина займемся мы! Оперативную работу Дрынов обожал, считал ее занятием, достойным настоящего мужчины. Он погасил неуместную инициативу замначальника отделения и попросил изложить, в чем, собственно, состояла хулиганская выходка Якушкина в писательском ресторане. Так снова всплыла оранжевая папка, посредством коей нанесен был удар по голове Сутеневского.
Сутеневского решил Дрынов оставить про запас, хотя можно было бы съездить в институт Склифосовского и допросить потерпевшего. Дрынов любил неоригинальные ходы. Он рассуждал в высшей степени логично. Раз в деле фигурирует папка, значит в ней что-то было. Если инцидент произошел в писательском ресторане, скорее всего, рукопись. Стало быть, Якушкин писатель? И Дрынов возвратился в «Контору», как называют между собой сотрудники с Лубянки свою Alma Mater.
Его не смутило, что в справочнике писательского союза такой фамилии не оказалось. Дрынов начал обзванивать редакции издательств и журналов. Слава Богу, везде сидели «добровольные помощники», и у всех Дрынов справлялся об Якушкине. На пятом звонке машинка сработала. В журнале, имеющем отношение к театру, уже известный читателю заместитель главного редактора, живчик с тонкой шеей и изумительно правдивыми глазами, припомнил такого литератора. Сообщил домашний адрес, имя и отчество. В журнале имелась картотека на авторов, предлагавших к напечатанию свои произведения. Можно было отправляться к Сергею Митрофановичу и докладывать.
Сергей Митрофанович тоже не терял зря время. Ему было известно, что Басавлюк практически не слезает со своего «жигуленка». Хорошо, он исчез, а где машина? Или она пропала вместе с хозяином?
Он связался с ГАИ и дал задание поискать в городе и его окрестностях машину, принадлежащую гражданину Басавлюку. Номер пусть сами выяснят.
В ГАИ сработали на редкость оперативно. Спустя полчаса «жигуленок» обнаружили возле продовольственного магазина на Остоженке. Сергей Митрофанович тотчас туда выехал.
По его просьбе инспектор ГАИ вскрыл машину особым крючком, позаимствованным у автомобильных воров. Никаких следов борьбы, сопротивления насилию обнаружено не было. Это означало, что похитили Басавлюка (если это только похищение, а не добровольное бегство, скажем, за границу) уж во всяком случае не из машины.
Отпустив гаишника, Сергей Митрофанович начал с продовольственного магазина. На его двери по-прежнему была табличка «Закрыто на учет».
По новой мент пришлепал! – так приветствовала появление Сергея Митрофановича уборщица Фаина. Она сидела все на том же табурете и курила папиросу.
Поначалу Сергей Митрофанович удивился, что пьяненькая старуха-уборщица признала в нем «мента». Но вглядевшись в ее лицо, все понял. Много лет назад
служил он не в КГБ, а в ОБХСС следователем. И эта старуха, то есть, я извиняюсь, никакая тогда не старуха, а юная стерва Фая Попсуева, с прической «колдунья», проходила у него свидетельницей по делу о растрате государственных средств управляющим трестом, у которого юная стерва служила секретаршей.
– Здравствуй, Фаина! – невозмутимо поздоровался Сергей Митрофанович. – Как поживаешь?
– Еще спрашиваешь! – возмущению Фаины не было предела. – Директора Бутромеева замели? Васю, мясника, замели? Житья от вас, от козлов, не стало!
– Сергей Митрофанович пропустил «козлов» мимо ушей. Достал из бумажника фотокарточку Басавлюка, предусмотрительно запрошенную из отдела учета «добровольных помощников».
– Ну-ка глянь. Ты этого человека, случайно, не видела?
Фаина отвела его протянутую руку с фотокарточкой. Сказала, что сексоткой и наклепчицей никогда не была и не будет. И вообще, отправлялся бы Сергей Митрофанович к такой-то матери.
Пришлось снести и это. Сергей Митрофанович стал терпеливо объяснять, что ни о каком сексотстве и наклепе речь не идет. Человек на фотографии не преступник. Наоборот, стал жертвой разнузданного бандитизма. Фаина сдалась. Взяла фотокарточку, попросила у Сергея Митрофановича очки, чтобы получше ее разглядеть.
– Так это же Васин клиент! – воскликнула она. – За мясом к нам ездил.
Все стало на свои места. Вне всякого сомнения, Басавлюк посетил магазин в роковой для себя день. Но факт посещения все же следовало подтвердить.
– Он был у вас третьего дня?
– Был! Приезжает, а бедного Васеньку...– Фаина всплакнула, – уже увезли. Я ему и говорю: напрасно вы, дорогой товарищ, приехали. А он махнул на меня рукой и – в разделочную...
Фаина умолкла и пригорюнилась.
– Дальше, дальше!
– Что дальше? – Фаина встала, швырнула на пол погасший окурок и раздавила его грубым ботинком. – Не успел войти, вылетел оттуда как пробка.
– Что значит – вылетел?
– Очень даже просто. По воздуху.
И Фаина, сложив руки по швам, показала, как «васин клиент» вылетел из разделочной. Описала, как прошиб он головою дверь на улицу. Сергей Митрофанович прикинул на глазок расстояние. Если то, что наплела Фаина, правда, то удар, нанесенный Басавлюку, был прямо-таки фантастической силы. После такого можно и костей не собрать.
– Ну, а кто же его все-таки вышиб?
– Известно кто. Нечистая сила.
«Слезай – приехали!» – подумал Сергей Митрофанович. Но Фаина упрямо стояла на своем: васиного клиента вышибла из магазина нечистая сила. Другими словами, черти. Дала их описание. Главным у них длиннющий и худой черт в пенсне и в летней шапочке. Второй – с бельмом на глазу, но в шляпе. А третий в виде черного кота, размером с теленка и запросто ходит на задних лапах. Понятное дело, словесные портреты чертей Сергей Митрофанович расценил как бред Фаины и галлюцинации на почве хронического алкоголизма. И все же поинтересовался, куда потом эти черти подевались.
– А я не приставлена следить за ними, – отвечала Фаина. Но добавила, что почтальонша Анька, проходя мимо магазина, собственными глазами видела, как вышеописанные черти спокойно сели в карету и уехали.
– В какую еще карету? – вырвалось у Сергея Митрофановича.
Слухи о загадочной карете уже несколько дней циркулировали в Москве. Нашли они отражение и в оперативных донесениях топтунов-наружников. Один из них видел, как карета ехала по Сивцеву Вражку. На крыше самым нахальным образом разлегся здоровенный черный кот и бросался в прохожих снежками. Когда гаишники попытались задержать карету, она бесследно исчезла. Теперь карета неведомым образом оказалась причастной к исчезновению Басавлюка. Чертовщина, да и только!
– Ясненько, – с показным спокойствием произнес Сергей Митрофанович. – Большое тебе спасибо, Фаиночка.
– Прежде чем отбыть, он осмотрел разделочную. Ничего подозрительного там не обнаружил. На полу валялась газета «Советский спорт», датированная днем исчезновения Басавлюка. Сергей Митрофанович прихватил ее с собой. Возможно, на ней окажутся отпечатки пальцев.
Под причитания Фаины насчет того, что наступили последние времена и близится конец света, он покинул магазин.
Когда он вернулся на Лубянку, зашел капитан Дрынов и доложил о своих результатах: личность Якушкина установлена, адрес известен, можно приступать к разработке «объекта». Если, конечно, он не успел смыться из города с помощью своих сообщников. Тех самых, что отбили его у милиции.
Сергей Митрофанович поинтересовался, что это еще за сообщники. Дрынов воспроизвел рассказ милицейского лейтенанта о тощем субъекте в пенсне и в курортной шапочке, который прогуливает по вечерам огромного черного кота... Сергей Митрофанович чуть не подпрыгнул от изумления. Не напрасно соединил он исчезновение Басавлюка с Якушкиным. Но виду не подал. Подчиненные не должны знать больше того, что положено.
Бери с собой кого хочешь и поезжай-ка к нему домой, – сказал он Дрынову. – Действуй по обстановке. Может, и не сбежал он.
Под вечер в дверь позвонили. Лена спросила: кто? Ответили – Мосгаз. Вошел пролетарского вида мужчина, в ватнике, с чемоданчиком. Начал возиться с газовой плитой на кухне, проверять, нет ли утечки. Прием был отработанный. Дрынов ожидал за квартал в машине. «Мосгазовец» вернулся и доложил обстановку. Якушкин дома. Жена собирается отрядить его погулять с ребенком. Дрынов поблагодарил «мосгазовца», велел ему быть свободным, а сам отправился знакомиться с «объектом».
Ждать пришлось недолго. Из подъезда вышел молодой человек, судя по описанию «мозгазовца», – Якушкин. Он вел за ручку двухлетнего малыша. На детской площадке молодой человек сел на скамейку и раскрыл книгу. Малыш принялся раскапывать лопаткой снег.
Можно было, конечно, попробовать вступить в прямой контакт. Подсесть, завести разговор... Дрынов мудро рассудил, что лучше проявить осторожность. Эдак можно и спугнуть дичь. Он ограничился тем, что прошелся пару раз мимо Якушкина, скрытно понаблюдал за ним. И отбыл.
План мероприятий сложился по дороге в «Контору». За домом необходимо установить круглосуточное наблюдение. Применение технических средств, пожалуй, излишне. Достаточно затребовать из Следственного управления топтунов-наружников, пусть занимаются. Будет Якушкин куда отлучаться, сядут ему на хвост. Глядишь, и выявятся какие-то связи. Последить так пару-тройку дней, а там можно и арестовывать.
Сергей Митрофанович дрыновскую диспозицию полностью одобрил. Позвонил на Петровку и предупредил, чтобы розыском Якушкина там не занимались: он переходит в ведение Комитета госбезопасности.
Глава 4. Кролик появился
На следующее утро Сергею Митрофановичу позвонил начальник управления. Сам, а не через секретаря, что бывало крайне редко. Справился, не слишком ли Сергей Митрофанович занят. Узнав, что не слишком, попросил зайти. Сергей Митрофанович тщательно причесался перед зеркалом, подтянул узел галстука и отправился.
Когда он вошел в кабинет, то сразу определил, что хозяин, вальяжного вида мужчина с благородной сединой на висках, чем-то взволнован.
– Поздравляю, – начал он без всяких предисловий, – в Москве объявился кролик...
Сергей Митрофанович решил, что таким зашифрованным способом обозначен засланный к нам иностранный разведчик. У них вечно звериные клички. Сергея Митрофановича время от времени информировали об успешных операциях контрразведки. Наслышан был он и о заокеанском «Кабане», взятом на шпионской явке. И о «Медведе», чрезмерно любопытном туристе из Скандинавии. Но «Кролик»?
Пришлось признаться, что о разведчике под кличкой «Кролик» ему ничего неизвестно. Впрочем, возможно, запамятовал.
Начальник управления досадливо дернул головой.
– Речь идет о самом обыкновенном кролике, то есть о животном. Впрочем, не о таком уж обыкновенном. Странно, что я узнаю о нем не от вас.
По полировке стола заскользила запущенная рукой начальника управления ксерокопия с оперативной информацией. Сергей Митрофанович ухватил листок обеими руками. Прочитал – и ничего не понял.
Позже уже в собственном кабинете ему пришлось не раз перечитать текст, прежде чем дошла до него суть. Вальяжный начальник управления предупредил, что следствие по факту, вытекающему из данной информации, уже начато. Но и Сергей Митрофанович не может остаться в стороне. От него он ждет «наводки», дельного совета, поскольку речь идет о литературных сферах, то есть о его епархии. Вальяжный начальник наложил резолюцию «Ваши предложения», поставил огромный знак вопроса и размашисто расписался.
На листке, как водится, стоял гриф «секретно». Тем не менее сюжет, в нем изложенный, очень скоро разнесся по Москве, а из нее – по городам и весям. Оброс и несусвестными небылицами. Я буду опираться на свидетельства очевидцев, заслуживающих безусловного и полного доверия.
Что же, в сущности, произошло?
Накануне в Концертном зале имени Чайковского состоялся литературно-публицистический вечер под названием «Не позволим! Не простим!» По замыслу устроителей, мероприятие должно было продемонстрировать сплоченность истинных патриотов Отечества. Сплоченность – это прекрасно. Но перед кем? Ясное дело, перед натиском «деструктивных элементов». Перед теми, кто продался за доллары, гульдены и другую свободно конвертируемую валюту Западу и разваливает великую державу.
Помимо певцов, исполнителей народных плясок (того же Чуваева с его электронным баяном) и театра мод Вячеслава Кудоярова с коллекцией одежды «а-ля рюс» (расшитые сарафаны, кокошники, собольи тулупчики), выступали также и художники слова.
С огромным успехом прошел Перетятько. Но не с чтением фрагментов из «Записок постового», а с эссе, которое ему после долгих мучений удалось-таки сочинить. А называлось то эссе «Я обвиняю!» Иван Степанович и не подозревал, что название он позаимствовал не у кого-нибудь, а у самого Эмиля Золя! В памфлете под точно таким же названием французский классик выступал, как вы помните, в защиту своего соотечественника, офицера Дрейфуса. Беднягу отдали под суд за шпионаж. Но на самом деле – по причине еврейского происхождения, поскольку никаким шпионом Дрейфус не был. С Золя у Ив ана Степановича обнаружилась определенная нестыковка. Всею силою своего литературного таланта он, наоборот, обрушился... на евреев и агентов мирового сионизма. Оказывается, это по их прямой вине в стране творится черт-те что: разруха, неразбериха, нехватка продовольствия. Он гневно призвал к ответу ворогов и супостатов, сумевших проникнуть всюду, даже в государственные верха.
Атмосфера в зале накалилась. Кто-то выкрикнул: «Бей жидов, спасай Россию!» Призыв, правда, повис в воздухе, так как означенные жиды благоразумно проигнорировали патриотическое мероприятие. Тем не менее Ивана Степановича проводили бурными аплодисментами; он несколько раз выходил и кланялся.
А гвоздем программы должно было стать выступление писателя Волосухина, главного редактора литературного журнала. Последнего, по его собственным словам, прибежища истинных патриотов России.
И вот он вышел на сцену – небольшого роста, полноватый, в дымчатых очках. Но и они не могли скрыть того особого взгляда, который Волосухин устремлял в публику, когда доводилось ему выступать. Этим взглядом он как бы уличал ее в неблаговидных поступках. Если не потачках евреям, то, может, в чем-то и похуже.
Волосухин держал в руках какие-то листочки. Но лишь показал их и сунул в карман. Объяснил, что переполнившие его чувства, а также и мысли не позволяют тратить время на литературные жзерсизы. Лучше он выскажет своими словами, что накипело у него на душе.
Публика замерла. Ждали развития темы, которую столь удачно начал Перетятько. Но заговорил Волосухин совсем о другом – о нравственности!
Повсеместное и катастрофическое ее падение страшно его беспокоит, не дает спокойно спать по ночам. И – понес! О жутких рок-группах с солистами обоего пола, извивающимися под музыку в половом экстазе (его подлинные слова!). О пресловутых конкурсах красоты с полуголыми девками сомнительной репутации. О кинофильмах, где что ни кадр – опять половой акт, и даже с извращениями. А что творится в театрах? Все это нацелено на разрушение высоких нравственных ориентиров. Лишившись их, наш великий народ станет легкой добычей для кучки политических авантюристов. По непонятной причине евреи в открытую не были названы, и кто такие «политические авантюристы», оставалось лишь гадать.
От обличений Волосухин перешел к нравственной проповеди. Выделил две наиважнейшие добродетели: скромность и честность.
По его мнению, скромности всем нам ой как не хватает. Набившие оскомину сетования по поводу пустых прилавков есть не что иное, как вопиющее проявление нескромности. Так ли уж они пусты? Возьмем мясо. Да, его не хватает. Но кто сказал, что мясо надо есть каждый Божий день? Обратимся к опыту наших предков, древних славян. Они с аппетитом вкушали тюрю- из редьки и были физически здоровы, крепки духом. Он, Волосухин, решил подать благой пример. Подобно Льву Толстому (а великий классик был далеко не дурак!) отказался от всякой скоромной пищи в пользу вегетарианской. Творческий потенциал от этого не только не снизился, но и обрел доселе невиданную мощь. Тому свидетельство – недавно выпущенный им роман «Верую в добро», уже получивший положительную оценку как критики, так и широкой читательской массы.
Но мясо хоть и важный пункт, а все же частность... Скромность следует проявлять решительно во всем. Есть у тебя, допустим, штаны и пиджак – достаточно! Вторые уже ни к чему... Удастся снизить необузданные наши запросы – страна и народ обретут долгожданное спокойствие и благоденствие.
Зал был несколько шокирован таким поворотом. Ждали про евреев, а услышали про тюрю из редьки и запрет на дополнительные штаны. Все же из нескольких мест раздались возгласы «Пр авильно!» Но они потонули в неодобрительном гуле.
А Волосухин, нисколько не смутившись, перешел к следующей добродетели – к честности. В качестве яркого ее символа привел свой журнал. Вокруг сплотились те писатели, кто честно и беззаветно служит отечественный словесности. Оттого столь яростны нападки со стороны продажной левой прессы. Но – собака лает, а караван идет. В редакции царит дух подлинного товарищества, но и взыскательной требовательности. Публикация того или иного произведения определяется исключительно его литературными достоинствами. Никакого кумовства, никаких сговоров «ты мне, я тебе» нет и не будет, пока он главный редактор!..
Я вынужден признать, что здесь показания очевидцев расходятся. Одни утверждают, что кролик серой масти вбежал в зал из фойе. Другие клянутся, что видели собственными глазами, как какой-то человек в ложе выпустил его из плетеной корзинки. Так или иначе, но кролик выскочил на сцену. «Кролик! Кролик!» – раздались крики. Волосухин прервался и устремил на зверька взгляд, скорее удивленный, чем осуждающий.
Если читатель припоминает, в повести Якушкина все жертвы кролика Кузи, что называется, сами нарывались: засовывали руки в люк центрифуги. Теперь уже не литературный, а настоящий Кузя высоко подпрыгнул и всеми четырьмя лапами уцепился за лацканы волосухинского пиджака. И тут же, изловчившись, впился зубами в палец главного редактора патриотического журнала! Совершив эту явно противоправную выходку, соскочил на пол и в два прыжка скрылся за кулисами.
Ну, а Волосухин, как вы уже догадались, ударился в покаяние. Так и хочется заметить: вы, уважаемый Волосухин, не одного себя подвели! Вы еще заложили с потрохами множество преданных вам людей! Однако по порядку.
Волосухин рухнул на колени. Воздел вверх руку с укушенным пальцем, из которого уже струилась кровушка, и завопил дурным голосом:
– Православные! Равно и нехристи, поскольку вы тоже люди! Не слушайте меня, сволочь рваную! Не верьте ни единому слову!
На публику низвергся водопад потрясающих откровений, причем чрезвычайно разнообразных по тематике. Только что представившийся стопроцентным вегетарьянцем, Волосухин признался, что тайком трескает мясо. Так трескает – будь здоров! А вегетарьянство пропагандировал он по наущению своих покровителей со Старой площади. Там прикинули: мяса в государственных закромах осталось с гулькин нос, с трудом хватит для правящей элиты. Вот и придумали хитроумный способ, как снять в народе напряжение. Волосухину же за подлейшую рекомендацию посулили усиленный мясной рацион, включая кур. Он большой их любитель, особливо в жареном исполнении.
Кто-то в публике закипал праведным гневом, кто-то смеялся до слез, а кто беспокойно крутил головой, не в силах понять, что, собственно, происходит.
Волосухин съехал с мясной тематики на литературную. Признанный талант и даже вождь целого направления заявил, что он совершеннейшая бездарь, ничтожество, нуль без палочки. Может, в далекой и безвозвратной молодости и наблюдались проблески таланта, а теперь и говорить не о чем. Взять хотя бы роман «Верую в добро». Слепил его из ошметков прежних своих писаний. И как неоднократно уже поступал, швырнул рукопись пожилой литсотруднице на договоре: редактируй, подлая! Старуха забиралась рыдать под лестницу, потому как муки адские: язык кондовый, сюжет в раздрызге, концы с концами не сходятся. А деваться некуда. Литсотрудницы тоже хотят кушать. Заработала гипертонический криз, но довела хоть до какой-то кондиции. За что отстегнулась ей премия аж в сто двадцать рубликов.
Ну а дальше Волосухин тиснул роман в собственном журнале.Критики тут же подняли на щит. Попробовали бы не поднять! Он бы этих щелкоперов живо отлучил от кормушки...
В этот момент, похоже, в голове у Волосухина соскочил какой-то важный рычажок. Или, наоборот, этот рычажок заклинило. Прервав рассказ о собственных литературных проделках, он неожиданно напрямую обратился... к евреям!
Надо сказать, что журнал Волосухина держался на плаву не столько благодаря перлам художественной прозы и поэзии, сколько публицистикой. Произведения этого жанра, в том же ключе, что и эссе доблестного Перетятьки, находили своего читателя. Я полагаю, их одобрили бы и в ведомстве покойного доктора Геббельса. И вдруг – на тебе!
– Евреи! – закричал Волосухин, приложив ладошки ко рту на манер рупора.– Давайте наконец поговорим по душам! В чем виноват перед вами, простите! Но и вы тоже хороши! Предлагаю замиряться!
Трудно сказать, что за условия примирения хотел предложить Волосухин отсутствующим евреям. Из зала на сцену решительно поднялись несколько плечистых бородачей в черных косоворотках и в сапогах, схватили писателя-патриота под микитки и уволокли за кулисы.
Так славно складывающийся вечер был безнадежно испорчен. Правда, согласно программе, на сцену вышел хор и оркестр народных инструментов. Специально для этого вечера композиторша Мухортова и ее супруг поэт Доброхотов сочинили песню, своего рода гимн под названием «Не позволим! Не простим!». Ее исполнение должно было стать апофеозом. Ожидалось, что публика подхватит повторяющееся в припеве название песни, тем самым будет продемонстрировано сплочение истинных патриотов.
Только публике было не до песнопений. Часть ее, взбудораженная и напуганная непонятным кроликом и зрелищем кающегося Волосухина, рванула к выходу. В проходах образовалась давка. Те, кто сохранил самообладание, оставались на местах и горячо обсуждали инцидент. Сходились на том, что кролик кроликом, а в том, что Волосухин продался жидам за свободно конвертируемую валюту, никакого не может быть сомнения. Хор и оркестр проводили жидкими хлопками. На том вечер и закончился.
А что же Волосухин? Его увели в гримуборную и заперли на ключ. Там он сразу заснул и проспал без малого два часа. Проснувшись, был снова как огурчик. О том, что он вытворял на сцене, ничегошеньки не помнил. Просто отбило у человека память.
История эта имела для Волосухина последствия если не трагические, то вполне драматические. На следующий день в редакции возглавляемого им журнала вспыхнул огонек смуты. Собрался коллектив, затребовали из дома Волосухина, и ему в два счета был вынесен вотум недоверия. Главным пунктом обвинения была его вчерашняя попытка замириться с евреями. Правда, в резолюции слово «евреи» в последний момент было заменено на «деструктивные элементы». Резолюция была доставлена руководству писательского союза для принятия мер.
Означенное руководство, обычно медлительное и малоподвижное, на этот раз действовало быстро и решительно. Минул день, и Волосухин был снят с должности главного редактора журнала «за допущенные ошибки и в соответствии с постановлением коллектива редакции». Чуть позже на этот пост назначили...кого бы вы думали? Ивана Степановича Перетятько! Его назначение коллектив редакции встретил с восторгом. Еще на слуху было его выступление на патриотическом вечере в зале имени Чайковского. Если читатель припоминает, я предсказывал новый виток в карьере Ивана Степановича и, как видите, оказался прав.
Относительно дальнейшей судьбы Волосухина я, к сожалению, ничего утешительного сообщить не могу.
Лишившись журнала, он скоро впал в полное ничтожество. Бывшие дружки и почитатели дружно от него отвернулись. Он не мог теперь пробить в печать не то что роман, даже крошечный рассказик. А надо было кормить и себя, и семью. В конце концов Волосухин плюнул на изящную словесность и устроился банщиком в Сандуновских банях. Доставляет там клиентам пивко, а то и напитки покрепче и сравнительно неплохо зарабатывает...
Но обо всем об этом в оперативной информации, естественно, еще ничего не было. Постигнув наконец ее суть, Сергей Митрофанович с тревогой подумал о том, что чересчур уж много в последнее время творится в Москве совершенно непонятных вещей. Но деваться было некуда. Он стал соображать, что бы такое присоветовать вальяжному начальнику управления. Или даже самостоятельно предпринять...
Глава 5. Как удар молнии
Валерия Гряжская не стала предаваться глубокой скорби по поводу исчезновения Басавлюка. Она мудро рассудила, что, по всей вероятности, администратор чем- то не потрафил своим начальникам с Лубянки, вот его и убрали, а к ней в театр подошлют кого-нибудь еще: свято место пусто не бывает. Единственное, чего она теперь не могла взять в голову, – как исполнить обещание, данное старику Банкетову? Как заполучить рукопись неведомого Якушкина?
Среди своих обширных знакомств Валерия пасла одного высокого чина с Петровки. Он не единожды приходил на помощь, когда какой-нибудь малосознательный гаишник отбирал у нее по пьяному делу шоферские права. Со своей стороны, она оставляла ему контрамарки на любой спектакль. Подобно мяснику Василию, чин был театралом.
Валерия позвонила ему и попросила навести справки относительно некоего Якушкина, задержанного за мелкое хулиганство. Чин принял просьбу к исполнению. Вскорости отзвонил и необыкновенно сухо сказал, что означенный Якушкин за правоохранительными органами не числится. Валерия тут же довела это сообщение до старика Банкетова. Тот поохал, но делать было нечего.
Тут еще разразилось в театре очередное ЧП. Запил народный артист Лукашов. Вдобавок накануне премьеры «На дне», где он должен был исполнить роль Сатина. Горьковский персонаж, хоть и босяк, и пьяница, а все ж выпускать на эту роль актера в нетрезвом виде, согласитесь, дело рисковое. Снова потребовался срочный ввод. Валерия сутками пропадала в театре на репетициях. Но премьера состоялась в срок и прошла благополучно, хоть и без особого блеска. Заметьте, в тот же самый вечер, когда в зале имени Чайковского кролик Кузя укусил писателя-патриота Волосухина.
После спектакля состоялся в театре легкий междусобойчик с умеренными возлияниями. Не дождавшись конца, Валерия, дабы снять напряжение последних дней, снова ударилась в бега. И в первом же доме собственными ушами услышала рассказ о кролике.
Известие принесла на хвосте околотеатральная идиотка. Та самая, что приставала в Доме литераторов к Сутеневскому. Одно непонятно – зачем она, объявившая себя жуткой демократкой и прогрессисткои, поперлась на ультрапатриотический вечер.
По ее словам, кроликов в зале Чайковского выпустили великое множество. А уж сколько они перекусали народу!.. Впрочем, покаяние Волосухина было ею изложено лишь с незначительным привиранием. Так, она утверждала, будто Волосухин в знак солидарности с евреями исполнил на сцене танец «фрейлехс». Но уж чего не было, того не было.
Возможно, Валерия и пропустила бы мимо ушей эти россказни. Рассказчице цену она знала, как и писателю Волосухину. В свое время министерское начальство остервенело пропихивало в театр «У Красных Ворот» волосухинский опус в жанре драматургии, и ей стоило больших трудов от него отбиться.
Сейчас ее удивило поразительное сходство с сюжетом повести Якушкина, который запал в памяти. Повесть явно фантастическая, а тут реалии! Да что он, провидец, этот Якушкин, что ли? Валерия позвонила прямо из гостей Банкетову. Тот был уже в курсе и потрясен не меньше.
Валерия не в силах была усидеть на месте и сбежала из гостей, забралась в свой «вольво» и двинула куда глаза глядят, беспрестанно повторяя: «Господи! Что же это творится!»
Она ехала по Тверской в направлении Манежа. Напротив Моссовета, на противоположной стороне улицы, вновь увидела она серебристую карету. А ведь была Валерия не в таком сильном подпитии, когда мерещится всякая чертовщина.
Необходимо упомянуть вот еще о чем. Минувшей ночью приснился ей сон, запомнившийся по пробуждении. Будто находилась она в беломраморном зале с колоннами. Играла музыка, вальс Штрауса. Мужчины были во фраках или смокингах, женщины, и она сама, в вечерних платьях. Она танцевала вальс с высоким и стройным молодым человеком, много моложе ее самой. Он вальсировал на редкость легко и непринужденно. Когда же музыка умолкла, наклонился и поцеловал ее в губы. Наяву никогда прежде не встречала Валерия этого молодого человека и, естественно, не могла даже и предположить, кто он такой. Но сон был приятен. Проснувшись, она сладко потянулась и подумала о том, что сегодня с ней обязательно произойдет что-то необыкновенное и удивительное. Смятое тревогами и заботами, связанными с премьерой, предчувствие это затем исчезло. Но сейчас, на Тверской, при виде серебристой кареты, возвратилось. Оно и заставило Валерию развернуться, пристроиться за каретой. И началась малопонятная гонка по ночной Москве.
Миновали площадь Маяковского, Белорусский вокзал, стадион «Динамо». Приближаясь к очередному посту ГАИ, карета исчезала, но затем возникала снова. Валерия старалась держаться за ней впритык. Она сумела разглядеть негров лакеев на запятках. Те время от времени оборачивались, махали ей руками, по своему обыкновению весело скалились. Карета катила по Ленинградскому шоссе, никуда не сворачивая. «Уж не в Ленинград ли мы наладились?» – подумала Валерия.
Но нет. У Речного вокзала карета свернула направо и углубилась в район под малосимпатичным названием Ховрино. Трудно сказать, сколько раз она еще сворачивала то направо, то налево. Валерия послушно и старательно повторяла маневры. На горизонте, в разрывах низких туч, замаячили мрачные громады бетонных башен ГЭЦ. Из башен валил пар. Местность была рассечена железнодорожными путями. С грохотом проносились составы, тревожными гудками, словно в испуге, перекликались маневровые тепловозы. От ландшафта, не внушающего оптимизма, стало Валерии неуютно, захотелось повернуть назад. Но она, стиснув зубы, упрямо держалась за каретой. Решила – будь что будет.
И вот перед убогой пятиэтажкой карета въехала во двор. Дом спал. Лишь в дальнем конце, на первом -ггаже, светилось одно-единственное окно. Карета проехала вдоль дома и остановилась. Из нее кто-то вышел. В тот же момент со скамейки на детской площадке поднялся человек. Зачем-то полез к себе под мышку. Скорее всего, за пистолетом, поскольку был этот человек топтуном- наружником, одним из тех, кто, по диспозиции капитана Дрынова, круглосуточно наблюдал за якушкинской квартирой.
Вышедший из кареты пассажир, а им был не кто иной, как Азазелло, смело к нему приблизился и на расстоянии в несколько метров прочертил в воздухе какие-то знаки, то ли звезду, то ли иную геометрическую фигуру. От этих знаков топтун-наружник рухнул на скамейку и в то же мгновение громко захрапел. Азазелло подошел к нему и достал закрепленный в кожаной петле под мышкой пистолет. Сунул себе в карман. После этого он направился к освещенному окну и осторожно постучался...
Уже которую ночь Якушкина мучила бессонница. Но был в ней и свой резон. Если Воланд напомнит о себе, думал он, так непременно ночью. Сидел на кухне и ждал. Сейчас, услышав стук в окно, он прильнул к стеклу и узнал Азазелло. В одной рубашке Якушкин выбежал из дома.
Мессир приглашает вас, – сказал Азазелло, вежливо снявши с головы котелок: – Прошу! – и указал на карету.
Кучер в треуголке, но без лица слез с козел и, как положено любому кучеру на остановках, проверял упряжь. Негры лакеи оставались на запятках. Их черные физиономии сливались с темнотой, светились лишь белки глаз да позументы на ливреях. Из распахнутой дверцы кареты струился желтый свет, пронзавший облачко морозного пара. Оттуда доносилась музыка. Якушкин поднялся на подножку и застал такую картину.
Бегемот стоял на задних лапах, прильнувши ртом к флейте. Одной лапой он отбивал такт. Гелла аккомпанировала на клавесине. Не отрываясь от флейты, Бегемот кивнул Якушкину и вновь самозабвенно, зажмурив глаза, отдался музыке. Исполнялся менуэт Гайдна.
Возник Коровьев. Он зачем-то притащил из «подсобки» гору пухлых старинных фолиантов, сдул с них пыль и взгромоздил на высокую конторку черного дерева. Церемонно, с поклоном, поздоровался с Якушкиным. Долго тряс ему обе руки. Сетовал на то, что Якушкин почему-то «совсем носу не кажет»: должно быть, новую себе завел компанию друзей, хотя общеизвестно, что старый друг лучше новых двух.
Выслушивая очередную коровьевскую ахинею, Якушкин оглядел помещение кареты. Она уже не показалась ему столь просторной, как в прошлый раз. Заметны были также изменения во внутреннем убранстве, например, появилась конторка. Воланда не было видно.
Бегемот покончил с музицированием, Гелла вышла, унеся ноты, а кот присоединился к Коровьеву. Объяснил, что напряженно готовится к международным конкурсам, рассчитывает сорвать там первые призы. Азазелло ехидно подхихикнул и присовокупил: пусть Бегемот ни о каких призах и не мечтает, на любом конкурсе призы распределяются заранее. Вдобавок неизвестно, как отнесется жюри к участию в конкурсе музицирующего кота.
Коровьев, как с ним нередко бывало, сначала полностью согласился с Азазелло, но затем поддержал и Бегемота. С важностью заметил, что подлинное искусство не могут не оценить по достоинству. Бегемота это взбодрило.
– Я им всем покажу! – хорохорился он. – Я привлеку внимание широкой общественности.
В этот момент из-за конторки вышел Воланд. На нем был стеганый домашний халат, на голове ночной колпак с кисточкой. В одной руке он держал гусиное перо, в другой пожелтевший свиток.
– Чем обязан? – с удивлением спросил он у Якушкина.
Вот тебе и на! Якушкин растерянно пожал плечами. Как же так? Азазелло говорил: мессир приглашает... Но Воланд, видно, вспомнил, что сам пригласил Якушкина, и извинился перед гостем. Проворчал под нос что- то насчет памяти, которая стала у него хуже некуда. Он спросил, не прикажет ли Якушкин подать кофе? Не дождавшись ответа, кликнул Геллу. Та вошла с подносом. На нем возвышались кофейник, пускавший ароматный парок из носика, и пузатые бутылки с ликерами. Едва Якушкин принял в руки чашку кофе, он услышал новый вопрос Воланда:
– Ну, над чем вы сейчас работаете? Чем порадуете нас в недалеком будущем?
– Да не пишу я ничего, – отвечал Якушкин, потупившись.
– В чем дело? Или никак не посетит вас вдохновение?
Коровьев скорчил гримасу, означавшую, что и он страшно расстроен перерывом в творчестве Якушкина. Пришлось признаться, что нет нового сюжета, даже замысла
– А вы опишите нашу с вами встречу, – предложил Воланд. – Меня, мою свиту. Чем не сюжет?
– Вас уже описал Мастер, – отвечал Якушкин. – Где мне с ним тягаться?
– Что из того, что описал? Хоть времени прошло и немного, а сколько переменилось. – Новые веяния, новые идеи... А как по-вашему, – неожиданно сменил тему Воланд, – зачем мы тогда наведывались в Москву?
Никогда прежде такой вопрос не приходил Якушкину в голову. В самом деле, зачем?.. А Воланд принялся перечислять.
– Допустим, отрезали голову Берлиозу. Подшутили над доверчивыми москвичами в варьете...
– Грибоедова спалили, – напомнил Бегемот, – ресторан писательский.
Но всего же этого явно недостаточно для столь серьезной экспедиции, не так ли? – продолжал Воланд. И тут же спросил: – А вы не допускаете мысли, что это была лишь репетиция? Другими словами, разведка?
Репетиция? Разведка? Стало быть, нынешний визит, это уже... Но Воланд прервал размышления Якушкина, весело рассмеялся и сказал, что слова его не следует принимать так уж всерьез. А позвал он Якушкина вот для чего.
– Рад вам сообщить, что дебют вашего кролика состоялся и превзошел все ожидания.
– Нет слов! –поддержал Воланда Коровьев. И стал излагать подробности скандального происшествия в зале имени Чайковского. По его словам, Волосухину выпало стать первой жертвой вот по какой причине: многие собратья по перу, не говоря уже о читательской массе, регулярно посылали писателя-патриота вместе с его нравоучениями к черту, а то и куда подальше. Короче, пора было принимать меры. А тут как раз подвернулся кролик.
– То ли еще будет! – грозился Бегемот, потрясая лапой. – Уже и детальный план разработан...
Коровьев незаметно дернул Бегемота за ухо. Тот умолк, в испуге прикрыв рот лапой.
Я ваш должник, – сказал Воланд. И неожиданно спросил, где намеревается Якушкин встречать Новый год.
Якушкин ответил, что дома, где же еще? Когда в семье маленький ребенок и не на кого его оставить...
– Я даю Новогодний бал, – объявил Воланд, не дослушав до конца объяснений. – Прошу оказать мне честь...
Снова встрял Коровьев. Затрещал о том, что любой вертопрах отдал бы полжизни за счастье поприсутствовать на балу у мессира. Про писателей, а среди них он по праву числит Якушкина, и говорить нечего. Полученных впечатлений хватит на десяток романов.
– Форма одежды фрак или смокинг, – заключил он.
Якушкин сказал, что у него нет ни фрака, ни смокинга.
– Ну, это легко поправить, – улыбнулся Воланд. И обратившись к Гелле, сказал: – Сними-ка мерку с рыцаря.
Гелла достала портновский сантиметр и принялась обмерять клиента.
– Так что будем шить? – спросила она. – Фрак или смокинг?
Коровьев напялил на нос пенсне и принялся изучать Якушкина, словно впервые его увидел. Наконец объявил, что шить непременно следует смокинг: фрак более приличествует не мастерам изящной словесности, а артистам.
– Мне, например! – напомнил о своих притязаниях по части музыкальных конкурсов Бегемот. – Я уж и сукнецо подходящее припас, англицкое.
Гелла вышла. Из «подсобки» донесся стрекот швейной машинки. Воланд велел Якушкину обождать: Гелла известная мастерица, через пару минут смокинг будет готов.
А меня прошу извинить: дела, – сказал он, намереваясь вернуться за конторку. – Жду вас у себя на балу с любовницей.
– У меня нет любовницы! – вскричал Якушкин не столько с отчаянием, сколько с известной долей возмущения в голосе.
– Как это нет любовницы? – удивился Воланд и переглянулся с Коровьевым. Тот утопил в острых своих плечах голову, всем видом изобразил недоумение: дескать, кто его знает, может, такие чудеса, что действительно нет любовницы?
– А если с женой? – нашелся Якушкин. О малыше, которого не на кого оставить, он уже напрочь забыл.
– Нет-нет! Что вы! Как можно! – Коровьев бурно замахал руками.
– Со своею законной супругой вы уж лучше отправляйтесь в районный дом культуры, – с неожиданной враждебностью прошипел Бегемот. – На балы к мессиру приглашенные являются исключительно с любовницами. Таков обычай!
– Да вы не переживайте раньше времени, – стал успокаивать Якушкина Коровьев. – Любовница дело наживное. Сегодня нет, завтра объявится. До Нового года еще целых два дня...
– В любом случае вам следует дождаться вашего смокинга, – заключил Воланд. – Не зря же Гелла старается.
Он знаком предложил Якушкину присесть, а сам возвратился за конторку. Заложив гусиное перо за ухо, принялся листать один из фолиантов, принесенных Коровьевым. Объяснил Якушкину, что занят проверкой списка приглашенных на Новогодний бал гостей. Стоит кого забыть, могут выйти жуткие обиды.
Коровьев объявил, что у него также неотложное дельце, извинился перед Якушкиным, подал знак Бегемоту, и оба исчезли.
Азазелло вызвался занять гостя. Предложил на выбор сыграть в кости, в домино или шахматы, но Якушкин отказался. Огорчение от того, что ему, видно, не бывать на балу у Воланда, не оставляло его. Стоит ли в таком случае ждать, когда будет готов смокинг? Но ослушаться Воланда он не посмел. В отдалении безостановочно стрекотала швейная машинка Геллы. Потянулись минуты ожидания.
Валерия Гряжская по-прежнему сидела в своей машине. Она видела, как из кареты выскочил Азазелло, как усыпил он топтуна-наружника. Как затем из дома еще кто-то вышел: промелькнуло белое пятно якушкинской рубашки и исчезло в карете. «Подождем, что будет дальше», – подумала она. А дальше произошло вот что.
Из кареты вышли Коровьев с Бегемотом и приблизились к машине.
– Верить ли глазам своим? – завопил Коровьев, заламывя руки. – Неужто столь же редкий, сколь и счастливый случай позволяет нам воочию лицезреть несравненную Валерию Гряжскую? А я еще и думаю: кто это нас преследует в таком замечательном, сверхскоростном лимузине? Очаровательница! Властительница дум и тайных мечтаний!
«Ну, все! – подвела итог своим размышлениям Валерия. – Предупреждал нарколог Птицын: добром не кончится. Вот уже и слуховые галлюцинации... Как будет по латыни «белая горячка»? Делириум, что ли?»
Но Валерия не была бы Валерией, если бы ее врожденный рационализм мышления (а также и поступков) полностью уступил место страху. Равно и убежденности, что дела ее плохи, что допилась, одним словом. Она нащупала в кармане дубленки импортный баллончик со слезоточивым газом, который постоянно таскала с собой на тот случай, если на нее вздумается кому-то напасть.
Но и Коровьева, как говорится, на хромой козе не объедешь. Движение Валерии не ускользнуло от его внимания.
– Любезный друг! – обратился он к Бегемоту с горечью в голосе. – Она нам не доверяет! Она приняла нас, верных и бескорыстных почитателей ее таланта и женских прелестей, за ничтожных грабителей! Где взять силы, чтобы снести такое незаслуженное оскорбление?
И Коровьев громко разрыдался, что, как вы сами понимаете, для него было дело плевое. Настал черед Бегемота.
– Мадам! – церемонно произнес он. – Я имею честь вас приветствовать, а также сообщить: тот, кого вы долгое время разыскиваете, здесь! Более того, он с нетерпением ожидает вас.
И открыл дверь машины.
Уже не отдавая себе отчета в том, что с ней происходит, Валерия послушно вышла. Дверца за ней мягко захлопнулась. В сопровождении Коровьева и Бегемота она направилась к карете. Воздадим должное ее проницательности. «Это же булгаковские черти, Коровьев с Бегемотом! – подумала она про себя. – Неужели они явились мне наяву?»
Валерия поднялась в карету. Первый, кого она там увидела, был Якушкин. Он сидел в кресле, переодетый в строгий черный костюм, в белоснежной рубашке с пластроном и при галстуке-бабочке. Ноги Валерии подкосились, она с трудом удержала равновесие. Кто это? Молодой человек из ее сна? Он?.. Он! Господи! Как он прекрасен!
– А вы его все разыскивали, разыскивали... Даже через милицию, – с мелким смешком произнес Коровьев. – Что бы сразу к нам обратиться! Однако позвольте уж официально представить, чтобы не подумали, будто какой подвох или подмена. Якушкин, тот самый...– и гаер и заговорщически подмигнул.
Якушкин встал и поклонился.
– А это вам не какая-нибудь профурсетка, а Валерия Гряжская собственной персоной, – продолжал Коровьев, обращаясь к нему, – та самая...
Но и без коровьевского представления Якушкин сразу узнал Валерию Гряжскую. Он видел кинофильмы с ее участием, бывал на нескольких спектаклях в театре «У Красных Ворот». Сейчас с ним творилось нечто невообразимое. Замечу, что страсть к сочинительству не оставляла у него даже крохотного местечка для иных страстей. Ни о ком, кроме собственной жены Лены, он и не помышлял. И вдруг эта женщина в единый миг стала для него желанной! Что это? Чары, сотворенные Волан- довой шайкой? Пусть так! Какая разница?
Наступила пауза. Ни Валерия, ни Якушкин не знали, как дальше себя вести. Безотрывно смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова. На помощь пришел Бегемот. Он соединил их руки, а свою лапу наложил сверху – прямо как священник, венчающий молодых. Рука Валерии пылала, а у Якушкина, напротив, была ледяной.
– Какая пара! приговаривал Бегемот, приплясы вая в необузданном восторге -Прямо созданы друг для друга: он для нее, она для него! Союз сердец!..
– Пошел прочь, негодник! – раздался низкий, с хрипотцой, голос Воланда.
Бегемот отскочил с обиженным видом, и руки Валерии и Якушкина разжались.
Воланд был уже не в халате и не в ночном колпаке, а в знакомом Якушкину черном камзоле со светлыми вертикальными прорезями. Одной рукою он опирался на эфес длинной шпаги. Край плаща с огненной подкладкой был перекинут через локоть. Валерия сразу узнала Дьявола в традиционном, оперном обличии.
– Мадам, я счастлив видеть вас у себя в гостях, – сказал он ей. – Премного наслышан о вашей красоте, уме и необыкновенном таланте.
«Я пропала! – подумала Валерия, вновь впадая в рациональное мышление. – Вот мне уже и Воланд явился. А кто же в таком случае молодой человек из моего сна, этот непонятный Якушкин? Порождение Воланда? Бесплотный призрак? Или же он из костей и мяса? Я ведь почувствовала пожатие его руки?»
– Напрасно вы терзаетесь, – угадал ее мысли Воланд. – По-моему, покуда нет для этого никакого повода. Ваша встреча с рыцарем состоялась (Воланд вновь так назвал Якушкина), и в том я не вижу пока ничего плохого... Что касается будущего, то ни мне, ни моим помощникам не дано его приоткрыть. Мы сами нередко обращаемся к услугам мудрой старухи, Кумской Сивиллы.
Где-то звонко хлопнула пробка. Из-за портьеры вынырнул Коровьев с подносом, уставленным высокими бокалами с шампанским. Он обошел всех, включая Бегемота. Тот, по-прежнему тая обиду на Воланда, отвернулся, но потом все же принял бокал.
– Порадовался, как чудесно вы друг дружке подходите, а в результате схлопотал выговор, – пожаловался он. – И все-таки я остаюсь при своем мнении.
– Кто ж спорит? – миролюбиво заметил Воланд. – Но зачем произносить вслух то, что само собой разумеется?
– Это он телевизор насмотрелся, – съехидничал Азазелло. – А там все съезд да съезд. Берет пример с народных депутатов. Вот уж кто мастера болтать впустую!
В ответ Бегемот, округлив в гневе глаза, прошипел, что к народным депутатам никакого отношения он не имеет, а уж баллотироваться на выборах в жизни не будет, пусть хоть на сковородке поджаривают.
– Мир! Мир! – закричал Коровьев и полез чокаться. Но Азазелло, любивший во всем пунктуальность, отвел свой бокал.
– За что пьем? – спросил он.
– Конечно, за любовь! – ответила за всех появившаяся Гелла и бросила на Якушкина взгляд, исполненный лукавства.
Что ж, я согласен, – сказал Воланд, вращая в руке бокал. – Хотя, признаться, уже забыл, что это такое. Правда, время от времени какая-нибудь симпатичная ведьмочка с Брокена пробует соблазнить меня своими прелестями.
Коровьев стал рассказывать, как однажды мессира пыталась заарканить редкая по красоте ведьмочка по прозвищу Кристин. Чтобы отвязаться от нее, сдали эту самую Кристин в манекенщицы, и она сыграла роковую роль в судьбе одного английского министра, подбила его на шпионаж в пользу враждебной державы. Припомнил и еще одну настырную даму, ставшую потом революционеркой и террористкой.
– Мы пьем или нет? – прервал коровьевскую болтовню Азазелло.
Все снова чокнулись.
– Валерия с жадностью хватанула шампанского, точно оно могло погасить вспыхнувшее внутри ее пламя. Пустой бокал она протянула Коровьеву, и тот с показной услужливостью его подхватил. Она уже не могла себя сдержать. Всем телом подалась к Якушкину. Еле слышно произнесла:
– Поцелуй меня!
Якушкин наклонился и поцеловал Валерию в ее пухлые, чуть раскрытые губы. А она, обхватив его руками, что было сил, прижалась к нему, и он ощутил ее крупные упругие груди. Острое, ни с чем не сравнимое желание пронзило его, и он осторожно отстранил от себя Валерию.
Присутствующие тактично сделали вид, будто ровным счетом ничего такого особенного не произошло. Лишь в зеленых глазах Геллы заиграли озорные искорки. Возможно, это просто отражались в них огоньки свечей. Правда, Коровьев заметил, что шансы Якушкина попасть на Новогодний бал к мессиру сильно повысились.
– Какой еще бал? – удивленно спросила Валерия.
– Я тебе после объясню, – сказал Якушкин.
Невидимые часы пробили три раза. Все, кроме Якушкина и Валерии, сразу как-то засуетились, задвигались. Гелла унесла поднос с пустыми бокалами. Коровьев снял с конторки груду фолиантов. Пробегая с ними мимо Якушкина в «подсобку», он успел шепнуть ему на ухо, что все складывается отлично и его, то есть Якушкина, личная безопасность теперь полностью гарантирована. Смысл и значение этих слов Якушкин смог оценить в полной мере лишь спустя некоторое время.
Бегемот достал откуда-то новенький и блестящий разводной ключ для отвинчивания гаек и стал оттирать его от машинного масла тряпицей. Что касается Воланда, то он коротко объяснил, что завтра, точнее уже сегодня, предстоит тяжелый день. Посему он просит у гостей прощения, но далее не может уделить им ни минуты. Приглашение на Новогодний бал остается в силе, оно относится также и к Валерии. С этими словами он скрылся за конторкой вместе с Бегемотом, который не выражал больше никакой обиды на своего повелителя.
– Ты сейчас поедешь ко мне, – тихонько предупредила Валерия Якушкина.
Якушкин отрицательно помотал головой. Сказал, что прежде ему надо бы объясниться с женой.
– Никаких объяснений! – запротестовал Азазелло. Он оказался единственный, кто остался с гостями. – Черкните ей пару слов, чтобы понапрасну не волновалась, а я снесу. Заодно подкину еще продовольствия. Тоже, знаете, не лишнее.
Азазелло забежал за конторку, вырвал там клок бумаги и вложил его в руки Якушкина вместе с гусиным пером, предварительно обмакнув перо в чернильницу с откидывающейся крышкой. Якушкин, недолго раздумывая, написал такие слова: «Я ухожу. Так надо. Прости».
Азазелло, безотрывно следивший за ним, тотчас выхватил записку, присыпал ее песком из песочницы с той же конторки. После чего нагрузился двумя огромными свертками и открыл ногой дверь кареты. Валерия с Якушкиным, следом за ними Азазелло спустились с подножки.
Азазелло скрылся в подъезде, через несколько секунд появился снова. Попрощался в обычной своей манере, приподняв над головой котелок. Уже стоя на подножке, он свистнул долгим, разбойничьим свистом. Кучер хлестнул лошадей, карета резко тронулась с места и скрылась за углом. Валерия проводила ее взглядом и потянула Якушкина за рукав к своей машине.
Едва они успели сесть, как сразу бросились друг другу в объятия. Время для них остановилось. Но вот Валерия включила мотор, и ее ярко-красный «вольво» полетел обратно, к центру города. До выезда на Ленинградское шоссе Якушкин показывал дорогу. Когда же они выбрались на Ленинградку, черноту беззвездного неба неожиданно пронзила огромная молния в виде латинской буквы «V». Зимние грозы в Москве теперь не в диковинку. Но Валерии почудилось в молнии напутствие Воланда.
– Как удар молнии! – прошептала она.
– Что ты сказала? – переспросил Якушкин.
– Может, это и банально звучит, но любовь поразила меня, словно удар молнии. И в том единственное мое спасение, милый.
Наконец они подъехали к дому Валерии, в одном из переулков, поблизости от Тверской. Поднялись в лифте. Валерия отперла ключом дверь, и они вошли. Валерия провела Якушкина в спальню. Оба, не произнеся ни единого слова, торопливо разделись и бросились в разобранную постель. За остаток ночи изведал Якушкин всю силу и все отчаяние женской страсти, когда женщина любит последний раз в жизни.
До Нового года оставалось меньше двух суток.
Глава 6. Научная консультация
Сергей Митрофанович привычно отыскал в оперативной информации ключевое слово – «кролик» – и жирно его подчеркнул. Он подумал о том, что зверек явно натренирован и обучен. Если хорошенько копнуть... Вновь в голове забродили мысли о генеральских погонах, настроение несколько улучшилось.
В информации имелась приписка на основании показаний топтуна-наружника, который ошивался накануне вечером у Концертного зала имени Чайковского. Оказывается, без четверти десять к залу подъехала карета. Синхронным образом из подъезда вышел какой-то человек с плетеной корзинкой. Не успел топтун-наружник и рта раскрыть, как тот сел в карету и уехал.
Сергей Митрофанович решил, что каретой, видно, уже всерьез занимаются. Равно и поисками кролика. Пусть! А он вот чем займется!..
Начал он с того, что позвонил в Академию наук и попросил порекомендовать авторитетного специалиста в области кролиководства. И такой специалист был назван – профессор Колокольчиков, заведующий лабораторией в институте под названием НИИБИОМЕХ.
В лаборатории, куда позвонил полковник, ответили, что профессора нет и не будет: сегодня он работает дома. Пришлось звонить на дом. Сергей Митрофанович назвался и попросил женщину, которая взяла трубку, узнать, не сможет ли профессор Колокольчиков незамедлительно принять его по важному делу. Женщина отправилась выяснять, а выяснивши, сказала, что профессор готов принять сотрудника Комитета госбезопасности. Был продиктован адрес.
Профессор Колокольчиков проживал на задах Ленинского проспекта, поблизости от универмага «Москва». В квартире почему-то все радостно улыбались гостю. Улыбалась цыганистого вида разбитная домработница. Улыбалась супруга профессора, в длинном, расписном китайском халате. Настолько юная, что Сергей Митрофанович поначалу принял ее за профессорскую дочку. Улыбался симпатичный карапуз? катавший по ковру игрушечную машину. Казалось, улыбается даже огромный сенбернар, вывалив из пасти розовый язык.
Сергей Митрофанович был проведен в кабинет. Профессора Колокольчикова он застал сидящим верхом на велотренажере. Одетый в тренировочный костюм, тот лихо крутил педали. Щуплый, с седой бородкой клинышком, он удивительно был похож на дедушку Калинина. И подобно «всесоюзному старосте» сохранил в преклонном возрасте не только бодрость, но и сексуальную мощь. Симпатичный карапуз был не внуком его и не правнуком, а сыном, произведенным на свет юной супругой, в недавнем прошлом – лаборанткой профессора, при активном его участии.
Хозяин извинился за то, что принимает гостя во время тренировки. Но таков уж заведенный много лет назад его распорядок дня. Нарушить его совершенно невозможно, поскольку от состояния здоровья профессора зависит будущее мировой науки. Но он готов выслушать гостя и верхом на велотренажере.
Сергей Митрофанович зашел издалека. Попросил просветить его по части кроликов, их места в животном мира, а также в хозяйственной деятельности человека.
Пришлось выслушать целую лекцию. Продолжая накручивать педали, профессор поведал о происхождении кроликов, об их далеких предках. Подробно остановился и на ныне существующих породах. Рассказал о «Советском мардере» и о «Венском голубом». Помянул экзотических «тюрингинцев» с необыкновенно красивым бурым мехом – «что твоя ондатра» или «что твой бобер». Но коньком профессора была та роль, которую кролики могли бы сыграть в обеспечении страны мясом. О чем он направлял подробнейшую записку в правительство.
По его предначертаниям, каждая советская семья, проживает ли она в городе или в деревне, в обязательном порядке должна разводить кроликов. С деревней особых проблем не предвидится. А вот в городах следует изыскать в каждой квартире место для домашнего крольчатника. Корма для поголовья будут ежедневно развозить особые фургоны. Если всё это будет реализовано, то трудящиеся запросто обеспечат себя крольчатиной и забудут дорогу в продовольственные магазины. Со временем они научатся шить из кроличьих шкурок одежду и забудут дорогу также и в магазины промтоварные. И на такую гениальную программу ни ответа от правительства, ни привета!
Но вот лекция была окончена. А с нею и сеанс на велотренажере. Профессор легко выпрыгнул из седла. Произвел с поднятыми руками несколько глубоких вдохов и выдохов и принялся бегать трусцою по кабинету. Сергей Митрофанович перешел к главной теме.
– Скажите, – спросил он,– а теоретически такое возможно, чтобы кролик вдруг набросился на человека и начал кусаться.
Замедлив бег, профессор отвечал, что кусаться может начать любое животное, если довести его до крайности: издеваться, морить голодом, избивать.
– Значит, вы допускаете?..– И получив повторное подтверждение, Сергей Митрофанович спросил, не может ли кроличий укус вызвать какую-то особую реакцию у укушенного. Скажем, помрачение в мозгах.
– Помрачение или просветление? – уточнил профессор.
Пришлось без утайки рассказать о вчерашнем происшествии в зале имени Чайковского. Профессор внимал рассказу с широко раскрытыми глазами. С бега он перешел на ходьбу. Скоро и вовсе присел, и почему-то на пол. Первым делом он поинтересовался, какой породы был кролик. Что можно сказать? Серый, и все тут. Не кролиководы мы, к несчастью. Профессор Колокольчиков принялся дергать себя за бороду. Кончик ее пытался засунуть в рот. Как видно, с целью вызвать прилив научных идей. Наконец объявил, что подобные факты науке неизвестны. Почему у укушенного писателя произошло в мозгу подавление тормозных механизмов (а иначе с чего бы ему выплескивать наружу сокровенные мысли?), он, профессор Колокольчиков, пока объяснить не может. Пусть предоставят в его распоряжение кусаку-кролика. Он подвергнет его всестороннему исследованию, и уж тогда...
– Легко сказать! Тут люди бесследно пропадают!
Профессор Колокольчиков искренне удивился. Как и большинство советских людей, он верил в безграничные возможности органов безопасности. Снова в волнении забегал он по кабинету. Сокрушался, что такого необыкновенного кролика не удалось задержать. Даже стал выговаривать Сергею Митрофановичу. Почему, например, не держали в зале имени Чайковского наготове свору охотничьих собак?
– Стойте! – неожиданно воскликнул профессор и хлопнул себя по лбу ладошкой. – О кусающемся кролике мне как-то уже приходилось читать. Но вот где именно?
Он в очередной раз пожевал кончик бороды. Затем вновь залез на велотренажер и еще немного покрутил педали.
– Вспомнил! – радостно закричал он. – У меня был сотрудник... Пресвятая Богородица! Как его фамилия?.. Якушкин!
Сергей Митрофанович сделал над собой страшное усилие, чтобы не упасть в обморок. Впору было достать пз нагрудного кармана таблетку валидола и засунуть под язык. Если отбросить несущественные подробности, вот что рассказал профессор Колокольчиков. Действительно, фамилия того сотрудника была Якушкин. Не без способностей. Подавал надежды. Безусловно, ходить бы ему сейчас в кандидатах наук. Но – свихнулся. Нет, не в прямом смысле – на сочинительстве. Стал пописывать. Подражал знаменитым сатирикам. В одном его произведении как раз фигурировал кусающийся кролик... И профессор Колокольчиков достаточно связно пересказал может повести Якушкина.
– Выходит, кролика можно натренировать соответствующим образом? – спросил Сергей Митрофанович.
– Чепуха! – рассердился профессор.– Чистой воды фантазия.
Особое его недовольство вызвало то обстоятельство, что в произведении Якушкина он обнаружил приметы своей лаборатории. Можно было узнать и кое-кого из персонажей. Например, его заместителя Лампасова, отставника-майора. Что из того, что Лампасов далек от науки? Зато самоотверженно волокет на себе воз организационных проблем. Или взять числящегося в лаборатории мастера спорта по вольной борьбе Чуркина...
– Этот Якушкин, что же, сам показал вам свое произведение? – спросил Сергей Митрофанович.
Профессор Колокольчиков опустил глаза и признался, что рукопись принес ему Лампасов. Тот первый заприметил, что Якушкин в рабочее время что-то такое пописывает. Забрался тайком к нему в стол, взял оттуда рукопись и доставил профессору для принятия, как он выразился, «действенных мер».
Пришлось вызвать Якушкина и поговорить с ним по душам. Отчитать его за то, что занимается в рабочее время черт-те чем. Якушкин вспылил. Сказал, что никому не позволит совать нос в свои дела. И тут же подал заявление об уходе. Профессор уговаривал его одуматься, но Якушкин закусил удила... Где он теперь, что с ним, неизвестно. Правда, в газетах и в одном журнальчике промелькнули несколько его крошечных рассказиков, но без всяких кроликов...
Можно было сворачивать беседу. Но Сергей Митрофанович все же спросил:
– Значит, никакими кусающимися кроликами лично вы не занимались?
– Клянусь! – Профессор Колокольчиков даже бухнул себя в грудь кулаком.
– И тем не менее такой кролик появился.
Профессор Колокольчиков выразил готовность побросать все дела и заняться, если угодно, проверкой: нет ли какой связи между литературным произведением его бывшего сотрудника и возникшим наяву кусающимся кроликом. Помнится, в произведении кролика обрабатывали разными физическими штучками. Можно воспроизвести все в точности. Но для этого произведение должно быть у него в руках.
Ах, не следовало ему так поступать! Вот уж подлинно, черт за язык потянул. Но о последствиях чуть позже.
Сергей Митрофанович пообещал в самое краткое время вручить профессору произведение Якушкина. От приглашения отобедать в домашнем кругу он вежливо отказался. Распрощался и провожаемый все теми же приветливыми улыбками домочадцев профессора отбыл на Лубянку.
Там первым делом он достал из кармана портативный диктофон, который находился при нем включенным в продолжение визита к профессору. Сергей Митрофанович прослушал запись. Часть, касающуюся Якушкина, прослушал дважды. «А что, если кусающийся кролик на самом деле его рук дело? – подумал он. – Литература литературой, а факты упрямая вещь, как заметил однажды один сравнительно неглупый человек».
Сергей Митрофанович не отличался таким уж богатым воображением. Но все же представил, и вполне зримо, некую подпольную лабораторию, на дому или в заброшенном подвале, где Якушкин тайно проводит опыты над кроликами. Превращает их в кусачих зверьков, с тем чтобы разные экстремисты из демократического лагеря использовали их в своих подрывных целях. Волосухин первая жертва, за ним могут последовать новые...
Сергей Митрофанович извлек из диктофона миниатюрную кассету и запер в сейф. Решил пока не знакомить вальяжного начальника управления со сведениями, которые ему удалось добыть. А уж капитана Дрынова – и говорить нечего. Вспомнив о Дрынове, он позвонил ему и спросил, нет ли каких новостей.
Новости были, и довольно огорчительные. Ночью на дежурстве самым наглым образом заснул топтун-наружник, приставленный следить за квартирой Якушкина. Сейчас Дрынов его допрашивает. Сотрудница, запущенная в квартиру под видом инкассаторши из «Мосэнерго», Якушкина там не обнаружила. Жена пребывает в состоянии сильного нервного возбуждения. И еще одна деталь. Дома имеются остродефицитные продукты. Сынок Якушкина, например, уплетал бутерброды с черной икрой и с лососиной...
Выслушав все это, Сергей Митрофанович приказал Дрынову никуда не отлучаться, он может понадобиться в любую минуту.
После визита Сергея Митрофановича профессор Колокольчиков с аппетитом отобедал, после чего прилег соснуть на диване в кабинете. Сон его был невыразимо сладок. Ему привиделось, как в городе Стокгольме его награждают Нобелевской премией за выдающиеся заслуги в развитии кролиководства. Награждение производил почему-то не шведский король, а недавний гость, Сергей Митрофанович.
Проснулся профессор от поскрипывания педалей велотренажера. Поначалу он решил, что в кабинет прокрался сынок-проказник, как это не раз бывало. Раскрыл глаза и форменным образом обомлел. На велотренажере восседал огромный черный котище. Он накручивал педали и вдобавок кричал в угрожающем тоне:
– Еду-еду, не свищу, а наеду – не спущу!
Но профессора поджидало едва ли не самое страшное. Он перевел взгляд на письменный стол и увидел, что за ним расположился омерзительного вида субъект в доисторическом пенсне. Субъект ворошил на столе бумаги. Одни швырял на пол, другие складывал в стопку. В общем, сортировал.
– Что вам здесь нужно? – заикаясь от страха, спросил профессор.
– Мы ваша персональная охрана, – объяснил Коровьев. – Я и вот он. – Подлец указал на Бегемота, который еще быстрее заработал педалями. – Будем вас охранять круглосуточно. А научные бумаги, я извиняюсь, так, в открытую, держать строжайше воспрещено. Их следует нацепить на шнурок и приложить сургуч.
– Вы, стало быть, чекисты?
– Еще какие! – отозвался Бегемот. – Таких, как мы, чекистов еще поискать! Будем следовать за вами по пятам. Даже в туалет водить. Вам в туалет? Так и скажите.
– Я не хочу в туалет! – в отчаянии закричал профессор. Мысленно он клял себя за то, что предложил сотрудничество Сергею Митрофановичу. Да что толку себя теперь клясть? Задним умом все крепки.
Коровьев вышел из-за стола, а Бегемот слез с велотренажера. Вдвоем они подошли к дивану, и взяли профессора за руки. Может быть, действительно, они собирались отвести его в туалет, кто знает? Только от прикосновения ледяных рук Коровьева и таких же ледяных лап Бегемота профессор Колокольчиков громко вскрикнул. На краткий миг забился, извиваясь. Но тут же затих, вытянувшись на диване...
Первой прибыла «неотложка» из академической поликлиники. За нею и «Скорая помощь». Хлопоты были напрасны: профессор Колокольчиков был мертв. Домработница рассказывала, что она слышала, как в кабинете кто-то разговаривает. Затем раздался крик. Когда она вбежала, кроме профессора никого там не было. На полу были разбросаны бумаги с письменного стола. Окно отворилось, вот и разбросал их ветер. Она объяснила, что профессор часто проветривал кабинет, поскольку обожал свежий воздух. Видно, перед тем как прилечь отдохнуть, открывал окно, а когда закрывал, не до конца опустил шпингалет.
Недоброжелатели утверждали, что профессор Колокольчиков умер от сексуальных перегрузок. Другими словами, молодая жена вогнала старика в гроб. Лица, относившиеся к нему с симпатией, с этим не соглашались. Отмечали тот факт, что профессор скончался во сне. Так отходят в лучший мир одни лишь праведники.
Глава 7. Мелкие пакости
Автор изловил себя вот на какой мысли. Он взялся описывать события, может, и неординарного свойства, но все же неспособные кардинальным способом воздействовать на положение дел в масштабе государства. Его увлекло противоборство Воландовой свиты с тайной полицией. Ну и что? Есть же еще и народ. А какой из российских писателей не скорбел душой о горькой его судьбинушке? Так и хочется повторить вослед поэту: «Выдь на Волгу! Чей стон раздается?»
В данной главе я решил коснуться экономических проблем. Тут уж ни один критик не рискнет упрекнуть автора в мелкотемье. Итак, приступаю...
Уже который месяц повсеместно обсуждались грядущие перемены в отечественной экономике. На самом высоком уровне готовилось важное совещание. Чего от него ждать конкретно, никто толком не знал. Слухи ходили самые невероятные. Вплоть до того, что прямо на этом совещании всякий социализм будет навсегда отменен, а взамен введут, причем принудительно, самый что пи на есть капитализм. Другой исход рисовался в неком коктейле из социализма и капитализма. Но так искусно и ловко замешанном, что тоже должен был бы привести к сногсшибательным результатам. Одно было ясно: многострадальной отечественной экономике недолго осталось трястись, подобно разболтанной телеге по ухабистому проселку. Современным лимузином въедет она на гладкое шоссе и помчится с ветерком к грядущему изобилию.
И вот настал долгожданный день. Точнее утро этого дня. Ничем не приметное декабрьское утро, с поздним рассветом и умеренно крепким морозцем.
Снова перенесемся в дом на задах Ленинского проспекта, в тот самый, в котором накануне отдал Богу душу профессор Колокольчиков. Но в другую квартиру – принадлежащую видному экономисту, академику Петру Семеновичу Лобкову. Хозяина мы застанем за завтраком. Одновременно он пробегает глазами доклад, с которым предстоит ему выступить на совещании в Кремле. Доклад, прямо скажем, основополагающий.
Первый вариант доклада, составленный Лобковым вместе с его сотрудниками полгода назад, носил решительно радикальный характер. По всем наметкам получалось, что ежели следовать содержащимся в нем выводам и рекомендациям, а именно снять любые препоны на пути смекалистых, предприимчивых и оборотистых людей, то в достаточно короткий срок можно будет и накормить народ, и приодеть, и даже обеспечить кое-каким барахлишком в виде холодильников, мебельных гарнитуров и другого, чего сейчас в магазинах не сыскать днем с огнем. Радужные перспективы были подкреплены беспристрастной экономической цифирью.
Доклад был направлен Президенту. И тут началось!
У Президента неожиданным образом оказались в штате собственные экономисты. Для того, чтобы оправдать свою зарплату (прямо скажем, немалую), они занялись внесением в доклад хитроумных поправок с идеологической, в духе научного коммунизма, подкладкой. Сам Президент тоже не был чужд экономических наук и тоже легонько прошелся по тексту.
Ну, что бы, кажется, Петру Семеновичу упереться рогами? Твердо стоять на своем и ни на какие исправления не соглашаться? Но он убоялся впасть в опалу и скрепя сердце принялся за переделку доклада.
Никто из сотрудников не был отпущен в отпуск. Трудились в самую жару. С цифирью, определявшей рост продовольствия и других товаров, стало получаться заметно похуже. Но уж, как говорится, чем богаты, тем и рады. В назначенный срок исправленный вариант доклада был направлен наверх. Уже не столь радикальный, но еще на что-то похожий. Когда он повторно спустился с президентских верхов, новых замечаний и поправок оказалось вдвое больше, чем в первый раз...
Я не хочу размазывать и впадать в буквализм, но замечу, что история эта повторялась до десяти раз. То есть курсирование доклада наверх и обратно. Окончательный вариант уже мало походил на самый первый. Понять, что конкретно предлагается, было невозможно, поскольку состоял он по большей части из лозунгов типа: «надо добиться», «следует неуклонно преодолевать». Я думаю, что даже великий Адам Смит, которого вместе со своим героем Евгением Онегиным высоко ценил и Александр Сергеевич Пушкин, пришел бы в полное уныние от прочитанного. А, возможно, и прекратил бы после этого всякие занятия экономической наукою...
Итак, Петр Семенович Лобков, представительный, статный мужчина, еще не старый, сидел на кухне за завтраком и читал галиматью, с которой предстояло ему сегодня выступать на совещании в Кремле. Он был уже полностью готов к выходу: в отутюженном костюме, белоснежной сорочке и при галстуке. Напротив него за столом сидела его жена в халате. Уловив историческую важность момента, сама она не завтракала и сосредоточила на муже все внимание и заботу. Она подкладывала ему дополнительных бутербродов, подливала кофейку, не сводила с Петра Семеновича преданных любящих глаз. Что касается Петра Семеновича, то пребывал он в скверном расположении духа.
– Черт знает что...– бормотал он, переворачивая с треском очередную страницу. – Это же просто ни в какие ворота!..
В дверь позвонили. Жена пошла открывать. На пороге стоял человек в рабочей спецовке, с ободранным чемоданчиком в руках. В таких чемоданчиках обыкновенно носят слесарный инструмент. Человек был низкорослый, но плотненький. С круглым лицом, глазами- щелками. В целом напоминал он кота.
– Слесаря вызывали? – коротко спросил он.
Действительно, накануне жена Петра Семеновича звонила в ЖЭК и просила прислать слесаря, чтобы починить неисправный кран в ванной. Она провела слесаря в ванную, показала, какой из кранов подтекает и нуждается в починке. Бегемот (а это был он и никто другой, поскольку единственный из Воландовой шайки смыслил в технике) принялся за дело. А жена вернулась на кухню.
– Знать бы, что у него на уме, – задумчиво произнес Петр Семенович при ее появлении, покусывая кончик очковой оправы. Он имел в виду Президента. – Никогда не угадаешь.
– Я уверена, что ты как всегда выступишь с блеском, – отвечала жена и подложила Петру Семеновичу дополнительный бутерброд с ветчиной из академического пайка.
– При чем тут?..– произнес в раздражении Петр Семенович. Тем не менее бутерброд он принял и даже надкусил. – Пойми, мне перед заграницей неловко. Ведь прочтут этот бред, – Петр Семенович потряс в воздухе докладом, – и придут в ужас. А у меня все-таки имя, репутация.
В этот момент из ванной послышался странный хлопок. В отворенную дверь вылетела мощная струя воды и, ударившись о стену коридора, рассыпалась на множество острых брызг. Жена ничего этого не видела, поскольку сидела спиной. А Петр Семенович, даром что был близорук, увидел. Вскочил со стула и побежал разбираться, что там приключилось, в ванной. И столкнулся с выбежавшим в коридор слесарем Бегемотом.
– Резьбу сорвало...– пробормотал тот, – общий вентиль перекрыть... в подвале... я мигом... не беспокойтесь...
Прихватив чемоданчик, выбежал в прихожую. Отомкнул входную дверь и был таков!
Взору Петра Семеновича предстала ужасная картина. На месте крана, нуждавшегося в починке, зияла дыра. Сам кран валялся в ванне, а из дыры с невиданной силой хлестала вода. Как многие другие люди науки, Петр Семенович плохо был приучен к мелким бытовым невзгодам. Ну, крупный ученый, что с него возьмешь?
– Петя! Осторожней! – крикнула подскочившая следом жена.
Но было уже поздно. Ледяная струя воды окатила заслуженного академика с головы до ног. Вдобавок вырвала из его рук доклад, который, по его мнению, мог не слишком понравиться иностранным специалистам. Скрепка отвалилась, листы рассыпались, полетели на пол, в момент превратившись в мокрые лохмотья.
Петр Семенович крепенько выругался, что было для него, человека в высшей степени интеллигентного, совершенно не характерно. Он попытался ладошкой заткнуть дыру. Но скоро ладошку пришлось отнять: не стоять же так вечно? Петр Семенович догадался вставить в дыру скрученную тряпку, и поначалу добился определенного эффекта. Только тряпку выбило: слишком уж силен был напор. Тогда Петр Семенович решил локализовать аварию и закрыл дверь в ванную комнату, но вода начала протекать через щель под дверью. Залило пол в коридоре, в кухне и в прихожей. Ручейки устремились в комнаты.
Между тем пора было отправляться в Кремль. Петр Семенович взглянул на часы и схватился за голову. Извергая страшные проклятья на голову неумехи-слесаря, он бросился в спальню, достал из шкафа резервный костюм, рубашку, галстук и стал переодеваться. А жена металась по квартире. Слесарь, пообещавший мигом закрыть главный вентиль в подвале, куда-то запропастился. Надо ли объяснять, что его так и не дождались?
Жена накручивала телефон ЖЭКа, но там, как на зло, было занято. А вода уже доходила до щиколоток.
Но вот Петр Семенович благополучно переоделся в сравнительно сухую одежду. Разбрызгивая ногами воду, выбежал в прихожую. Сорвал с вешалки пальто и шапку. С докладом или без доклада, главное, поспеть в Кремль! В противном случае его ожидают жуткие неприятности! Петр Семенович дал указание жене держаться и нажал пальцем собачку замка на входной двери. Но тут произошло совсем уж непредвиденное...
То ли Бегемот неудачно защелкнул замок, то ли замок, недавно смененный, был с заводским дефектом, но только собачка не поддалась. Вообразите себе картину: крупный ученый, даже с мировым именем, пытается отпереть дверь, а подлый замок – хоть убейся! В полном отчаянии Петр Семенович принялся изо всех сил рвать на себя дверь. Единственное, что ему удалось, так это вырвать с корнем ручку. Положение стало безвыходным в полном смысле этого слова.
Между тем начало заливать соседей внизу. Они принялись стучать по отопительной трубе чем-то железным. Убедившись в бесполезности такого рода сигнализации, поднялись на лестничную площадку, звонили в звонок, колотили в дверь кулаками. Слышны были их угрозы и жуткие ругательства, даром что дом был населен представителями научной интеллигенции.
В конце концов, кто-то, видно, закрыл главный вентиль в подвале, и поступление воды прекратилось. Что касается входной двери, то двум слесарям из ЖЭКа (настоящим, а не самозванцам) пришлось ее взламывать снаружи ломиком.
Освобождение из плена, который я, имея полное на то основание, могу назвать водяным, пришло слишком поздно. Петр Семенович находился в совершенно растерзанном состоянии. Полулежал в кресле, прикрыв ладошкой глаза, чтобы не видеть, во что превратилась его ухоженная квартира, и громко стонал. Ни о какой поездке в Кремль и речи быть не могло. Была вызвана «неотложка» из Академической поликлиники. Прибывший врач нашел, что у Петра Семеновича резко подскочило давление. Ему был выписан больничный лист, назначены лекарства и рекомендован постельный режим.
В то время, когда невозможно подлый котяра Бегемот еще только приступил к ремонту неисправного крана в квартире академика Лобкова, из подъезда дома вышел не кто иной, как Коровьев. Отдуваясь, он тащил за собой огромный баул, сплошь в молниях, явно иностранного производства. Коровьев подошел к черной «Волге», прибывшей за академиком, чтобы отвезти его в Кремль. Машина стояла с включенным мотором. Шофер читал газету.
Коровьев открыл заднюю дверь, забросил на сиденье баул. Сам уселся рядом с шофёром и небрежно кинул:
– Поехали.
Шофер оторвался от газеты и с немалым удивлением обнаружил рядом с собой непрошенного пассажира.
– В чем дело? – с неудовольствием спросил он.
– Голуба! – воскликнул Коровьев. – Вы же за Петром Семеновичем?
– Ну! – ответил шофер. – А вы при чем?
– Я?– Коровьев приосанился.– Я его ближайший сподвижник и единомышленник. Можно сказать, правая рука. Извольте видеть, спозаранку был поднят с постели и вызван сюда. С Петром Семеновичем приключился страшнейший приступ радикулита. Ему в Кремль на важное совещание, а он, бедняга, разогнуться не в силах. Адская боль! Ах, напасть! – всплеснул руками Коровьев.
– Я не понимаю, вы вместо него, что ли, поедете?
– Именно! Именно! Я только что получил от него самые подробные инструкции.
Шофер с сомнением поглядел на курортную шапочку с надписью «Ялта», на легкое светлое пальтецо.
– А как ваша фамилия хотя бы? – спросил он.
– Коровьев. Консультант и эксперт.
– А почему я вас не знаю? Я всех, вроде, знаю сотрудников Петра Семеновича.
– Коровьев тут же объяснил, что он недавно назначен. Долгое время был за границей. Работал в различных ведомствах. Но вот потянуло на Родину. Вернулся и тотчас определился к академику Лобкову.
Объяснение не рассеяло сомнений. Шофер сказал, что он, пожалуй, поднимется, чтобы получить указание от самого академика.
– Ни в коем случае!– удержал его Коровьев.– Он час назад принял снотворное и забылся сном.
Согласитесь, во всем, что наплел Коровьев, были сплошные неувязки. Если он недавно определился на работу к академику, то как же ему удалось стать «ближайшим сподвижником и единомышленником»? На это уходят годы. Если академик час назад успул, то уж никак он не мог только что выдать «подробнейшие инструкции». И уж конечно прибывшие из-за границы не разгуливают в зимнюю пору в курортных шапчонках и пальтецах на рыбьем меху.
Коровьев нацепил на нос знаменитое пенсне. Оно-то и внесло в шоферскую душу некоторое успокоение. «Черт его знает, – подумал он.– Эти научные работники все чокнутые». А вслух сказал:
– Ну ладно, на вашу ответственность.
Включил скорость, и «Волга» выехала со двора. На Ленинском проспекте развернулась и понеслась по направлению к центру.
Теперь перенесемся на Красную площадь. Устремимся туда, обогнав «Волгу», которая мчит Коровьева в Кремль.
Я надеюсь, нет необходимости в подробном описании главной площади страны. Многим читателям, вне всякого сомнения, доводилось прогуливаться по ее сизой брусчатке, любоваться грандиозным архитектурным ансахмблем, исполненным редкостной красоты и державного величия. Ну, а те, кому не доводилось, наверняка видели Красную площадь в кино или, на худой конец, на фотографиях.
В то утро здесь было предостаточно прогуливающейся публики. И, конечно, иностранцев. Беспрерывно щелкали затворы фотоаппаратов, стрекотали.кино- и видеокамеры. Туристы, а также и деловые люди со всех концов планеты спешили запечатлеть себя на фоне Кремлевских стен и башен, Мавзолея Ленина, Собора Василия Блаженного. От Александровского сада до Мавзолея протянулась очередь желающих поклониться мощам Ильича. А в ворота Спасской башни одна за другой въезжали «Волги», а то и «Чайки», доставляли в Кремль участников совещания.
В какой-то момент поблизости от Исторического музея возникло легкое сгущение публики. Эта аномалия не ускользнула от внимания милиционера, одного из тех, кто был наряжен присматривать за общественным порядком. Он приблизился к скоплению людей, решительно работая локтями, пробился к эпицентру, и вот какую картину он увидел.
Прежде всего черного кота неправдоподобно крупных размеров. К тому же стоящего на задних лапах, причем настолько легко и непринужденно, словно так он приучен был от рождения. Перед ним сидел на корточках некто с бельмом на одном глазу, в доверху застегнутом черном пальто и такой же черной шляпе с короткими полями. Он расстелил на брусчатке махровое полотенце и играл с котом в игру под названием «наперстки». Для непосвященных объясню ее правила. Наперсточник, в данном случае человек в черной одежде, манипулирует тремя колпачками и одним шариком. Подкладывает шарик то под один колпачок, то под другой. Любой, желающий сыграть, ставит на кон деньги и должен отгадать, под каким колпачком, почему-то именуемом «наперстком», в итоге окажется шарик. Угадаешь – получай выигрыш. Не угадал – денежки плакали. Играют в «наперстки» обыкновенно на рынках и на вокзалах.
Кот мало того, что выступал на задних лапах, он еще туго подпоясался широким кожаным поясом с армейской пряжкой. А к поясу прицепил портмоне. Доставал оттуда деньги и ставил на кон. При этом всякий раз оглаживал лапой усы и произносил: «Ва-банк!» Таким образом, он оказался далеко неординарным котом, да еще и говорящим. Тем не менее раз за разом проигрывал, никак не мог угадать, под каким колпачком шарик. Но это его мало смущало. Из портмоне извлекались все новые денежные купюры. Свое неудовольствие, чтобы не сказать досаду при очередном проигрыше он выражал лишь тем, что легонько бил хвостом по брусчатке. Как известно, именно таким образом коты выражают отрицательные эмоции.
Публика обмирала от удивления и восторга. Интуристовская переводчица объясняла по-английски иностранцам нехитрые правила игры. Те тоже рвались принять участие. Доставали из собственных портмоне валюту, а также советские деньги. Но наперсточник в черном производил руками отрицательные жесты, показывал, что играть он согласен с одним только котом.
Милиционер, понаблюдав, пришел в некоторую растерянность. Он знал, что азартные игры у нас повсеместно запрещены. Тем более на Красной площади. С другой стороны, его сильно озадачил необыкновенный кот. Милиционер запросил по рации начальство, чтобы то выдало директиву, как надлежит поступить. Начальство почему-то не слишком удивилось. Единственно спросило, нет ли при наперсточнике с котом плакатов с противоправными и возмутительными лозунгами? Что-нибудь вроде «Долой КПСС»! или же «Свободу народам Прибалтики!» Услышав, что ничего в подобном роде не наблюдается, выдало директиву: игру в наперстки пресечь. Милиционер принял директиву к исполнению.
– А ну, прекратить! – приказал он, обращаясь к наперсточнику.– Нашли тоже место!
– А в чем, собственно, дело? – проворчал, прищурившись, говорящий кот.– Или мы кому мешаем? Если уж на то пошло, можно и госпошлину уплатить.
С этими словами он вытащил из портмоне ни много ни мало пятидесятирублевую бумажку и протянул милиционеру. Тот отшатнулся от «госпошлины», словно это была бомба, побагровел на обе щеки и заорал в полный голос:
– Я кому сказал? Вы что, человеческого языка не понимаете?!
Странновато было, конечно, задавать коту подобный вопрос. Тем не менее наперсточник убрал в карман пальто колпачки и шарик, свернул махровое полотенце и сунул под мышку. Махнул рукой коту: ладно, мол, не связывайся. Оба необыкновенно ловко проскочили сквозь частокол окружавшей публики и исчезли. Публика стала расходиться, обмениваясь свежими впечатлениями.
Через какое-то время человеческий водоворот забурлил снова в непосредственной близости от Мавзолея Ленина. Уже не один милиционер, а несколько кинулись разбираться. И застали все ту же картину: выступавший в роли наперсточника Азазелло играл с черным котом Бегемотом в запрещенную азартную игру. На этот раз кот вел себя просто шутовским образом. Достав из портмоне деньги, он, прежде чем швырнуть их на кон с криком «Ва-банк!», сворачивал купюру в трубочку, прикладывал к глазу и рассматривал через нее публику. В том числе и покинувших очередь в Мавзолей ради необыкновенного зрелища. А также двух солдат, застывших по стойке смирно на знаменитом почетном посту № 1. Те не смели пошевелиться и, скосив глаза, наблюдали за игрой. Они не знали, как поступить. С одной стороны, непосредственной угрозы Ильичевым мощам вроде бы не было, с другой – все-таки непотребство.
Тот милиционер, что уже обладал кое-каким опытом, без всякой дополнительной директивы сделал наглецам «последнее предупреждение», и они точно так же, как и в первый раз, исчезли, растворились в толпе.
А в ворота Спасской башни продолжали влетать лоснящиеся черным лаком машины с участниками исторического совещания. Охрана из офицеров с погонами в голубой окантовке проверяла пропуска на въезд. Но не у всех. Перед иными вытягивалась в струнку, брала под козырек.
И.вот поблизости от Спасской башни снова появились Азазелло с Бегемотом. И снова затеяли азартную игру в наперстки. Милиционер, уже дважды их прогнавший, на этот раз никаких мер и не собирался принимать. Красная площадь была разбита на квадраты. Квадрат возле Спасской башни, как особо важный, находился в ведении не милиции, а подразделения госбезопасности. Милиционер остановился у границы своего участка и стал спокойно наблюдать.
Бегемот еще больше расширил свой репертуар. Выхватывая из портмоне деньги, он приговаривал не только «Ва-банк», но и «Была не была» или «Пропадать, так с музыкой». И все равно безнадежно проигрывал.
Офицеры охраны до того обомлели, что утратили всякую бдительность. И тут со стороны набережной показалась «Волга» с Коровьевым. Он сидел развалившись, словно для него ехать в Кремль обыкновенное дело.
– Я вас здесь высажу, у меня нет пропуска на въезд, – сказал шофер.
– Поезжай, поезжай, – невозмутимо отвечал Коровьев. – Меня тут всякая собака знает.
Опять беспардонное вранье, и опять шофер не отреагировал должным образом. Плохо соображая, что, собственно, происходит, он наддал на газ, и машина влетела в ворота. Охранники, увлеченные зрелищем игры, не сделали никакой попытки ее.задержать. На следующий день все они были подвергнуты строгому допросу и с треском вышиблены со службы без права на пенсию.
Едва «Волга» с Коровьевым въехала в Кремль, Бегемот замкнул портмоне, показал, что наигрался и новых ставок делать не собирается. Несколько раз хлопнул лапой о лапу, как бы вызывая аплодисменты. Хотя таковых не последовало, он по-актерски поклонился на три стороны. Азазелло убрал принадлежности для игры, и парочка наглых прохвостов преспокойно удалилась в направлении Васильевского спуска, где несколькими годами раньше приземлился на своем крошечном самолетике мальчишка-пилот Ру ст из ФРГ.
Глава 8. Приключения господина Вейланда
Помимо цвета отечественной экономической мысли, в эпохальном совещании должен был принять участие специально приглашенный из-за границы, а именно из Германии, известнейший ученый господин Вейланд. Его рекомендовал Президенту Германский канцлер. Он буквально из кожи лез, этот канцлер, так ему хотелось нам помочь. По его словам, господин Вейланд жутко понаторел на вытаскивании из трясины нищеты и разгильдяйства различные страны. Не в одной сотворил экономическое чудо. Теперь же согласился приняться за нас.
Делать нечего. Чтобы не обижать канцлера, пришлось послать приглашение Вейланду.
Накануне вечером он прибыл в Москву рейсом из Франкфурта-на-Майне. Его встретил в Шереметьеве ответственный чиновник МИДа. Вейланд был доставлен в отель «Савой», где ему отвели роскошный трехкомнатный номер. Вообразите, что в гостиной был даже камин, правда, не действующий.
Читатель уже обратил внимание на созвучие фамилий– Вейланд и Воланд. Не исключена путаница? Не торопитесь. Пока же возвратимся к Коровьеву, который с ветерком въехал в ворота Спасской башни.
Машина подрулила к одному из подъездов длинного трехэтажного здания, выкрашенного в желтую краску. Коровьев вылез из машины, достал с заднего сидения баул и жестом отпустил шофера. Тут же к подъезду подкатила еще одна черная «Волга». Из нее вышел, небрежно хлопнув дверью, не кто иной, как... Воланд! Согласитесь, сработано было не слабее, чем в шпионских фильмах.
Воланд был по самый подбородок закутан в длинный черный плащ. Из-под плаща видны были сапоги на высоких каблуках, со шпорами в виде звездочек. На голове берет с петушиным пером. Коровьев тотчас прицепился к Воланду, и оба вошли в подъезд.
– Господин Вейланд? – поинтересовался один из дежуривших там востроглазых молодых людей.
– Он самый! – ответил за Воланда Коровьев.
– А вы кто будете? – спросил бдительный страж.
– Я? – удивился Коровьев. – Я состою при иностранце переводчиком.
– Ваше удостоверение?
– Какое еще удостоверение! – с жаром возмутился Коровьев.– Я тридцать лет на службе в МИДе.
– Mein Dolmetscher1, – подтвердил Воланд и подтолкнул Коровьева. в спину. Дескать давай, проходи, нечего с ним разговаривать.
Востроглазый охранник счел за благо не вступать в спор с иностранцем, и Воланд с Коровьевым беспрепятственно прошли. Но он все же связался по телефону с собственным начальством, доложил о прибытии господина Вейланда, а также и переводчика, при котором не оказалось удостоверения. Начальство подтвердило, что переводчик предусматривался. Но, конечно, это не дело, что при нем не оказалось удостоверения. Эти мидовцы вообще распустились, пора призвать их к порядку.
Реалистичность описанной сценки может вызвать у читателя известные сомнения. Что я могу сказать в собственное оправдание? Если вся страна от мала до велика пребывает в состоянии разгильдяйства и головотяпства, то почему эти, как принято говорить, негативные явления не могут перекинуться на органы безопасности? Кроме того, не забывайте, что востроглазый охранник имел дело с бесами, даже с самым Дьяволом.
Теперь пришел черед возвратиться к подлинному господину Вейланду.
Проснувшись утром, он, как водится у иностранцев, совершил туалет. Затем позвонил в ресторан и заказал завтрак в номер, продиктовал, что принести. В ожидании расхаживал из спальни в гостиную с заходом в кабинет. На Вейланде был махровый купальный халат, надетый после душа на голое тело. Он был гладко выбрит и благоухал одеколоном «Кельнишервассер». Вейланд мурлыкал под нос «Свадебный марш» из оперы «Лоэн- грин». Обычно это означало, что пребывает он в превосходном настроении.
По просьбе своего давнего друга и земляка германского канцлера (оба родом из Мюнхена) Вейланд занялся проблемами нашей экономики. И пришел к выводу, что положение не безнадежно. План, который он привез с собой, во многом сходился с докладом академика Лобкова. Не с окончательным вариантом, а с самым первым. Разумеется, имелись и определенные дополнения. Предусматривалось активное участие международного бизнеса. Авторитет Вейланда должен был послужить надежной гарантией, и деловые люди Запада не замедлят раскошелиться...
В дверь постучали, вошла официантка. Она принесла на подносике легкий европейский завтрак: кофе, сливки, апельсиновый сок, масло, джем и гренки. Официантка оказалась на редкость симпатичной. Короткое фирменное платье, вровень с передником, обнажало стройные ножки. В меру полные, как раз во вкусе Вейланда. В свои пятьдесят семь лет он был полноценным мужчиной и, помимо нежно любимой жены, содержал не одну, а целых две любовницы.
Вейланд залюбовался симпатичной официанткой. А та умело сервировала завтрак на столике в гостиной. Впечатление несколько портил голубоватый шрам у нее на шее. Но чего не бывает в жизни? Каким образом чертовке Гелле удалось наняться официанткой в «Савой» – мне выяснить так и не удалось.
Вейланд присел к столику, налил из кофейника в чашку кофе, добавил сливок. Официантка почему-то не уходила. Вейланд решил, что в русских отелях, наверное, так принято, чтобы официантки оставались в номере в продолжение завтрака – на тот случай, если гостю еще чего-то захочется.
Не успел он поднести ко рту чашку с кофе, как официантка уселась к нему на колени и обвила рукой его шею. «Так вот оно какое, русское гостеприимство! – успел подумать Вейланд. – Жаль, что мне пора в Кремль». И он отвел ее руку.
Но официантка проявила определенную настойчивость. Уже обеими руками ома обхватила затылок Вейланда, притянула к себе его голову и впилась ему в губы таким страстным поцелуем, что у Вейланда перехватило дыхание. Что произошло дальше, он помнил не вполне четко. Официантка приподняла его со стула и поволокла. Но не в спальню, что еще можно было как-то объяснить, а в камин. Неведомая сила подняла Вейланда вверх, и тут уж он полностью перестал воспринимать происходящее.
Люди из очереди в кафе «Сардинка», что напротив «Савоя», видели, как из дымовой трубы на крыше отеля вылетел мужчина в купальном халате, на одну ногу босой, на другой шлепанец. За ним вылетела женщина. Они поднялись на приличную высоту и полетели в направлении универмага «ЦУМ». Этот поразительный факт был также зафиксирован и топтуном-наружником, дежурившим в то утро у отеля «Савой».
Вейланд очнулся в крошечной каморке. Пахло не «Кельнишервассер», а дешевым дезодорантом. Взгляд его поначалу уперся в стену, которая была обклеена фотографиями, вырезанными из порнографических журналов, со сценами плотской любви в различных позициях. У себя в ногах он обнаружил совершенно голую негритянку с огромными обвислыми грудями и всклокоченной прической. Негритянка шлепала его ладошками по щекам и на очень плохом немецком языке требовала денег.
Забегая вперед, скажу, что очутился Вейланд далеко от Москвы, в ганзейском городе Гамбурге. А точнее – в районе «Сан-Паули», на улице Гербертштрассе, которая, как известно, состоит из одних публичных домов.
Никаких денег при Вейланде, естественно, не оказалось. Убедившись, что клиент несостоятелен, негритянка постучала кулачком в стену и громко позвала:
– Вилли!
Явился огромный негр в кожаной куртке с меховым воротником. Коротко объяснившись с негритянкой, уже не на немецком, а на совершенно незнакомом Вейлан- ду языке, он отвесил творцу экономического чуда в различных странах несколько увесистых оплеух, после чего открыл дверь на улицу и вышвырнул его как злостного неплательщика, любителя отведать на халяву женской ласки.
Полиция подобрала Вейланда совершенно замерзшим, в обморочном состоянии. Установить его личность большого труда не составило. Вейланд не в силах был объяснить, каким образом оказался в Гамбурге, когда в то же самое утро он был в Москве в качестве личного гостя Президента. И еще – какая нелегкая понесла его на Гербертштрассе, где добропорядочным и солидным людям появляться не пристало. Вейланд клялся, что пальцем не трогал негритянку и, уж конечно, не вступал в деловые отношения с ее дружком в кожаной куртке. Полицейские чины только посмеивались. Чем занимается на Гербертштрассе эта парочка, было хорошо известно.
Тем не менее в полиции Вейланда снабдили деньгами и одеждой. В тот же день он улетел в родной Мюнхен.
Но на том история не кончилась. Сенсационные сообщения под заголовками «Вейланд наносит визит проститутке», «Из Москвы на Гербертштрассе» выплеснулись на первые страницы газет. Да еще с фотографией: видный экономист, консультант нескольких крупных корпораций, личный друг канцлера, валяется в непотребном виде на улице. А рядом табличка «Гербертштрассе». Эту фотографию сделал один японский турист. Он исключительно в этнографических целях прогуливался в то утро по Гербертштрассе и щелкнул распластанного на тротуаре Вейланда своим безукоризненным «Никконом». И, между прочим, заработал немалые деньги.
Шум поднялся невообразимый. Канцлер, конечно, отмазался. Журналистам, осаждавшим его, он дал такое объяснение. Да, какое-то время он дружил с Вейландом, считал его за порядочного человека. Откуда ему было знать, что тот посещает злачные заведения самого низкого пошиба? Что касается его необъяснимого появления в Гамбурге, то он разговаривал по телефону с Москвой, с самим Президентом. Русские тоже диву даются, как это Вейланд внезапно покинул Москву, даже не попрощавшись.
Короче, канцлеру эта история что слону дробина. А вот супруга Вейланда, женщина в высшей степени добропорядочная, затеяла дело о разводе и одновременно заявила права на большую часть состояния, на недвижимость и счета в банках. Обе вейландовы любовницы, объединившись, стали давать интервью, причем с массой пикантных подробностей. Репутация Вейланда полетела к черту. Фирмы, которые он консультировал, дружно отказались от его услуг. Даже само упоминание о том, что Вейланд причастен к их деятельности, сулило теперь одни убытки. Так бесславно закончилась карьера одного из самых выдающихся представителей мировой экономической мысли. По слухам, Вейланд нашел пристанище в каком-то арабском эмирате, где консультирует местного эмира. А тот в благодарность якобы предоставил ему право пользоваться своим гаремом. Лично я в последнее слабо верю. Был бы Вейланд мусульманином, тогда другое дело. А так даже самые прогрессивные эмиры или шейхи ни за что не станут делиться с неверным собственными женщинами.
До конца дней своих Вейланд на чем свет стоит ругал коварных русских. Он искренно хотел им помочь, а они сыграли с ним злую шутку. Убоявшись его радикальных предложений, пошли на прямую провокацию. Сначала подсунули ему соблазнительницу-официантку (вне всякого сомнения агента КГБ). Она с помощью каких-то снадобий привела его в сомнамбулическое состояние, после чего он был посажен в сверхзвуковой истребитель и доставлен в Гамбург. А чтобы окончательно скомпрометировать, его швырнули в объятия проститутки негритянского происхождения, которая также агент КГБ. Не говоря уже о негре в кожаной куртке. Вот какая сложилась у Вейланда версия.
Но мы-то с вами знаем, что КГБ тут ни при чем...
А тем временем, то есть после того, как Вейланд в сопровождении Геллы вылетел из трубы на крыше «Савоя», из подъезда отеля вышел высокий господин и направился к припаркованной «Волге». Он уселся на заднее сидение и тоном, не терпящим возражений, приказал:
– В Кремль!
Это был Воланд. А сел он в машину, присланную за беднягой Вейландом.
Шофер попытался объяснить знаками, что надо бы дождаться переводчика. Отряженный из МИДа переводчик приехал в той же машине. Он обратил внимание на толпу на перекрестке Рождественки и Пушечной и, будучи человеком чрезвычайно любознательным, помчался выяснять, в чем дело, что такое стряслось. Стоял среди тыкавших пальцами в небо людей и слушал рассказы о том, как только что над Москвой мужчина и женщина летали без всяких летательных аппаратов, а мужчина почти нагишом. Переводчик настолько был поражен услышанным, что у него начисто вылетело из головы, зачем он сюда приехал и в чем его служебные функции.
– Я опаздываю, – с некоторым раздражением произнес Воланд.
Шофёр удивился, что иностранец неожиданно заговорил по-русски. Вчера, по дороге из Шереметьева, он объяснялся исключительно через переводчика. Да и внешность его как-будто изменилась. Этих иностранцев без поллитра не поймешь. Шофер послушно включил мотор, и черная «Волга» с пропуском в Кремль на лобовом стекле выехала на проспект Маркса, которому вот-вот должны были вернуть историческое название Охотный ряд.
Такова предыстория появления в Кремле Воланда.
Несколько любопытных фактов, так сказать, постскриптум.
Когда во второй половине дня хватились Вейланда, с Лубянки пришли обследовать его номер в «Савое». На дверной ручке снаружи висела табличка «Not to disturb»2. А внутри ни тебе вещей, ни чемоданов, ни одежды, даже бритвенного прибора. На столике в гостиной – нетронутый завтрак. .
Замечу, что оба свои чемодана Вейланд обнаружил на своей мюнхенской квартире. Все вещи были целехоньки, аккуратно уложены, всё за исключением домашних шлепанцев. Каким образом чемоданы оказались в Мюнхене, ей-Богу, не знаю. Могу лишь повторить реплику Бегемота из «Мастера и Маргариты»: «Нам чужого не надо».
Портье показал, что гость из 408-го номера покинул отель утром налегке, без чемоданов. Дал показания и метрдотель ресторана. Из означенного номера позвонили в половине девятого и заказали завтрак. Когда же официантка Толстопятова явилась туда с завтраком, номер оказался заперт, на ручке двери висела известная табличка.
Портье, метрдотель и официантка Толстопятова, все трое, числились в «добровольных помощниках», и их показания вроде бы не подлежали сомнению. Но как прикажете понимать завтрак, накрытый в номере? Если официантка Толстопятова туда его не приносила, то как он там оказался? Трудно предположить, что господин Вейланд соорудил себе завтрак из привезенных с собой продуктов. Так поступают одни лишь наши соотечественники, оказавшись за границей, дабы сберечь драгоценную валюту.
Метрдотеля, как две капли воды похожего на французского киноактера Алена Делона, и смазливую бабенку Толстопятову подвергли перекрестному допросу. Попутно выяснилось, что Толстопятова сожительствует с метрдотелем, но ничего больше от них не добились. Тем не менее в профилактических целях они были исключены из «добровольных помощников» и, как следствие, уволены из «Савоя», что нанесло непоправимый ущерб их материальному благополучию.
В номере обнаружили еще одну улику – шлепанецв камине. Он соскочил с ноги у Вейланда, когда тот возносился вверх по дымоходу. С Петровки была затребована собака, непревзойденный Мухтар. Проводник дал Мухтару понюхать шлепанец, чтобы собака взяла след. Но Мухтар почему-то не бросился к двери, а забрался в камин. С лаем царапал кирпичную кладку, пытался вскарабкаться в дымоход.
Возникло подозрение: уж не проникли ли в номер преступники и не шлепнули ли они Вейланда? А что, собственно? Немца пришили, труп запихнули в дымоход, а вещички поперли. Логично.
Отыскали двух отчаянных альпинистов, мастеров спорта. Они спустились на веревке в дымоход через трубу на крыше «Савоя», обследовали каждый сантиметр, но никакого трупа не обнаружили.
Тогда попробовали связать найденный шлепанец с донесением топтуна-наружника о том, что из той же трубы вылетели «два живых объекта» (подлинный текст донесения, от которого поначалу отмахнулись). И, согласитесь, были близки к разгадке. Но тут пришло сообщение о том, что Вейланд жив-здоров, находится в родном своем Мюнхене и никакнх имущественных претензий к нашей стране не имеет. На этом следствие благополучно завершилось.
И последнее. Если вы припоминаете, Вейланда нашли на Гербертштрассе босым на обе ноги. Второй шлепанец соскочил у него, когда он подлетал к Смоленску. Они с чертовкой Геллой попали в воздушную яму, и их здорово тряхнуло. Шлепанец упал на опушке леса. И надо же так случиться, что там как раз прогуливался член Смоленского общества уфологов, пенсионер Перегородский. А заодно наблюдал, не появился ли в небе какой неопознанный летающий объект. Перегородский приложил к глазам полевой бинокль, с которым никогда не расставался, поисследовал небо и обнаружил там целых два неопознанных объекта. Через несколько секунд они скрылись из вида. Перегородский поднял шлепанец и принялся его исследовать. На первый взгляд, шлепанец был земного происхождения. Но ведь так просто, за здорово живешь, с неба не падает обувь? На очередном заседании своего Общества Перегородский сделал доклад об этом удивительном случае. На ту же тему появилась и заметка в местной молодежной газете. Шлепанец был расценен как вещественное доказательство существования НЛО, которые в последнее время зачастили к нам в страну и в Смоленскую область, в частности...
Ну, а теперь – в Кремль!
Глава 9. Шабаш в Кремле
Не без душевного трепета приступаю я к описанию событий, последовавших за проникновением Воланда и Коровьева в Кремль. Предвижу и обвинения в очернительстве, а сверх того и злопыхательстве. И сразу на них отвечу.
Нельзя очернить то, что и без того черным-черно. Эдак можно бросить упрек и самому Данте. Дескать, в невозможно все-таки мрачных красках описал он Ад. На самом деле там, может, и не все так уж ужасно. Наверняка есть хотя бы минимальный комфорт. Что касается обитателей Ада, то зачем же, утратив всякую объективность, выпячивать одни лишь их недостатки? Нет, уважаемые! Гениальный флорентиец отлично представлял себе и Ад, и всех его обитателей. И покуда не грянул Страшный суд, судил их своим собственным.
Ну а злопыхательством впору заниматься, отъехав, скажем, в какой-нибудь живописный баварский городок. В уютной бирштубе за бокалом прохладного пива. Или же в наемной мансарде на бульваре Клиши в Париже. Или вообще по ту сторону океана, прогуливаясь среди раскидистых дубов и вязов в университетском парке. Да мало ли еще где?
Автор же сочиняет свой роман у себя на Родине и полной чашей хлебает вместе со своим народом лишения и напасти, которые валятся без перерыва вот уже семьдесят с лишком лет. Тут уж не до злопыхательства. Однако к делу!
Утром за завтраком Президент напомнил супруге, что сегодня ему предстоит участвовать в исключительно важном мероприятии. Он имел в виду экономическое совещание. Всю свою жизнь, и еще на дальних подходах к президенству, в основном он только тем и занимался, что участвовал в каких-нибудь мероприятиях. В партийных и комсомольских съездах и пленумах, в конференциях новаторов и рационализаторов, в слетах передовиков машинного доения коров, всего не упомнить.
– Я уверена, что ты, как всегда, выступишь с блеском, – сказала супруга Президента.
Будем надеяться, – ответил Президент.
Открытие совещания несколько задерживалось. Его участники уже собрались в зале, примыкающем к кабинету Президента. Сидели за сияющими полировкой столами, составленными буквой «П». Там, где поперечина буквы, там, как водится, президиум. За ним непременный бюст Ильича. На стене картина: тот же Ильич доходчиво объясняет пролетариату большевистскую стратегию и тактику. В промежутке между столами выставили напольные вазы с розами, хризантемами и белоснежными каннами. Это создавало приподнятую, праздничную атмосферу.
Кое-кого из участников совещания мне придется хотя бы бегло описать. Начну с демократического крыла. Хоть и милы мне многие демократы, но уж не обессудьте, родненькие, если что-то не слишком вам понравится.
Был от них доктор наук Мухин, толстый человек в очках со множеством диоптрий. Он первый протрубил в прессе, что наша экономика катится под гору, чем и прославился. Мухин предложил хитроумные спасительные рецепты. Например, выпускать на совершенно.западный манер акции и облигации. Население обязано было повсеместно их покупать. Загадкой оставалось, на какие шиши.
Рядом с Мухиным сидел тощенький Петюнин. Лицо его состояло из одних морщин. Петюнин оказался в Москве проездом из Лиссабона в Сингапур. Он беспрерывно разъезжал по белу свету с чтением научных лекций о кошмарах и ужасах, которые в недалеком будущем ожидают наше Отечество. И повсюду не только с успехом, но и за приличные гонорары.
Приглашен был и Дьяков – кругленький, седенький, похожий на невыспавшегося ежика. Коньком Дьякова была карточная система. Он предлагал немедленно ввести карточки на все товары, вплоть до спичек и презервативов. В этой поистине радикальной мере виделся Дьякову путь в светлое будущее.
Чуть было не забыл упомянуть академика Копалина, всегдашнего оппонента Лобкову. Копалин слыл умницей, человеком чести. Одному диву даешься – как он позволил вовлечь себя в президентские игры с экономическими «реформами». Нервное, худое лицо его было мрачным. В ожидании начала совещания он производил какие-то вычисления на карманном калькуляторе.
Перехожу к представительницам прекрасного пола и начну с Вышеславцевой, дамы в возрасте. Ее густо напудренное лицо застыло во всегдашней брезгливой гримасе. Оно как бы вопрошало: «Ну что, доигрались, соколики?».
Добились приглашения и две молодые бабенки с приятными мордашками. Еще недавно никто и понятия не имел, что они, оказывается, экономистки, притом выдающиеся. Больше известны они были своим, мягко сказать, фривольным поведением: бурными романами, скандалами на этой почве, бракоразводными процессами (с обязательным разделом имущества). И вдруг обе стали выступать в печати со статьями по проблемам экономики. Обе нещадно секли правительство за бездарную экономическую политику. То, что они предлагали взамен, также заслуживало порки, но не в переносном, а в самом прямом смысле.
Консерваторы отрядили на совещание главным образом замшелых вузовских профессоров политэкономии социализма, науки, прямо скажем, мифической. Выделялась своею агрессивностью крепко спаянная троица: Мустыгин, Скибало и Жженкин. Они держали наготове конспекты своих речей, рвались в бой с ненавистными демократами, задумавшими спихнуть страну в капиталистическое болото, а, следовательно, оставить их самих без куска хлеба... Всего собралось душ тридцать.
Воланду отвели почетное место. Очередной востроглазый, выступавший в роли распорядителя, указал ему на стул, первый от президиума. Плаща и берета с петушиным пером Воланд снимать не стал. Сидел, прикрывши глаза рукой, упершись подбородком в рукоять трости. Рядом пристроился Коровьев. Уже без пальтеца и без курортной шапочки, в известном своем клетчатом пиджаке. Баул он держал под столом. Был страшно оживлен, беспрерывно крутил головой с нацепленным на нос пенсне, с кем-то из присутствующих раскланивался. Придвинул бутылку боржома, откупорил и опрокинул подряд три стакана.
Помимо востроглазого распорядителя, в зале находился еще с десяток таких же молодых людей в одинаковых пиджаках и галстуках. Один из них исполнял функцию наливалыцика, подносил ораторам на трибуну стаканы с боржомом.
Всеобщее внимание привлек, разумеется, не Коровьев, а Воланд. Все шепотом спрашивали друг у друга: кто он такой? Петюнин авторитетно объяснял, что это знаменитый на весь мир экономист. Только вот запамятовал, как его фамилия и из какой страны.
В зале стоял ровный гул. Участники совещания обменивались свежими новостями. Кто-то припас анекдотец, полоскались сдержанные смешки. Но вот из боковой двери, из той, что поближе к президиуму, появился начальник протокола при Президенте, высокий и худой мужчина с глубоко впаянными глазами. Он окинул ими зал, после чего выровнял стулья за столом президиума и вышел. Гул тотчас стих.
Они вышли гуськом: Президент, Вице-Президент и Премьер-Министр. Все трое улыбались, но на различный манер. Президент – по-детски открытой и даже какой- то наивной улыбкой. «А вот и я, – объявляла та улыбка. – Весь перед вами, как есть. А насчет моих хитростей и разных подвохов, так это враги выдумали».
Вице-Президент начал свое восхождение по государственной лестнице в родимой Комсомолии. Как, впрочем, и Президент. Но на Вице-Президента его развеселое комсомольское прошлое наложило неизгладимый отпечаток. Подобно другим комсомольским вожакам, он привык брать от жизни всё. В молодости считался рубахой-парнем. Был не дурак выпить на халяву, при случае трахнуть боевую соратницу по коммунистическому союзу молодежи. А что, собственно, еще требуется от комсомольского вожака и заводилы?.. Чем конкретно заниматься на своем нынешнем высоком посту, он не имел понятия. Сейчас его не лишенная озорства улыбка как бы говорила: «Ну что, мужики? Дадим сегодня шороху?». Или же: «Веселей надо, мужики! Все у нас будет нормалек!».
О Премьер-Министре разговор особый.
Я же говорил о бедах и напастях, которые беспрерывно валятся на нашу страну. Внезапное назначение премьер-министром этого толстяка в притемненных очках–из их числа. Главное свое предначертание он видел не в повышении благосостояния народа, а в вытягивании из него последних денег. Его плотоядная улыбка как нельзя лучше подошла бы карточному шулеру, когда тот тасует колоду с непременным прищелкиванием и произносит известную прибаутку: деньги были ваши – будут наши. От премьерской улыбки многие непроизвольно полезли в карманы проверить, на месте ли бумажник, и упрятать его поглубже. А еще Премьер-Министр за краткий срок пребывания в должности так поднаторел врать, что этому уже никто не удивлялся. Только печально вздыхали: «Ну, опять врет, собака».
...Отщелкали блицы фотокорреспондентов, отстреко- тали съемочные камеры (материал о совещании должен был вечером выйти в эфир). Начальник протокола махнул рукой, чтобы фотокорреспонденты и телевизионщики выметались, и они послушно повалили к выходу. За ними плотно прикрылись двери, и совещание началось.
Во вступительной речи Президент сказал... Я прошу прощения, но увольте меня от пересказа. Вовсе не потому, что президентская речь так уж была плоха, просто она мало чем отличалась от множества других его речей, которым вам наверняка приходилось внимать, сидя у телевизора, или же читать их в газетах.
Президент проговорил около часа, после чего открыл дискуссию. И – понеслась душа в рай! Полетели клочки по заулочкам! Один за другим, согласно предварительно составленному графику, поднимались на трибуну ораторы. Иные просто демосфены и златоусты. Другие, наоборот, страдали косноязычием. Но все без исключения предлагали способы лечения больной нашей экономики. Демократы – безоглядно смелые, хирургического плана. Консерваторы склонялись к осторожной терапии. Сшибка идей вышла знатной. Только давно замечено: если для излечения тяжелобольного предлагается множество различных способов, значит, пора заказывать гроб и полпорции органа в крематории.
Президент не оставался в стороне от дискуссии. Вице-Президент и Премьер-Министр – те помалкивали, а он прерывал почти каждого оратора репликами примерно такими: «Вы что нам, собственно, предлагаете? Народ нас не поймет» (будто одному ему ведомо, чего хочет народ, а данный оратор прилетел с Марса). Или же: «В философском плане ваше предложение интересно, но требуется проработка».
После одного из выступлений он вспомнил о Лобкове. Оглядел зал и не нашел академика. А ведь Лобкову предстояло высказать истину в последней инстанции, положить предел брожению умов, разнузданному вольнодумству и пустому прожектерству. А уж Президент в заключительном слове присовокупит несколько ценных соображений.
– А где у нас Лобков? – спросил Президент.
Все недоуменно переглянулись. Коровьев тут же внес ясность. Встал и сообщил, что Лобков неожиданно приболел: радикулит. А чтобы никто не засомневался, показал, насколько сильно скрючило академика.
– Как же тогда?..– Президент не скрывал растерянности.
– Да вы не волнуйтесь, – успокоил его Коровьев. – Я его полномочный представитель. Отрядил вместо себя. Вот и доклад. – Он помахал какими-то листочками – Возьму да и прочту. Делов-то!
– А, ну хорошо... То есть плохо, что Лобков заболел, – поправил себя Президент. – Хорошо, что хотя бы вы здесь. А вы, я извиняюсь, кто будете?
– Коровьев назвался, не моргнув глазом, точно так же, как поутру лобковскому шоферу. То есть никаким уже не мидовским переводчиком, а правой рукой академика.
Только тут Президент обратил внимание на соседа Коровьева. В круговерти наиважнейших государственных дел, и даже мирового значения, он начисто забыл о приглашенном немце. Просто из головы вылетело. Сейчас его также заинтересовало необычное одеяние Воланда, в особенности берет с петушиным пером. Он подозвал начальника протокола и тихонько спросил: а это кто, собственно? Начальники протокола для того и существуют, чтобы знать все. Выслушав произнесенное на ухо объяснение, Президент понимающе кивнул и сказал:
– А теперь позвольте от нашего общего имени поприветствовать нашего дорогого гостя, господина Воланда!
И первый захлопал в ладоши. Лучше поздно, чем никогда. А то, что несколько переврал фамилию, так подобное с ним нередко случалось, этому не придавали значения.
Воланд встал и сдержанно поклонился. Произнес несколько слов по-немецки.
– Они что говорят? – взялся переводить Коровьев, указывая на Воланда пальцем. – Они крепко надеются, что ихний приезд в Москву принесет пользу.
– Я не понимаю, вы еще и переводчиком, что ли? – поинтересовался Президент у Коровьева.
– А что тут такого особенного? – отвечал тот. – Вы вон у нас тоже при двух должностях: президентом и генсеком. И никто почему-то не удивляется.
– Ну, тут вы правы, – быстро согласился Президент и тему совместительства развивать дальше не стал.
А про себя подумал: хочешь, не хочешь, а немца завтра придется принять, никуда не денешься. В беседе с ним он деликатно намекнет, чтобы не приставал больше со своими рецептами, поскольку у страны свой путь, ни на что не похожий. Совещание наверняка пройдет успешно, и к моменту приема немца по миру успеет разнестись весть о том, что намечены новые важные вехи на пути развития отечественной экономики.
Совещание покатило дальше, к благополучному, казалось, завершению. Выступило еще несколько ораторов. Объявив очередного, Президент велел подготовиться «товарищу Коровьеву». После чего, пошептавшись с ВицеПрезидентом, неожиданно встал и вышел. Вице-Президент объяснил причину. Оказывается, на этот час еще раньше у Президента был назначен разговор по телефону с Американским президентом. Короче, вышла легкая накладка. Но ничего страшного. Президент пообещал, что переговорит и вернется. А совещание пока поручил вести Вице-Президенту.
Одно скажу – его счастье, что он ушел. Ну просто в рубашке он родился. Но нельзя забывать и о сверхъестественном чутье, которым обладал Президент. Он загодя улавливал любую опасность, грозившую его реноме. Подозреваю, что он по каким-то только ему понятным признакам понял, что совещание, несмотря на благополучное начало, добром не кончится. А телефонный разговор с Американским президентом придумал экспромтом.
И вот наступил момент, когда уже Вице-Президент заглянул в бумажку, где взамен вычеркнутой фамилии «Лобков» был вписан Коровьев и объявил его выступление.
Коровьев вылез на трибуну и водрузил на нее уже известный баул.
– У вас там что, бомба? – сострил Вице-Президент. Он решил показать этим экономистам, что чувства юмора ему не занимать.
– Вы в самую точку попали! – отвечал Коровьев. – Именно бомба. Но – экономическая.
– Тогда взрывайте.
– Ловлю вас на слове! – Коровьев шутливо погрозил Вице-Президенту пальцем. – Потом чур не обижаться, сами напросились.
Он с треском расстегнул молнию на бауле и вытащил из него прямоугольный ящик. А баул швырнул на пол. К тыльной стороне ящика был приделан загрузочный лючок, какие имеются у мясорубок или у ручных кофейных мельниц. На передней стороне, обращенной к публике, была узкая прорезь. А на боковинах – все какие-то рычажки, разноцветные кнопки и тумблеры. Словом, прибор или даже агрегат непонятного назначения.
Раздались недоуменные возгласы. А Коровьев выкинул вперед рукут дескать, погодите, то ли еще будет. И стал разматывать электрический шнур, коим ящик был обмотан. Взял в руки штепсель и присоединил его к розетке, упрятанной за картиной с Ильичем. Откуда ему было известно, что там розетка? Ну черт, да и только!
Над прорезью зажглась зеленая лампочка. Ящик тихо загудел, внутри его что-то ритмично защелкало. Все ждали, что будет дальше. А Коровьев, не торопясь, выпил еще боржому и постучал ногтем по пустому стакану: не худо бы, мол, наполнить. Наливальщик принес дополнительный стакан, Коровьев и его залпом осушил. Утерся салфеткой и лишь тогда начал свое выступление.
– Мне поручено, – провозгласил он своим надтреснутым тенорком, – продемонстрировать в работе агрегат «Уф-уф-I» или «Ускоритель финансовый, универсальный, фирменный, модель первая».
– Минуточку! – прервал его Премьер-Министр .– В программе написано совсем другое. Доклад академика Лобкова называется: «Особенности экономического развития на современном этапе». А вы нам про какой-то агрегат...
– Как хотите, – обиделся Коровьев. – Я вообще могу отчалить. Очень нужно горбатиться.
Подлец рассчитал тонко. В зале поднялся шум. Раздались крики: «Дайте ему говорить!», «Что за деспотизм!», «Хотим про агрегат!»
Вице-Президент решил показать, что он не пешка, а, в соответствии с Конституцией, самый здесь главный. А заодно вставить перышко Премьер-Министру. Он считал его ничтожным выскочкой, поскольку тот в молодые лета не занимал никаких постов в кузнице кадров, Комсомоле.
– Ну что вы, мужики, расходились? – широко улыбаясь, сказал он. – Для жен свою энергию лучше поберегите, для исполнения супружеских обязанностей.
«Супружеские обязанности» были любимым коньком Вице-Президента. Он просто на них зациклился. Принимая какого-нибудь государственного или партийного деятеля, разумеется, мужчину, он всякий раз для завязки беседы интересовался: «стоит» у него или не «стоит». И обязательно прибавлял, что у него самого отлично «стоит», можно справиться у жены.
Вице-Президентская шутка многим пришлась по вкусу. Обратившись к Коровьеву, он сказал:
– Мы вас слушаем.
Премьер-Министр побагровел. Пожал плечами, всем своим видом показал, что снимает с себя всякую ответственность. А Коровьев возвратился на трибуну.
Но речь повел почему-то не об агрегате, а на модную нынче тему о самостоятельности промышленных предприятий.
– Чего не хватает для обретения любым заводом, фабрикой или скорняжьей артелью подлинной и безграничной свободы? – вопросил, подавшись вперед всем телом, Коровьев. И сам себе ответил: –Денег!
Коровьевский диагноз выглядел на первый взгляд странным. Но – последовало разъяснение. Предприятия обыкновенно получают деньги из банков. А там их частенько не хватает: государство не поспевает печатать деньги в требуемом объеме. Из-за этого директора пребывают в постоянной нервотрепке. Куда лучше, если бы каждое предприятие, наряду с выпуском продукции, имело возможность само печатать денежные знаки. Решению этой назревшей проблемы и призван служить агрегат «Уф-уф-I».
Многие после разводили руками – как легко поддел их на крючок Коровьев. Что за дикая идея наладить повсеместно выпуск денег. Ну ересь чистой воды! Затмение на всех нашло, что ли?
– Впрочем, извините, не на всех. Поднялся Копалин, за ним еще двое и направились к выходу.
– Вы куда, мужики? – спросил Вице-Президент. – По малой нужде?
– По большой, – ответил за всех Копалин. – Нам как-то не с руки участвовать в цирковых фокусах.
В зале снова зашумели.
– Вы мне дадите говорить или нет? – рассердился Коровьев. – Просто какая-то невоспитанность.
Присутствующие пристыженно умолкли. Коровьев начал закругляться с преамбулой.
– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Позвольте продемонстрировать агрегат «Уф-уф-I» в действии. Он разработан под руководством академика Лобкова при моем непосредственном участии, а изготовлен кооператорами из Мытищ. О названии кооператива я по понятным причинам умолчу.
Что это за «понятные причины» – об этом никто не успел и подумать. Коровьев достал из баула, брошенного на пол рядом с трибуной, что бы вы думали? – рулончик туалетной бумаги! Призвал «почтеннейшую публику» внимательно следить за каждым его движением. Запихнул рулончик в загрузочный люк, нажал какую-то кнопку на боковине, опустил один из рычажков и застыл с загадочной физиономией в ожидании, скрестивши на груди руки.
Мало кто обратил внимание на то, что иностранный гость поменял свое местонахождение. Все, словно завороженные, следили за манипуляциями Коровьева. А Воланд взял свой стул и уселся рядом с трибуной. Те, кто поймал на себе его тяжелый взгляд, тотчас отводили глаза. Плащ Воланда был по-прежнему плотно запахнут.
Спустя несколько секунд из продолговатой прорези выпорхнула новенькая рублевая бумажка. Вот тут уж по-настоящему исторглись возгласы изумления. А Коровьев подхватил рубль, похрустел им и пустил по рукам. Премьер-Министр встал и подошел к чудесному агрегату. Принялся внимательно его разглядывать. Агрегат с нарастающей скоростью выстреливал рублевки. Коровьев придвинул жестяной подносик, и рублевки ложились в него, складывались в аккуратную стопочку.
– А они настоящие? – осторожно спросил Премьер-Министр у Коровьева.
– Обижаете! – Подхватив очередной рубль, наглый гаер прочитал: – Подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону... Мы вам не какие- нибудь фальшивомонетчики.
– А трешки делать можно? – крикнул кто-то из зала.
– Чего вы мелочитесь? – отвечал Коровьев. – Сказали бы сразу – сотенные.
– Нет, в самом деле? –переспросил Премьер-Министр.
– Только для вас! – Коровьев ухмыльнулся. – Наслышаны, что к сотенным вы питаете особую слабость.
– Он заглянул в лючок, видимо, проверить, не израсходована ли полностью туалетная бумага. Схватился за голову, пробормотал: «Ах, ты батюшки!». Достал из баула новый рулончик и запихнул его в лючок. Затем, завладев рукой Премьер-Министра, принялся нажимать уже не своими, а его пальцами еще какие-то рычажки, кнопки и тумблеры. При этом приговаривал:
– Чтобы уж не заподозрили нас в каком шельмовстве, мы фирма солидная.
Все уловили, как в агрегате поменялся режим. И загудел он посильнее, и пощелкивание внутри стало почаще. И вот, словно нехотя, медленно вылезла из прорези первая сотенная! Коровьев с поклоном поднес ее Премьер-Министру. Тот принялся внимательно ее изучать, проверил на свет водяные знаки. И совершенно спокойно убрал в карман, чем вызвал всеобщее недовольство. Раздались крики: «Дайте и нам поглядеть!», «Мы что, не люди?».
Коровьев внес успокоение. Объяснил, что первую произведенную агрегатом сотенную купюру он вручил главе правительства в качестве памятного сувенира. Выпуск сотенных бумаг будет продолжен, и каждый сможет убедиться, что они не фальшивые.
И действительно, агрегат начал выстреливать новые сотенные. Одну, также с поклоном, Коровьев вручил Вице-Президенту, и тоже в качестве памятного сувенира. Тот поблагодарил, потряс Коровьеву руку и с необузданным весельем крикнул в зал:
– Гульнем теперь! А, мужики?
Остальные купюры Коровьев пустил в публику. Предупредил, чтобы обязательно их вернули, поскольку они у него подотчетные. Но, честно сказать, возвратилось куда меньше, чем было роздано.
Многие повскакали с мест и сгрудились вокруг необыкновенного агрегата, сулившего новый крутой подъем в развитии экономики. Коровьев едва поспевал отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы: сколько стоит агрегат, в какие сроки можно будет наладить массовый выпуск, не предвидится ли трудностей с запчастями? И еще – возможен ли экспорт агрегатов за границу?
Слово «экспорт», видимо, натолкнуло Петюнина на сногсшибательную идею.
– Братцы! – воскликнул он. – Эдак, верно, и валюту можно делать? Вот бы доллары! А рубли – кому они нужны, рубли-то, если честно? Что на них купишь?
Ой, что тут поднялось! Коровьева начали рвать на части. Наперебой спрашивали, нельзя ли на агрегате делать доллары. На худой конец бундесмарки. Или хотя бы испанские песеты, которые какая-никакая, а все ж валюта.
Коровьев отбивался от наседавших на него экономистов. С присущим ему темпераментом убеждал, что под иностранную валюту агрегат не планировался. Никто всерьез не верил. Иные оглаживали Коровьева по плечам, другие без всяких слов хватали за руки и тащили к агрегату: вдруг получится?
Внес свою ленту и Вице-Президент.
– Чего боишься? Мужик ведь! – пристыдил он Коровьева, перейдя почему-то на ты. – Ладно, давай! Шпарь под мою ответственность!
И с лихим заворотцем рубанул рукою воздух, в полной мере оправдывая свое комсомольское прошлое, когда любое решение принималось на лету, а уж после расхлебывались последствия.
А Премьер-Министр, согласный на этот раз и с общим мнением, и с вице-президентским (последнее случалось не часто), высказался насчет богатых возможностей. Если у нас в достатке будет валюты, мы тут же начнем ею торговать на биржах. Полетят к чертовой матери все курсы, разразится мировой финансовый кризис, и вот тут-то мы сможем диктовать свои условия всему миру. Другому бы на его месте помечталось о дополнительной закупке подсолнечного масла или хотя бы суповых концентратов, но Премьер-Министр по образованию был финансист и мыслил исключительно финансовыми категориями.
– А ну разойдись! – абсолютно на милицейский манер закричал Коровьев.
Толпа экономистов отпрянула, и снова стал виден Воланд. Возле него появился невесть откуда взявшийся кот Бегемот. Лицо Воланда выражало равнодушие и скуку. Лишь кончики губ изогнулись в презрительной гримасе.
– Как прикажете, мессир? – уже не таясь, спросил Коровьев.
– Я полагаю, можно пойти им навстречу, – ответил Воланд после небольшой паузы.– Если они так уж истосковались по валюте...
Никто почему-то не удивился ни тому, что иностранный гость владеет русским языком, а «полномочный представитель» академика Лобкова почему-то спрашивает у него позволения, ни странному обращению «мессир».
Но Коровьев, похоже, только и ждал разрешения Воланда.
– А! – воскликнул он с ухарством, никак не меньшим вице-президентского. – Снявши голову, по волосам не плачут!
Он велел всем отойти подальше. А лучше – спрятаться под стол. Производить валюту на агрегате «Уф-уф-I» еще ни разу не пробовали. Придется переключить его на особый, сверхфорсированный режим. От перегрузок он может перегреться и даже взорваться.
Коровьевское предупреждение возымело действие лишь в незначительной степени. Под стол никто лезть не собирался, отошли всего на пару шагов.
– А кот зачем? – нашелся экономист Скибало (напомню: из консерваторов).
– Ась?–переспросил Коровьев, отогнувши ухо.– Где вы увидели кота?
И впрямь, никакого кота уже не было, а находился при Воланде приземистый и круглолицый человек в кожаной тужурке.
– Для кого, может, и кот, а для нас механик из Мытищ, – представил Бегемота Коровьев. – Золотые руки у парня. Вдобавок непьющий.
Они с Бегемотом о чем-то коротко посовещались. Потом забили лючок доверху новой порцией туалетной бумаги и уже в четыре руки принялись манипулировать рычажками, нажимать на кнопки, щелкать тумблерами. Едва успели они отскочить от агрегата в разные стороны, как тот взревел и затрясся от натуги. Замигали разноцветные лампочки. Коровьев замер в ожидании, впившись зубами в кулак, а механик Бегемот нервно вытирал руки ветошью, которую достал из кармана тужурки.
И вот из прорези показался краешек зеленой бумажки. В ней безошибочно угадывалась долларовая купюра, пока не ясно, какого достоинства.
Попугай по кличке Капитан Флинт из «Острова сокровищ» Стивенсона, если вы помните, был обучен кричать: «Пиастры! Пиастры!» А тут раздались ликующие крики: «Доллары! Доллары!» А еще – «Ура! Победа!» Экономисты в едином порыве подались вперед, начисто забыв о личной безопасности, и с замиранием следили за тем, как из прорези вылезает зелененькая банкнота достоинством... ну, каким бы вы думали? В сто долларов!
Мордатый Премьер-Министр (тут надо воздать ему должное) решительно взял в свои руки бразды правления. Громогласно объявил, что история со сторублевками не повторится: он отлично видел, как многие их похватали и не возвратили. Валюта дело нешуточное. Он и прикоснуться к ней никому не позволит. Все до единого доллары будут оприходованы, доставлены в банк и заперты в надежный сейф. С этими словами он подал знак востроглазым, и те выстроились в цепь перед агрегатом.
Послышались возгласы разочарования. Вице-Президент попытался успокоить представителей обоих противоборствующих лагерей.
– Что вы, мужики, долларов, что ли, не видели? – заорал он, покрывая своим хорошо поставленным голосом общий шум и гвалт. – Да у меня их навалом! – И, проговорившись, покраснел.
Оставалось кусать локотки, внутренне проклинать сверхбдительного Премьер-Министра и с досадой и горечью следить, как выпархивают из прорези стодолларовые банкноты, как складываются в стопочку, как каждую стопочку Коровьев потом пересчитывает, обклеивает бандеролькой и вручает с вежливым, хотя и сухим поклоном Премьер-Министру, а тот раскладывает на столе президиума.
Слов нет, хитер был Премьер и предусмотрителен. Но когда имеешь дело с чертями, разве все предусмотришь? В какой-то момент Коровьев с Бегемотом, оба со страдальческими физиономиями, вцепились руками в агрегат, всем своим видом показывали, что из последних сил его удерживают, чтобы не сорвался он с места от жуткой тряски. Лично я подозреваю, что негодяи, наоборот, трясли его и раскачивали. Так или иначе, но передок агрегата задрался кверху. Стодолларовые бумажки уже не складывались в аккуратную стопку, а прямехонько выстреливались в потолок, поверх голов востроглазых охранников. С потолка на участников совещания посыпался дождь из вожделенных «зелененьких».
У Премьер-Министра отвалилась челюсть. Вице-Президент призвал «мужиков» поиметь совесть. Куда там!
Высокорослые и длиннорукие, как и в баскетболе, получили преимущество. Они хватали доллары, так сказать, «на втором этаже». Низкорослые, пытаясь уравнять шансы, подпрыгивали с поднятыми руками. Самые находчивые полезли на столы. Только и слышалось: «Вы зачем мою хватаете... Как вам не стыдно! Экономист называется!». Возникли и легкие стычки. Вышеславцева, снявши с ноги туфлю, била этой туфлей по голове толстого Мухина, приговаривая: «Вот тебе за твои вшивые экономические модели! Вот тебе за акции с облигациями!» Две упомянутые молоденькие экономистки вцепились друг дружке в прически. Петюнин попытался их разнять, и тогда они, объединившись, принялись за него. Хлестали беднягу по щекам, обнаружив немалый опыт в подобных расправах с представителями сильного пола. Сторонники «социалистического выбора» и защитники плановой экономики ни в чем не уступали своим леворадикальным оппонентам. Могучий Скибало, в молодости боксер-разрядник, крушил огромными своими кулачищами направо и налево. Невозможно даже представить, сколько нахватал долларов этот убежденный противник частной собственности.
Какое-то время востроглазые охранники сохраняли спокойствие, продолжая стоять в бесполезной цепи. Но вот один подхватил подлетевшую к нему бумажку, потом другой... Цепь рассыпалась. Востроглазые смешались с экономистами, хладнокровно ловили «зелененькие» и рассовывали их по карманам. Казалось, вот-вот ВицеПрезидент с Премьер-Министром последуют их примеру. Но тут....
«На земле весь род людской чтит один кумир священный!»
Все на мгновение замерли. Бегемот, уже никакой не механик из Мытищ, а снова кот, неподалеку от трибуны накручивал ручку граммофона. А граммофонная труба пела непревзойденным шаляпинским басом куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст».
– Это еще что? – удивился частично пришедший в себя Премьер-Министр.
– Музыкальное оформление, – пробормотал Бегемот, продолжая накручивать ручку. – Концерт по заявкам...
Откуда проказник добыл граммофон и почему граммофон, а не современный проигрыватель?.. Между тем Коровьев с озабоченным видом ощупывал подпрыгивающий агрегат, прильнув ухом к корпусу.
– Ложись! – крикнул он отчаянным голосом.
Все послушно легли на пол. Через мгновение раздался оглушительный взрыв.
Когда присутствующие осторожно раскрыли глаза, когда убедились, что руки-ноги целы и вообще их организмам не нанесено явного ущерба, разве что штукатуркой с потолка легонько присыпало, агрегата «Уф-уф-I» более не существовало. Разлетелся на мелкие кусочки. Коровьев заметался, завопил дурным голосом, что он лицо материально ответственное, ему теперь по гроб жизни не рассчитаться! Бегемот его успокаивал...
– Хватит балаганить! Объявляй следующий номер!
Взоры всех вновь обратились на Воланда.
– Слушаю, мессир! – сменил на веселость недавнее отчаяние Коровьев. И, сцепив руки пониже живота, провозгласил на манер эстрадного конферансье: – А теперь, уважаемые дамы и месье, позвольте предложить вашему вниманию гвоздь нашей обширной программы... Но прежде покорнейше прошу занять свои места, ручки положите на стол, а пальчики сделайте врастопырь для удобства.
Все непостижимым образом повиновались наглому гаеру. Расселись по местам, вытянули перед собой руки с раздвинутыми пальцами. Вице-Президент с Премьер- Министром также. А Коровьев, сорвавшись на козлиный дискант, объявил:
– Заслуженный солист нашего ансамбля, лауреат бессчетных конкурсов кролик Кузя! Оригинальный жанр!
Воланд встал. Только теперь все увидели, какого он огромного роста. Распахнулся черный плащ с огненной подкладкой. С его рук сорвался какой-то комочек, на мгновение промелькнул в воздухе серой искрой и заскакал по столам среди участников экономического совещания. И поочередно впивался, впивался своими острыми резцами в пальцы рук, раздвинутые по наущению Коровьева!
Нет, я не в состоянии представить не то чтобы подробную, но даже мало-мальски связную информацию о том, что произошло. Одно скажу: в считанные секунды Кузя перекусал всех, кто находился в зале, включая обоих представителей высшего руководства. Эффект вышел потрясающий. Покаянные речи вперемежку с истеричными рыданиями (а иные рвали на себе рубашки) слились в единый многоголосый вопль.
А кролик Кузя, исполнив, что от него требовалось, вспрыгнул на трибуну. Он часто-часто дышал, подобно бегуну, который только что закончил дистанцию и установил новый рекорд. Длинные его уши были завалены за спину, глаза светились желтыми огоньками.
Коровьев и Бегемот вооружились портативными диктофонами. Словно заправские репортеры, подсовывали то одному, то другому кающемуся. На следующий день в редакциях нескольких газет обнаружили кассеты. Не успели их поставить для прослушивания – явились «тихие» мальчики и отобрали. Но людская молва сохранила некоторые из покаянных речей.
Вице-Президент, обливаясь слезами, заявил, что не имеет даже приблизительного представления, как управлять страной. Единственное, чему обучен, так это лизоблюдству и подхалимажу. С помощью чего и пролез в верха.
Самое, пожалуй, удивительное, это то, что у Премьер-Министра сохранились остатки совести. Он признался, что политика, которую он проводит, не сулит народу ничего хорошего. Сам же он жулик, каких свет не видывал. Под его крылышком состоят прибыльные кооперативы– засунул туда ближайших родственников и гребет деньги лопатой.
Мухин признался, что его рецепты спасения нашей экономики на поверку ни хрена не стоят, а есть туфта и полосканье мозгов. Раскололся и Петюнин. Оказывается, в штате Иллинойс он присмотрел себе домик и уже внес задаток. В случае чего, есть куда смыться.
А что же консерваторы? Скибало жахнул окровавленным кулаком по столу и объявил, что ни в какой социализм он давно уже не верит. Пока не поздно, надо вводить у нас капитализм, причем принудительно с помощью армейских подразделений.
Сыпались признания и сугубо интимного свойства: в супружеской неверности, а также и в присвоении казенного имущества. Кто-то упер со службы столик под телевизор, кто-то сам телевизор. Правда, не для себя, а для замужней дочки, но какая разница?
Короче, воспоминания о низких и бесчестных поступках, таившиеся в лабиринтах нечистой совести, выплеснулись наружу, прорвались слезливыми покаяниями, и казалось–не будет им конца, не будет предела.
– Всем лечь на пол! – неожиданно раздалась чья- то команда.
Из разных дверей в зал ворвались дюжины две молодчиков в пятнистой форме, с «Калашниковыми» наперевес. Покаянные вопли тут же умолкли. Двое «пятнистых» вывели из зала шатающихся Вице-Президента и Премьера.
– Что это за люди? – спросил Воланд у Коровьева.
– А это нас арестовывать пришли, – беззаботно отвечал тот. Он снял с трибуны кролика Кузю и передал Воланду. Кролик тут же исчез в необъятном плаще.
– Говорил, прихватим примус, теперь выкручивайся, – сокрушенно заметил Бегемот. – Прямо скажем, дело наше швах. Другими словами, труба.
– Руки вверх! – скомандовал усатый командир «пятнистых», обращаясь к Воланду и двум его сподвижникам.
– Мил-человек! – выступил вперед Коровьев. – К чему эти строгости? Я предлагаю вступить в мирные переговоры по урегулированию.
– Ты у меня сейчас договоришься! – прорычал командир и достал из кармана штанов наручники, явно намереваясь арестовать первым наглеца Коровьева.
Но случилось то, чего он никак не мог предвидеть. Наручники сами собой наделись на его собственные руки и защелкнулись на запястьях. «Калашников» полетел на пол, Бегемот тут же его поднял и закричал:
– Лично я живым не сдамся, так и знайте!
С этими словами котяра пустил автоматную очередь. Но не по пятнистым «омоновцам» или кто они там были, а в потолок. Но при этом его угораздило зацепить пулей бюст Ильича, отбить ему нос. А сверх того продырявить в нескольких местах ценнейшую историческую картину. Несколько пуль попало в люстру, на пол, на столы обрушился град хрустальных висюлек. Но на командира «пятнистых» все это не произвело особого впечатления.
– Флягин! Бери пятерку и заходи справа! Куксов с пятеркой заходит слева! Брать живьем! – заорал он, потрясая над головой наручниками.
Только исполнить ту команду не удалось ни Флягину, ни Куксов у.
Бегемот отбросил трофейный «Калашников», отцепил от граммофона трубу, зачем-то подул в нее и ударил узким концом об пол. Тотчас из раструба выбился под потолок мощный столб пламени. В нем бесследно исчез Воланд с Коровьевым и Бегемотом, а также с кроликом Кузей.
Пожар не успел наделать больших бед – огонь быстро удалось потушить. А возможно, он и сам унялся. Да и был ли пожар на самом деле? Лично я категорически утверждать не берусь.
Глава 10. Момент истины
В то время, как все это непотребство только еще разворачивалось, неподалеку от Кремля, на Лубянке, капитан Дрынов разбирался с топтуном-наружником.
С тем самым, которого накануне ночью усыпил коварный Азазелло. Привел его к себе (благо сосед по кабинету выехал на задание) и снимал с него стружку. Топтун- наружник явно выкручивался, нес немыслимую ересь – насчет серебристой кареты, ее пассажира в шляпе... Ну, анекдот, одним словом. И уж совсем не в силах был объяснить, куда подевался выданный ему пистолет.
Вошел Сергей Митрофанович. Некоторое время посидел, послушал, затем подал знак Дрынову, чтобы тот заканчивал с дознанием. Дрынов отпустил топтуна- наружника, велев тому представить объяснительную по всей форме, и присовокупил, что только чистосердечное признание может облегчить его незавидную участь.
– Что будем делать с гадом? – спросил он Сергея Митрофановича, когда они остались вдвоем.
– Сейчас мы с тобой, Алеша, поедем делать обыск у Якушкина.
Дрынов привстал из-за стола с широко раскрытыми глазами. А Сергей Митрофанович набросал план операции. Сообщил, что вытребованный с Петровки следователь с ордером на обыск уже выехал.
– А что предъявим? Обыск по какому поводу? – поинтересовался Дрынов.
– Наркотики, – коротко ответил Сергей Митрофанович. И добавил: – Не худо бы их найти.
– Анашу или кокаин?
– Давай кокаин, чего мелочиться?
Спустя полчаса «Волга» с мотором повышенной мощности, взяв старт на Лубянке, мчалась в Ховрино. Сергей Митрофанович сидел рядом с шофером, на заднем сидении расположились Дрынов и следователь с Петровки по фамилии Мурзин.
У дома Якушкина их встретил очередной топтун-наружник. Он был в разодранном ватнике, маскировался под пролетария. Топтун-наружник доложил, что все спокойно. Мурзин сбегал в ДЭЗ и вернулся с двумя женщинами: бухгалтершей и техником-смотрителем. Им предстояло выступить понятыми.
В дверь, согласно диспозиции, позвонил Мурзин.
– Кто там? – спросил женский голос.
– Милиция.
Отворила молодая женщина, худенькая, невзрачная, с малышом на руках.
– Гражданка Якушкина?
Женщина молча кивнула. Мурзин предъявил ордер на обыск, и все вошли в комнату.
Дрынов с Мурзиным сразу приступили к делу. Двухлетний Мишенька с удивлением наблюдал за тем, как чужие дяди роются в платяном шкафу, снимают с полок книги. Техник-смотритель вызвалась посидеть с ним на кухне и увела. А Сергей Митрофанович решил побеседовать с Леной. Надо ли говорить, насколько сильно была она напугана. Лена нервно теребила руками ворот домашнего халатика, в глазах стояли слезы. Сергей Митрофанович попробовал ее успокоить. Сказал, что ей как раз ничего не грозит, а обыск производится в связи с тем, что в районе орудует шайка торговцев наркотиками. Есть такие данные, что в нее вовлекли ее мужа. Вот какой способ успокоения избрал Сергей Митрофанович.
– Кстати, где он у вас?
– Если б я знала! – И Лена заплакала.
– Ну да, не знает! – встряла бухгалтерша. Лицо у нее было крайне неприятное, губы свернуты в вечной презрительной гримасе. Сергей Митрофанович так на нее посмотрел, что больше она не выступала. Уселась на стул и всем своим видом показывала, что происходящее нисколечко ее не касается.
Наплакавшись, Лена достала из карманчика записку, которую нашла утром под дверью комнаты. Сергей Митрофанович прочитал записку и сказал, что возьмет ее с собой. Не только текст, но и бумага показалась ему подозрительной – цвета слоновой кости, очень плотная, явно не нашего производства, но и не финская. Как знать, может, от этой записки протянется ниточка к какой-нибудь иностранной спецслужбе?
Его размышления прервал вбежавший шофер машины, на которой они приехали. Он наклонился к уху Сергея Митрофановича и шепнул, что в машину только что звонили по телефону: товарищ «сорок шестой» приказывает Сергею Митрофановичу немедленно возвращаться в «контору». «Сорок шестым» был не кто иной, как вальяжный начальник управления.
Сергей Митрофанович подозвал Дрынова. Поручил ему продолжить разговор с Леной, хорошенько ее раскрутить. «Находить» кокаин не стоит, другими словами: отменяется. Только напугаешь ее до смерти и ничего не добьешься. Обыск довести до конца. Искать следы подпольной лаборатории. А также рукопись повести о кусающемся кролике. Дрынов, естественно, спросил: что это еще за кусающийся кролик? О происшествии в зале имени Чайковского он так ничего и не слыхал, но допер, что собственное начальство держит его за чистого болвана. Сергей Митрофанович не стал вдаваться ни в какие объяснения. Сказал, что он спешит, и отбыл.
– Допрыгались! Доигрались! – Этими бессвязными и малопонятными восклицаниями встретил Сергея Митрофановича вальяжный начальник у себя в кабинете. Он форменным образом бесновался, иначе не скажешь. Топал ногами в отличных мокасинах, хватал из стаканчика на столе карандаши и с силой припечатывал к столу, отчего обламывались грифели. В таком состоянии Сергей Митрофанович еще ни разу его не видел. Он выбрал момент, когда вальяжный начальник несколько поутих, и спросил, что такое стряслось.
– Не беспокойтесь, вам объяснят, – загадочно, равно и многозначительно ответил тот. И взглянув на часы, сказал: – Пошли: время!
Они спустились на лифте на первый этаж. Прошли длинный, с несколькими поворотами коридор и вышли еще к одному лифту, который именовался не иначе, как «правительственный». Сергей Митрофанович сообразил, что объяснения он получит едва ли не от самого Председателя Комитета. Душа сразу ушла в пятки.
По дороге вальяжный начальник, несколько успокоившись, рассказал, что утром звонили из МИД’а. К делу, по которому их вызывают, впрямую этот звонок не относится, просто Сергей Митрофанович должен быть в курсе. Получена шифровка от нашего консула в Сиднее: на крохотном островке в Тихом океане открылся наш соотечественник по фамилии Басавлюк. С рыболовецким судном, посетившим тот остров, ему удалось передать записку. Из нее следует, что означенный Басавлюк даже приблизительно не понимает, каким образом он оказался на острове, за много тысяч километров от родной Москвы. Умоляет помочь ему вернуться на Родину. Местные туземцы его не отпускают. Они приняли его за своего туземного бога, который должен даровать им независимость. Басавлюк сообщает, что его личность может удостоверить Сергей Митрофанович.
– Он что, ваш «добровольный помощник?» – спросил вальяжный начальник.
Сергей Митрофанович молча кивнул. Глаза у него сделались размером с блюдце. В этот момент опустился «правительственный» лифт, и они вошли.
У выхода на шестой этаж предъявили удостоверения двум мрачным амбалам в форме. Снова пошли по коридору, устланному пушистой ковровой дорожкой. Перед входом в зал заседаний дежурило еще несколько амбалов, но уже в штатском. Пришлось снова предъявить удостоверения. Сверх того, амбалы ощупали карманы и у Сергея Митрофановича, и у вальяжного начальника тоже. Это уже было что-то новенькое.
В зале за длинным столом сидело человек двадцать пять. Вальяжный начальник прошел в дальний конец, а Сергей Митрофанович пристроился на стуле у дверей. Он оглядел присутствующих и понял, что собралась комитетская элита. В чине полковника, похоже, был он один, остальные – генералы. «Неужели они все собрались для того, чтобы растоптать меня и уничтожить?» – с тревогой подумал Сергей Митрофанович. Ему уже виделась кадровичка с крысиной мордочкой, из сто тринадцатой комнаты, первый стол налево, которая выводит в его служебном деле: «Уволен в связи с уходом на пенсию». Или еще какую запись, похуже.
За этими мрачными мыслями он пропустил момент, когда появился Председатель Комитета. Но если бы даже глядел во все глаза, все равно бы не уловил. Председатель словно отделился от стены в дубовых панелях. Только что его не было, и вот он уже садится, занимает место во главе стола.
За этими мрачными мыслями он пропустил момент, видел Председателя живьем лишь на приличном расстоянии: в президиумах партийных собраний или праздничных вечеров. А сейчас вон он: на вид божий одуванчик, с реденьким седым пушком поверх крошечной, размером с детский кулачок, головки, а повязать бы косынку, то, ей-Богу, получится добренькая старушка, не иначе. Но хорошо было известно, и Сергей Митрофанович был наслышан – хватка у него мертвая, множество тому примеров. Вот тебе и божий одуванчик, и старушка!
Воцарилась напряженная тишина. Председатель начал рассказывать о том, что только что произошло в Кремле. В отличие от вальяжного начальника говорил он сухо и бесстрастно, словно речь шла о вполне рядовом событии. Но не преминул лягнуть Вице-Президента и Премьер-Министра, которые не сделали даже малейшей попытки пресечь наглые выходки преступников, проникших в Кремль, а, наоборот, пошли у них на поводу. В верхних эшелонах власти шла беспрерывная грызня, и Председатель принимал в ней активное участие. Само собой разумеется, что сообщение о кролике, перекусавшем участников экономического совещания, отчего они дружно принялись каяться в грехах, привело присутствующих в изумление и даже в состояние легкого шока. «Вон до чего дело дошло, – подумал Сергей Митрофанович. – Это тебе уже не какой-то там Волосухин». Сознание, что он, пожалуй, здесь единственный, кто может объяснить, откуда взялся кусающийся кролик, вселило бодрость. Как знать, если умно себя повести, то кадро- вичке из сто тринадцатой комнаты, первый стол от двери налево, возможно, придется сделать в его служебном деле совсем другую запись – о производстве в генерал- майоры!..
А Председатель продолжил свое выступление. Он признал, что случившееся есть прямое следствие недоработки Комитета. Чего греха таить? В Москве уже который день творятся труднообъяснимые вещи. Началось с загадочного исчезновения драматурга Шуртяева. Тем же вечером неизвестные злоумышленники доводят до безумного состояния президентского советника Евдакова. Город наводнен непонятными бомжами, провозглашающими лозунги времен военного коммунизма. По Москве беспрепятственно разъезжает более чем странная карета. И наконец кролик кусает в зале имени Чайковского писателя-патриота Волосухина... Какие получены результаты по розыскным мероприятиям? Нулевые. И Председатель выразительно посмотрел на вальяжного начальника управления. Тот мгновенно покраснел, затем порыскал глазами среди присутствующих, отыскал Сергея Митрофановича и погрозил пальцем: мотайте, мол, на ус!
Досталось и генералу, в ведении которого находится охрана Кремля. Ничем другим, кроме как вопиющей халатностью, нельзя объяснить тот факт, что преступники беспрепятственно туда проникли, да еще пронесли кусающегося кролика, а также станок для печатания денег. А уж тот факт, что явный сообщник преступников играл на Красной площади в азартную игру на деньги и не был задержан, вообще не поддается объяснению.
Председатель перешел к выводам. Возмутительный инцидент на экономическом совещании в Кремле сохранить в тайне не удастся, он получит широкую огласку, и последствия могут быть самые негативные. В стране, а в Москве в особенности, и без того неспокойно. А тут еще разнесется весть о том, что в Кремле печатают фальшивые деньги. Последует мощный взрыв возмущения со всеми вытекающими последствиями. Не исключено, что в Москву придется ввести войска, объявить в городе особое положение. Главную задачу чекистов Председатель видит в том, чтобы найти и обезвредить преступную шайку. На этот счет он и хочет посоветоваться.
Просматриваются две версии. Первая – преступники засланы в страну одной из иностранных спецслужб с целью дестабилизировать обстановку в стране. Вторая– преступники доморощенные экстремисты из лагеря демократов. В любом случае они виртуозно владеют приемами массового гипноза. Так, не исключено, что кусающегося кролика вообще не существует... («Ну да, не существует!» – внутренне усмехнулся Сергей Митрофанович). Кролик, равно и деньги, напечатанные на туалетной бумаге, и многое другое, мираж, галлюцинации. К слову сказать, участники экономического совещания, когда пришли в себя от потрясения, обнаружили в карманах никакие не деньги, а обрывки самой обыкновенной туалетной бумаги.
Остановился Председатель и на подозрительной роли немецкого специалиста Вейланда. По всем признакам, он вроде бы главарь шайки, что подкрепляет версию об участии иностранных спецслужб. С другой стороны, такое авторитетное лицо, как Германский канцлер, решительно отрицает даже самую слабую вероятность того, что господин Вейланд мог участвовать в подрывных акциях. В телефонном разговоре с Президентом он ручался за него головой. Так или иначе, а немец бесследно исчез.
Председатель попросил всех высказаться, и начались выступления. Большинство склонялось ко второй версии, к тому, что инцидент в Кремле дело рук доморощенных экстремистов. Ее поддержал и вальяжный начальник Сергея Митрофановича. Он сказал, что на немца валить преждевременно. Под видом него в Кремль мог проникнуть кто угодно (воздадим должное смекалке вальяжного). А вот предыдущий инцидент в зале имени Чайковского говорит сам за себя. Кролик набросился не на кого-нибудь, а на писателя-патриота Волосухина. Отсюда ясно, что следы ведут в лагерь демократов. Хватит с ними чикаться, пора переходить к решительным действиям. «Пересажать, и все тут!» – выкрикнул кто-то. Странно, но тот факт, что кролик перекусал в Кремле и кое-кого из демократов, не был почему-то принят во внимание.
Пришлось выступить и генералу, командовавшему охраной Кремля. Он сказал, что вину за случившееся с себя не снимает и готов понести суровое наказание. Но сообщил, что розыскные мероприятия развернуты по горячим следам. К счастью, главаря шайки Вейланда (или кто он там есть), а также и его переводчика (он же «правая рука академика Лобкова») перед началом совещания сфотографировали фотокорреспонденты и сняли на видеопленку телевизионщики. Если угодно, фотографии злоумышленников можно хоть сейчас продемонстрировать.
Генерал вышел, а выступления продолжались. Когда он вернулся, вид у него был озадаченный. Председатель поинтересовался, где обещанные фотографии, на что генерал, потупившись, ответил, что все негативы загадочным образом оказались засвеченными, а видеопленка и вовсе бракованной.
Прокатился гул возмущения и неудовольствия. Ну, что это в самом-то деле! Но генерал несколько успокоил собравшихся, объявив, что его люди проявили находчивость: на основании опросов очевидцев, тех же участников экономического совещания, составлены фотороботы. Если угодно, они могут быть продемострированы.
Внесли эпидеоскоп, повесили белый экранчик, и на нем одно за другим стали появляться довольно-таки сносные изображения Воланда, Коровьева, а также механика по наладке агрегата для печатания денег. По описаниям милиционеров с Красной площади был составлен фоторобот и на наперсточника Азазелло. А вот на кота признали излишним: кот, он и есть кот.
Сергей Митрофанович смотрел на экран, а в памяти всплывал давешний рассказ Фаины о чертях, наведывавшихся в продмаг на Остоженке. Тогда он показался ему горячечным бредом пьяненькой уборщицы, хоть в чем-то и сходился со сведениями, которые удалось получить капитану Дрынову в 83-ем отделении милиции. Но теперь Сергей Митрофанович узнал! Коровьева – по пенсне на шнурочке, Азазелло – по бельму и клыку, выпиравшему изо рта. Что значит особые приметы!
Переживая долгожданный момент истины, знакомый едва ли не каждому сыщику, Сергей Митрофанович не заметил, что демонстрация фотороботов закончилась и продолжились выступления. Каждый раз Председатель выкидывал ладошку в направлении очередного оратора и приговаривал: «Прошу!». Дошла очередь и до Сергея Митрофановича. Кто-то толкнул его локтем в бок, он встал, одернул пиджак и хриплым от волнения голосом произнес:
– Это нечистая сила! – И указал пальцем на пустой экран.
Позже Сергей Митрофанович даже себе не мог объяснить, как это осенила его потрясающая догадка. Если уж по справедливости, догадка принадлежала не ему, а уборщице Фаине. Но каким образом он, убежденный материалист, окончивший в свое время институт марксизма-ленинизма, повторил слова пьяненькой уборщицы? Непостижимо!
Наступила пауза. Все недоуменно уставились на Сергея Митрофановича. Председатель поправил очки и попробовал уточнить:
– В каком смысле нечистая сила?
В том смысле, что они черти, товарищ Председатель Комитета. Я ручаюсь.
Ой, что тут поднялось! Все заговорили разом, но вразнобой. Одни бурно возмущались поведением Сергея Митрофановича: в такой острейший момент глупые шутки неуместны. Другие утверждали, что Сергей Митрофанович не иначе, как повредился в рассудке: наверное, пьет сверх всякой меры. Стали справляться на этот счет у вальяжного начальника. Тот разводил руками, отвечал, что его подчиненный, конечно, выпивает, но в меру, как все. Председатель постучал костяшками пальцев по столу и восстановил тишину.
– У вас что, на этот счет имеются доказательства? – спросил он вполне серьезно.
– Так точно! Имеются.
– Тогда, пожалуйста, изложите, а мы послушаем.
Сергей Митрофанович мгновенно оценил обстановку и ответил, что доказательства он представит товарищу Председателю лично. Тот понимающе кивнул и стал сворачивать совещание. Быстренько раздал поручения своим заместителям и начальникам управлений – кому представить план розыскных мероприятий, кому усилить слежку за демократами, кому организовать взаимодействие с воинскими подразделениями, когда те войдут в город. Вальяжному начальнику Сергея Митрофановича велел издать секретный циркуляр и разослать во все государственные и партийные учреждения. Весь персонал от мала до велика обязан отныне пребывать на службе, а желательно, и дома, не иначе, как в кожаных перчатках. Галлюцинация кролик или нет, но кусается он, как установлено, исключительно за пальцы. Эксперты, к которым Председатель успел обратиться, единодушно высказались за кожаные перчатки как единственную пока разумную меру предосторожности.
– На сегодня все, – заключил он.
Участники совещания потянулись к выходу. Каждый задерживал взгляд на стоявшем столбом Сергее Митрофановиче. Кто удивленный – откуда, мол, вылупился этот непонятный полковник? Иные взирали на него с открытой враждебностью: ничего, дескать, мы с тобой, с беспардонным выскочкой и сукою, еще поквитаемся. Вальяжный начальник потоптался у двери, рассчитывая, наверное, что его также пригласят, но приглашения не последовало.
Председатель Комитета жестом показал, чтобы Сергей Митрофанович прошел к нему в кабинет. И уж там Сергей Митрофанович рассказал без всякой утайки все, что было ему известно о загадочных событиях последнего времени, нанизанных одно на другое, словно кусочки мяса на шампур. От них, несомненно, ведет ниточка и в Кремль. И ничем другим, кроме как вмешательством нечистой силы, их не объяснишь.
Председатель слушал внешне бесстрастно, вопросов не задавал. Когда Сергей Митрофанович закончил рассказ, он снял трубку белого телефона, на диске которого был государственный герб, и тихо произнес:
– Я сейчас подъеду, надо посоветоваться.
Он поблагодарил Сергея Митрофановича за ценную информацию. Попросил: никому ни слова. А еще велел ему, как он выразился, постоянно быть в пределах досягаемости, он может понадобиться в любую минуту.
Глава 11. Приглашение к танцам
Почти весь день, а это было уже тридцатое декабря, Валерия и Якушкин провели в постели. Валерия позвонила в театр и отменила репетицию. На вопрос секретарши, когда ее ждать, – поминутно звонят, заходят, интересуются, – Валерия весело послала секретаршу к черту. «Ты обалденный мужик! – говорила она Якушкину. – В жизни со мной никто подобного не вытворял. Ты изверг, ты садист. Ты всю меня истерзал, измучил...» И снова сжимала его в объятиях.
А что же Якушкин? Он пребывал в восхитительном и сладостном тумане. Прежде особых мужских доблестей он за собою не знал. Его отношения с Леной? Ну что тут можно сказать? Лена была первой и единственной женщиной, которая отдалась ему. Это произошло за несколько дней перед тем, как они расписались. Как и большинство советских людей, оба они имели о сексе достаточно смутное представление. За Лену окончательно судить не берусь, а Якушкину, если и случалось размышлять на эту тему, то как о чем-то постыдном, но, увы, физиологически необходимом. Оттого и герои его произведений выглядели бесполыми фантомами.
После рождения Мишеньки их любовный пыл почти и вовсе сошел на нет. Лена за день сильно уставала, а Якушкина сжигала совсем иная страсть – сочинительство. Их бесхитростный и торопливый секс, раз в неделю или даже реже, впору обозначить «исполнением супружеских обязанностей», как тактично выражались классики в минувшем столетии.
И вдруг необъяснимый взрыв страсти! «Пиршество плоти», как не преминули бы выразиться те же классики. Уж не Коровьев или даже сам Воланд превратил Якушкина в «обалденного мужика»? Чего не знаю, того не знаю.
Лайма Карловна восприняла появление в квартире очередного мужчины достаточно спокойно. В один из антрактов Валерия накинула халат, вышла и попросила у нее чего-нибудь поесть. Лайма Карловна не заставила себя долго ждать. Спустя несколько минут она вкатила в спальню сервировочный столик на колесиках. Яства, может, и уступали тем, которыми Коровьев с Геллой потчевали Якушкина в карете, но еда была доброкачественной, вкусной и обильной. Явилось и шампанское из холодильника.
С аппетитом уплетая бутерброд с печеночным паштетом, Валерия принялась строить планы на будущее.
– Ты напишешь пьесу, а я поставлю, – объявила она. – Обкатаем спектакль здесь, а там повезем за границу. Меня везде примут, только свистни.
Якушкин признался, что пьес он до сих пор не писал. Банкетов взялся протолкнуть в театр его повесть. В случае, если клюнет, обещал связать с опытным перелицовщиком. Но повести «Похороны охотника» более не существует: он в присутствии Воланда сжег все экземпляры в обмен на материализацию кролика Кузи.
– Ты совершил подвиг! – воскликнула Валерия. – Кто еще способен на такое?
Теперь же, по ее глубокому убеждению, Якушкину не остается ничего другого, как сочинить новое произведение. Не повесть и не роман, а пьесу. Никаких перелицовщиков! Она этих паразитов знать не желает! Якушкину удалось вставить словечко, сказать, что дело стало за малым – он не представляет, как пишутся пьесы, нет опыта.
– Но это же очень просто! – простонала Валерия. – Слева пишешь имя своего героя, справа то, что он говорит...
Текст, который сочинит Якушкин, такого уж большого значения не имеет, на репетициях его все равно переиначат. Другое дело – сюжет. Но и тут нечего долго ломать голову: сюжет сам плывет в руки. Новая пьеса будет о том, как их с Якушкиным соединил Дьявол. То есть не их буквально, а двух одиноких и несчастных в своем одиночестве людей. Они живут скучной и безрадостной жизнью. И вдруг является Дьявол. Но не злой, а очень добрый. Он их соединяет, и они моментально влюбляются друг в друга. Короче, новый вариант «Фауста», но со счастливым концом. Валерия разлила шампанское и предложила выпить за их будущий спектакль. Ледяное шампанское не охладило ее пыл, а еще сильней раззадорило. От грандиозных перспектив просто дух захватывало. Благодаря зарубежным гастролям Якушкин приобретет мировую известность. Следующую пьесу ему закажет знаменитый парижский театр «Буфф дю Нор». Или же миланский «Пикколо-театр». Не исключено, что его пожелают заполучить и на Бродвее. В любом случае ставить спектакли пригласят ее. Все это будет как нельзя кстати, из страны давно пора мотать: жизнь становится все ужаснее и скоро вообще станет невыносимой.
Ошеломленный Якушкин начал было прикидывать сюжет, выстраивать композицию. Взгляд его сделался отсутствующим. Возможно, это и вызвало у Валерии новый прилив любовной страсти. Или же она встревожилась тем обстоятельством, что Якушкин, погрузившись в задумчивость, утратил к ней интерес. Так или иначе, но она набросилась на него и повалила в постель. Упал на пол и разбился выроненный Якушкиным бокал. «К счастью! К счастью!» – восклицала Валерия, покрывая поцелуями лицо возлюбленного. И Якушкину стало уже не до сюжетов и не до композиций...
И вот наступил последний день Старого года. В полдень Валерия умчалась в свой театр. Оттуда без конца звонили, все не на шутку обеспокоены, по какой причине она не объявляется. Перед отбытием Валерия отвела Якушкина в смежный со спальней кабинет, усадила за письменный стол и велела, не мешкая, приниматься за пьесу.
Облаченный в махровый купальный халат Валерии Якушкин взял шариковую ручку, покусал ее кончик. В голове у него царил совершеннейший сумбур, слова не шли на ум. Он принялся покрывать бумагу изображениями Воланда и членов его свиты, включая кота Бегемота.
За этим занятием застала его возвратившаяся домой Валерия. Спросила, как ему работалось. Якушкин, покраснев, быстро убрал в карман изрисованные листы и признался, что он пока еще только на подступах к будущему произведению.
Обедали в столовой. Лайма Карловна подала на стол и деликатно оставила их одних. За обедом они вспомнили о приглашении на бал к Воланду. Приглашение имело место, но как им воспользоваться? Где состоится бал?
Якушкин сказал, что следует ждать сигнала или знака, на что Валерия мудро заметила: не дождутся – тоже не беда: встретят Новый год дома вдвоем. Можно податься и к ней в театр, там тоже встречают. Или в один из «творческих» домов, в тот же Дом литераторов. Нечего попусту ломать голову, возможности неограниченные.
После обеда легли соснуть. Утомленный бурной сексуальной жизнью, Якушкин мгновенно уснул. Уснула и Валерия, обняв за шею возлюбленного...
Оба проснулись одновременно от странного писка. Якушкин сел на постели, протер глаза. На подзеркальнике, отражаясь в притемненном зеркале, копошились человечки размером в карандаш. Крохотные мужчины в кафтанчиках и завитых паричках и столь же крохотные дамы в кринолинах успели открыть шкатулку, где Валерия держала свои драгоценности. Кто вытаскивал бусы, кто браслеты или кулоны на цепочках. Две микроскопические дамы едва не подрались из-за бриллиантовой серьги, каждая тянула изо всех сил серьгу на себя и тонюсеньким голосом заявляла о своих правах на драгоценность.
– Это Коровьев, его номера, – шепнул Якушкин на ухо не на шутку встревожившейся Валерии.
И действительно, в зеркале возникло отражение Коровьева. На этот раз он был во фраке и в цилиндре. Коровьев снял с головы цилиндр и, подойдя к зеркалу, произвел им кругообразное движение. В тот же миг крошечные человечки оставили драгоценности и начали прыгать в цилиндр. Когда запрыгнул последний, Коровьев, словно фокусник, продемонстрировал пустой цилиндр. А вываленные драгоценности запихнул назад в шкатулку. Он объяснил, что не его это «номера», а проказника Бегемота. Тот оставил свои честолюбивые устремления по части музыкальных конкурсов и возомнил теперь себя великим изобретателем. Изобрел, в частности, микропутов, очень ими гордится и повсюду рассовывает.
Коровьев был учтив, но и озабочен. Он не отказался от бокала шампанского. Потягивая вино мелкими глотками, сказал, что замучился с подготовкой бала. Взять хотя бы проблему, как Валерии и Якушкину проникнуть в помещение, избранное мессиром для праздника. Задачка посложнее, чем ограбление госбанка. Подъезд охраняется вооруженными солдатами из отборных частей. Как мимо них проскочишь? Загробным жителям, а из них состоит большая часть приглашенных гостей, это проще простого: они бесплотны и неосязаемы. Но как быть с живыми людьми?..
Измерив на глазок оставшееся в бокале шампанское, Коровьев небрежно заметил, что проще всего было бы приостановить, как он выразился, земное существование Валерии и Якушкина. Яд он постоянно держит при себе. Подсыпать его хотя бы в шампанское не проблема. Но он же не злодей и не изверг? Пришлось изрядно потрудиться, но способ найден: Якушкин и его возлюбленная (он не сказал – любовница) будут на балу в качестве живых людей!
Коровьев допил шампанское, встал, надел цилиндр, хлопнул ладошкой по донышку, объяснил, что ему пора. Он надеется, что бал удастся на славу. Вина будут литься рекой, запасы неограниченны, танцы до упаду, ангажированы сразу несколько оркестров. Предусмотрены различные аттракционы, лотереи и викторины. Словом, развлечения на любой вкус.
Он уже откланивался, но Якушкин нашелся и спросил, куда, собственно, надлежит им явиться. Коровьев, подражая Воланду, стал клясть жуткую свою забывчивость. Достал из бокового кармана две карточки. Одну церемонно вручил Валерии, другую Якушкину. Вот что было на карточках напечатано затейливым шрифтом:
«ИМЕЮ ЧЕСТЬ ПРИГЛАСИТЬ ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО НА БАЛ ТИРАНОВ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. СЪЕЗД ГОСТЕЙ В 23 ЧАСА 55 МИНУТ. МУЖЧИН ПОКОРНЕЙШЕ ПРОСЯТ БЫТЬ ВО ФРАКАХ ИЛИ В СМОКИНГАХ, ЖЕНЩИН В ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЯХ».
Якушкин хотел спросить, что это за безопасный способ проникновения в Мавзолей и что означает «Бал тиранов». Почему – «тиранов»? Он оторвался от пригласительного билета, но Коровьева уже и след простыл.
Валерию больше занимала проблема, какое на бал к Сатане надеть платье. Она открыла шкаф и стала примеривать одно за другим. Спрашивала мнение Якушкина. Остановились на платье из черных кружев с глубоким декольте.
Между тем было уже начало одиннадцатого. Якушкин пошел принимать душ. Затем ванную оккупировала Валерия. Якушкин переоделся в смокинг и прочие принадлежности мужского туалета, которые вручила ему в карете чертовка Гелла. Валерия долго не выходила из ванной, но наконец вышла. Вид у нее действительно был шикарный. На обнаженные плечи она накинула норковый палантин, не забыла надеть и драгоценности.
– Знаешь, о чем я сейчас думала? – сказала она, осторожно ласкаясь к Якушкину, чтобы не повредить макияжу. – Я думала о словах Коровьева...– И пояснила: – Он же поначалу собирался дать нам яду. Может, в этом и заключалась бы высшая мудрость? Погибнуть вместе, когда нам с тобой так хорошо, как никогда не будет.
Впервые Якушкина кольнуло мрачное предчувствие. Но его удалось прогнать прочь. Он поспешил успокоить Валерию: Коровьев известный враль, к его словам нельзя относиться серьезно... Валерия молча отстранилась.
Они вышли из подъезда в половине двенадцатого и направились к «вольво», брошенному чуть поодаль. И тут перед ними затормозило такси. В распахнувшейся двери видна была улыбающаяся физиономия Азазелло. Он приглашал садиться.
Едва сели, Азазелло объяснил Валерии, что ее «вольво» слишком хорошо известен московским гаишникам.
– И не им одним, – добавил он многозначительно.
Такси вырулило на Тверскую и понеслось в направлении Манежа. Азазелло объехал вокруг Манежной площади и подкатил к Историческому музею. Здесь он высадил своих пассажиров, извинившись, что не сможет их дальше сопровождать, поскольку у него совершенно неотложное дельце в Цирке на Цветном бульваре. Присоветовал держаться Никольской башни и – умчался.
Вновь сюжет моего повествования привел на Красную площадь. Сейчас здесь было пустынно. Маячило несколько милиционеров, да еще слонялись неприкаянные топтуны-наружники. Валерия поинтересовалась, какая из Кремлевских башен Никольская. Якушкин указал на ближнюю к Историческому музею, и они подошли к ней. Время спешило к полуночи.
Без пяти минут двенадцать со стороны Никольской улицы, именуемой также улицей Двадцать пятого октября, послышался шум автомобильного мотора. Показался грузовик. У въезда на Красную площадь он затормозил, и Якушкин разглядел в кузове здоровенную клетку. Оттуда доносился хриплый и грозный рев. Из кабинки выскочил шофер, забежал за грузовик и стал невидим. Через мгновение из клетки на землю выпрыгнули три тигра!
Валерия также все это видела и в испуге прижалась к Якушкину, спрятала лицо у него на груди. Снова появился шофер. По всей видимости, он решил выступить в роли дрессировщика. Простер руку в направлении Мавзолея, и тигры послушно туда рванулись, покрывая расстояние огромными прыжками.
Поначалу часовые, охранявшие самый почетный в стране пост № 1, не дрогнули. Вскинув свои «Калашниковы», они встретили хищников автоматными очередями, но почему-то не нанесли тем никакого вреда. Расстояние между караулом и тиграми сокращалось. В какой-то момент часовые не выдержали и, побросав бесполезное оружие, кинулись бежать к Спасской башне.
Один из милиционеров, дежуривших на площади, крикнул: «Стой! Стрелять буду!». Не поймешь, то ли он адресовался к тиграм, но ли к часовым, самовольно бросившим пост. Нет, все-таки к тиграм, поскольку, опустившись на одно колено, стал вести по ним прицельную стрельбу, держа перед собой пистолет обеими руками. И раз за разом промахивался. А тигры продолжали гнать часовых, пока те не вбежали под арку в воротах Спасской башни. Тогда тигры круто развернулись и стали гоняться за милиционерами я топтунами-наружни- ками. Кто-то кинулся бежать к гостинице «Россия», кто-то припустил по улице Разина.
А что же шофер грузовика? Он не стал дожидаться, когда Красная площадь будет полностью очищена от сотрудников правоохранительных органов, а побежал к Никольской башне. Якушкин продолжал прикрывать Валерию от нападения хищников. В приблизившемся шофере он узнал Азазелло и испытал ни с чем не сравнимое облегчение.
– Скорее! – крикнул ему Азазелло. Он снова указал рукой на Мавзолей, но уже не тиграм, а Якушкину. Тот, повинуясь, схватил за руку Валерию и увлек за собой. Через несколько секунд они уже входили под своды Мавзолея...
Здесь я вынужден прерваться и обратиться к заметке под названием «Выстрелы на Красной площади», напечатанной в «Вечерке» пару дней спустя. Собственно говоря, и до меня самого, помнится, дошли слухи о том, что в Новогоднюю ночь на Красной площади завязалась перестрелка. Версии высказывались самые невероятные, вплоть до вооруженной попытки захватить Кремль. Автор заметки обратился за разъяснениями к военному коменданту Кремля, генерал-лейтенанту Боборыкину И. И. Тот подвердил, что слухи имеют под собой определенную почву. Только ни о каком покушении на Кремль и речи не было. Всё много проще. За несколько минут до наступления Нового года три уссурийских тигра напали на часовых, охранявших Мавзолей. Часовые ответили автоматным огнем, но поразить им хищников не удалось, и караул организованно отступил. «Может возникнуть законный вопрос, – продолжал генерал-лейтенант Боборыкин, – откуда взялись тигры? В результате расследования установлено, что они принадлежат Цирку на Цветном бульваре, и сбежали из грузовика во время транспортировки на станцию Москва – Сортировочная – им предстояло отправиться на гастроли в Йошкар-Олу с бригадой цирковых артистов. Дрессировщик Посошков, сопровождавший тигров в грузовике, проявил вопиющую безответственность, по пути следования покинул грузовик, доверившись шоферу, и спокойненько отправился встречать Новый год якобы к двоюродной сестре. Каким образом грузовик оказался в районе Красной площади, еще предстоит разобраться. Равно и в том, куда во время инцидента подевался шофер и по какой причине клетка оказалась отпертой...» В заключение генерал-лейтенант проинформировал москвичей о том, что вызванная спецгруппа обнаружила тигров уже на Солянке, где они спокойно прогуливались. По ним было произведено несколько выстрелов мелкокалиберными пулями с сильнодействующим снотворным. В сонном состоянии тигров водворили в клетку и благополучно доставили на станцию Москва – Сортировочная...
– Осторожно, ступеньки! – послышался в кромешной тьме приглушенный голос Коровьева. Впереди зажглась крохотная свечечка. Огонек заметался от движения воздуха и стал удаляться, указывая дорогу. Держась за руки, Валерия и Якушкин спустились на несколько ступенек вниз, Азазелло шел сзади. Холодина в Мавзолее была собачья, зуб на зуб не попадал. Сказывался и пережитый только что испуг.
Ступеньки кончились, и они пошли дальше, ориентируясь на огонек коровьевой свечечки. Миновали едва различимый саркофаг – он оказался пустой, прозрачная крышка отброшена. Якушкин этому не слишком удивился: он слыхал, что время от времени останки Ильича куда-то увозят, чтобы несколько их подновить.
Огонек поплыл наверх. Якушкин решил, что им предстоит подняться на трибуну Мавзолея, и начал считать ступеньки, но, дойдя до сотни, сбился со счета. Валерии подъем давался тяжело. «Будет когда-нибудь конец или нет?» – задыхаясь, шепнула она Якушкину. Лестница оказалась еще и с бесчисленными поворотами. Но вот наконец они ступили на ровную площадку. В тот же миг Кремлевские куранты начали отбивать полночь.
– Успели! – с облегчением вымолвил Коровьев и задул свечечку.
Тьма снова стала кромешной. Коровьев повелел Валерии и Якушкину зажмуриться, считать удары и открыть глаза с последним, двенадцатым.
Глава 12. Бал тиранов
Когда в положенный миг они открыли глаза, пришлось тотчас зажмуриться снова: настолько ярок был свет, заливающий огромное пространство. Но скоро они пообвыкли и обнаружили, что над ними голубое, без единого облачка, небо. Веяло летним теплом. Площадка, на которую они поднялись, действительно оказалась трибуной, но не Мавзолея Ленина, а... стадиона, правда, необычного. Внизу безукоризненным эллипсом пролегла беговая дорожка, и даже с разметками, но арена внутри менее всего напоминала футбольное поле. Скорее, кратер вулкана. Окраска ее постоянно менялась – от багровой до светло-сиреневой. Поверхность, не вся целиком, а отдельными участками, то вздымалась, то опускалась, по ней пробегали упругие волны, прорезывались и бесследно исчезали глубокие трещины с вырывающимися изнутри язычками пламени. Могучие и неведомые силы производили там, в глубине, столь же неведомую работу.
Трибуны розового мрамора были пусты. Оглянувшись, Якушкин увидел, что Воланд со всею своей свитой восседает чуть выше, в ложе, увитой гирляндами роз. Коровьев, поднявшись, производил призывные жесты, и Якушкин с Валерией поспешили туда.
Воланд, в оперном своем обличье, непринужденно их приветствовал, поздравил с Новым годом. Валерия и Якушкин наконец вспомнили, по какому случаю праздник, не таясь, обнялись и поцеловались.
Коровьев тут же принялся распространяться о том, что навряд ли им доводилось когда-либо встречать Новый год в такой необыкновенной обстановке. Но кручиниться нечего – развлечения и зрелища, которые их ожидают, ни с чем не сравнимы. Пояснил, что вот-вот начнется парад-алле. И указал на два свободных кресла рядом с собой.
Едва Валерия и Якушкин успели усесться, как снизу донеслись странные звуки. Арену рассекла особенно глубокая трещина, из которой мерной поступью поднимались наверх могучие негры в набедренных повязках. На их черные голые тела ложились отблески огня, полыхавшего в трещине. Негры играли на длиннющих трубах; их щеки ритмично раздувались. Последним поднялся хромоногий негр с барабаном, в который бил колотушкой. Напоследок трещина полыхнула особенно сильно и сомкнулась. Негры, выстроившись в колонну, направились к противоположной стороне беговой дорожки. Разноголосицу хриплых звуков, которые они извлекали из своих труб, даже с большой натяжкой трудно было называть музыкой.
По арене расползся туман, но сквозь него было видно, как центральная часть наливается тяжелым багрянцем. Из клочьев тумана показались человеческие головы, но также и лошадиные. Негры заиграли громче и яростней, и на беговую дорожку начали выезжать колесницы. Каждая была запряжена шестеркой лошадей и каждой правил бородатый человек в пурпурной или ярко-голубой хламиде, в одной руке хлыст, в другой – копье. У тех, что с непокрытыми головами, волосы были стянуты золотыми обручами, на остальных были сверкающие шлемы с гребнем.
Представители Древней Эллады, родины первых в мировой истории тиранов, – пояснил Коровьев. – Не безынтересно проследить их появление. Демос, как водится, боролся с аристократами, а тираны тут как тут. Выступили защитниками беднейших слоев: аристократов к ногтю. А в результате скрутили и тех, и других. Нехитрый фортель, а где только не повторялся?
Древнегреческие тираны совершили на своих колесницах круг почета. Проезжая мимо ложи, они приветствовали Воланда гортанными криками и потрясали копьями.
Кот Бегемот сидел по другую сторону от Коровьева и, надев очки, работал, как сам выразился, со списками приглашенных: с серьезностью школьного учителя, начинающего урок с проверки посещаемости, проставлял галочки. Коровьев попросил на время списки и приступил к комментариям: кто есть кто. Был тут и Фрасибул из Милета, и Лизистрат из Афин – он первый взял за правило назначать на высокие должности родственников. Были и прославившиеся непомерной жестокостью Фи- лоред и Поликрад. Впрочем, остальные тоже были хороши, притом, что тиранили они в крошечных государствах. Ну, укокошил кто-то там тысячу – полторы собственных сограждан – разве это серьезный разговор?
Представители Древней Эллады сошли с колесниц и заняли места на противоположной трибуне. А по дорожке в пешем строю уже шли тираны Древнего Рима. Иных можно было распознать и без коровьевских комментариев: Суллу–по отвратительным язвам на лице, Октавиана Августа – по знаменитой загадочной улыбке; в согбенном старце с проваленным ртом – Тиберия, в юноше с безумными, навыкате глазами – Калигулу. И, конечно, Нерона, неразлучного с кифарой.
А Коровьев не унимался – щеголял непомерной эрудицией, сыпал историческими фактами. Напомнил, что Сулла первый превратил доносительство в чрезвычайно выгодный промысел: доносчик после казни лица, на которого он донес, получал часть его состояния. Отметил, что Октавиан, пожалуй, уступал остальным в вероломстве и жестокости, зато его преемник Тиберий был на высоте. Во времена его правления дня не проходило без казней, не щадили даже детей. Старинный римский обычай запрещал умерщвлять девственниц, так хитрец придумал способ, как его обойти: сначала палач насильно растлевал их в тюрьме, а уж после спокойно казнил. Но Калигула кое в чем превзошел и Тиберия: правил Римом всего-то четыре года, а уж дел натворил кровавых!.. Про Нерона и объяснять долго нечего.
– А вот давайте глянем, кого они все беспрерывно истребляли, – продолжал Коровьев. – Консулов, квесторов, сенаторов, другими словами, патрициев. А римский плебс не трогали, напротив, ластились к нему: устраивали бесплатные раздачи вина и хлеба, бои гладиаторов.
Воланд на приветствия римскиx тиранов (официально – цезарей) отвечал поднятием руки. Был среди них и первый из цезарей – Гай Юлий. Это он возвел тиранию в категорию добродетели. И худосочный Клавдий, и бездарные Отон с Гальбой, и прославившийся сутяжничеством и непомерным сребролюбием старик Веспасиан...
Совершив круг почета по дорожке, древнеримские тираны уселись на трибуне рядом с древнегреческими, а парад-алле продолжился. В строгом соответствии с мировой историей далее следовали Средние века. Якушкин ожидал, что появятся короли европейских стран, но Коровьев, в который раз угадав его мысли, внес поправку, и весьма существенную. Оказывается, законные монархи, восшедшие на престол по праву рождения, в списки приглашенных не вошли: полноценным тираном считается лишь тот, кто добился неограниченной власти силой или, как принято нынче выражаться, путем политической борьбы. Правда, для некоторых монархов, прославившихся непомерной жестокостью, было сделано исключение.
Система отбора прояснилась. После древнеримских тиранов-цезарей мимо ложи прошествовали правители средневековых итальянских городов: Гонзаго из Мантуи, Малатеста из Римини, Монтефельтри из Урбино... Вызволенные, по-видимому, из разных мест, они после долгой разлуки первым делом начали между собой шумно ссориться. Припоминались давние обиды и предательства. Наряженные в разноцветные кафтаны с пышными разрезными рукавами, они словно явились из оперы Верди «Риголетто», действие которой и на самом деле происходит в Мантуе.
Конечно, всё это шушера, а попробуй не пригласи, – ворчал Коровьев. – После жалоб не оберешься в различные инстанции. Публика, доложу вам, сквалыжная, но какие ни есть, а тираны.
Прервав на миг ссоры и распри, итальянские тираны шумно и радостно приветствовали Воланда. Ссориться они продолжали и сидя на трибуне, но без рукоприкладства и без того, чтобы обнажить шпаги.
Один за другим прошли мерзкий горбун Ричард III и русский царь Иван Грозный. Для обоих было сделано то самое исключение, о котором упомянул Коровьев. Он пояснил, что Ричарду III в зачет пошло убийство двух малолетних племянников. Иван Грозный в особых комментариях не нуждался.
Хотя парад-алле оказался зрелищем и занятным, и красочным, а всё ж Якушкина одолевало сомнение: не надувают ли их с Валерией? Не мираж ли, напущенный Воландом, – и стадион, и негры с трубами, и участники шествия? А главное – где гарантия подлинности давно покинувших земной мир тиранов? Паспорта у них не спросишь... Валерия отреагировала по-своему.
– Спектакль местами забавен, – шепнула она на ухо Якушкину, – но режиссура бездарна и примитивна. Что же они всё идут да идут?
– Спектакль, – с обидой в голосе отозвался Коровьев, отличавшийся, как известно, поразительно острым слухом. – Если б вы знали, из каких глубин мироздания пришлось их всех извлекать!
– Да уж! – поддержал его Бегемот. – Слетали бы за сотню-другую световых лет, порыскали бы по исправительным норам. А еще кордоны надо перехитрить из трехглавых псов. Одно неверное движение – разорвут в клочья!.. А доставить мерзавцев, разместить в отеле («Уж не Мавзолей ли он имеет в виду?» – подумал Якушкин)... У каждого свой каприз, каждого приодень в парчу, в шелка, в бархат, с соблюдением фасонов исторической эпохи! А колесницы, а прочий реквизит?
– Сомнение матерь познания, – усмехнулся Воланд. – Впрочем, мадам отчасти права. Лично я был против парада-алле. Это он меня уговорил, – Воланд указал на Коровьева. – Что ж, в следующий раз непременно пригласим вас для консультации.
– Эх, скорее бы уж начинался бал! – произнесла Гелла, сладко потянувшись. Один лишь Азазелло не произнес ни слова.
За разговором они пропустили, как мимо ложи прошел еще один кровожадный монарх, испанский король Филипп II. За ним – Оливер Кромвель, вождь Английской революции, тоже далеко не мармелад и не сахар: его железнобокие молодцы устроили резню в Ирландии и в Шотландии, да и в самой Англии казней при нем было предостаточно.
Негры высоко вскинули трубы и заиграли «Марсельезу». На беговую дорожку вышел из тумана худощавый человек в голубом сюртуке с золотыми пуговицами. Напудренный парик с косичкой как бы служил продолжением его покатого лба. Якушкин узнал Робеспьера.
За ним следовали другие якобинские вожди. Одетый с вызывающей небрежностью безобразный карлик Марат: лицо в крупных оспинках, вывороченные губы. На Билло-Варенне, напротив, был щегольской мундир, подпоясанный трехцветным кушаком. Калека Кутон, с отсохшими после болезни ногами, едва ли не самый кровожадный из якобинцев, сидел в инвалидной коляске, которую толкал ангелоподобный красавчик Сен-Жюст.
– Новая эпоха! – восторженно завопил Коровьев. – Счет убиенных пойдет у нас теперь на миллионы! С гильотиной шутки плохи! Да что там гильотина! Про якобинские свадебки не слыхали? Это когда мужчин и женщин попарно связывают спина к спине и бросают в реку. А из пушек по толпе, скрученной веревками, не угодно? Взамен относительно целых трупов – кровавое месиво, зато удобней закапывать. И всё ради свободы, равенства, братства!
Приблизившись к ложе, Робеспьер достал из кармана сюртука свернутые в трубку листы, надел очки. Он нацелился произнести одну из своих речей, отличавшихся не только безжалостной логикой, но и невероятной продолжительностью. Не исключено, что ту самую, которую не позволили ему закончить в Конвенте накануне его гибели. Но Воланд также не позволил – махнул рукой, и Робеспьер, а с ними и остальные якобинцы пошли занимать места на трибуне.
«Похоже, следующим будет Ленин», – прикинул в уме Якушкин – и не ошибся: «Марсельезу» в негритянском исполнении сменил «Интернационал». Разрывая клочья тумана, на беговую дорожку выехал знаменитый броневичок с короткой пушечкой. На нем стоял Ленин – в своей классической позе: левая рука запущена в карман штанов, правая выкинута вперед. Ильичевы соратники сопровождали броневичок пешим способом: с головы до ног в кожаном Троцкий, трудно отличимый от него на расстоянии Свердлов, грузный, с бабьим лицом Зиновьев, напоминающий карточного шулера Бухарин. Элегантнее остальных, пожалуй, выглядел Каменев. Над всеми, словно телеграфный столб, возвышался Дзержинский. Сталина что-то не наблюдалось.
Бегемот стал рассказывать, как он нахлебался с транспортировкой этой компании на Землю. По сравнению с другими исправительными норами их коллективная нора запрятана в такой несусветной дали, что и передать невозможно. В шутку они называют ее Лонжюмо3. Вдобавок они дружно потребовали, чтобы перевозили их непременно в пломбированном вагоне, а где его возьмешь? По дороге замучили расспросами, как обстоят дела с мировой революцией, поскольку не имеют с Земли никаких вестей. Бегемоту стоило больших трудов растолковать им, по какой причине их затребовали на Землю. Тогда Ленин поинтересовался, не оппортунист ли Бегемот случаем, а если оппортунист, то правый или левый, чем поверг кота в полное отчаяние. Вождь в дороге набрасывал какие-то тезисы. Неровен час, попытается сейчас с ними выступить.
Разумеется, Бегемот в своих россказнях приврал, и основательно. Но в последнем своем предположении оказался прав: когда броневичок оказался напротив ложи, Ленин, картавя, выкрикнул что-то насчет происков Антанты, мешочников и спекулянтов, а также и попов, которых надобно всех изловить и расстрелять на месте. Воланд снова махнул рукой, и броневичок поехал дальше. Представители славной ленинской гвардии потянулись за ним. Якушкин обратил внимание на то, что в затылках Зиновьева, Каменева и Бухарина чернеют аккуратные круглые дырочки, а у Троцкого затылок разворочен до такой степени, что видны были мозги.
Пока все они вместе с Лениным усаживались на трибуне, Воланд с неудовольствием заметил, что парад-алле затянут сверх всякой меры. Коровьев с Бегемотом принялись возражать: мессир сам спустил установку – никто не забыт, ничто не забыто. Тем временем мимо ложи прошел, печатая шаг коваными сапогами, итальянский дуче Муссолини – в черной рубашке, обтянутой ремнями, и такой же черной пилотке. Воланд прекратил дискуссию и велел заканчивать церемонию. Бегемот тотчас спустился с трибуны и исчез в тумане на арене.
По-видимому, вследствие предпринятой им корректировки на противоположной стороне беговой дорожки одновременно появились две новые группы. Одну возглавлял добродушный на вид старичок, наряженный в военный мундир с золотыми погонами, другой предводительствовал мужчина с коротко подстриженными усиками и сброшенной на левую бровь косой челкой. Это были Сталин и Гитлер, каждый со своими соратниками. Обе группы разошлись, двинувшись в противоположных направлениях, и снова сошлись уже перед ложей. Сбитые с толку негры принимались играть то «Интернационал», то «Хорста Весселя».
Сталин достал трубку и спокойно начал ее раскуривать. Гитлер стоял, сцепивши опущенные руки, и пожирал Сталина безумным взглядом. Их соратники вступили в прямой контакт, а лучше сказать – в ближний бой.
Лаврентий Берия высказывал вполне обоснованные претензии к Гиммлеру: в свое время он поделился с германским коллегой опытом в организации и обустройстве концлагерей, а тот отплатил ему черной неблагодарностью. Оба начальника тайной полиции носили пенсне. Молотов попрекал германского министра иностранных дел Риббентропа вероломством и даже пытался ухватить конец петли, болтающейся у того на шее. Маленький Ворошилов наседал на огромного, жирного Геринга, называя его полным профаном в вопросах стратегии и тактики. Геринг, обидевшись, рвал из кобуры пистолет. Плюгавый Геббельс и похожий на раскормленного кота Жданов затеяли дискуссию идеологического порядка. Дело дошло до легких подталкиваний, но вполне могло обернуться и мордобоем.
Пришлось вмешаться Коровьеву. Он поспешил вниз, и после его увещеваний, обращений как к «вождю народов», так и к «фюреру всех немцев», восстановился относительный мир. Сталин и Гитлер показали благой пример – рука об руку пошли садиться на трибуну. Соратники же их смешались в одну тесную группу.
А Бегемот времени зря не терял. Молоденькие китаянки в легких прозрачных одеждах проволокли по беговой дорожке нарумяненного Мао-Цзэдуна. Они ловко переставляли ноги Великому Кормчему, престарелому и немощному. А негры исполнили мелодию «Алеет Восток». Один за другим пронеслись латиноамериканские диктаторы: Трухильо, Батиста, «Папа» Дювалье, еще какая-то шпана – но все в белоснежных смокингах. Последним прошествовал чернокожий король из Африки. Он был замечателен тем, что занимался людоедством, а больше всего любил лакомиться мясом выписанных из Европы белых любовниц, когда ему надоедало использовать их по прямому назначению.
На том парад-алле закончился. Туман над ареной рассеялся, и она неожиданно оказалась не только идеально ровной, но и выложенной паркетом с затейливыми инкрустациями. Бесшумно начали сдвигаться с места трибуны, едва не поглотив появившегося Бегемота. Буквально на глазах трибуны приняли строго вертикальное положение и превратились в стены. Воланд заблаговременно подал знак, и сидевшие в ложе спустились вниз. Их примеру последовали тираны вместе с прочими участниками парада-алле. А преображение стадиона в помпезный бальный зал продолжалось. Вдоль образовавшихся из трибун стен поднялись огромные, в три обхвата, колонны, и на них плавно опустился сводчатый потолок в лепнине. Дневное солнце исчезло, но темнее от этого не стало – в пристенных зеркалах с золочеными рамами отразились тысячи свечей в хрустальных люстрах, кенкетах и канделябрах.
– Бал! – заорал в экстазе Бегемот.
На хорах грянул оркестр – и не какие-то там негры с трубами, а настоящий, симфонический. Да еще под управлением непревзойденного Герберта фон Караяна. Исполнялся Гимн Советского Союза – дань уважения стране, оказавшей гостеприимство. Гимну внимали, стоя навытяжку. Когда отзвучали заключительные аккорды, все заговорили, задвигались. Воланд со свитою, с Валерией и Якушкиным взошел на помост в центре зала, приподнятый на несколько метров. Отсюда происходящее было видно как на ладони.
Народу набралось куда больше, нежели участвовало в параде-алле. Коровьев, к которому Якушкин обратился за разъяснением, сказал, что удивляться тут нечему: многие тираны затребовали своих любовниц, о них Якушкину уже было говорено, а некоторые выбили лимиты и пропуска для челяди. Не для соратников по особому списку, а именно для челяди, без которой, видите ли, они не могут обойтись. Любовницам, равно и челяди, участвовать в параде-алле неприлично, их доставили сепаратным способом и покуда держали взаперти. Ну, а теперь выпустили... Размышления Якушкина по поводу сложнейшей системы запретов и разрешений прервал пронзительный крик Бегемота:
– Гранд-ронд, дамы и господа! Маэстро, силь ву пле!
Герберт фон Караян взмахнул палочкой, и оркестр заиграл кадриль. Кот соскочил с помоста и ухватил за руку девушку в короткой тунике, как оказалось, весталку. В свое время ее ради потехи изнасиловал Нерон, и она была причислена к разряду тирановых любовниц. Бегемот и весталка запрыгали в танце. Их примеру последовала Гелла. В затяжном прыжке она слетела с помоста и повисла на шее у красавчика Сен- Жюста: видно, еще раньше положила на него глаз. Цепочка гранд-ронда быстро росла. Вовлекся в танец и Калигула с грузной римскои матроной. С ней он когда-то сожительствовал, а потом взял, да и перерезал ей горло. Но что толку поминать старое?.. Неуклюже заскакал Адольф Гитлер с белокурой арийкой Евой Браун: за несколько часов до их совместного самоубийства они сочетались законным браком. Дабы Ева смогла попасть на бал, брак по их ходатайству был признан недействительным. А вот миловидная, хотя и несколько располневшая Инесса Арманд попала на бал без всяких сложностей; вдвоем с Ильичем (тот теперь был во фраке) они старательно выделывали па кадрили, но Ильич не всегда попадал в такт музыке.
Гранд-ронд получился веселым и озорным. Бегемот тащил за собой всю цепочку, устраивал такие резкие повороты, что танцоры от неожиданности теряли равновесие и валились на пол, образуя кучу-малу. Но всякий раз цепочка восстанавливалась. Четыре балерины в белых пачках вовлекли в танец дедушку Калинина. До молоденьких балерин «всесоюзный староста» большой был охотник, злые языки утверждали, что ему, с целью поддержания мужской потенции, были пересажены половые железы орангутанга.
Танцевал и Муссолини со своей любовницей Кларой Петаччи – их обоих повесили в один и тот же день итальянские партизаны. А вот калека Кутон в гранд-ронде не участвовал, но и он, привстав в своей коляске, хлопал в ладоши в такт музыке и даже пытался изобразить некие телодвижения.
Но вот кадриль закончилась. Бегемот возвратился на помост с победоносным видом. Вытирая носовым платком мокрую от пота шерсть, он сообщил, что Неронова весталка назначила ему свидание, но он еще подумает, идти или нет. В зале появились негры, те самые, что прежде играли на трубах. Сейчас они обносили гостей как прохладительными, так и горячительными напитками. Веселье становилось всё более шумным, слышался звон бокалов, смех, сыпались шутки, и довольно-таки забористые. Гелла вовсю кокетничала с Сен-Жюстом. Следующим танцем был объявлен вальс.
– Пойдемте, – неожиданно сказал Воланд. Он обращался к Валерии и Якушкину.
Из своей свиты он взял одного лишь Коровьева. Когда они проходили среди танцующих, те, не прекращая вальсировать, уступали им дорогу...
Здесь я обязан прерваться и сделать вот какое примечание.
Дойдя в своем описании бала до этого места, Якушкин притянул меня к себе, ухватив рукой за рубашку, и произнес срывающимся от волнения голосом:
– Вообразите, я нечаянно задел локтем подряд несколько танцующих. До меня доносились их запахи – духов, пота, пряностей. Я их физически ощущал. Готов поклясться, что все были отнюдь не бесплотные существа, не призраки, а живые люди... Позже я пытал Коровьева, умолял его открыть секрет, но он увильнул – стал распространяться о всесилии мессира, о том, что ему подвластны и время, и пространство, но толком так ничего и не объяснил...
В дальнем конце зала обнаружилась металлическая лестница. Она вела в подземелье, откуда, заглушая музыку, доносились истошные крики и стенания.
В подземелье было темно, пахло сыростью. Воланд потянул на себя тяжелую дверь, и они вошли в... пыточный застенок. Пытки здесь производились самые разнообразные, начиная с примитивного наказания розгами. Можно было познакомиться и с «испанским» сапогом, а также с его усовершенствованной модификациеи – «шотландским». С колесованием, с пыткой под шутливым названием «шпигованный заяц», когда по спине распластанного на скамье мученика проводят взад-вперед валиком с торчащими наружу острыми гвоздями и вырывают клочьями мясо.
От зрелища истязаемого на дыбе Валерии едва не сделалось дурно. Один из палачей в глухом капюшоне с разрезами для глаз хлестал несчастного бичом, а другой подставлял под пятки жаровню с пылающими углями. Валерия вскрикнула, прильнула к Якушкину. «Уйдем отсюда!» – беспрестанно повторяла она.
– Нет уж, смотрите! – с неожиданной жесткостью произнес Воланд, оторвал Валерию от ее возлюбленного и подвел вплотную к пыточному снаряду. – Набирайтесь свежих впечатлений. Возможно, они пригодятся для вашего театра.
Между тем в застенок спустились несколько тиранов, а также их соратники. Среди последних Гиммлер с Берией, которые вдруг сделались неразлучны. Прогуливаясь по застенку, они на профессиональном уровне обсуждали различные способы старинных пыток, их достоинства и недостатки.
В застенке обнаружились также стенды, на которых демонстрировались новейшие достижения науки и техники. К ним проявили интерес в первую очередь древнегреческие и древнеримские тираны: они никак не могли взять в толк, почему человек, к телу которого прижимают оголенный электрический провод, кричит и извивается от боли. Сошлись на том, что тут не обошлось без вмешательства богов.
Но вот экскурсии в пыточный застенок пришел конец. Коровьев осторожно подталкивал к выходу одеревеневшую от ужаса Валерию.
– Хорошенького понемножку, – приговаривал он с мелким смешком. – Помню, я и сам не выдерживал, а сейчас ничего, привык, чего и вам желаю.
Продолжилась быстротекущая смена места действия, различных времен и эпох. В какой-то момент Якушкин обнаружил, что они находятся в просторной лоджии. Он снова увидел открытое небо, на этот раз ночное, в крупных южных звездах. А внизу в свете дымящих факелов открылась присыпанная песком круглая арена. Ее опоясывали в несколько ярусов такие же совершенно пустые лоджии. С арены доносились душераздирающие крики, яростное рычание: львы, леопардьГи тигры рвали там обнаженных беззащитных людей. Когда звери оставляли разодранную жертву, чтобы наброситься на новую, за дело принимались грифы – они пикировали вниз с верхнего яруса, и в считанные секунды от трупов оставались лишь белеющие кости.
Древнеримский цирк, да еще без публики, производил не столь сильное впечатление, как пыточный застенок: зрелище не воспринималось как реально происходящее, скорее как кино.
– Крававая патэха, придуманная эксплуататорскими классами для удывлытворэния своих нызменных прыхотей, – эту чеканную формулировку произнес за спиной кто-то с сильным грузинским акцентом. Якушкин обернулся и увидел Сталина.
У Коровьева отыскались возражения. Во-первых, сия потеха предназначалась не столько для эксплуататорских классов, сколько для широких народных масс. Они, то есть «массы», обыкновенно битком набивались в цирки. Ну, а во-вторых, с помощью «патэхи» уничтожались преступники.
– То есть враги, – уточнил Сталин. – В таком случае следует прибегать к простым и эффектывным способам. – Сказал и исчез.
В тот же миг над ареной взлетело яркое летнее солнце, а сама она превратилась в городскую площадь, замкнутую в четырехугольнике домов с черепичными крышами.
Гильотина – вот лучший способ уничтожения врагов. – На месте Сталина уже находился Робеспьер. – Доктор Гильотен своим замечательным изобретением оказал революции неоценимую услугу.
В центре площади был воздвигнут дощатый эшафот, на нем высились два столба, соединенные наверху поперечиной. На ней, матово поблескивая, висел треугольный нож. У подножья гильотины замерла привязанная кожаными ремнями к плахе очередная жертва. Как и древнеримский цирк, площадь была пуста. Видно, Воланд посчитал излишним перенести сюда парижский люд, включая знаменитых «вязальщиц революции», истинных сан- кюлоток, не пропускавших ни единой казни, – только осужденного и палача в надетом набекрень фригийском колпаке, знаменитого Сансона, казнившего, кстати, и самого Робеспьера. Сансон нажал на рычаг, и треугольный нож заскользил вниз с нарастающей скоростью. Через мгновение отрубленная голова покатилась в плетеную корзину.
– Главная ошибка якобинцев состояла в том, что они дрогнули и не придали террору того размаха, какой требовала революция.
Робеспьера сменил Ленин. Произнося свою тираду, он раскачивался взад-вперед и в такт раскачиванию рубил рукой воздух.
– Вы пришли как нельзя кстати, – прервал его Воланд. – Хочу вам представить...– Он указал на голую стену лоджии, где, однако, успел возникнуть не кто иной, как драматург Шуртяев. В зимней одежде, точно такой, каким он несколькими днями раньше прогуливался на Патриарших прудах. – Матвей Илларионович Шуртяев.
Шуртяев и Ленин пожали друг другу руки. Тем временем площадь с гильотиной исчезла; местом действия снова было подземелье. Свет попадал сюда через квадратный люк в потолке. Коровьев надел цилиндр, который до сих пор держал в руке. Очевидно, опасался, как бы Шуртяев не признал в нем давешнего революционного солдата. Обняв за плечи Ленина и Шуртяева, словно они были ему давние приятели, в полном захлебе заговорил о том, что момент по справедливости можно назвать историческим: когда еще удавалось драматургу воочию увидеть свой любимейший персонаж? И вообразить такого невозможно, чтобы Еврипид встретился со своей Медеей, Шекспир–с Гамлетом, а Бомарше–с Фигаро.
Ленин, высвободившись из-под коровьевской руки, признался, что, к сожалению, пьес Шуртяева не читал и спектаклей не видел. Из советских пьес ему доводилось познакомиться лишь с принадлежащими перу «Блаженного Анатоля», то есть наркома просвещения Луначарского. Все они жуткая мура, но для коммунистического воспитания пролетариата, так и быть, сойдут.
Шуртяев поедал Ленина восторженным и даже исступленным взглядом. Произнес он и несколько фраз. Смысл их был в том, что ни один актер, игравший в его пьесах вождя мирового пролетариата, не передал и десятой доли его образа, который только сейчас открылся ему во всем величии.
– Может, вся штука в том, что вы сами извратили образ, а теперь сваливаете на актеров? – усмехнулся Воланд.
– То есть, как это извратил? – нахмурился Ленин.
– А очень просто. Например, Матвей Илларионович утверждает, будто вы не спускали директивы захватывать заложников с последующим расстрелянием.
– Да вы что! – рассердился Ленин и монголоидные его глаза сузились еще сильнее. Он стал объяснять, что захват заложников с последующим расстрелянием есть архиважная составная часть Красного террора, на что он не раз самолично указывал товарищам.
Шуртяев густо покраснел. Стал оправдываться – ему-де хотелось повысить гуманистическое звучание великого образа
Пришлось его самого определить в заложники, – наябедничал Коровьев, – и застрелить на Патриарших при попытке к бегству.
– Вы ошибаетесь, меня не застрелили! – вскричал Шуртяев. – Сами видите: жив я живехонек!
Ленин пожал плечами, затем обернулся и позвал:
– Феликс Эдмундович! А ну, пожалуйте сюда, голубчик!
Объявился Дзержинский, и ему было велено незамедлительно уточнить, нет ли в списках заложников драматурга Шуртяева.
Дзержинский достал из нагрудного кармана фрака записную книжечку, полистал и объявил, что такой числится – взят как чуждый классовый элемент. Обладает солидным состоянием: роскошная квартира и Москве, автомобиль иностранной марки, двухэтажная дача...
– Клянусь, всё нажито честным, самоотверженным трудом! – Для пущей убедительности Шуртяев несколько раз бухнул себя кулаком в грудь.
Ленин с Дзержинским обменялись многозначительны ми взглядами: все, мол, буржуи так говорят.
– Странно, что вы до сих пор живы, строго заметил Дзержинский.
С совершенно идиотской улыбкой Шуртяев принялся сгибать руки, приседать, словом, демонстрировать полную свою дееспособность.
Впрочем, это поправимо. – «Железный» Феликс щелкнул пальцами, и, откуда ни возьмись, появился здоровенный детина в овчинном полушубке. Он медленно и старательно жевал краюху хлеба, к поясу у него был прицеплен маузер в деревянной кобуре. Дзержинский молча указал ему на Шуртяева.
– Пойдемте, Феликс Эдмундович, нельзя оставлять дам без присмотра, – заторопился Ленин. Оба поклонились Воланду и вышли.
В этот момент Шуртяев признал наконец Валерию. Естественно, они были знакомы. Более того, лет десять тому назад он уговорил ее поставить в ее театре одну из своих «ленинских» пьес. Этого факта своей творческой биографии Валерия стыдилась и не любила о нем вспоминать.
– Валерия! И ты здесь! – воскликнул пораженный Шуртяев.
Валерия не ответила. «Странное дело, – подумала она, – мне его нисколечко не жалко. Уж не становлюсь ли я постепенно ведьмой?».
А детина в овчинном тулупе дожевал краюху, ссыпал с ладони крошки в рот. Подошел со спины к дрожащему от страха Шуртяеву и неожиданно резко обнял того за шею, так что локоть детины пришелся под нижней челюстью драматурга.
– Пощадите! – из последних сил завопил Шуртяев. – Меня уже один раз расстреливали!
– Не могу, – отвечал Воланд. – Вы находитесь во власти обожаемой вами Чека, на нее же мое влияние не распространяется.
– Ну и фрукт! – искренне возмутился Коровьев. – То его, видите ли, расстреливали, то он жив-живехонек. Эк выкручивается!
А Якушкину стало жаль Шуртяева, по-человечески жаль. Не тогда ли пролегла между ним и Валерией первая трещинка? Он готов был просить Воланда о пощаде, но Воланд опередил его.
– Не могу, – повторил он с еще большей твердостью, обращаясь не к Якушкину, а всё к тому же Шуртяеву. – Единственное, что я вам обещаю, так это то, что в ближайшие сто лет вас не будут больше расстреливать. О вас просто забудут, как и о ваших пьесах.
Детина потащил Шуртяева к стене, поставил к ней лицом и для верности прижал коленом. Снял с драматурга меховой картуз и сунул себе в карман.
– Ничаво, милок, сейчас я тебя мигом, даже не почувствуешь, – приговаривал он, доставая из кобуры маузер.
– Воткнул дуло в затылок драматурга. Грянул выстрел. Детина-расстрелыцик проворно отпрыгнул, и фонтанчик крови, брызнувший из шуртяевского затылка, миновал его. Из люка в потолке опустилась веревка, мертвое тело было надежно обвязано и поднято наверх...
Шуртяева нашли утром позади Мавзолея, среди голубых елей, и сперва предположили, что драматург был сражен выстрелом в голову, произведенным либо одним из часовых, охранявших Мавзолей, либо отважным милиционером, когда велась стрельба по уссурийским тиграм. Но тогда непонятно, каким образом труп оказался не перед Мавзолеем, а за ним, у Кремлевской стены. Судебно-медицинская экспертиза окончательно всё запутала. Было установлено, что смерть наступила вообще неделю назад и совсем от другой пули – та прошла навылет со спины прямехонько через сердце. Получается, в новогоднюю ночь вообще палили по трупу? Пуля, извлеченная из черепной коробки, принадлежала допотопному пистолету системы «маузер». Еще одна загадка.
Ясно было одно: Шуртяева убили никак не с целью ограбления. И платиновый перстень, и часы «Сейко», и бумажник с крупной суммой денег – всё было при нем в целости и сохранности, а также заграничный паспорт и билет на самолет до Брюсселя с просроченной датой вылета...
Далее, как рассказывал Якушкин, события развивались с нарастающей быстротой. Состоялась экскурсия по тюрьмам разных эпох – от древнеримского карцера, подземной темницы, расположенной возле Капитолия, до сиявшего стерильной чистотой берлинского Моабита и страшной бериевской «Сухановки». Заглянули и в замок Консьержери, превращенный якобинцами в узилище для «врагов народа». Режим здесь был на редкость мягкий. Арестанты могли свободно разгуливать из камеры в камеру, иные в ожидании суда и гильотины (другие приговоры были редки) предавались беспробудному пьянству, чтобы забыться и не думать о страшной участи, которая их ожидает.
Посетили и фашистские концлагеря. В Освенциме Сталин расспрашивал Гитлера об эффективности душегубок; «вождя народов» главным образом интересовала пропускная способность. С помощью Гиммлера Гитлер давал подробные пояснения.
В какой-то момент открылась голая заснеженная тундра. В черноте глубокого котлована копошились фигурки людей в лагерных бушлатах; одни долбили ломами мерзлый грунт, другие катили наверх по мосткам тачки с землей. Когда кто-то падал с мостков, раздавалась короткая автоматная очередь.
– Юде? – поинтересовался Гитлер у Сталина.
– До евреев у нас по-настоящему руки не дошли, – ответил Сталин, потупившись.
Когда возвратились в бальный зал, дым здесь стоял коромыслом, веселье било через край. Симфонический оркестр сменил король рок-н-ролла Элвис Пресли. В рок-н-ролле, как ни странно, более других преуспел Калигула и сорвал аплодисменты. Пиршественные столы ломились от вин и закусок. Нарасхват шли молочные поросята, фаршированные фазаны и жареные пиявки, напитавшиеся гусиной крови. Из-под скатерти видны были ноги неистово трахавшихся под столами парочек. На пути к помосту Воланд едва не споткнулся о вылезавшую из-под стола Геллу. Воланд неодобрительно покачал головой, и Гелла скромно потупилась. Чертовка вытаскивала за руку всё того же Сен-Жюста. Его лицо утратило прежнее ангельское выражение: сеанс секса с Геллой любому бы дался непросто. Якушкин собственными глазами видел, как, блудливо озираясь, вылез из-под стола Ильич, отряхнулся, помог вылезти Инессе Арманд. Оба как опытные конспираторы быстро скрылись в толпе отплясывающих рок-н-ролл.
Возвратившийся в бальный зал Сталин начал развлекаться на свой манер – запасся несколькими тортами, выстроил своих соратников в шеренгу и каждому поочередно надевал на голову коробку с тортом. По счастливым лицам стекал разноцветный крем. Но это развлечение скоро ему прискучило. Он разыскал в толпе Мао Цзэдуна, которого по-прежнему водили юные китаянки. Сталин принялся читать Великому Кормчему стихи собственного сочинения – о весне, о птичках. Мао читал ему свои, и тоже о весне и о птичках. Самое удивительное, что они отлично понимали друг друга без переводчика.
Нерон, окруженный любителями античной музыки, пел и играл на кифаре. Марат читал монологи из пьес собственного сочинения: прежде чем сделаться «другом народа», он испробовал себя и на драматургическом поприще. Но безуспешно – театр не разглядел в нем нового Корнеля или Расина. Слушали его немногие, подходили ради любопытства и тут же отходили. Ева Браун разыгрывала в лотерею натюрморты своего обожаемого фюрера – тот в молодости пытался стать художником, а уж потом принялся за спасение германской нации.
Всего, разумеется, Якушкин не в силах был разглядеть и, уж конечно, запомнить. Но апофеоз праздника и одновременно его финал врезался в память.
Под потолком вспыхнула огненная надпись: «Да здравствуют тираны всех времен и народов!». Надпись гасла, вспыхивала вновь, повторялась на всех языках планеты. Ответом каждый раз были шумные рукоплескания, восторженные крики, свист. А потом поднялся и исчез лепной потолок, открылась черная бездна неба. Света поубавилось, зал потонул в полумраке, и уже трудно стало различать гостей, их лица, они слились в сплошную темную массу. Разом унялся и разноязыкий говор. Взамен раздалась резкая и прерывистая россыпь морзянки. В дальнем конце зала сиротливо зажглась лампочка. Якушкин увидел, что там, за вполне современным пультом управления с дисплеями, сидят Бегемот и Азазелло. На обоих были надеты наушники. Они неслышно отдавали какие-то приказы в крошечные микрофоны, прикрепленные к тем наушникам, – ну, прямо диспетчеры полетов в аэропорту.
Видимо, повинуясь их приказам, одна за другой взлетали вверх с легким шорохом бесформенные тени. Трудно сказать, сколько времени это продолжалось, но в конце концов зал опустел, исчезли и пиршественные столы. Появились негры, теперь уже с метлами и совками. Они принялись сгребать мусор. Воланд объявил, что пора уходить. Пока они шли к выходу, стены зала бесшумно сдвинулись. Снова опустился потолок, никакой уже не лепной, а с облупившейся штукатуркой, сквозь которую проглядывала деревянная дранка. Очень скоро великолепный зал превратился в трущобу с обвисшими, ободранными обоями на стенах. У дверей к ним присоединились Азазелло с Бегемотом, но уже без наушников.
Дальше был спуск по лестнице, проход мимо саркофага. Тело Ильича было на месте.
На выходе из Мавзолея Якушкин снова услышал бой Кремлевских курантов. Взглянул на подсвеченный прожектором циферблат и обомлел: куранты по-прежнему показывали полночь!
– Не удивляйтесь, – шепнул ему на ухо Азазелло. – Во власти мессира растянуть одну единственную секунду на целую ночь и, наоборот, превратить ночь или даже целый год в краткое мгновенье.
Выпущенные на волю тигры гоняли по Красной площади милиционеров и топтунов-наружников. У мавзолея ждала карета. Воланд попрощался с Валерией и Якушкиным, пообещав, что, возможно, они скоро увидятся. Вместе со своею свитой, за исключением Азазелло, сел в карету. Экипаж тронулся, но уже на подъезде к Спасской башни стал невидим.
Азазелло сказал, что время дорого, и потащил Валерию и Якушкина к грузовику. Втроем они забрались в кабину. Азазелло включил мотор. Через несколько минут они благополучно подъехали к дому Валерии.
Высаживая пассажиров, Азазелло предупредил Якушкина, чтобы тот соблюдал осторожность: ни под каким видом не выходил из дома, никому не звонил по телефону, не брал трубку, когда звонят. Предупредил, нажал на газ и умчался.
А Валерия и Якушкин поднялись в квартиру. Лайма Карловна от удивления всплеснула руками. Как же так? Ведь отправлялись встречать Новый год, а на часах-то всего четверть первого!
Они не стали ничего объяснять, прошли в спальню, толком не раздевшись, бросились на постель и заснули глубоким сном.
Глава 13. Совет в Филях
Сергей Митрофанович весь был в ожидании телефонного звонка от Председателя Комитета. Под вечер зашел Дрынов. Он доложил, что обыск на квартире Якушкина мало что дал – никаких признаков, что хозяин занимался на дому научными изысканиями. Правда, нашли груду рукописей. Дрынов бегло их просмотрел – о кусающемся кролике как будто нигде не упомянуто. Из жены Якушкина удалось выудить, что ее муж не так давно встречался с театральным критиком Банкетовым. Дрынов успел проверить по картотеке: Банкетов левого направления, тяготеет к демократам, может быть, выйти на него? Сергей Митрофанович дал на это согласие, но в целом доклад Дрынова выслушал без должного внимания: он всё соображал, когда же ему позвонит высокое начальство.
Ночью он спал плохо, несколько раз просыпался – чудилось, что звонит телефон. Ненароком он будил спящую рядышком супругу, чем не только вызвал справедливые ее нарекания, но и заработал тычок по затылку.
Следующий день было тридцать первое декабря. Телефонных звонков было великое множество, в основном поздравительного свойства – с наступающим. Позвонил и вальяжный начальник управления. Поздравляя Сергея Митрофановича, он сказал, что вместе им еще работать да работать, посему он рассчитывает на взаимопонимание, на чувство локтя, на крепкое плечо Сергея Митрофановича, на которое всегда можно будет опереться. В голосе его звучали заискивающие нотки.
Терпение Сергея Митрофановича иссякло. Он набрался смелости и позвонил одному из помощников Председателя. Когда-то они, молодые еще чекисты, вместе участвовали в акции против бородатых художников: абстракционистов, модернистов и прочей нечисти. Те до того обнаглели, что выставили свою ничтожную мазню в Парке культуры и отдыха. Пришлось затребовать поливальные машины, и мощные струи воды превратили в месиво картины смутьянов и недоучек, отрицавших высокие принципы социалистического реализма.
Помощник с трудом, но все же признал его. Сергей Митрофанович стал объяснять: может, он был вышедши в туалет или в столовую, а тут как раз долгожданный звонок? Ответ был неутешительным. Сухо и даже как-то неприязненно помощник сказал, что от товарища Председателя ему не звонили.
Новый год Сергей Митрофанович встречал в семейном кругу. Настроение было неважнецким. Настораживал вот еще какой прискорбный факт: ни одна из групп по розыску преступников, проникших в Кремль, не запросила от него помощи или хотя бы дельного совета. В том, что розыск ведется, не было сомнения. Стало быть, решили обойтись без него?
Тут еще прочитал он в газете сообщение о безвременной кончине профессора Колокольчикова. Кошмар, не иначе! Ведь буквально днями, когда он приезжал к нему на квартиру, профессор выглядел бодрым, полным энергии, а вот поди ты!.. Снова почудилось вмешательство нечистой силы: уж не она ли спровадила на тот свет жизнелюбивого Колокольчикова?
А уж что окончательно добило Сергея Митрофановича, так это звонок с Петровки: проинформировали, что найден труп Шуртяева, изложили ужасные подробности, пригласили осмотреть убиенного. Но Сергей Митрофанович отказался подъехать, сославшись на жуткую занятость. Это уже было сверх всяких сил.
Второго января сбылся прогноз Председателя Комитета. Отпраздновав Новый год за столами, которые даже с большой натяжкой нельзя было назвать праздничными, москвичи стали бунтовать. Одно за другим останавливались предприятия, вспыхивали стихийные митинги. Весть о том, что в Кремле делают фальшивые деньги, переполнила чашу терпения. Что деньги фальшивые, ни у кого не было сомнения. А еще повсюду рассказывали о необыкновенном кролике, который перекусал в Кремле массу мерзавцев и негодяев и тем самым вывел их на чистую воду. Ораторы, уже не из числа оприходованных в «Конторе» Сергея Митрофановича демократов, а доселе неизвестные, призывали народ к штурму Кремля. Вечером в город начали стягиваться войска из подмосковных гарнизонов.
Вступила в действие заблаговременно разработанная инструкция на случай введения в городе особого положения. В частности, всем сотрудникам «Конторы» запрещено было отлучаться, все должны были круглосуточно находиться на своих местах.
Пришло известие и о новой возмутительной выходке кролика. Несмотря на усиленные меры безопасности, ему удалось проникнуть на заседание Верховного Совета. Там как раз решали, что делать в связи с народным возмущением. Хорошо, что все депутаты сидели, как им было предписано, в кожаных перчатках – попробуй их укуси! Кролик пометался по залу и набросился... на председательствующего. Тот накануне вернулся из зарубежной поездки и, естественно, ничего не знал о секретном циркуляре. Под воздействием кроличьего укуса он во всеуслышанье причислил себя к душителям демократии, отрекомендовался последним прохвостом и тут же сложил с себя полномочия. За что, между прочим, дружно проголосовали без всякой электронной системы, поднятием рук в кожаных перчатках...
А Сергею Митрофановичу поближе к одиннадцати вечера страшно захотелось выйти на улицу подышать воздухом. Томительное и, скорее всего, бесполезное ожидание телефонного звонка от Председателя стало невыносимым. Нетронутыми лежали в сейфе свежие донесения «добровольных помощников» насчет поведения различных деятелей литературы и искусства: кто какие слова прилюдно произносил, кто снюхался с демократическими вожаками, кто задумал смыться за границу. Сергей Митрофанович обычно внимательно изучал эти донесения, а уж после отдавал в вычислительный центр, для пополнения электронных досье на своих подопечных. Но сейчас заниматься этим не было никакой охоты, в голове теснились тревожные мысли. «Что с нами со всеми будет? Ведь ужас что творится!» – думал он.
Сергей Митрофанович позвонил вальяжному начальнику и испросил позволения выйти немного прогуляться: голова что-то разболелась. Тот разрешил. Сергей Митрофанович прошелся по Кузнецкому мосту и свернул на Неглинку. Повсюду стояли военные грузовики, в оцеплении выстроились солдаты. После разгона митингов москвичи попрятались по домам, многие были арестованы. Штурм Кремля был отложен до лучших времен.
Сергей Митрофанович зашел по малой нужде в общественный туалет, что возле Центрального универмага. В столь поздний час он оказался открыт. Дежурившая на входе кооперативная старуха с первого взгляда ему не понравилась. Принимая двугривенный, она ворчала под нос:
– Что мне твой двугривенный? Хотела закрыть заведение– генерал не позволил. Куда, орет, прикажешь личному составу бегать? А они вон бегают и бегают задарма.
Тем не менее туалет почему-то был пуст. Сергей Митрофанович подошел к писуару, а кооперативная старуха увязалась за ним намочить в рукомойнике половую тряпку. От природы Сергей Митрофанович был невозможно стеснительный, решил дождаться, когда старуха уйдет. Он обернулся и похолодел от ужаса: взамен старухи у рукомойной раковины находился длиннющий черт в пенсне, подробно описанный уборщицей Фаиной и знакомый также по одному из фотороботов.
– Сергей Митрофанович! Дорогой вы наш! – восклицал Коровьев, изобразив на лице необыкновенную радость от встречи. – Наконец-то свиделись! А то и нам недосуг, и вас ухватить непросто. Примите же сердечные поздравления по случаю Нового года. Но одновременно хочу предупредить: впредь держите язык за зубами, тогда, может, еще и выкрутитесь. А начнете опять болтать, чего не следует, – тогда уж прошу не обижаться, полковник!
Сергей Митрофанович замер у писуара с расстегнутой ширинкой. А Коровьев веселился самым наглым образом, звал Сергея Митрофановича в гости (куда именно не уточнил), не все ж им в общественных туалетах встречаться?
Замечу, что Сергей Митрофанович был не таким уж глубоким эрудитом, потому во второй раз не признал он булгаковского Коровьева. Но как следует себя вести, если тебе повстречается черт, всё же почерпнул из художественной литературы. Он размашисто перекрестился и завопил во весь голос:
– Святые угодники! Помилуйте мя грешного!
В тот же миг Коровьев скорчился, точно его прижгли газовой горелкой, и исчез. Воздадим должное самообладанию Сергея Митрофановича: он совершил то, за чем пришел, и только тогда покинул общественный туалет. На выходе, к своему удивлению, он снова увидел кооперативную старуху. Она продолжала ворчать, угрожала подать жалобу в Верховный Совет.
Едва он вернулся в свой кабинет, зазвонил телефон. Сергей Митрофанович снял трубку и узнал голос Председателя Комитета. Тот приказал ему спускаться вниз, но не к центральному подъезду, а к одному из боковых, там будет ждать машина.
У обговоренного подъезда стояла «Чайка» с включеннным мотором. Изнутри открылась передняя дверца. Сергей Митрофанович удивился, что ему предлагают сесть на почетное место, рядом с шофером, но спорить не стал. Вскоре кто-то за его спиной вошел в машину. Сергей Митрофанович осторожно поглядел в зеркальце и узнал Председателя. Вместе с ним были двое из его личной охраны.
«Чайка» выехала на Лубянскую площадь и помчалась по Охотному ряду. Не снижая скорости, проскочила сквозь двойное оцепление перед Большим театром. «В Кремль едем», – подумал Сергей Митрофанович и оказался в корне неправ. Вместо того, чтобы после Манежа свернуть налево, «Чайка» повернула направо, на Воздвиженку.
На Арбатской площади стояли танки и БТРы. В оцеплении снова был оставлен просвет. Дальше был Новоарбатский проспект, мост через Москва-реку. «За город едем, что ли?» – пришла на ум Сергею Митрофановичу новая идея. И снова он ошибся. После того, как миновали Кутузовский проспект, у Триумфальной арки, в том самом месте, где два года назад бывшему гаишнику, а ныне знаменитому писателю Перетятько явилась загадочная карета, «Чайка» круто взяла влево и поехала по узкой неосвещенной дорожке. Спустя некоторое время притормозила, Сергей Митрофанович увидел через лобовое стекло высокий бетонный забор и ворота. Он понял, что приехали на дачу Сталина.
На кунцевской, или «ближней», даче Сергею Митрофановичу довелось однажды побывать на экскурсии, организованной для сотрудников его управления. Любивший во всем точность, он и тогда засомневался в правильности названия «кунцевская», с большим основанием дачу можно было отнести к району Филей.
Со скрежетом разошлись створки ворот, и «Чайка» въехала. Под колесами зашуршал гравий, «Чайка» остановилась. «Выходим», – произнес Председатель.
Фонари на территории дачи не горели, в окнах также не было света. Председатель и Сергей Митрофанович вошли в подъезд. В вестибюле был полумрак. Кто-то вкрадчивым шепотом произнес: «Пожалуйста» – и открыл дверь во внутренние апартаменты. Под ногами скрипели половицы. Несколько раз распахивались новые двери, и вот наконец они вошли в небольшой зал, где света было поболее. Зал был обставлен старомодной, тяжелой мебелью, красного дерева с золотом. За овальным столом дремал Министр обороны, прикрыв ладонью глаза; возле него навытяжку стоял молодцеватый адъютант. Следом прибыл Вице-Президент и первым делом стал возмущаться, но не слишком бурно, с какой это стати на ночь глядя потащили его в такую даль.
– Кремль небезопасен, – сухо ответил Председатель КГБ.
– Да ну! – удивился Вице-Президент. – Что вы говорите? Так стянуть побольше войск. А, мужики?..
Министр обороны проснулся и сообщил, что войск у него достаточно, пусть только дадут указание. На это Председатель КГБ заметил, что в нынешних условиях безопасность не определяется количеством войск.
– Но почему здесь назначили? – не унимался Вице-Президент.
– Генералиссимус большой был дока по части безопасности, – объяснил Председатель КГБ. – Я думаю, мы и впредь будем здесь регулярно собираться. Надо только произвести ремонт, подновить мебель.
Сергей Митрофанович улучил момент, отвел Председателя в сторону и поведал ему о недавней встрече с Коровьевым. Он не сказал: с Коровьевым – с тем самым чертом, который, если верить фотороботу, демонстрировал в Кремле агрегат для печатания денег. Сергей Митрофанович предложил немедля копнуть кооперативную старуху из общественного туалета: по всей вероятности, черт принимает ее обличье, а если и не принимает, то означенная кооперативная старуха поддерживает с ним профессиональные контакты.
– Копнем, копнем...– отвечал Председатель без особого, впрочем, энтузиазма. Но тут же спросил:
– Значит, вы перекрестились и черт пропал?
– Не просто перекрестился, но и призвал святых угодников, – честно признался Сергей Митрофанович в порядке уточнения.
– Так-так, интересно...– И взгляд Председателя стал задумчивым.
Появился Президент вместе с мордатым Премьер-Министром. За Президентом неотступно держался начальник протокола с глубоко впаянными глазами. Президент поздоровался со всеми присутствующими за руку. Представляя Сергея Митрофановича, Председатель КГБ сказал:
– Тот самый наш сотрудник.
Все расселись за овальным столом. Начальник протокола положил перед Президентом папку. Вдвоем с адъютантом Министра обороны они тихо вышли.
Президент для начала выразил надежду, что присутствующие отдают себе отчет в том, насколько серьезен текущий момент. Более того, судьбоносен. Посему работать надо целеустремленно, не размазывая, как он выразился, яичницу по сковородке. Сделав такое вступление, он раскрыл папку и уже нацелился произнести очередную речь – размер аудитории никогда его не смущал. Случалось ему произносить длиннющие речи и одному-единственному слушателю. Вызовет кого-нибудь и давай шпарить по заготовленному тексту. Но был в этом и свой резон. Своими речами Президент буквально изматывал оппонентов и политических противников, иных потом можно было брать голыми руками.
Но Председатель КГБ был настороже. Он, сидевший рядом с Президентом, осторожно закрыл его папку и сказал:
– Извините, но вот этого сейчас не нужно.
Сергей Митрофанович жутко удивился такому обороту. «Не поймешь, кто тут главный», – подумал он.
Президент смешался, глаза у него забегали. Он кашлянул в кулак, поправил очки, чем выиграл время для того, чтобы собраться с мыслями. И подходящая мысль пришла. Президент сказал, что готов сначала выслушать мнение товарищей, а уж он подведет итог дискуссии.
– Никакой у нас дискуссии не будет, – не отступал Председатель КГБ. – По нашим данным, в Москве завелась нечистая сила. Предугадать, какую следующую она предпримет акцию, невозможно. Вот и всё.
Было заметно, что известие о нечистой силе в столице не явилось для Президента такой уж сногсшибательной новостью. Зато остальные вылупили глаза от удивления. Посыпались вопросы: не в аллегорической ли форме сказано о нечистой силе? Не разумеются ли под этим термином ненавистные демократы?.. Председатель КГБ отвечал, что менее всего склонен прибегать к аллегориям, не в его это вкусе. О нечистой силе заявлено было в самом прямом смысле, но, если угодно, может он выразиться и иначе: в Москве завелись черти. А чтобы покончить с сомнениями, он предлагает предоставить слово Сергею Митрофановичу, который, собственно, и приоткрыл завесу над тем, что в последнее время творится в столице.
Тут уж по-настоящему пробил звездный час для нашего Сергея Митрофановича. Кратко, сжато и вместе с тем убедительно он изложил подоплеку известных фактов. Присовокупил и сегодняшнюю встречу с Коровьевым в общественном туалете.
Когда он закончил свой рассказ, наступила долгая пауза. Премьер-Министр нервно вытирал платком лоб. Министр обороны изо всех сил жахнул кулаком по столу и пробормотал:
– Черт возьми!
– Смотрите, накличите, – не без ехидства заметил Председатель КГБ, и доблестный министр в испуге спрятал кулак под стол. Председатель КГБ решительно принял бразды правления. Он попросил придержать эмоции и высказываться по существу.
Взял слово Премьер-Министр. Воровато озираясь, он признался, что дела плохи: запасы продовольствия на исходе, заграница, со всею своей широко разрекламированной помощью, не мычит, не телится. Повсюду волнения, забастовки, митинги, межнациональные распри. Короче, власть не удержать. А тут еще вдобавок и черти появились. Так не лучше ли?..
– Что не лучше? Договаривайте, – стал понукать главу правительства Председатель КГБ.
Премьер-Министр покраснел, что случалось с ним крайне редко. Наконец выдавил из себя, что не худо было бы им всем разъехаться по разным странам в порядке государственных визитов.
– Меня в Швейцарию! – оживился Вице-Президент и, словно школьник на уроке, поднял руку. Со времен комсомольской юности он проявлял нешуточный интерес к зарубежным поездкам.
– Думаете, они в Швейцарии вас не найдут? – в очередной раз съехидничал Председатель КГБ.
Проект, связанный с государственными визитами, был признан не то чтобы негодным, но достаточно сырым. Не проработаны, в частности, вопросы приема и размещения, неясно также, будут ли восприняты такие визиты руководителями избранных для этого стран хотя бы с умеренным восторгом. МИДу следует приступить к осторожному зондированию, результаты будут рассматриваться по мере их поступления. На том и порешили.
Министр обороны предложил военное решение – ударить одновременно и по смутьянам-демократам и по нечистой силе. Президент с Премьером взяли на себя труд растолковать ему, что нечистая сила – явление потустороннее, а, следовательно, бесплотное и неосязаемое, на нее хоть атомную бомбу бросай – ей хоть бы хны. А Председатель КГБ от себя добавил, что успех военной акции против демократов также весьма сомнителен. Народ в своей массе их поддерживает, да и в армии, по имеющимся сведениям, не такая уж тишь да благодать, ожидать можно чего угодно, поскольку подлые демократы успели проникнуть и в армию.
– А что если вступить в диалог? – Президент упрятал нижнюю губу под верхнюю и обвел присутствующих вопросительным взглядом. «Диалог со всеми здоровыми силам общества» обычно был его коронкой, любимейшим доводом, когда все прочие израсходованы. Он увлеченно заговорил, что надо бы выяснить, как нечистая сила относится к «социалистическому выбору». Не исключено, что в целом положительно. Тогда возможен консенсус, а одновременно и мораторий на враждебные действия. Следует создать смешанную комиссию... Он начал было прибрасывать состав, но Председатель КГБ в два счета его укоротил, сказав, что нечего ерундой заниматься. Черти появились в Москве с абсолютно ясными намерениями: свергнуть их, власть предержащих, ни на какие консенсусы и моратории они не пойдут.
– А как вы вообще представляете себе диалог с нечистой силой? – задал вопрос глава тайной полиции. – Хотя бы чисто технически? Но если бы даже и удалось установить с ней контакты, как бы не вышло чего похуже недавней кремлевской истории.
Внимая этой легкой перепалке, Сергей Митрофанович с грустью подумал, что дела его, складывающиеся поначалу просто блестяще, в сущности плохи. Навряд ли успеют присвоить ему генеральское звание: не сегодня – завтра власть падет. А тогда еще бабушка надвое сказала, что лучше – быть генералом КГБ или оставаться полковником. Или вообще мотать в отставку.
– Есть ли еще какие суждения? – спросил Председатель КГБ.
Таковых не нашлось.
– Тогда позвольте мне... Я прошу обратить внимание всего лишь на один-единственный факт, хотя, не скрою, определенные идеи и раньше приходили мне на ум. Стоило нашему уважаемому Сергею Митрофановичу при появлении черта перекреститься...
– И помянуть святых угодников, – снова вставил Сергей Митрофанович.
–...и помянуть святых угодников, как черт бесследно исчез.
Воцарилась пауза. Неожиданно Президент вскочил со стула и кинулся обнимать Председателя КГБ. Троекратно его расцеловал. Воздадим и ему должное: когда обстоятельства загоняли Президента в угол, ум его начинал работать не хуже японского компьютера.
– Россия спасена! – торжественно произнес он исторические слова фельдмаршала Кутузова. Произнесены они были, правда, не на историческом «Совете в Филях», когда было решено сдать Москву Наполеону, а позже, в Малоярославце, когда пришло известие о том, что наполеоновская армия оставила Первопрестольную.
– Спасительная идея поразительно быстро дошла и до остальных, включая даже Министра обороны. Все наперебой принялись вносить предложения. Самое конкретное– немедленно вызвать сюда Патриарха. Ничего, что ночь, речь идет о судьбе державы!
Сергей Митрофанович по просьбе Президента (тот обратился к нему: «дорогой мой») вышел, отыскал начальника протокола и передал приказ шефа: связаться по телефону с Патриархом.
Легкое огорчение вызвало известие о том, что Патриарх некстати отбыл в зарубежную поездку. Потребовалась корректировка и взамен был вызван замещающий его митрополит. В ожидании его приезда для участников совещания, которое, вполне возможно, войдет в анналы современных тацитов под названием «Второй совет в Филях», был устроен то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак.
Прибыл Митрополит и занял место за овальным столом. Вид у него был заспанный, и соображал он туговато. Больших трудов стоило ему объяснить, какая сейчас помощь требуется от Святой православной церкви.
А к вечеру следующего дня на Манежной площади стройбатовцы уже долбили отбойными молотками асфальт– заливали фундамент под огромный железобетонный крест...
Глава 14. В горах
Гора под названием Уллу-тау входит в систему Главного Кавказского хребта и расположена в срединной его части. Чтобы добраться до нее из Москвы, надо прежде всего запастись билетом на самолет до Минеральных вод, а там сесть на автобус, следующий в Терскол. Дорога приведет в Баксанское ущелье. Вскоре после городка Тырныауз следует сойти, в том самом месте, где в Баксанское ущелье упирается поперечное под названием Адыл-су. По нему уже придется подниматься пешком, но ничего страшного, дорогу осилит любой более или менее здоровый человек, даже впервые попавший в горы. Через двенадцать километров подъема вы достигнете подножья горы Уллу-тау. А вот чтобы подняться на гору, требуется незаурядное альпинистское мастерство: Уллу-тау относится к вершинам высшей категории трудности.
Предполагаю, что Воланд избрал иной способ путешествия, но, увы, доступный лишь ему. Так или иначе, но в ночь, когда высшее руководство страны собралось на даче Сталина, он появился на вершине Уллу-тау.
Вершина не остроконечная, а плоская; площадка размером с теннисный корт покрыта вечными снегами, кое- где выпирают наружу острые камни. По балкарским легендам, на Уллу-тау издавна обитали злые духи.
Было безветренно и тихо. В черном небе средь ярких звезд, огромных, какие бывают только в горах, повис лунный серп. В какой-то момент от нижнего его острия протянулась к вершине золотая дорожка. Кто-то беззвучно по ней спускался, возникли очертания человеческой фигуры, и некто в разодранном хитоне ступил босыми ногами на вершину. Золотая дорожка погасла.
У пришельца была округлая борода, наполовину седая, курчавые волосы всклокочены. Взгляд, который он устремил на Воланда, был не то чтобы враждебный, но и далекий от дружелюбного. Это был Левий Матвей, евангелист.
Так я и знал! Если Он кого и пришлет, то именно тебя, – вырвалось у Воланда. – Ты у Него прямо министр иностранных дел или же посол по особым поручениям.
– Без оскорблений не можешь, – равнодушно и беззлобно отвечал Левий Матвей.
– Помилуй! Какое же тут оскорбление! – И Воланд то ли в шутку, то ли всерьез присовокупил несколько соображений о том, насколько почетны означенные должности по ведомству иностранных дел: да он бы и сам со всею охотой...
– Говори, что тебе нужно, – перебил Воланда Левий Матвей. – Зачем ты потревожил Его?
– Вот так, сразу? Нет уж, давай сперва поговорим, обменяемся последними новостями, столько времени не виделись...
Левий Матвей возразил: виделись не так давно, когда вместе решали судьбу одного Мастера. Но он, Левий Матвей, нисколько не скучал по Воланду, вынес бы разлуку хоть тысячу лет.
Кстати, как он там, наш Мастер? – поинтересовался Воланд. – Мне всё недосуг его навестить.
Не тревожь его. Он получил то, что искал, – покой. – И снова Левий Матвей спросил, что побудило Воланда добиваться встречи с посланцем Всевышнего.
Воланд ответил не сразу. Походил по площадке, зябко поежился, кутаясь в плащ. Но ответить пришлось.
– Я хочу знать, что вы уготовили этой стране и ее народу.
Левий Матвей в первый раз позволил себе улыбнуться.
– Что я слышу? Князь тьмы, Сатана, печется о благе людей? С чего это вдруг ты, старый софист, стал таким человеколюбцем?
– Ты всегда был никудышным диалектиком. – Воланд вскинул вверх руку в длинной перчатке с раструбом и потряс указательным пальцем. – Где тебе понять, что я посредством зла творю добро! А вот один мудрый немец тонко подметил это моё свойство и блистательно описал меня в своей книжке. Но если начистоту, я к нему наведывался. Случалось, стоял у него за спиной и водил его пером... Однако я не услышал ответа на свой вопрос.
– Прежде открой собственные намерения.
Воланд развел руками: никаких далеко идущих намерений у него нет и не было. Просто ему хотелось раскрыть глаза людям, живущим в этой стране, на собственных правителей, вот и всё.
– О том, что ты успел натворить в Москве, нам известно. – Левий Матвей дал понять, что за развитием событий следят, но пока не вмешивались.
Воланд отвесил глубокий поклон. Сказал, что польщен вниманием, оказанным его персоне.
– От вас разве скроешься? – усмехнулся он. – Шагу не ступить без ваших корректировок да комментариев. Занимались бы лучше своими небожителями, а то ведь так и тянет вас на земные дела.
– Скажи, а этот юноша Якушкин...– снова перебил собеседника Левий Матвей. – Он что, новый вариант Мастера?
Воланд энергично возразил – никакого сравнения! Вряд ли можно рассчитывать на то, что ему удастся написать нечто подобное роману Мастера о Понтии Пилате. Впрочем, своего необыкновенного кролика он недурственно придумал, чем не преминули воспользоваться.
– Всё ты из меня вытянул, – подвел итог Воланд. – И после этого ты будешь утверждать, что не обладаешь способностями дипломата? Да никакому Талейрану с тобой не сравниться.
Левий Матвей покачал головой.
– Ты не открыл полностью своего замысла. Ты собрался ввергнуть эту страну в великую смуту и кровопролитие. Мы тебе этого не позволим.
– И кое-что уже предприняли?!
Ответа не последовало.
– Можешь не отвечать, я знаю, – произнес Воланд с горечью. – Подумали бы прежде, кого вы берете под защиту, о ком печетесь – о кучке лживых и бездарных правителей, которые довели страну до полного разора.
– Не беспокойся, их время уходит, – сказал Левий Матвей и добавил: – Это предрешено.
– Ах, все-таки! – Воланд громко рассмеялся. – Стало быть, не напрасно я старался.
– Если тебе так хочется думать...
– Я никогда с тобой не лукавил, не лукавлю и сейчас. – В голосе Воланда прозвучали примирительные нотки. – Клянусь, я хотел исполнить лишь то, о чем сказал. Но если бы даже и пролилась кровь, люди обрели бы свободу...
– Или впали бы в еще худшее рабство.
– А это уж как вы там решите! – Глаза Воланда вспыхнули зловещим блеском.
Наступила долгая пауза. Левий Матвей стоял неподвижно, словно не замечая пылающего взгляда своего оппонента. Глаза Воланда постепенно стали гаснуть.
– Ты отлично знаешь, мне не дано знать Его воли, – глухо произнес он. – Я в третий раз спрашиваю тебя: какую судьбу вы уготовили этой несчастной стране?
Теперь уже Левий Матвей в задумчивости прошелся по площадке.
– Изволь, – наконец произнес он. – Придут новые властители, мне кажется, намного честнее, благороднее нынешних...
– И народ обретет наконец свободу! – подхватил Воланд.
– В этом состоит твое величайшее заблуждение, и не только твое. По воле тех, кого ты называешь тиранами, свободные люди всего за одну ночь могут впасть в рабство. Но еще никому за всю историю рода человеческого не удавалось по мановению ока превратить рабов в свободных людей. Путь этот долог.
– Я не понимаю, кто из нас софист: ты или я? – рассмеялся Воланд.
– Это не софистика, а истина, – возразил Левий Матвей, – Или, если угодно, Его веление.
– Славно! Славно! – приговаривал Воланд, меряя площадку широкими шагами. Резко остановился и выбросил руку в направлении пришельца из небесных сфер.
– Теперь я начинаю понимать, что вы уготовили людям в этой стране. Снова терпение?
«Терпение... терпение... терпение...» – отозвалось горное эхо.
Левий Матвей неожиданно изменился в лице, заметно побледнела, – еле слышно произнес он.
Воланд, похоже, бросился в последнюю, отчаянную и яростную атаку. Он вплотную приблизился к Левию Матвею.
– Может, ты объяснишь, чем они так Его прогневили?
Не выдержав на этот раз взгляда Воланда, Левий Матвей отвел глаза.
– Я не знаю.
– Тогда, по крайней мере, открой, сколько им еще терпеть? Может быть, вечность? Одну вечность? Две? Три?!
Левий Матвей стиснул кулаки, руки его дрожали.
– Не мучь меня, – с трудом выдавил из себя Евангелист. – Про то знает лишь Он.
«Он... он... он...» – повторило горное эхо.
Ссутулившись, Левий Матвей направился к золотой дорожке, вновь протянувшейся от лунного серпа к вершине горы. Ступил на неё, и его фигура начала быстро удаляться. Воланд смотрел вослед ему, пока не погасла золотая дорожка, а с нею не исчез и Левий Матвей.
Воланд подошел к обрыву. Лицо его исказилось гримасой злобы и гнева. Он распахнул плащ. Тотчас налетел сильный порыв ветра, подхватил Воланда и унес вниз...
В ту ночь в горах Кавказа бушевала страшная буря. Ветер вырывал с корнем деревья, со склонов сошло множество снежных лавин. Не обошлось и без человеческих жертв: буря налетела внезапно. Синоптики только диву давались: ничто, кажется, не предвещало изменения погоды с солнечными, безветренными деньками, когда так славно кататься на лыжах, с тихими ночами, когда вершины гор и ущелья обласканы лунным светом. Повторяю, буря налетела внезапно. И так же внезапно стихла.
Глава 15. Обком звонит в колокол
Шутки в сторону! Речь пойдет о событиях, живым свидетелем которых был я сам. Я резко меняю стиль повествования– буду придерживаться одних лишь документально подтвержденных фактов. Итак...
Утром 4 января я, как обычно, достал из почтового ящика свежий номер «Правдивых известий»4. На первой полосе мое внимание привлекла заметка под заголовком «В Кремлевском храме». Один фрагмент ее приведу дословно. «Вчера в Успенском соборе Московского Кремля, – говорилось в ней. – отслужили Божественную литургию. Вместе с другими верующими службу отстояли Президент с супругой, а также Вице-Президент, Премьер-Министр, члены высшего руководства страны».
Вылазки в церкви периодически устраивались Президентом и его окружением и раньше, но никогда еще не было прямого указания на то, что наши руководители, оказывается, верующие. Во время службы они гужевались обычно в сторонке, демонстрируя уважительное, однако стороннее отношение к религии.
С этой заметки все и началось.
На следующий день «Правдивые известия» разродились уже подвалом «Консолидировать здоровые силы общества!» Про автора, Федю Кубацкого, публициста, философа и эссеиста, поговаривали, будто он тайный рупор самого Президента. После набивших оскомину сетований о духовном разъединении общества и угроз по адресу «разнузданных экстремистов», подталкивающих страну к пропасти, Кубацкий выдал абзац, заставивший многих почесать затылок. Привожу текст дословно: «Бессмысленное игнорирование высоких христианских идеалов, пренебрежительное и даже наплевательское к ним отношение привели к тому, что население чересчур обостренно реагирует на дефицит продовольствия и отдельных промтоваров. А это, в свою очередь, препятствует успешному развитию в стране позитивных процессов. Общественность вправе задать вопрос: а почему бы Православной Церкви не наладить активного взаимодействия с партийными и государственными структурами?»
Дальше пошло как по маслу. Кубацкому тут же ответил Митрополит Пафнутий. В статье «Господь внемлет», напечатанной всё в тех же «Правдивых известиях», видный духовный пастырь заявил, что Церковь готова пойти на сотрудничество с кем угодно, но пусть уж тогда руководство страны без всяких экивоков выскажется по наиглавнейшему вопросу – о существовании Господа Бога. Ибо невозможно сотрудничать с атеистами и богохульниками, не признающими Святого Евангелия... А под конец Пафнутий кинул соблазнительную приманку: «Возвращение народа в лоно истинной веры, – писал он, – многократно снизит остроту любого дефицита». И вбил самый последний гвоздь: «Всякий истинный христианин обязан сосредоточить все помыслы отнюдь не на обретении бренных материальных благ, но на обретении вечного блаженства в загробной жизни».
Каков привет, таков и ответ. В выпущенном постановлении «Об идеологической работе в Тамбовской области по религиозному воспитанию трудящихся» ставились все точки над «i». В нем решительно осуждались как отдельные члены партии, так и целые партийные комитеты, упрямо стоящие на позициях «махрового атеизма». Обкомам, крайкомам, горкомам и райкомам предписывалось наладить широкую сеть религиозной пропаганды и агитации в массах. Атеизм квалифицировался как серьезная деформация вечно живой национальной идеи.
Навряд ли кто, и я в том числе, догадывался об истинной подоплеке всей этой свистопляски. Конечно, посмеивались, разводили руками. Говорили, что Президент опять «маневрирует»: наводит мосты к Церкви, чтобы удержать власть. Кто мог знать, что найден способ противодействия Воланду? Что план сложился и оформился в ночь «Второго совета в Филях?» Что грядущее распространение повсеместно церковной символики, равно и исполнение высшим руководством страны церковных обрядов, едва ли не более строгое, чем русскими царями, – всё это направлено на то, чтобы справиться с нагрянувшей в Москву нечистой силою?
Но тут всполошились «старые большевики». Съехались в центр Москвы из Дома призрения повышенной категории, где содержались на полном пансионе, и продефилировали колонной по Красной площади. Пели скрипучими голосами: «Никто не даст нам избавленья!» и «Беснуйтесь, тираны!». Скандировали скрипучими голосами: «Нет – проискам попов!». На митинге у памятника Минину и Пожарскому выступали с зажигательными речами, вспоминали славные денечки своей молодости – как лихо сшибали кресты с церквей, как подкладывали под колокольни динамитные шашки.
Стянутые силы охраны правопорядка запихнули престарелых бузотеров в автобусы и отвезли назад в Дом призрения. За обедом в наказание за дурное поведение их лишили сладкого блюда, любимого молочного киселя. Предупредили, что так будут поступать с ними и впредь, если им вздумается затеять новую возмутительную выходку.
Когда страсти вокруг этого происшествия улеглись, Митрополит Пафнутий без проволочки окрестил в Елоховской церкви высшее государственное и партийное руководство, включая самого Президента. На церемонии присутствовал дипломатический корпус, представители братских партий, в основном из Латинской Америки и Африки. Огромная купель для совершения обряда была загодя изготовлена на одном из оборонных предприятий в порядке конверсии.
Пошли недоуменные толки: к чему, собственно, этот обряд? Ведь во младенчестве едва ли не каждый из них, родом из сельской местности, был окрещен. На что последовало разъяснение: да, во младенчестве их всех, действительно, крестили, но затем, в соответствии с реальной обстановкой, они впали в безбожие, а теперь возвращаются в лоно истинной веры.
Повторное крещение государственных лидеров далеко не всем пришлось по вкусу. Многие усмотрели в нем глумление над памятью безвинных жертв, сотен тысяч и миллионов тех, кто за одно лишь право верить в Бога поплатились в былые годы лагерями и тюрьмами, а иные были расстреляны. Толпа мужчин и женщин, исхудавших с голодухи, осадила Елоховскую церковь. Их быстро рассеяли омоновцы. Зачинщиков (а среди них оказалось немало священников) свезли в близлежащий Народный суд. Там им быстренько навесили по пятнадцать суток административного ареста, что свидетельствовало о подлинно христианском милосердии судьи и народных заседателей.
На следующий день я снова достал из почтового ящика «Правдивые известия». Бросил взгляд на первую полосу и ахнул: взамен привычного в свое время и не столь давно снятого лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» красовалось» «Ныне и присно и во веки веков, Аминь!». Маховик продолжал раскручиваться.
Престарелый Министр связи вследствие омовения в недостаточно подогретой купели простудился и, несмотря на все старания медицины, отдал Богу душу. Впервые столь видного деятеля схоронили по церковному обряду.
Выступая на панихиде, Президент (он же Генсек), в частности, сказал, что партия решительно двинулась навстречу Церкви, но он ожидает и встречных шагов. Так, партия вправе рассчитывать на то, что ее ряды, честно сказать, несколько поредевшие за последние годы, пополнятся лицами духовного звания. В ответном (одновременно и надгробном) слове Митрополит Пафнутий пообещал развернуть кампанию.
Тут начали открываться просто поразительные вещи. Получив от церковного начальства приказ вступить в партию, иные священники полезли за образа и вытащили... свои партийные билеты с отметками об аккуратно выплачиваемых взносах! Кто бы мог подумать, что они давно уже состояли на партийном учете! Но тайно. Согласно секретной инструкции, действующей еще со времен застоя, священник, определяемый в тот или иной приход, прежде всего должен был оформить свою партийную принадлежность.
Тем не менее «Пафнутьевский призыв» был проведен с размахом и принес ощутимые плоды.
На местах приняли крещение руководители регионов, секретари обкомов, крайкомов, райкомов и центральных комитетов республик с православным населением. «Правдивые известия» регулярно давали развернутую информацию с фотографиями совершаемых обрядов. Этот ставший постоянным раздел шел под рубрикой «Нашего полку прибыло!»
Организованным порядком была проведена так называемая сплошная иконизация. В подъездах государственных, партийных и муниципальных учреждений были вывешены иконы (понятное дело, с целью воспрепятствовать проникновению нечистой силы). Вахтерам предписывалось бдительно следить за тем, чтобы персонал оных учреждений, равно и посетители непременно крестились на иконы при входе и выходе. В служебных кабинетах тоже планировалось развесить иконы по мере налаживания массового их изготовления полиграфической промышленностью.
И вновь выступил в печати Ф. Кубацкий, успевший как-то незаметно стать протоиереем Феодосием. «Покончить с распылением руководящих кадров!» – так назывался его новый опус. В нем смело ставился вопрос о совмещении партийных, государственных и церковных должностей, причем приводились ссылки на такого авторитетного мыслителя, как Макиавелли, который высказывал сходные идеи еще в XVI веке.
Призыв тотчас возымел действие. Без особого афиширования видные государственные и партийные мужи заняли по совместительству соответствующие их рангу церковные должности. И, наоборот, многим иерархам были дарованы ключевые государственные и партийные посты, последние, разумеется, с соблюдением норм внутрипартийной демократии. В отношении ранее действующих секретарей партийных комитетов употребили испытанный прием: их либо отправляли на пенсию по состоянию здоровья и личной просьбе, либо назначали послами в развивающиеся страны. Руководителя московской партийной организации спровадили послом в Гану. На его место единогласно был избран Митрополит Пафнутий и приобрел после этого огромную силу. Совмещение церковных и партийных должностей набирало темп.
Вскоре москвичи стали свидетелями удивительных новаций. Про огромный железобетонный крест, воздвигнутый перед зданием Манежа, я уже упоминал. Но вот, прогуливаясь однажды в скверике на Старой площади, я увидел, как те же молодцы-стройбатовцы сооружают на крышах известных зданий стиля «модерн» вполне симпатичные звонницы. Надо ли говорить, что колокола для них были отлиты на оборонном предприятии также в порядке конверсии.
От Москвы не посмела отстать провинция. Возведение звонниц на крышах партийных и государственных зданий объявили ударными стройками, и молодежные объединения приняли над ними шефство. «Звонницы над обкомами и райкомами отлично вписались в пейзажи наших больших и малых городов», – радовались «Правдивые известия». А поэтесса Анастасия Хрычева, выступая по телевизору, поведала о религиозном экстазе, который охватил ее при виде новеньких звонниц. Она напомнила, что о том мечтал еще великий американский писатель Хемингуэй в своем романе «Обком звонит в колокол»5.
Только народ слабо отреагировал на поразительные нововведения. По-прежнему в большей своей массе пребывая во мраке атеизма, он охотнее склонялся к самогоноварению, нежели к посещению божьих храмов. Наметился даже отток части граждан, прежде регулярно посещавших церковь; резко снизились и поступления на алтарь. В некоторых приходах просто нечем стало платить зарплату священникам.
Другим негативным моментом стало оживление различных религиозных сект. «Не ходите в партейные церквя!» – призывали их вожаки. Пришлось выпустить совместное постановление Правительства и Синода. В нем категорически воспрещалось всем гражданам впадать в ересь, состоять в сектах, что по тяжести приравнивалось к злостной антигосударственной деятельности. Борьба с сектами, естественно, была возложена на КГБ, где организовали Инквизиторское управление.
А главное – не было ожидаемого смирения народа. Почти уже полное отсутствие всякого продовольствия наблюдалось повсеместно. Бурление, если поначалу и улеглось, то в скором времени стало быстро нарастать...
Не могу в точности сказать, кому первому пришла в голову эта грандиозная идея – Президенту, Премьеру, Митрополиту-секретарю Пафнутию или же Протоиерею Феодосию (он же Ф. Кубацкий). Но убежден в одном: причины народного возмущения виделись не в бездарном и деспотичном способе управления страной, а в коварных происках всё той же нечистой силы, хотя к тому времени, то есть к исходу февраля, Воланда. а также его свиты и след простыл.
А идея заключалась в том, чтобы единым махом, в один и тот же день, окрестить всё население страны – от новорожденных младенцев до глубоких стариков. Повторить благотворный опыт Киевского князя Владимира, окрестившего всех своих подданных тысячелетие назад.
Совместным постановлением Верховного Совета и Синода, в целях обретения гражданами христианского смирения и приобщения к святой благодати, их обязали явиться утром 28 февраля на берег близлежащего водоема для совершения обряда. Никакие ссылки на то, что кто-то уже был окрещен во младенчестве, во внимание не принимались. От обряда освобождались лишь оставшиеся в мизерном количестве евреи, да еще лица иных вероисповеданий, однако с обязательным предъявлением справки от соответствующего священнослужителя.
На гостинице «Москва», со стороны, обращенной к Манежу, натянули огромное полотнище с исполненным вязью лозунгом «Все на крещение!» Пресса развернула невиданную кампанию. Тем, кто собирался улизнуть от обряда, грозили крупные неприятности – от лишения продовольственных талонов до принудительной высылки в районы Сибири и Крайнего Севера.
Свидетельствую: день выдался ненастный. Сыпал снег, подморозило. Сам я, будучи евреем при законной справке, расположился на Воробьевых горах. На противоположном берегу Москвы-реки определено было креститься жителям Юго-Западных районов столицы.
Поначалу организация показалась мне достаточно четкой. Людей доставляли в автобусах к пунктам предварительной регистрации. Под них употребили киоски «Союзпечати» – свезли со всего города. К каждому киоску приколотили табличку с номером. Какому микрорайону в каком киоске регистрироваться, заранее оповестили через ДЭЗы. Предъявив паспорт с пропиской и получив регистрационный квиток, люди далее должны были раздеться донага (мужчины вместе с женщинами, ничего страшного), одежду оставить на берегу и войти в воду.
Застрельщиками пустили «моржей», любителей зимнего купанья. Им-то ледяная вода нипочем. Но большинство дрожащих от холода людей милиции пришлось заталкивать в воду резиновыми дубинками. Шум стоял невообразимый: визг, плач, стенания, крики блюстителей порядка. А из мощных громкоговорителей разносилась молитва в непревзойденном исполнении всё того же Паф- нутия, да еще плыл над Москвой-рекой колокольный звон – из церквей, из новеньких звонниц. Священники в утепленных рясах стояли на берегу и осеняли крестами совершавших омовение в естественной купели.
Начальству среднего калибра была дарована привилегия креститься в крытых плавательных бассейнах. Оттуда их перебазировали в сауны, где они предались возлияниям и умеренному разврату с секретаршами.
А среди простого народа не обошлось без жертв: в одной только Москве утонуло несколько сотен, много больше схватило простуду. Я собственными глазами видел, как мокрые, посиневшие от холода люди, совершив обряд, метались по берегу в отчаянных попытках отыскать свое верхнее или хотя бы нижнее платье. Милиционеры запихивали бедолаг в отъезжающие автобусы, дабы они не поселяли дух сомнения в новых партиях, прибывающих на крещение. Мне кажется, тут был допущен явный просчет: могли бы доставить с вокзалов автоматические камеры хранения. Видно, понадеялись на всеобщее приобщение к святой благодати, и совершенно напрасно.
В провинции, по слухам, картина повторилась. Без столичного размаха, зато с прибавлением дикости. Тем не менее газеты и телевидение взахлеб твердили, что поголовное крещение народа явилось яркой демонстрацией его единения как с партией, так и с Церковью. Приводились примеры мгновенного обретения христианского смирения, равнодушия ко всему материальному и тленному. Упомянутая А. Хрычева снова выступила по телевидению и заявила, что теперь для нее любые мирские блага просто не существуют, и всё, с чем она и отбывает на днях в зарубежное турне, чтобы ознакомить мировую общественность с нашими выдающимися достижениями в деле религиозного воспитания трудящихся.
Без злорадства, равно и без сожаления свидетельствую: народ если и обрел смирение, то лишь на краткое время. Всеобъемлющий дефицит оказался сильнее христианской благодати. Митинги стали проводиться даже в церквях. А забастовок к середине марта разразилось столько, что уже не разобрать: кто работает, а кто бастует. Короче, всё пошло сызнова...
Глава 16. Конец кролика Кузи
Однако вернемся в январь.
Пятого числа, во второй половине дня, Сергею Митрофановичу позвонил помощник Председателя. Тот самый, с которым они на пару когда-то курочили самостийную выставку художников вредного направления. Помощник сказал, что Сергея Митрофановича вызывают, как он выразился, «на ковер» к Председателю.
Когда Сергей Митрофанович вошел в уже знакомый кабинет, то первым делом обратил внимание на икону в дальнем левом углу, тут же на нее и перекрестился. Председатель, выйдя из-за стола, этот его поступок в высшей степени одобрил. Поставил Сергея Митрофановича в пример другим сотрудникам центрального аппарата, которые при входе к нему в кабинет и лба не перекрестят, что он рассматривает не как признак рассеянности» а как проявление пренебрежительного отношения к нравственным устоям. Ведь для чего-то икона повешена?
Председатель пригласил Сергея Митрофановича присесть и перешел к делу. Сообщил, что созрело решение организовать в Комитете новое главное управление – по наблюдению и контролю за религиозными сектами. Другими словами, инквизиторское. Завтра будет подписан соответствующий приказ. Сверх того, на данное управление возложена задача противодействовать враждебным проискам нечистой силы. Правда, об этом в приказе ничего не говорится, но для посвященных должно быть яснее ясного.
– Ну, а начальником управления, я думаю, вы догадываетесь, кого мы наметили, – продолжал, улыбнувшись, Председатель и, не затягивая паузы, закончил: – Вас! Как самого опытного специалиста по нечистой силе. Одновременно вам присваивается звание генерал- майора.
Сергей Митрофанович нашел в себе силы встать и четко отрапортовать, что готов выполнить любое задание Родины. Председатель одобрительно покивал и сказал, что ждет от него предложений по структуре будущего управления, проект штатного расписания, схему взаимодействия с другими подразделениями Комитета.
Не забыв при выходе снова перекреститься на икону, Сергей Митрофанович на крыльях полетел к себе. Чтобы покончить с птичьими аллегориями, скажу, что в груди у него пели соловьи, а, возможно, и другие прекрасные или даже экзотические птицы. Он сел за стол, достал чистый лист бумаги и принялся рисовать на нем кружки, квадратики и ромбики, соединительные линии, сплошные и пунктирные, – структуру будущего своего управления.
Сунувшегося к нему зачем-то Дрынова он так шуганул, что у того лицо пошло красными пятнами. Непривычным для себя хамским тоном спросил: когда только капитан перестанет морочить ему голову всякой ерундой? «Уж кого-кого, а эту гниду я к себе в управление не возьму», – подумал Сергей Митрофаноич после того, как ошарашенный Дрынов вышел, осторожно притворив за собой дверь.
Через какое-то время позвонили из гаража и сообщили, что ему выделяется персональная «Волга». Естественно, с телефоном и двумя сменными шоферами. Спросили, по какому адресу завтра утром ее прислать. Предложили и сегодня доставить домой, но на разгонной машине. Сергей Митрофанович проявил скромность–сказал, что напоследок, так и быть, поедет домой на общественном транспорте. А еще позвонили из спецбуфета и поставили в известность, что он занесен в списки прикрепленных товарищей. Добро пожаловать закусить чем Бог послал, а также сделать заказ на дом из имеющихся в ассортименте припасов.
До позднего вечера Сергей Митрофанович прилежно занимался структурой инквизиторского управления. Прикинул несколько вариантов. Не остановившись ни на одном, рассудил, что утро вечера мудренее, и отправился домой.
В вагоне метро он думал о том, насколько круто переменилась его жизнь. Всё складывалось прекрасно и даже великолепно. В его воображении, и совсем не буйном, а вполне реалистического плана, рисовалось множество приятственных вещей. Например, государственная дачка в ближнем Подмосковье, закрытый санаторий под Ялтой, где отдыхают одни лишь комитетские генералы, и, наконец, новая квартира, как минимум четырехкомнатная, непременно в центре, с окнами во двор.
Эти превосходные идеи Сергей Митрофанович продолжал развивать, и когда шагал пешком домой от станции метро «Полежаевская». Вспоминал также, как совсем недавно он паниковал по поводу крепости режима, и совершенно напрасно. Режим еще достаточно крепок, не скоро еще развалится, на наш век хватит. Лучшее тому доказательство – недавние события в столице. Народ, взбудораженный происками нечистой силы, пошумел, по- свергал правительство и утихомирился. Конечно, в том, что так обернулось, есть и его заслуга. Да что там – заслуга! Решающий вклад! Кто проинформировал руководство о появлении нечистой силы? Кто подсказал способ, как с нею сладить? Так стоит ли теперь корчить из себя скромника и пренебрегать законными благами и льготами? Одни на него сами посыпятся, другие придется уж выбивать.
Неожиданно Сергей Митрофанович с удивлением обнаружил, что находится в малознакомой местности. То ли по пути домой он не свернул, где обычно сворачивал, то ли, наоборот, свернул там, где не было никакого резону. Только оказался он на обширном заснеженном пустыре. Окна домов светились в приличном отдалении, среди деревянных вагончиков возвышался пустой многоэтажный каркас из железных балок. Темный силуэт подъемного крана довершал пейзаж заброшенной стройки. Позади что-то шипело и булькало. Пока Сергей Митрофанович соображал, где это он находится, чей-то голос позвал:
– Любезнийший
Он увидел Коровьева! За ним в свете ущербного месяца матово поблескивала серебристая карета с шестеркой лошадей и каретным персоналом. Коровьев приближался танцующей походкой.
– Что же это вы, любезнейший голубчик, нарушили наше с вами джентльменское соглашение? – с печалью вопросил он.
Сергея Митрофановича охватил жуткий страх. Что бы ему перекреститься – наверняка бы Коровьев, как и в прошлый раз, в общественном туалете, сгинул. Но Сергей Митрофанович не только лишился дара речи – руки у него одеревенели.
– Ну, как же, как же! – наседал Коровьев, забегая то справа, то слева. – Мы с вами договорчик заключили, что вы будете помалкивать, а вы вон что натворили. Договорчик, милейший, дороже денег и даже самой жизни!
Из -за спины Коровьева вынырнул еще один, много ниже ростом. В том, что это тоже черт, не было ни малейшего сомнения: на одном глазу бельмо, изо рта торчал кривой клык. Единственный его зрячий глаз был широко раскрыт и прямо-таки буравил несчастного Сергея Митрофановича.
– Козел вонючий! – заорал он. – Падло! Сука лягавая! – Этот одноглазый и низенький был явно с приблатненным сюжетом.
И тут Сергей Митрофанович увидел самого, по-видимому, у них главного: Дьявола, или же Сатану. Тот находился возле кареты, стоял, облокотившись на открытую дверцу. Сергею Митрофановичу зачем-то приспичило задать самому себе каверзнейший вопрос: кто у них главнее – Дьявол или Сатана? И не одно ли это и то же? И еще один вопрос, столь же каверзный, сколь и неуместный, – какому воинскому званию Дьявол или Сатана соответствует? Простые черти наверняка полковники. Сатана (он же Дьявол) в таком случае не ниже генерал-майора. А возможно, и маршал?
Пока он ломал голову, лицо самого главного придвинулось к нему вплотную, хотя его обладатель по-прежнему находился возле кареты. Вот ведь какая немыслимая штука!
– Заканчиваем, – вполне явственно произнесло сепаратное лицо.
Сергей Митрофанович попятился и в тот же миг свалился в какую-то жуткую пропасть. Адская боль разлилась в каждой клеточке его организма. Рот, раскрытый в безнадежной попытке позвать на помощь, наполнился обжигающим паром, и он с головой погрузился в кипяток.
Тело его нашли на третий день, когда бригада ремонтников прибыла ликвидировать давнишний пропуск в теплотрассе. Колодец оказался доверху наполненным кипятком, пришлось откачивать помпой. Откачали и увидели мертвое тело.
Хоронили Сергея Митрофановича с духовым оркестром, но в закрытом гробу, поскольку вид его, сварившегося заживо в кипятке, был ужасен. По какой причине оказался он на безлюдном пустыре, объяснить никто не мог. Не исключено, что кого-то выслеживал... Дела заводить не стали, списали на несчастный случай. Председатель КГБ на похоронах отсутствовал, но прислал от себя венок. А начальником Инквизиторского управления назначили одного боевого генерала, который прежде исполнял интернациональный долг в Республике Афганистан...
Между прочим, капитан Дрынов в роковой для Сергея Митрофановича вечер приходил к нему отнюдь не с ерундой, а с наиважнейшими вестями. Но тут снова небольшая предыстория.
Выйти на Банкетова Дрынову удалось всего двумя днями раньше. Старик уезжал в Питер, его пригласили отсмотреть какую-то премьеру в театре, и он остался там встречать Новый год. Когда Банкетов вернулся в Москву, Дрынов дозвонился до него и попросил разрешения подъехать.
Банкетов принял его мордой об стол: дальше прихожей не пустил, разговаривали стоя. На заданные вопросы отвечал кратко, в подробности не вдавался. Да, он пару раз встречался с литератором Якушкиным, пробовал пристроить в театр его повестушку, только ничего из этого не получилось. И, уж конечно, он не в курсе, где в данный момент пребывает означенный Якушкин. Короче, отвяжитесь и будьте здоровы.
Дрынов отбыл несолоно хлебавши, но и убежденный в том, что негостеприимный старик всего не сказал, что-то такое скрывает. Поставить его телефон на прослушивание было минутным делом.
Поработав с накопившимися за сутки записями телефонных разговоров, Дрынов выделил одну-единствен- ную: Банкетов звонил Валерии Гряжской, главному режиссеру театра «У Красных Ворот». Причем звонил домой. Среди прочего состоялся у них обмен мнениями о недавнем скандальном происшествии в Кремле, о кусающемся кролике. О том, какого следует ожидать от кролика следующего подвига. Интересовался Банкетов и Якушкиным, спрашивал, не удалось ли его отыскать. Валерия отвечала, что знать ничего не знает об Якушкине, и постаралась свернуть разговор.
Так в поле зрения Дрынова попала Валерия Гряжская. Пришлось пригласить на исповедь в гостиницу «Будапешт» преемника Басавлюка в театре «У Красных Ворот», дежурного электрика. Новый «добровольный помощник» сообщил, что, по общему мнению, с Валерией в последние дни творится что-то странное. В театр она почти носу не кажет. Актриса Дашнакова прилюдно высказывала даже не предположение, а уверенность в том, что у Валерии начался новый роман, но вот с кем – непонятно. Все предложенные обществом кандидатуры были Дашнаковой решительно отвергнуты: она готова поклясться здоровьем, что речь идет о мужике, которого никто не видел и не знает. Скорее всего, об иностранце.
И тут в голове у Дрынова родилась совершенно изумительная идея. А что, если этот «мужик» вовсе не иностранец, а... Якушкин?
Я понимаю, необыкновенная интуиция капитана Дрынова может породить у читателя известное недоверие к автору этих строк. Но согласитесь, ведь Дрыновых в особых учебных заведениях чему-то да учат и уж, конечно, развивают интуицию, оперативное чутье.
Дрынов раскрутился на полную катушку. Добыл у технарей автофургончик, начиненный сказочной аппаратурой, с помощью которой можно фотографировать даже в полной темноте и подслушивать разговоры, ведущиеся за толстыми кирпичными стенами. Люкс, а не техника!
На следующее утро этот самый автофургончик с надписью «Школьные завтраки» на борту был оставлен в переулке перед домом Валерии. Два высококлассных специалиста нацелили аппаратуру на ее квартиру, что на третьем этаже.
Я не стану описывать всех научно-технических тонкостей – они представляют интерес для специалистов определенного профиля, а таковых, я надеюсь, среди моих читателей не окажется. А если окажутся, тем более разъяснять им нечего. К тому же сверхъестественные ухищрения оказались излишними: около четырех часов пополудни в одном из окон раздвинулись шторы и стал виден молодой человек. Прильнув к стеклу, он с заметной тоской взирал на переулок. Пока он находился в пределах прямой видимости, его успели сфотографировать, и не единожды. Превосходного качества фотографии были тотчас доставлены на Лубянку. После недолгого их изучения, сверки с фотографией Якушкина, добытой в отделении милиции по месту его прописки, Дрынов распознал того, кого длительное время разыскивал.
Вот с каким потрясающим известием влетел он в тот вечер в кабинет Сергея Митрофановича – и наткнулся на совершенно хамское к себе отношение.
Другой бы тут, ей-Богу, спасовал. Но не капитан Дрынов! Он решил, что Сергей Митрофанович на старости лет совсем сбрендил, с ним, видно, каши не сваришь, и помчался к собственному дяде генералу. Не столько с жалобой на Сергея Митрофановича, сколько рассказать всё как на духу. Дядя генерал нажал какие-то свои особые кнопки, и Дрынову через голову Сергея Митрофановича был спущен приказ: арестовать этой же ночью опасного государственного преступника Якушкина, скрывающегося на квартире гражданки Гряжской, а также и саму Гряжскую – потом разберемся. Дядя генерал рассчитывал тем самым уестествить и Сергея Митрофановича, ибо после памятного совещания у Председателя КГБ утвердился во мнении, что Сергей Митрофанович жуткий пролаза и Отпетый карьерист. Уестествить такого в радость.
А за толстыми кирпичными стенами дома сталинской постройки, в квартире на третьем этаже, разворачивался финал романа Валерии и Якушкина. После Бала тиранов что-то в Валерии надломилось, она уже не могла смотреть на окружающий мир прежними глазами. Действительность казалась мелкой и незначительной. И не было прежнего восторга перед Якушкиным.
На первой же репетиции в театре она учинила скандал. Репетировалась современная пьеса, по жанру – стопроцентная «чернуха». Пока без декораций и без костюмов. Очень скоро Валерии невмоготу стало наблюдать, как ее актеры, в импортных шмотках, сытые и преуспевающие, изображают кто бомжа, кто опустившегося алкоголика, кто неприкаянную наркоманку. «Прекратите это блядство!» – закричала она в гневе. Досталось и сидевшему на репетиции автору, миловидному литературному мальчику. Валерия швырнула ему в лицо тетрадь с пьесой, назвав ее бездарной стряпней, к которой она больше пальцем не прикоснется! И умчалась прочь из театра.
Одна мысль не отпускала Валерию – суждено ли ей снова увидеть Воланда? Или же на Балу тиранов он распрощался с нею навсегда? Втайне она надеялась на новую встречу и в своих разъездах по городу все время высматривала, не появится ли где серебристая карета.
А телефон, как и газеты и телевизор, приносил неутешительные вести. В Москве, да и по всей стране разворачивалась религиозная свистопляска. Вспыхнувшие волнения улеглись. «Что же твой кролик? – с вызовом спрашивала Валерия у Якушкина. – Спекся?». О новых подвигах кролика Кузи что-то не было слышно.
В те же дни произошло событие, может, и не столь глобальное, но крайне огорчительное: Валерию покинула Лайма Карловна – без всякого предупреждения отбыла к сестре в Ригу. «Латыши должны жить в Латвии», – так объяснила она свой отъезд. Тотчас разладился быт. Валерия до сих пор не имела представления, где и как добываются продукты, а это оказалось совсем непросто. Чистоту и порядок в квартире сменил жуткий раскардаш.
А Якушкин томился вынужденным затворничеством. Валерия все дни допоздна где-то моталась, оставляя его одного. Он пробовал работать, только ничего не получалось. Точно так же, как и для Валерии, Бал тиранов не прошел для него бесследно. Придуманные было сюжеты фантастического толка, и довольно складно придуманные, тут же нещадно им браковались. Увиденное на балу по силе своей превосходило любую фантастику. О чем же тогда писать? Может быть, о Калигуле? О Ричарде III? Или Ленине? Так ведь о них о всех уже столько понаписано! Под силу ему будет сказать что-то новое?
По-детски наивной виделась ему теперь и собственная повесть о кролике Кузе. Что за чепуха! Кролик, пробуждающий укусом совесть в человеке! Попался бы он тому же Калигуле!.. Потому и Воланд, материализовав Кузю, в итоге мало чего добился.
Оставалась надежда на то, что впечатления от Бала тиранов постепенно улягутся, разложатся по тайникам памяти, прорастут новыми побегами творческого воображения и фантазии. Родятся и новые сюжеты, и образы – надо только запастись терпением.
Очередная попытка приступить к работе каждый раз заканчивалась тем, что он... включал телевизор и тупо смотрел всё подряд, пока не возвращалась Валерия. «Ты опять не работал?» – спрашивала она. Он не знал, что ей ответить.
Не раз порывался он уйти. Бросить всё к черту, вернуться домой, увидеть Мишеньку, повиниться перед Леной. Что же его удерживало? Боязнь ареста? Странное дело, но об этом он меньше всего думал. Его удерживала любовь. Занятый творческими проблемами, он всё же не мог не заметить перемены в Валерии. Ее любовь утекала, как песок в песочных часах, как время, отпущенное приговоренному к смертной казни.
А он любил ее по-прежнему, может быть, даже сильнее. Пробовал себя успокоить–ночами в постели Валерия была всё такая же страстная и ненасытная. Но в неистовстве ее ласк угадывалось отчаяние, приближение развязки...
На исходе ночи в дверь позвонили. Валерия спала, а Якушкин лежал без сна рядом с ней. Он вышел в прихожую и тихонько спросил: кто там?
– Открывайте, свои, – послышался приглушенный голос Азазелло. Когда Якушкин отпер дверь, Азазелло с деланным спокойствием сообщил, что надо уходить: с минуты на минуту явятся их с Валерией арестовывать. Опередив Азазелло, в квартиру вошел кот Бегемот.
Якушкин вернулся в спальню, зажег свет, разбудил Валерию. С трудом объяснил ей, в чем дело. Оба начали торопливо одеваться.
– Возьмите с собой драгоценности, – сказал Азазелло. – Сюда вы навряд ли вернетесь.
– Пропади они пропадом! – воскликнула Валерия. – Нашли тоже, о чем беспокоиться!
Между тем Бегемот расположился в кресле, прихватил с журнального столика газеты и напялил очки.
– Поглядим, что пишут, – сказал он и зевнул, прикрыв лапой рот. Азазелло подошел к окну. Он не стал возиться со шпингалетами, а, верный своим привычкам, вышиб раму ударом кулака и показал жестом, чтобы Валерия и Якушкин забрались на подоконник. Едва они залезли, как перед ними, почти вплотную к стене дома, плавно и бесшумно опустилась карета. В приоткрытой дверце виден был Коровьев.
– А вы? – Якушкин обернулся к Бегемоту. Того целиком скрывала развернутая «Вечерка».
– Я вас прикрою, – ответил Бегемот из-за газеты и добавил: – Чего только не сделаешь ради хороших людей!
– Скорее! – свистящим шепотом произнес Азазелло.
Якушкин первый, Валерия за ним ступили с подоконника в карету. Снизу хлопнуло несколько выстрелов. Азазелло вошел последним, и карета, покачнувшись, поднялась над крышами, после чего перешла в горизонтальный полет...
Через считанные секунды в квартиру ворвался капитан Дрынов вместе с четверкой молодцов из группы захвата. Входную дверь отперли предварительно подобранной отмычкой, разбежались по комнатам, но обнаружили одного лишь черного кота – тот по-прежнему находился в спальне и читал «Вечерку».
– Если вы грабители, драгоценности на подзеркальнике,– с презрением произнес он.
Дрынов замер ошеломленный. Никогда прежде не доводилось ему иметь дело с говорящими котами. Бегемот же свернул газету и потряс ею в воздухе.
– О чем хочешь пишут! – Котяра сменил презрительный тон на доверительный. – А вот насчет Сергея Митрофановича вашего цыц-молчок. Оно и понятно – боец невидимого фронта. Впрочем, могло еще не попасть в вечерние новости.
– А что с ним такое? – попробовал Дрынов вступить с котом в диалог.
– Скоро узнаете, – отвечал Бегемот, отложив «Вечерку», и принимаясь за «Московский комсомолец».
Диалог прервался. Дрынов начал красться к креслу, а молодцам из группы захвата махнул, чтобы те заходили слева и справа.
– Вы мне мешаете знакомиться с прессой! – раздраженно прошипел Бегемот.
Дрынов прыгнул, вытянув руки, но загреб пустоту:
Бегемот успел ловко перелететь на подоконник, с него – на висевшую на одной петле раму и уселся на ней.
– Чему вас только в спецучилищах учат! – произнес он с откровенной издевкой.
Этого Дрынов уже не мог вынести. Сильно оттолкнувшись, он снова прыгнул, рассчитывая ухватить пристроившегося на раме кота – тому, вроде, и деваться было некуда. Но ухватил лишь верхний край рамы. Кот снова улизнул и оказался на подоконнике, а Дрынов повис на раскачивающейся раме. Изогнувшись, пытался ногами дотянуться до подоконника, чтобы вернуться в комнату, но в какой-то момент петля не выдержала, оторвалась, и он в обнимку с рамой полетел вниз. Бегемот с поднятой лапой проследил падение, закончившееся глухим ударом.
– Fin it a la commedia!6 – произнес он, обращаясь к застывшим в оцепенении молодцам из группы захвата. Снял очки, оставил их висеть на шейной цепочке и вылетел в окно, слившись с ночной темнотой.
Карета приземлилась на Воробьевых горах, на знаменитой смотровой площадке перед Университетом. Все вышли.
– Прощайтесь с Москвой, – произнес Воланд. – Вам придется покинуть этот город. И вообще страну. Но вы не тревожьтесь–мы перебросим вас, куда пожелаете.
Якушкин молчал. Валерия несколько раз отрицательно качнула головой.
– Я не хочу, – еле слышно сказала она.
– Вы меня, наверное, не поняли. Вас обязательно схватят, начнут допрашивать, терзать, мучить. Спокойной жизни у вас больше не будет.
Опередив Коровьева, который уже всплеснул руками и готов был выступить с пространной расшифровкой Во- ландовых слов, Валерия на этот раз громко, с вызовом, сказала:
– А зачем мне спокойная жизнь? Я хочу с вами. Навсегда!
Наступила пауза. Воланд и Коровьев переглянулись.
– Что я должна делать? Принять яд? Я готова.
Воланд принял решение.
– Ну зачем же испытывать такие страшные муки? – сказал он, улыбнувшись. – Если вы того пожелали, я сердечно рад, мадам... Разденьтесь! – неожиданно приказал он.
Не отрывая взгляда от Воланда, Валерия принялась сбрасывать с себя одежду. Непослушные ее дрожащим пальцам крючки и пуговицы вырывались с мясом. Она вынула шпильки из прически, и лавина густых волос обрушилась на ее голые плечи. И вот уже совершенно нагая стояла она босиком на снегу перед Дьяволом.
Воланд развел руки в стороны, распахнул плащ. Валерия подалась к нему всем телом, и он заключил ее в объятия. Она исчезла внутри необъятного плаща. Всё это заняло несколько секунд. Воланд снова развел руки, распахнул плащ и выпустил Валерию.
– Оказывается, так просто! – Валерия громко рассмеялась. – Знала бы наперед, на балу бы еще напросилась.
Якушкин с дрожью следил за превращением своей возлюбленной в ведьму. Розовое тело Валерии словно светилось изнутри, черты лица сделались резче. Но одновременно разгладились и морщины, она помолодела лет на двадцать, в глазах не осталось и следа от переживаний, сомнений и метаний последних дней. Валерия глядела озорно и весело.
– Мессир! – обратилась она с глубоким поклоном к Воланду. – Отныне я ваша верная служанка. Составлю компанию Гелле.
– Превосходно сыграно! – воскликнул Коровьев. – Я аплодирую.
И гаер несколько раз хлопнул в ладоши.
– Мы уж как-нибудь сыщем вам другое занятие, поближе к вашей первой профессии, – отвечал Воланд, являя собой, кажется, само добродушие.
Коровьев и Азазелло начали поздравлять Валерию с превращением в ведьму. Подошла и Гелла, молча накинула на нее алый плащ.
– Ну, а вы? – обратился Воланд к Якушкину. – Как говорится, лиха беда начало?
Якушкин сжал руки, опустил голову, но тут же гордо поднял ее и взглянул прямо в глаза Воланду.
– Нет! – непривычно звонким голосом произнес он.
Валерия громко рассмеялась. Резко оборвала смех, подбежала к Якушкину и крикнула с надрывом:
– Трус! Мессир, я всегда знала, что он жалкий трус!
– Это вы напрасно, мадам, – мягко возразил Воланд. – Решение, которое он принял, требует не меньшего мужества, чем ваше. А возможно, и большего.
В этот момент со стороны обрыва к Москве-реке послышался треск раздвигаемых кустов и на площадку поднялся, перемахнув через баллюстраду, Бегемот.
– Насилу ушел! – объяснял он, с трудом переводя дыхание. – Погоня была что надо. За мной по пятам гнались десять тысяч сыщиков, бессчетные своры собак. Через минуту они будут здесь.
Но Воланд эту информацию, похоже, проигнорировал. Во всяком случае, заметного эффекта она не произвела.
– Вы хорошо подумали? – продолжал он, обращаясь к Якушкину. – Вы отдаете себе отчет, что вас ждет?
«Моя роль сыграна, – пронеслось в сознании Якушкина. – Он отнял у меня всё – творение моего ума и сердца, саму способность к творчеству, женщину, которую я люблю. Единственное, что у меня осталось, – это гордость. Но ее не отнять даже Сатане». А вслух он сказал много короче:
– Да... Уезжайте.
– Как угодно. – Воланд круто повернулся на каблуках и пошел к карете. Свита, включая теперь и Валерию, последовала за ним. Неожиданно от нее отделился Коровьев. Он вернулся к Якушкину, и вид у него был непривычно растерянный.
– Что же это вы, а? – заговорил он с придыханием. – Может, передумаете? Так славно бы покатили, с ветерком...– Его лицо исказилось гримасой непритворной жалости. – Не желаете следовать примеру вашей подруги, и не надо, – увещевал он. – Подкинем вас в какую-нибудь расчудесную Швейцарию, с высочайшим уровнем жизни. Заживете кум королю... на берегу Женевского озера...
– Оставь его! – донесся из кареты голос Воланда. – Уговоры бесполезны.
Коровьев сразу сник, ткнулся головой в плечо Якушкину и, понурясь, пошел к карете.
Но прежде, чем экипаж тронулся, из него выскочил Азазелло. Он подбежал к Якушкину и сунул ему в. руки плетеную корзину.
– Мессир считает ваш с ним договор исполненным и возвращает вашего кролика, – сказал он и снял котелок в прощальном приветствии.
Карета, коротко разогнавшись, взмыла в воздух, пересекла Москву-реку и сделалась невидимой.
Якушкин открыл корзину: кролик Кузя сидел, уютно поджавши под себя лапы. На какое-то мгновение Якушкину показалось, что вместо кроличьей морды проступает детское личико с широко раскрытыми глазами. Он не успел прийти в себя от изумления, как...
Несколько машин с воющими сиренами и включенными фарами дальнего света подъехали одновременно с трех сторон – от Киевского вокзала, со стороны Университета, с Ленинского проспекта. Из машин выскочили люди. Якушкин мигом вытащил кролика из корзины и опустил на землю. Кролик пересек смотровую площадку и скрылся в кустах за обрывом к Москве-реке.
К Якушкину подбежали. Для начала зачем-то начали заламывать ему руки за спину. С двумя легкими щелчками замкнулись на запястьях наручники. Его всего ощупали – очевидно, искали оружие. Наконец повели к машине, запихнули внутрь и увезли...
А карета, отлетев от Москвы на пару сотен километров, начала разваливаться на части. Отстегнулись и сгинули в ночи запятки с живописными лакеями неграми. Сковырнулся с козел и кубарем полетел вниз кучер в треуголке, но без лица. Лошади тут же порвали упряжь и поскакали сами по себе. Шесть теней одновременно вырвались из разваливающегося экипажа и вскочили на лошадей, успевших превратиться из серых в яблоках в вороных скакунов с длинными гривами. Раздался оглушительный свист проказника Бегемота, и началась отчаянная, захватывающая дух скачка. Всадников было шестеро, ровно столько, сколько было лошадей. Это заставляет меня предположить, что исход последней сцены на Воробьевых горах был спланирован Воландом заранее. Куда на этот раз он направлялся? Не знаю. А посему предлагаю читателю проститься с Воландом и его свитой. Но пока еще не со всеми героями моего повествования.
На следующее утро Председатель КГБ, как обычно, прибыв на работу в 8.30, сидел в своем кабинете и знакомился с оперативной информацией за минувшие сутки. В том числе и с донесением о том, что арестован некий Якушкин, предположительно, причастный к недавним загадочным событиям в столице. Сообщалось также, что при попытке его задержания выпал из окна работник Центрального аппарата капитан Дрынов. Со множественными переломами и ушибами внутренних органов он доставлен в госпиталь и находится в реанимации.
Неожиданно послышался шорох. Председатель оторвался от оперативных сводок и увидел возде дверей... серого кролика! Зверек раскачивался на всех своих четырех лапах, готовясь к прыжку. Реакция Председателя была мгновенной. Он выхватил из лямки под мышкой пистолет, с которым никогда не расставался, и разрядил в кролика всю обойму. Последние две пули настигли кролика в полете.
Кролик упал на пол, перевернулся несколько раз и забился в предсмертных конвульсиях. А Председатель, выйдя из-за стола, присел на корточки и внимательно за ним наблюдал. Когда кролик затих, он нажал кнопку звонка. Вошел помощник. Председатель не стал ему выговаривать и читать нотации за то, что в его кабинет проник кролик, да еще и с агрессивными намерениями. Он просто велел убрать мертвого зверька и замыть кровь на полу, что и было исполнено помощником без привлечения третьих лиц.
Кролика он завернул в ковровую дорожку и отнес в машину. Председатель поначалу решил передать его ученым, чтобы те разобрались с удивительным феноменом природы, но передумал: к чему лишние толки? Он велел вывезти труп куда-нибудь подальше и закопать.
Помощник дождался сумерек и отвез на машине мертвого кролика Кузю в Сокольники, где закопал его поблизости от летнего павильона «Дубки», замечательного тем, что пиво здесь разбавляют в гораздо меньшей степени, нежели в других пивных точках. Операция далась помощнику непросто: грунт был мерзлый, пришлось долбить ломом. Провозился он до полуночи.
Возвратившись домой, помощник для согрева принял стопаря, но этим не ограничился. Пил всю ночь напролет. Пил и плакал горючими слезами. Жене, которая пыталась его урезонить, говорил, что пропала теперь его буйная головушка и еще что-то в том роде. А ведь прежде помощник славился беспримерной трезвостью. Если и случалось ему выпивать, то только по случаю семейных и революционных праздников.
Утром на службу он не явился и загулял напропалую, словно какой-нибудь отпетый алкаш. Председатель, достаточно высоко ценивший своего помощника, вызвал его и провел душеспасительную беседу. Тот дал честное партийное слово бросить пить –и бросил. Но лишь на какое-то время. В конце концов пришлось с ним расстаться.
Вылетев из органов, помощник неожиданно бросил пить и ударился в общественно-политическую деятельность. Выступал на митингах, охотно давал интервью, сам писал статьи в газетах и журналах левого направления. О своих бывших сослуживцах и о Председателе, в частности, он сообщал такие захватывающие подробности, что народ балдел от восторга. Вскоре бывший помощник сделался исключительно популярной личностью и в конце концов был избран Народным депутатом.
Истинные причины столь разительной трансформации долгое время оставались неясными. Но вот однажды в интервью некоей радиоволне он, бывший помощник Председателя КГБ, а ныне отъявленный прогрессист и демократ, поведал о том, как закапывал в Сокольниках мертвого кролика. Того самого, что перекусал в Москве массу государственных, политических и общественных деятелей и чуть было не укусил самого Председателя КГБ, но тот успел застрелить зверька из пистолета. При этом бывший помощник сообщил вот какую подробность.
Когда он опускал тельце в вырытую яму, что-то заставило его развернуть ковровую дорожку, чтобы в последний раз поглядеть на мертвого зверька. И что же он увидел? Вместо оскаленной кроличьей морды – невинное детское личико!
Конечно, КГБ выступил с опровержением, а Председатель даже грозился подать в суд на бывшего помощника за клевету. Но почему-то не подал. Нам же небезынтересно вот еще что. Той же весной поблизости от павильона «Дубки» в Сокольниках вырос розовый куст со множеством алых цветов и бутонов. Куст цвел до первых заморозков. Никто его здесь не сажал, и авторитетные ученые отнесли куст к очередному необъяснимому явлению природы.
Эпилог
Покойный Сергей Митрофанович ошибался в своих прогнозах относительно прочности режима. Прошел год, минул другой, и режим рухнул. Рассыпался в прах, как рассыпается трухлявый мухомор, стоит лишь его
легонько зацедить палкой. Какую тут роль сыграл повторный визит в Москву Воланда и сыграл ли вообще, судить не мне, а читателю.
Кстати, слухи о том, что Воланд повторно побывал в столице, распространились широко и повсеместно. А началось с интервью, которое дал одному журналисту бывший капитан КГБ Дрынов.
После падения из окна он едва не последовал за Сергеем Митрофановичем на тот свет, но врачам удалось его спасти. Сейчас Дрынов служит коммивояжером в фирме, торгующей пылесосами и стиральными машинами. В интервью он не утверждал, что общался с Воландом, зато твердо стоял на том, что имел дело с его приближенным, говорящим котом, и по милости этого самого кота сильно расшибся. Но никакого зла на него не держит, поскольку сам виноват – нечего было кота арестовывать. А вычислил он, что означенный кот имеет самое прямое отношение к Воланду и кличка его – Бегемот, вот каким образом. Находясь в госпитале на вытяжке, он впервые прочитал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и обнаружил полное сходство кота с литературным персонажем. В единственном числе Бегемот появиться в Москве не мог, а прибыл вместе с Воландом и выполнял его оперативные задания.
И словно прорвало плотину! Заговорили дружно молчавшие до сих пор участники знаменитого экономического совещания в Кремле. В газетах и журналах стали приводиться подробнейшие описания Воланда, Коровьева, того же Бегемота (в кошачьем и человечьем обличье).
Тут нежданно-негаданно объявился в Москве Басавлюк. Он исхитрился бежать с острова Тута-Моту на лодке, и в океане его подобрал сухогруз. Басавлюк вернулся в театр «У Красных Ворот», которым после таинственного исчезновения Валерии Гряжской руководит Дашнакова. Басавлюк по-прежнему работает там администратором и развлекает актеров байками о своих необыкновенных приключениях. Выступил он и по телевизору, в передаче, посвященной загадочным явлениям природы. Рассказал о том, как Азазелло при содействии Коровьева и Бегемота вышиб его из Москвы и забросил на крошечный тихоокеанский островок. О том, что он ходил в «добровольных помощниках» Басавлюк скромно умолчал.
Кстати, продмаг на Остоженке, откуда Басавлюк принял старт, существует и поныне. А вот уборщица Фаина, увы, отошла в лучший мир: ее в пьяном виде сшиб грузовик, проезжавший по той же Остоженке.
В брожение умов внес посильную лепту и Иван Степанович Перетятько. В последнем номере своего журнала перед тем, как журнал благополучно скончался, не выдержав конкуренции, Иван Степанович тиснул очерк под названием «И мое знакомство с нечистой силой». В нем подробно разбирался давнишний инцидент у Триумфальной арки. Правда, тот факт, что Бегемот предъявил ему томик «Записок постового», которые даже еще не были написаны, был тактично опущен.
Только успела общественность свыкнуться с мыслью о том, что Воланд и вправду снова посещал Москву пошли новые толки, и связаны они были с так называемым «летним» путчем, который иные острословы нарекли еще и «дурацким».
Так, к примеру, выяснилось, что непосредственным поводом к путчу стала шифрограмма, полученная Председателем КГБ не от кого иного, как от Николая Павловича Евдакова, президентского советника. Да-да, от того самого, с кем в роковой для себя декабрьский вечер прогуливался на Патриарших прудах покойный драматург Шуртяев.
К моменту начала путча Николай Павлович находился вместе с Президентом в Крыму, в его летней резиденции. И вот в один прекрасный день Председатель КГБ получает шифрограмму за подписью Евдакова. В ней ясно и недвусмысленно сообщалось, что Президент тайно снюхался с демократической оппозицией и не сегодня-завтра турнет в отставку мордатого Премьер-Министра, поддаст под зад коленом Министру обороны, вышибет с должности и Вице-Президента. А начнет с Председателя КГБ.
Затребовали Евдакова, предъявили ему шифрограмму. «Всё врут, собаки!» – такова была его бурная реакция. Он отрицал всякую причастность к компетентным органам, клялся, что с потрохами предан Президенту, а шифрограмма – возмутительная фальшивка. Клятвы клятвами, но отыскалось у Николая Павловича и стопроцентное алиби. Накануне дня отправки шифрограммы он c разрешения своего шефа отбыл из Крыма на пару-тройку дней в Кабардино-Балкарию поохотиться на оленей. Не верите – справьтесь у тамошних егерей.
Стали допрашивать охрану президентской резиденции: не ошивался ли кто из посторонних там в означенный день? Охрана дружно ответила: такого быть не может. Правда, один из охранников вспомнил что во время очередного обхода служебных помещений он обнаружил, в коридоре, ведущем к шифровальной комнате, преогромнейшего кота черной масти. Характерная деталь: на голову кота была напялена флотская бескозырка с надписью золотыми буквами «Черноморский флот». Охранник решил, что какой-то подвыпивший моряк подшутил над безответным животным. Но приглядевшись, он увидел, что ленты безкозырки кот прихватил зубами – так обычно поступают моряки во время шторма. Стало быть, флотский головной убор пришелся коту по душе.
По словам того же охранника, кот в бескозырке вел себя вполне миролюбиво, выгибал дугой спину, терся о ноги. Он настолько понравился охраннику, что тот решил его покормить, и побежал на кухню за едой. Когда он вернулся в коридор с порцией сосисок повышенной калорийности, никакого кота там уже не было.
Однако закончим с шифрограммой. Председатель КГБ показал на следствии, что тотчас после ее получения он созвал совещание с участием всех упомянутых в ней лиц. На нем было принято решение ввести в Москву войска с танками и БТРами.
И началось буквально светопреставление. На командиров воинских подразделений, введенных по холодку утром в город, обрушились по радио приказы высшего командования. Кто их конкретно отдавал, было совершенно непонятно. По-видимому, разные лица, поскольку каждый новый приказ обязательно противоречил предыдущему. Эфир на обговоренных заранее частотах наполнился россыпями морзянки. Периодически ее покрывал то трехэтажный мат, то душераздирающее мяуканье. А еще прорывалась трансляция оперы Шарля Гуно «Фауст» с участием Лючано Поваротти, Николая Гяурова и оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
Еще большую сумятицу и неразбериху внес загадочный генерал-полковник, разъезжавший повсюду на вездеходе-амфибии. Несмотря на лето, был он в шинели и в папахе серого каракуля. Один его вид вызывал дрожь в коленках даже у самых мужественных людей. Вообразите: на одном глазу бельмо, изо рта выпирает кривой клык, плюс огненно рыжие усы. Впоследствии дошлые люди опознали в нем еще одного члена Воландовой свиты – Азазелло. Размахивая перед командирами частей и подразделений заряженным пистолетом и даже постреливая в воздух, он гнал их «наводить порядок» – кого в Чертаново, кого в Мневники, кого в Свиблово. На робкие вопросы, что означает наведение порядка, клыкастый генерал отвечал отборным матом и угрожал за невыполнение приказа расстрелом на месте. В результате танки и БТРы бессмысленно носились по городу, уродуя асфальт.
Убедившись, что войска сделались неуправляемыми, руководители путча вызвали из Подмосковья часть особого назначения. Проще сказать, батальон головорезов. Им предстояло взять штурмом правительственное здание на набережной Москвы-реки, где засели ненавистные демократы. Головорезов разместили на городской окраине, в недавно построенном дворце спорта.
И вот их командиру звонят под вечер, и не откуда- нибудь, а от самого Министра обороны, и ставят в известность о том, что с целью поднятия боевого духа у личного состава к ним направляется знаменитый юморист-сатирик. Он проведет творческую встречу, после чего головорезы бодро и весело погрузятся в БТРы и под покровом ночной темноты двинут выполнять боевую задачу.
Юморист-сатирик прибыл в считанные минуты. Предъявил мандат с печатями. По словам тех же головорезов, был он длиннющего роста и страшно худой, при усишках, одет в клетчатый пиджачок. Все дружно признали в нем популярного поэта-пародиста. Для большей, видно, хохмы он нацепил на нос пенсне... Я полагаю, нет нужды объяснять читателю, что это был Коровьев.
Для затравки он рассказал несколько анекдотов острого содержания. Потом пошел сыпать стихами и пародиями, былями из собственной жизни. Головорезы валились от смеха на спортивные маты, коими был устлан зал, где происходила творческая встреча. Когда все вдоволь насмеялись, «поэт-пародист» неожиданно пригласил собравшихся перекусить на скорую руку.
В зале тотчас появилась симпатичная и приветливо улыбающаяся официантка в кружевной головной наколке с двумя обширными подносами в руках. А на подносах – мать честная!.. Я не хочу сказать, что головорезов неважно кормили, но даже им не каждый день выпадало лакомиться черной и красной икоркой, нежнейшей лососиной и наипостнейшим окороком. Что касается напитков, то все они были заграничные–шотландские виски, коньяк «Мартель», настоящая испанская мадера. Откуда что взялось?..
Через четверть часа всё было кончено. Головорезы надрались в лоскуты. Когда пришло время выступать, они уже дрыхли мертвецким сном на матах и громко храпели. Растолкать их было совершенно невозможно. А «поэт-пародист» и симпатичная официантка бесследно исчезли.
После того, как стало ясно, что путч провалился, его главари решили дать деру. Срочно связались с одной дружественной арабской страной: оттуда ответили: ждем, будем рады оказать гостеприимство. Рванули во Внуково, где был приготовлен самолет. Остальное известно. Самолет приземлился ни в какой не в арабской стране, а в Крыму, где беглецы были немедленно арестованы. Почему так вышло, до сих пор остается загадкой. Ходили слухи, что в последний момент по чьему-то приказу экипаж самолета был полностью заменен. Новый экипаж состоял из высоченного и худющего командира корабля в пенсне, рыжего штурмана с бельмом на одном глазу с выпирающим изо рта клыком, круглолицого, похожего на кота бортмеханика и симпатичной бортпроводницы. У нее запомнился лишь синеватый шрам на шее. После приземления самолета экипаж собирались арестовать вместе с путчистами. Группа захвата ворвалась в кабину– а там пусто! Такое впечатление, что самолет летел и, что самое удивительное, приземлился вообще без всякого экипажа!
Общественность утвердилась во мнении, что Воландова свита (пусть не он сам) способствовала провалу «дурацкого» путча, но раздался окрик из-за океана от нашего соотечественника, знаменитого писателя, твердо стоящего на позициях, знаменитого писателя, твердо стоящего на позициях реализма. Где это видано, вопрошал он, чтобы литературные персонажи появлялись в реальной жизни? Всё это околесица и образованнейщина. Чем заниматься чепухой, лучше бы взяли, да и восстановили дореволюционный алфавит, с полезными буквами «ять» и «фита», а также с мудрыми правилами старинной орфографии.
К любым окрикам из-за океана, в особенности если они исходят от соотечественников, у нас относятся как к директиве, не меньше. В газеты и журналы, и в левые, и в правые, и во всякие прочие, помчались курьеры с заявлениями от видных политиков, а также от деятелей культуры: ни в какого-такого Воланда не верим, не приезжал он в Москву, и всё тут. Среди них упомяну лишь театрального режиссера Карнаухова, в недавнем прошлом, напомню, непревзойденного постановщика спектаклей на революционную тему.
По прошествии той славной поры какие только коленца Карнаухов ни откидывал. Выступая однажды по телевизору, он, чтобы отмыться от большевистской скверны (подлинное его выражение), на глазах у обалдевших телезрителей собственноручно сжег свой партбилет, что едва не привело к пожару в телестудии, но, слава Богу, обошлось. Затем Карнаухов взял, да и принял иудаизм. На обряд обрезания пригласил представителей театральной общественности. Когда стрелка политического компаса качнулась в сторону православия, он за несколько дней до повторного крещения Руси заявил, что жутко разочаровался в иудаизме, и вместе с женой, чадами и домочадцами принял обряд крещения. Теперь Карнаухов поспешил высказать свое суждение относительно Воланда. Он призвал не тратить силы и энергию в бесполезных спорах о том, был ли или нет Дьявол в Москве, а разобраться с той нечистой силою, которая до сих пор кишмя кишит в столице. Он имел в виду бесов-коммунистов. Карнаухов со всею серьезностью утверждал, что по сию пору при посещении Сандуновских бань, где, к счастью, все посетители голые, он у многих наблюдает хвосты. Необходимо в предельно сжатые сроки поголовно освидетельствовать народонаселение на предмет выявления хвостатых. Выявленных следует поместить в надежно охраняемые резервации, дабы они не могли больше смущать людей бесовскими штуками. Сказанное никак не воспринималось как аллегория, и тут стало ясно, что нарколог Птицын, регулярно пользовавший Карнаухова, видно, махнул рукой на своего давнего пациента, а быть может, тот ему что-то не доплатил. Так или иначе, но допился знаменитый режиссер до делириума, то есть до белой горячки, что, безусловно, наносит серьезный ущерб отечественному театральному искусству.
Тем не менее Карнаухову не замедлил дать отпор писатель-патриот Пролазов. Он заявил, что толки о Боланде исходят от демократов. А сочинили они фантастическую версию о посещении Москвы Дьяволом в попытке отвлечь внимание общественности от собственных провалов во внутренней и внешней политике. Что касается «хвостатых бесов-коммунистов», то он, сохранивший, в отличие от Карнаухова, свой партбилет, в самое ближайшее время пройдется нагишом по Тверской, дабы желающие могли убедиться в отсутствии у него хвоста. Он призывает всех истинных коммунистов последовать его примеру и выйти на демонстрацию. Впрочем, прогулка Пролазова нагишом по Тверской и, тем более, демонстрация не состоялись. Московский полицмейстер, или по-нынешнему шериф, предупредил, что разгуливать в голом виде никому он не позволит – не то что по Тверской, но даже и по глухому переулку. Тогда находчивый Пролазов разослал в редакции газет свои фотографии исключительно в обнаженном виде, с тыла, но они не были напечатаны. Помещение в газетах таких фото могло быть расценено властями как откровенная порнография, что грозило крупным штрафом.
Наконец проснулись булгаковеды. До сих пор они зарабатывали на жизнь гаданиями, кого изобразил Михаил Афанасьевич в образе Воланда: Сталина, Максима Горького или кого еще. В разразившихся спорах и дискуссиях они уловили угрозу собственному благополучию. А ну как все решат, что Воланд он и есть Воланд?.. Собравшись на международный симпозиум в одном итальянском городе, булгаковеды быстренько договорились о том, что никакого Воланда в Москве не было, а вот исследования, кого Булгаков вывел в его образе, необходимо расширить и углубить.
Но многие, в особенности, молодежь, упрямо продолжали верить в то, что Воланд со своею свитой не так давно побывал в Москве. Образовалось «Общество друзей Воланда» и провело митинг на Патриарших прудах. Состоялась, хотя и со скрипом, но всё же санкционированная властями, демонстрация. Ее участники несли плакаты и транспаранты с лозунгами – «Да здравствует Воланд!», «Слава Коровьеву!», «Кот Бегемот – большой молодец!». Противостояние двух полярных позиций неумолимо обострилось. И надо же такому случиться, что в эту самую пору я познакомился... с Якушкиным.
Мой школьный приятель, по профессии врач-психиатр, заведует отделением в одной из московских психиатрических клиник. Как-то мы с ним сошлись и заспорили всё на ту же тему – посещал ли Воланд повторно Москву или нет? Как всякий уважающий себя врач-психиатр, мой приятель считал это несусветными домыслами и бредом. Попутно сообщил, что у него в отделении есть больной, который тоже утверждает, будто неоднократно встречался с Боландом, так что не худо бы освидетельствовать и всех прочих, кто утверждает нечто подобное.
Не знаю, что меня дернуло, но я попросил предъявить мне этого больного. После недолгих уговоров приятель согласился.
И вот в один из июньских дней я отправился на южную окраину Москвы, в психиатрическую клинику.
Я опускаю малозначащие подробности. Приятель предупредил, что больной по фамилии Якушкин хотя и неизлечим даже в отдаленной перспективе, но в общении совершенно безопасен. Приступы, когда он впадает в буйство, случаются не чаще одного раза в месяц и приходятся обычно на полнолуние...
В кабинет вошел высокого роста человек с седым ежиком волос, одетый в больничную пижаму. Был он невероятно худ, лицо изможденное. Нам разрешили спуститься во двор. Впоследствии я чуть ли не каждый день в течение месяца наезжал в клинику. Все наши беседы происходили один на один на скамейке под липой. Возвратившись домой, я каждый раз записывал всё, что рассказал Якушкин. Тогда я еще не отдавал себе отчета, зачем это делаю.
Среди прочего Якушкин поведал мне, чего он натерпелся в Лефортовской тюрьме после ареста. Его допрашивали чуть ли не круглосуточно, требовали, чтобы он признался в связях с иностранной спецслужбой, которая снабдила его кусающимся кроликом. В конце концов его направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Он был признан невменяемым, и по этой причине суд над ним (всё за ту же хулиганскую выходку в Доме литераторов) не состоялся. Его заперли в психушку, а после того, как режим пал, перевели в клинику, к моему приятелю.
Мне показалось, что Якушкин как-то сразу проникся ко мне симпатией. Я не стал скрывать, что не чужд сочинительства, пописываю короткие юмористические рассказики, даже изредка печатаюсь. Поначалу я воспринимал Якушкина как душевнобольного человека, которого долгое время мучают галлюцинации. Но чем дальше углублялся он в свое повествование (а рассказчик он был превосходный), тем сильнее росла во мне убежденность, что так оно и было на самом деле.
В июле я уехал в отпуск, а когда вернулся в Москву, меня ожидало печальное известие. Позвонил все тог же приятель и сообщил, что Якушкин умер.
Я не успел опомниться, как снова раздался телефонный звонок. Звонила жена Якушкина Лена, теперь уже его вдова. Она сказала, что незадолго до смерти Якушкин сообщил ей, что некоторые черновики своей повести «Похороны охотника» он вложил «на счастье» в томик Булгакова, который находится в книжном шкафу. Он просил передать их мне, если их, конечно, не изъяли при обыске.
На другой день я съездил за черновиками и познакомился с малоприметной и невзрачной Леной. Видел я и сына Якушкина Мишеньку, ему уже минуло пять лет. В квартире я застал также пухлого очкарика с ранней лысиной. Он представился: «Володя, физик». По моим беглым наблюдениям, физик Володя готовится стать Мишеньке отчимом, если уже не стал. Что поделать, жизнь берет свое... Узнал я, что соседа Якушкина, буяна-грузчика Колыванова, посадили за драку по той самой 206-й статье, по которой собирались судить самого Якушкина.
Всё сходилось к тому, чтобы засесть писать роман. Приступил я в августе, писал всю осень, зиму. Закончил в мае.
Когда я в очередной раз упирался в стену и слова переставали вязаться в фразы, я отправлялся на Востряковское кладбище и подолгу сидел у могилы Якушкина, размышлял о его несчастной судьбе. А может, наоборот, счастливой, кто знает?.. Поездки эти мне помогали. Я сдвигался с мертвой точки, роман летел к завершению.
Теперь, когда он написан, Якушкин как бы отошел в тень. Я реже о нем вспоминаю, а чаще думаю о человеке, который могучей силою своего таланта создал Воланда и Коровьева, Бегемота и Азазелло. И с благоговейным трепетом склоняю перед его памятью свою неприкаянную голову.
Конец.
Ручинский В.
Возвращение Воланда, или Новая дьяволиада:
Роман. –Тверь: Россия–Великобритания, 1993. – 320 с.
ISBN 5–87381–002–8
Что происходило в Москве 20-х годов, когда Белокаменную посетил Воланд со своей свитой, известно из бессмертной книги М. Булгакова «Мастер и Маргарита». А вот что начинает твориться в столице времен перестройки и гласности, раздираемой житейскими невзгодами и политическими борениями, противостоянием номенклатуры и народа, когда Князь Тьмы вторично удостаивает многострадальный город своим появлением, – об этом читатель узнает из романа российского писателя В. Ручинского (р. в 1933 г.). Конечно, многое изменилось с первого визита Воланда, однако многоликая подлость и прямая корысть по-прежнему рвутся править ходом жизни и распоряжаться чужими судьбами, так что Коровьев, кот Бегемот и Азазелло не сидят без дела. Об их новых похождениях и злых проказах, о новой роковой любви и трагедии нового, куда более скромного» но в своем роде все же мастера, о новом великом бале у Сатаны, гротескном «Бале тиранов», о целях, которые привели в Москву Воланда, и о многом другом не менее интересном и поучительном повествуется в этой «Новой дьяволиаде» нынешнего смутного времени.
Технический редактор В. Костыря
Корректор Л. Ларина
Сдано в набор 12.05.92. Подписано в печать 8.02.93. Формат 84х 108/32. Шрифт литературный, Печать офсетная. Объем 10 п. л. Уел. печ. л. 16,8, Уч.-изд. л. 17,1.
Тираж 50 000 экз. Заказ 1198. С002.
Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и информации Российской Федерации,
170040. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46
Заметки
[←1]Мой переводчик
[←2]Не беспокоить
[←3]Пригород Парижа, где в 1911 году по инициативе В.И. Ленина функционировала школа для прибывших из России большевиков.
[←4]Решение об объединении «Правды» и «Известий» в один печатный орган было принято на самом высоком уровне, «в целях разумного концентрирования журналистских кадров и экономии бумаги».
[←5]А. Хрычева, очевидно, имела в виду роман «По ком звонит
колокол», который навряд ли читала по причине чересчур уж среднего
образования.
[←6]Комедия окончена!
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



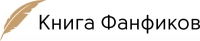
Комментарии к книге «Возвращение Воланда, или Новая дьяволиада», Виталий Ручинский
Всего 0 комментариев